Брайан Олдисс Зима Геликонии
В основе основ, поскольку элементы, из которых мы видим этот мир состоящим — твердая земля и влага, легкое дыхание воздуха и жжение огня — все состоит из тел, которые никогда не рождались и никогда не умирали, мы должны понимать, что все на Земле устроено таким же образом, в том числе и ее население. И сколько Земля тратит на то, чтобы вскормить свою поросль, столько же она поглощает для собственного восстановления. Общеизвестен факт, что Общая Мать является так же и общей могилой. Таким образом, Земля дает, Земля и берет, Земля истощается с новым поколением и наполняется вновь с очередным уходом.
Тит Лукреций Кар. О природе вещей
55 г. до нашей эры
Прелюдия
Лутерин выздоровел. Он освободился от таинственной болезни. Ему снова позволено выйти из дома. Кровать перед окном, неподвижность, учитель в сером, который приходит каждый день — все это осталось в прошлом. Он жив, он может полной грудью вдыхать обжигающе-холодный воздух воли за стенами дома.
Ветер приносит от Шивенинкского хребта мороз, от которого на северной стороне деревьев лопается и облезает кора.
Свежий ветер унес остатки болезни и нерешительности. К щекам прилила кровь, заставив тело, руки и ноги двигаться в такт движениям животного, несущего юношу по отцовским землям. Испустив пронзительный крик, Лутерин пустил хоксни в галоп. Он направил своего скакуна прочь от ненавистного поместья, над которым разносился поминальный звон, прочь по дороге, пересекающей поля, все еще зовущиеся Виноградником. Движение, ветер, шум собственной крови в ушах — все опьяняет.
Вокруг простирались владения отца, победно-вознесенный огромный кусок земли на господствующей высоте, не бескрайний, но полновесный мир гор, долин, полей, бурлящих ручьев, облаков, снега, лесов, водопадов — вот только он старался держать свои мысли подальше от водопадов. Здесь не переводилась дичь, резвящаяся, плодящаяся безустанно, сколько бы отец ни бил ее на охоте. Бродили свободные фагоры. Летели стаями к лучшим землям птицы, затмевая небо.
Скоро, следуя примеру отца, он снова отправится на охоту. Жизнь вокруг в чем-то осталась прежней, в чем-то изменилась. Он должен радоваться жизни и гнать от себя тьму, колышущуюся по краям его сознания.
Лутерин промчался галопом мимо голых по пояс рабов, которые обучали лойсей посреди Виноградника, вываживая животных по кругу на длинных привязях. Подковы взрывали землю, утаптывая холмики кротовин.
Лутерин Шокерандит с симпатией подумал о кротах. Эти звери могут жить не обращая внимания на выходки двух солнц. Кроты могут продолжать охоту под землей и рыть норы в любую погоду — в холода ли, в жару. Когда кроты умирают, другие кроты пожирают их трупы. Для кротов жизнь была подобна бесконечному тоннелю, сквозь который они ползут в поисках пищи и партнера для спаривания. Лежа в постели, он совсем позабыл о том, что в мире существуют кроты.
— Кротовая гора! — крикнул он, подскакивая в седле, поднимаясь и опускаясь в стременах в ритме хода хоксни. Его привычное к этому тело двигалось и жило само собой под одеждой, курткой и штанами из кожи аранга.
Он криком подгонял хоксни. Нужно больше упражнять и тренировать тело, чтобы снова обрести бойцовскую форму. Он чувствовал, как лишний жир сходит с него уже теперь, во время этой первой за целый малый год поездки. Свое двенадцатилетие он пустил псу под хвост — пришлось, ведь в ту пору он не мог подняться с постели. Он пролежал на спине больше четырех сотен дней подряд — и изрядную часть этого срока не мог ни двигаться, ни говорить. Он был замурован в своей постели и комнате, как в склепе, в господском доме в имении родителей, в великой могиле Дома Хранителя. Но теперь это унылое время миновало.
Сила вновь вливалась в его мышцы, передаваясь от животного под седлом Лутерина, от стволов деревьев, проносящихся мимо, от его собственной внутренней сути. Какая-то разрушительная сила, природы которой он не понимал, на время вырвала его из мира; но теперь он вернулся и твердо намерен оставить свой след на этой блистательной сцене.
Раб заблаговременно открыл для него створку двойных ворот. Лутерин проскакал через ворота не сбавляя хода и даже не оглянувшись на раба.
Его отвыкшего слуха коснулся вой ветра — словно вой гончей. Через мгновение он перестал слышать мерный звон колокола в родном доме. Висевшие на его поясе маленькие колокольчики тихо позвякивали, отмечая его продвижение по земле.
Оба светила, Беталикс и Фреир, висели низко над южным горизонтом. Виднеющиеся между стволами деревьев солнца напоминали пару гонгов, большой и малый. Лутерин развернулся к солнцам спиной и вскоре выбрался на городскую дорогу. Год от года Фреир в небесах Сиборнала опускался все ниже. Медленное склонение Фреира к горизонту поднимало бессильную ярость в душах людей. Мир вокруг готов был измениться. Пот, выступивший на груди Лутерина, мгновенно остыл. Он снова чувствовал, что здоров телесно и готов наверстывать упущенное — и на охоте, и в верховой езде, и в рытье кротовых нор. Хоксни мог донести его до самой опушки каспиарна — бескрайней чащи, простирающейся в дальние дали и доходящей до самых предгорий. Когда-нибудь, в один прекрасный день — и довольно скоро — он собирался отправиться к этому лесу и углубиться под его сень, чтобы растаять в чаще и затеряться, намеренно один на один с опасностью, как зверь среди зверей. Но сначала он должен вкусить объятия Инсил Эсикананзи.
Лутерин усмехнулся.
— Да, парень, в тебе живет дикарь, — однажды сказал ему отец после выговора за очередную провинность, уже забылось какую; отец говорил, глядя на Лутерина по обыкновению недружелюбно. Держа руку на плече сына, он словно проверял на ощупь по крепости костей силу необузданного дикаря, таящегося в его теле.
Лутерин смотрел в землю, не в силах заставить себя поднять глаза и встретить отцовский взгляд. Может ли отец любить его так же, как любит своего отца он, сын, вечно немой в присутствии великого человека?
Среди голых ветвей показались далекие серые крыши монастырей. Главные ворота в поместье Эсикананзи должны были быть уже недалеко. Он позволил гнедому хоксни замедлить бег, чувствуя, что в животном уже нет былой выносливости. Хоксни готовились скоро впасть в спячку. Очень скоро о них придется забыть, они станут бесполезны для верховой езды. Наступал сезон, когда придется все больше рассчитывать на медлительных и неповоротливых, но более мощных лойсей. Когда раб открыл перед Лутерином ворота, хоксни перешел на шаг. Впереди слышен был характерный звон колокола Эсикананзи, неравномерные удары уносил и заглушал ветер.
Лутерин еще раз помолился богу Азоиаксику: пусть отец ничего не узнает о том, что сын связался с женщинами ондодов в распутстве, в которое он впал незадолго до того, как его разбил паралич. Ондодки давали ему то, в чем отказывала Инсил.
Но теперь он решил, что должен отказаться от самок не-людей. Ведь он мужчина. На опушке леса стояло несколько шатких шалашей, куда он наведывался вместе со школьными приятелями, среди прочих и с Уматом Эсикананзи, чтобы путаться там с бесстыжими восьмипалыми сучками. Сучками и ведьмами, которые выходили к ним из леса, появлялись из самых корней... Ходили слухи, что ондодки живут даже с фагорами-самцами. Ладно, он больше на это не польстится. Все это осталось в прошлом, как и смерть его брата, и лучше об этом забыть.
Поместье Эсикананзи нельзя было назвать красивым. Главными чертами его архитектуры были грубые ломаные линии; дома строились с таким расчетом, чтобы противостоять суровому северному климату. В основании домов шел мощный слепой арочный фундамент. Узкие окна с тяжелыми ставнями начинались лишь от второго этажа. Все строение напоминало пирамиду со срезанной вершиной. Бой колокола на колокольне поместья олицетворял суровость здешних мест, словно укрывшуюся в самом сердце северного дома.
Лутерин спрыгнул с хоксни и дернул за ручку дверного звонка.
Он был рослым широкоплечим парнем, уже хорошо тренированным и ловким, в традиционной сиборнальской манере, с лицом круглым и пышущим природным добродушием, хотя сейчас брови, сдвинутые в ожидании появления Инсил, и сжатые по той же причине губы придавали лицу излишнюю суровость. Напряжение и серьезность делали юношу похожим на отца, но серые глаза его лучились, в отличие от глаз отца — темных, с будто углубленными зрачками.
Волосы Лутерина, густыми завитками спускавшиеся почти до плеч, были темно-рыжими и составляли полную противоположность гладкой черноте волос цвета «воронова крыла» девушки, прихода которой он так ждал.
По Инсил Эсикананзи сразу было видно: вот наследница из могущественной семьи. Она умела быть презрительной и холодной. Она мучила. Она лгала. Она в совершенстве владела искусством беззащитности; в иных случаях, если это было более уместно, она верховодила. От ее улыбки веяло зимним холодом — от улыбки, более связанной с выражением вежливости, чем с ее действительным настроением. Ее фиалковые глаза глядели невыносимо равнодушно.
Она пересекала зал-прихожую, неся кувшин с водой, крепко ухватив сосуд за обе ручки. Оказавшись напротив Лутерина, Инсил чуть вздернула подбородок: то был безмолвный досадливый вопрос. Для Лутерина Инсил была невыносимо желанной — еще более желанной из-за своих капризов.
Перед ним была девушка, на которой ему предстояло жениться согласно договору, заключенному между его семьей и семьей Эсикананзи сразу после рождения Инсил, договору, преследующему единственную цель — укрепить связи между самыми могущественными людьми округи.
Стоило Лутерину оказаться в обществе Инсил, как он мгновенно вспомнил привычное ощущение извечной обеспокоенности, почувствовал, что опутан мучительной сетью жалоб, которую девушка ткала вокруг себя.
— А, Лутерин, вижу, ты снова на ногах. Ты великолепен. И, как покорный долгу будущий супруг, надушился вонючим потом хоксни, перед тем как предстать перед невестой и рассыпаться в комплиментах. Ты вырос с тех пор, как улегся в постель, — в особенности твой стан.
Инсил уклонилась от его объятий, ловко заслонившись кувшином. Тогда он положил руку на ее тонкую талию, и девушка позволила проводить себя до подножия широкой, но темной лестницы, маршам которой добавляли мрачности картины. С них на проходящих смотрели мертвые Эсикананзи, словно ушедшие в привязь лики, темные как из-за манеры письма, так и протекшего времени.
— Не издевайся надо мной, Сил. Я скоро опять похудею. То, что я снова обрел здоровье, — уже чудо.
Личный колокольчик Инсил звякал при каждом ее шаге с одной ступеньки на другую.
— Моя мать тоже нездорова. Она всегда нездорова. И моя худоба и стройность — это болезнь, а не здоровье. Тебе повезло — ты оказался у наших дверей, когда моих скучных родителей и еще более скучных братьев, включая и твоего друга Умата, нет дома. Они отбыли на какую-то мрачную церемонию, не знаю куда. Поэтому тебе не грех попробовать воспользоваться преимуществами своего внезапного появления, иными словами, моим одиночеством, верно? Наверняка ты полагаешь, что, пока ты лежал в кровати в своей зимней спячке, я пользовалась услугами конюхов. Отдавалась этим сыновьям рабов на снопах соломы.
Вслед за Инсил он прошел по коридору, по скрипучим половицам, покрытым истертыми ковриками мади. Инсил была рядом, ужасно близко, но казалась призраком в сумеречном свете, просачивающемся сквозь щели между ставнями.
— Для чего ты терзаешь мое сердце, Инсил, когда оно и без того твое?
— Мне нужно не твое сердце, а твоя душа.
Инсил рассмеялась.
— Соберись же с духом. Ударь меня, как бьет меня отец. Почему бы и нет? Разве телесные наказания не самая обычная вещь?
— Нет, — горячо возразил Лутерин. — Наказания? Послушай, когда мы поженимся, я сделаю тебя счастливой. Мы можем ездить вместе на охоту. Мы никогда не расстанемся. Мы будем жить в лесах...
— Ты же знаешь, что для меня комната всегда была милее леса.
Инсил помедлила, положив руку на ручку двери, терзая его улыбкой, выставив ему навстречу свою еще неразвитую грудь, обтянутую льном и кружевами.
— Там, снаружи, люди гораздо лучше, Сил. Не смейся. Зачем делать из меня дурака? Я знаю о страдании ровно столько же, сколько и ты. Целый малый год я провел без сознания — разве можно представить худшее наказание?
Инсил положила палец ему на подбородок, потом передвинула к губам.
— Мудро отдавшись во власть параличу, ты сумел избежать худшего наказания — жить под пятой деспотов-родителей в этом обществе покорных, где тебе, например, приходилось путаться с нелюдью, чтобы получить толику облегчения...
Увидев, что он покраснел, Инсил улыбнулась и сладчайшим голосом продолжила:
— Ты никогда не пытался заглянуть в собственные страдания? Ты без конца упрекаешь меня в том, что я не люблю тебя, но разве я обращаюсь с тобой хуже, чем ты сам обращаешься с собой?
— О чем ты говоришь, Инсил?
Ее слова причиняли ему неизъяснимое мучение.
— Твой отец дома или снова на охоте?
— Дома.
— Насколько я помню, он вернулся с охоты всего за два дня до того, как твой брат покончил с собой. Ты никогда не думал о том, почему Фавин решил убить себя? Мне кажется, он узнал что-то, что ты отказываешься понимать.
Не отрывая темных глаз от лица Лутерина, она открыла дверь позади себя; та распахнулась настежь, и солнечный свет залил их, стоящих на пороге друг против друга, уже готовых к поступку, но еще не помирившихся. Он схватил Инсил, с трепетом открыв, что она еще больше необходима ему, чем когда-то, и, как всегда, чувствуя, насколько она непонятна ему.
— Что такое узнал Фавин? Что я не хочу понимать?
Знаком ее власти над ним было то, что он всегда требовал от нее ответа.
— То, о чем узнал твой брат, стало причиной паралича, в который ты поспешно сбежал, — ведь это не настоящая смерть, так, притворство.
Она озадаченно подняла бровь. Инсил было всего двенадцать лет и один теннер, она была еще почти ребенок, и тем не менее серьезность жестов делала ее гораздо старше.
Лутерин вошел вслед за ней в комнату, тщетно подавляя в себе желание расспрашивать, но не в силах пошевелить языком.
— Откуда ты узнала про моего брата и про меня, Инсил? Ты все выдумала, чтобы придать себе загадочности. Ты постоянно сидишь в четырех стенах...
Инсил поставила кувшин на стол возле охапки белых цветов, которую принесла сюда раньше. Те лежали, рассыпанные на полированной столешнице, в которой головки цветов отражались, словно в туманном зеркале.
Будто обращаясь к самой себе, девушка проговорила:
— Я не хочу, чтобы ты вырос таким, как другие мужчины в здешних краях...
Она подошла к окну, наполовину закрытому тяжелыми коричневыми шторами, свисающими от потолка до пола. Инсил стояла лицом к окну, но Лутерин чувствовал, что она не смотрит наружу. Двойной свет солнц, изливающийся с двух сторон, растворял девушку в себе, словно поток, и ее тень на полу казалась еще более тонкой, чем она сама. Инсил в очередной раз демонстрировала свою ускользающую натуру.
В этой комнате юноша никогда не бывал, но это была типичная комната дома Эсикананзи, заставленная массивной мебелью. От тяжелого, отчасти привлекательного, отчасти внушающего отвращение запаха кружилась голова. Возможно, единственной целью хозяев было собрать как можно больше мебели, в основном деревянной, в преддверии долгих лет прихода Вейр-Зимы, когда о том, чтобы сделать новую мебель, придется забыть. Здесь имелась просторная кушетка с резной спинкой и массивный гардероб, который доминировал в комнате. Вся мебель была привезена из других стран, Лутерин видел это по стилю.
Не отводя от Инсил глаз, он затворил за собой дверь. Инсил же, словно жениха в комнате не было вовсе, принялась расставлять в вазе цветы, наливать воду из кувшина, раздвигая стебли длинными пальцами.
Лутерин вздохнул.
— Моя бедная мать тоже все время болеет. Почти каждый день она уходит в паук общаться со своими умершими предками.
Инсил внимательно взглянула на него.
— А ты сам — я имею в виду, пока ты лежал в постели — не приобрел привычку погружаться в паук?
— Нет. Ты ко мне несправедлива. Отец запретил мне... а кроме того, дело не только в этом...
Инсил сжала пальцами виски.
— Паук — удел простолюдинов. Вхождение в транс и погружение в этот ужасный нижний мир, где гниют тела, где отвратительные трупы все еще проявляют признаки жизни... о, как отвратительно! Ты действительно уверен, что никогда этого не делал?
— Никогда. Мне кажется, что болезнь моей матери происходит от паука.
— Так вот, да будет тебе известно, я занимаюсь этим каждый день. Я целую губы моей покойной бабушки и чувствую привкус тления...
Инсил не выдержала и рассмеялась.
— У тебя глупый вид. Я же просто шучу. Мне ненавистна сама мысль об этих подземных существах, и я рада, что ты к ним не приближаешься.
Она снова повернулась к цветам.
— Эти снежные цветы — знак умирания мира, тебе не кажется? Остались только белые цветы, которые дожидаются прихода снега. В книгах написано, что когда-то в Харнабхаре цвели яркие пестрые цветы.
Инсил раздраженно отодвинула вазу. Внизу, у основания лепестков, еще сохранился призрачный цвет золота, у самой завязи переходящий в несколько миллиметровых пятнышек ярко-красного, словно символ уходящего солнца.
Он сделал несколько неловких шагов к ней, простучав каблуками по плиткам пола.
— Давай присядем на диван и поговорим о более приятных вещах.
— Ты, должно быть, имеешь в виду климат — холода наступают так быстро, что наши внуки, если только мы выживем и нам удастся завести внуков, наверняка всю жизнь проведут в полной тьме, завернувшись в звериные шкуры. И, скорее всего, переговариваясь звериным рычанием... Мне это кажется очень и очень вероятным.
— Какие глупости!
Он со смехом бросился к Инсил и обнял. Она позволила ему увлечь себя на кушетку, отворачиваясь от его лихорадочного шепота.
— Нет, Лутерин, ты не можешь заняться со мной любовью. Ты можешь потрогать меня, как раньше, но никаких занятий любовью. Мне кажется, что никогда в жизни мне не захочется заняться любовью — и вообще, стоит только дать тебе волю, как ты, раз насытившись, сразу же потеряешь ко мне интерес.
— Неправда, неправда!
— Лучше будем считать, что это правда, если собираемся когда-нибудь счастливо жить в браке. Я не собираюсь выходить замуж за пресыщенного мною мужчину.
— Мне никогда, никогда тобой не насытиться.
Он говорил, а его руки в это время уже атаковали ее одежду.
— Вражеская армия... — Инсил вздохнула, но ответила на поцелуй Лутерина и даже просунула кончик языка ему в рот.
В тот же миг дверь гардероба распахнулась. Из шкафа выскочил молодой человек с такими же, как у Инсил, темными прямыми волосами, но в отличие от сестры живой и подвижный ровно настолько, насколько она была холодна. Это был Умат, и он размахивал мечом, издавая воинственные клики.
— Сестра, сестра! Помощь спешит! Здесь твой отважный спаситель, готовый избавить тебя и нашу семью от бесчестья! Кто это животное? Разве года в постели ему не хватило, раз, едва поднявшись, он немедленно отправился искать ближайшую кровать, куда бы прилечь? Злодей! Насильник!
— Ах ты, крыса, спрятался в норе! — закричал в ответ Лутерин. В ярости он бросился на Умата, деревянный меч выпал у того из рук, и, схватившись, они рухнули на пол и принялись отчаянно бороться. После непродолжительной рукопашной Лутерин почувствовал, что силы оставляют его. Его приятель прижал его к полу. Повернув же голову, он обнаружил, что Инсил, воспользовавшись потасовкой, ускользнула.
Лутерин бросился к двери. Но Инсил уже скрылась где-то в темных глубинах дома. Во время потасовки они свалили вазу со стола, ваза разбилась, вода пролилась и цветы рассыпались по плиткам пола.
И только когда он вскоре вновь оказался на городской дороге, отпустив поводья и предоставив гнедой хоксни самой выбирать дорогу, до него вдруг дошло, что Инсил наверняка подстроила это внезапное появление Умата на сцене. И вместо того чтобы ехать домой, он повернул от ворот поместья Эсикананзи к городу, чтобы выпить в таверне Икен.
Беталикс уже клонился к закату, когда Лутерин снова услышал поминальный звон домашнего колокола Шокерандитов. Шел снег. Вокруг в сером мире не было видно никого. В таверне разговоры сводились преимущественно к перешучиванию или жалобам на новые правила, введенные недавно олигархом, такие как комендантский час, например. Новые порядки были направлены на укрепление духа сообщества ввиду надвигающихся на Сиборнал бедствий.
Большая часть разговоров не стоила того, чтобы к ним прислушиваться, и Лутерин углубился в свои мысли. Его отец никогда не говорил на такие темы — по крайней мере в присутствии сына.
Длинный коридор освещался газовым рожком. Пока Лутерин снимал пояс с личным колокольчиком, вошел раб, поклонился и объявил: секретарь отца просит о встрече.
— Где мой отец? — потребовал ответа Лутерин.
— Хранитель Шокерандит уехал, господин, — ответил раб.
В ярости Лутерин взлетел по ступенькам к комнате секретаря и толкнул дверь. Секретарь был постоянной принадлежностью домашнего хозяйства Шокерандитов. Из-за носа, похожего на клюв, прямой линии бровей, низкого лба и мысика темных волос, опускающихся на лоб, секретарь очень напоминал ворону, а его тесная комнатка с набитыми секретными документами альковами — воронье гнездо. Отсюда велось изучение многих тайных нитей, простирающихся далеко за пределы ограниченных домом представлений Лутерина.
— Ваш отец отправился на охоту, господин Лутерин, — объявила коварная птица, в голосе которой наглость смешивалась с подобострастием. — Вас нигде не могли найти, поэтому отец уехал не попрощавшись.
— Почему он не позволил мне сопровождать его? Он знает, как я люблю охоту. Возможно, я еще сумею нагнать его. В какую сторону отправилась его свита?
— Ваш отец приказал мне передать вам это послание. Думаю, вам следует ознакомиться с его содержимым, прежде чем торопиться в путь.
Секретарь передал Лутерину большой пакет. Лутерин торопливо сломал печати. Потом сорвал обертку и прочитал то, что было написано твердым и ясным отцовским почерком на находившемся внутри листке бумаги:
«Сын Лутерин!
Не слишком далек тот день, когда ты будешь назначен Хранителем Колеса вместо меня. Как ты понимаешь, эта должность совмещает в себе как мирской, так и религиозный долг.
Сразу после твоего рождения тебя отвезли в Ривеник, в Церковь Грозного Мира, где тебя благословил верховный священник. Я верю в то, что это укрепило покорную Богу часть твоего духа. С тех пор ты показал себя послушным сыном, которым я доволен.
Теперь настала пора укрепить мирскую сторону твоего духа. Твой старший брат был отправлен в армию, поскольку такова традиция касательно старшего сына. Я думаю, что теперь ты должен последовать той же дорогой, в особенности ввиду того, что в огромном мире (о котором ты еще не имеешь ясного представления) жизнь складывается так, что очень скоро Сиборналу предстоит принимать важные решения.
Для организации твоего путешествия я оставил у секретаря необходимую сумму денег. Он передаст деньги тебе. Ты должен будешь отправиться в Аскитош, главный город нашего гордого континента, где поступишь на военную службу в звании лейтенанта-энсина. Доложись архиепископу-военачальнику Аспераманке, которому известно, кто ты и откуда.
Я приказал пригласить маски в твою честь, чтобы отпраздновать твой отъезд.
Ты должен отбыть без промедления и снискать славу во имя чести своей семьи.
Твой отец».
Лутерин покраснел, прочитав столь редкостные со стороны отца слова похвалы. Его отец доволен им, несмотря на все его неудачи! — доволен настолько, что приказал устроить празднество и пригласить маски в его честь!
Но румянец сошел с его щек, едва он понял, что сам отец не будет присутствовать на масках. Ну да ладно, все равно. Он скоро станет солдатом и будет исполнять все, что прикажут ему. Он добьется того, что отец сможет им гордиться.
Возможно, тогда лучи его славы согреют даже Инсил...
Праздник с масками был устроен в пиршественном зале поместья Шокерандитов в канун отбытия Лутерина на юг.
Назначенные персонажи в роскошных костюмах исполняли отрепетированные роли. Играла строгая музыка. Была рассказана знакомая история о невинности и злодействе, о страстном желании обладать и решающей роли веры в бытии человека. Некоторые персонажи представляли зло, некоторые добро. Все происходящее управлялось законами превыше собственной воли действующих лиц. Музыканты, склоняясь над своими инструментами, играли точно и слаженно, словно математики, не знающие способа вложить душу в исполнение.
Гармонии, производимые музыкантами, предполагали серьезное сочувственное настроение, призывая вникать в человеческие деяния глубже обычных понятий пессимизма и оптимизма. В лейтмотивах, сопровождавших эпизод, в котором женщина принуждена отдаться ненавистному правителю, а мужчина не в силах совладать с низменными желаниями, те из присутствующих, кто обладал наиболее тонким музыкальным слухом, различили обреченность, рождающую ощущение того, что даже самые активные и решительные из персонажей действуют лишь под влиянием окружающей действительности, слагая ее, как отдельные ноты слагают музыку. Затверженные действия масок только подчеркивали такую трактовку.
Некоторые наиболее выдающиеся сцены были вознаграждены сдержанными и вежливыми аплодисментами публики, но большинство картин прошло при полном молчании зрителей, очевидно не вызвав у них особого отклика. Актеры играли умело и отлично знали роли, но ни один из них, даже главные герои, не вкладывали в исполнение жизни.
Аллегорические фигуры государства, благородных семейств, церкви, фигуры, олицетворяющие фагоров или чудовищ, а с ними характерные маски — Любовь, Ненависть, Зло, Страсть, Страх и Невинность, — отыграв свои роли на подмостках, уходили, чтобы больше не появиться.
Наконец сцена опустела. Свет погас. Музыка смолкла.
Но драма Лутерина Шокерандита только начиналась.
Глава 1 Последняя битва
Природа травы такова, что она продолжает расти, несмотря на ветер. На ветру трава клонится. Но корни травы распространяются под землей, цепляются за нее накрепко, не оставляя места для роста другим растениям. Трава была всегда и останется навечно. Ветер появился совсем недавно, его порывы и напор были незнакомы.
Могучее дыхание севера изменяло само небо, превращая его в лоскутное одеяло из черных и серых облачных пятен. Вдалеке, на взгорьях, из облаков лился дождь и даже шел снег. Здесь же, в степях Чалца, тучи не приносили с собой ничего, кроме временного затемнения неба. Сумерки перекликались с однообразием равнины.
Низины переходили одна в другую, без четких границ. Среди трав было заметно лишь единственное движение: на одном из участков сохранились невзрачные желтые цветы, которые шевелились на ветру, словно мех спящего зверя. Одинокие каменные межевые знаки отмеряли участки земли. На южной стороне каменных истуканов иногда вырастали лишайники, желтые или серые.
Только острый тренированный глаз мог разглядеть в траве тропы, по которым следовали существа, появляющиеся ночью или во время полусвета, когда в небе светило только одно солнце либо не было ни одного. Одинокие ястребы, стерегущие небо на недвижных крыльях, объясняли столь малую активность в течение дня. Самый широкий путь через дикую степь проложила река, текущая на юг, к далекому морю. Сегодня река повторяла в себе облик истерзанного ветрами неба.
С севера по просторам этого негостеприимного края продвигалось стадо арангов. На своем пути эти длинноногие представители козьего племени приблизительно следовали изгибам и поворотам реки. Кудлатые, рогатые собаки-асокины следили за тем, чтобы аранги не разбредались. За трудолюбивыми асокинами в свою очередь следили шестеро мужчин на хоксни. Шестеро то сидели в седлах, то вставали в стременах, чтобы разнообразить поездку. Все пастухи были одеты в шкуры, перехваченные плетеными ремешками.
Пастухи очень часто оглядывались через плечо, словно опасаясь преследования. Погоняя хоксни, они свистом и окриками отдавали приказы своим асокинам. Крики и посвист разносились над равниной, перекрывая непрерывное блеяние арангов. Пастухи продолжали то и дело оглядываться назад, но со стороны мрачного северного горизонта ничего не появлялось.
Впереди возникли руины какого-то человеческого жилища, устроенного в излучине реки. Разбросанные дома со сложенными из камня стенами стояли без крыш. Самые большие здания напоминали пустую скорлупу. Сорные растения, пользуясь поддержкой ветра, разрослись вдоль стен и выглядывали из пустых, темных оконных проемов.
Стадо арангов, повинуясь приказам асокинов и пастухов, обогнуло разрушенный поселок по широкой дуге, опасаясь болезни. Еще через несколько миль река совершала плавный ленивый поворот, служивший границей спорной полосы земли, борьба за которую велась с древних времен, может быть с тех самых пор, как здесь впервые появился человек. Здесь начиналась область, ранее известная как Хазиз, крайний верхний рубеж Северной равнины Кампаннлата. Собаки-асокины выстроили арангов цепочкой вдоль берега реки, где проходила едва заметная тропа. Аранги торопливо поскакали вперед, образовав длинную цепь, морда к хвосту.
Они вовремя подоспели к широкому прочному мосту. Мост изгибался двумя дугами над рекой, поверхность которой рябила под ветром. Пастухи пронзительно засвистели, асокины проворно собрали арангов в плотное стадо, не давая им пересечь мост. В миле или двух впереди, на северном берегу, виднелось поселение, выстроенное в форме колеса. Поселение было основано выходцами из Сиборнала и называлось Истуриача.
Со стороны поселения донесся звук рога, сообщая о том, что пастухов увидели. Вооруженные люди и черная сиборнальская пушка охраняли периметр.
— Добро пожаловать! — прокричали часовые. — Что видно на севере? Нет ли там армии?
Пастухи принялись загонять арангов в уже дожидавшиеся их хлева.
Каменные фермерские дома и амбары были выстроены по периметру поселения так, чтобы образовать подобие крепостной стены. Фермы, где выращивали скот и зерновые, находились поблизости от центра городка. А в самом центре поселения, там, где полагалось проходить оси колеса, стояли служебные постройки и высилась церковь. По улицам Истуриачи во множестве ходили жители, не обращавшие внимания на пастухов, которые торопливо зашагали к одному из центральных домов поселка, к таверне, чтобы освежиться после долгого пути через степи.
С южной стороны моста вид равнины радовал большим разнообразием. Одинокие деревья свидетельствовали о более частых дождях. Земля пестрела белыми пятнами, светлым веществом, издали напоминающим размолотый камень. Но при ближайшем рассмотрении белые пятна оказывались костями. Некоторые из останков размером были более шести футов. Время от времени зубы или целый кусок челюсти указывали на принадлежность останков человеку или фагору. Эти свидетельства давно минувших битв тянулись здесь на многие мили.
В тиши этого овеянного победами и поражениями невзрачного места ехал человек верхом на лойсе, направляясь к мосту с юга. Немного позади первого всадника ехали еще двое. Все трое были одеты в военную форму и снаряжены для боя. Первый всадник, человек небольшого роста, с птичьими чертами лица, остановился, немного не доехав до моста, и спрыгнул на землю. Взяв лойся под уздцы, он отвел его к воде и там привязал к дереву бриар с плоской вершиной кроны, после чего снова выбрался на равнину, откуда принялся рассматривать в подзорную трубу вражеское поселение.
Два других всадника, стараясь двигаться осторожно, через некоторое время присоединились к первому. Они также слезли со своих лойсей и тоже привязали их к корням мертвого раджабарала. Эти двое были старше по званию и потому держались в стороне от своего проводника.
— Истуриача, — сообщил проводник, указав вперед рукой. Но офицеры разговаривали только между собой. Они также осмотрели Истуриачу в подзорные трубы, тихо переговариваясь друг с другом. Происходила походная разведка на местности.
Один из офицеров — артиллерист — остался на наблюдательном посту, где занял место с самого начала. Проводник вместе с другим офицером галопом направились обратно на юг, чтобы доложить о виденном приближающейся с юга армии.
Прошло несколько часов, и на равнине появились колонны людей — некоторые верхом, но гораздо больше пехотинцев, — перемежающиеся повозками, артиллерийскими упряжками и прочими атрибутами войны. Повозки тянули лойси или менее сильные хоксни. Колонны солдат маршировали в строгом порядке, составляя контраст с совершенно неупорядоченными обозными цепочками, где везли провиант, женщин и прочих устроителей бивачной жизни. Над головами марширующих развевались флаги Панновала, города под горами, а также флаги религиозных и иного рода союзников.
Далее следовали повозки лекарей и другие — с полевыми кухнями и фуражом для животных, участвующих в этой карательной экспедиции.
Все эти люди, в основном мужчины, но также и женщины, представляя собой винтики и шестеренки войны, тем не менее сталкивались в пути с происшествиями, связанными только с личным поведением и восприятием, и в результате воспринимали войну через собственный опыт.
Один из таких случаев произошел с артиллерийским офицером, который вместе со своим лойсем остался дожидаться подхода части у подножия разломанного дерева раджабарал. Он лежал тихо, глядя перед собой, когда мычание лойся заставило его обернуться. Четыре человечка небольшого роста, ему по пояс, подбирались к привязанному лойсю. Создания наверняка вылезли из норы под корнями сломанного бурей раджабарала, и потому офицер не заметил их раньше.
Внешне существа во всем походили на людей с длинными руками и тонкими ногами. Их тела укрывали грубые одежды из коричневых кож, спускающиеся до колен и с длинными рукавами, почти закрывающими восьмипалые ладони. Приплюснутые лица и вывернутые ноздри делали их похожими на собак или других.
— Нондады! — воскликнул офицер. Он немедленно узнал подземных обитателей, хотя раньше видел их только в неволе. Лойсь от страха рванулся вперед. Двое ближайших к нему нондадов бросились с ножами к горлу лойся, и офицер выхватил двуствольный пистолет, но потом помедлил.
Из древней норы меж корней появилась другая голова, с трудом вывернула из узкой дыры плечи и поднялась на ноги, отряхивая с густой шкуры землю и фыркая.
Рядом с нондадами фагор казался великаном. Огромную квадратную голову венчали роскошные, чуть изогнутые рога, кончиками повернутые вперед. Едва выбравшись из норы, фагор втянул свою бычью голову в плечи, и его глаза загорелись при виде лежащего на животе офицера. На мгновение фагор замер без движения. Потом, еще больше пригнув голову, бросился на человека.
Артиллерист перекатился на спину, вскинул оружие и, держа пистолет обеими руками, прицелился в живот двурогому и выстрелил из обоих стволов. Несимметричное пятно желтой крови появилось на животе анципитала, но тот и не думал останавливаться. Открылся огромный уродливый рот, обнажив острые, похожие на лопаты зубы и желтые десны. Офицер вскочил, и в тот же миг фагор с разбегу врезался в него. Сильные, мозолистые мохнатые лапы обхватили человека.
Офицер замолотил фагора по крепкому черепу рукояткой пистолета.
Неожиданно хватка фагора ослабла. Плотное и сильное, похожее на чурбан тело повалилось на бок. Фагор рухнул лицом вниз. С огромным усилием существо попыталось подняться на ноги. Потом взревело. И упало замертво, так что содрогнулась земля.
С хрипом дыша, задыхаясь от густого молочного духа анципитала, офицер поднялся на колени. Чтобы встать, ему пришлось опереться одной рукой на плечо фагора. При этом он увидел, как в густой шерсти анципитала во множестве перебегают вши, встревоженные началом кризиса своего существования. Несколько вшей уже карабкались по рукаву мундира офицера.
Артиллерист с трудом поднялся на ноги. Все его тело била дрожь. Неподалеку дрожал его скакун, из ран на его горле текла кровь. Нондадов и след простыл; скорее всего, они скрылись в своей подземной норе, в своей подземной стране, которую называли Восьмьюдесятью Мраками. Вскоре артиллерийский офицер достаточно опомнился, чтобы взобраться в седло. Он слышал о союзе между фагорами и нондадами, но и предположить не мог, что сам станет тому свидетелем. Очень может быть, что сейчас под его ногами в подземных ходах скрываются и другие двурогие...
Еще задыхаясь от вони анципитала, он тронулся в путь навстречу своей армии.
Экспедиция, отправленная на север из Панновала (к одной из ее частей принадлежал и артиллерийский офицер), уже некоторое время принимала участие в полевых операциях. Воинские части стерли с лица земли несколько поселений сиборнальцев, выстроенных на территории, которую Панновал полагал своей. Начиная от Рунсмура, армия предприняла несколько успешных атак. По мере сокрушения сиборнальских городков экспедиция продвигалась все дальше к северу. Сегодня перед ними оставалась только Истуриача — единственный неразрушенный оплот Сиборнала. До конца малого лета оставались считанные дни.
Городки сиборнальцев, с самого начала живущие в ожидании осады, редко помогали друг другу. Так, одно за другим, поселения пали под ударами карателей.
Ничто не угрожало движущимся широким фронтом частям Панновала, за исключением отрядов фагоров, которых, по мере того как воздух равнин становился холоднее, появлялось все больше и больше. Происшествие с артиллерийским офицером не было исключением.
Когда офицер наконец добрался до своих товарищей, солнце, на короткое время выбравшееся из разбросанных на западе туч, уже садилось за горизонт, заливая небеса драматической игрой красок. Когда горизонт наконец поглотил солнце, мир не погрузился в полную темноту. На юге продолжало гореть второе солнце, Фреир. Когда тучи в той стороне расступались, люди отбрасывали в лучах Фреира длинные острые тени, направленные, словно указующие персты, к северу.
Два старинных неприятеля неторопливо готовились к битве. Далеко позади отрядов, вытаптывающих равнину, на юго-западе лежал великий город Панновал, откуда исходил приказ начать войну, — Панновал, скрытый в известняковых недрах гористого хребта Кзинт, центрального хребта тропического континента Кампаннлат.
Среди многочисленных народов Кампаннлата лишь несколько могли похвастаться исторически сложившимся или установленным через династии союзом с Панновалом. И тем не менее даже эти союзы были непрочными, взаимопонимание часто рушилось; бывшие друзья с воинственным пылом бросались друг на друга. Существовало общее название, под которым Кампаннлат был известен своему главному врагу, Сиборналу, — Дикий Континент.
Внешним общим врагом Кампаннлата был северный материк Сиборнал. Под давлением ухудшающегося климата народы Сиборнала вынуждены были сплотиться, образовав устойчивый союз. Противоречия внутри союза если и существовали, теперь тщательно подавлялись. Испокон веков народы Сиборнала стремились продвинуться на юг, через перешеек Чалц, чтобы занять более плодородные равнины Дикого Континента.
Имелся и третий материк, на крайнем юге, — Геспагорат. Но этот материк был отделен или почти полностью отделен морями умеренной климатической зоны. Эти моря и материки составляли планету Гелликонию, или Хрл-Ичор Йхар, если пользоваться именем, данным планете более древней расой, анципиталами.
В период, когда силы Сиборнала и Кампаннлата готовились к последней битве за Истуриачу, Гелликония постепенно вступала в самую холодную пору своего Великого Года.
Планета двойной системы, Гелликония обращалась вокруг своего материнского солнца, звезды Беталикс, за 480 дней. В свою очередь сам Беталикс и его планеты обращались вокруг большего солнца, Фреира, главной компоненты системы. Увлекаемая Беталиксом по большой эллиптической орбите, Гелликония теперь приближалась к самой дальней точке своего положения относительно большего светила, Фреира. За пару последних столетий Осень — иными словами, медленный уход Лета — прочно вступила в свои права. Сегодня Гелликония вплотную приблизилась к границе Зимы следующего Великого Года. Планету ожидали тьма, холод, тишина на многие последующие века.
Даже самый отсталый крестьянин теперь понимал, что климат неуклонно становится все хуже. Если перемены погоды были не особенно ощутимы, то некие другие признаки говорили больше. Одним из них был мор, эпидемия болезни под названием «смертельное ожирение», распространившейся с недавних пор повсеместно. Двурогие анципиталы, обычно именуемые фагорами, также предчувствовали приближение более приятного для них холодного времени года, когда условия жизни наконец вернутся к тем, какими были когда-то давным-давно. В течение поздней Весны, раскаленного Лета и ранней Осени мохнатые двурогие создания изнывали под пятой человека. Теперь, чувствуя раздутыми ноздрями холод Великой Зимы, неуклонно сокращающей численность человеческого населения, фагоры намеревались попытаться снова захватить власть — и непременно добьются успеха, если человечество не изобретет способ их остановить.
Такова была могущественная воля планеты, воля, способная расшевелить людские массы, пробудив их к целенаправленному действию. Одна воля правила из Панновала, другая, еще более жесткая и решительная, находилась в столице Сиборнала, Аскитоше. Однако в настоящий момент две эти власти были больше заняты конфронтацией друг с другом.
Вот почему выходцы из Сиборнала готовились к осаде, с тревогой и ожиданием поглядывая на север, не подходит ли оттуда подкрепление. Вот почему орудия Панновала и его союзников поспешно выкатывались на позицию, чтобы взять на прицел Истуриачу.
Некоторые обстоятельства замедляли продвижение передовых и арьергардных частей панновальской армии. Старый маршал-главнокомандующий, на чьи плечи была возложена миссия уничтожения сиборнальских поселений, никакими силами не мог истребить в своих частях, с жаром взявшихся за разбой и грабежи в захваченных городах, желание повернуть обратно в Панновал, чтобы скорее вернуться с награбленным. Случаи массового дезертирства сильно сократили ряды панновальцев, и на замену были вызваны свежие полки.
Тем временем орудия Истуриачи начали непрерывный обстрел передовых позиций панновальцев. Бруум. Бруум. Летела земля, и среди частей, состоящих из жителей Рандонана, прибывших с юга Дикого Континента, с грохотом рвались снаряды.
В карательной армии Панновала были представлены многие народности. Здесь были безжалостные убийцы из Каси, кто маршировал, спал и сражался бок о бок со своими фагорами со спиленным рогами; были высокие воины с непроницаемыми лицами из Брастела, пришедшие от Западного Барьера; и племена Мордриата, отправившиеся на войну вместе со своими живыми талисманами; и сильнейшие батальоны из Борлдорана, объединенной монархии Олдорандо-Борлиен — верного и сильнейшего союзника Панновала. Среди солдат Панновала попадались и такие, чьи приземистые и широкие тела свидетельствовали о том, что эти люди перенесли смертельное ожирение и выжили.
Чтобы сражаться среди союзников, борлдоранцы пересекли горы Кзинт по высоким извилистым тропам. В пути некоторые заболели и вернулись домой. Сейчас же оставшиеся силы, измотанные и усталые, внезапно обнаружили, что путь к воде им перекрыли части, пришедшие сюда раньше и почти лишившие их возможности напоить своих верховых животных.
Пока снаряды Истуриачи рвались совсем рядом, завязался спор, который становился все жарче. Командир борлдоранского батальона спешился и отправился к верховному маршалу, чтобы лично передать ему жалобу. Командир борлдоранцев по имени Бандал Эйт Лахл был слишком молод для командования военными частями, но весел и имел аккуратную бородку и хорошую выправку.
Вместе с Бандалом Лахлом в военных действиях участвовала его миловидная молодая жена, Торес Лахл. Будучи врачом, она тоже пришла к старому верховному маршалу с жалобой — с жалобой, касающейся примитивных условий гигиены в воинских частях. Она уверенно шагала следом за мужем, ориентируясь на его сильную спину и задевая длинными юбками землю.
Они вместе пошли к шатру верховного маршала. Из шатра выскользнул смущенный адъютант.
— Маршал недееспособен, господа. К сожалению, сейчас он не может принять вас и надеется, что у вас будет возможность принести свои жалобы в другой день.
— В другой день! — воскликнула Торес Лахл. — Вот какими выражениями должны пользоваться солдаты на поле битвы?
— Передайте маршалу, что если он и дальше будет рассуждать подобным образом, то наша часть может и не увидеть этот «другой день», — добавил Бандал Эйт Лахл.
Бандал Лахл безуспешно попытался дернуть себя за бородку, прежде чем повернуться на каблуках и отправиться обратно. Его жена пошла вместе с ним к расположению их части — где обнаружилось, что и борлдоранцы уже оказались под огнем орудий Истуриачи. Торес Лахл была не единственной, кто заметил, как над равниной начали собираться в стаи зловещие птицы.
Жители Кампаннлата никогда не планировали свои действия так тщательно и продуманно, как жители Сиборнала. Дисциплина у них была гораздо ниже. Но как бы ни было, нельзя было не признать, что экспедиция Кампаннлата организована хорошо. Офицеры и командование подбирались с особой тщательностью, с тем чтобы все как один понимали свою задачу. Северную армию следовало в конце концов изгнать с южного континента.
Однако сегодня панновальское офицерство было настроено гораздо менее решительно. Некоторые из офицеров, те, кто привез с собой своих женщин, занимались любовью — на тот случай, если это окажется для них последней возможностью испытать подобное удовольствие. Другие напивались до бесчувствия. К этому времени панновальцы уже насытили свои аппетиты. Лежащая перед ними Истуриача не стоила трудов, которые требовалось затратить на ее штурм. За ее стенами вряд ли скрывалось что-то большее, чем рабы, толстые фермерши и сельскохозяйственный инструмент.
Высшее командование тоже было деморализовано. Верховный маршал получил донесение о том, что дикие фагоры спустились с Верхнего Никтрихка — из огромной горной страны — и наводнили своими полчищами равнины; в результате верховный маршал слег с кашлем и простудой.
Главное — оставалась уверенность в том, что Истуриача должна быть разрушена как можно раньше и с наименьшими потерями. После этого необходимо было быстро вернуться под защиту родных стен.
Таковы были общие настроения панновальской армии. Но когда более слабое солнце, Беталикс, снова поднялось в небо, его тусклые лучи осветили новое серьезное изменение на поле будущего сражения.
С севера подходили части сиборнальской армии.
Бандал Эйт Лахл вскочил на повозку, чтобы лучше увидеть в подзорную трубу цепи далекого неприятеля, пока еще плохо различимые в рассветных сумерках.
Он вызвал курьера.
— Немедленно отправляйся к верховному маршалу. Разбуди его, подними на ноги любой ценой. Растолкуй ему, что наша армия должна атаковать и занять Истуриачу немедленно, пока им на подмогу не прибыла северная армия.
Поселение Истуриача находилось на самой южной оконечности перешейка Чалц, соединяющего экваториальный материк Кампаннлат и северный материк Сиборнал. Вдоль восточного края перешейка протянулся горный хребет Чалц. Переход с континента на континент означал путешествие через сухие степи, простертые в «дождевой тени» восточных гор от принадлежащей безопасному Сиборналу Кориантуры на севере, на юг, до зловещей Истуриачи.
Тот тип смешанных растительных культур, что обычно высаживали кампаннлатцы, не приживался в степях, и, соответственно, их богам тоже не было тут места. Все, что происходило из этого холодного региона, не годилось для Дикого Континента.
Как только свежий утренний ветерок разогнал туман, появилась возможность сосчитать колонны неприятеля. Армия Сиборнала двигалась через невысокие холмы к северу от Истуриачи, следуя изгибам реки, тем же самым путем, которым за день до того прошли пастухи со стадом арангов. Парящие над панновальскими частями зловещие птицы теперь могли легким движением крыла отправиться на север и через несколько мгновений оказаться над другой армией.
Больного панновальского маршала вывели из шатра и повернули лицом к северу. Холодный ветер выжимал слезы из глаз главнокомандующего; маршал рассеянно промокал их рукавом, рассматривая приближающегося неприятеля. Потом хриплым шепотом стал отдавать приказы мрачно внимающим ему адъютантам.
Первой отличительной чертой приближающегося врага была стройность рядов, чего не наблюдалось в армии Дикого Континента. Сиборнальская кавалерия продвигалась мерным шагом, чередуясь с каре пехоты. Животные с натугой тащили лафеты. Повозки с боеприпасами старались не отставать от артиллерии. В задних рядах грохотали обозные возки и полевые кухни. Неприметный пейзаж медленно наводняли войска, катящиеся на юг подобно медленной реке. Никто среди охваченных тревогой сил Кампаннлата не сомневался, с какой целью и куда именно они идут.
Адъютант старого маршала отдал первый приказ: войска и вспомогательные подразделения, невзирая на вероисповедание, должны молиться во имя победы Кампаннлата в предстоящем сражении. Следующие четыре минуты посвятили этому занятию.
В свое время Панновал был не только великой нацией, но и великой религиозной силой. Власть насаждающего религию цезаря распространялась на большую часть материка, и влияние идеологии Панновала принижало власть соседних стран до мелкой сатрапии. За четыреста семьдесят восемь лет до сражения у Истуриачи, тем не менее, вышло так, что великий бог Акханаба был уничтожен в поединке, ставшем теперь легендарном. Бог отбыл из нашего мира на столбе огня, забрав с собой короля Олдорандо и цезаря Киландра IX.
После этого вера раздробилась на насколько похожих друг на друга вероисповеданий. Панновал в настоящем, 1308 году по календарю Сиборнала был известен под названием Страны Тысячи Религий. Жизнь населения стала еще более тяжелой и полной неуверенности. Сейчас, в годину испытаний, все вспомнили своих мелких незначительных божков, и всяк человек молился о собственном спасении.
Были выставлены бочонки с крепким вином. Офицеры принялись криками понуждать солдат к действию.
— Стройся к бою! — неслось над войсками Дикого Континента, теснящимися на южном берегу реки. Крикам вторили условные сигналы рожков. Был отдан приказ немедленно атаковать Истуриачу и взять город штурмом, пока войска юга не подошли на помощь поселенцам. Уже через несколько минут части стрелков в маршевом порядке принялись переходить по мосту на другой берег, не обращая внимания на картечь со стороны города.
Среди солдат Кампаннлата попадались целые семейства. Мужчины с ружьями шли вместе с женщинами с котелками; женщины вели маленьких детей, что выглядело уже совсем тревожно. Воинственное звяканье штыков смешивалось с бряканьем котелков и жестяной посуды — позже точно так же к крикам детей прибавятся стоны раненых. Под ногами хрустела жухлая трава и кости.
Молящиеся устремились в битву вместе с тем, кто ранее презрел чтение молитв. Миг настал. Ряды сплотились. Войска готовы были драться. В этот день все страшились умереть, но как сама жизнь была дана им по счастливой случайности, так счастливый случай мог спасти эту жизнь. Удача и хитрость, таким был девиз.
Тем временем войско с севера ускорило свое продвижение на юг. Это была армия, вымуштрованная сурово, без жалости, ее офицерам хорошо платили, а солдаты были отлично обучены. Трубили трубы, барабаны отбивали ритм, повинуясь которому ноги несли войска вперед. Над головами солдат полоскались флаги и штандарты народов Сиборнала.
Шли войска из Лорая и Брибахра; племена Каркампана и малоразвитые обитатели Верхнего Хазиза, которые имели обычай закупоривать в походе все отверстия своего тела, чтобы злые духи не сумели в них проникнуть; воины-священники из Шивенинка; косматые горцы из Кай-Джувека и многие другие полки из Ускутошка. Все войска были под твердой рукой темноликого архиепископа-военачальника, прославленного Девита Аспераманки, олицетворявшего в своем звании и церковь, и государство.
Среди полков людей шагали и фагоры — выносливые, молчаливые, мрачные, выстроенные побатальонно, облаченные в кожаные доспехи, вооруженные огнестрельным оружием.
Всего в сиборнальском войске насчитывалось одиннадцать тысяч людей и фагоров. Армия пришла из самого Сиборнала, преодолев широкую степь, смятым ковром лежащую перед входом на материк Кампаннлат. По приказу из Аскитоша армии следовало защитить то, что осталось от цепочки поселений сиборнальцев, и нанести несколько сильных ударов в глубь территории старинного южного неприятеля; для этой цели были выделены строго отмеренные человеческие ресурсы, дополненные артиллерией.
Армия собиралась в поход в течение целого малого года. Несмотря на то, что Сиборнал представлял собой самую сплоченную силу в мире, внутри правящей системы все равно существовали неувязки, между нациями и народами еще сохранялась вражда, на высшем уровне плелись интриги. Нерешительность дала себя знать даже при выборе верховного военачальника. Прежде чем выбор остановился на Аспераманке, было рассмотрено и отвергнуто — как говорили некоторые, самим олигархом — несколько кандидатур отличных офицеров. Тем временем сиборнальские поселения, которые должна была отстоять и спасти армия, падали под ударами панновальцев одно за другим.
Стены Истуриачи и авангард сиборнальских войск разделяла еще целая миля, когда первая волна панновальской пехоты устремилась в атаку. Городок был слишком беден, чтобы держать постоянный гарнизон наемных солдат; жителям оставалось защищаться самостоятельно, как и чем возможно. Быстрая победа Кампаннлата казалась неминуемой. К несчастью панновальцев, им сначала нужно было перейти мост.
На южном берегу начался беспорядок. Среди передовых отрядов был эскадрон рандонанской конницы, который попытался перейти мост вместе с пехотинцами. Немедленно возник вопрос, кому идти первым. Началась давка. Лойсь свалился с моста и с громким всплеском упал в воду. Горцы Каси схватились с рандонанцами на саблях. Раздались выстрелы.
Остальные части панновальцев попытались перейти реку вброд, но возвратились на берег, убоявшись глубокой и быстрой воды.
Помрачнение рассудка случилось со всеми, кто ступил на мост, за исключением, может быть, каси, считавших предстоящую битву отличной возможностью употребить внутрь огромное количество своего национального драгоценного напитка, падовра. Общая неразбериха быстро привела к множеству неудач. Взорвалась пушка, убив двоих канониров. Осколки ранили лойся, который помчался, не взвидя света от боли, и затоптал лейтенанта из Матрассила. Артиллерийский офицер упал со своего скакуна в воду, а когда его вытащили на берег, то признаки пожирающей его болезни ни для кого уже не были секретом.
— Заразная болезнь! — мгновенно разнеслась весть. — «Жирная смерть».
Для всех участников похода этот ужас был реальностью. С подобным уже сталкивались и раньше, в том же месте Северной Кампаннлатской равнины.
Несмотря на стремительную атаку, планам не суждено было осуществиться. Союзные части южной армии дрались между собой. Те, кто бросился в атаку на стены города, внезапно обнаружили, что сами атакованы с тыла и флангов; перед стенами города завязалась плохо организованная схватка; трещали выстрелы, свистели пули и лязгали сабли.
С другой стороны, и наступающая сиборнальская армия оказалась не в силах сохранить стройный порядок, свойственный ее частям еще недавно. Молодые бойцы решительно бросились вперед, постановив любой ценой уберечь Истуриачу от опасности. Пушки, которые катили две сотни миль, для того чтобы начать успешную бомбардировку панновальских городов, были позабыты и брошены, поскольку при сложившемся положении картечь могла перебить как вражеские части, так и своих.
Завязалась дикая рукопашная. Выл ветер, часы уходили за часами, падали убитые, лойси и двулойси оскальзывались в собственной крови. Ярость битвы нарастала. Отряд сиборнальской кавалерии сумел прорваться сквозь схватку и занять мост, отрезав панновальцев, которые дрались под самыми стенами Истуриачи.
Сиборнальский авангард, выдвинувшийся вперед в это время, состоял их трех разноплеменных частей: могучие ускуты, отряды из Шивенинка и прославленная пехотная часть из Брибахра. Эти три соединения продвигались при поддержке фагоров.
Вместе с передовым отрядом ускутов находился архиепископ-военачальник Аспераманка. Верховный военачальник был заметной фигурой. Он был облачен в голубую кожаную куртку с тяжелым воротом и поясом, ноги обуты в высокие, по бедра, черные кожаные сапоги с отворотами. Аспераманка был высок и с виду довольно неловок и славился своей спокойной речью и даже застенчивостью в час, когда не было нужды отдавать приказы. Военачальника очень боялись.
Кое-кто утверждал, что Аспераманка уродлив. И правда: его голова была почти квадратной, лицо — отчетливо-треугольным, словно его произвели на свет геометры, решившие применить свои навыки в деторождении. Его характерной чертой была гневная складка, навечно залегшая между бровями, тонкий выступающий нос и тяжелые веки, под которыми скрывались внимательные глаза. Гнев в лице Аспераманки был наиболее приметной чертой, своего рода приправой, придающей вкус основному блюду — облику командующего. Были такие, кто принимал этот гнев за гнев Божий.
Голову Аспераманки прикрывала черная кожаная широкополая шляпа, а над шляпой развевался флаг церкви и бога Азоиаксика.
Пехотинцы Шивенинка и Брибахра устремились вперед, чтобы вступить в схватку с врагом. Видя, что исход боя решается в пользу Сиборнала, архиепископ-военачальник поманил к себе полевого командира ускутов.
— Выждите десять минут и идите в наступление, — приказал он.
Полевой командир нетерпеливо запротестовал, но ему было приказано молчать.
— Придержите свои силы, — сказал Аспераманка. Он указал затянутой в черную перчатку рукой на пехоту Брибахра, выстрелами прокладывающую себе дорогу. — Пусть потеряют немного крови.
В данное время Брибахр соперничал с Ускути за господство над северными народами. Пехота Брибахра вступила в отчаянную рукопашную схватку и понесла значительные потери. Но части ускутов не торопились вступать в бой. Малонаселенный Шивенинк слыл самой мирной областью Сиборнала среди северных народностей. То был дом Святого Колеса Харнабхара, священное для всех северян место; в битве участвовала жалкая горстка жителей Шивенинка.
Смешанный эскадрон шивенинкской конницы и отряда фагоров возглавлял лейтенант Лутерин Шокерандит. Он держался благородно и с достоинством и был заметен даже на фоне многих других воинственных фигур благородных сиборнальских господ.
Сейчас Шокерандиту сравнялось уже тринадцать лет и три теннера. Больше года прошло с тех пор, как он распрощался со своей нареченной, Инсил, и покинул Харнабхар, чтобы поступить на военную службу в Аскитоше.
Военная муштра вытопила из его тела последний жирок, накопленный за год, проведенный в беспамятстве. Он похудел, приобрел отличную выправку, походка стала небрежной, но пружинистой, что свойственно военным, вид — чванливым, но одновременно немного виноватым. И то, и другое и раньше было ему присуще, ибо было проявлением неуверенности, которую он старался скрыть.
Поговаривали, будто молодой Шокерандит сумел получить чин лейтенанта только благодаря тому, что его отец — Хранитель Колеса. Многие, даже его ближайший друг Умат Эсикананзи, гадали, как Лутерин поведет себя в бою. В характере и поведении Лутерина оставалось нечто — возможно, следствие помрачения, случившегося с ним сразу после смерти брата, — что заставляло его сторониться товарищей. Но оказавшись в седле своего лойся, он становился воплощением полной уверенности.
У него отросли длинные волосы, лицо похудело, стало орлиным, глаза горели. Восседая верхом на полуобритом лойсе и напоминая скорее фермера, чем солдата, Лутерин криком приказал своему эскадрону приготовиться к атаке, и выражение грозного восторга в его лице мгновенно превратило его в вожака, за котором стоило идти в бой. Лутерин бросился вперед, избрав целью мост, переходивший из рук в руки. По пути к мосту Лутерин оказался достаточно близко от Аспераманки, чтобы услышать сказанное тем: «Пусть потеряют немного крови». Такой предательский план подстегнул молодого Шокерандита лучше пронзительного звука трубы. Не сдерживая гнев, пришпорив лойся, он вскинул над головой затянутый в перчатку кулак.
— Вперед! — закричал он.
Вслед за ним эскадрон устремился на врага. На лилейно-белом стяге конницы Шивенинка красовался круглый знак Колеса, его внутренний и внешний круги соединялись волнистыми линиями. Треща на ветру, флаг летел над мчащимися на врага всадниками.
Потом, после битвы, атаку эскадрона Шокерандита признали решающей, переломившей ход всего дела.
Однако в тот миг до победы было еще далеко. День заканчивался, но бой продолжался. Панновальская артиллерия наконец выдвинулась на позиции и принялась методически обстреливать сиборнальские тылы, нанося немалый урон. Огонь панновальских пушек не позволил сиборнальской артиллерии выдвинуться вперед и болезнь валила одного артиллериста за другим.
Не все жители Истуриачи были заняты обстрелом панновальцев. Жены и дочери фермеров разбирали амбары на доски и складывали их в кучу. К следующему восходу Беталикса из досок соорудили две крепкие платформы, переброшенные затем через реку. Радостные крики пронеслись над сиборнальской армией. С громоподобным грохотом закованные в броню лойси северной кавалерии переправились по новым мостам на другой берег и врезались в ряды панновальцев. Обозные отряды и все сопровождающие армию, еще недавно полагавшие, что они в полной безопасности, бросились спасаться бегством и были расстреляны во множестве.
Северяне рассредоточились по всей равнине, на ходу расширяя свой фронт. Наступление армии северян знаменовали горы мертвых и умирающих.
К следующему заходу Беталикса исход битвы по-прежнему не был еще разрешен. Фреир опустился к горизонту, и на три часа воцарилась тьма. Не обращая внимания на приказания офицеров обоих армий продолжать сражение, солдаты упали на землю там, где сражались, и мгновенно заснули, в некоторых случаях — ближе полета копья от противника.
Полоски фронта тут и там освещали факелы, огонь трещал и разбрасывал искры, уносившиеся в ночь. Многие раненые умерли, и их последний вздох был подхвачен пронесшимся над равниной холодным ветром. Нондады выбирались из своих нор, чтобы стянуть у убитых оружие и одежду. Грызуны пировали, радуясь изобилию плоти. Жуки таскали части внутренностей в свои норы, готовя нежданный банкет для своих личинок.
Малое солнце планеты снова поднялось над горизонтом. Среди воинов прошли женщины и маркитанты, они несли пищу и воду, а также слова ободрения. Даже у тех, кто не был ранен, лица заливала бедность. Все разговаривали вполголоса. Все понимали: к концу этого дня будет известен исход битвы. Только фагоры стояли молча и невозмутимо, время от времени почесываясь; их светло-вишневые глаза были повернуты в сторону восходящего светила; эти существа не знали ни надежды, ни сомнения.
Над полем битвы висел прогорклый запах. Под ногами сходящихся друг с другом с намерением продолжить битву частей хлюпала грязь непонятного происхождения. Использовалось преимущество каждого выступа земли, каждой ложбины, каждого валуна или поваленного дерева. Сражение возобновили — неохотно, уже без сил, без прежней ярости. Там где проливалась людская кровь, оставались красные пятна; там, где проливалась кровь фагоров, пятна были золотые.
В этот день произошли три основных сражения. Атаки на стены Истуриачи продолжались, и панновальскому отряду удалось отвоевать и долго удерживать квартал городка, сражаясь с местными жителями и батальоном из Лорая. Маневр сил ускутов, жаждущих вступить в дело после вчерашнего промедления, был направлен к югу от моста, и в этом месте столкновение стало особенно массовым; длинные цепи солдат долго наступали друг на друга, ведя перестрелку, потом, сойдясь, шли врукопашную. Третье столкновение, длительное и отчаянное по замыслу, произошло среди повозок в лагере войск Кампаннлата, в самом тылу. Здесь снова сумели отличиться силы лейтенанта Шокерандита.
В отряде Шокерандита фагоры сражались плечом к плечу с людьми. В бой шли и сталлуны, и гиллоты — последние часто вместе со своим потомством в качестве подмоги; в бою и самцы и самки гибли в равном числе.
В сражении Лутерину удалось снискать славу к чести своей семьи. В схватке он забывал об осторожности и пренебрегал опасностью, но судьба хранила его от смерти и даже от ран. Те, кто сражался рядом с Лутерином, видели устрашающую силу, словно зачаровавшую его, и тем укрепляли свою отвагу. Солдаты Шокерандита врезались в ряды неприятеля без страха и пощады, и враг отступил — сначала оказывая упорное сопротивление, потом все быстрее. Шивенинкцы пустились в погоню, и верховые и пехота. Северяне отрезали бегущего врага и уничтожали по частям; так продолжалось до тех пор, пока руки шивенинкцев не налились свинцом от усталости — ибо приходилось непрерывно колоть и рубить, — а одежда по локоть не вымокла в крови врага.
Так началось поражение Дикого Континента.
Прежде чем панновальская армия начала отступать, ее ряды покинули многочисленные сомнительные союзники, поспешившие устремиться под защиту родного дома, в безопасность. Батальон из Борлдорана, упорно сражающийся, имел несчастье оказаться на пути Шокерандита, который подверг его мгновенной атаке. Бандал Эйт Лахл, командир батальона, отважно призывал своих людей к сражению. Борлдоранцы вели огонь, укрывшись за обозными повозками. Завязалась жаркая перестрелка.
* * *
Нападающие сосредоточили огонь на повозках. Многие борлдоранцы были убиты. Затем в стрельбе наступило затишье, и тогда ушей противников достигли звуки других сражений, происходивших неподалеку. Над полем битвы плыл дым, уносимый ветром.
Лутерин Шокерандит почувствовал: пришел его час. Выкрикнув команду своему эскадрону, он бросил его в атаку. Бок о бок с Уматом Эсикананзи Лутерин мчался вперед, на позиции борлдоранцев.
В диких полях и лесах родных мест Лутерин привык охотиться один, отрезанный от всего мира. Острейшее взаимоощущение, связывающее охотника и дичь, было знакомо ему с самого раннего детства. Он знал тот миг, когда его разум становился разумом оленя или горной козы с невероятно острыми рогами — самой трудной дичи.
Знаком ему был и миг торжества, когда стрела наконец попадала в цель — и зверь умирал, это пронзающее сердце смешанное чувство радости и печали, безжалостное и сильное, словно оргазм.
Но насколько острее было это извращенное чувство победы сейчас, когда в роли дичи выступал человек! Перескакивая через кучи убитых, Лутерин вдруг оказался лицом к лицу с Бандалом Эйт Лахлом. Их взгляды встретились. И снова настал знакомый миг полного единения с жертвой. Лутерин выстрелил первым. Командир борлдоранцев вскинул руки, выронил ружье и согнулся пополам, словно желая обхватить живот, откуда вывалились внутренности. Потом упал замертво.
После гибели командира сопротивление борлдоранцев было сломлено. Молодую жену Лахла вместе с багажом и амуницией взял в плен Лутерин. Умат и остальные товарищи обнимали и поздравляли Лутерина, а после отправились собирать добычу.
Большую часть добычи, доставшейся шивенинкцам, составляли провиант и припасы, включая фураж, который мог очень пригодиться отряду при возвращении к далекому дому на Шивенинкском хребте.
Повсюду на поле битвы силы юга терпели поражение. Многие южане сражались даже раненные и продолжали бой, когда никакой надежды не оставалось. Сегодня им не хватило не смелости, а милости многочисленных богов.
За поражением Панновала крылась история многолетних волнений. По мере ухудшения климата жизнь становилась все тяжелее, и один культ Страны Тысячи Религий вступал в борьбу за главенство с другими.
Только фанатичные отряды Берущих имели силу и власть, благодаря которой в городе Панновале поддерживался порядок. Таковы были суровая сила и братство людей, живущих в отдаленном уголке гор Кзинт. Там все еще верили в древнего бога Акханабу.
Берущие и их суровая дисциплина за долгие века стали притчей во языцех; само их присутствие на поле боя могло бы полностью изменить ход сражения. Но в новые беспокойные времена Железная Когорта почла за лучшее остаться дома.
* * *
Знаменательный день близился к концу, ветер выл, пушки грохотали, бой продолжался. Небольшие группы дезертиров пробирались к югу, в сторону убежища, которое мог предоставить им Кзинт, среди прочих — простые крестьяне, никогда прежде не державшие в руках оружия. Войска Сиборнала были слишком измучены, чтобы преследовать врага. Северяне разожгли костры и отдыхали прямо среди следов только что завершившейся битвы.
Ночь наполняли доносящиеся с разных сторон крики и стоны, иногда слышен был скрип повозки, спешащей убраться подальше, в безопасное место. Но и тех, кто раньше других тронулся в путь к надежному Панновалу, ожидала в дороге другая опасность, появившаяся совсем недавно.
Запутавшись в собственных делах, полностью отдавшись войне, люди не обращали внимания на других существ и понятия не имели об их планах. Они никогда не видели окружающий их мир как сеть переплетенных сил, вовлеченных в постоянный медленный механизм перемен, существующая форма которого была не более чем проявлением цикличных повторений случавшегося в далеком прошлом, ныне забытых, но от этого не менее реальных. На равнинах Северного Панновала произрастало примерно шесть сотен разновидностей трав; под влиянием перемены климата травы или отступали к югу, или, напротив, расширяли ареал обитания; успех или поражение одного из видов трав был жестко связан с судьбой цепочки животных или насекомых, кормящихся этой травой.
Высокое содержание углерода в травах требовало особого покрытия на зубах, прочной эмали. Скудные на взгляд непроницательного человека равнины давали обильный урожай семян, представляющих собой весьма питательный рацион — достаточно питательный для того, чтобы поддерживать существование многочисленных грызунов и других мелких млекопитающих. Эти млекопитающие служили добычей для других, более крупных хищников. В конце пищевой цепочки находились создания, которые благодаря своей всеядности некогда были повелителями планеты. Фагоры ели все что угодно, и плоть и траву.
Теперь, когда климат сделался для них более благоприятным, свободные фагоры спустились в предгорья и стали выходить на равнины. На востоке экваториального континента высились горы Верхнего и Нижнего Никтрихка. Никтрихк являл собой нечто большее, чем просто барьер между центральными равнинами и просторами моря Ардента: горы славились своими уступчатыми плато, поднимающимися к вершинам на манер ступеней огромной лестницы, которые вместе с комплексом пиков и ущелий составляли замкнутый мир. Леса сменялись тундровыми равнинами, переходящими в каменистые каньоны, уступающие место ледникам. Все это было вознесено на девять миль над уровнем моря и главными равнинами континента, при этом высочайшие вершины это горной страны задевали стратосферу.
Целые кланы анципиталов, прежде не один летний век прожившие на равнинах уступчатого плоскогорья, где им не угрожал человек, теперь спускались по склонам гор тем ниже, чем дальше их корм отступал к подножию, чувствуя приближение зимней стужи. Постепенно население фагоров в лабиринтах предгорий Никтрихка росло.
Некоторые племена фагоров уже выходили на равнины, туда, где проходили пути людей.
Неподалеку от места битвы появился верховой отряд фагоров: сталлуны, гиллоты и рунты — всего шестнадцать голов. Фагоры ехали на красновато-коричневых кайдавах, рунты — позади родителей, крепко вцепившись в их густую жесткую шерсть и почти полностью сливаясь с плечистыми фигурами. Рога некоторых сталлунов оплетала ежевика. Над головами фагоров в ночном холоде реяли сопровождающие их белые птицы.
Это была первая группа мародеров, решившая приблизиться к еще не остывшему полю боя, чтобы воспользоваться незащищенностью оставленных не прикрытыми неприятелем просторов. Вслед за ней потянулись и другие.
Одна из повозок южан, державшая курс на Панновал, застряла в темноте. Возница попробовал проехать напрямик через укт, бесконечную полосу растительности, которая плавно змеясь пересекала равнину с востока на запад. Укт, хоть и лишенный роскошного летнего убранства, представлял собой плотную живую изгородь, в гуще которой и застряла повозка, зацепившись обеими осями за кустарник.
Возница стоял и ругался, устав нещадно стегать кнутом храпящих хоксни.
В повозке сидели простые солдаты, все шестеро — раненые, кроме того, с ними был капрал-грум и три крепкие молодые женщины-поварихи, заодно выполнявшие другие обязанности. Позади повозки шел фагор-раб со спиленными рогами. Изнемогшие от усталости и ран ездоки теперь вповалку спали прямо в повозке, несчастные хоксни остались в упряжке перед телегой, полной спящих.
Фагоры верхом на кайдавах появились из тьмы, продвигаясь слитной группой вдоль укта. Заметив впереди повозку, двурогие подъехали вплотную друг к другу и остановились. Белые птицы опустились на траву и стояли переминаясь с лапы на лапу, издавая низкие горловые звуки, словно предчувствуя скорое начало событий.
События развернулись стремительно. Люди в повозке не подозревали о грозящей им опасности до тех пор, пока перед ними не появились массивные фигуры. Часть фагоров напала спешившись, другие били копьями, сидя на своих кайдавах.
— Помогите! — закричала одна из поварих, но ее крик немедленно прекратил удар копья в горло. Двое солдат, расположившихся на ночлег под повозкой, попытались спастись бегством. Через несколько секунд бегущим разбили булавами головы верховые фагоры. Безрогий фагор-раб обратился к напавшим собратьям на родном наречии анципиталов, умоляя о пощаде, но был убит без лишних церемоний. Один из раненых успел выстрелить из пистолета, прежде чем был заколот.
Налетчики забрали из повозки мешки с припасами и металлический котел. Потом освободили хоксни из упряжи. Один из фагоров перекусил горло капрал-груму, который еще дышал. Потом фагоры пришпорили своих массивных скакунов и исчезли на просторах равнин.
Отступающие северяне — их вокруг было много — слышали крики и выстрел, доносящиеся со стороны злосчастной повозки, но во всем огромном поле не нашлось никого, кто бы попытался прийти на помощь гибнущим товарищам. Вместо того остальные возносили хвалы милостивой судьбе, избавившей их самих от такой участи, а потом, когда все стихло, снова провалились в оцепенение мрачного сна, одолевшего их после мучительной битвы.
Утром, с первым сумрачным светом, едва загорелись первые костры, над которыми повесили котлы кашеваров, об убийстве стало известно — и все изменилось. Погибших оплакивали, раздавались крики отчаяния и горя. К тому времени мародеры были уже далеко, но перегрызенное горло капрал-грума все недвусмысленно объясняло. Разнеслись ужасные слухи. И вновь старинные рассказы об ужасах прошлого — о рогатых фагорах, мчащихся на рогатых кайдавах, — передавались из уст в уста. Все воистину следовало одно за другим: наступали холода, и древние ужасы опять воскресли в памяти.
Но был еще один ужас, такой же древний, как воинственные и безжалостные фагоры, не менее устрашающий, чем анципиталы. Этот ужас не торопился уйти с поля сражения. Казалось, будто грохот орудий, крики сражающихся и стоны раненых питают его. У жертв смертельного ожирения уже проявлялись первые отчетливые и вселяющие страх симптомы. Поветрие вернулось и приникало своими лихорадочными устами к устам раненных в битве.
Но сейчас был лишь закат последнего ее дня.
Глава 2 Безмолвное присутствие
В душе Лутерина Шокерандита торжество победы смешалось с множеством иных чувств. Гордость, подобно звучному грому труб, пронзила его существо, когда он вспоминал, что теперь может считаться настоящим мужчиной, героем — ведь он доказал свою храбрость всем и, в первую очередь, самому себе. Кроме того, его возбуждала мысль о том, что теперь он обладатель и полновластный хозяин красивой и совершенно беспомощной женщины. Однако прежнее волнение и тревогу эти думы заглушали не полностью, прежний, давно ставший привычным поток размышлений не давал ему покоя. Мысленно Лутерин постоянно возвращался к долгу перед родителями, к тем обязательствам и ограничениям, которые следовали из долга перед домом, к потере брата — по-прежнему необъяснимой и причиняющей боль. Все это напоминало ему тот вычеркнутый из жизни год, который он провел в изнеможении болезни. Коротко говоря, эти сомнения и мысли почти полностью заглушали торжество победы. Таково было мироощущение Лутерина в его четырнадцать лет; в его душе жила неопределенность, которую Торес Лахл на время удалось приглушить, смягчить, но тут же и воскресить. Поскольку рядом с юношей не было никого, кому он мог бы открыть душу, он решил вести себя как обычно, подавив все внутренние борения, держа себя в руках.
Поэтому с первым лучом рассвета он мгновенно, внутренне благодарный, снова принялся за дела. И почувствовал, что опасность поумерилась.
— Еще одна атака, — сказал архиепископ-военачальник Аспераманка, — и это будет наш день.
Сиборнальский военачальник двигался среди тысяч других воинов — мрачных лиц с пересохшими губами, вновь сосредоточенных перед боем.
Под зычные приказы фагоров выстроили в боевые порядки. Лойсям дали воды. Солдаты сплевывали, забираясь обратно в седла. Равнину заливал тусклый сумеречный свет Беталикса, и в нем измученные люди принуждали себя двигаться. Ждать большого света теперь приходилось все дольше: ослабевший Фреир уже не всходил на горизонтом высоко и надолго.
— Вперед!
Вперед медленным шагом двинулась кавалерия, пехота поспешала следом. Раздались первые залпы, засвистели пули. Несколько человек пошатнулись и упали на землю.
Атака сиборнальцев длилась немногим больше часа. Моральный дух панновальцев был давно подорван и быстро угасал. Одна за другой части поворачивали и отступали. Часть из Шивенинка под командованием Лутерина Шокерандита бросилась в погоню, но была отозвана; Аспераманка не хотел, чтобы молодой лейтенант так быстро добыл себе громкую славу в первом же бою. Армия южан была целиком отброшена на южный берег реки. Раненых доставили в Истуриачу, где в нескольких амбарах были устроены полевые лазареты. Искалеченных, израненных солдат осторожно укладывали на окровавленную солому.
После того как противник был отброшен с равнины, стала понятна цена победы. Словно жертвы странного и жуткого кораблекрушения, на берегу реки громоздились горы обескровленных тел. Тут и там горели перевернутые повозки, жидкий дым от них стлался над запятнанной, оскверненной равниной.
Между убитыми двигались редкие фигуры, среди прочих — панновальский артиллерийский офицер, хотя узнать его можно было с большим трудом. Принюхавшись к трупу, словно собака, артиллерист схватил убитого, единым махом оторвал рукав куртки, обнажил руку и мгновенно отхватил от нее зубами большой кусок плоти. Артиллерист ел торопливо и жадно, давясь, раз за разом отрывая большие куски, и всякий раз, набив полный рот мяса, поднимал голову и тупо озирался.
Артиллерист продолжал есть даже тогда, когда к нему подошел стрелок. Подняв ружье, стрелок выстрелил почти в упор. Пуля отшвырнула артиллериста назад, и он упал — мертвый, раскинув руки. Стрелок (неподалеку шли его товарищи, занятые подобным же делом) медленно двинулся дальше по полю, усеянному мертвецами, расстреливая пожирателей мертвой плоти. Это были несчастные, зараженные смертельным ожирением: теперь они страдали булимией и были вынуждены есть мертвечину. Случаи болезни были отмечены с обеих сторон.
Во время своего неорганизованного отступления панновальская армия успевала оставлять за собой недостроенные монументы в честь победы.
Монументы не имели никакого оправдания, победы не было. Но тем не менее их непременно следовало оставлять, так было необходимо. Вернувшись в Панновал, командиры побежденной армии обязаны были доложить о якобы одержанной ими победе. Здесь, вблизи от места недавнего сражения, их ложь требовалось увековечить в камне.
На равнине трудно было найти достаточно материала, и каменщики пользовались полуразрушенным монументом, обнаруженным неподалеку. Они разобрали монумент и перенесли отдельные камни ближе к мосту через хмурую реку.
Там мастера своего дела показали, на что они способны. С привычным тщанием они воспроизвели прежний монумент на новом месте. Главный каменщик выбил у основания название места сражения и дату, когда сражение состоялось, а еще ниже, большими заглавными буквами, имя старого верховного маршала.
Каменщики отошли назад и, прежде чем вернуться к своим повозкам, несколько минут с законной гордостью рассматривали свою работу. Никто из претворивших в жизнь этот акт обязательного пиетета не удосужился обратить внимание на то, что, воздвигая сегодня памятник, они уничтожили подобное же сооружение, возведенное неподалеку несколько веков назад.
Зловещие победители-сиборнальцы с удовлетворением наблюдали за тем, как повергнутый враг отступает на юг. Северяне тоже понесли тяжелейшие потери, и было ясно, что, продолжая наступление, им уже не добиться крупных успехов, хотя именно таков был начальный замысел: все остальные поселения сиборнальцев были уничтожены, о чем стало известно в Истуриаче.
Те, кто уцелел в сражении, испытывали облегчение: для них опасность миновала. И тем не менее кое-кто полагал, что теперь отступление было бы бесчестьем — бесчестьем и даже трусостью, в особенности после месяцев подготовки и муштры. За что они сражались? За земли, которые теперь придется оставить? За бесчестье?
Для того чтобы утишить голоса недовольных, Аспераманка в тот же вечер приказал устроить пир в честь победы Сиборнала. Решили заколоть нескольких арангов, только недавно оказавшихся в Истуриаче; эти аранги вместе с припасами из обоза побежденной армии южан должны были составить пиршество. Собственные запасы северной армии, необходимые для обратной дороги, были неприкосновенны.
Приготовления к пиршеству начались немедленно и продолжались даже тогда, когда на ближайшей к поселению освященной земле хоронили павших. Могилы вырыли на невысоком холме, под южным небом; со всех сторон к могильным холмам возносились запахи жареного мяса.
Пока население Истуриачи занималось подготовкой пиршества, армия отдыхала. Обученные фагоры растянулись на земле рядом с людьми. Настал день для благодатного сна. Для того, чтобы наконец залечить раны. Для того, чтобы починить снаряжение и заштопать форму. Очень скоро все снова окажутся на марше. Армия не могла оставаться в Истуриаче. Здесь не хватало еды, чтобы содержать войско, предающееся безделью.
Запах костров и жареного мяса наконец перебил вонь, доносящуюся с поля битвы. Богу Азоиаксику вознесли гимны благодарения. Голоса воинов, в которых пробивалась искренняя благодарность, заставили прослезиться некоторых жительниц Истуриачи — тех, кому поющие спасли жизнь. Насилие и рабство — вот что ожидало тех, кто оказался бы в руках панновальцев.
Дети, запертые в здании Церкви Грозного Мира, пока городку угрожала опасность, опять получили свободу. Их крики радостно звенели в вечернем воздухе. Малыши бегали среди солдат, мешая тем наконец-то упиться допьяна слабым пивом, которое только и гнали в Истуриаче.
Пиршество началось в соответствии с пророчеством, едва полусвет наконец окутал мир. Жареные аранги были дружно атакованы, и атаки повторялись до тех пор, пока от животных не остались только голые кости. Это была вторая запоминающаяся победа.
После того как первый угар празднования рассеялся, несколько суровых старейшин селения подошли к архиепископу-военачальнику Аспераманке и поклонились ему. Рукопожатия не было: высшая каста Сиборнала не одобряла физического контакта с другими людьми.
Старейшины поблагодарили Аспераманку за то, что он уберег Истуриачу от разграбления, после чего предводитель старейшин официально спросил:
— Достопочтенный господин, уверен, что вам понятно, какое положение сложилось тут у нас. Теперь мы стали самым южным, окраинным поселением Сиборнала. Когда-то здесь были/еще будут и другие поселения, еще более удаленные, уходящие в глубину материка Кампаннлат вплоть до самого Рунсмура. Но сейчас все эти поселения захвачены и покорены войсками Дикого Континента. Покуда ваша армия не вернулась на родину, мы обращаемся к вам с просьбой от всей Истуриачи оставить в нашем городе надежный и сильный гарнизон, с тем чтобы мы смогли избежать/избежали бы участи, выпавшей на долю других поселений.
Волосы у старейшин были седые и редкие. Носы блестели в свете масляных ламп. Старейшины говорили на высоком языке, пересыпанном неопределенно-переносными временами, прошедшим продолженным, будущим непременным, условно-сослагательным, и в ответ архиепископ-военачальник отвечал тем же высоким слогом, избегая смотреть в глаза старейшинам.
— Уважаемые господа, я сомневаюсь, что вы сможете/смогли бы/способны теперь прокормить дополнительные рты, которые от меня требуете. Тем более что малое лето года на исходе, погода постоянно ухудшается, ваш урожай невелик, и, как я догадываюсь, скот также голодает.
Пока Аспераманка говорил, на его челе собрались грозные хмурые складки.
Старейшины переглянулись. Потом все трое заговорили одновременно.
— Панновал непременно захочет отомстить нам.
— Всякий день мы молились/молимся о том, чтобы вернулась прежняя погода.
— Без гарнизона в городе мы умрем возможно/наверняка/обязательно.
Вероятнее всего, именно употребление одним из старейшин непременного будущего заставило Аспераманку поморщиться. Его треугольное лицо словно сузилось; он уставился вниз, на стол, выпятив губы и кивая, словно уже обо всем договорился с самим собой.
По приказу Аспераманки молодой лейтенант Лутерин сел по правую руку от него, на почетном месте, с тем чтобы лучи его славы озарили и его начальника. Повернувшись к Шокерандиту, Аспераманка спросил:
— Лутерин, что бы ты ответил/посмел бы ответить этим старейшинам, услышав от них такую просьбу — хоть высоким стилем, хоть по-другому?
Шокерандит сразу же почувствовал скрытую угрозу, таящуюся в таком вопросе.
— Поскольку эта просьба исходит не из трех ртов, сударь, а от всей Истуриачи, то для меня в моем положении невозможно давать ответ. Только у вас одного достаточно опыта, чтобы ответить как надлежит.
Архиепископ-военачальник обратил свой взгляд вверх, к стропилам и отбрасываемым ими длинным теням, потом почесал подбородок.
— Да, нужно согласиться с тем, что говорить придется мне, поскольку здесь должен прозвучать ответ олигархии. С другой стороны, следует заметить, что Бог уже давно принял решение. Азоиаксик сообщил мне, что подобные города — ни этот, никакой другой город к северу отсюда, до самой границы Сиборнала, — не смогут больше существовать.
— Но господин...
Продолжая свой ответ старейшинам, Аспераманка поднял бровь.
— Молитесь вы или нет, но ваши урожаи год от года становятся все более скудными. Об этом говорят простые записи. Когда-то в самых южных наших поселениях выращивали виноград. Теперь же вы с трудом выращиваете здесь ячмень и — чего уж проще! — картошку. Истуриача перестала быть источником нашей гордости и доставляет лишь хлопоты. Для всех будет лучше, если города не станет. После того как армия уйдет отсюда, а это случится через два дня, город должны покинуть все до единого. Никаким иным способом вам не избежать голодной смерти или рабства Панновала.
Двоим из старейшин пришлось поднимать и уводить с собой третьего. Среди тех, кто слышал слова архиепископа-военачальника, началась паника.
К Аспераманке бросилась женщина и упала на колени, обняв его грязные сапоги. Плача, женщина говорила, что она родилась в Истуриаче, она и все ее сестры; они просто не могут представить себе, как покинут родину.
Поднявшись, Аспераманка постучал по столу, требуя внимания. Наступила тишина.
— Позвольте всем вам объяснить ситуацию. Если вы помните, мое звание позволяет мне — нет, вынуждает меня — говорить от лица как государства, так и Церкви. Мы должны избавиться от иллюзий. Все мы практичные люди, поэтому я уверен, что вы поймете и примете то, что я скажу. Наш Господь, предтеча и точка коловращения всякой жизни, указал нашему поколению тернистый путь. Да будет так. Мы должны с благодарностью идти по трудному пути, ибо так должно.
Прекрасная армия, которая сегодня празднует победу вместе с вами, эти отважные представители многочисленных наций Сиборнала должны почти сразу, как отгремели выстрелы, пуститься в обратный путь. Если армия не в походе, она обречена на голод: запас фуража и провианта на одном месте ограничен. Если мы останемся здесь, в Истуриаче, вам придется голодать вместе с нами. Вы, фермеры, должны понимать, что это значит. Таков закон Господа и природы. Изначально мы намеревались было преследовать Панновал — таков был приказ олигарха. Но вместо этого я должен повернуть своих людей и отправить их восвояси, ни более ни менее.
— Отчего же такая перемена планов, архиепископ-военачальник? — спросил один из старейшин. — Ведь вы одержали победу?
На треугольном лице появилась вымученная улыбка. Аспераманка посмотрел по сторонам: перемазанные жиром лица, освещенные мерцанием костров; все дожидаются его слов, пока сам он, повинуясь внутреннему чутью проповедника, держит паузу.
— Да, наш путь славен победами, хвала Азоиаксику, но будущее нам не принадлежит. Города на юге, где мы надеялись найти подкрепление и провиант, теперь уничтожены, разрушены армией дикарей. Климат изменяется быстрее, чем мы могли предвидеть, — вы сами видите, сколь малое время теперь проводит в небесах Фреир. По моему суждению, Панновал, эта дикарская дыра, — край, слишком далекий для победы и близкий только для поражения. Если мы вновь отправимся в поход, никто не вернется.
С юга на нас надвигается «смертельное ожирение». Среди нас уже отмечены случаи болезни. Даже самые отважные воины страшатся «жирной смерти»: они бессильны против нее. Никто не решится продолжать сражение, имея рядом такое соседство.
Посему мы склоняем голову перед природой и возвращаемся в Сиборнал, чтобы в Аскитоше доложить о своей победе. Повторяю: мы выступаем в обратный путь через сорок часов. Вы, горожане, должны с толком использовать это время. По истечении двух дней те из вас, кто решит вернуться в Сиборнал вместе с семьями, может присоединиться к армии и получит в пути нашу защиту.
Те, кто решит остаться, волен поступить так — и умереть в Истуриаче. Сиборнал не вернется/не сможет вернуться сюда. Какое бы решение вы ни приняли, его надлежит принять в течение двух дней, и да благословит вас Бог.
Из двух тысяч проживающих в городе мужчин и женщин большинство родились здесь. Горожане знали только тяжелую жизнь под открытым небом в поле и в случае более привилегированного положения — на охоте. Все они страшились навсегда оставить свой дом, страшились долгого пути в Сиборнал через бескрайние степи, не могли представить, какой прием ожидает их, когда они окажутся на землях далекой незнакомой родины.
Тем не менее когда старейшины объявили всем горожанам, собравшимся по этому случаю в церкви, об их участи, большинство решило уйти. Все хорошо понимали, что изменения климата, который становился все хуже, все холоднее и суровее, необратимы и будут продолжаться от одного малого года к другому, без возврата. И год от года надежда на помощь родного севера будет слабеть и таять, угроза же с юга — становиться все более реальной.
Город наполнился слезами и причитаниями. Казалось, всему пришел конец. Все, ради чего горожане работали, теперь предстояло бросить.
Едва на небе вновь взошел Беталикс, рабы отправились в поля собрать весь возможный урожай, а свободные горожане принялись паковать пожитки. Вспыхивали драки между теми, кто собирался уходить, и ничтожным числом тех, кто решил остаться. Последние настаивали на том, чтобы урожай оставили в поле.
Трудиться в поле вышли три разновидности рабов. Фагоры со спиленными рогами — что-то среднее между рабами и вьючными животными. Люди-рабы. И, наконец, рабы, не принадлежащие к роду людскому, мади и в ничтожном числе — дриаты. Как люди, так и нелюдь были лишены всяких прав, и мужской и женский пол. Для общества все они были мертвы.
Рабовладение считалось признаком высокого положения: чем больше рабов, тем выше положение. Многие сиборнальцы, не имевшие рабов, с завистью смотрели на рабовладельцев, и все стремились обзавестись прислугой хотя бы из фагоров. В более легкие времена рабы в городах Сиборнала вели праздное существование, чаще всего как домашние зверьки; в поселениях же рабы и их владельцы часто трудились бок о бок. Чем тяжелее становилась жизнь, тем больше менялось отношение хозяев к рабам. На плечи рабов, за редким исключением, ложилась самая тяжелая работа. Теперь рабы, вернувшиеся с полей, отправились грузить повозки, делать все, что было в их силах, трудиться до изнеможения.
Когда архиепископ-военачальник посчитал, что два дня истекли, снова пропели трубы и снова все население собралось внутри городских стен.
Квартирмейстеры сиборнальской армии разожгли полевые кухни и начали печь хлеб для обратной дороги. Припасы подходили к концу. После совещания командование объявило, что горожане, намеревающиеся идти вместе с армией на север, должны избавиться от рабов — пристрелить, но на свободу не отпускать, — дабы уменьшить количество ртов, которые придется кормить в пути. Анципиталов же приказано было пощадить: фагоры годились для переноски поклажи, а пропитание могли добывать себе сами.
— Пощады! — взмолились и рабы, и их хозяева. Фагоры стояли молча.
— Убейте фагоров! — выкрикнул кто-то с горечью.
Иные, вспомнив древность, заметили:
— Когда-то фагоры были нашими повелителями...
В городе было объявлено военное положение. Никакие просьбы и протесты не принимались во внимание. Без помощи рабов горожане не могли увезти с собой много домашнего скарба; и тем не менее, согласно приказу, от рабов следовало избавиться. Все надлежало исполнить наиболее практичным образом.
Больше тысячи рабов было убито на берегу реки неподалеку от города. Мертвых наспех, небрежно похоронили фагоры, а вокруг во множестве усаживались хищные птицы дожидаться своего часа. Ветер дул не переставая.
После стонов и плача наступила ужасная тишина.
Аспераманка стоял, глядя на церемонию. Когда мимо него в слезах прошла горожанка, он под влиянием порыва жалости положил руку ей на плечо.
— Благослови тебя Бог, женщина. Не нужно горевать.
Горожанка взглянула на архиепископа-военачальника без злобы, ее лицо было в красных пятнах от слез.
— Я любила моего раба Юлия. Разве я не человек, чтобы не горевать?
Вопреки приказу множество рабов хозяева тайно избавили от смерти — главным образом тех, кого использовали сексуально. Рабов спрятали или помогли им переодеться, изменить облик, чтобы вместе со всем семейством тронуться в путь на север. Вот и Лутерин Шокерандит пощадил свою рабыню, приказав той надеть мужскую одежду, куртку и брюки, и надвинуть на глаза меховую шапку. Не говоря ни слова, Торес Лахл переоделась, спрятав свои чудесные каштановые волосы под шапкой, чтобы двинуться в путь вместе с хозяином.
Начала выстраиваться походная колонна.
Пока большинство горожан суетливо грузили в скрипучие повозки домашний скарб, пока устраивали для перевозки раненых, шестеро пастухов, не сказав ни слова на прощание, перебрались через городскую стену и вместе со своими собаками ушли в степь. Они выбрали свободную жизнь на вольных просторах.
Стоя рядом со своим черным лойсем, Аспераманка думал тяжкую думу. Потом он приказал вызвать к себе Лутерина Шокерандита.
Лутерин немедленно явился; от волнения он казался совсем мальчишкой.
— Скажите, лейтенант Шокерандит, найдется у вас пара надежных людей на надежных скакунах? Два человека, способные проделать долгий путь? Я хочу, чтобы весть о нашей победе достигла олигарха скорейшим образом. Прежде чем он услышит что-то из других источников.
— Конечно, у меня есть надежные люди. Мы, жители Харнабхара, отличные наездники.
Аспераманка нахмурился, словно это известие расстроило его. Он достал кожаный кошель, который прежде держал, прижав локтем под курткой.
— Это послание ваши люди должны доставить в пограничный город Кориантуру. Там они найдут моего агента, который передаст послание лично олигарху. Поручение ваших людей, таким образом, закончится в Кориантуре... надеюсь, вы понимаете это? Доложите мне, когда ваши люди будут готовы отправиться в путь.
— Будет исполнено, господин.
Аспераманка взял кошель и затянутой в голубую кожу рукой протянул Лутерину. Кошель был запечатан личной печатью архиепископа-военачальника и адресован верховному олигарху Сиборнала, Торкерканзлагу II, в Аскитош, столицу Ускутошка.
Шокерандит выбрал двух молодых и выносливых верных офицеров из Шивенинка, которых хорошо знал еще в Харнабхаре. Попрощавшись с товарищами и своими боевыми фагорами, молодые офицеры из Харнабхара вскочили на сильных лойсей, взяв с собой только небольшой запас воды и провизии. Через час они уже скакали по степи на север, торопясь доставить послание грозному олигарху.
Однако у олигарха, повелителя огромного, но холодного континента, везде были свои шпионы. Незадолго до отправления нарочных доверенный человек олигарха, по должности стоящий очень близко к архиепископу-военачальнику, уже пустился в путь с вестями о развитии событий и с главной новостью, представляющей для олигарха наибольший интерес, — новостью о том, что эпидемия начала распространяться на север.
Настало время прощания. Поход на север начался не слишком упорядоченно. Каждое национальное подразделение выступило в путь со своим обозом, животными и фуражом, фагорами и пушками. Мерный шум наполнил бескрайнюю унылую степь. Армия двинулась той же дорогой, которой всего несколько дней назад прошла в противоположную сторону. Горожане, покинувшие свои дома и город, многие впервые в жизни, шли в полном беспорядке, неся на руках детей и домашнюю утварь, которой не нашлось места в переполненных повозках.
С теми, кто решил остаться, долго и слезно прощались. Эти отщепенцы остались неловко стоять перед воротами города, прощально вскинув руки. Их фигуры говорили об осознанности выбора, делающего им честь, перед лицом грозных стихий. С этих пор они могли надеяться только на милость бога Азоиаксика да на собственные силы.
Во главе отряда шивенинкцев ехал лейтенант Шокерандит, ясно ощущающий, как изменилось его положение с тех пор, как он в последний раз ехал этой дорогой. Сегодня он возвращается домой героем. Его пленница, Торес Лахл, неузнаваемая под шапкой и в мужском костюме, повинуясь его приказу, ехала позади него на его лойсе, держась за пояс нового хозяина. Смерть мужа все еще терзала ей сердце, поэтому она до сих пор не проронила ни слова.
Переживая свою боль, Торес Лахл ни единым жестом не выказала свой страх перед лойсем, животным устрашающего облика, но довольно добродушного нрава. Над покрытой курчавой шерстью головой загибались мощные рога. Глаза, прикрытые мохнатыми веками, придавали взгляду животного внимательное выражение. Отвислая нижняя губа словно говорила о том, что лойсь презирает все, что до сих пор видел в истории суетливого человечества.
Постепенно город скрылся из глаз, и растянувшаяся колонна оказалась в открытой степи. С этих пор перед ними много дней станут сменять одна другую одинаковые равнины, изредка перемежающиеся пологими холмами. Ветер не утихал. Под ногами шелестела трава.
В пути мало кто говорил, все шли молча. Однако один из старейшин, избранный отправиться с теми, кто уйдет из Истуриачи, очень говорливый, казалось, получал удовольствие от звука собственного голоса; пришпорив пятками лойся, он догнал Шокерандита и поехал рядом с ним и его подчиненными, чтобы за разговорами скоротать время в пути. Но Шокерандиту было почти нечего сказать старейшине, его мысли занимало другое. Он размышлял о ближайшем будущем и о том долгом пути, который отделял его от далекого отцовского дома.
— Мне кажется, сам верховный олигарх не отдал бы приказ оставить Истуриачу, — сказал старейшина.
Ответа не последовало.
Тогда старейшина предпринял новую попытку:
— Говорят, олигарх — великий деспот, он сумел установить суровую власть над всем Сиборналом и теперь правит твердой рукой.
— Зима станет править нами тверже, — с усмешкой отозвался один из лейтенантов.
Проехали еще милю, и старейшина доверительно заметил:
— Интересно, встречаетесь ли вы, молодые люди, с Аспераманкой с глазу на глаз... Интересно, что бы вы сделали на его месте, может быть, приказали бы оставить в городе гарнизон, который бы защитил нас?
— Не в моей власти принимать решения, — отрезал Шокерандит.
Старейшина кивнул и улыбнулся, обнажив последние редкие зубы.
— Но я видел, какое у вас сделалось лицо, когда ваш начальник объявил свой приказ, и тогда я подумал — а потом и сказал другим: «Вот есть среди этих воинов молодой человек, в котором еще сохранилось сострадание... наверное, он святой», так я сказал...
— Езжай прочь, старик. Побереги дыхание для долгой дороги.
— Но нельзя же разрушать такой сильный и хороший город, как наш. Были времена, когда мы отправляли провиант в Ускутошк. И теперь все разрушить... Неужели вы думаете, что олигарх это одобрит? Ведь мы все сиборнальцы, верно? Мы все должны быть заодно?
Это предполагало ответ Лутерина Шокерандита, но юноша молчал. Тогда старейшина утер рот перчаткой и продолжил:
— Как вы думаете, молодой господин, мудро ли было с моей стороны оставить родной город? Ведь, как ни крути, там остался мой дом. Я еще колеблюсь, мне кажется, что следовало остаться. Может быть, через год или через два еще одна армия олигарха, питающая большее сочувствие к соотечественникам, пройдет той же дорогой... Как бы ни было, этот день горек для нас, вот что я хочу сказать.
Старейшина повернул скакуна и хотел было отъехать на место, когда Шокерандит неожиданно протянул руку и схватил его за воротник, едва не вырвав старика из седла.
— Если ты так говоришь, значит, ничего не знаешь о том мире, что нас окружает, старик. То, что я думаю об архиепископе-военачальнике, неважно. Он принял единственно верное решение. Подумай, в чем тут причина, вместо того чтобы напрасно сотрясать воздух пустыми сетованиями. Ты хоть в состоянии различить, сколько тут, в этой армии, народу? За время полусвета мы растягиваемся цепью от горизонта до горизонта. Пешие, всадники — все это рты, которые нужно кормить, а погода все хуже... Подумай об этом, старик.
Лутерин обвел рукой войско, указал на спины солдат в серой, черной, и коричневой форме: каждый из них нес вещевой мешок с трехдневным сухим пайком и неиспользованными боеприпасами. В эти спины, повернутые к югу, светило блеклое солнце. Армейская колонна разворачивалась змеей все дальше, раздавалась в стороны, чтобы груженые повозки могли свободно проехать. Продвижение армии сопровождал глухой утробный звук, от которого дрожала земля и в ближайших холмах гуляло эхо.
Среди всадников шли пехотинцы, некоторые держась за стремена. Часть повозок была нагружена боеприпасами, на других лежали раненые, испускавшие стоны всякий раз, как повозку встряхивало на кочках и неровностях дороги. Груженые фагоры, понукаемые хозяевами, шли, согнув спины, уставившись в землю; чуть поодаль своей удивительной походкой — колени у них гнулись в обе стороны — шли отряды боевых анципиталов.
На следующую ночь воцарился хаос. Ни громкие приказы, ни звуки труб не могли призвать огромную массу людей к порядку. Ночлег устраивали где кому вздумается, ссорились из-за лучших мест, палатки разбивали в спешке, каждый взвод старался первым занять место получше. Нужно было еще накормить и напоить животных. Уже в сумерки в обе стороны отправили обозы с бочками для воды, чтобы разыскать среди холмов ручьи. В течение короткой ночи движение людей и взволнованный храп животных так и не прекратились.
К утру облака расступились. Но стало еще холоднее.
Батальон из Шивенинка стоял тесной группой. Большинство офицеров, молодые люди, собрались вокруг лейтенанта Шокерандита, постановив пить ночь напролет. В походных бочонках было припасено спиртное, вино йядахл рубиново-красного цвета, которое гнали из морских водорослей. Были наполнены кубки, и йядахлом еще раз отпраздновали недавнюю победу. Героизм Лутерина и возбуждение оттого, что вокруг простираются равнины вместо родных, знакомых гор, — радость, что они до сих пор живы, — все это ударяло в голову. Очень скоро офицеры распевали во весь голос, не обращая внимания на гневные крики тех, кто пытался уснуть.
Но даже йядахл не мог развеселить лейтенанта Шокерандита. Молодой человек молча сидел рядом со своими товарищами из Харнабхара, размышляя о своей пленнице. Та уже успела побывать замужем, но, как ему показалось, была не старше его самого, несмотря на уверенную манеру держаться; женщины Дикого Континента выходили замуж рано.
В нем поднялось желание обладать ею. Но его родители решили, что жениться он должен только в Харнабхаре. Хотя какая разница, что теперь случится здесь, в диких степях Чалца? Друзья посмеются над его сомнениями, если узнают. Он мысленно вернулся к той ночи, когда северная армия собиралась оставить пределы Сиборнала, чтобы отправиться на юг. Его батальону дали увольнительную. Приятель Умат звал кутить, но Лутерин отказался и отправился в город один, как последний дурак.
Пока приятели напивались и развлекались с девками, он бродил по улицам, стуча каблуками по булыжной мостовой. В конце концов он забрел в лавочку антиквара-предсказателя на углу главной площади города, рядом с театром.
Антиквар показал ему много удивительных и забавных вещей, включая небольшой предмет вроде браслета, который якобы прибыл из другого мира, а также ленточного червя в стеклянной банке, в несколько сотен дюймов длиной, которого, клялся антиквар, выманили из живота некой знатной дамы (при помощи маленькой серебряной дудочки, которую антиквар предлагал на продажу за приличную цену).
— Не струшу ли я в бою? — спросил Лутерин антиквара.
Старик принялся измерять голову Лутерина посредством циркулей и линеек и наконец сообщил свой вывод:
— Вы либо святой, либо грешник, молодой господин.
— Но это не ответ на мой вопрос. Я хотел узнать, кто я, трус или герой.
— Это тот же самый вопрос. Чтобы быть святым, нужно мужество.
— А для того, чтобы стать грешником, мужество не нужно?
Лутерин вспомнил, что не решился отправиться вместе со своими друзьями.
Старик долго кивал лысой головой.
— Здесь тоже нужна отвага. Отвага нужна везде. Даже этому ленточному червю и то потребовалась отвага. Разве не страшно провести целую жизнь заключенным в чьих-то внутренностях? Пусть даже во внутренностях прекрасной дамы? Но если я опишу во всех подробностях, какая судьба уготована вам, разве это прибавит вам счастья?
Раздраженный уклончивыми ответами старика, Лутерин нетерпеливо спросил:
— Так ты ответишь или нет?
— Вы и сами очень скоро получите ответ на свой вопрос. Пока я скажу вам, что в первую очередь вы проявите небывалую отвагу...
— Но это еще не все?
Старик улыбнулся, словно извиняясь.
— Все дело в особенностях вашей внутренней природы, молодой господин. Случится так, что вы одновременно окажетесь и святым, и грешником. Вы станете героем и прославитесь, но я не удивлюсь, если при этом вы поступите как преступник и негодяй.
Лутерин вспоминал этот разговор — и ленточного червя — всю дорогу до Истуриачи. Он уже стал героем, значит, очень скоро ему предстоит прославиться как негодяю?
Он сидел возле костра, размышляя, потягивая вино, но без тени веселья. Умат Эсикананзи схватил его за ногу и силой потянул к костру.
— Эй, старина, хватит хмуриться. Мы сидим тут живые и здоровые, мы теперь герои — ты в особенности, — и скоро все мы вернемся домой.
Лицо у Умата было широкое и мясистое, точь-в-точь как у его отца, и сейчас эта круглая физиономия лучилась радостью.
— Этот мир вокруг, он чертовски пуст, вот почему мы поем — чтобы наполнить его хотя бы звуками. Но у тебя в голове все время бродят какие-то мысли.
— Умат, твой голос мелодичностью превосходит все слышанные мной голоса, даже стервятников, но я иду спать.
Умат понимающе махнул рукой.
— Я так и думал. Это все твоя красавица-пленница. Убери ее от меня с глаз долой. Что ж, иди к ней. Обещаю ничего не говорить Инсил.
Лутерин легонько ткнул Умата в живот.
— Да, не повезло Инсил с братом, я бы от тебя точно повесился.
Глотнув еще йядахла, Умат весело отозвался:
— Она та еще сестрица, Инсил-то. Подумать, так она должна бы мне еще спасибо сказать, если я возьму тебя за загривок и отведу немного попрактиковаться.
Вся компания громогласно захохотала.
Поднявшись на ноги, Шокерандит пожелал приятелям спокойной ночи. С трудом разбирая дорогу, он добрался до своей палатки, разбитой возле повозок. Над головой светили звезды, но все равно было очень темно. На этих широтах не бывало зари, которая у них в Харнабхаре не была редкостью.
По-прежнему сжимая в руках флягу, он едва не полетел кувырком, споткнувшись о привязь своего лойся, продетую сквозь левое ухо животного: лойсь был привязан к воткнутому в землю копью. Опустившись на четвереньки, Лутерин заполз в палатку, где уже лежала женщина.
Торес Лахл лежала свернувшись маленьким комком, подтянув колени к груди и обхватив их руками. Ни слова не говоря, она взглянула на Лутерина. В темноте ее лицо выделялось бледным пятном. В ее глазах на мгновение отразилась россыпь блестящих звезд в небесах.
Схватив Торес Лахл за локоть, он рывком перевернул ее и насильно впихнул в руку флягу.
— Выпей йядахла.
Она молча потрясла головой, упрямо отказываясь от угощения.
Тогда он схватил ее за голову и ткнул горлышком кожаной фляги прямо в губы.
— Пей, сука, кому сказано! Иначе рассержусь.
Она снова затрясла головой. Тогда он принялся выкручивать женщине руку. Вскрикнув от боли, Торес взяла флягу и глотнула обжигающего напитка.
— Вот так, тебе не повредит. Выпей еще.
Торес закашлялась и сплюнула, капля слюны попала ему на лицо. Шокерандит жадно впился девушке в губы.
— Есть ли в тебе милосердие? — вдруг взмолилась та. — Ты же не варвар.
Женщина вполне сносно говорила на сибише, пусть и с заметным, хотя и довольно приятным акцентом.
— Ты, женщина, моя пленница. Поэтому не жди благородного обращения. Что бы с нами ни случилось, теперь ты принадлежишь мне, ты часть добычи, доставшейся мне, победителю. Даже сам архиепископ поступил бы с тобой точно так же, как собираюсь поступить я, окажись он на моем месте...
Лутерин глотнул еще вина, потом глубоко вздохнул и тяжело опустился рядом с ней.
Она лежала вытянувшись в струнку; потом, почувствовав его нерешительность, заговорила. Когда Торес Лахл не плакала, ее голос журчал, словно ручей, словно бы где-то в глубине ее горла постоянно переливалась влага.
— Старейшина, который говорил с тобой днем, — сказала она, — боялся попасть в рабство, в которое попала теперь я. Что ты имел в виду, когда говорил, что этот ваш архиепископ принял единственно верное решение?
Шокерандит лежал молча, внутренне борясь с опьянением, борясь с заданным вопросом, борясь с желанием влепить девчонке затрещину за то, что она так хитроумно решила отвлечь его и перевести разговор в другое русло. И в этом молчании в его сознании, черной волной поглотив желание взять ее силой, поднялось понимание, — осознание неминуемой судьбы, от которой не уйти. Чувствуя, что теперь он понимает все совершенно ясно, Лутерин отхлебнул еще вина.
Он перевернулся на живот, чтобы его слова лучше дошли до пленницы.
— Решение, говоришь... единственно верное решение, женщина? Решение может принять бог Азоиаксик да еще олигарх — а не этот святоша, которому по душе глядеть, как его собственные солдаты истекают кровью, — лишь бы была возможность плести интриги.
Лутерин указал в сторону своих приятелей, все еще сидящих вокруг костра.
— Видишь этих болванов? Как и я, они пришли из Шивенинка, почти за четверть мира отсюда. До границы Ускутошка всего две сотни миль. Со всем нашим тяжелым снаряжением, с остановками в дороге, потому что нужно добывать еду и фураж, мы не сможем делать больше десяти миль в день. Как по-вашему, сударыня, мы кормимся в это время года?
Он затряс Торес так, что у той лязгнули зубы, и наконец она испуганно обмякла и спросила:
— Но вы ведь что-то едите, да? Я видела, что вы везете с собой фургоны с припасами, а животные могут пастись сами.
Лутерин рассмеялся.
— Значит, мы едим, просто что-то едим? И что же мы едим, как по-твоему? Сколько, ты думаешь, тут солдат? Ответ вот какой: тут у нас что-то около десяти тысяч людей и нелюди, а кроме того, семь тысяч лойсей и другого скота. Каждому человеку нужно по два фунта хлеба в день, а также фунт другой провизии, считая и порцию йядахла. В сумме это составит тринадцать с половиной тонн каждый день.
Люди могут голодать. Мы можем идти и на пустой желудок. Но животных нужно кормить, иначе они будут болеть. Лойсю требуется двадцать фунтов фуража каждый день; в результате на семь тысяч голов выходит шестьдесят две тонны в день. Получается, что нам нужно тащить с собой или покупать семьдесят пять тонн каждый день, но мы можем везти с собой только девять тонн...
Лутерин откинулся на спину и замолчал, словно пытаясь осознать эту перспективу и перевести ее в цифры.
— Откуда же мы берем недостающее? Приходится добывать фураж на ходу. Мы можем реквизировать провиант в деревнях, которые встречаются у нас на пути, — вот только дело в том, что в этой части Чалца нет деревень. Значит, придется жить тем, что родит тут земля. Не говоря уж о проблеме хлеба... Нужно двадцать пять унций муки, чтобы испечь два фунта хлеба. Значит, требуется шесть с половиной тонн муки каждый день, и их необходимо где-то найти.
Но это ничто по сравнению с тем, сколько съедают животные. Нам нужен целый акр зеленого фуража каждый день, чтобы прокормить пятьдесят лойсей и хоксни...
Торес Лахл разрыдалась. Шокерандит поднялся на локте и, продолжая говорить, уставился на лагерь. Над огромным простором степи в темноте горели искорки звезд, временами заслоняемые неразличимыми проходящими фигурами, возникающими между Лутерином и небом. Кто-то пел; другие погружались в транс и общались с мертвыми.
— Предположим, до приграничной Кориантуры мы доберемся через двадцать дней; это означает, что нашим животным нужно съесть две тысячи восемьсот акров травы. Твой покойный муж... он должен был вести подобные расчеты, разве не так?
Каждый день в походе армия больше времени уделяет добыче фуража и провианта, чем продвижению вперед. У нас есть небольшая походная мельница, на которой мы мелем муку, если в дороге попадается зерно — или все прочее, что сгодится в пищу в этом бедном краю, исключая дикую траву и шоатапракси. Нам приходится посылать отряды валить деревья и собирать дрова для печей. Нам приходится каждый день устанавливать полевые пекарни. Нам нужно искать траву и воду для лойсей... Возможно, теперь тебе понятно, почему наша армия вынуждена была оставить Истуриачу. Сама история против нас.
— Что сказать... мне попросту все равно, — ответила она. — Разве я животное? Зачем ты рассказываешь мне, чего и сколько ест скот? Да голодайте вы — вся ваша армия... может быть, только это мне интересно. Вы напиваетесь, как сейчас ты набрался йядахла, и убиваете.
— Здесь все думали, что в бою от меня не будет толка, — тихо сказал он, — поэтому меня поставили заготавливать фураж для скота. А ведь это оскорбление для сына Хранителя Колеса! Мне пришлось узнать все эти цифры, женщина, и с некоторых пор я стал видеть в них смысл. Я понял, в чем ценность цифр. Год от года сезон роста трав сокращается — день ото дня каждый год. Теперешнее лето было просто убийственным для фермеров. Перешеек Чалц умирает от голода. Ты сама увидишь. И все это известно Аспераманке. Что бы ты о нем ни думала, он никогда не был дураком. Такой поход, как наш, в котором участвуют одиннадцать тысяч человек, вряд ли еще когда-нибудь состоится.
— Значит, моему несчастному континенту теперь не угрожает вторжение сибишей.
Лутерин усмехнулся.
— За мир вам придется заплатить. Армия на марше подобна нашествию саранчи — но даже саранча умирает, если на ее пути больше нет корма. Город Истуриача скоро будет отрезан от всего мира. Полностью отрезан. Город обречен.
Мир вокруг становится все более враждебным, женщина. А мы впустую тратим те запасы, которыми располагаем...
Лутерин снова прилег к напряженному телу пленницы и спрятал лицо в ее ладонях. Но прежде чем сон и хмель одолели его, он снова приподнялся и спросил, сколько ей лет. Она отказалась отвечать. Тогда он ударил ее по лицу. Торес Лахл всхлипнула и призналась, что ей тринадцать лет и один теннер. Она была младше его на два теннера.
— Слишком молода для вдовы, — сказал он с удовольствием. — А завтра — завтра, я думаю, тебе не удастся отделаться так легко. Я больше не фуражир для лойсей. Завтра ночью разговоров не будет, женщина.
Торес Лахл ничего не ответила. Она так и не уснула, но лежала неподвижно, в отчаянии глядя на звезды в небесах. Когда Беталикс опустился ближе к горизонту, звезды затянули облака. Стоны и хрипы умирающих долетали до ее слуха. В эту ночь от эпидемии умерли двадцать человек.
Но утром те, кто выжил, поднялись такие же, как прежде, потянулись, размяли руки и, выстраиваясь в очередь к хлебному фургону, перешучивались с друзьями. По два фунта хлеба на каждого, вспомнила она.
На этом долгом марше домой не нашлось бы ни одного солдата, кто мог сказать, что дорога ему в радость. И тем не менее разбивая лагерь, каждый испытывал незамысловатое удовольствие от чувства товарищества, сознания того, что отмерен очередной кусок пути к дому, оттого, что каждую новую ночь встречаешь на новом месте. Была простая радость каждый день оставлять позади золу старого костра и радость развести новый костер, смотреть, как языки пламени лижут мелкие ветки и сухую траву.
Эти занятия и радость, которую они доставляли, были стары, как само человечество. Разумеется, некоторые занятия были еще древнее и иногда всплывали в сознании людей из тех слоев времени, когда человечество только нарождалось — подобно тому, как языки маленького костра лизали сухую траву; к тем дням относился великий поход человечества на восток из Геспагората, когда люди решились наконец отказаться от благословенной защиты анципиталов и подняться над званием домашнего животного.
Ветер нес с севера, из приполярных областей Сиборнала, холод, но возвращающимся домой солдатам этот воздух нес дух родины. Было приятно вдыхать его, приятно было ступать на землю, зная, что каждый шаг приближает тебя к дому.
На душе у офицеров царила не такая тишь и благодать, как у нижних чинов. Рядовым хватало и того, что они уцелели в бою и возвращались домой, где их наверняка ожидает радушный прием. Но для более прозорливых положение вещей виделось не столь простым. Существовал также вопрос гораздо более сурового режима внутри границ Сиборнала. И другой: можно ли считать эту победу успехом.
И тем не менее офицеры, от Аспераманки до самых нижних чинов, постоянно говорили о победе, хотя и чувствовали, что на фоне преображения, охватившего своими когтистыми лапами мир, на фоне этого непрерывного и необратимого превращения вещей в их полную противоположность, победа все больше походила на поражение — поражение, не принесшее ничего, кроме шрамов, перечня мертвецов и дополнительных ртов, которые приходилось кормить.
Как обычно, беда, не желая приходить одна, привела с собой «жирную смерть», которая, усугубляя ощущение подавленности, легко и быстро распространялась среди войска, не отставая от самых быстроногих отрядов.
Весной Великого Года численность населения резко сокращалась из-за «костной лихорадки», превращающей выживших в подобие ходячих скелетов. Осенью Великого Года людей косила «жирная смерть», превращая их в ту пору в существ совершенно другой, более компактной формы. Многое было хорошо понятно и принималось с обреченностью и стойким фатализмом. Но при всяком упоминании болезни и эпидемии в глазах людей загорался страх. И, как всегда в такие времена, никто не доверял ближнему.
На четвертый день передовая часть наткнулась на одного из гонцов, которых Шокерандит послал вперед с приказом архиепископа-военачальника. Гонец был мертв и лежал в луже лицом вниз. Его тело было истерзано и обглодано, словно диким животным.
Солдаты обступили погибшего широким кругом, но отойти не могли и продолжали смотреть. Позвали Аспераманку, который тоже долго, потрясенно глядел на мертвеца. Потом он сказал Шокерандиту:
— Эта молчаливая попутчица так и идет с нами. Несомненно, эту страшную болезнь переносят фагоры — вот кара, которую Азоиаксик наслал на нас за то, что мы связались с двурогими. Единственный способ хоть как-то избавиться от этого проклятия — убить всех анципиталов, которые идут с нами.
— Разве до сих пор мы не достаточно убивали, архиепископ? Может теперь можно просто выгнать анципиталов, пусть идут на все четыре стороны?
— Где они смогут размножаться и копить силы против нас? Мой юный герой, позвольте мне решать там, где я имею право принимать решение.
На узком лице Аспераманки залегли глубокие морщины, и он сказал:
— Теперь еще важнее, чем прежде, донести до олигарха наше слово, и как можно быстрее. Мы должны просить помощи, чтобы ее выслали нам навстречу немедленно. На этот раз, Шокерандит, я приказываю лично вам и никому другому выбрать себе надежного напарника и донести мое слово в Кориантуру, откуда верные люди сообщат олигарху. Вы исполните мою просьбу?
Лутерин стоял, уставясь в землю, что обычно случалось с ним в присутствии отца. Он привык повиноваться приказам.
— Через час я буду в седле, господин.
Гнев, который, казалось, всегда пылал в глазах Аспераманки, ненадолго уступил место теплоте, с которой он посмотрел на своего подчиненного.
— Имейте в виду, что, посылая вас с заданием, я, возможно, спасаю вам жизнь, лейтенант-энсин Шокерандит. С другой стороны, вы можете скакать дни и ночи напролет, чтобы в итоге обнаружить, что молчаливый попутчик доехал вместе с вами до самой Кориантуры.
Затянутой в перчатку рукой Аспераманка осенил лоб Шокерандита знаком Колеса, повернулся на каблуках и ушел.
Глава 3 Ограничение прав личности актом «О проживании»
Кориантура была городом богатым и могущественным. Полы ее дворцов были вымощены золотом, крыши изящных домов крыты фарфором.
Главный храм Церкви Грозного Мира, расположенный, само собой, не где-нибудь, а возле пристани, источника главного богатства города, был отделан и украшен с удивительной роскошью, совершенно не свойственной духу сурового и аскетичного бога.
— В Аскитоше такую роскошь не позволяют, — часто говорили друг другу прихожане Кориантуры.
Даже в беднейшем квартале города, растянувшегося от подножия до вершины холма, попадались детали, способные привлечь взгляд. Любовь к украшениям скрадывала бедность и внезапно обводила изящным орнаментом случайную арку, представляла нежданный фонтан в узком дворе, ярусы балконов с витыми коваными решетками, красоту, способную поднять настроение даже самому усталому, измученному и скучному человеку.
Но, само собой, и в Кориантуре имелось повсеместное размежевание непомерного богатства и вопиющего произвола властей. Это выдавала, в первую очередь, и скорость, с которой на дверях домов появлялись плакаты и объявления, сошедшие с печатных станков олигарха и в огромных количествах направляемые в перенаселенные города Ускутошка. В кварталах богачей содержание последних прокламаций комментировали сдержанно: «О, как мудро, какая прекрасная идея!» — в то время как на другом краю города тот же самый плакат прочитывали просто: «Ну и скверные же пришли времена, байвак все возьми!»
Большинство приграничных городов не отличались высокой религиозностью, здесь одна культура смешивалась с другой. Кориантура была редким исключением из этого правила. Несмотря на то, что в более ранние времена город назывался Утошки, он никогда, несмотря на созвучие старого названия, полностью не принадлежал Ускутошку. Экзотические народы с востока, например из Верхнего Хазиза или из Кай-Джувека, из-за пролива Чалца, приходили в этот город и поселялись здесь, принося с собой немалые богатства, которых не найти было в других городах Сиборнала, вливая свою энергию в архитектуру и искусство.
«В Кориантуре очень дешевы билеты в оперу, поэтому здесь очень дорог хлеб».
Кроме того, Кориантура была очень важным перекрестком. Отсюда открывались морские пути на юг, к Дикому Континенту, и — в военное ли, в мирное ли время — торговые суда без труда отправлялись отсюда в такие порты, как Дордалл в Панновале. К тому же, город-порт был конечной вехой на оживленных морских путях, ведущих к далекому Шивенинку и нивам Брибахра и Каркампана.
Далее, Кориантура была отмечена печатью древности, и нити, связующие ее с эпохами давно минувшими, уцелели. До сей поры в антикварных лавочках в переулках удавалось найти документы и книги, написанные на древних языках, утерянные штрихи и подробности прежнего житья. Казалось, каждый булыжник здешних мостовых уводит в прошлое. Кориантура пережила многие бедствия, что выпадают на долю приграничного города. Сразу за окраинами начинались и поднимались ступень за ступенью подножия великих холмов, в свою очередь образующих подножие приполярных гор, чьи острые пики охраняла холодная ярость ледяных шапок. С одной стороны перед городом раскинулось море, с другой были устроены крутые уступы — их требовалось бы преодолеть любому, кто вышел из диких степей Чалца с желанием войти в город. Никому из остатков армий кампаннлатских захватчиков, осиливших переход через степи, не удавалось еще взять штурмом эти эскарпы.
Кориантуру легко было защитить от любого врага, кроме наступающей зимы.
Несмотря на то, что в Кориантуре стояли многочисленные военные части, им не удалось низвести город до уровня обычного гарнизона. Мирная торговля процветала — наряду с различными искусствами, которым торговле приходилось нехотя воздавать должное. Именно поэтому семейству Одима удалось тут выжить.
Свое дело Одим открыл в пакгаузах одной из верфей на берегу океана Климента. Дом, где он жил с семьей, стоял тут же, неподалеку, в довольно скромной части города, не относящейся ни к самым роскошным, ни к беднейшим районам Кориантуры. Завершив дневные дела, Эедап Мун Одим, главная опора своего многочисленного семейства, проследил за тем, чтобы его служащие покинули контору, потом проверил, во всех ли печах погашен огонь и все ли окна заперты, и вышел из конторы со своей старшей наложницей.
Старшая наложница — ее звали Беси Бесамитикахл — была женщиной подвижной и живой. Пока Одим возился, запирая замки, Беси держала различные свертки для своего господина. После того как все замки были заперты так, как это устраивало Одима, он повернулся к Беси и приветливо ей улыбнулся.
— Мы пойдем разными дорогами, но надеюсь скоро снова увидеться с тобой дома.
— Да, господин.
— Иди побыстрее. Да остерегайся солдат по дороге.
Идти Беси было совсем недалеко, за угол и немного по Холмовой улице. Сам Одим повернул в другую сторону, к ближайшей церкви.
Эедап Мун Одим, человек средних лет, на вид был неопределенного возраста. Подняв воротник замшевого пальто, он упрятал в него бородку. Его походка всегда отличалась степенностью, хотя сейчас из-за холодного ветра ему пришлось перейти на быстрый шаг. Он вошел в церковь в разгар службы, как было у него заведено по вечерам после завершения дел. Здесь, в церкви, он, подобно другим добрым горожанам, покорно представал перед богом Азоиаксиком. Но служба была короткой.
Тем временем Беси Бесамитикахл, добравшись до дома Одима, постучала в дверь и велела сторожу впустить ее.
Особняк Одима стоял последним на улице, ведущей к побережью океана Климента. Из окон верхнего этажа открывался хороший вид на гавань и дальше, на Панновальское море. Дом был построен два века назад богатым торговцем, чьи предки пришли из Кай-Джувека. С тем чтобы уменьшить высокую плату за землю в Кориантуре, каждый этаж пятиэтажного дома был больше предыдущего. Под крышей был устроен просторный зал, откуда открывался отличный вид, в то время как на первом этаже места хватало разве что для прихожей да для каморки сторожа с его псом. Узкая винтовая лестница пронизывала все здание. В многочисленных тесно заставленных комнатах второго, третьего и четвертого этажей размещалось в тесноте многочисленное семейство Одима. Верхний этаж целиком занимал сам Одим с женой и детьми. Эедап Мун Одим был по происхождению кай-джувек, несмотря на то, что родился в этом доме. Что касается Беси, то тут сказать было труднее.
Беси, сирота, не помнила родителей, хотя, по слухам, ее родила рабыня родом из Димариама. Поговаривали, что эта рабыня сопровождала своего господина в его паломничестве в Священный Харнабхар; когда же выяснилось, что рабыня на сносях, хозяин выкинул ее на улицу. Так оно было или нет (Беси отказывалась говорить об этом), но в этой истории все же была доля правды — такие вещи иногда случались.
В детстве Беси жила тем, что зарабатывала танцами на улицах, тех самых, куда выкинули ее мать. Благодаря танцам Беси заметил вельможа, следовавший в Аскитош ко двору олигарха. Беси, натерпевшись от нового хозяина и побоев и унижений, сумела бежать из дома, где томилась в неволе вместе с другой женщиной, спрятавшись в пустой бочке из-под тюленьего жира.
Из бочки ее спас племянник Эедапа Мун Одима, который вел дела своего дяди в Аскитоше. Беси очаровала этого впечатлительного молодого человека — и танцы тут стали, конечно же, главным козырем, — очаровала так, что он женился на ней. Однако их счастье длилось недолго. Через четыре теннера после свадьбы племянник упал с чердака на одном из складов дяди и сломал шею.
Сирота, бывшая девчонка-танцовщица, рабыня, женщина сомнительной репутации, а в довершение всего — вдова — таков был послужной список Беси Бесамитикахл. Путь в уважаемое общество Ускутошка ей был закрыт.
Однако сам Одим, кай-джувек и просто купец, взял Беси под свое покровительство, и не в последнюю очередь потому, что благодаря своему краткому замужеству она приходилась ему родственницей, а еще потому, что девушка, как оказалось, обладала иными значительными талантами, которых не скрывала и от которых получала удовольствие. И поскольку Беси все еще была красива, Одим назначил ее старшей наложницей.
Беси была благодарна новому господину. Она пополнела, позабыла свою былую стремительность и живость и с некоторых пор помогала вести Одиму бухгалтерию; по прошествии ряда лет Беси уже брала на себя более сложные вопросы, заказывая для конторы хозяина суда и грузы и проверяя бумаги на погрузку-разгрузку. Дни при дворе олигарха и побег в бочке из-под тюленьего жира остались в далеком прошлом.
Быстро переговорив со сторожем, она поднялась по винтовой лестнице в свою комнату.
По пути она задержалась в маленькой кухне на втором этаже, где бабушка семейства занималась приготовлением ужина, командуя прислугой. Старушка ответила на приветствие Беси и снова вернулась к делу, а именно к приготовлению печений-саврилл.
Медовый, словно прошедший сквозь соты, свет висящих под потолком кухни ламп падал на простые чашки и горшки, тарелки, ложки и вилки, сито и стоящие в углу объемистые мешки муки. Тесто раскатывалось тонким слоем, превращаясь от движений старческих пятнистых рук в неровный круг. Молодая служанка стояла, прислонясь к стене, и, оттопырив губу, отсутствующим взглядом наблюдала за работой бабушки. В кастрюльке над угольной жаровней кипела вода. В клетке пела пекуба.
То, что недавно сказал Беси Одим, не могло быть правдой. Не может быть, чтобы размеренной жизни в Кориантуре грозила опасность — нет, по крайней мере до тех пор, пока умелые руки бабушки продолжают нарезать раскатанное тесто на ровные полумесяцы, каждый с впадиной в виде уголка и выложенной с одной стороны начинкой. Эти скатанные затем в маленькие подушечки печенья, маленькие «радости», были свидетельством домашнего покоя, который невозможно поколебать. Одим просто слишком много навыдумывал. Он всегда волнуется. Ничего с ними не случится.
Кроме того, этим вечером мысли Беси занимало кое-что помимо опасений Одима. В доме появился таинственный солдат, которого она видела мельком сегодня утром.
Нижние и менее комфортабельные комнаты занимали многочисленные родственники Одима. Там словно образовался небольшой городок. Беси мало общалась с близкими Одима, за исключением старой бабушки, возмущенная тем, как беззастенчиво родня пользовалась добротой Одима. Она обходила комнаты родственников задрав нос, однако под таким углом, чтобы видеть все, что творится в этой обители лени и праздности.
Здесь проживали дальние родственницы Одима, преклонного возраста, тучнеющие от неподвижности и безделья; здесь расплывшиеся, вечно беременные, не слишком молодые кузины Одима вынашивали бесчисленных юных Одимов; здесь ютились одинокие пока еще молодые родственницы Одима, гибкие девушки, источающие запах сандаловых духов, скромные во всем, но знакомые лишь с тюремной скудостью блеклой жизни в стенах дома; и, конечно же, здесь кишели бесконечные маленькие Одимы, одетые в яркие рубашонки или вовсе без рубашонок, мальчики, часто неотличимые от девочек, если бы только кому-нибудь было до этого дело, захваченные то беспрестанными играми, то простудами, то бегством от наказания, то возней и драками, то кричащие, то понуро сидящие, то спящие.
Тут и там попадались толстые, словно подушки, редкие представители мужской линии Одимов, затюканные обилием женщин. Оскопленные своей зависимостью от Эедапа Мун Одима, мужчины уныло отращивали бороды, курили вероник или громогласно выкрикивали приказы, которые никто не торопился исполнять — все это в безуспешных попытках отстоять свою мужественность. Из-за перепутанности родственных связей у всех были одинаковая бесцветная кожа, безжизненный взгляд, тяжелая челюсть, предрасположенность — если только можно так назвать столь ненужную наклонность — к полноте, напыщенности, сонливости, настолько стирающим какие-либо различия в семействе, что лишь кипящая от ненависти Беси могла отличить одного из этих приживалов от другого.
Тем не менее сами Одимы умели установить четкое различие. Невзирая на достаток в доме, родственники горячо отстаивали личное имущество, охраняя часть комнаты, которую считали своей, припрятывая по углам ценности, которые считали своими, яро устерегая кусок ковра, на котором возлежали. Тесно заселенные комнаты были разделены ленточками, так что даже ребенок, случайно ступивший на территорию врага, будь то сестра его родной матери, мог без всяких предупредительных вопросов получить затрещину. Ночью братья спали в ревностно охраняемой двухфутовой близости от своих невесток. Крохотные участки частной собственности были помечены ленточками, или ковриками, или специальными драпировками, развешанными на протянутых под потолком веревках. Каждый квадратный ярд охранялся с жаром и ожесточением, обычно присущими маленьким королевствам.
Беси желчно взирала на все это устройство. Она замечала, как даже настенная роспись в комнатах дома ее господина блекла и покрывалась пятнами из-за присутствия такого многочисленного семейства; вызывающая полнота Одимов порождала испарения, от которых увядали краски тонких росписей. На фресках были изображены тучные земли, процветающие в лучах двух солнц; изящные лани гарцевали под сенью зеленых высоких деревьев, а молодые мужчины и женщины возлежали в кущах, полных голубок, флиртуя или призывно наигрывая на флейтах. Эти идиллии были написаны два века назад, когда дом был еще новый; на картинах блистал ушедший ныне мир, уже исчезнувшие долины Кай-Джувека в осеннюю пору.
И фрески, и их неугомонные разрушители навевали Беси определенные мысли, лишали ее покоя; единственное, чего она искала — места, где бы она могла насладиться недолгим уединением вдали от глаз своего господина. Вскоре после того, как она закончила свое все более презрительное шествие, она услышала, как хлопнула наружная дверь и громко залаял сторожевой пес.
Она бросилась к лестнице и поглядела вниз.
Ее господин, Эедап Мун Одим, вернулся с церковной службы и уже ставил ногу на нижнюю ступеньку лестницы. Она увидела его меховую шапку, замшевое пальто, блестящие начищенные ботинки, все уменьшенное в перспективе. Мельком увидела его длинный нос и длинную бороду. В отличие от своих родственников, Эедап Мун Одим был худощав и строен; неустанная работа и постоянные коммерческие хлопоты позволяли ему сохранять стройность стана. Единственным удовольствием, которое он позволял себе, — и Беси знала это — была роскошная спальня, где Одим все же вел аккуратные подсчеты трат родственников, все досконально записывая в маленькую книжечку.
Не зная, что делать, она осталась стоять на месте. Одим поднялся по лестнице и взглянул на нее. И быстро улыбнулся.
— Меня не беспокоить, — сказал он, проходя мимо. — Сегодня ночью ко мне не нужно приходить.
— Как пожелаете, — прибегла Беси к привычному ответу. Она отлично понимала, что именно беспокоит хозяина. Эедап Мун Одим был главным и самым крупным торговцем фарфором, от фарфора зависели его прибыли, но продажи фарфора падали.
Одим поднялся на верхний этаж и затворил за собой дверь. Жена уже приготовила ему ужин; аромат яств плыл по всему дому, достигая тех комнат, где ели не так вкусно и не так обильно.
Беси осталась стоять на лестничной площадке, в потемках посреди запахов тесного многочисленного существования, машинально прислушиваясь к окружающим звукам. Среди прочего она различала стук сапог — солдаты прошли мимо дверей их дома к океанскому побережью. Ее пальцы, все еще изящные, отстучали по деревянным перилам марш.
Она стояла невидимая для всех, кто находился ниже. Стоя так, она увидела, как старик-сторож выбрался из своего логова, осторожно украдкой осмотрелся и выскользнул за дверь. Возможно, он выбрался на улицу узнать, зачем мимо дома прошли солдаты олигарха. Несмотря на то, что Беси давно удалось подружиться со сторожем, она отлично знала, что тот никогда не выпустит ее из дома без разрешения Одима.
Через мгновение дверь вновь открылась. В дом вошел военный, с аккуратно подстриженной квадратной бородкой, разделяющей лицо горизонтально на две части. Этот военный и был истинной причиной, заставившей Беси предпринять тайный осмотр дома. Капитан Харбин Фашналгид, их новый жилец.
Из каморки сторожа выскочил пес и залаял. Но Беси уже быстро спускалась по ступенькам, проворно и ловко, словно пухлая маленькая олениха по крутому склону горы.
— Тихо, тихо! — прикрикнула она.
Пес повернулся к ней, поднял черную голову и дурашливо бросился к подножию лестницы. Высунув язык, он перепачкал слюной руку Беси, совершенно не сменив угрожающего выражения морды.
— Место, — приказала псу Беси. — Хороший мальчик.
Шагнув к Беси через прихожую, капитан сжал ее руку. Они взглянули друг другу в глаза, ее — карие, его — стальные, серые. Он был высок и гибок, настоящий чистокровный ускут, отличающийся от стремительно толстеющих Одимов во всем. В связи с перемещениями войск олигарха капитана вчера определили на постой в дом Одима, и Эедапу волей-неволей пришлось отвести капитану комнату на этаже своей семьи, самом верхнем этаже дома. И едва глаза капитана и Беси встретились, Беси — которой удалось пережить все опасности и невзгоды не в последнюю очередь благодаря своей способности производить впечатление — мгновенно влюбилась.
И сейчас в ее голове немедленно сложился план.
— Давайте прогуляемся, — предложила она. — Сторожа нет дома.
Капитан сжал ее руку еще крепче.
— Снаружи холодно.
Капитану достаточно было увидеть легкое нетерпеливое движение головы Беси. После этого они вдвоем двинулись к двери, украдкой оглянувшись на полумрак лестницы. Но Одим уже затворился в своих покоях, где кто-нибудь из его родственниц сыграет ему на биннадурии и споет о покинутых твердынях Кай-Джувека, где забытые девушки в сумерки бросали из окон свои белые перчатки, навсегда достающиеся в подарок рыцарям.
Капитан Фашналгид осторожно подтолкнул сапогом псину, вознамерившуюся следовать за ними, обратно в дом — и вместе с Беси Бесамитикахл выскользнул на улицу. В капитане чувствовалась решительность в любовных делах. Крепко держа Беси за руку, он провел ее через двор к воротам, над которыми горел масляный фонарь.
Там они повернули направо и двинулись по мощенной булыжником улице.
— В церковь, — шепнула она. Больше никто из них не сказал ни слова — холодный ветер, несущий с приполярных гор свое ледяное дыхание, дул прямо в лицо.
Вдоль улицы, зажатые между каменными стенами домов, росли чахлые и унылые деревья. Их листва шелестела на ветру. По другой стороне улицы навстречу капитану и Беси прошел отряд солдат, стук их каблуков эхом отдавался между домами. Свинцовое небо словно все пропитывало серостью.
В церкви горел свет. Прихожане распевали гимны. Поскольку эта церковь слыла отчасти богемной, Одим никогда не заходил сюда. Перед стенами церкви строем гораздо более четким, чем воинский, стояли ряды высоких, в рост человека, камней, отмечая места упокоения тех, чьи дни под серыми небесами истекли. Осторожные любовники пробрались мимо памятников и укрылись в нише стены. Беси обняла капитана за шею.
Они немного пошептались, потом рука капитана скользнула под меха Беси и ее платье. Беси охнула от холода прикосновения. Их кожа попеременно казалась то ледяной, то обжигающе-раскаленной, они прижимались к друг другу все теснее. Беси одобрительно заметила, что капитан получает удовольствие и не торопится. Любовь — это так просто, подумала она и шепнула: «Это так просто...» Капитан продолжал свое дело.
Когда они наконец соединились, он крепко прижал ее к стене. Беси откинула голову на жесткие камни и выдохнула его имя, которое узнала совсем недавно.
Когда все закончилось, они постояли немного, прижимаясь друг к другу и к стене, и Фашналгид заметил, будто между прочим:
— Совсем неплохо. Ты довольна своим хозяином?
— Почему ты спрашиваешь?
— Я надеюсь, что не вечно буду капитаном. Может быть, тогда я куплю тебя, как только эти маленькие проблемы будут улажены.
Беси прильнула к капитану и ничего не сказала. Жизнь в армии была лишена определенности. Стать капитанской наложницей означало сорваться на ступеньку вниз от теперешнего безопасного положения.
Капитан добыл из кармана фляжку и как следует глотнул. Почуяв запах спиртного, Беси подумала: слава Богу, Одим не пьет. Эти капитаны все пьяницы...
Фашналгид вздохнул.
— Я не подарок, это понятно. Главное, что меня беспокоит, девочка, это задание, с которым я сюда прибыл. На этот раз меня заслали в настоящее болото, в этот паршивый полк. Мне кажется, я здесь спячу.
— Ты ведь не из Кориантуры, верно?
— Я из Аскитоша. Ты меня слушаешь?
— Здесь очень холодно. Нам лучше вернуться.
Капитан неохотно двинулся следом за Беси и на улице снова взял ее за руку, отчего она ощутила себя почти свободной женщиной.
— Ты слышала об архиепископе-военачальнике Аспераманке?
В лицо Беси дул ветер, поэтому в ответ она только кивнула. Она надеялась, что капитан романтик, и, как оказалось, зря. Но всего теннер назад она слушала священника-военачальника на городской площади, во время открытой службы. Его речь была так выразительна. Жесты так красноречивы, она с удовольствием на него смотрела! Аспераманка! Вот уж златоуст, так златоуст! Позже она вместе с Одимом видела, как армия Аспераманки маршировала к Восточным воротам, чтобы отправиться в поход. Орудия на лафетах, проезжая мимо их дома, сотрясали улицу. А в колонне шагало столько молодых солдат...
— Священник-военачальник принял у меня клятву верности олигарху, когда меня произвели в капитаны. С тех пор минуло довольно времени.
Капитан погладил бородку.
— Но теперь я угодил в передрягу! Арбо Хакмо Астаб!
Беси вздрогнула от отвращения и негодования, услышав, что в ее присутствии мужчина произнес такое ругательство. Только подонки общества или доведенные до крайнего отчаяния люди прибегали к подобной ругани. Она высвободила руку из руки Харбина и быстрее зашагала по улице.
— Этот человек одержал для нас великую победу над Панновалом. Мы услышали об этом во время мессы в Аскитоше. Но это великая тайна. Тайна... Сиборнал просто погряз в секретах. Зачем, как ты считаешь, они все окутывают тайной?
— Ты можешь подкупить сторожа, чтобы он не донес Одиму?
Они подошли к воротам, и Беси остановилась. На стену была наклеена новая листовка. В темноте Беси не могла разобрать текст да и не хотела его читать.
Нашаривая в кармане деньги, о которых просила Беси, Фашналгид по обыкновению ровным голосом произнес:
— Меня прислали в Кориантуру устроить тут нападение на армию священника-военачальника, когда тот будет возвращаться из Чалца. Нам приказали убить всех, всех до единого, включая самого Аспераманку. Что ты об этом думаешь?
— Это ужасно, — ответила Беси. — Нам лучше скорее войти, пока не начались неприятности.
На следующее утро ветер утих, и Кориантуру затянул мягкий коричневатый туман, тускло подсвечиваемый попеременно двумя солнцами. Беси глядела, как худой, чуть сутулый человек, имя которого было Эедап Мун Одим, ест свой завтрак. Ей разрешалось приступать к еде только после того, как хозяин закончит трапезу. Одим молчал, но Беси знала, что хозяин настроен по обыкновению шутливо. Даже вспоминая все удовольствия, которые смог ей доставить капитан Фашналгид, она чувствовала, что главным притяжением ее жизни был и остается Одим.
Словно желая проверить свою способность шутить, Одим приказал позвать к себе наверх одного из дальних родственников, двоюродного племянника, поэта, чтобы поговорить с ним.
— Я написал новую поэму, дядя, «Ода Истории», — племянник поклонился и начал декламировать:
Что моя жизнь? История,
Принадлежащая, считается, лишь тем,
Кто сотворил ее?
Но почему не может утонченный мой вкус
Принять историю моралью сердца своего
И изменить ее там так же,
Как изменяет и меня она сама?
Далее следовало подобное же.
— Что ж, неплохо, — заметил Одим, поднимаясь и утирая губы шелковой салфеткой. — Тонкий слог, яркие образы. Теперь мне пора в контору, прошу простить — твои витиеватые измышления освежили меня, племянник.
— Ваша похвала переполняет радостью мое сердце, — ответил дальний родственник и удалился.
Одим попросил еще чашку чаю. Он никогда не прикасался к алкоголю.
Когда слуга помог ему надеть пальто перед выходом на улицу, Одим позвал Беси, чтобы та проводила его. Беси покорно последовала за ним вниз по лестнице, весьма медленно, поскольку приходилось миновать заслоны многочисленных родственников, тех обитающих здесь Одимов, которые громко, словно стая толстых чаек, выкрикивали свои жалобы на каждой площадке лестницы, льстя, но еще не выпрашивая, пихая друг друга, но еще открыто не толкаясь, прикасаясь к нему, но не хватая за руки, обращая на себя внимание громкими голосами, хотя и не навязчиво, поднимая к господину для осмотра своих маленьких Одимов, хотя и не поднося их к его лицу, и все это — покуда старший хозяин Одим совершал нисхождение по винтовой лестнице.
— Дядя, малышка Гуфла очень хорошо успевает по арифметике....
— Дядя, мне очень неловко, но я должна рассказать вам об этом изменщике, когда мы сможем поговорить наедине.
— Дорогой дядя, остановитесь на секунду, я должен рассказать вам о моем ужасном сне, в котором с неба спустился сверкающий дракон и пожрал нас всех.
— Дядя, вам нравится мое новое платье? Правда, оно восхитительно? Я могу станцевать в нем для вас.
— Извините, нет ли новостей от моих кредиторов?
— Дядя, Кегги не слушает вас, и продолжает пихать меня, и таскает за волосы, и вообще не дает мне прохода. Пожалуйста, возьмите меня своим слугой, чтоб я избавился от него.
— Вы забываете о тех, кто любит вас, дорогой Эедап. Избавьте нас от нищеты, и мы будем вечно молиться за вас.
— Дядя Эедап, как чудесно вы сегодня выглядите, какой благородный и видный мужчина...
Купец Одим не выказывал досады из-за непрекращающихся жалоб и оставался равнодушен к навязчивой лести.
Он продолжал неспешно, но неуклонно проталкиваться сквозь затор из тел Одимов, вдыхая запахи пота и парфюмерии, говоря слово тут и слово там, улыбаясь, однажды даже позволив себе ущипнуть за грудь ничуть не возражающую молодую племянницу, раз или два зайдя далеко и вложив в протянутые ладони серебряную монету. Чувствовалось, что в жизни — и он в самом деле так жил — Одим полагает терпение главной добродетелью, с меньшим числом уступок другим, но с общим искренним человеческим вниманием, снисходительным к самоуважению окружающих.
Только когда хозяин Одим вышел на улицу и Беси затворила дверь, он позволил себе выказать свои чувства. На стене возле двери были наклеены две новых листовки. Одим быстро сгреб бороду в горсть.
Первая листовка оповещала, что жизни жителей Ускутошка угрожает ЭПИДЕМИЯ. Случаи болезни уже отмечены в портах и в особенности в ПРОСЛАВЛЕННОМ ДРЕВНЕМ ГОРОДЕ КОРИАНТУРА. Жителей предупреждали, что с этих пор общие собрания запрещены. Собираться больше четырех человек в общественных местах не разрешалось, в противном случае следовало суровое наказание.
Продолжение листовки было еще более коротким и сообщало, что ЛИЧНЫМ ПРИКАЗОМ ОЛИГАРХА РАСПРОСТРАНЕНИЕ СМЕРТЕЛЬНОГО ОЖИРЕНИЯ ДОЛЖНО БЫТЬ ОСТАНОВЛЕНО ЛЮБЫМИ СРЕДСТВАМИ.
Одим прочитал первую листовку дважды, с очень серьезным и обеспокоенным видом. Потом обратился ко второй листовке, об ОГРАНИЧЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ЖИТЕЛЕЙ АКТОМ «О ПРОЖИВАНИИ». После нескольких вступительных общих фраз на казенном языке следовало достаточно недвусмысленное заявление:
«ОГРАНИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЖИТЕЛЕЙ касается частных и наемных домов, поместий, квартир и иных мест проживания, в первую очередь принадлежащих лицам неускутошской крови. Отмечено, что эти лица в большей степени подвержены Эпидемии и являются главными переносчиками поветрия. Отныне число таких лиц должно быть ограничено до Одного проживающего на Два Квадратных Метра площади помещения — ПО ПРИКАЗУ ОЛИГАРХА».
Этот приказ не был неожиданностью и преследовал определенную цель: ослабить бедные кварталы, где олигархия никогда не была в чести. Друзья Одима из местного совета предупреждали его о том, что нечто подобное вскоре должно случиться.
В очередной раз ускуты продемонстрировали свою расовую предубежденность — предубежденность, из которой олигархия торопилась извлечь всю возможную выгоду. Уже давно фагорам было запрещено появляться в городах Сиборнала без сопровождения.
Никого не волновал тот факт, что Одим и его предки жили в этом городе уже несколько веков. Ограничение количества жителей актом «О проживании» связало ему руки, и он больше не мог защитить свою семью.
Быстро оглянувшись по сторонам, Одим сорвал листовки со стены, мигом сложил несколько раз и спрятал под замшевое пальто.
Действия хозяина встревожили Беси не меньше, чем вчерашние слова капитана. Никогда раньше она не видела, чтобы хозяин Одим преступал закон. Строгая приверженность Одима всему, что предписывали законы, была хорошо известна. У Беси перехватило дыхание, и она, разинув рот, уставилась на хозяина.
— Наступает зима, — только и сказал Одим. На его лице залегли горькие складки.
— Возьми меня за руку, девочка, — быстро проговорил он. — Мы должны решить, что нам делать...
Туман придал набережной сказочные очертания, в тусклом сепийном сиянии медленно раскачивалась роща мачт. Море было словно погружено в транс. Царила тишина, даже привычный скрип снастей о мачты звучал глуше обычного.
Не тратя времени на то, чтобы полюбоваться видом, Одим свернул к приличного вида и размера дому со сквозной аркой в середине, над которой красовалась вывеска: «ЭКСПОРТ ТОНКОГО ФАРФОРА ОДИМА». Беси сопроводила хозяина мимо кланяющихся клерков во внутреннюю контору.
Внезапно Одим остановился.
В его контору вторглись посторонние. У камина, жуя спичку, грел зад перед горящими углями армейский офицер. Здесь же стояли двое солдат с непроницаемыми лицами, как это свойственно личной охране.
В качестве приветствия майор выплюнул спичку на пол и заложил руки за спину. Это был высокий мужчина в форменной военной шинели. В его волосах пробивалась седина, челюсть и губы были выпячены, словно скрывающиеся за ними зубы только и ждали, как бы вырваться на волю и впиться в недостойного штатского.
— Чем могу служить? — спросил Одим.
Без всяких объяснений майор представился, продемонстрировав при этом рвущиеся вперед зубы во всей красе.
— Я Гардетаранк, майор Первой гвардии олигарха. Меня хорошо знают, но не все любят. От вас я хочу получить список отплытия и прибытия судов, тех, в которых вы непосредственно заинтересованы. На сегодня и на следующую неделю.
Майор говорил гулким четким голосом, одинаково внушительно произнося слова, словно те были поступью сапог на долгом монотонном марше.
— Хорошо, я передам вам список. Не хотите присесть и выпить чаю?
Зубы майора еще больше выпятились.
— Мне нужен только список, и ничего более.
— Конечно, сударь. Пожалуйста, располагайтесь поудобней, а я прикажу главному клерку...
— Мне достаточно удобно. Не задерживайте меня. Я и так шесть минут дожидался вашего прихода. Список.
При всех своих недостатках северный континент Сиборнал был чрезвычайно богат полезными ископаемыми и угольными залежами. Здесь добывали и глины различного типа.
Фарфор и стеклянная посуда для питья широко использовалась в Кориантуре, в то время как мелкие владетели Дикого Континента все еще хлебали свой ратель из деревянных чаш. Ранней весной Великого Года гончары на далеких просторах Каркампана и Ускутошка производили фарфор, обжигаемый в лигнитных печах при температуре 1400 градусов. По прошествии веков эти произведения изящного искусства тщательно собирали и хранили коллекционеры.
Эедап Мун Одим владел небольшой долей фарфорового завода, поэтому на территории его конторы стояли вспомогательные печи для обжига. В основном он экспортировал тонкий фарфор. Он поставлял фарфор местного производства в Шивенинк и Брибахр, но преимущественно в порты Кампаннлата, где его, потомка жителей Кай-Джувека, принимали радушнее, чем его сиборнальских конкурентов. Но корабли, на которых переправлялся его груз, Одиму не принадлежали. Основой его процветания были предпринимательство, банковское дело и финансовые операции; он даже давал деньги взаймы конкурентам и извлекал прибыль из этого.
Большая часть доходов Одима приходила с Дикого Континента, из портов северного побережья, из Вайнвоша, Доррдала, Доввела и даже с более далеких рубежей, Повачета и Пупевина, где его конкуренты не решались вести торговлю. Именно эта часть торгового плана, столь отдаленная от Кориантуры, заставила чуть дрогнуть его руку, когда он передавал майору график отплытия кораблей. Без какого бы то ни было напоминания он понимал, что иноземные названия наверняка плохо скажутся на печени солдат.
Взгляд майора, сумрачный, как туман, сгустившийся за окнами, опустился на отпечатанную страницу.
— Вы ведете торговлю в основном с иноземными портами, — наконец ледяным тоном подытожил майор. — В этих портах сейчас бушует эпидемия. Наш великий олигарх, которого охраняет Азоиаксик, отчаянно старается спасти людей своей страны от эпидемии, источник которой — Дикий Континент. С этих пор все плавания к Дикому Континенту будут запрещены.
— Нельзя будет больше заходить в порты Кампаннлата? Но вы не можете...
— Я могу, и я сказал, что ходить туда корабли больше не будут. Впредь до особого распоряжения.
— Но это моя торговля, мое дело, помилосердствуйте, сударь...
— Жизнь женщин и детей гораздо важнее вашей торговли. Вы ведь иностранец, не так ли?
— Нет. Я не иностранец. Я и моя семья проживаем в Ускутошке вот уже три поколения.
— Но вы не ускут. Ваше лицо, ваше имя — по всему видно.
— Сударь! Я кай-джувек, но только по происхождению, которому несколько веков.
— С сегодняшнего дня этот город находится на военном положении. Вы обязаны подчиняться приказам, ясно? Если вы не станете подчиняться приказам и ваш груз покинет этот порт, вас будут судить военным трибуналом и приговорят...
Майор выдержал короткую паузу и закончил фразу, выговорив последнее слово самым ледяным тоном, на какой был способен:
— ... к смерти.
— Но мы с семьей будем полностью уничтожены, — заметил Одим, пытаясь выдавить улыбку.
Майор поманил пальцем одного из телохранителей. Тот добыл из-под мундира бумагу.
Майор припечатал бумагу к столу.
— Здесь все написано. Вот, подпишите в знак того, что ознакомлены с новыми порядками.
Пока Одим не глядя подписывал, майор скалил зубы в улыбке, потом добавил:
— Да, и кстати, как иностранцу, вам придется теперь каждое утро отмечаться у моего подчиненного, который будет отвечать за ваш район. Канцелярия разместится в складе по соседству с вами, так что далеко ходить не придется.
— Сударь, разрешите повторить: я не иностранец. Я родился в этом городе, в двух шагах отсюда. Я председатель городского торгового совета. Можете сами узнать.
Одим развел руками, и сложенная в несколько раз листовка выпала у него из-под пальто. Беси не торопясь вышла вперед и, осторожно подобрав, бросила листовку в камин. Майор не обратил на нее внимания, как не обращал внимания и раньше. Задумчиво, словно оценивая реакцию Одима, майор поцокал языком и грубо продолжил:
— Повторяю. Каждое утро будете отмечаться у моего подчиненного. Его зовут капитан Фашналгид, и он у вас под боком.
Услышав это имя, Беси прислонилась к камину. Должно быть, жар разгоревшегося от листовки пламени овеял ее щеки, потому что они вспыхнули румянцем.
Когда майор Гардетаранк и его охрана ушли, Одим закрыл дверь в упаковочный цех и присел к камину. Он медленно наклонился вперед, поднял с ковра изжеванную спичку и бросил ее в огонь. Беси опустилась возле хозяина на колени и взяла его за руку. Довольно долго оба молчали.
Наконец Одим заговорил.
— Ну что, дражайшая Беси, мы угодили в ужасный переплет. Каким образом нам теперь выходить из положения? Где все мы будем жить? Здесь, скорее всего. Возможно, нам удастся что-то сделать с этими обжиговыми печами, которые стояли раньше почти без дела, к тому же у меня есть связи. В этой комнате можно неплохо устроиться. Но если мне запретят торговать, тогда... тогда мы на грани разорения. И они это знают, негодяи. Эти ускуты хотят превратить нас всех в рабов...
— Этот военный, он ужасный. Его глаза, зубы... он пучеглазый, как рак.
Одим сел в кресло и прищелкнул пальцами.
— При счастливом стечении обстоятельств все можно исправить. Во-первых, этот Фашналгид за стеной. Нам повезло, что он, этот капитан, у нас на постое — я заметил, как он смотрит на тебя. Он читает книги и, возможно, вполне цивилизован. Моя жена хорошо его кормит. Возможно, нам удастся убедить его помочь нам.
Одим за подбородок приподнял лицо Беси и заставил ее взглянуть ему в глаза.
— Всегда есть выход, моя курочка. Давай, беги к соседям и взгляни на этого славного капитана Фашналгида. Пригласи его сюда. Скажи ему, что у меня есть для него подарок. Не сомневаюсь, что он смягчит для нас правила. И, Беси... он, конечно, уродлив, как горный дьявол, но пусть тебя это не смущает. Будь с ним поласковей, ты поняла меня, курочка? Будь как можно ласковее, а это значит — очень-очень. И даже немножко соблазни его — ты понимаешь? Даже если придется перейти границы. Наши жизни зависят от этого, понятно?
Одим дернул себя за длинный нос и невесело улыбнулся.
— Лети, моя голубка. И помни — ни перед чем не останавливайся, чтобы завоевать его.
Глава 4 Военная карьера
Ограничение числа жителей актом «О проживании» было встречено и воспринято с различных точек зрения на приказы олигархии. В привилегированных кварталах города люди кивали и говорили: «Как мудро, какое замечательное решение». Близ доков жители Кориантуры восклицали: «Что этот байвак придумает дальше!»
Эедап Мун Одим, вернувшись домой, в перенаселенное пятиэтажное жилище, ничем не выдал своего тревожного настроения. Он не сомневался, что очень скоро полиция вызовет его и укажет на то, что он и его семья входят в явное противоречие с новым законом.
Поздним вечером, обняв на ночь детей, он пристроил свое худое тело возле сонной жены и приготовил разум к пауку. Он ничего не сказал супруге, понимая, что ее картинные терзания, ее слезы, ее непременная беготня по комнате, традиционные сочные поцелуи, которыми она громко наградит троих детей, никак не решат его проблему. Когда дыхание жены стало ровным, как благоуханный ветер в осенних перелесках Кай-Джувека, Одим собрался с духом и вошел в то состояние малой смерти, что было входными вратами в паук.
Для бедных, несчастных, переживающих всевозможные бедствия осужденных это прибежище всегда было открыто. Вход в паук даровал возможность общения с сознанием тех, чья жизнь в обычном мире завершилась. Ни церковь, ни армия не распространяли свою власть на мир мертвых. Огромный мир усопших был чужд всякому подавлению или ограничению прав личности; даже бог Азоиаксик не был здесь властен. Только духи и еще более отдаленные по степени нисхождения останки существовали здесь в состоянии упорядоченного упокоения, непрерывно опускаясь к невосходящему солнцу Всеобщей Прародительницы, принимающей в свое лоно всех некогда живших.
Подобно перышку, трепещущая душа Эедапа Мун Одима опустилась вниз, чтобы узреть душу отца, лишь недавно ушедшего из Верхнего мира, и услышать отцовские слова.
В настоящий момент отец представлял собой подобие дурно сделанной золоченой клетки. Непросто было проникать взором через обсидиан не-существования, но когда душа Одима выразила свое почтение, отцовская душа мерцанием дала ответ. Одим изложил свои затруднения.
Душа слушала, иногда делая замечания, сопровождавшиеся появлением легких облачков золотистой мерцающей пыли. В свою очередь, душа общалась с рядом останков предков, длинной цепью нисходящих во тьму. Наконец отец передал Одиму совет.
— Милый и возлюбленный сын, твои всегдашние заботы о нашей семье и твоя теперешняя о ней тревога делают тебе большую честь. Семья должна полагаться только на себя, поскольку правительство не относится должным образом к семейным узам. Твой добрый брат Одирин Нан живет далеко от тебя, но он, как и ты, всегда внимателен к нашим бедным родственникам. Отправляйся к нему. Отправляйся к Одирину Нану.
Беззвучный глас растворился и затих в обсидиане. Одим негромко возразил: он любит брата Одирина Нана, однако брат живет в далеком Шивенинке; поэтому, возможно, ему лучше будет перейти через горы и вернуться к отдаленной ветви своего семейства, до сих пор живущей в долинах Кай-Джувека?
— Здесь со мной есть такие, кто не советует возвращаться в Кай-Джувек. С каждым теннером путь через горы становится все опасней, об этом говорят недавно прибывшие сюда.
Произнося эти слова, непрочный отцовский остов сотрясался.
— К тому же долины становятся скудными и каменистыми, а скот уменьшается в числе и тощает. Плыви на запад к своему возлюбленному брату, он энергичен и деловит. Прими наш совет.
— Отец, слышать музыку твоего голоса значит подчиняться его мелодии.
Почтительно и вежливо распрощавшись с отцом и другими родственниками, душа Одима, подобно искорке в звездчатой пустоте, поднялась сквозь обсидиан наверх. Ряды прошлых поколений постепенно исчезли из вида. Потом пришла боль вхождения в бренное человеческое тело, лежащее на кровати и ожидающее возвращения сознания.
Одим вернулся к своей земной оболочке, ослабленный нисхождением, но укрепленный мудростью отца. Подле него продолжала мерно сопеть жена, бестревожно отдавая сну свое обширное тело. Одим обнял супругу и успокоился в ее тепле, словно дитя возле матери.
Были и такие — тайные любовники, — кто поднялся именно тогда, когда Одим отошел ко сну. И такие — любовники ночи, — кто предпочитал возвращаться домой перед рассветом, чтобы ни один сосед их не заметил. И такие — любовники ночной прохлады, — чье телосложение было таково, что они находили удовлетворение в кратких часах, когда бдительность людей минимальна.
Когда пробило три утра, майор Гардетаранк, в кожаных форменных штанах, стоял перед зеркалом и, внимательно вглядываясь в свое отражение, брился.
Майор Гардетаранк считал паук полной глупостью. Себя он полагал рационалистом. Рационализм был кредо его и его семьи. Он не верил в Азоиаксика (а тем более в церковные обряды) и еще меньше верил в паук. Майор никогда не задумывался о том, что его сознание в конце концов тоже найдет упокоение в умвелте живого обсидиана, куда не пробивался ни один луч света.
Сейчас, прикасаясь к коже острейшей, способной одним махом перерезать горло бритвой, он размышлял о том, каким еще образом можно ущемить обитателей Кориантуры и усложнить их существование, так же как и существование его подчиненного, капитана Харбина Фашналгида. Гардетаранк считал, что имеет определенные причины семейного характера ненавидеть Фашналгида, тем более что недавно открылась вопиющая непригодность капитана к его новому назначению. Ведь Гардетаранк был рационалистом.
Некогда перед последним приходом Вейр-Зимы, Сиборналом правил великий король, оставшийся в памяти потомков как король Дэннис. Двор короля Дэнниса помещался в Старом Аскитоше, загородное убежище же государю обеспечивала громада Осенних дворцов. Так гласила легенда.
К своему двору король Дэннис призвал ученых мужей со всей планеты. Великий король боролся за существование Сиборнала на протяжении мрачных веков Вейр-Зимы, для чего великие силы захватнической армии получили приказ высадиться на берегах Панновала.
Придворные ученые короля составили каталоги и энциклопедии. Все живое было поименовано, описано и учтено. Лишь медленно пульсирующий подобием жизни мир мертвых позабыли, дабы защитить силы Церкви Грозного Мира.
После смерти короля Дэнниса наступил долгий период смуты. Пришла зима. Тогда семь великих семейных кланов Сиборнала объединились и создали олигархию в попытке править континентом, опираясь на науку и рационализм, как заповедал король Дэннис. Семьи Сиборнала послали ученых — просвещать народности Кампаннлата — в самые дальние и старейшие культурные центры Киивасиена, на южной стороне Борлиена.
Осень этого Великого Года увидела один из самых просвещенных указов олигархии. Олигархия изменила сиборнальский календарь. В прошлом народы Сиборнала, за исключением выходцев из далеких медвежьих углов вроде Верхнего Хазиза, высчитывали годы «со дня коронации Дэнниса». Олигархия отменила такую формулу летоисчисления.
Теперь малые годы были пронумерованы по указаниям астрономов в последовательности, берущей начало от года нахождения Гелликонии и ее малого светила, Беталикса, в точке наибольшей отдаленности от Фреира — другими словами, в точке апоастра.
В Великом Году было 1825 малых лет по 480 дней. Текущий год, год вторжения Аспераманки в Чалц, был годом 1308 после апоастра. При подобной астрономической системе никто не мог усомниться, какое на дворе время года. Такое летоисчисление было признано наиболее рациональным.
Майор Гардетаранк рационально закончил бритье, вытер лицо и весьма рационально вычистил свои торчащие вперед зубы, произведя при этом ровно столько же движений щеткой вверх-вниз по передним зубам, сколько по боковым.
Нововведения, касающиеся календаря, взволновали крестьян. Но олигархия точно знала, что делает. Тайна была основой государства; тайна проникала всюду. Всюду внедрялись агенты и соглядатаи. К исходу осени олигархия основала тайную полицию для наблюдения за настроениями в обществе. Глава олигархии, сам олигарх, постепенно превратился в тайное, никому не известное лицо, в тень, в призрак, реющий над Аскитошем, где когда-то — так, по крайней мере, утверждали легенды — король Дэннис был всеми любим и появлялся на людях часто и повсеместно.
Все приказы и законы, проводимые в жизнь олигархом, имели строго рациональное обоснование. Рациональность стала жестокой философией, насаждаемой такими, как Гардетаранк. Рациональность предоставляла ему отличную возможность запугивать людей. Каждый вечер во время ужина в офицерской столовой он поднимал бокал за рациональность и опрокидывал алкоголь в горло, удерживая край бокала своими огромными зубами.
Теперь же, завершив туалет, он позвал слугу, который помог ему надеть сапоги и шинель. Одетый в высшей степени рационально, Гардетаранк вышел на тонущую в измороси предрассветную улицу.
Его подчиненный, капитан Фашналгид, был далек от рациональности, но тоже не чурался вина.
Пристрастие к вину началось у капитана с безобидной привычки, принятой в обществе его друзей, младших офицеров. По мере того как в Фашналгиде росла ненависть к олигарху, пить приходилось все больше. Иногда он терял власть над собой.
Однажды вечером в офицерской столовой, еще в Аскитоше, Фашналгид мирно пил вино и читал, не обращая внимания на присутствующих товарищей-офицеров. Вздорный капитан по имени Найпундег остановился возле стула Фашналгида и прижал стеком раскрытую страницу его книги.
— Сколько тебя вижу, Харбин, ты всегда занят чтением. Ты одинокий пес. Надеюсь, что-нибудь забавное о девочках?
Закрыв томик, Фашналгид ровным голосом ответил:
— Это занятие вряд ли понятно тебе, Найпундег. Ты к такому непривычен. Это история развития церковной архитектуры за несколько последних веков. Вчера я купил эту книгу у букиниста. Она напечатана три века назад, и здесь, кстати, рассказывается о тайнах, которые мы теперь позабыли. Например, как находить душевное успокоение. Ты интересуешься такими вопросами?
— Нет, такие вещи меня не интересуют. По мне, так это жуткая скука.
Фашналгид поднялся и спрятал книгу в карман мундира. Потом взял свой бокал и выпил его до дна.
— Жаль, что в нашем полку служат такие тупицы. Здесь я ни разу не встретил ни одного интересного человека. Надеюсь, ты не станешь обижаться на такие слова? Ведь ты горд тем, что ты тупица, верно? И все книги, если только это не грязные книжонки о девочках, ты находишь скучными?
Фашналгид слегка покачнулся. Найпундег, сам изрядно пьяный, разразился злобной руганью.
Так Фашналгид впервые выразил свою ненависть к олигархии и к ее постоянно возрастающей силе.
Найпундег, опрокинув в горло очередной бокал огненного напитка, вызвал Фашналгида на дуэль. Были призваны секунданты. Поддерживая дуэлянтов, они вывели их во двор офицерского собрания.
Там ругань возобновилась. Офицеры оттолкнули секундантов и, выхватив пистолеты, принялись палить друг в друга.
Почти все пули пролетели мимо цели.
Все, кроме одной.
Эта пуля попала Найпундегу прямо в лицо, разворотила нос и верхнюю челюсть, вошла в голову ниже левого глаза и вышла чуть правее затылка.
В военном обществе, относящемся либерально к таким происшествиям, Фашналгиду удалось свести причину дуэли к ссоре из-за дамы. Военный трибунал под председательством самого Аспераманки был вполне удовлетворен; Найпундег, родом из Брибахра, не пользовался особой популярностью. Фашналгид отделался небольшим взысканием. Единственное, что так и осталось неудовлетворенным, — совесть Фашналгида; он убил товарища-офицера и главным виновником считал себя.
Он испросил отпуск и отправился в поместье отца, расположенное на возвышенностях к северу от Аскитоша. В гостях у отца Фашналгид намеревался совершить свое обновление, некоторое время воздерживаясь от женщин и питья. Родители Фашналгида уже состарились, хотя оба еще были в силе и ежедневно совершали поездки верхом, как это было заведено у них вот уже сорок последних лет или даже больше, — объезжали свои поля и лесные угодья.
Поместьем управляли двое младших братьев Фашналгида, живущие у родителей вместе со своими женами. Братья занимались научным земледелием, то есть высевали более стойкие породы зерновых, когда прежние сорта начинали давать скудный урожай, выбирали скороспелки, занимались насаждением каспиарновых лесов, после того как ураганы во множестве валили деревья, строили мощные изгороди, чтобы удержать в стороне стада мародеров-фламбергов, наведывающихся на поля с северных равнин. Под началом братьев трудились мрачные фагоры.
В детстве поместье отца казалось Фашналгиду раем земным. Но теперь оно показалось ему прибежищем тоски и печали. Он увидел, сколько труда требовалось для того, чтобы поддерживать положение дел в поместье, покуда климат ухудшался, и понял, что не хочет иметь с этим ничего общего. Каждое утро он предпочитал выслушивать повторяющиеся разговоры отца, нежели присоединиться к братьям на полях. Потом он обычно удалялся в библиотеку, чтобы там задумчиво листать старые книги, которые когда-то зачаровывали его своими историями, и время от времени позволял себе пропустить стаканчик вина.
Часто капитан Фашналгид с горечью задумывался о том, что его жизнь проходит бессмысленно. Он даже не мог понять, в какую сторону влечет его желание. При этом, ввиду своей скромности, он не осознавал и не мог понять, сколько людей, в особенности — женщин, любило его по причине этого самого изъяна. Вступив в зрелый возраст, он имел поразительный успех.
При этом он отличался наблюдательностью. Через пару дней он заметил, что один из его братьев поссорился с женой. Возможно, размолвка между супругами была лишь мимолетной. Но Фашналгид немедленно начал симпатизировать даме. Чем больше он говорил с ней, тем меньше оставалось в нем намерений измениться. Он старался изо всех сил. Он рассказывал женщине о блеске военной жизни, одновременно опутывая ее сетью прикосновений, улыбок, изображая жалость, которая, конечно же, была неискренней, изображая печаль, которая отчасти была подлинной. Ему удалось завоевать ее симпатии, и она стала его любовницей. Это оказалось неожиданно легко.
Его поведение было совершенно иррационально.
В огромном двухэтажном сельском доме родителей эту связь не удалось уберечь от чужих глаз. Отравленный любовью или ее подобием, Фашналгид уже не мог вести себя осмотрительно. Он осыпал свою новую пассию нелепейшими подарками — плетеный гамак, двухголовый козленок, кукла, одетая солдатом, сундучок из слоновой кости с резьбой-письменами, излагающими знаменитые легенды Понипота, пара пекубов в подарочной роскошной клетке, серебряная фигурка хоксни с лицом женщины, колода игральных карт в янтарном футляре с большой жемчужиной, клавикорды, ленты, книги стихов и в довершение — окаменелый череп мади с гипсовыми глазами.
Он нанимал музыкантов из деревни, чтобы те пели ей серенады.
В свою очередь женщина, в экстазе от того, что рядом с ней впервые в ее жизни оказался мужчина, который ничего не знал и знать не хотел ни о картошке, ни о зерне, ни о пелламонтейне, танцевала для него на его веранде совершенно нагая, в одних лишь браслетах, которые он подарил ей, и пела для него удалые зиганки.
Это не могло продолжаться долго. Мрачная сельская нравственность не стерпела такого разврата. В одну из ночей братья Фашналгида засучили рукава и, ворвавшись в любовное гнездышко, разбили клавикорды и вышвырнули Фашналгида из дома.
— Абро Хакмо Астаб! — орал что было мочи Фашналгид. В поместье никто, даже наемные работники, не решались произносить такое ругательство вслух.
Во тьме он поднялся на ноги и отряхнул пыль с мундира. Двухголовый козленок принялся жевать его штанину.
Фашналгид добрался до окна своего старика-отца, где принялся выкрикивать попеременно ругательства и мольбы.
— Вы с матерью хорошо устроились, черт бы вас побрал. Вы из того поколения, которое считало любовь подвластной воле и сознанию. Воля и сознание поднимают нас над животными, а любовь идет от обычного скотства, так говорили поэты. Вы женились на всю жизнь, но разве это правильно, старые глупцы? Проклятье, мир изменился! На смену воле и сознанию приходит холод...
Сегодня нужно хватать любовь тогда, когда удается. Разве не должны вы, мои родители, стремиться сделать меня счастливым? Что? Отвечайте, старые вы байваки, чертовы совы! Если сами вы всю жизнь были так счастливы, то почему не дадите и мне немного счастья? Вы ничего мне не дали. Почему мне никогда ничего не достается?
Из темного дома не донеслось ни слова в ответ. Из какого-то окна вылетела кукла, одетая солдатом, и попала ему по голове.
Фашналгиду ничего не оставалось, кроме как вернуться в свою часть в Аскитоше. Но новости, передающиеся из уст в уста между семьями, живущими в поместье, добрались и туда. Скандал не отпустил Фашналгида. Словно по злой иронии судьбы оказалось, что майор Гардетаранк приходится дядей той женщине, которую Харбин обесчестил, той самой женщине, которая нагой танцевала для него на его веранде и пела ему разгульные зиганки. С этих пор положение Харбина Фашналгида в части стало ужасным и день ото дня ухудшалось.
Он тратил все свои деньги на редкие книги, на женщин и выпивку. Он копил в себе ненависть к олигархии, от случая к случаю, словно странный коллекционер, открывая для себя, какой крепкой стала хватка автократии, стиснувшая за годы Осени северный континент. Копаясь в развалах букинистов, Фашналгид наткнулся на списки годовых доходов поместий Ускутошка за некоторый промежуток времени; среди прочих в списке значилось и родительское поместье Фашналгида. Против поместья стояло примечание «подарок олигархии». Никаких пояснений к этой фразе не было.
Исполняя свой воинский долг, Фашналгид обдумывал свое открытие. Отчего-то у него возникло ощущение, что сам он тоже часть подарка олигархии.
Между пьянками и развратом он вспоминал хвастливые слова отца. Разве не похвалялся старик, что когда-то ему выпала честь лично видеть олигарха? Никто никогда не видел олигарха. Нигде не было портретов олигарха. В сознании Фашналгида олигарх не вязался ни с каким образом, кроме пары огромных когтистых лап, протянувшихся к землям Сиборнала.
Однажды вечером, после окончания гарнизонного дня, Фашналгид приказал адъютанту оседлать его хоксни и во весь опор поскакал в поместье отца.
Его братья рычали на него, словно дикие звери. Ему не удалось увидеть свет своих очей, свою любовь, лишь взмах руки, когда ту утаскивали за дверь. Он узнал на милой руке браслет, который сам подарил. Как звенел этот браслет, когда она танцевала ему!
Его отец лежал на постели, укрытый одеялами. Старик едва ворочал языком, хрипел и часто впадал в забытье. А может, просто тянул время. Внезапно Фашналгид узнал во лжи и притворстве своего отца себя. Старик все твердил, что сам видел Торкерканзлага Второго, верховного олигарха. Но это было сорок лет назад, когда отец был еще молод.
— Титул ничего не значит, — говорил отец. — Он выбирался случайно, чтобы просто скрыть настоящее имя. Олигархия — это тайна, и имена членов совета и олигарха держатся в строгой тайне, чтобы никто и никогда их не узнал. Они даже не знакомы друг с другом... Так же...
— Значит, ты никогда не видел олигарха?
— Никто не может сказать, что видел его. Но тогда был особый случай, и олигарх находился в соседней комнате. Сам олигарх. Так мне тогда сказали. Я знал, что олигарх там, я уверен в этом. Я ни в чем не могу быть уверен... быть может, он похож на огромного омара с клешнями до самого неба, но я знаю, что олигарх был там в тот день — и, открой я дверь, я бы увидел его, и его клешни, и...
— Отец, но что ты делал там, что это был за особый случай?
— Ледяной Холм, так это называлось. Ледяной Холм, ты, наверное, слышал. Все знают, где он находится, но даже члены Совета олигархии не знакомы друг с другом. Тайна имеет особое значение. Помни об этом, Харбин. Честь для юношей, чистота для девушек, тайна для мужчин... Знаешь, как говорил мне в старые времена дед: «Душа сиборнальца — потемки». В этом есть доля правды.
— Когда ты был на Ледяном Холме? Титул и это поместье тебе подарила олигархия? Я должен знать.
— Долг, сынок... есть такое слово — долг. Мало покупать женщинам куклы и книжки стихов. Если тебе передают в дар поместье, ты должен беречь его и содержать как положено. Приближается Зима, и нужно все предусмотреть. Я уже стар. Но тебе не о чем печалиться. Все было договорено еще до твоего появления на свет. В ту пору я был лицом значительным, не чета тебе нынешнему — да и потом тебе так высоко не забраться... ты мог бы стать майором, но то, что я слышал от этого Гардетаранка... Вот почему я подписал договор о том, что мой первенец будет служить в армии олигарха, чтобы защищать государство, давшее мне...
— Ты продал меня в армию еще до того, как я родился? — спросил Фашналгид.
— Харбин, Харбин, сыновья идут в армию. Это дело чести. Того требует благочестие. Благочестие, Харбин. Вера и благочестие. Так учит церковь.
— Ты продал меня в армию. И что получил взамен?
— Душевное спокойствие. Чувство выполненного долга. Безопасность, сказал бы я, но тебе этого не понять. Ты даже не слушаешь. Твоя мать одобрила мое решение. Можешь сам спросить. Это была ее идея.
— Господи... — Фашналгид встал и налил себе выпить. Одним глотком прокинул вино в горло. Отец поднялся на ложе и проговорил:
— В обмен я получил обещание.
— Какое же?
— Мне пообещали будущее. Безопасность моего поместья. Харбин, я столько лет был членом совета. Вот почему я согласился направить тебя в армию. Это была большая честь — хорошая карьера, отличная карьера, завидная. Ты должен больше внимания уделять молодому Гардетаранку...
— Ты продал меня, отец, продал, как раба...
Фашналгид зарыдал и бросился вон из дома. Ни разу не оглянувшись, он галопом ускакал из тех мест, где когда-то появился на свет.
А через несколько месяцев батальон Фашналгида был расквартирован в Кориантуре, где под командованием своего врага, майора Гардетаранка, Харбин должен был устроить теплый прием возвращающейся армии Аспераманки.
Уже довольно долгое время, с самого начала летописной истории, Сиборнал существовал гораздо более упорядоченно, чем разрозненные нации Кампаннлата. Северные нации имели каждая свои отличительные особенности, однако сумели сплотиться перед лицом внешней угрозы.
В те века, когда жилось легче, Сиборнал был привилегированным континентом. С самой ранней весны Великого Года Фреир поднимался и больше уже не заходил, позволяя возделывать северные земли довольно рано. Теперь же, когда Великий Год клонился к закату, олигархия стремительно ужесточала свое правление — приготовляя государство к векам тьмы.
И олигархия, и обычные люди понимали, что Зима, единожды сковав все холодом, разрушит общество, как превратившаяся в лед вода разрывает трубу. Тяжелейшие условия — мороз, отсутствие нормального снабжения продовольствием — вполне могли привести к скорому развалу цивилизации. После наступления Мирквира землю быстро, всего за несколько лет, скуют вековые льды и снега, и на несколько местных веков воцарится тьма: такова будет Вейр-Зима, когда в Сиборнале настоящими хозяевами станут полярные ветры.
Под напором Зимы Кампаннлат неминуемо падет. Нации Кампаннлата не умеют и не могут сотрудничать. Практически все население Дикого Континента снова вернется к варварству. Сиборнал, где Зима будет еще более суровой, сможет выжить, введя на своей территории рациональное планирование.
Продолжая искать избавления от душевной муки, Фашналгид обратился к священникам и святым людям. Церковь всегда была и оставалась кладезем знаний. Здесь, в церкви, хранилась тайна выживания Сиборнала, и он узнал ее. Одержимый идеей добровольного изгнания из поместья отца, из лесов и с полей, где сейчас трудились его братья, в ответ он получил откровение, а с ним толчок к возрождению.
Северный континент, почти целиком покрытый полярной шапкой, можно было рассматривать как глыбу льда, окруженную узкой полоской суши, граничащей с морем. В море таилось избавление Сиборнала от зимнего проклятия. В холодной воде содержалось больше кислорода, чем в теплой. Во время зимы жизнь, морская жизнь, будет кипеть по-прежнему. Пищевые цепочки океана без труда отдадут людям свое изобилие — даже тогда, когда льды скуют поля отцовского поместья, те самые поля, от которых сын теперь отвернулся.
Изучение истории совершило переворот в душе Фашналгида. Прежде он привык мыслить в днях и теннерах, но не в десятилетиях и веках. Он умерил пьянство, и теперь проводил со священниками столько же времени, сколько со шлюхами. Его обычным собеседником и духовником стал священник-офицер, еще в Аскитоше прикрепленный к казармам, в которых размещался его батальон. Однажды, на исповеди, Харбин признался священнику в своей ненависти к олигархии.
— Церковь тоже ненавидит олигархию, — спокойно ответил священник. — И тем не менее мы продолжаем трудиться вместе. Церковь и государство нераздельны. Ты испытываешь неприязнь к олигархии потому, что под ее давлением вынужден был отправиться в армию. Но изъяны в твоем характере, источник твоих мук, сделали тебя отщепенцем как в армии, так и в олигархии.
Но нужно отдать должное олигархии: от нее исходит и хорошее. Возблагодари ее за надежную и сочувственную власть. Разве не сказано, что олигархия никогда не спит? Возрадуйся тому, что ее недреманное око устремлено на наш континент.
Фашналгид ничего не ответил. Для того чтобы понять, чем так встревожили и расстроили его ответы священника, ему понадобилось некоторое время. Он решил, что в словах «сочувственная власть» уже кроется противоречие. Он был ускут, и все равно его фактически продали в армейское рабство. А что касается того, что олигархия никогда не дремлет: любой, кто мог обходиться без сна, по определению был нечеловек и потому враг человечеству, как фагоры, например.
Только позже он понял, что, говоря об олигархии, священник использовал те же выражения, в которых мог говорить о боге Азоиаксике. Азоиаксику тоже воздавали хвалу за непрекращающуюся и сочувственную власть. Азоиаксик тоже следил своим недремлющим оком за их материком. И разве не говорилось, что Церковь никогда не спит?
С этого момента Фашналгид перестал уделять столько внимания церкви, еще больше укрепившись в своем мнении: олигархия — чудовище.
Первая гвардия не отправилась в составе карательной экспедиции Аспераманки в Чалц, в Северный Кампаннлат. Спустя несколько недель после ухода Аспераманки пришел приказ отправиться в Кориантуру, для того чтобы укрепить воинскими силами передовые рубежи.
Фашналгид решился спросить у Гардетаранка причину столь поспешного перевода из Аскитоша.
— Участились случаи жирной смерти, — коротко ответил майор. — И нам ни к чему волнения в приграничных городах, не правда ли?
Его ненависть к младшему офицеру была так велика, что, говоря это, Гардетаранк смотрел ему не в глаза, а в бороду.
Свой последний вечер в Аскитоше Фашналгид провел с женщиной, ставшей в последние годы его любимицей. Его подругу звали Ростадал. Она жила всего в нескольких кварталах от казармы.
Фашналгид относился к Ростадал с нежностью и баловал ее. Как и он, она недавно приехала в столицу. Раньше она жила в деревне на севере. У нее ничего не было. Никакой собственности. Никаких политических или религиозных верований. Родственников тоже. И, несмотря на это, она была доброй девушкой и содержала свою маленькую комнатку уютной и опрятной.
Внезапно Фашналгид сел в кровати:
— Мне нужно идти, Ростадал. Принеси мне выпить, если можно.
— В чем дело?
— Просто принеси мне выпить. У меня тяжело на душе. Я не могу оставаться тут.
Не сказав больше ни слова, она выскользнула из постели и принесла ему стакан вина. Он выпил залпом.
Ростадал присела рядом с ним и спросила:
— Скажи, что мучает тебя?
— Не могу. Это слишком ужасно. Мир полон зла.
Фашналгид принялся одеваться.
Ростадал накинула старенький пеньюар, гадая, заплатит капитан или нет. Единственным источником света в комнатке была масляная лампа.
Обувшись, Фашналгид собрал все свои книги, которые хранил тут возле кровати, и положил на стол для девушки несколько сибов. Его взгляд был полон горя. Он видел ее испуганное лицо, но ничем не мог утешить ее.
— Ты еще вернешься, Харбин? — спросила она, обхватив себя за плечи.
Он взглянул на потрескавшийся потолок и покачал головой. И вышел.
Сыпал холодный бесконечный дождь, погружая весь Аскитош во мглу. Но Фашналгид этого не замечал. Он быстро шел по пустынным улицам, стараясь движением и усталостью прогнать тяжелые мысли.
Прошлой ночью по этим же улицам проскакал измученный гонец на обессилившем лойсе. Гонец мчался в главный штаб армии на вершине холма. И хотя о происшествии ничего официально не говорили, в офицерской столовой об этом быстро узнали. Гонец, агент олигархии, доставил донесение, касающееся армии Аспераманки, одержавшей победу над объединенными силами Кампаннлата и освободившей Истуриачу. Как сообщил посланец, Аспераманка готовится с триумфом вернуться в Сиборнал и ожидает встречи, достойной победителя.
Гонец, принесший это известие, спустился со спины лойся и упал ничком на дворцовой площади перед штабом армии. Его вид красноречиво говорил о болезни, которой он страдал, — о жирной смерти. Старший офицер пристрелил гонца на месте.
Через час или два после этого Фашналгиду во сне явилась мать и сказала: «Брат пойдет на брата». Сам себе он приснился подвешенным к крюку.
Через два дня Фашналгида перебросили в Кориантуру.
Выслушав из уст майора Гардетаранка приказ, Фашналгид мигом понял, что замыслила олигархия. Лишь одно могло разрушить схему, которая должна была помочь Сиборналу выжить в грядущую Вейр-Зиму. Опасность исходила не от холода: это была жирная смерть. В безумии, которое несла жирная смерть, брат начинал пожирать брата.
Смерть полуночного гонца предупредила олигархию о том, что возвращающаяся с Дикого Континента армия Аспераманки несет с собой эпидемию жирной смерти. Последовало немедленное рациональное решение: армия не должна вернуться. Первую гвардию, в которой Фашналгид был офицером, отправили в Кориантуру с единственной целью: уничтожить армию Аспераманки, как только та подойдет к границе Сиборнала. Законы, направленные против эпидемии, ограничение числа жителей, введенное в городе и так больно ударившее по Эедапу Мун Одиму, говорили о том, что бойня, когда необходимость в ней наступит, будет вызывать меньше протестов у населения.
Такие страшные мысли бродили в голове Фашналгида, пока он лежал под крышей гостеприимного дома Одима. В отличие от майора Гардетаранка, Фашналгид не любил подниматься рано. Но от видений, проносящихся перед мысленным взором, он не мог бежать в сон. Олигархия, которая ему сейчас грезилась, напоминала паука, который засел где-то во тьме, высасывая силу из поколений людей.
За словами отца о том, что он купил себе будущее, крылся тайный смысл. Отец купил это будущее ценой жизни собственного сына. Отец обеспечил безопасность себе, бывшему члену Совета олигархии, и ему было наплевать, что это произошло за счет других.
— Я знаю, что мне делать, — проговорил Фашналгид, в конце концов выбираясь из постели. Свет уже сочился сквозь маленькое окошко. Он слышал, как вокруг за стенами начинает пробуждаться от сна семья Одима.
— Я знаю, что мне делать, — повторил он, одеваясь.
Когда несколько часов спустя девушка Беси Бесамитикахл вошла в его контору, он мгновенно прочитал в ее позе невольное, неожиданное для нее самой обещание исполнить его волю. В тот же миг он понял, что может использовать Беси и Одима для того, чтобы попытаться разрушить планы олигархии и спасти армию Аспераманки.
Восточные укрепления Кориантуры, спускающиеся на перешеек Чалца, отмечали место, где соединялись континенты Сиборнал и Кампаннлат. Непроходимые земли к югу от укреплений — укреплений, которые не могла преодолеть ни одна армия, направляющаяся к Ускутошку, — были ограничены с запада болотами, которые постепенно спускались к морю, заканчиваясь Костяным Утесом, стоявшим дозором на подступах к степям Чалца.
Харбин Фашналгид и трое нижних чинов спешились и привязали лойсей у Костяного Утеса. У подножия они отыскали пещеру и укрылись от холодного ветра, и Фашналгид приказал одному из своих людей разжечь небольшой костер. Сам он достал из кармана походную фляжку и сделал большой глоток.
Беси Бесамитикахл уже оказала ему некоторые услуги. Она показала ему дорогу через пригороды Кориантуры, где можно было спуститься с холмов. Дорога была укромной, и они сумели миновать все части Первой гвардии, размещенные вдоль укреплений. Так Фашналгид стал по сути дела дезертиром.
Он располагал определенными навыками, способными сбить со следа. Они будут ждать здесь до тех пор, пока в виду не появится армия Аспераманки, движущаяся с юга. Потом он передаст Аспераманке личное послание олигарха.
Они привязали лойсей и заставили их лечь, а сами спрятались за животными, чтобы хоть немного согреться, и стали ждать появления армии. Фашналгид читал сборник любовной поэзии.
Прошло несколько часов. Солдаты начали вполголоса жаловаться друг другу. Туман рассеялся, небо, лишь местами затянутое легкой дымкой, стало голубым. В отдалении послышался стук копыт. С юга приближались всадники.
Костяной Утес был бастионом, устроенным самой природой на стыке высокогорных равнин, изгибом идущих от залива Чалца. Равнины разделялись каньоном, который нельзя было миновать.
Фашналгид спрятал томик стихов в карман и вскочил на ноги.
Он чувствовал — как очень часто в прошлом — странное безволие. Часы ожидания вкупе с печальным слогом стихов ослабили его решимость. И тем не менее он резким голосом отдал своим людям приказ отступить в укрытие, а сам вышел на открытое место. Он ожидал увидеть перед собой авангард армии. Вместо этого появились два всадника.
Всадники медленно приближались. Оба устало поникли в седлах. На обоих армейская форма, лойси наполовину обриты, на военный манер. Фашналгид выкрикнул всадникам приказ остановиться.
Один из всадников спустился с лойся и, с трудом волоча ноги, подошел к капитану. Всадник был очень молод, почти юноша, с серым от пыли и усталости лицом.
— Вы из Ускутошка? — хрипло спросил всадник.
— Да, из Кориантуры. А вы из армии Аспераманки?
— Мы обогнали основные части почти на три дня. А может быть, и больше.
Фашналгид задумался. Если он пропустит всадников, тех наверняка остановят посты майора Гардетаранка и, конечно, заставят рассказать, где сам Фашналгид. Обдумав такую возможность, он сказал себе, что не сможет хладнокровно пристрелить кавалеристов — зачем, ведь у этого малого на рукавах нашивки лейтенанта-энсина. Единственный способ остановить их — честно рассказать об участи, которая уготована им и всей армии, и заручиться их откровенной поддержкой.
Фашналгид сделал шаг к лейтенанту. Парень моментально выхватил револьвер и положил оружие на согнутую левую руку. Взведя курок, лейтенант предупредил:
— Ближе не подходите. С вами тут еще люди.
Фашналгид развел пустые руки в стороны.
— Посмотрите, я безоружен. Не нужно таких строгостей. Я не собираюсь причинить вам вред. Я хочу просто поговорить. Похоже, вам не помешает глоток вина.
— Не сходите с места, — скомандовал парень, не убирая револьвера. — Эй! — окликнул он напарника. — Слезь с лойся и забери у него оружие.
Облизнув внезапно пересохшие губы, Фашналгид с надеждой подумал, что в случае чего его солдаты придут ему на помощь; с другой стороны, он надеялся, что солдаты останутся в укрытии: любое неосторожное движение закончится стрельбой. Он проследил, как спешился второй всадник. Сапоги, штаны, плащ, меховая шапка. Лицо бледное, черты тонкие, бороды нет. Что-то в движениях этого человека подсказало Фашналгиду, знатоку в таких делах, что перед ним женщина. Девушка нерешительно приблизилась.
Когда она подошла достаточно близко, Фашналгид поймал ее за руку и, резко дернув на себя, заслонился. Используя девушку словно щит между собой и ее приятелем, он вытащил из кобуры пистолет.
— Бросай оружие, иначе пристрелю обоих.
Когда его приказ был исполнен, Фашналгид окрикнул своих людей. Солдаты нерешительно вышли из укрытия, с совершенно невоинственным видом осторожно озираясь по сторонам.
Всадник, выронив пистолет, стоял напротив Фашналгида. Фашналгид, продолжая целиться в противника, просунул левую руку под куртку своей пленницы и нащупал грудь.
— Кто же вы такие? — усмехнулся он. Женщина заплакала. — Похоже, ты, парень, любишь ездить со всеми удобствами... да, с такими удобствами ездить неплохо.
— Меня зовут лейтенант Лутерин Шокерандит. Я здесь по срочному заданию верховного олигарха, так что вам лучше пропустить меня.
— Тогда ты влип, парень.
Фашналгид приказал одному из своих людей поднять с земли пистолет Шокерандита, потом повернул женщину к себе и сорвал с нее шапку, чтобы получше разглядеть лицо и ее волосы. В глазах Торес Лахл сверкнул гнев. Капитан потрепал ее по щеке и сказал Шокерандиту:
— Мы не враги. Скорее наоборот. Я здесь, чтобы предупредить тебя. Сейчас я уберу пистолет, и мы пожмем друг другу руки, как подобает мужчинам.
Они так и сделали — осторожно обменялись рукопожатием, оглядывая друг друга. Шокерандит взял за руку Торес Лахл и быстро толкнул ее за себя, молча заслонил собой. Что касается Фашналгида, то от ощущения женской груди в руке у того потеплело на душе; он только-только поздравил себя с тем, как ловко вышел из трудного положения, когда один из его солдат, оставленный на часах, крикнул, что неподалеку появились всадники, движущиеся со стороны Кориантуры.
Цепочка вооруженных всадников уже достигла Костяного Утеса, над их головами в дымке развевались вымпелы. Фашналгид достал из кармана подзорную трубу и оценил ситуацию.
Потом шепотом выругался. Во главе конного отряда продвигался не кто иной, как его начальник, майор Гардетаранк. Первой мыслью Фашналгида было, что Беси выдала его. Но вероятнее всего кто-то из жителей Кориантуры видел, как он выезжал из города, и донес на него властям.
Всадники все еще находились на приличном расстоянии.
Фашналгид не сомневался, какая участь ждет его, если его поймают, но у него еще оставалось время действовать. Его поведение и слова убедили Шокерандита и его женщину, что безопасней будет присоединиться к капитану, чем пытаться бежать — в особенности после того, как Фашналгид предложил им пересесть на свежих лойсей. Приказав своим людям оставаться на местах и передать майору, что с юга, из-за Утеса, приближается большое войсковое соединение, Фашналгид вскочил на своего лойся и пустил его галопом, а вслед за ним поскакали Торес Лахл и Шокерандит. Одного неоседланного лойся Фашналгид взял с собой.
В некотором отдалении полоску земли, идущую вдоль утеса, пересекал боковой проход. Фашналгид пустил неоседланного лойся прямо, а сам вместе с двумя спутниками свернул в проход. Он рассчитал правильно: стук копыт скачущего лойся отвлечет погоню.
Боковой проход постепенно сузился до размеров простой щели в скале. Но, проявив решительность и протиснувшись на своих скакунах вперед, всадники постепенно выбрались на ровное место. Они оказались среди россыпей валунов с редкими чахлыми деревцами и кустарником, пригибаемыми ровным незатихающим ветром, дующим на юг. Откуда-то снизу к ним донесся стук копыт: отряд майора проскакал мимо.
Утерев со лба холодный пот, Фашналгид выбрал среди скал курс на запад. В небе низко висели оба солнца: Фреир как всегда очень низко на юге, Беталикс — над западным горизонтом.
Всадники во весь опор мчались между изъеденных непогодой валунов величиной с дом; кое-где попадались следы давнишних человеческих поселений. В отдалении, где равнина начинала спускаться под уклон, блестело море. Фашналгид остановился и приложился к фляжке. Потом протянул ее Шокерандиту, но тот покачал головой.
— Мне пришлось довериться вам, — сказал он капитану. — Но теперь, когда нам удалось ускользнуть от ваших друзей, можете вы рассказать мне наконец, что у вас на уме? У меня есть задание, как можно скорее доставить послание олигарху.
— А мое задание — не попасться олигарху в руки. Я кое-что скажу тебе, лейтенант: как только ты предстанешь перед ним, тебя немедленно пристрелят.
И Фашналгид рассказал лейтенанту, какой холодный прием ждет армию Аспераманки. Шокерандит покачал головой.
— Олигархия приказала нам идти в Кампаннлат. Если вы решили, что после нашего возвращения солдаты олигарха перебьют нас, героев, всех до единого, то вы точно спятили.
— Если олигарх так мало думает об отдельных личностях, то зачем ему задумываться об армиях?
— Ни один здравомыслящий человек не станет уничтожать свою армию.
Фашналгид махнул рукой.
— Ты моложе меня. У тебя и опыта меньше. Самый большой вред — от человека думающего. Неужели ты считаешь, что живешь в мире, где людьми руководит разум? Что такое рациональность? Разве это не желание верить, что другие будут вести себя так, как нам угодно, или по крайней мере так, как мы себе внушили? Наверное, ты мало пробыл в армии, если полагаешь, будто в голове у всех людей одно и то же. По правде сказать, я полагаю, что мои друзья спятили. Некоторые спятили в армии, некоторые спятили потому, что им всю жизнь приходилось вести себя по-дурацки, некоторые просто из-за врожденной склонности к сумасшествию. Один раз я слышал молитву, которую читал священник-военачальник Аспераманка. Он говорил с такой убежденностью, что я поверил: он хороший человек. Хорошие люди попадаются... Но хочу тебе сказать: большинство офицеров похожи на меня — пробы ставить некуда, такие безумцы.
После столь жаркой речи последовала пауза, потом Шокерандит проговорил:
— Я никогда не доверял Аспераманке, ведь он оставил своих людей умирать.
— Мудрость и безумие легко могут меняться местами, если твой удел страдание, — процитировал Фашналгид и добавил:
— Армия несет в Ускутошк болезнь. Олигархия с радостью избавится от армии, ведь со стороны Кампаннлата теперь некому нападать. Кроме того, Аскитош с радостью избавится от полка из Брибахра...
Словно бы все сказав, Фашналгид повернулся к паре спиной и сделал большой глоток из фляжки. Беталикс опускался к далекому горизонту, и по небу потянулись тучи.
— Что же вы предлагаете делать, если вдруг мы окажемся заперты между двумя армиями? — с неожиданной решительностью спросила Торес Лахл.
Фашналгид махнул рукой в сторону моря.
— Там, всего в одном переходе, нас дожидается лодка а в лодке мой друг. Туда мы и держим путь. Если хотите, можете отправиться со мной. Если вы верите мне, то вам лучше держаться меня.
Капитан не торопясь взобрался в седло, поднял воротник шинели, прикрыл им подбородок, пригладил бородку и кивнул своим новым знакомым на прощание. Потом пришпорил лойся и тронулся с места. Лойсь, понурив голову, зашагал вниз, по каменистому склону в сторону блестевшего поодаль моря.
Но капитан не успел отъехать далеко; Лутерин крикнул вслед удаляющейся фигуре:
— Куда направляется эта ваша лодка?
Шелест кустов под порывами ветра почти заглушил ответ капитана:
— В конечном итоге в Шивенинк...
Маленькая фигурка верхом на лойсе продвигалась по извилистым проходам между валунами к морю; при виде приближающегося мохнатого животного и его седока птицы поднимались в воздух, а небольшие земноводные прятались среди камней. Какие-то твари ныряли в лужи, оставленные недавними дождями. Все, что могло двигаться, разбегалось с пути человека.
Капитан Фашналгид мыслил слишком узко или был слишком занят другими проблемами для того, чтобы спросить себя, почему положение человека остается столь изолированным среди водоворота прочей жизни. И тем не менее именно этот вопрос — или, скорее, неспособность точно понять суть проблемы, заключенной в данном вопросе, — привели к появлению высоко над планетой целого маленького мира, движущегося по орбите, проходящей над полюсами.
Этот мир был искусственного происхождения и именовался Земной станцией наблюдения Аверн. Пролетающий над планетой на высоте 1500 километров, Аверн казался стремительной яркой звездой, которой обитатели планеты дали имя Кайдау.
Две семьи, находящиеся на наблюдательной станции, следили за автоматическим сбором и обработкой информации о жизни внизу, на Гелликонии. Семьи также отвечали за то, чтобы эти данные во всей своей полноте, во всем своем богатстве и путанице, со всеми подробностями отправлялись на планету Земля, за тысячу световых лет. ЗНС была создана именно для этой цели. Для этой же цели родились люди, чьи потомки теперь населяли Аверн. Сейчас лишь несколько земных лет отделяли Аверн от его четырехтысячного дня рождения.
Аверн олицетворял окончательный, осуществленный при помощи самых современных технологий земной цивилизации провал попытки проникнуть в суть вековечной проблемы давнишнего отчуждения между человеком и средой его обитания. Создание Аверна увенчало этот провал. ЗНС представляла собой ни больше ни меньше как пик достижений технической мысли той эпохи, когда человек, пытаясь покорить космос и поработить природу, сам оставался ее рабом.
И по этой причине Аверн умирал.
За тысячелетия своего существования Аверн пережил множество кризисов. Использование технологий на ЗНС пришло в упадок; более того — огромный, диаметром в тысячу метров, корпус станции был по сути самоподдерживающейся системой; крохотные механизмы сновали под его кожухом словно паразиты, заменяя куски обшивки и оборудование в предписанном порядке, как требовалось. Двигались сервомеханизмы стремительно, общались друг с другом при помощи кратких прикосновений асимметричных рук, подобно крабам на неком германиевом пляже, и язык их общения был понятен одному только РАБОЧЕМУ КОМПЬЮТЕРУ, который контролировал общее состояние станции. На протяжении сорока веков сервомеханизмы безотказно выполняли свои обязанности. Крабы не знали усталости.
В продвижении сквозь пространство Аверн сопровождали эскадроны вспомогательных спутников, разлетавшихся от него во все стороны, точно искры от костра. Спутники кружили по многократно пересекающимся орбитам, некоторые были не больше глазного яблока, другие, невероятно сложные по форме и внутреннему оснащению, повторяли программу своего автоматического управления, полностью направленную на сбор информации. Метафорические, вечно ненасытные глаза спутников были открыты для нескончаемых потоков информации. Когда один из спутников выходил из строя или погибал в столкновении с космическим мусором, на смену ему из сервисного люка Аверна выплывал его собрат и занимал место погибшего. Как и крабы, сверкающие спутники доказали, что не знают усталости.
То же самое творилось и внутри Аверна. Под мягкой внутренней пластиковой оболочкой прятался эндоскелет, или, если прибегнуть к более удачному по исполняемым функциям сравнению, нервная система. Эта нервная система спутника была во сто крат сложнее, чем нервная система человека. Нервная система увязывала в единое целое иные неорганические компоненты — аналоги мозга, почек, легких, кишок. Она мало зависела от тела, которому служила. Нервная система решала проблемы, связанные с перегревом, переохлаждением, конденсацией, микроклиматом, отходами, освещением, внутренней связью, моделированием визуальных иллюзий и сотнями других факторов, предназначенных для того, чтобы сделать сносным физическое существование людей внутри круглых стен станции. Подобно крабам и спутникам-глазам, нервная система доказала свою неутомимость.
Зато человеческая раса испытывала утомление. Предназначением каждого в восьми семействах — с течением времени число семей уменьшилось до шести, а после до двух — было достигнуть исполнением своих профессиональных обязанностей единственной конечной цели: передачи посредством информационного радиосообщения как можно большего объема данных о планете Гелликония на далекую Землю.
Цель была слишком экзотична, слишком абстрактна, слишком оторвана от истинного человеческого предназначения, впитанного с молоком матери.
Постепенно семьи пали жертвами неврастении, ибо их чувства утратили связь с реальностью. Земля, этот далекий живой шар, прекратил для них свое существование. Осталась только Ответственность Перед Землей, груз совести, особый якорь духа.
Даже раскинувшаяся под ними планета, этот роскошный и непрестанно меняющийся шар под названием Гелликония, ярко освещенный двумя солнцами и влачащий за собой конический шлейф тени, подобный развевающемуся на ветру плащу, — даже эта Гелликония превратилась в абстракцию. Нога человека не могла ступить на поверхность Гелликонии. Это означало бы неминуемую гибель. При этом очень похожие на землян человекоподобные существа, за которыми сверху велось столь пристальное наблюдение, были защищены от внешних контактов при помощи сложного механизма, использующего вирусы, столь же неутомимого, как механизмы самого Аверна. Защитные вирусы, точнее, так называемый вирус «геллико», был смертелен для обитателей Аверна во все времена года. Среди них находились такие, кто решался ступить на поверхность планеты. Здесь они проводили несколько дней, наслаждаясь реальностью существования. Затем быстро умирали... На Аверне давным-давно одержал победу минимализм пораженчества. Душевное истощение было повальным.
По мере медленного продвижения осени по поверхности планеты внизу — медленного уменьшения Фреира в небе Гелликонии и ее сестер-планет, увеличения расстояния между планетарной системой с 236 астрономических единиц периастра до вселяющих ужас 710 апоастра — молодежь станции наблюдения все больше поддавалась отчаянию, что вылилось в восстание и свержение верховных правителей. Но разве верховные правители станции сами не были ее рабами? Эра аскетизма закончилась. Старики были уничтожены, а с ними — минимализм. На его место пришел эвдемонизм. Земля отвернулась от Аверна? Что ж, отлично, тогда Аверн отвернется от Гелликонии.
На первоначальном этапе хватало слепого поклонения чувственности. Одного того, что удалось разорвать стерильные путы долга, оказалось довольно, чтобы торжествовать победу. Но — и в этом «но» крылась возможная судьба всей человеческой расы — гедонизма оказалось недостаточно. Промискуитет не стал выходом из создавшегося положения, это был такой же тупик, как и воздержание.
На этой грязной почве Аверна взросли чудовищные грубые извращения. Пытки, кровавые убийства, каннибализм, педерастия, педофилия, невероятные формы насилия, содомские совокупления со стариками и детьми стали обычным явлением. Массовые убийства и массовые оргии, содомия, целенаправленное уродование превратились в обычное ежедневное времяпрепровождение. Либидо взяло верх, интеллект пал под его ударами.
Процветало все грязное и запретное. Лаборатории были отданы под производство все новых и новых видов гротескного врожденного уродства. На смену карликам с утрированно-огромными половыми органами пришли гибридные половые органы, способные к самостоятельной жизни. Эти «срамные куклы» передвигались на собственных ногах; более поздние модели оснащались достаточно мощной мускулатурой. Между этими репродуктивными левиафанами устраивались публичные схватки, в исходе которых они одолевали друг друга или овладевали брошенными в их обиталища людьми. Постепенно органы стали более автономными, более приспособленными. Они распространялись по станции, то отступая, то снова нападая, истекая слизью, заглатывая все встречное и неуклонно воспроизводясь. Обе формы, одна — повторяющая приапический гриб, другая — имитирующая лабиринтовую оэцию, проявляли непрерывную активность, их цвета разгорались и тускнели, в зависимости от состояния возбуждения или покоя. На поздних ступенях эволюции эти автономные гениталии достигли невероятных размеров; некоторые развили склонность к насилию и, похожие на огромных разноцветных слизняков, без устали бились о стены своих стеклянных прибежищ, где им приходилось проводить большую часть своего вынужденного существования.
В течение нескольких поколений население Аверна возносило хвалу этим полиморфам, словно то были боги, некогда покинувшие станцию. Но следующие поколения не пожелали терпеть уродов.
Разразилась гражданская война, война между поколениями. Станция стала полем битвы. Мутировавшие органы вырвались на волю. Старая структура семей, установленная с давних времен на основании законов, навязанных Землей, была разрушена. Остались две партии, назвавшиеся Тан и Пин, хотя эти названия имели очень отдаленное отношение к давнишним созвучным именам.
Аверн, технологический рай, храм всего позитивного и передового, что было в человеческом интеллекте, превратился в арену цирка, по которой носились дикари, нападающие друг на друга из засады и раскалывающие череп врага самодельными дубинами.
Глава 5 Несколько новых правил
Местность между Кориантурой и Чалцем покрывала система приподнятых насыпей, похожих на переплетенные вены. Кое-где насыпи пересекались. Пересечения были отмечены грубым подобием ворот, предназначенных преграждать путь домашнему скоту, норовящему вырваться на свободу. Где люди и животные протоптали свои тропы, вершины насыпей были уплощены, склоны покрыты жесткой дикой травой, переходящей в тростник там, где промыли русла ручьи с черной водой. Земля в таких местах хлюпала под ногами пеших и конных. Грузный домашний скот проходил здесь без задержек. Животные останавливались лишь время от времени, чтобы напиться из темных глубоких луж.
Лутерин Шокерандит и его пленница были тут единственными человеческими фигурами на много миль. Их продвижение вперед иногда замедлялось из-за стай птиц, шумно взлетавших по сторонам от путников и после низкого перелета так же внезапно, дружно, опускавшихся крылатым облаком где-то в приглянувшемся месте.
По мере приближения к морю расстояние между мужчиной и его спутницей увеличивалось, а маленькие ручейки, текущие у них под ногами, от близости моря становились солоноватыми. Легкое журчание ручьев составляло приятный аккомпанемент хлюпанью почвы под копытами лойсей.
Остановившись, Шокерандит дождался отставшую Торес Лахл. Лутерин хотел накричать на женщину, но что-то остановило его.
Он был уверен, что странный капитан Фашналгид солгал по поводу приема, который ожидал армию Аспераманки на подступах к Кориантуре. Поверить Фашналгиду означало усомниться в системе, которой Лутерин верил и в которой жил. Но в то же время убежденность, с какой говорил капитан, заставила Шокерандита задуматься и насторожиться. Шокерандиту было поручено доставить донесение Аспераманки в Кориантуру, где располагался штаб армии. В том числе в его обязанности входило избегать всяческих ловушек. Самым разумным в сложившейся ситуации было притвориться, будто он поверил Фашналгиду, и скрыться из Чалца на лодке.
Над насыпями сгущались сумерки. Фигура Фашналгида исчезла. Шокерандит не мог развить такую скорость, какую хотел бы. Его лойсь шел по вершине насыпи, и казалось, что каждый шаг животного вязнет в раскисшей почве.
— Держись ближе ко мне! — крикнул он Торес Лахл. Собственный голос громом отозвался в ушах Шокерандита. Он дернул поводья и снова направил лойся вперед.
Мелкий дождь, который раньше грозил перерасти в обычный ускутошский обложной, как это называлось, прекратился. Дождевую пелену ветер унес на запад, к морю, оставив насыпи в рассеянном свете пары закатных солнц. Кому-то эта картина могла показаться печальной; но даже в этих заброшенных местах такая погода благотворно влияла на существование видов, которые сражались за господство на Гелликонии: расы анципиталов и расы людей.
В приливных прудах по обе стороны от насыпей отлично прижились морские водоросли. Водоросли были подобны ламинариям и накапливали в своих узких и длинных коричневых полосках йод из морской воды. Альга испаряла свои химические компоненты в виде йодистых соединений, в основном йодистый метил. Йодистый метил снова разлагался в атмосферном воздухе, выделяя йод, и ветер разносил это полезное вещество по всем уголкам планетарного шара.
Двурогие и люди не могли существовать без йода. Щитовидные железы, регулирующие метаболизм при помощи йодсодержащих гормонов, активно поглощали йод из воздуха.
В это время Великого Года, после рубежа Семи Затмений, часть этих гормонов внезапно решила, что человеческая раса должна стать чуть более подверженной воздействию вируса «геллико», чем прежде.
Словно угодив в лабиринт, его думы блуждали кругами, повторяя один и тот же маршрут. Он вновь и вновь вспоминал свою знаменитую вылазку в Истуриаче — но без прежней гордости. Его товарищи восхищались его храбростью; каждая выпущенная им пуля, каждый удар мечом, который он наносил врагу, теперь покрылись позолотой легенды, сросшейся с его именем. И все равно он вздрагивал от ужаса, припоминая, что совершил и, хуже того — восторг, который при этом испытывал.
И эта женщина. Во время их одинокого путешествия на север он обладал Торес Лахл. Пока он занимался своим делом, она покорно терпела. Он все равно наслаждался ощущением женской плоти и своей властью над ней. Иной раз он смутно вспоминал о своей далекой нареченной, Инсил Эсикананзи, дожидающейся его в Харнабхаре. Что она подумает о нем, возлежащем с чужестранкой из самого сердца Дикого Континента?
Эти думы возвращались к нему разрозненными и бесформенными стайками вперемежку с головной болью. Внезапно он вспомнил, как однажды в детстве столкнулся с матерью. Он бездумно вбежал в ее покои. Там стояла смутная фигура, почти не покидающая своих покоев (и реже прежнего — со времени смерти Фавина). Горничная помогала матери одеться, а та смотрела на себя в туманное серебряное зеркало, где отражались скопления бутылочек с духами и притираниями, напоминающие шпили и купола далекого города.
Мать повернулась к Лутерину, но не двинулась навстречу, вообще не шелохнулась, не сказала — насколько он помнил — ни слова. Матери помогали облачиться в парадную одежду по случаю какого-то торжественного приема. Одежда матери, расшитая картами Гелликонии, несла извечное напоминание о Колесе, которое придавало ей торжественную значимость. Страны и острова были вышиты серебром, моря выделены яркой лазурью. Волосы матери, еще не убранные, лежали темной массой, водопадом, который стекал с Северного полюса к Верхнему Никтрихку и даже дальше. Одежды застегивались сзади. Лутерин заметил, как стоит мать и как служанка склонилась перед ней, чтобы застегнуть пуговицы там, где город Олдорандо и Дикий Континент обозначали женские интимные места. Потом его всегда мучил стыд оттого, что он увидел такое.
Жесткая трава на вершине насыпи, напоминавшая растительность на теле, странным образом приблизилась к его лицу. Он видел, как мелкие амфибии разбегаются в трещины, опушенные травой-волосом, слышал, как журчит вода, видел как пестрые маргаритки гибнут под копытами лойся, словно мгновенно увядающие осенью. Вселенная устремилась ему навстречу. Он покачнулся и соскользнул с седла.
В последний миг ему удалось выпрямиться и не упасть, стать на обе ноги. При этом он испытал незнакомое ощущение.
— Что с тобой? — тревожно спросила Торес Лахл, подъехав ближе.
Шокерандит почувствовал, что ему трудно повернуть голову, чтобы взглянуть на нее. Шапка сползла на глаза. Почувствовав недоверие к женщине, он потянулся к пистолету, потом вспомнил, что пистолет висит на седле. Он покачнулся и уткнулся лицом в мокрый мех на крупе лойся. Потом опустился на землю и почувствовал, как съезжает по насыпи вниз.
Странная неподвижность сковала его тело. Его желания и возможности совершенно разошлись. Он услышал, как Торес Лахл спустилась с лойся и, хлюпая по грязи, подошла туда, где он лежал, раскинув руки.
Он ощутил ее пальцы на своем теле, услышал ее голос, внимательный, тревожный, взывающий к нему. Торес помогла ему подняться. Ломило каждую косточку. Он хотел вскрикнуть, но не смог издать ни звука. Кости раскалывались от боли, тело кричало, боль пробиралась в голову. Его тело корчилось в судорогах. Он увидел, как небо по краям заходится вихрями.
— Ты болен, — сказала Торес Лахл. Она не могла заставить себя произнести страшное название болезни.
Девушка отпустила Лутерина, и тот снова упал на мокрую траву. Торес стояла, глядя на безлюдные насыпи и далекие голые холмы, откуда они пришли. Там, в южной части неба, все еще колыхались занавеси дождя. Маленькие крабы стремительно спасались в ручейках у ее ног.
Она могла убежать. Ее пленитель недвижно лежал у ее ног, беспомощный, и она могла застрелить его. Обратная дорога в Кампаннлат таила смертельные опасности, к тому же с юга, откуда-то из степей, приближалась армия. На севере, всего в нескольких милях отсюда, находилась Кориантура; укрепление, отмечающее подступы к городу, смутно выделялось на горизонте. Но это была территория врага. Вокруг темнело.
Торес Лахл в нерешительности прошлась. Потом вернулась к распростертой фигуре Лутерина Шокерандита.
— Давай посмотрим, что можно сделать, — проговорила она.
Ей с трудом удалось посадить его обратно в седло. Потом она забралась ему за спину и, ткнув лойся пятками в бока, пустила животное шагом. Второй лойсь тоже послушно двинулся вперед, то быстрее, то медленнее, но без задержек, явно предпочитая общество хозяев ночному одиночеству в пустошах.
Взволнованная и встревоженная, Торес то и дело понукала лойся, чтобы тот не сбавлял ход. В быстро сгущающихся сумерках она наконец заметила впереди Фашналгида, чья фигура верхом на лойсе выделялась на фоне далекого моря. Взяв револьвер Шокерандита, она выстрелила в воздух. С окрестных пустошей поднялись птицы и стаями разлетелись в стороны.
Еще через полчаса мрак ночи — или его сводный полубрат — укрыл землю, хотя кое-где в озерках и лужах отражался юго-западный горизонт, за который только что скрылся Фреир. Фашналгида больше не было видно.
Она пришпорила лойся, придерживая Шокерандита и прижимая его к себе.
По обеим сторонам от насыпи поднималась вода. Со всех сторон слышался нарастающий шум, и Торес Лахл поняла: начинается прилив. Она никогда прежде не видела моря и теперь боялась его. Почти в полной темноте она выехала к небольшому мысу, но не сразу поняла это. Впереди у берега стояла лодка — небольшой баркас.
Мелкое море плескалось с алчным хлюпаньем. Чешуйчатая трава и осока издавали призрачный шорох. Небольшая волна мерно била в борта суденышка. Нигде не было видно ни души.
Торес Лахл спустилась с лойся и стащила наземь Шокерандита. Медленно и осторожно она подошла к краю мыса, где стоял на привязи баркас.
— Эй, ни с места! Ближе не подходить!
Торес Лахл охнула, потому что крик исходил словно у нее из-под ног. Из расселины выскочил мужчина и направил ей в голову пистолет.
Учуяв в его дыхании алкоголь и разглядев роскошные усы, она немедленно с облегчением узнала капитана Фашналгида. Капитан тоже усмехнулся, узнав ее и Шокерандита, но не выразил ни удовольствия, ни досады по поводу того, что жизнь полна утомительных происшествий, с каждым из которых приходится иметь дело.
— Зачем ты увязалась за мной? Решила притащить за собой Гардетаранка?
— Шокерандит болен. Вы можете мне помочь?
Фашналгид повернулся и крикнул кому-то в лодке:
— Беси! Выходи. Опасности нет.
Беси Бесамитикахл, кутаясь в меха, выбралась из каюты, где пряталась, и вышла вперед. Ранее она почти без выражения выслушала план Фашналгида касательно того, как он отведет удар олигархии, нацеленный на армию Аспераманки, — при том, что капитан вложил в свою речь немало драматизма. Он отправится навстречу священнику-военачальнику тайными тропами и окольным путем, потом они вместе с Аспераманкой прискачут к лодке, где Беси останется их дожидаться. Лодку им выделил от своих щедрот Эедап Мун Одим. Беси не должна подвести своего хозяина. На карту поставлены жизнь и честь.
Она пересказала план Одиму, который выслушал его с видимым удовольствием. Как только Фашналгид впутается в незаконное предприятие, он тут же окажется в руках Одима. Вышло так, что в распоряжении Одима имелся баркас с лодочником в роли команды, и Беси вполне могла пересечь залив и забрать знаменитого священника.
Но и за то недолгое время, которого потребовала организация этого маленького предприятия, законы олигархии успели поймать в свои силки население города.
День за днем, улица за улицей Кориантура оказывалась в тисках военного положения. Наблюдая это, Одим молчал, волнуясь за многочисленных родственников и строя собственные планы.
Беси помогла Торес Лахл перенести бесчувственного Шокерандита на баркас.
— Зачем нам эти двое? — спросила она, с раздражением глядя на больного. — Для чего нам брать их с собой? Наверное, он заразный.
— Нельзя бросить его здесь, — ответил Фашналгид.
— Ты хочешь сказать, что лойсей мы тоже должны забрать?
Не обратив внимания на замечание Беси, капитан кивнул лодочнику, чтобы тот отчаливал. Лойси остались на берегу молчаливо наблюдать за отплывающей лодкой. Один подался было вперед, но поскользнулся в грязи и отступил. Лойси так и стояли на берегу, даже когда маленькая лодка исчезла в тумане, уйдя в сторону Кориантуры.
На воде тянуло холодом. Лодочник сидел у руля, остальные прятались от ветра в каюте, затянув брезент на дверях. Торес Лахл не была склонна болтать, но Беси упорно продолжала расспрашивать.
— Откуда ты родом? Судя по говору, ты не из этих мест. Этот мужчина твой муж?
Торес Лахл неохотно призналась, что она рабыня Шокерандита.
— Что ж, теперь у тебя появилась отличная возможность освободиться от рабства, — весело сказала Беси. — Такие возможности выпадают не часто. Например, если твой хозяин умрет.
— Возможно, в Кориантуре мне удастся найти корабль, купить на нем место и вернуться в Кампаннлат — после того как лейтенант Шокерандит поправится, конечно. Ты сможешь мне помочь?
— Дамы, — подал голос капитан Фашналгид, — в Кориантуре у нас будет достаточно неприятностей и без того, чтобы помогать беглым рабыням. Вы красивая женщина — уверен, что вам удастся вытянуть счастливый билет.
Не обратив внимания на последнее замечание, Торес Лахл спросила:
— Какие неприятности вы имеете в виду?
— Эх... все под Богом ходим, под олигархом, точнее под майором Гардетаранком — они решают за нас, — ответил Фашналгид. Вытащив из кармана флягу, он щедро угостился содержащимся в ней напитком.
Немного подумав, он протянул фляжку женщинам.
Из дальнего угла каюты раздался голос Шокерандита, отчетливо проговорившего:
— Я не хочу пройти еще раз через это...
Торес Лахл положила руку на его пылающий лоб.
— Мой дорогой лейтенант, очень скоро вы обнаружите, что наша жизнь — это непрекращающийся спектакль.
Население Сиборнала составляло лишь сорок процентов от населения соседнего Кампаннлата. Тем не менее связь между отдаленными столицами северного континента была налажена не в пример лучше, чем в Кампаннлате. Пути были отличные, за исключением разве что таких отсталых районов, как Кай-Джувек — по причине того, что некоторая (существенная) часть населения была отделена от моря, служащего путями сообщения, большими пространствами суши. Управлять таким континентом было не слишком сложно, в особенности при наличии сильной воли, исходящей из самого сильного города, Аскитоша.
Глядя на план Аскитоша, можно было заметить, что его улицы образуют концентрические полуокружности, в центре которых, над морем, высилась огромная островерхая церковь. Огонь на острие церковного шпиля был виден с моря за много миль от берега и из любой точки побережья. У дальней границы полуокружности, в миле с лишним от берега, вздымался Ледяной Холм, на гранитной вершине которого стоял замок, где обитала сильнейшая воля Аскитоша и всего Сиборнала.
Эта Воля следила за тем, чтобы все дороги на континенте были загружены транспортом — военным или транспортом, готовящим военное продвижение, иными словами — почтовым. Почтальоны в небольших форменных шлемах один за другим появлялись в городах, объявляя о все новых ужесточениях. Часто объявления на доставленных почтальонами плакатах имели вид заботы о населении: например, указ «О предотвращении распространения жирной смерти», или «Об ограничении голодающих и жаждущих», или «Об аресте опасных элементов». Источником наибольшей общей досады, источником возмущения, было «Ограничение прав личности».
Те, кто трудился во славу олигархии, предполагали, что за всеми этими волеизъявлениями, вершащими судьбами северного континента, стоит верховный олигарх Торкерканзлаг II. Никто и никогда не видел Торкерканзлага. Торкерканзлаг, если только он вообще существовал, скрывался в череде залов Замка на Ледяном Холме. И последние указы скорее всего были писаны единолично тем неизвестным, кто, презрев собственную свободу, заточил себя в залах без окон.
Высшие же чины часто сомневались, что верховный олигарх существует, справедливо полагая, что этот титул — лишь пустой звук, подозревая, что правление осуществляют палаты Совета олигархии.
Ситуация складывалась совершенно парадоксальная. Центр власти составляла плеяда окружения Азоиаксика Первого, ядро церкви. Торкерканзлага трактовали как имя, которое применялось на выборной основе, и скорее всего не к единственному лицу.
В народе гуляли также и obiter dicta, предположительно слетевшие с уст — или, по мнению некоторых, прокарканные клювом — самого олигарха:
«Можно вести дискуссии в совете. Но следует помнить, что мир вокруг — не палата совета. Более всего мир напоминает камеру пыток».
«Не стоит бояться, что вас назовут злым. Таков удел любого правителя. Людям не нужно ничего, кроме зла, — это можно понять, прислушавшись к разговорам на любом углу».
«Там, где возможно, используйте предательство. Предательство обходится дешевле любой армии».
«Церковь и государство — брат и сестра. Однажды нам придется решить, кто из них унаследует семейное состояние».
Вот какие мудрые изречения, пройдя сквозь пищеварительный аппарат Внутренней палаты, становились достоянием гласности.
Что касается Внутренней палаты, то можно было ожидать, что ее члены лучше всего знакомы с проявлениями Воли. Но ничего подобного. Члены Внутренней палаты — сейчас они присутствовали на собрании, куда явились в масках, — в общем и целом были еще хуже осведомлены об источнике Воли, чем обычные необразованные горожане с мокрых от вечных дождей улиц у подножия холма, и так близки к верховной Воле, что предпочитали отгораживаться от нее при помощи притворства. Их маски были всего лишь барьерами, выставленными их неискренностью; власть имущие настолько мало доверяли друг другу, что выработали такую манеру поведения относительно проявлений олигархии, которая надежно скрывала правду, — точно так же, как насекомые-хищники маскировались под нечто невинное, с тем чтобы приманить и одурачить добычу, а неядовитые разновидности старались сбить с толку охочих до них хищников.
Случилось так, что член совета из Брайджта, столицы Брибахра, знал истину о верховной Воле. Он вполне мог рассказать приятелям правду, мог отстаивать полуправду или тем или иным образом, в зависимости от того, что больше его теперь устраивало, лгать о существе вопроса.
Посему в случае советника из Брайджта трудно было оценивать степень притворства: прикрываясь столь афишируемым, навязанным континентальным союзом, подкрепленным многочисленными мрачными мирными актами, Ускутошк вел войну с Брибахром, и войска из Ускутошка осаждали Раттагон (насколько возможна была осада этого острова посреди суши).
Более того, прочие члены совета опирались на «правду» советника из Брайджта, согласно тайным симпатиям, которые питали к нему, поборнику политики своей страны, решившейся бросить вызов главенству Ускутошка. Но ни на что другое они не были способны. Даже их искренность подразумевала интригу.
Никто не мог быть уверен, что понимает, каково положение дел. Но они были совершенно спокойны и уверены, так как знали, что их собратья — члены совета — введены в заблуждение в той же степени.
Так и вышло, что в самом сильном городе на планете крылся источник наибольшей растерянности и смущения. В этой-то растерянности население города встречало грядущую критическую смену времен года.
Сейчас члены совета обсуждали последний эдикт, спущенный к ним для утверждения неведомой им Волей олигарха. Данный закон запрещал практиковать паук. Этот закон был наиболее вызывающим за последнее время. Паук противоречил церковным канонам.
В случае, если закон появится, его доведут до каждого шлемоносца на континенте с целью неукоснительного исполнения нового запрета. Поскольку все члены совета почитали себя образованными людьми, они вели обсуждение в форме ленивой дискуссии. Их губы медленно шевелились под масками.
— Этот эдикт ставит под сомнение самое нашу природу, — заявил советник из города Футира, столицы Кай-Джувека. — Сейчас мы ведем речь о традициях. А традиции неприкосновенны. Но что, если традиции не столь уж неприкосновенны? С другой стороны, у нас есть незыблемость Церкви, истинная основа единства Сиборнала, и бог Азоиаксик — ее краеугольный камень. Тут же мы имеем практику паука, не признанную церковью, практику, благодаря которой живая душа может входить в транс и общаться с душами умерших родственников. Эти умершие, насколько нам известно, находятся в постоянном движении вниз, к Всеобщей Прародительнице, к нашей общей праматери. На одной чаше весов — наша религия, чистая, интеллектуальная, научная; на другой — туманный принцип матриархата.
Теперь следует готовиться к худшим временам, к царству вечного холода. Для этого нам всем следует внутренне восстать против принципов матриархата и искоренить их среди населения. Следует нанести сокрушительный удар по отсталому культу материнства, Всеобщей Прародительницы. Мы обязаны воспретить паук. Я уверен, что за новым, последним и самым мудрым, указом Воли кроются самые чистые намерения, забота об обществе.
Таким образом, я могу заявить одно...
Почти все члены совета были людьми преклонного возраста, привыкшими к своим летам и упорствующими в желании быть стариками. Собрание происходило в старинной зале, где все предметы, будь то железо или дерево, были за минувшие века отполированы поколениями рабов до тусклого глянца. Железный стол, за которым сидели члены совета, голый пол под их защищенными обувью ногами, вычурные кресла, в которых они сидели, — все блестело. Полированные мозаичные панели на стенах разнообразно отражали собрание. Заключенный в решетки, горел огонь; из-за прутьев пробивалось больше дыма, чем света. Очаг не давал особенного тепла, и члены совета кутались в пледы, подобно актерам в старинной постановке. Лишь одно хоть сколько-то скрашивало аскетизм комнаты — большой гобелен на одной из стен. Вышитое на алом фоне колесо влекли по небесному океану гребцы в бледно-голубых одеждах; все они улыбались, глядя на поразительно высокую фигуру матери, из ноздрей, рта и грудей которой в небеса исторгались звезды. Старинная драпировка придавала комнате торжественный вид.
Пока один из товарищей держал речь, остальные члены совета либо потягивали пелламонтейновый чай, либо рассматривали свои ногти, либо глядели на волю, в узкие высокие окна, где виднелся Аскитош, словно разделенный на узкие вертикальные полоски.
— Некоторые утверждают, что предание о Всеобщей Прародительнице есть поэтическое выражение души, — заявил член совета из отдаленной провинции Каркампан. — Однако до сих пор не установлено, существует ли понятие души. Если душа существует, то может быть и так, что душа — не побоюсь избитой фразы — не хозяйка в своем дому. Возможно, наши души есть нечто существующее независимо от нас. Возможно, это часть самой Гелликонии, поскольку каждый атом в нас есть часть Гелликонии. В таком случае вполне может существовать опасность нарушить свою связь с Прародительницей. Именно на это я хочу обратить внимание уважаемых членов совета.
— Кроется ли в этом опасность или нет, но люди должны подчиняться воле олигарха, иначе Вейр-Зима уничтожит их. Следует исцелиться от своих душ. Только повиновение проведет нас через три с половиной века льдов и холода...
Это резкое замечание донеслось с противоположной стороны стола, где смешивались свет и тени.
Вид Аскитоша был нарисован единственным тоном — сепией. Город укрыл так называемый «иловый туман», плотное зыбкое покрывало сухого прохладного воздуха, спустившегося с горных плато вокруг города. К туману примешивался дым, поднимающийся из тысяч труб, ибо ускуты желали обитать в тепле. Город утопал во мраке, отчасти порожденном им самим.
— С другой стороны, общение с предками в пауке во многом способствует укреплению души, — проговорил один седобородый. — В особенности в годину несчастий. Хочу заметить, что я уверен, что многие из нас хоть раз находили утешение в общении с духами.
Член совета из Идживибира, из порта Лорая, ворчливо заметил:
— Как бы ни было, но почему наши ученые так и не смогли открыть, отчего души и останки, ныне настроенные так по-дружески к нашим душам, иногда проявляют — а древние трактаты упоминают и такие случаи — враждебность? Возможно, тут тоже наблюдаются сезонные изменения... что вы об этом думаете? Духи дружелюбны летом и зимой и враждебно настроены весной?
— Этот вопрос будет снят, и духи и останки будут предоставлены самим себе и останутся во власти своего настроения, нас не касающегося, если мы решим утвердить и обнародовать рассматриваемый ныне нами эдикт, — заметил член совета из Футира.
Сквозь узкие окна видны были печатные листки, в которые, не успевало пройти и пары дней после принятия нового указа верховного олигарха Торкерканзлага II, обращались установленные им законы. Вскоре листовки, тысячами выходящие с печатных станков, аккуратными буквами объявят о Запрете Занятия Пауком, будь то Единолично или в Обществе Других Людей. Данный запрет преподносили как новую меру в борьбе с Надвигающейся Эпидемией. Наказанием за нарушение закона был штраф в сотню сибов, за повторное нарушение — пожизненное заключение.
Внутри Аскитоша устроили паровую железную дорогу; повозки следовали со скоростью десять — двенадцать миль в час. Источник ужасного дымового загрязнения, эти повозки были эффективны, и дорога вышла за черту города. Повозки вывозили бесчисленные пачки листовок в перевалочные пункты на окраине, а также в гавань, откуда корабли развозили волю олигарха по всем сторонам света.
Вскоре несколько таких пачек прибыло и в Кориантуру. Расклейщики торопливо помчались по городу, донося до всех и каждого суть нового закона. Одну из листовок приклеили на стену дома, где вот уже два столетия проживало семейство Эедап Мун Одима.
Но в тот час дом был уже пуст, покинут всеми, вплоть до мышей и крыс. Совсем недавно входная дверь захлопнулась в последний раз.
Эедап Мун Одим вышел из родового гнезда своей обычной немного скованной походкой. Ему было чем гордиться: на его лице не было и тени снедавшей его горести.
В это особое утро Одим двинулся к побережью океана Климента кружным путем, по улице Рангобандриаскош и через Южный Двор. Его раб Гагрим шел за ним следом, с вещами.
С каждым шагом Одим все отчетливее понимал, что ступает по улицам Кориантуры в последний раз. За долгие минувшие годы из-за своих кай-джувекских корней он думал о Кориантуре как о приюте беженца; только теперь он почувствовал, в какой степени Кориантура стала его домом. К отъезду он приготовился наилучшим образом; по счастью, у него осталась пара друзей-ускутов, приятели-купцы, кто помог ему.
Улица Рангобандриаскош ответвлялась влево и вверх. Одим остановился на перекрестке и немного постоял против церковного двора, глядя назад вдоль улицы. Вдали остался его старый дом, суженный книзу, облепленный деревянными балконами, похожими на гнезда экзотических птиц, с длинными загнутыми скатами крыши, почти соприкасающейся с крышей напротив. Но внутри уже не было многочисленного семейства Одимов: только свет, тени, пустота и старомодные фрески на стенах, представляющие картинки жизни — такой, какой она когда-то была в Кай-Джувеке. Одим упрятал бороду поглубже в воротник пальто и быстро зашагал дальше.
Теперь он шел через квартал мелких ремесленников: серебряных дел мастеров, часовщиков, переплетчиков, художников всех мастей. На одной стороне улицы — маленький театр, где давали всевозможные представления, которых не могли допустить в театрах в центре города: пьесы, посвященные магии и наукам, фантазии, играющие с возможным и невозможным (что по большей части представлялось похожим), трагедии о разбитых чайных чашках, комедии о кровавых войнах с бесчисленными жертвами. И сатиры. Иронию и сатиру — вот что верховные правители не могли ни понять, ни стерпеть. Поэтому театрик часто закрывали. Театр был закрыт и теперь, и улица без живописных афиш казалась невыносимо скучной и безликой.
В Южном Дворе жил старый художник, который писал декорации для спектаклей и расписывал фарфор для заводика, чьей продукцией торговал Одим. Джесерабхай был уже стар, но до сей поры сохранил твердую руку и уверенно расписывал тарелки и соусники; а главное, его талант приносил прибыль семье Одима. Одим высоко ценил знакомство со старым художником, несмотря на его острый язык, и теперь решил сделать ему прощальный подарок.
Дверь Одиму открыл фагор. В Южном Дворе было много фагоров. Как правило, ускуты подчеркнуто презирали анципиталов, но люди искусства находили извращенное удовольствие в соседстве фагоров, с любопытством подмечая оригинальную способность тех внезапно впадать в полную неподвижность, так же внезапно переходящую в движение. Сам Одим не переносил густой млечный дух фагоров, поэтому побыстрее проскользнул в дом и сразу направился в покои Джесерабхая.
Тот сидел на диване, завернувшись в старый кидрант, и грел ноги у железной жаровни. Рядом лежал альбом с картинами. Художник медленно поднялся со своего ложа, чтобы приветствовать Одима, и предложил ему присесть на обитый истертым бархатом стул напротив. Гагрим с багажом в руках остался стоять у него за спиной.
Выслушав новости, художник мрачно покачал головой.
— Что ж, нет сомнений — для Кориантуры наступают скверные времена. Вот уж чего я не ожидал. Мне жаль, Одим, что дело обернулось так плохо и вас вынудили уехать. Что касается меня, то я всегда считал вас истинным жителем Кориантуры, вас и всю вашу семью.
Одим остался недвижим. Потом медленно, машинально, даже не подумав, произнес:
— Да, здесь моя родина... ваши слова поразили меня. Я родился здесь, всего в миле отсюда, а до того здесь родился мой отец. Это мой дом, так же как и ваш, Джесси.
— Но я думал, что вы из Кай-Джувека?
— Да, когда-то моя семья приехала из Кай-Джувека, и я горжусь этим. Но я также и сиборналец, и житель Кориантуры, и то и другое вместе.
— Тогда почему вы уезжаете? Что вы затеяли? Только не нужно обижаться. Успокойтесь. Выпейте чаю. Может быть, вероник?
Одим разгладил бородку.
— Новый закон — из-за него я не могу остаться. У меня большая семья, я должен сделать все для того, чтобы заработать им на жизнь.
— Да, да, конечно, это ваша обязанность, я понимаю. Ведь у вас большая семья, очень большая, не правда ли? Мне самому это незнакомо. Я никогда не был женат. У меня нет родственников. Я всегда жил только своим искусством. И всегда был сам себе хозяин.
Прищурясь, Одим проговорил:
— У нас в Кай-Джувеке семьи обычно большие. Но мы не дикари... вы понимаете, о чем я?
— Дорогой друг, сегодня вы ужасно обидчивы. Я и не думал вас оскорблять. Живите и давайте жить другим. Куда вы направляетесь?
— Я бы предпочел не говорить об этом. Новости распространяются быстро, шепот живо превращается в крик.
Художник усмехнулся.
— Наверное, вернетесь в Кай-Джувек?
— Поскольку я никогда в жизни не бывал в Кай-Джувеке, я не могу вернуться туда.
— Кто-то рассказывал мне, что в вашем доме много кай-джувекских фресок. Говорят, среди них есть весьма ценные.
— Да, фрески старые, и письмо тонкое. Это работа неизвестного художника, который так и не сделал себе имя. Но дом больше не принадлежит мне. Мне пришлось продать его, запереть на ключ и отдать ключ новым хозяевам.
— Ну что ж... надеюсь, вы получили хорошие деньги?
Одиму пришлось продать дом за жалкие гроши, но он сумел выдавить:
— Сносные.
— Чувствую, мне будет вас не хватать, хотя привязываться к людям не в моих привычках, ведь я не особенно люблю человеческое общение. Я и в театре больше не бываю. В этом месяце ветер стал особенно холодным и пробирает до костей.
— Джесси, двадцать пять лет, возможно плюс-минус теннер, я наслаждался нашей дружбой. Я очень ценю и ваш талант, вашу работу; наверное, я недостаточно вам платил. Конечно, я всего лишь купец, но я умею ценить искусство. Никто во всем Сиборнале не умеет так изящно изобразить на фарфоре птиц. Мне хотелось бы вручить вам прощальный подарок, нечто слишком хрупкое, чтобы брать с собой в дорогу, но вам, несомненно, оно понравится. Я мог бы продать эту вещицу на аукционе, но считаю, что лучше найти нового достойного хозяина.
Джесерабхай поднялся и сел, всем видом выражая ожидание. Одим жестом приказал рабу приблизиться и открыть сумку. Гагрим вынул из сумки некий предмет и передал его Одиму. Приняв предмет из рук раба, Одим продемонстрировал его художнику.
Это были часы размером с гусиное яйцо. Внешний циферблат был поделен на двадцать пять отрезков-часов, внутри круг был по традиции разбит на сорок минут. Однако каждый час во время боя — а механизм был устроен так, что бой вызывался в любое время нажатием кнопки — часы поворачивались так, что на мгновение появлялся другой, внутренний циферблат. На внутреннем циферблате также имелись две стрелки: большая показывала неделю, теннер и время малого года, а внутренняя отмечала сезон Великого Года.
Циферблат был покрыт эмалью, корпус яйца изготовлен из золота. Сверху и снизу часы охватывала фигура из жадеита, изящная фигурка Всеобщей Прародительницы, сидящей на берегу моря, представляющем основание часов. По одну сторону от Прародительницы росла пшеница, по другую вздымался ледник. Завершающей поразительной деталью этой картины были крохотные ноготки на пальцах ног Прародительницы, выглядывающих из сандалий.
Протянув морщинистую руку, Джесерабхай взял часы и долго молча рассматривал их. По его щеке скатилась слеза.
— Эта вещица воистину прекрасна, иначе не скажешь. Работа поразительная. Но я не понимаю, где это сделано, в какой провинции? Такие часы делают в Кай-Джувеке?
Одим немедленно вспыхнул:
— Мы дикари, однако великолепные мастера и ремесленники. Разве вы не знали, что мы живем в овчарнях вместе со скотом и всю жизнь только и делаем, что убиваем соседей, при этом как-то умудряясь создавать великолепные произведения искусства? Разве вы, гордые ускуты, не так о нас думаете?
— Я не хотел обидеть вас, Одим.
— Да, эти часы из Футира, столицы нашего государства, если вы этого не знали. Примите их в подарок. Для того, чтобы нет-нет да и вспомнить меня хотя бы на минуту.
Высказавшись, Одим отвернулся к окну и некоторое время смотрел наружу. Напротив взвод под командой развязного офицера обыскивал дом. На глазах у Одима двое солдат вывели из дома какого-то мужчину. Человек шел, опустив голову, словно стыдясь появляться на улице в такой компании.
— Мне очень жаль, что вам приходится уезжать, Одим, — повторил художник.
— Зло в этом мире вырвалось на свободу. Я уезжаю не по своей воле.
— Я не верю в зло. Возможно, произошла ошибка. Но это не зло.
— Просто вы боитесь признать существование зла. Зло существует с первого дня сотворения человека. Оно присутствует в этой самой комнате. Прощайте, Джесси.
Одим повернулся и быстро вышел, пока старый художник, держа в руке часы-яйцо, пытался подняться с пыльного дивана.
Прежде чем выйти на улицу из дома Джесерабхая, Одим осторожно осмотрелся. Солдаты ушли, забрав с собой своего пленника. Одим быстро вышел во двор, стараясь побыстрее забыть переживания, вызванные встречей с художником. С ускутами нелегко иметь дело, он всегда это знал. Какое облегчение поскорее уехать от них.
Все приготовления к отъезду закончились. Все было сделано законным путем, хотя и с большой поспешностью. Два дня назад Беси Бесамитикахл забрала на лодке капитана Фашналгида, и Одим занялся приведением в порядок своих дел. Он продал дом недружелюбно настроенному дальнему родичу, а свое дело — друзьям-купцам, и с помощью Фашналгида купил корабль. Скоро он встретится со своим братом из далекого Шивенинка. Будет приятно снова повидать Одирина; теперь, когда оба уже не столь молоды, как когда-то, будет славно, если они сумеют помочь друг другу...
«Борьба — вот облик истинной надежды», — говорил себе Одим, выпрямляя спину и ускоряя шаг. Не сдаваться. Жить будет легче, несмотря на приближающуюся зиму. Нужно перестать думать только о деньгах. Из головы не шли ненавистные и могущественные сибы. Перемена места пойдет ему на пользу. В Шивенинке, под началом и при помощи Одирина, он, Одим, станет работать поменьше. Он станет художником, как Джесерабхай. Возможно, он тоже прославится.
Утешая себя приятными, согревающими душу мыслями, Одим свернул на набережную. Цепь его размышлений прервалась при виде медленно прокатившего мимо парового орудия. Орудие направлялось на восток. Судя по слухам, где-то неподалеку вскоре должно было грянуть большое сражение: еще одна причина как можно скорее покинуть город. Орудие было таким тяжелым, что его колеса сотрясали мощенную булыжником улицу. Двигатель орудия, мерно вращающий шатуны, плевался дымом и паром. Рядом с машиной, радостно вопя, бежали мальчишки.
Паровое орудие добралось вместе с Одимом до побережья океана Климента, и всю дорогу тяжелый орудийный ствол указывал в этом главном направлении. С явным облегчением Одим свернул к ЭКСПОРТУ ТОНКОГО ФАРФОРА ОДИМА. Гагрим торопливо следовал за ним, шаг в шаг.
В демонстрационном зале и на складе царил беспорядок, в основном потому, что почти никто тут больше не работал. Наемные рабочие и рабы с удовольствием использовали возможность отлынивать от работы. Многие толпились возле двери, глазея на проезжающее орудие. По тому, как неохотно расступались работники, было видно, что их уважение к бывшему хозяину уже поослабло.
«Да все равно, — сказал себе Одим. — Мы отплываем с полуденным приливом, а эти люди могут теперь делать все, что им заблагорассудится».
Пришел слуга и доложил, что новый владелец наверху и хотел бы повидать Одима. В душе Одима мгновенно родилась тревога. Странно, что новый хозяин уже явился в контору: официально передача прав должна была состояться в полночь, согласно условиям контракта. Но Одим решил, что волноваться понапрасну не стоит, и решительно поднялся по ступенькам. Следом шел Гагрим.
Приемный зал представлял собой элегантную галерею окнами на гавань. На стенах висели гобелены и серия миниатюр, принадлежавших еще деду Одима. На полированных столиках были расставлены образцы фарфоровой продукции. Сюда приводили самых важных клиентов, и здесь совершались самые важные сделки компании.
Но этим утром в галерее стоял только один важный посетитель, и, судя по его форме, дело, ради которого он сюда явился, было далеко не самым приятным. Повернувшись к окнам спиной, набычившись, сжав губы и вытянув их гузкой в сторону Эедапа Мун Одима, стоял майор Гардетаранк. Позади майора стояла бледная как полотно Беси Бесамитикахл.
— Входите, — сказал майор. — Закройте дверь.
Одим так резко остановился на пороге, что шедший следом за ним Гагрим ткнулся ему в спину. Майор Гардетаранк был облачен в свою непроницаемую длиннополую шинель из грубого сукна, с большими пуговицами, похожими на глаза фламберга или на металлических часовых, с оттопыренными карманами, похожими на пару коробов. Вид у шинели был такой, словно она продолжала верой и правдой служить хозяину даже тогда, когда он вешал ее в шкаф. Однако теперь Гардетаранк явно находился при исполнении и внимательно проследил поверх пуговиц-часовых за тем, как Одим послушно закрыл за собой дверь.
Но больше всего испугал Одима не майор, а то, что позади него стояла Беси. Одного взгляда на бледное лицо девушки было достаточно, чтобы понять: у нее выпытали все их тайны. В его голове в мгновение ока пронеслась череда секретов, содержавшихся в этом ненадежном хранилище: Харбин Фашналгид, официально объявленный дезертиром; лейтенант неприятельской армии, сейчас страдающий болезнью, имя которой — жирная смерть; девушка из Борлдорана, рабыня, ухаживающая за лейтенантом. Одим знал: то, что для него — обычный гуманизм, в глазах Гардетаранка — список чудовищных злодеяний.
В хрупком теле Одима вскипел гнев, подавляя страх. Одим всем сердцем ненавидел этого мерзкого, холодного как лед офицера с того самого момента, как впервые увидел его в своей конторе, раздувшегося от пресыщения властью. Это существо ни в коем случае не должно было нарушить планы Одима, направленные на спасение семьи, родственников и случайных попутчиков, на их вызволение.
Кивнув в сторону Беси, Гардетаранк проговорил:
— Эта рабыня сказала, что вы скрываете у себя преступника, дезертира, бывшего капитана по имени Фашналгид.
— Он подстерег меня здесь. Он заставил меня... — подала голос Беси. Вскинув руку в перчатке, также украшенной рядом пуговиц, Гардетаранк незамедлительно ударил Беси по лицу.
— Вы прячете в своем жилище дезертира, — повторил майор, делая шаг к Одиму, но при этом не сводя глаз с девушки, которая прижалась спиной к стене, зажав рукой рот.
Достав из своего кармана-короба пистолет, Гардетаранк наставил его Одиму в живот.
— Ты арестован, Одим, иноземная грязь. И сейчас отведешь меня туда, где спрятал Фашналгида.
Одим сгреб бороду в кулак. Майор ударил Беси, и это зрелище вселило в него страх своей внезапностью и грубостью, но и укрепило его решительность. Он спокойно взглянул в глаза майору.
— Я не понимаю, о ком вы говорите.
На свет явились редко посаженные желтые зубы в обрамлении губ, которые немедленно сжались, вновь скрывая их. Это был личный патентованный способ майора улыбаться.
— Ты прекрасно знаешь, о ком я. Он уже заходил к тебе. Он отправился в сторону Чалца с твоей женщиной и, несомненно, при твоем содействии. Его следует арестовать как дезертира. На верфи видели, как Фашналгид заходил сюда. Или ты сейчас сам отведешь меня к нему, или я отведу тебя в штаб, и там тебя как следует допросят.
Одим сделал шаг назад.
— Я отведу вас к нему.
Дверь в дальнем конце галереи вела в задние помещения конторы. Гардетаранк, шагая за Одимом, оттолкнул с дороги кофейный столик. Изящный чайник тончайшего фарфора упал на пол и разбился вдребезги.
Одим не моргнул глазом. Он жестом приказал Гагриму идти вперед.
— Отопри эту дверь.
— Твой слуга останется здесь, — заявил Гардетаранк.
— Днем все ключи находятся у него.
Ключи лежали у Гагрима в кармане, пристегнутые к его ремню цепочкой. Трясущимися руками он отомкнул дверь и пропустил обоих мужчин вперед.
Они оказались в коридоре, ведущем к задним комнатам. Одим шел впереди. Они прошли до конца коридора и свернули налево, где через четыре ступеньки оказались перед железной дверью. Одим велел рабу открыть дверь. Для этой двери имелся особый большой ключ.
Выйдя за дверь, они сразу оказались на балконе, нависающем над обширным двором. Большую часть двора занимали повозки и пара старомодных печей для обжига. Печами последнее время почти не пользовались. Однако сегодня одну из них разожгли ради того, чтобы выполнить срочный заказ местного гарнизона: для солдат не требовался особенно тонкий фарфор. Обычно большую часть фарфора Одиму поставляли небольшие, но высококлассные компании, расположенные в других частях Кориантуры. Вокруг печи стояли четыре фагора, поддерживая жаркий огонь. Печь была старая, с плохой изоляцией, и дым и жар из печи плыли по всему двору.
— Ну и что? — спросил Гардетаранк: Одим замедлил шаг.
— Он вон там, на чердаке, — Одим указал на другую сторону двора. От балкона, на котором они стояли, на чердак вел узкий подвесной мостик, проходящий вдоль стен двора. Мостик был почти таким же старым, как и печь внизу; единственные перила, перепачканные сажей от дымящих внизу печей, дышали на ладан.
Одим осторожно двинулся по мостику. На середине пути, почти над клубами поднимающегося снизу дыма, он остановился, придерживаясь одной рукой за перила.
— Что-то мне нехорошо... лучше я вернусь, — сказал он, обернувшись к майору. — Гляньте-ка в печь.
Эедап Мун Одим никогда не был склонен к насилию. Всю свою жизнь он ненавидел грубую силу. Даже чужая злоба или раздражение вызывали в нем отвращение — тем более собственная злость. Всю жизнь он приучал себя к вежливости и покорности, следуя примеру родителей. Но теперь он отринул всякое воспитание. Сцепив руки в замок, он широким взмахом очертил в воздухе дугу, и в тот миг, когда Гардетаранк взглянул вниз, кулаки Одима врезались майору в затылок.
— Гагрим! — крикнул Одим.
Но раб не двинулся с места.
Гардетаранк пошатнулся, ухватился за перила и попытался выдернуть из кармана пистолет. Одим пнул его сапогом в колено и сильно толкнул в грудь. Казалось, офицер-ускут вдвое превосходит его габаритами — особенно впечатляла длиннополая шинель, кажущаяся непроницаемой.
Одим услышал треск перил, хлопок револьверного выстрела, почувствовал, что Гардетаранк ухнул вниз, и тотчас упал на колени, чтобы и самому не сорваться.
С ужасным криком Гардетаранк полетел вниз.
Одим видел, как майор падает, размахивая руками, как мельница крыльями, разинув по-звериному рот. Падать было не высоко. Майор врезался в середину двухкамерной печи, той самой, где обжигали фарфор для казарм. Крыша печи была сложена на живую из кирпичей и булыжников. По ней мгновенно побежали трещины, в которых заревело красное. Потом жар рванул вверх, и Одим упал на мостик плашмя, чтобы не обгореть.
Пронзительно крича, майор попытался подняться на ноги. Его длиннополая шинель уже тлела, словно старое шерстяное одеяло. Нога майора угодила в одну из трещин, разверзшихся в потолке печи. Потом крыша провалилась. Огонь рванулся вверх, словно расплескавшаяся жидкость. Температура в печи превышала тысячу сто градусов. Начиная проваливаться в печь, Гардетаранк уже горел.
Майор погиб. Одим не знал, сколько еще пролежал на мостике. Беси с разинутым в беззвучном крике ртом пробралась к нему по мостику и помогла ему вернуться на галерею. Гагрим в страхе бежал.
Беси обняла Одима и вытерла ему лицо своим платком. Внезапно Одим понял, что раз за разом повторяет одно и то же:
— Я убил человека.
— Ты всех нас спас, — возразила ему она. — Ты очень храбрый, мой дорогой. Теперь мы должны бежать на корабль и отплыть под всеми парусами, пока тут не узнали, что случилось.
— Я убил человека, Беси.
— Скажем лучше, что он оступился и упал, Эедап.
Пухлыми губами Беси сочно чмокнула купца в щеку и заплакала. Одим обнял ее так, как никогда не обнимал прежде при свете дня, и Беси почувствовала, как дрожит его хрупкое, но крепкое тело.
Так завершилась хорошо упорядоченная часть жизни Эедапа Мун Одима. Отныне существование превратилось в цепочку импровизаций. Как когда-то его отец, он пытался управлять своим миром, составляя аккуратные бухгалтерские отчеты, уравновешивая прибыль и убытки, никого не обманывая, оставаясь ко всем дружелюбным, стараясь соответствовать требованиям большого мира во всем, в чем только возможно. Но от одного прикосновения чужеродной силы его система рассыпалась. Все пропало.
Поддерживая Одима под руки, Беси Бесамитикахл помогла ему добраться до пристани, где дожидался корабль. Вместе с ними к кораблю пришли двое других, чьи жизни также подвергались смертельной опасности.
Капитан Харбин Фашналгид увидел свое лицо, грубо намалеванное красной краской и развешанное по всему городу, — увидел, как только ступил на берег вместе с Беси, проплыв по бухте двадцать миль от узкого заливчика в диких землях. Портреты дезертира, только что отпечатанные в местной типографии, подчинявшейся теперь местному гарнизону, еще блестели от клея, при помощи которого их лепили на стены. Для Фашналгида корабль Одима был великолепным способом унести ноги из Ускутошка, оставаясь рядом с Беси. Фашналгид решил, что если он собрался изменить свою жизнь, то в первую очередь ему нужна смелая и верная женщина, которая могла бы позаботиться о нем. Он решительно ступил на палубу в надежде избавиться от армии и ее призраков.
Вслед за ним на корабль взошла Торес Лахл, вдова знаменитого Бандала Эйт Лахла, недавно павшего в битве. Со дня гибели мужа жизнь Торес Лахл, плененной Лутерином Шокерандитом, стала такой же совершенно неопределенной, как жизнь Одима и Фашналгида. Она оказалась в чужеземном порту, на корабле, который готов был вот-вот уйти в другой чужеземный порт. Ее пленитель лежал в каюте этого корабля в агонии жирной смерти. Торес Лахл вполне могла бежать от своего хозяина; но она не знала ни одного безопасного способа, который позволил бы ей, женщине из Олдорандо, пройти земли Сиборнала. И она осталась на корабле ухаживать за Шокерандитом, надеясь заслужить его благодарность, если ему удастся выжить.
Этой болезни она боялась гораздо меньше других. У себя на родине, в Олдорандо, она работала врачом. Мир, вызывающий в ней страх и любопытство, был связан с названием Харнабхар, родиной Шокерандита, мир, порождающий легенды и романтические переживания, отголоски которых доходили до Борлдорана.
Покупая корабль, Одим заключал сделки через посредников, друзей-горожан, которые знали нужных людей в Гильдии священников-мореходов. Все деньги, вырученные от продажи дома и торговли фарфором, ушли на покупку «Нового сезона». Теперь корабль стоял у пристани на побережье океана Климента, двухмачтовый бриг водоизмещением в 639 тонн, с прямым парусным снаряжением на обеих мачтах. Судно было построено двадцать лет назад на верфях Аскитоша.
Погрузка завершилась. В трюмах «Нового сезона», помимо того имущества, которое Одиму удалось быстро прибрать к рукам, очутилось небольшое стадо арангов, несколько сервизов тонкого фарфора со склада Одима и больной, носитель смертельной болезни, а также рабыня, которая за ним ухаживала.
От смотрителя, своего старого приятеля, который за годы торговли Одима регулярно получал от него плату за поставки грузов, Одиму удалось получить разрешение на выход из гавани. Капитана корабля удалось уговорить до предела сократить церемонии, рекомендованные хиромантами и астрологами для будущего благоприятного плавания. Отмечая отплытие корабля из Сиборнальской гавани, выстрелила пушка.
Собравшиеся на палубе спели короткий гимн богу Азоиаксику. С попутным ветром и отливом корабль устремился от берега, и широкая полоса воды быстро пролегла между кормой и пристанью, побережьем океана Климента. «Новый сезон» начал свое плавание к далекому Шивенинку.
Глава 6 G4PBX/4582–4–3
На Аверне, звезде Кайдау, летящей по небу Гелликонии, наступила пора неизменного и однообразного варварства. Эедап Мун Одим по праву гордился мастерством, вложенным в гравировку часов из Кай-Джувека, тех самых, которые он подарил Джесерабхаю; Кай-Джувек, тесное сообщество, породило необычайное мастерство. А варварство, господствующее на Аверне, не сумело произвести на свет ничего, кроме размозженных черепов, кровавых стычек, племенных танцев и обезьяньего веселья. Многие поколения, служившие цивилизации Аверна, часто высказывали желание отвергнуть доктрину минимализма и избавиться от безысходности, навязанной долгом служения Земле. Некоторые предпочитали смерть на поверхности Гелликонии проведению в жизнь сухого порядка Аверна. Эти погибшие тоже наверняка сказали бы, если бы их догадались спросить, что также предпочли бы варварство цивилизации.
Но скука варварства оказалась невыносимей оков цивилизации. Пины и Таны быстро устали от непрекращающихся потерь, страха и ограничений. Окруженные во многих отношениях самопрограммирующимися машинами, эти дикари по сравнению с племенами Кампаннлата, загнанными на полоску земли между морем и джунглями, были оснащены не в пример лучше. Варварство подняло на поверхность страхи и сковало воображение.
Больше прочих пострадали отсеки станции, где обитали люди и бурлила деятельность, где помещались кафе и рестораны и фабрики переработки белков, снабжавшие рестораны. Поля злаковых на внутренней стороне сферического корпуса превратились в поля сражений. Человек охотился за человеком, чтобы насытиться. Огромные самоходные срамные куклы, эти чудовищные гениталии, созданные из подвергнутого мутациям генетического материала, также были выслежены и съедены.
Автоматические станции собирали и передавали на внутренние экраны изображения живого мира на поверхности планеты, продолжая изменять погоду внутри станции, чтобы люди не отвыкли от этого великого стимула.
Выжившие племена были не в состоянии поддерживать старые порядки и связь с Землей. Получаемые ими изображения царей, воинов, охотников, ученых, купцов, рабов ни с чем не соотносились и воспринимались как образы пришельцев из другого мира, дьяволов или богов. Теперь эти образы вызывали в сумеречных душах рассеянных наблюдателей лишь изумление.
Повстанцы Аверна — вначале жалкая горстка отщепенцев — выпустили из бутылки великую свободу, такую, о которой сами никогда не мечтали. Они причалили к берегам меланхолического существования. Закон живота взял верх над законом разума.
Но сам Аверн имел первейшую обязанность, превыше забот о своих обитателях, — передавать накопленный сигнал, этот груз информации, на планету Земля, отделенную от него тысячей световых лет. За богатые множеством событий тысячелетия существования станции наблюдения этот сигнал никогда не прерывался.
Согласно изначальным планам технократической элиты, ответственной за грандиозную схему этого межгалактического исследования, сигнал был информационной артерией, обратной связью с Землей. Эта артерия никогда не пересыхала, даже в ту пору, когда обитатели Аверна опустились до состояния почти первобытной дикости.
Эта артерия никогда не пересыхала, но где-то впереди жила оказалась перерезанной. Земля не всегда откликалась.
На Хароне, далеком форпосте Солнечной системы, помещался приемный комплекс, устроенный на холодной метановой поверхности спутника. На этой станции, где андроиды обслуживания представляли единственное присутствие разумной жизни, сигнал, полученный с Гелликонии, анализировали, классифицировали, архивировали, а потом по частям передавали к внутренним планетам Солнечной системы. Обратный процесс был гораздо менее сложным и по большей части состоял из отсылки простейших сигналов, приказывающих Аверну уделить больше внимания тому или иному участку Гелликонии. Сводки новостей давным-давно прекратили отсылать на Аверн — с тех пор, как кто-то отметил полную абсурдность передачи на Аверн новостей тысячелетней давности. Аверн не знал — да и не хотел знать — ничего о последних событиях на Земле.
Они же были следующими: многочисленные нации Земли провели большую часть двадцать первого столетия, увязнув в серии невразумительных конфликтов: Восток сражался с Западом, Север угрожал Югу, Первый мир помогал Третьему миру и обманывал его. Рост численности населения, сокращение природных ресурсов, незатихающие локальные конфликты медленно превращали поверхность земного шара в нечто вроде кучи щебня. В середине века доминировала концепция нации-террориста; то было время, когда был разрушен древний город, Рим. Тем не менее, вопреки самым мрачным ожиданиям, Апокалипсис — ядерная война — так и не случился, и вот по какой причине: сверхдержавы маскировали свои действия, манипулируя малыми народами, а исследование ближнего космоса до некоторой степени служило чем-то вроде аварийного клапана для выпуска агрессивных эмоций.
Люди двадцать первого века говорили о своем времени как об эпохе меланхолии, несмотря на экспоненциальный рост развития электронных технологий и самопрограммирующихся систем. Люди сделали так, что каждый участок, где произрастала или откармливалась пища, был помещен под электронный контроль или физически патрулировался. Люди ощущали строгую и постоянно повышающуюся дисциплину и размеренность своей жизни. Структура, базовая система цивилизации, была строго установлена. Несмотря на навязанные самой себе путы, система мира продолжала развиваться.
Многие одаренные личности превратили век в бриллиантовый, по крайней мере так казалось при взгляде в прошлое. Мужчины и женщины, появляющиеся ниоткуда, из народа, зарабатывали огромную славу своим даром. Их таланты противостояли непримиримому окружению и приносили утешение. Когда умер Дерек Эрик Абсалом, по слухам, рыдал весь земной шар. В утешение остались лишь его прекрасные песни-импровизации.
Вначале только две земные нации могли вступить в спор за владение Солнечной системой. Потом число их увеличилось до четырех и остановилось на пяти. Стоимость межпланетных перелетов была очень высока. Никто иной не мог вести эту игру, даже в век, когда технологии превратились в религию. Но в отличие от религии — надежды беднейших — технологии были надеждой богатых.
Восторг межзвездных исследований оказывал обратное воздействие на перенаселенную Землю. Многие превозносили интеллект. Многие отстаивали честь своей группы. Проекты всегда представлялись с великой помпой и величайшей серьезностью. Огромные затраты, огромные расстояния, огромный престиж — все это соединялось для того, чтобы потрясенные налогоплательщики могли спокойно вернуться в свои убогие жилища на окраинах мегаполисов.
В этот период активных звездных исследований (с 2090-го по 3200 год) автоматические звездолеты время от времени отправлялись на разведку. Эти корабли несли на борту, в памяти компьютеров, своеобразных колонистов, способных пронизывать вакуум до бесконечности, до тех пор пока не будет открыт новый обитаемый мир.
Первую планету вне Солнечной системы, куда ступила нога человека, назвали совершенно неизобретательно: Новая Земля. Это было одно из пары небесных тел, лишенных спутников, обращающихся возле альфы Центавра С. «Аравийская пустыня и та более живописна», — сказал комментатор о разворачивающихся перед зрителями бескрайних однообразных просторах Новой Земли.
Планета почти целиком состояла из песков и малой толики гор. Единственный океан покрывал не более пятнадцати процентов площади поверхности планеты. На Новой Земле не нашли никакой жизни, кроме ненормально огромных червей и разновидности водорослей, которые росли у побережий соленого океана. Воздух, хотя и пригодный для дыхания, содержал устрашающе малое количество водяных паров; горло пересыхало через несколько минут дыхания. На Новой Земле никогда не было дождей, ее иссушенная поверхность не знала влаги. О том, что здесь может существовать биосфера, не приходилось даже мечтать.
Прошли века.
На Новой Земле были основаны база и центр отдыха. Исследовательские корабли двинулись дальше. Постепенно разведка покрыла сферу диаметром в две тысячи световых лет. Эта зона, хоть и невероятно огромная с точки зрения народов, недавно научившихся объезжать лошадей, была ничтожна по сравнению с просторами галактики. Было открыто и исследовано огромное количество планет. Ни на одной планете жизни не нашли. Дополнительные минеральные ресурсы для Земли, но только не жизнь. В мрачных, насыщенных миазмами недрах газовых гигантов были обнаружены шевелящиеся извивающиеся существа, которые поднимались и опускались по спирали. Эти существа даже замечали погружающиеся к ним разведывательные аппараты и собирались вокруг. В течение шестидесяти лет люди пытались наладить контакт с ними — но безуспешно. В это самое время на Земле в загрязненном промышленными отбросами океане был уничтожен последний кит.
На одной из вновь открытых планет была основана база и начались геологические исследования. Произошел несчастный случай — на родину о нем не сообщили. Огромная планета Уилкинс погибла; ядерные реакторы, перерабатывающие атмосферу, превращающие водород в железо и тяжелые металлы, вышли из-под контроля, и планета раскололась. Энергия высвободилась, как и было запланировано — но гораздо быстрее, чем предполагалось. Губительное гамма-излучение убило все живое, вовлеченное в проект. На Ороголаке вспыхнула война между двумя соперничающими базами, и эта быстротечная ядерная война превратила планету в ледяную пустыню.
Но были и успешные проекты. Даже Новая Земля считалась успешным проектом. Достаточно успешным для того, чтобы построить там курорт на берегу насыщенного минеральными солями моря. На двадцати девяти планетах были образованы небольшие колонии, и некоторые из этих колоний процветали в течение нескольких поколений.
Кое-где в колониях родились интересные легенды, пополнившие и без того богатый земной фольклор, но ни одна из легенд не была достаточно сложной или длинной для того, чтобы породить собственную культуру, способную существовать отдельно от родительского мира.
Поколение землян-первопроходцев пало жертвой множества неизвестных болезней и психических расстройств. Как ни странно, но мало кто задумывался о том, что земное население — кладезь всевозможных хворей; огромная доля людей различных этнических групп в то время была далека от физического здоровья и совершенства — по необъяснимым причинам. Синдром Неизлечимой Неизвестной Болезни (СННБ) наконец-то обнаружили, но лекарство от него не было найдено. СННБ развивался и прогрессировал в условиях невесомости.
Первоначальную неизвестность сменила невозможность излечения. Нервная система рушилась, в памяти выстраивались картинки воображаемой истории жизни, явь смешивалась с галлюцинациями, мышцы атрофировались, пищеварительная система прекращала функционировать. Космический недуг стал повседневным явлением. Незримый, но устрашающий враг подкрался к космическим путешественникам.
Несмотря на неудобства и разрушенные иллюзии, завоевание галактического пространства продолжалось. Недальновидные погибали, но прови?дение все равно приходило, — прови?дение того, что знание, вопреки всем опасностям, все равно важнее всего остального; а высшее знание лежало в понимании жизни и ее связи с вселенной неорганической материи. Без этого понимания знание было бесполезно.
Совместный китайско-американский флот исследовал пылевое облако в созвездии Орфея в семи тысячах световых лет от Земли. В этой части космоса находились гигантские молекулярные кластеры, районы неизотропной гравитации, сдвоенные сросшиеся планеты и прочие аномалии. Внутри пелены несформировавшейся материи происходило образование звезд.
Астрофизический спутник, управляемый компьютерным мозгом, выделил спектрографические данные нетипичной двойной системы в трех сотнях световых лет от туманности Ориона; при этом в состав системы входила по меньшей мере одна планета с условиями, близкими к земным.
Странное сосуществование старой желтой звезды типа G4, движущейся вокруг общей оси с белым сверхгигантом возрастом не более одиннадцати миллионов лет, уже привлекало внимание космологов китайско-американского флота. Новый спектральный анализ подтолкнул их к продолжению исследований.
Планету, предположительно земного типа, отдаленной двойной звездной системы занесли в каталог под номером G4PBX/4582–4–3. Антенны флота послали сигнал — в далекое странствие через пылевые облака к Земле.
В утробе флагманского корабля, кружащего у окраин пылевого облака Орфея, содержался автоматический корабль-колонизатор. Корабль-колонизатор был запрограммирован и отправлен к G4PBX/4582–4–3. Был год 3145.
Корабль-колонизатор достиг системы Фреир-Беталикс в 3600 году и сразу же приступил к выполнению задачи, на которую был запрограммирован, а именно к строительству станции наблюдения.
Планета G4PBX/4582–4–3 оказалась именно тем, о чем только и можно было мечтать! Настоящая жизнь, но такая, какую трудно было представить даже самому живому воображению!
Новая станция вышла на связь с далекой родиной, и из анализа посланных сигналов стало ясно, что эта найденная планета очень напоминает Землю. На новой планете не просто кипела многообразная жизнь, подобная земной, что отличало ее от всех ранее открытых планет, — более того, здесь имелись различные разновидности полуразумной и разумной жизни. Бок о бок с человекоподобным разумным видом жили и другие похожие существа, а также весьма отличающийся от человека, но тоже разумный вид двурогих, напоминающих минотавров в грубой мохнатой шкуре.
Сигналы станции наблюдения наконец достигли Харона на окраине Солнечной системы, откуда андроиды, обработав и подготовив данные, отправили их дальше, на Землю, всего за пять световых лет.
В середине пятого тысячелетия Земная Новейшая Эпоха медленно клонилась к упадку. Эпоха сознательного восприятия ушла в прошлое. У власти стояла горстка тех, кто достиг своего положения благодаря личным способностям (меритократов), при ком галактические исследования превратились в далекую абстракцию, очередное бремя, навязанное бюрократией. Но открытие G4PBX/4582–4–3 изменило положение вещей. Некогда загадочный объект в системе трех сестринских планет, новая планета обрела вид, расцвела красками, обрела свое лицо. Новая планета превратилась в Гелликонию — мир, породивший жизнь, хоть и отгороженный от Земли безмерной завесой тьмы.
Солнца Гелликонии приобрели символический смысл. Мистики отметили, насколько похоже соседство Фреира и Беталикса на разделение человеческой психики, подмеченное в азиатских легендах много веков назад:
На персиковой ветви всегда сидят две птицы:
Одна клюет плоды, другая смотрит.
Одна из птиц — это твое Я, желающее отведать дары мира;
Другая — это Я Вселенной, взирающее недоуменно.
С каким восторгом и вниманием рассматривались первые изображения гелликонцев и фагоров, борющихся с невзгодами скованного снегами и льдом мира! Нежданная благодарность судьбе наполнила человеческие сердца. Наконец-то соткалась нить, связующая с другой разумной жизнью. К тому времени как Аверн был построен и выведен на орбиту Гелликонии, к тому времени как началось заселение станции наблюдения людьми, порожденными искусственной маткой на борту корабля-колонизатора, та область космоса, которая была сферой внеземной активности человека, начала постепенно сужаться. Населенные планеты Солнечной системы шли к централизованному правлению, впоследствии развившемуся в Межпланетную ассамблею, МПА; планеты поглощало преодоление собственных проблем и невзгод. Отдаленные колонии, брошенные на произвол судьбы, должны были отныне сами решать свои проблемы на почти необитаемых планетах, подобно многочисленным Робинзонам Крузо на необитаемых островах.
Земля и ближайшие к ней спутники Солнца превратились к тому времени в хранилища бесценной, но и бесполезной информации. Данные и материалы продолжали поступать на Землю, но обработкой их уже никто не занимался, поэтому новое знание в чистом виде не вырабатывалось. Межнациональная враждебность, сохранившаяся с эпохи племенных общин, подкрепленная страхом, жадностью и похотью, снова возобладала. Уменьшение интереса к Вселенной и стягивание сферы полетов обратно к Земле привели к нагнетанию внутренней враждебности.
В 4901 году н.э. все правление Земли было сосредоточено в руках одной группы, МПА. Правовая система была забыта во славу повышения прибылей и снижения убытков. Прямо или косвенно МПА владела всеми зданиями, всеми службами во всех сферах услуг, всеми отраслями промышленности и каждой человеческой душой на планете — даже теми, кто пытался сопротивляться МПА. Капитализм достиг полного расцвета. Капитализм знал теперь, как взимать свой процент с каждого вдоха, с каждой порции кислорода, поступающей в человеческие легкие. Владельцам акций платили углекислым газом.
На Марсе, Венере, Меркурии и лунах Юпитера человечество существовало в более свободных условиях — настолько свободно, чтобы выделить внутри общества собственные враждующие национальные группировки и вести саморазрушительную работу изнутри. При этом население колонизированных планет Солнца считалось гражданами второго сорта. Все было сковано — и эти оковы играли немаловажную роль в жизни — необходимостью платить налог МПА.
В 4901 году это бремя стало совершенно невыносимым, и в том же 4901 году один из государственных мужей Земли оговорился, применив к населению Марса старинный умаляющий достоинство термин «иммигранты». В результате в 4901 году между планетами Солнца развязалась ядерная война — Война над Миром, как ее называли.
И хотя записей об этом периоде, предшествующем апокалипсису, сохранилось немного, известно, что человечество считало себя слишком цивилизованным для того, чтобы начать подобную бойню. Но страх перед тем, что найдутся безумцы, которые рискнут первыми нажать кнопку, оставался. В результате кнопку нажал именно тот, кто и должен был это сделать, то есть ответственный за безопасность и обороноспособность мира: его приказ запустил последовательность хорошо отрепетированных команд. Страх перед полным уничтожением мира никогда не оставлял людей. Ядерное оружие, однажды изобретенное, нельзя было забыть или обратно разизобрести. В результате по закону энантиодромии страх превратился в желание, ракеты были выпущены по целям и люди сгорели как свечи, а города и человеческие жилища погибли в горниле невообразимых взрывов.
Это была война со всем миром планет, как и предсказывали. Марс замолк навеки. Другие планеты нанесли ответные удары, хотя лишь малой долей своего ядерного потенциала (после чего тоже подверглись уничтожению). До поверхности Земли долетело не более двенадцати ракет с боеголовками в 10 000 мегатонн. Но и этого оказалось достаточно.
Огромное облако поднялось над столицей Ла Коса. Пыль, слагающаяся из сажи, частиц взорванных зданий, золы человеческих тел, останков растений и минералов, достигла стратосферы. Огненный ураган прокатился по странам и континентам. Леса, поля и горы — все испепелило дыхание огня. Когда первые пожары погасли, когда большая часть выброшенных веществ осела на Землю, пыль осталась витать.
Пылевые облака означали смерть. Пыль покрыла все северное полушарие. Солнечный свет больше не достигал поверхности Земли. Фотосинтез, основа жизни в растительном и животном мире, отныне не мог продолжаться. Все замерзло. Растения погибли. Погибли деревья. Даже трава погибла. Уцелевшие быстро обнаружили, что очутились посреди ландшафтов, более всего напоминающих пейзажи Гренландии. Температура на поверхности Земли очень быстро упала до минус тридцати градусов. Наступила ядерная зима.
Но океаны не замерзли. Однако холод и загрязнение верхних слоев атмосферы, подобно ядовитому покрывалу, отравили и южное полушарие, и северное. Мороз сковал и благодатные земли экватора. Тьма и холод овладели Землей. Казалось, случилось последнее созидательное действие, которое смогли осилить земляне.
Гелликония тоже знала длинные зимы, но эти зимы были природным явлением: не смертью, но сном, от которого планета медленно, но верно пробуждалась. Ядерная зима не обещала никакой весны.
Мерзостные последствия войны соединились с зимой иного рода. На холмы падал снег, который уже не могло растопить никакое так называемое лето; новой зимой снег выпадал на сугробы предыдущей зимы. Покров возрастал. Сугробы не таяли. Одно постоянное снеговое поле соединялось с другим. Озера сковывались льдом одно за другим. Ледяные поля на далеком севере начали продвижение на юг. Пространства материков приняли цвет неба. Начался новый ледниковый период. О космических путешествиях позабыли и, казалось, навсегда. Для землян путешествие в милю превратилось в настоящее приключение.
Дух приключений обуял и тех, кто шел под парусами «Нового сезона». Бриг вышел из гавани без всяких приключений и вскоре плыл на запад вдоль берегов Сиборнала, подгоняемый свежим северо-восточным ветром, наполняющим паруса. Капитан Фашналгид открыл, что совершенно не жалеет о содеянном.
Эедап Мун Одим стоял в обществе домочадцев — полноватой жены и троих ребятишек — на палубе брига. Все они смотрели в сторону Кориантуры. Прояснилось. Фреир зажег свою огненную полоску низко на южном горизонте, Беталикс сиял почти в зените. От оснастки и парусов на палубу ложился сложный узор перепутанных теней.
Одим вежливо извинился и отправился проведать Беси Бесамитикахл, которая в одиночестве стояла на корме. Сначала ему показалось, что девушку мучает приступ морской болезни, но потом то, как содрогались ее плечи, подсказало ему, что она плачет. Он положил руку ей на плечо.
— Мне больно видеть, как моя очаровательница понапрасну проливает слезы.
Беси прижалась к нему.
— Хозяин, я чувствую себя такой виноватой. Это я навлекла на вас беду... Но я никогда не забуду взгляд этого человека... Это я во всем виновата.
Одим попытался успокоить Беси, но та уже не могла остановиться и выложила все как на духу. Теперь она во всем винила Харбина Фашналгида. Он отослал ее в тот день ни свет ни заря, когда ни один нормальный человек не выходит из дому, приказал ей купить какие-то книги, а на улице ее схватил майор Гардетаранк.
— Байваковы книги! И еще он сказал, что это его последние деньги. Только болван тратит последние деньги на книги!
— А майор — что он с тобой сделал?
Беси снова заплакала.
— Я ничего ему не сказала. Он знал, что я принадлежу вам, хозяин. И отвел меня в комнату, где было много солдат. Офицеров. И заставил меня... заставил меня танцевать для них. Потом силой потащил меня в нашу контору... Это я во всем виновата, не нужно было соглашаться идти за этими чертовыми книгами, ни за что на свете...
Одим вытер ей глаза, шепча слова утешения. Когда Беси успокоилась, он серьезно спросил:
— У тебя что-то серьезное с этим капитаном Фашналгидом?
Беси снова прижалась к хозяину.
— Уже нет.
Они немного постояли молча. Кориантура исчезала в отдалении. «Новый сезон» плыл мимо флотилии широких рыболовных судов. Рыболовы, забросив неводы, тралили сельдь. Рядом с рыболовными качались на волне суда, занимающиеся копчением и засолом, где потрошили и консервировали рыбу, как только улов оказывался на борту.
Всхлипывая, Беси пробормотала:
— Хозяин, ты ведь тоже не сможешь забыть, как тот человек умер в печи?
Одим погладил ее по голове.
— Наша жизнь в Кориантуре закончилась. Все, что было у меня в Кориантуре, что связывало меня с этим городом, осталось позади, и я желаю тебе того же. Наша жизнь начнется заново, когда мы доберемся до дома моего брата в Шивенинке.
Он поцеловал Беси и вернулся к жене.
На следующее утро Фашналгид подошел к Одиму. Высокая мощная фигура капитана затмевала изящного худощавого купца, плотно закутанного в теплую одежду.
— Я благодарен вам за то, что вы взяли меня на борт, — проговорил капитан. — Когда мы доберемся до Шивенинка, я сполна с вами расплачусь, поверьте.
— Не стоит беспокойства, — отозвался Одим и замолчал. Он не знал, как держаться с офицером, кроме единственного ему известного способа общаться с людьми, — вежливости. Корабль кишел людьми, которые умолили взять их на борт, желая бежать от смертоносных законов олигархии. Все они оплатили Одиму свой проезд. В каюте купца было полным-полно драгоценностей разного сорта.
— Вы не ослышались, — я расплачусь с вами сполна, — повторил Фашналгид, тяжело глядя на Одима.
— Да, хорошо, благодарю вас, — ответил Одим и отступил на несколько шагов. Краем глаза он заметил, что на палубу вышла Торес Лахл, и направился к ней, чтобы избавиться от навязчивого внимания Фашналгида. Следом за Одимом двигалась Беси. Она прятала от Фашналгида глаза.
— Как ваш пациент? — спросил Одим борлдоранку.
Торес Лахл прислонилась к поручням, закрыла глаза и несколько раз глубоко вздохнула. От напряжения последних дней ее лицо, бледнокожее, с чистыми чертами, стало почти прозрачным. Кожа под глазами словно бы запачкалась и пошла пятнами. Не открывая глаз, она ответила:
— Он молод и упрям. Я надеюсь, что он выживет. В таких случаях молодые обычно не умирают.
— Не нужно было брать чумного на борт, — заговорила вдруг Беси. — Он поставил под угрозу все наши жизни.
В словах Беси слышалась незнакомая решительность; раньше она никогда не позволяла себе говорить так в присутствии хозяина, но во время плавания все отношения изменились.
— «Чума» не совсем верный с научной точки зрения термин. Чума и жирная смерть — две разные вещи, хотя в обоих случаях мы обычно используем одни и те же термины. Течение жирной смерти таково, что большинство молодых здоровых людей, зараженных ею, выздоравливает.
— Но эта болезнь распространяется как чума, верно? Болезнь заразна?
Не повернув головы, Торес Лахл проговорила:
— Я не могла оставить Шокерандита умирать. Я ведь врач.
— Если вы врач, то должны знать, какую опасность он представляет.
— Я знаю, знаю, — ответила Торес Лахл. Она тряхнула головой, быстро повернулась и торопливо скрылась в проходе, ведущем к трапу вниз, в каюты.
Возле двери, за которой лежал без памяти Шокерандит, она остановилась и помедлила. Прикрыв глаза рукой, она быстро обозрела свою прежнюю жизнь, то, чем эта жизнь обернулась теперь — нищету, в которой она жила, и неопределенность, окружавшую их движущийся вдоль северного материка корабль. Что толку в даре сознания, которым не обладают даже фагоры, если, все понимая, ты не в силах изменить порядок вещей, ни настоящий, ни будущий?
Вот она ухаживает за человеком, который отнял жизнь у ее мужа. Более того — Торес уже не сомневалась в этом — и сама она заразилась. Она знала, что теперь болезнь с легкостью поразит всех на корабле; теснота и антисанитария, царящие на «Новом сезоне», делали судно раем для эпидемии. Надо же, как обошлась судьба с ней... но возможно ли, что какая-то ее часть довольна тем, чем обернулась ее жизнь, довольна даже теперь?
Она отперла дверь, налегла на нее плечом, чтобы открыть, и вошла в каюту. Здесь она провела два прошедших дня, ни с кем не общаясь и лишь изредка выбираясь на палубу глотнуть свежего воздуха.
Тем временем Беси совершала обход многочисленных родственников Одима, разместившихся в нескольких каютах. Ее главной помощницей была старая бабушка, которая так восхитительно готовила печенье-савриллы. Эта старушка ухитрилась готовить даже здесь, на угольной жаровне, наполняя проход между каютами поразительными ароматами, одновременно утешая и успокаивая самых перепуганных мамаш из семейства Одима.
Все семейство разместилось на неизменных оттоманках, сундуках и коврах, по обыкновению погрузившись в леность, хоть и перемежаемую теперь жалобами на тяготы корабельной жизни. Возвышенным слогом родственники оповестили Беси и всех, кто изъявил желание слушать и не говорить одновременно о том же, о прозреваемых ими опасностях подобного плавания. «Они еще не знают, — подумала Беси, — о том, что опасности плавания не идут ни в какое сравнение с опасностями, которые таит в себе болезнь, чума!» Если чума доберется до трюма и кают, то сколько из этих совершенно беззащитных перед поветрием слабых людей сумеет выжить? Она решила оставаться с родственниками Одима во что бы то ни стало, тайно вооружившись небольшим кинжалом.
Торес Лахл все время сидела одна и ни с кем не разговаривала, даже когда ненадолго выбиралась на палубу.
На третье утро Торес Лахл увидела небольшой айсберг, плывущий параллельным курсом с их судном. И вновь, в это третье утро, уже в лихорадке, она по заведенному порядку вернулась к своему дежурству. Дверь поддалась ей гораздо неохотнее, чем раньше.
Лутерин Шокерандит лежал в небольшой каюте неправильной формы, скорее в чулане или на складе, расположенной на носу «Нового сезона». В центре каюты высился столб, поддерживающий потолок, в остальном пространстве места хватало только для сундука с одной стороны столба и корзины, нескольких вязанок сена, плиты и четырех перепуганных флебихтов, привязанных у небольшого иллюминатора. Света, сочащегося в иллюминатор, было достаточно для того, чтобы Торес Лахл сумела разглядеть пятна на полу и привязанную к нижней койке крупную фигуру. Она заперла за собой дверь, на миг прислонилась к ней, потом шагнула к распростертой фигуре.
— Лутерин!
Шокерандит пошевелился. Над левой рукой Лутерина, которую Торес привязала за кисть к ножке кровати, приподнялась голова и больной стал похож на черепаху. Один глаз приоткрылся и глянул на девушку из-под упавших на лицо волос. Рот открылся, раздался хрип.
Торес набрала в кружку воды из стоящего возле плиты ведерка и дала больному напиться.
— Еще еды, — просипел он.
Она уже знала, что Лутерин выживет. Это были первые слова, которые он сказал ей с тех пор, как они оказались на борту «Нового сезона», с тех пор как его, беспамятного, принесли сюда. Шокерандит снова мог связно мыслить. И все равно она не позволяла себе прикасаться к нему — слишком это было рискованно — даже при том, что для безопасности он был связан по рукам и ногам.
На плите лежали остатки жареного флебихта, которого она недавно убила. Она разделала козленка мясницким ножом и приготовила на углях как смогла. Длинные, закрученные штопором рога и шкура с кудрявой белой шерстью лежали вместе с другими останками в углу каюты.
Подавая Шокерандиту порцию флебихта, Торес Лахл впервые подумала о том, до чего славно выглядит жареное мясо. Шокерандит прижал мясо локтем и принялся жадно рвать зубами. Время от времени он бросал на девушку косые взгляды. Но в его глазах больше не было безумной ярости. Булимия закончилась.
Для нее было мукой вспоминать, как он ел прежде, совсем недавно, — как дикий зверь. Она поглядела на его руки, еще влажные от пота, выступившего от прежних усилий, и подумала, как приятно было бы, наверно, запустить зубы в эту плоть. И схватила с плиты кусок жареного мяса.
Все уже было наготове — цепь и наручники. Торес Лахл упала на колени и так подползла к цепи, потом тщательно приковала себя к центральному столбу каюты. Сковав обе руки, она неловко закинула ключ в угол каюты, подальше от себя, так, чтобы не достать. От спертого воздуха и вони у нее закружилась голова — здесь смешалось множество запахов: запах мужского тела, вонь содержимых в неволе животных и их навоза, все это замешанное на угольном чаде. Она резко вздохнула, пытаясь прояснить голову, потом попробовала отползти подальше, насколько позволяла цепь, ногами вперед, бессильно мотая головой, словно на сломанной шее. Кусок флебихта она прижимала к себе, словно ребенка.
Мужчина продолжал лежать на своем месте, молча глядя на нее. Наконец он разлепил губы, и с них сорвалось ее имя — он позвал Торес. Их взгляды на мгновение встретились, но в ее глазах уже не было мысли — это был блуждающий взгляд слабоумной.
Оскалившись, Шокерандит попытался подняться и сесть. Он был надежно привязан к кровати. В самый тяжелый период недуга, когда вирус «гелико» достиг гипоталамуса и Лутерин отчаянно бился и рвался из пут, кожаные веревки на руках и ногах выдержали.
Пытаясь сейчас освободиться, он обнаружил, что рядом с ним лежит пара щипцов с плоскими зажимами, какие используют, чтобы брать раскаленные докрасна угли. Но щипцы были бесполезны, ими веревки не разрежешь. Обессилев, он на некоторое время погрузился в сон, а проснувшись, возобновил попытки освободиться.
Он пытался звать на помощь. Но никто не пришел. Страх перед жирной смертью был слишком велик. Возле центрального столба лежала женщина, совершенно неподвижная. При желании он мог дотянуться до нее ногой и толкнуть. В углу каюты, поднимая головы от сена, блеяли животные. В темноте их глаза светились желтым. Шокерандит был привязан так, что лежать он мог только лицом вниз. Онемение и скованность постепенно покидали его руки и ноги. Он попробовал оглядеться. Подняв голову настолько, насколько это было возможно, он взглянул вверх, на потолок. Примерно на середине расстояния от его койки до потолка из стены торчала деревянная балка. В балку был воткнут длинный кинжал.
Несколько минут он смотрел из неудобного положения на кинжал. Рукоятка кинжала была совсем близко от него, но он не мог и надеяться взять кинжал — мешали веревки. Лутерин не сомневался, что, прежде чем приковать себя, Торес Лахл воткнула этот кинжал намеренно. Но почему именно туда?
Он почувствовал, как в бок впились латунные щипцы. В его сознании мгновенно возникла связь, а после — благодарность умнице Торес. Извиваясь как червяк, он сумел продвинуть щипцы так, чтобы зажать их коленями. Потом потребовалось немало времени и мучений, чтобы поднять связанные колени и щипцы так, чтобы те оказались точно под кинжалом. Он трудился час, другой, пот тек у него по лбу, сквозь зубы вырывались стоны, но наконец ему удалось зажать рукоятку кинжала между кончиками латунных щипцов. Дальше нужно было вытащить кинжал из балки, но это просто требовало времени.
Кинжал упал на койку возле его бедра. Шокерандит отдыхал до тех пор, пока не накопил достаточно сил и осторожности, чтобы заняться кинжалом и при этом не столкнуть его на пол. В конце концов ему удалось зажать кинжал в зубах.
Чтобы разрезать одну из кожаных веревок, ушло немало времени и сил, и боль была немалая, но в конце концов он преуспел. После того как одна рука у него освободилась, дальнейшее прошло быстро. Он был полностью свободен, но сил подняться у него не осталось. Некоторое время он лежал на койке, отдыхая и хватая ртом воздух. Наконец он сумел подняться и ступить на загаженный пол.
Сделав шаг и другой, он пошатнулся и без сил оперся о деревянный столб, потом съехал по нему вниз. Стоя на коленях, он разглядывал распростертую фигуру Торес Лахл, которая иногда конвульсивно вздрагивала. Хотя сознание Лутерина еще не полностью вернулось к нему, он уже понимал, что, после того как он провалился в болезнь, именно преданность этой женщины спасла его и, уже заболев сама, она продолжала думать о его безопасности. В беспамятстве лихорадки он ни за что не догадался бы насчет щипцов и кинжала или у него не хватило бы на это координации движений. Без кинжала он не смог бы освободиться. Это было возможно только после полного выздоровления.
Передохнув, он поднялся и ощупал свое невыносимо грязное тело. Он изменился. Он выжил, перенес жирную смерть — и изменился. Болезненные судороги и сокращения, терзавшие мучительной болью его тело, привели к тому, что его позвоночник сжался; как догадывался Лутерин, сейчас он стал на три или четыре дюйма ниже. Дикий неутолимый аппетит привел к тому, что он набрал вес. Если бы Торес Лахл не кормила его жареным мясом, в болезни он готов был пожирать все, что попадется под руку: свое одеяло, испражнения, крыс. Он понятия не имел о том, сколько животных он съел. Его руки и ноги стали толще, более неуклюжими. Не веря своим глазам, он оглядел свое туловище, похожее на бочонок. Он стал меньше ростом, толстым и круглым, словно любитель пива. Его тело не только изменилось, распределение веса в нем тоже претерпело существенные перемены.
Но он жив!
Он прошел сквозь игольное ушко и выжил!
Не важно, какой ценой — все лучше смерти и исчезновения. Мысль о том, что он жив и будет жить, приносила чудесное удовольствие — и то, как бессознательно его грудь наполняется воздухом, и то, как в животе урчит от голода, а мочевой пузырь требует освобождения, — раньше он обращал на все это очень мало внимания. Возникло полное понимание (скорее даже мудрость) того, что деградация тела и дискомфорт не стоят печали. Он наслаждался своим новым обликом, чувствуя, сколько силы и здоровья сосредоточено в обновленном теле — особенно остро это чувствовалось в грязном вонючем помещении.
С его глаз словно сорвали пелену, и он снова увидел сцены из юных лет в горах Харнабхара, у Великого Колеса. Он вспомнил отца и мать. Вспомнил свой героизм на поле битвы под Истуриачей. Все эти воспоминания вернулись, совершенно отчетливые, словно отмытые, как если бы все это случилось с кем-то другим.
И он снова вспомнил свой выстрел в Бандала Эйт Лахла.
Сознание того, что его пленница не бросила его умирать, наполнило душу Лутерина неизмеримой благодарностью. Неужели это из-за того, что он не изнасиловал и не избил ее? Или то хорошее, что она сделала для него, не имеет никакого отношения к тому, что случилось между ними раньше?
Он повернулся, чтобы взглянуть на нее, испытывая жалость: она была так бледна, так беспомощна... Он положил руку ей на лоб, чувствуя исходящий от нее острый и едкий запах. Ее бессильно мотающаяся голова повернулась к его руке, словно ища ласки. Потом ее пересохшие губы разошлись, и острые зубы в мгновение ока впились в его плечо.
Шокерандит в ужасе отпрянул. Схватив с пола кусок мяса, он бросил Торес еду. Она мгновенно оторвала кусок, но не смогла жевать. Безумие высшей точки болезни мешало ей координировать действия, позже это должно было пройти.
— Я не брошу тебя, — сказал он ей. — Я буду ухаживать за тобой. Пойду на палубу, умоюсь и немного отдышусь.
Из укуса на его плече текла кровь.
Сколько это уже продолжается? Он с трудом открыл дверь. Корабль полнился скрипами, по проходу блуждали зыбкие тени.
Испытывая удовольствие от нового ощущения силы и энергии, которыми налилось тело, он выбрался по трапу на палубу и осмотрелся. На палубе не было ни души. Даже у руля — никого.
— Эй, кто-нибудь! — позвал он. Никто не ответил, хотя где-то в стороне что-то или кто-то задвигался.
Встревоженный, он бросился вперед, выкрикивая призывы. Возле мачты лежало наполовину раздетое мертвое тело. Мясо с груди и рук мертвеца было грубо срезано ножом и — он не сомневался в этом — съедено...
Глава 7 Желто-полосатая муха
Нельзя сказать, что в облике Ледяного Холма было нечто выдающееся; более того, в сравнении с большинством холмов и гор Сиборнала он казался просто прыщиком на земле. Но холм возвышался над окружающей равниной и господствовал над окраинами Аскитоша. Замок стоял на вершине, господствуя над самим холмом.
Когда дыхание северного ветра приносило дождь, вода собиралась на крышах, укреплениях, скатывалась по зловещим шпилям замка, и, стекая вниз по желобам и сточным канавам, изливалась на головы населения Аскитоша, словно передавая им привет от олигарха.
Единственное преимущество такого приподнятого и открытого расположения — по крайней мере для олигарха и его Внутренней палаты — заключалось в том, что новости достигали замка очень быстро: не только благодаря потоку гонцов, с трудом преодолевающих булыжник ведущих к замку дорог и скользкие ступени, но скорее благодаря неустанному миганию гелиографов, передающих сведения от далеких корреспондентов. В Сиборнале была устроена целая сеть сигнальных станций, задуманная таким образом, чтобы информация по главному руслу неуклонно направлялась к Аскитошу, к той широте, где лежала столица. Таким образом до сведения олигарха — если предположить, что он определенно существует, — были доведены вести о том, что армия, отправленная через Чалц в Кориантуру, возвращается с победой. Там, где Чалц разбивался об утесы Сиборнала, армия остановилась дожидаться отставших частей. Ожидание продлилось два дня. Тех, кто за это время умер от чумы, тут же похоронили. И люди, и верховые животные были чрезвычайно истощены и ничем не напоминали то бравое воинство, которое вышло из Истуриачи почти за теннер до этого дня. Но Аспераманка по-прежнему держал командование в своих руках. Моральный дух по-прежнему был высок. Войска чистили обмундирование и оружие, готовясь триумфально войти в Ускутошк. Военный оркестр драил свои инструменты и репетировал марши. Были развернуты и подготовлены знамена частей.
Все эти приготовления происходили под прицелом скрытых в тайных укреплениях орудий Первой гвардии олигарха.
Едва армия Аспераманки двинулась вперед, едва войска, вернувшиеся из Чалца, оказались в пределах досягаемости артиллерии олигархии, был открыт ураганный огонь. Паровые ружья стреляли почти непрерывно, пули летели как градины в бурю. Взрывы гранат не прекращались ни на миг.
Пало множество храбрых воинов, а также их лойсей. Те, кто успевал крикнуть, кричал. Захлебываясь кровью, люди падали лицом в грязь. Эту картину быстро заволокло дымом и летящей во все стороны землей. Люди бежали не разбирая пути, утратив способность ориентироваться, ничего не понимая, обезумев от потрясения. Сверкающие инструменты немедленно оборвали марш. Аспераманка выкрикнул своим ординарцам и трубачам приказ играть отступление. По вероломным согражданам не было сделано ни одного выстрела.
Те, кто пережил этот подлый сюрприз, попрятались, словно дикие звери, в пустошах Чалца. Многие от потрясения лишились дара речи.
— Абро Хакмо Астаб! — вот единственное, что они кричали, запретное отвратительное ругательство на сибише, которое редко употребляют даже солдаты. То были слова, с которыми люди смиряются перед ударами судьбы.
Некоторые из уцелевших сумели вскарабкаться на склоны окружающих гор. Некоторые заблудились в лабиринте дамб. Некоторые сумели собраться в отряды с намерением снова пересечь травянистые степи и воссоединиться с теми, кто решил остаться в Истуриаче.
Аспераманка, используя свою способность говорить гладко, попытался убедить разрозненные группы воссоединиться в подобие прежней армии. В ответ он услышал только ругань. Офицеры и солдаты больше не верили своему командованию.
— Абро Хакмо Астаб... — бормотали они в его разгневанное лицо.
Жуткие события вынуждали бесконечно повторять старинное ругательство. За давностью были забыты как место происхождения, так и истинное значение ругательства. Согласно наиболее мягкому переводу вам советовали нагадить на оба солнца. На северном континенте, ежащемся под ледяным дыханием северных ветров из Приполярья, люди изобрели брань в адрес бога Азоиаксика — и всех прочих богов: тех, которых помнили, и тех, которых забыли — словно для того, чтобы навлечь на себя царство вечной тьмы.
Абро Хакмо Астаб! — осквернение самого света. Те, кто выкрикнул эти слова в лицо Аспераманке, отвернулись и ушли прочь. Аспераманка больше не пытался восстановить командование. Грозно насупив брови, он решил, что следует позаботиться о собственном спасении. Лицо духовное, он чувствовал, что древнее ругательство легло на его душу пятном грязи. Он был оскорблен.
Эту небольшую толику информации донесли до олигарха, сидевшего в Аскитоше, в своем замке на вершине Ледяного Холма. Так правитель людей узнал подробности предательской встречи, устроенной в Кориантуре армии Аспераманки.
Следующий шаг олигархии не потребовал долгих рассуждений. С быстрого одобрения Внутренней палаты был выпущен новый приказ, и плакаты с его текстом разослали по всем отдаленным уголкам страны. В приказе объявлялось, что чумная армия, пытающаяся распространить Болезнь и Смерть по всему континенту, была доблестно уничтожена на подступах к стране. Пусть это событие будет всячески отпраздновано усердным трудом.
Старая рыбачка, стоящая руки в боки на улице Кориантуры, сказала, прочитав плакат:
— Только и осталось, что праздновать «усердным трудом»... Да разве можно работать усердней, чем мы работаем?
Она оглянулась и тяжелым взглядом проводила отряд Первой гвардии, в грохоте сапог марширующий на запад.
Что же касается остатков армии в пустошах — им предстояло выдержать еще одну битву.
Со дня смерти последнего цезаря Кампаннлата, приключившейся четыреста семьдесят девять лет назад, фагоры копили силу. Еще прежде чем Фреир-смертоносец вошел в полную силу, а потом вновь угас, число фагоров неуклонно росло. Людские возможности счесть число двурогих были утеряны со смертью последнего цезаря. Прирученные анципиталы, выбравшие существование на равнинах вместе с сынами Фреира, передавали добытые сведения воинственно настроенным поселениям в Верхнем Никтрихке. С первыми порывами Зимы начались набеги первых мародеров.
Отряды анципиталов верхом на кайдавах способны были с быстротой ветра пересекать пустоши, труднопроходимые для людей. Тому была одна главная причина: сталлуны, гиллоты и кайдавы могли питаться травой и выживать в пустошах, где гибли слабые сыны Фреира.
При этом обитатели Верхнего Никтрихка не торопились углубляться в степи, ведущие в сторону Сиборнала, словно им мешали некие причины. Анципиталы страшились Сиборнала. В туманной памяти поколений сохранялись ужасные воспоминания о смертоносной мухе.
Эти воспоминания — скорее программа видовой памяти — подсказывали, что в холодных районах Сиборнала есть области благодатного проживания мух, и в особенности одного опасного их вида. Эта муха делала поистине невыносимым существование бесчисленных стад фламбергов, населяющих равнины приполярного региона. Желто-полосатая муха обитала среди стад фламбергов, и ее самки откладывали яйца под шкуру животных. Оттуда личинки, достигнув определенной ступени развития, пробирались в кровоток и по мере роста образовывали в теле несчастных карманы, чтобы в миг зрелости прорваться через плоть на волю.
Личинки вырастали огромные, с сустав человеческого пальца. Закончив свое подкожное развитие, они прогрызали себе дорогу сквозь плоть фламбергов и падали на землю, чтобы завершить превращение.
Можно было подумать, что у желто-полосатого ужаса нет никакого другого предназначения в жизни, только терзать несчастных фламбергов. Но это было не совсем так. Ни одно другое животное не могло проникнуть на территорию, где властвовал желто-полосатый ужас; благодаря неустанному контролю мух численность популяций фламбергов всегда держалась на приемлемом уровне.
И тем не менее муха продолжала оставаться мучением и проклятием фламбергов, зачастую безумным галопом, невзирая на все опасности, проносившихся по самым открытым участкам, продуваемым всеми ветрами, в тщетных попытках уклониться от преследующих их терзаний. Анципиталы, далекие потомки фламбергов, сохранили в своей не подвластной времени видовой памяти воспоминания о желто-полосатом мучении и старались держаться подальше от мест обитания мух.
Однако остатки разбитой армии людей, повернувшие обратно в степи Чалца, представляли для фагоров особую приманку. Мчась наравне с ветром, с копьями и ружьями в заплечных мешках, они планомерно уничтожали сынов Фреира.
При столкновении с ними анципиталы убивали. Даже фагоры, находившиеся в услужении в армии Аспераманки, уничтожались без колебаний и сожаления, и их останки развеивались по равнинам степей.
Некоторым из отрядов беглецов удавалось сохранять подобие военного порядка. Эти отряды укрывались за повозками и вели огонь по нападающим так, как предписывала военная наука. Бывало, что фагоры несли большие потери.
Тогда они начинали осаду и наблюдали за тем, как люди медленно теряют силы от голода и жажды, а потом нападали снова. И не щадили никого.
Сдаваться анципиталам было бесполезно. Солдаты сражались до последнего или кончали жизнь самоубийством, выпуская в голову последний патрон. Возможно, в людях тоже говорило нечто вроде наследственной памяти: на смену Лету, времени превосходства людей, когда Фреир сиял особенно жарко, шла Зима, пора холодов, пора возвращения фагоров к власти над миром, как это было давным-давно, прежде чем человечество вышло на арену истории. Поэтому люди защищались без всякой надежды и умирали без надежды на помощь. Женщины, которые шли вместе со своими мужчинами, тоже умирали.
Но иногда боеприпасы заканчивались, и анципиталы, вместо того чтобы перебить людей, забирали их в рабство.
Так, хотя олигархия о том не ведала, двурогие оказались ее лучшим союзником. Фагоры быстро и подчистую уничтожали все, что осталось от великой армии Аспераманки.
Фагоры в Сиборнале были настроены наименее воинственно. Это были по большей части анципиталы-рабы, бежавшие от хозяев, или фагоры из предгорий, за много поколений привыкшие к тяжкому труду и послушанию. Эти создания небольшими бандами бродили вдали от городов, особенно стараясь держаться в стороне от человеческих поселений.
Разумеется, все, что сыны Фреира по неосторожности оставляли без должной охраны, становилось их добычей; память об антагонизме засела глубоко. Когда одна из таких банд заметила прибившийся к берегу «Новый сезон», корабль немедленно стал объектом охоты.
Группа фагоров продвигалась вдоль края моря вслед за кораблем, медленно дрейфующим параллельно скудным берегам Лорая к западу от бухты Осужденных, где заканчивались земли ускутов.
Банду составляли восемь гиллот, филлока, три взрослых сталлуна и рунт. У всех, кроме рунта, были спилены рога. В качестве вьючного животного фагоры вели с собой лойся, нагруженного их скудными пожитками, пеммиканом и густой кашей. Все фагоры были вооружены.
Несмотря на то, что ровный бриз отгонял корабль от берега, западное течение медленно, но верно несло корабль к земле. Фагоры неустанно следовали за намеченной добычей, миля за милей, и расстояние между ними и кораблем постоянно сокращалось. Их вековечный разум знал, что час, когда они захватят и разрушат корабль, неминуемо наступит.
Деятельность на борту то вспыхивала, то затихала. В одну из ночей прогремело несколько выстрелов. Другой ночью фагоры заметили бегущего вдоль правого борта мужчину, за которым с воплями гнались две женщины. В руках у них блестели ножи. Мужчина бросился в море и пытался плыть к берегу, но вскоре без единого крика утонул в ледяной воде.
Небольшие айсберги, лебедями плывущие по морю, отколовшись от ледника в бухте Осужденных, двигались на запад. Время от времени они тихо толкались в борт «Нового сезона». Лутерин Шокерандит, сидя в разоренной каюте, где лежала Торес Лахл, прислушивался, как глыбы льда трутся о борта их корабля.
Он запер дверь и сидел, держа в руке небольшой топорик. Булимия, порожденная жирной смертью, превратила всех на корабле в возможных врагов. Время от времени он откалывал от корабельных балок щепу. Топливо было ему нужно, чтобы развести в жаровне небольшой огонь, на котором он жарил части туши последнего флебихта. Они с Торес Лахл за восемь или девять (по его оценке) дней, проведенных на борту дней, съели четырех длинноногих коз.
Обычно жирная смерть истязала человека с неделю. К исходу недели больной либо умирал, либо выздоравливал, к нему возвращалось обычное сознание — но тело менялось. Шокерандит следил за мучениями Торес Лахл, подмечал, как меняется ее тело. Пытаясь снять цепи, Торес Лахл в клочья рвала на себе одежду, часто просто зубами, и грызла столб, к которому была прикована. Ее рот превратился в кровавое месиво. Шокерандит глядел на нее с любовью.
Пришло время, и в ее взгляде снова появилась осмысленность. Она улыбнулась ему.
Потом она несколько часов проспала, и ее состояние заметно улучшилось, ибо все, кто выживает после жирной смерти, чудесно себя чувствуют.
Шокерандит расковал ее руки и ноги, принес губку и несколько ведер соленой воды и помог вымыться в тазу. Когда он поддержал Торес Лахл за талию, чтобы женщина не упала, она поцеловала его. Потом оглядела свое нагое тело и разрыдалась.
— Я стала похожа на бочонок. А была такая стройная.
— Это естественно. Посмотри на меня.
Она взглянула на него и рассмеялась сквозь слезы.
Потом они смеялись вместе. Он смотрел на чудесное строение ее нового тела, блестящего от воды, на ее прекрасные плечи, грудь, живот, ноги.
— Таковы люди нового мира, Лутерин, — сказала Торес Лахл, впервые назвав его по имени.
Он потер свои еще не зажившие костяшки пальцев.
— Я рад, что ты выжила.
— Потому, что ты позаботился о своей пленнице.
И совершенно естественно было то, что он обнял ее, поцеловал в истерзанный рот и увлек ее на кровать, где еще недавно сам корчился в агонии болезни. Теперь они слились там в агонии сексуального наслаждения.
Потом он сказал:
— Ты больше не моя пленница, Торес Лахл. Ты первая из женщин, кого я полюбил. Теперь мы оба пленники друг друга. Я заберу тебя в Шивенинк, и мы поднимемся в горы, где живет мой отец. Ты должна увидеть чудо — Великое Колесо Харнабхара.
Она уже начала забывать о том, что случилось, поэтому ответила равнодушно:
— Даже у нас, в Олдорандо, слышали о Великом Колесе. Если ты хочешь, я отправлюсь с тобой. Но на корабле очень тихо. Может быть, стоит подняться и посмотреть, что с остальными? Может быть, они еще страдают от чумы — Одим, и его многочисленное семейство, и команда?
— Побудь со мной еще немного.
Обнимая Торес, он заглянул в ее темные глаза, словно не решаясь разрушить чары этого мгновения. Сейчас он просто не мог почувствовать разницу между любовью и возвращением здоровья.
— В Олдорандо я была врачом, — быстро проговорила Торес. — Мой долг — лечить больных.
Она отвернулась от Лутерина.
— Откуда берется болезнь? От фагоров?
— Да, мы считаем, что от фагоров.
— Значит, наш отважный капитан говорил правду. Наша армия не должна была вернуться в Сиборнал, ее следовало удержать силой, иначе мы разнесли бы чуму; чума была среди нас. Приказ олигарха был скорее мудрым, чем жестоким.
Торес Лахл покачала головой. Она принялась медленно укладывать свои роскошные волосы, глядя в маленькое зеркало и не оборачиваясь к Шокерандиту. И сказала:
— Это слишком простое решение. Приказ олигарха поистине был само зло. Приказ уничтожить жизнь всегда несет в себе зло. То, что он сделал, может оказаться не просто злом — совершенно бесполезным злом. Я знаю кое-что об истинной природе жирной смерти, хотя большую часть Великого Года болезнь находится в спячке и ее трудно изучать. Знания, полученные дорогой ценой в одни времена, легко забываются в другие.
Шокерандит приготовился слушать, но Торес Лахл замолчала и продолжала рассматривать свое лицо, уже закончив прическу. Она послюнявила палец и пригладила брови.
— Поосторожней насчет олигарха. Он знает гораздо больше нас.
Тогда она повернулась и взглянула на него. И веско ответила:
— У меня нет оснований относиться к вашему олигарху с уважением. В отличие от олигархии жирная смерть все же допускает милосердие. От болезни умирают в основном старики и дети: большинство взрослых выживает — больше половины. Их тела меняются необходимым образом, как это произошло с нами.
Она в шутку ткнула его в живот еще мокрым пальцем.
— Наши новые, более коренастые тела суть необходимая дань уважения к природе, Лутерин.
— Но половина населения умрет... общество будет разрушено... Олигархия не допустит, чтобы такое случилось с Сиборналом. Олигарх примет необходимые меры...
Торес махнула рукой.
— В пору, когда гибнет урожай и всем угрожает голод, столь резкое уменьшение населения — скорее благо, чем бедствие. Зато те, кто выжил, — здоровые и сильные люди, они смогут жить и дальше. Жизнь все равно будет продолжаться.
Шокерандит рассмеялся.
— Через пень-колоду...
Торес внезапно нетерпеливо тряхнула головой.
— Нужно подняться на палубу и проверить, кто еще уцелел на корабле. Мне совсем не нравится эта тишина.
— Надеюсь, Эедап Мун Одим выжил, ведь он добрый человек.
— Я узнаю это только тогда, когда сама увижу.
Они поднялись с кровати и в тесноте каюты еще раз оглядели друг друга при скудном свете. Шокерандит потянулся поцеловать ее, но в последний миг Торес убрала губы. Молодые люди вышли в коридор.
То, что произошло, вспомнилось Лутерину чуть позже. Если не тогда, то позднее он понял, чем именно Торес Лахл так привлекала его. Она была желанна ему физически; но более всего — он это не сразу понял — его привлекала ее манера держаться независимо. И только когда по прошествии времени эту независимость постепенно разрушило течение жизни, они пришли к настоящему пониманию.
Но истинное понимание происходящего не могло прийти к Шокерандиту сейчас — только не сейчас, когда его взгляд на мир основывался на прежнем знании мира, психической незащищенности, эмоциональной незрелости, которые в будущем жизнь должна была разрушить и изменить. Между ним и зрелостью еще стояла невинность.
Шокерандит шел первым. Прежде чем подняться на палубу, им предстояло миновать трюм, в котором размещалось многочисленное семейство Одима. Остановившись перед дверью трюма, Лутерин прислушался и различил внутри тихое движение. В каютах по обе стороны коридора стояла полная тишина. Шокерандит попробовал открыть дверь трюма; та была заперта изнутри, и им с Торес никто не ответил.
Когда они поднялись на палубу, он впереди, Торес Лахл следом, три совершено нагих человека в страхе кинулись от них наутек. Эти трое бросили под бизань-мачтой объеденный труп женщины. У трупа были частично оторваны руки и ноги. Торес Лахл подошла взглянуть на мертвую.
— Выбросим ее за борт, — предложил Шокерандит.
— Нет. Она все равно мертва. Оставим ее здесь. Этим нужна еда, чтобы жить.
Они обратили внимание на то, что происходит с кораблем. «Новый сезон», как подсказали им их чувства, больше не двигался. Океанское течение медленно увлекло его к берегу и он сел на мель. Корабль стоял, упершись носом в песчаный язык, отходивший от берега.
К корме судна прибилось несколько мелких айсбергов. Спрыгнуть с носа и пешком добраться до берега, даже не замочив ног, не составляло особого труда. У основания этой длинной песчаной косы, загораживая берег от морских приливов словно стражи, стояли две большие скалы, одна из них высотой, с мачту корабля. В древности скалы наверняка выбросило взрывом из жерла вулкана, хотя нигде на берегу не было никаких признаков вулканических гор. Виднелась лишь гряда низких скалистых утесов, стоящих столь скученно и тесно, что их можно было принять за разрушенную огнем из пушек стену, а за утесами начинались пустоши горчичного цвета, откуда дул незатихающий ледяной ветер, от которого из глаз у наблюдателей катились слезы.
Сморгнув влагу, Шокерандит снова внимательно взглянул на скалу. Он был уверен, что заметил там движение. На мгновение там мелькнула пара фагоров: они уходили прочь от берега, время от времени бросая на корабль внимательные взгляды. Вскоре стало ясно, что пара фагоров направляется навстречу четверым своим собратьям, которые появились на вершине дюны, волоча за собой тушу какого-то животного. Затем из-за скал появились и другие фагоры, большим числом.
Этим утром первая группа анципиталов встретилась с другой, более крупной, которую составляли беглые рабы и четыре фагора, служившие прежде в армии олигарха в качестве вьючных животных. Теперь в отряде было всего тридцать шесть особей. Двурогие развели костер во впадине на подветренной стороне скалы и намеревались зажарить свою добычу, недавно забитую копьями отрядом охотников.
Торес Лахл взволнованно взглянула на Шокерандита.
— Они могут напасть на нас?
— У двурогих врожденная водобоязнь, но они могут легко пройти по песчаной косе и забраться на борт. Нужно побыстрее разыскать кого-нибудь из команды и снять корабль с мели.
— Мы первые заболели жирной смертью, остальные, возможно, еще не поправились.
— Тогда давай найдем какое-нибудь оружие, чтобы защитить корабль.
Они обыскали судно, и то, что они обнаружили, ужаснуло их. Корабль походил на бойню. От чумы не было спасения. Те, кто заперся в каютах поодиночке, почти все умерли от истощения. Те, кто заперся в каютах по двое-трое, убивали первого, кто проявлял признаки заболевания. Все животные на борту были убиты и съедены подчистую, по крайней мере никаких останков не удалось отыскать. В большом трюме, где укрылось семейство Одима, каннибализм торжествовал победу. Из двадцати трех членов семейства восемнадцать человек умерли или были убиты, в основном своими же родственниками. Из пятерых уцелевших троих еще терзало безумие болезни; они обратились в бегство, когда их окликнули. Две молодые женщины были уже в состоянии говорить; их тела претерпели полное превращение. Торес Лахл и Шокерандит осторожно осмотрели трюм и укрылись в кладовой — той, где переболели сами.
В кубрике засовы были задвинуты изнутри. Из-за дверей доносились животные звуки и безумное пение, один и тот же бесконечно повторяемый куплет.
Он увидел голой деву свою,
Все, о чем он мечтал...
Все, о чем он мечтал...
В носовом камбузе они нашли тела Беси Бесамитикахл и старой няни. Беси смотрела прямо перед собой широко открытыми глазами, на ее лице застыло удивление. Обе были мертвы.
В обширной носовой кладовой они разыскали несколько больших крепких ящиков, нетронутых за время бедствия, обрушившегося на корабль.
— Отлично, это наверняка ружья! — воскликнул Шокерандит. Он открыл один из ящиков и под тонкой оберточной бумагой обнаружил целый обеденный сервиз, аккуратно и любовно упакованный, посуду из фарфора высочайшего класса, расписанного милыми сердцу картинами из лесной и крестьянской жизни. В других ящиках тоже был фарфор, лучший из того, что доводилось экспортировать Одиму. Это были подарки, которые Одим вез брату в Шивенинк.
— Этим фагоров не отпугнешь, — с усмешкой сказала Торес Лахл.
— Должно же быть где-то оружие.
Пока они бродили по залитому кровью кораблю, время, казалось, остановилось. Поскольку стояло малое лето, Беталикс заходил ненадолго. Фреир лишь едва поднимался над горизонтом, словно уже лишился сил. Холодный ветер дул не переставая. Один раз с дыханием ветра прилетел какой-то звук, напоминающий грохот далекой грозы.
После грозы повисла гнетущая тишина, которую нарушали только приглушенный плеск волн да время от времени скрип и стук айсбергов о деревянные борта судна. Потом раскат грома повторился, на этот раз ближе и отчетливее. Шокерандит и Торес Лахл с удивлением переглянулись, не в состоянии представить происхождение такого звука. Но фагоры все поняли без размышлений. У них звук продвижения стада фламбергов не вызывал никаких сомнений.
Миллионные стада фламбергов жили у границы ледяных шапок. Огромные массы животных наводняли приполярные регионы. Из всех стран Сиборнала Лорай предлагал самые обширные территории, как нельзя лучше подходящие для фламбергов, с огромными лесами с крепкими деревьями, с бесконечной чередой холмов и озерных долин. В отличие от лойсей фламберги были полуплотоядными и отдавали предпочтение грызунам и птицам, каких удавалось поймать. Но основную часть пропитания фламбергов составляли лишайники, грибы и трава, а также древесная кора. Кроме того, фламберги поедали известную оригинальную разновидность мха, который примитивные племена, населяющие Лорай, называли фламберговым мхом. Во мху содержалось особое вещество, фермент на основе жирной кислоты, защищающий клеточные мембраны животных от губительного воздействия холода, благодаря чему клетки могли эффективно функционировать даже в самые лютые морозы.
Сейчас к берегу приближалось стадо, насчитывающее не менее двух миллионов голов, но в Лорае встречались и гораздо более многочисленные. Стадо только что выбралось из леса и теперь мчалось почти параллельно берегу океана. От топота бесчисленных копыт дрожала земля.
Фагоры на берегу начали проявлять признаки беспокойства. Они бросили костер и жарящееся мясо на произвол судьбы. Двурогие расхаживали взад и вперед по берегу, встревоженно вглядываясь в горизонт, совершенно как люди в минуты нерешительности.
Перед фагорами открывались две возможности для спасения. Они могли взобраться на скалы, возвышающиеся над ними, словно дома, или же напасть на корабль и захватить его. И в том и в другом случае угроза быть растоптанными копытами их бесчисленных предков исчезала.
Наконец появились передовые отряды фламбергов, первые бегуны. Над головами и телами животных во множестве кружили москиты, норовящие насосаться крови из незащищенных носов фламбергов. Москиты к тому же были конкурентами другого насекомого, мухи величиной с королевскую осу. Эти мухи пулей проносились в сотрясающемся воздухе. Одна из мух метнулась к остолбеневшим фагорам и ловко уселась у одного из них между глаз. Муха была желто-полосатая.
Группа анципиталов впала в совершенно не свойственную им панику и принялась бегать вдоль берега. Двурогий, которому на морду уселась муха, бросился прямо на скалу. Ударом ему удалось раздавить муху, но и сам он упал без движения, оглушенный.
Наконец группа фагоров успокоилась и собралась, чтобы обсудить план дальнейших действий. Новоприбывшие принесли с собой тотемные знаки, эмблемы на шестах, останки своих предков в привязи. Эти ссохшиеся воспоминания о прошлом, изъеденные молью прапрапрасталлуны хотя уже почти полностью превратились в кератин, все еще какой-то своей частью находились в текущем бытии. Благодаря этому в определенные моменты эти угасающие существа еще способны были сфокусировать взгляд на творящемся в реальном мире. Их родичи попали в беду и растерялись. Предки вступили с ними в общение. Начались переговоры между живущими и немощными останками в привязи.
Дух вышел из состояния совершенной прострации. Дух был размером не более кролика. Фагор, чьи предки висели на шестах, неуверенно проговорил:
— О драгоценный предок, сегодня уже соединившийся с землей, ты зришь нас здесь в великой опасности на краю сухого мира. Звери-которыми-мы-были несутся на нас толпой и могут растоптать. Укрепи наши руки, направь нас от опасности.
Кератиновые предки передали по привязи изображение, хорошо знакомое всем фагорам; картинка быстро пронеслась от предка к предку: изображение приполярного региона со льдами, холодными болотами, мрачными лесами, где деревья могли вынести любой мороз, с животной жизнью, кишащей даже здесь, в соседних с льдами полярных шапок областях. Теперь, когда Беталикс остался править в небе почти единолично, полярные шапки разрослись. Изображение тысяч живых существ, ютящихся в пещерах и ищущих помощи и содружества у своего бездумного товарища, огня. Жалкие другие, используемые в качестве скота. Ужасающие картины пришествия Фреира, спускающегося темным пятном по воздушным октавам, огромным паучьим силуэтом, цепенящим рассудок. Уход прекрасного Т'Сенн-Хрр, так чудесно мерцающего серебром в темно-синих небесах. Другие постепенно оказываются сынами Фреира, убежавшими прочь и унесшими на своих плечах бездумный дух огня. Много, очень много анципиталов погибло — от наводнений, от жары, в сражениях с обезьяноподобными сынами Фреира.
— Идите вперед быстро и помните, кто ваш враг. Укройтесь в безопасности на борту деревянной вещи, что качается на волнах мира утопленников, убейте там сынов Фреира. Там вы будете в безопасности, до тех пор пока Звери-которыми-мы-были не пройдут мимо. Будьте отважными. Будьте великими. Держите рога высоко!
Слабый голос растворился в грохоте приближающихся копыт. Фагоры поблагодарили великого прапрапрасталлуна низким горловым ворчанием.
Они послушаются советов предка. Фагорам было безразлично, кому принадлежал этот голос, призраку предка или их собственному сознанию. Время и место никак не были связаны в их головах, мыслящих лишь смутными понятиями привязи.
Двурогие начали приближаться к севшему на мель кораблю.
Для них это была вещь совершенно чужеродная. Море олицетворяло ужас анципиталов. Вода проглатывала и уничтожала их род. Корабль выделялся на угасающем оранжевом пламени Фреира, уже наполовину соскользнувшего за горизонт, уже готового сдаться и окончательно нырнуть в убийственное море.
Фагоры покрепче сжали копья и неуверенно двинулись к «Новому сезону».
Песок скрипел под их ногами. Время от времени подвижные уши фагоров разворачивались назад, в сторону несущегося к ним стада фламбергов.
По одну сторону косы скопились мелкие айсберги не выше рогов рунта, бредущего рядом со своей гиллотой. У борта судна тоже сгрудились айсберги; некоторые, словно управляемые неведомой волей, выписывали в море неподалеку от корабля странные фигуры, представляясь в сумеречном свете смутными призраками, отражаясь в воде, словно тени предков в привязи фагоров.
Постепенно коса сужалась, поэтому анципиталам приходилось идти гуськом. Наконец цепочку анципиталов возглавили двое сталлунов. Перед ними высился пустынный корабль.
Неожиданно под ногами передних фагоров что-то треснуло и рассыпалось осколками. Фагоры остановились, но задние толкнули их вперед. Снова что-то захрустело под их ногами, затрещало и рассыпалось. Глянув вниз, они увидели осколки чего-то белого, и это белое простиралось от них до самого борта корабля.
— Впереди лед, и он трескается, — сообщили передние фагоры задним, используя постоянное продолженное «родного» анципиталов. — Возвращаемся, или все проваливаемся в мир утопленников.
— Но мы должны убить сынов Фреира, как велено. Идти вперед.
— Мы не можем, мир утопленников защищает сынов Фреира.
— Тогда возвращаемся. Держим рога высоко.
Спрятавшись под бортом «Нового сезона» Лутерин Шокерандит и Торес Лахл проследили за тем, как их недруги повернули к берегу и укрылись под скалой.
— Они еще могут вернуться. Нужно снять корабль с мели как можно скорее, — сказал Шокерандит. — Давай посмотрим, сколько человек из команды выжило.
— Прежде чем мы отплывем от берега, нужно убить одного или двух фламбергов, если они окажутся неподалеку. Иначе всем нам придется голодать.
Они с тревогой переглянулись. Одинаковая мысль мелькнула в их головах: на борту они находятся с командой мертвецов или в лучшем случае помешанных.
Встав спиной к мачте, они принялись громко сзывать всех на палубу, оглашая своим криком просторы вод и суши. Через некоторое время раздался чей-то ответный крик. Тогда они закричали, чтобы человек поднимался наверх.
Из кормового отсека, шатаясь, появился мужчина. Он тоже претерпел метаморфозы и имел типичный вид пережившего жирную смерть, фигуру-бочонок. Его одежда стала ему мала и лопалась, некогда худое лицо стало широким и казалось забавно растянутым. Они с трудом узнали в этом человеке Харбина Фашналгида.
— Рад, что ты жив, — сказал Шокерандит.
Изменившийся Фашналгид предостерегающе поднял руку и тяжело уселся на палубу.
— Не подходите ко мне, — сказал он. И прикрыл лицо руками.
— Если ты уже оправился, то нам нужна помощь, мы снова хотим выйти в море, — сказал Шокерандит.
Фашналгид рассмеялся, не поднимая глаз. Шокерандит заметил, что на руках и одежде капитана запеклась кровь.
— Оставь его в покое, ему нужно прийти в себя, — проговорила Торес Лахл.
Фашналгид издал хриплый смешок и взглянул на них:
— Как можно после этого прийти в себя! Как возможно! — закричал он. — И зачем мне приходить в себя... Последние несколько дней я ел сырое мясо аранга — а для того, чтобы получить это мясо, я убил человека... Я съел все — с потрохами... А потом нашел Беси Бесамитикахл, она мертва. Беси, моя дорогая, доверчивая девочка... Зачем мне приходить в себя? Я хочу умереть.
— Ты скоро поправишься, — сказала Торес Лахл. — А ее ты едва знал.
— Мне очень жаль Беси, — подал голос Шокерандит. — Но нужно снять корабль с мели.
Фашналгид ожег их взглядом.
— В этом вы все — сразу уступаете обстоятельствам, проклятые слабаки! Вам все равно, что случилось, вы делаете то, что должны. По мне, пусть этот корабль сгниет, плевать.
— Ты пьян, Харбин.
Шокерандит чувствовал моральное превосходство над этой жалкой фигурой.
— Беси умерла. Мне теперь все равно.
Фашналгид лег на палубу.
Торес Лахл повернулась к Шокерандиту. Они двинулись прочь.
Взяв пожарные топоры, они взломали дверь каюты и спустились вниз.
Когда Шокерандит оказался в коридоре, на него бросился нагой мужчина. Человек схватил Шокерандита за горло и повалил на колени. Нападающий — родственник Одима — больше походил на обезумевшее животное, чем на человека. Он вцепился скрюченными пальцами в Шокерандита без явной попытки одолеть его. Шокерандит ударил человека кулаком в лицо, потом оторвал от себя его руки и сильно толкнул. Безумец упал на спину, Шокерандит пнул его в живот, уперся ему коленом в грудь и придавил к палубе.
— Что теперь с ним делать? Бросим его фагорам?
— Свяжем и оставим в каюте.
— Не стоит рисковать.
Шокерандит подобрал с пола тяжелый нож и, размахнувшись, ударил распростертого мужчину рукояткой по голове. Тот мигом обмяк.
Потом они направились на корму, к каюте капитана. Каюта была заперта, но под их дружными ударами замок сломался, и они ворвались внутрь. И оказались в довольно просторном помещении, хорошо обставленном, с иллюминаторами, из которых открывался вид на море.
Но тут же отпрянули обратно к дверям. На полу спиной к иллюминаторам сидел человек с нацеленным на них старинным мушкетом с дулом-раструбом в руках.
— Не стреляйте! — поспешно проговорил Шокерандит. — Мы не причиним вам вреда.
Мужчина поднялся на ноги. И опустил оружие.
— Я чуть не пристрелил вас — решил, что вы тронутые.
Фигура человека была непривычно плотной и коренастой. Он наверняка уже пережил жирную смерть. Они узнали капитана. Несколько корабельных офицеров лежали на полу со связанными руками. Их рты были заткнуты тряпками.
— Нам тут пришлось повеселиться, — объяснил капитан. — Но мы отлично провели время. По счастью, я был первым, кто пришел в себя, и мы потеряли только одного товарища — для употребления в пищу, скажем так, извините за выражение. Еще несколько часов, и все эти офицеры поправятся окончательно.
— Значит, сейчас вы можете оставить их и помочь нам осмотреть корабль, — резко проговорил Шокерандит. — Мы сели на мель, а на берегу фагоры, которые вот-вот нападут на нас.
— А как дела у хозяина, Эедапа Мун Одима? — спросил капитан, выходя вместе с ними из каюты с ружьем в руках.
— Одима мы пока не видели.
Они нашли его позже. Одим заперся в каюте с запасом воды, сушеной рыбы и корабельных сухарей, как только почувствовал первое приближение болезни. Он тоже претерпел метаморфозу. Теперь он стал на несколько дюймов ниже ростом, но его тело осталось таким же стройным, как прежде. Характерная выправка исчезла. Теперь Одим был одет в просторную, не по размеру, моряцкую одежду. Мигая, он вышел на палубу, словно медведь, пробудившийся от зимней спячки.
Когда они окликнули его, он быстро оглянулся и нахмурился. Шокерандит медленно и осторожно подошел, отлично понимая, что наверняка уже видел всех, кто пережил на борту корабля жирную смерть. Он назвал Одиму свое имя.
Не обращая на Шокерандита внимания, Одим подошел к борту и перегнулся через поручни. Когда он заговорил, его голос дрожал от гнева:
— Только взгляните на это варварство! Какой-то прохвост выбросил за борт мои лучшие тарелки. Это просто кошмар, такое расточительство. То, что на корабле вспыхнула болезнь, не может служить оправданием... Кто это сделал? Я требую ответа. Этот негодяй не поплывет со мной дальше.
— Ну... — подала было голос Торес Лахл.
— Э-э-э... — протянул Шокерандит. Потом собрался с духом и сказал:
— Сударь, признаюсь, что это я. На нас напали фагоры, и мы были вынуждены поступить так.
Шокерандит указал на фагоров, которых и сейчас можно было видеть на пригорке.
— В фагоров нужно стрелять, а не бросать в них тарелки, сумасшедший, — рассерженно проговорил Одим. Он уже обуздал свой гнев. — Вы впали в безумие — это ваше оправдание?
— На этом корабле не было оружия, чтобы защищаться. Мы увидели, что фагоры собираются напасть — а они бы повторили попытки, если бы оказались в безвыходном положении, и я намеренно сбросил ящик с этими тарелками за борт, чтобы закрыть песок внизу. Как я и рассчитывал, мохнатые поверили, что ступили на тонкий лед, и поспешно отошли назад. Мне очень жаль, что ваш фарфор пропал, но зато мы спасли корабль.
Одим ничего не ответил. Он оглянулся на палубу, куда-то на мачту. Потом достал из кармана небольшую черную записную книжку и изучил ее.
— В Шивенинке этот сервиз можно было бы продать за тысячу сибов, — сказал он негромко, быстро взглянув на присутствующих.
— Зато мы спасли весь остальной фарфор на корабле, — сказала Торес Лахл. — Все остальные ваши ящики невредимы. Как ваша семья?
Что-то бормоча себе под нос, Одим делал в блокноте пометки карандашом.
— А может быть, и дороже... Что ж, спасибо, спасибо... Хотелось бы знать, когда такой тонкий фарфор снова смогут производить? Быть может, не раньше весны следующего Великого Года, только через несколько веков, в будущем. Почему никто из вас об этом не задумался?
Он рассеянно повернулся, чтобы пожать руку Шокерандиту, глядя при этом куда-то в сторону:
— Мои благодарности. И спасибо за то, что спасли корабль.
— Нам еще нужно снять корабль с мели, — напомнил капитан.
Шум, производимый стадом фламбергов, стал еще громче. Они повернулись, чтобы посмотреть туда, где менее чем в миле от них по суше катила живая волна копытных. Одим исчез, никем не замеченный.
И лишь погодя они открыли причину его чуть эксцентричного поведения. Не только смерть дорогой Беси Бесамитикахл расстроила Одима. Из трех его детей лишь старший сын, Кенигг, пережил мучения жирной смерти. Жена Одима умерла. От ее тела и головы ничего не осталось, кроме груды костей.
Снять корабль с мели удалось лишь через несколько часов. Когда часть членов экипажа снова встала на ноги, после нескольких попыток под командованием капитана корабль вновь был готов к плаванию. Тех, кто еще болел, устроили с возможным комфортом в каюте врача. Раненых осмотрели и перевязали. Выздоравливающих вынесли на свежий воздух. Умерших завернули в одеяла и выложили ровным рядом на верхней палубе. Выживших оказалось двадцать один человек, включая капитана и одиннадцать членов экипажа.
Когда все были осмотрены и пересчитаны и на корабле воцарился порядок, устроили службу, дабы восславить бога Азоиаксика и установить положенный ход вещей.
Распевая свои наивные гимны, они не замечали того, что над их выживанием не властен ни один из признанных местных богов.
В тот период Гелликония приближалась к условиям, примерно соответствующим тем, что существовали до того, как Беталикс оказался втянутым в гравитационное поле сверхгиганта класса A. Прежде планета порождала разнообразие видов и классов существ, от вирусов до китов, ограничивая энергопотребление или сложность поддержания жизни благодаря усложнению клеточной организации, необходимому для выстраивания блоков высшего ментального существования — мышления, логического умозаключения и, наконец, проницательности, соответствующей полноценному сознанию. В этом отношении анципиталы превосходили прочие виды существ Гелликонии.
Анципиталы были неотъемлемой частью общей интегральной схемы существования биосферы Гелликонии. Одной из функций этой оси системы — что осознавал мало кто из живущих — было поддержание оптимальных условий существования. Как желто-полосатая муха не могла жить без фламбергов, так, с другой стороны, фламберги не могли жить без желто-полосатой мухи. Все проявления жизни были взаимосвязаны.
Захват Беталикса сверхгигантом стал событием величайшего значения, совершенно не катастрофическим для жизни на Гелликонии, хотя многим видам и классам живых существ это событие принесло гибель. Воздействие захвата оказалось существенным для биосферы, но она его выдержала, хоть и изменилась. Планеты сами о себе позаботились. Луна исчезла; но процессы жизнедеятельности продолжались, хотя и через посредство катастроф, несущих с собой штормы и ураганы, длящиеся иногда сотни лет.
Сверхактивное излучение нового солнца повлекло за собой гораздо большие жертвы. Огромное количество биологических типов было просто уничтожено, другие выжили только благодаря мутациям. Среди новых видов были такие, кто с эволюционной точки зрения начал развиваться чрезвычайно бурно; эти выжили в новых условиях окружающей среды только ценой части себя. Ассатасси в море, рождающиеся из червей, возникающих из разлагающихся тел своих родителей; лойси и двулойси, некрогены, напоминающие млекопитающих, но лишенные матки; человеческое стадо — вот каковы были некоторые из новых типов живых существ, родившихся под влиянием новых условий существования за восемь миллионов лет до сегодняшнего дня.
Новые существа были продуктом стремления биосферы к целостности и выполняли свою задачу за время, потребное для наибольшей перемены. До захвата Фреиром в атмосфере Гелликонии содержалось большое количество двуокиси углерода, защищающей жизнь благодаря парниковому эффекту, устанавливающему среднюю температуру -7 градусов Цельсия. После захвата содержание двуокиси углерода в атмосфере начало уменьшаться, во время периастра двуокись углерода соединялась с водой в виде углеродных скал и камней. Уровень содержания кислорода повысился до значения, более подходящего новым существам: люди не могли жить в бедном кислородом Никтрихке, как жили теперь фагоры. В морях увеличение концентрации макромолекул привело к повышению активности далее по пищевым цепочкам. Все эти изменения параметров существования происходили в рамках регулирующих функций биосферы Гелликонии.
Люди, наиболее сложно организованные формы жизни, были наиболее уязвимы. Однако они могли восстать духом против идеи, их совместное, общественное проживание никогда не было чем-то большим, нежели частью нового баланса расстановки сил, возникшего на их родной планете. В этом отношении они мало чем отличались от рыб, грибов и лишайников или фагоров.
Для того чтобы наилучшим образом функционировать в новых, до предела ужесточившихся условиях Гелликонии, эволюция внедрила систему регулирования человеческой массы на планете. Плеоморфный вирус «гелико» и его коренной носитель, вошь акропода, быстро переносились с фагоров на людей. Вирус вызывал эпидемии продолжительностью до двух обычных лет Гелликонии, весной и осенью Великого Года, затихая и впадая в спячку между двумя этими циклами. Два временных проявления болезни были известны как жирная смерть и костная лихорадка.
Физиологическое гендерное различие между мужчинами и женщинами было невелико; тем не менее оба пола обнаруживали заметные конституционные изменения в зависимости от времен Великого Года. В летний период Великого Года мужчины и женщины весили приблизительно около ста двадцати фунтов. Осенью же и зимой происходит существенное изменение массы тела.
Весной вес тела уцелевших составлял около девяноста фунтов, люди становились подобны иссохшим скелетам, словно испытали все невзгоды жизни. Эта худоба передавалась по наследству. В период постоянно нарастающей жары поджарость была необходима для выживания. Постепенно худоба медленно сходила на нет, и со временем люди снова набирали вес, равный в среднем ста двадцати фунтам.
К зиме вирус возвращался, отчасти повинуясь сигналам желез. Выжившие после вирусной атаки не теряли, а прибавляли в весе — в среднем до пятидесяти процентов своего веса до болезни. Люди переходили из состояния эктоморфов одного экстремального положения к эндоморфам другого экстремума.
Этот патологический процесс выполнял важнейшую функцию поддержания существования человечества как вида, оказывая побочный эффект, благоприятный для биосферы в целом. По мере весеннего роста энергетической квоты планета требовала увеличения способной систематически обрабатывать ее функциональной биомассы, в то время как зимой сокращение притока к поверхности космических энергий требовало уменьшения биомассы. Вирус помогал людям приспособиться к новым условиям организации пищевых цепочек в биосфере.
Человеческое существование было невозможно без вируса, как существование стад фламбергов было бы совершенно невозможно без проклятия желто-полосатой мухи.
Вирус уничтожал. Но тем самым дарил жизнь.
Глава 8 Насилие матери
С берега дул ровный легкий ветерок. Облака расступились, явив в вышине Беталикс. Море сверкало, брызгая мельчайшими жемчужинами воды и пены. «Новый сезон» быстро шел на юго-запад, и ветер пел в его снастях.
Вдоль берегов Лорая на севере стояли Осенние дворцы, одна терраса над другой. В этих камнях, простирающихся вдоль берегов в пространстве и во времени, были заключены сны давно забытых тиранов. По легенде некогда в этих гулких стенах обитал сам король Дэннис. Со дня своего основания дворцы, подобно некоторым незавершенным человеческим отношениям, никогда не считались постоянно обитаемыми, как никогда не считались полностью покинутыми. Дворцы оказались слишком грандиозными и для тех, кто воздвиг их, и для тех, кто их унаследовал. Но с той поры как «осень» впервые окутала эти башни, вознесшиеся над протяженными гранитными стенами, дворцы постоянно использовались — уже долгое время. Человеческие существа — целые племена — обитали здесь, подобно птицам в заброшенном саду.
Ученые мужи, вовсю штудирующие прошлое, тоже наведывались в Осенние дворцы. Для них дворцы были крупнейшим археологическим полигоном в мире, где разрушенные подвалы могли намеками поведать о прошлом человека. И что это были за подвалы! Лабиринты бесконечных переходов, уходящих в недра земли и в скалы, выстроенные словно для того, чтобы добывать тепло из самого сердца Гелликонии. Здесь можно было найти воспоминания, запечатленные в глине и камне: крылышки древних насекомых, отпечатки скелетной структуры листьев давно исчезнувших видов деревьев, черепа, которые можно было измерить, зубы, которые можно было вставить обратно в лунки в черепе, мусорные кучи, оружие, рассыпающееся в ржавчину... историю планеты, терпеливо дожидающуюся расшифровки и понимания и так же мучительно остающуюся вне понимания, как и исчезнувшие человеческие жизни.
Дворцы виднелись в дымке бледными силуэтами, и «Новый сезон» прошел мимо них, оставив далеко по правому борту.
Поредевшая команда время от времени замечала другие корабли. Когда проходили мимо порта Идживибир, пришлось обогнуть рыболовецкую флотилию, активно занятую своим делом. Дальше в море часто встречались военные корабли, напоминающие о том, что раздор между Ускутошком и Брибахром до сих пор не окончен. Никто не замечал их и даже не пытался подать сигнал. Следом за кораблем плыли ледяные дельфины.
После Класита капитан решил, что настала пора высадиться на берег. Здешние воды были ему знакомы и он решил запастись провизией перед последним долгим переходом до шивенинкского порта Ривеник. Пассажиры сомневались в мудрости решения высадиться на берег, особенно ввиду памятной недавней стычки с фагорами, но капитан был уверен, что на суше опасности нет и в помине.
Эта часть Лорая находилась на севере тропиков и все еще была плодородна. На берегу лежала малонаселенная страна богатых лесов, озер, рек и полей. Еще севернее начинались каспиарновые леса и древние скалы, тянущиеся до самой ледяной полярной шапки.
На берегу отдыхали шлемовые тюлени, встречавшие ревом пассажиров «Нового сезона». Охотиться было просто — тюлени не оказывали сопротивления, когда их забивали веслами. Веслом нужно было попасть тюленю под нижнюю челюсть, в уязвимое место на горле, перекрывая доступ воздуха в легкие, и животное умирало от удушья. Мореплаватели смущенно отводили взгляды, пока тюлени катались по камням в агонии. Другие тюлени часто пытались помочь своим товарищам, жалобно скуля при этом.
Головы этой породы тюленей венчало нечто похожее на шлем. «Шлем» был видоизменившимися рогами — в далеком прошлом тюлени произошли от сухопутных животных, вынужденных, спасаясь от Вейр-Зимы, бежать обратно в океан. Теперь шлемы защищали уши и глаза животных, а также череп.
Стоило людям немного отвлечься от своей добычи, как из моря появились ходячие рыбы и прямо из пены волн бросились по пологому каменистому берегу к тюленям, многие из которых еще умирали, и жадно принялись вырывать куски мяса из жирных тел.
— Эй! — крикнул Шокерандит и ударил веслом одну из рыб. Остальные испуганно разбежались и попрятались среди камней. Раненная Шокерандитом рыба осталась лежать рядом с тюленем. Шокерандит поднял ее и показал Одиму и Фашналгиду.
Длиной она была не менее метра. Шесть «ног» рыбы на самом деле были плавниками. Рыба обладала большой зубастой пастью и длинными мясистыми усами. Она крутила головой из стороны в сторону, щелкая зубами и пытаясь ухватить руку своего пленителя. Ничего не выражающие бледные глаза смотрели на людей.
— Видите, кого я поймал? — спросил Шокерандит. — Это скаппер. Очень скоро эти рыбы выйдут на сушу многими тысячами. Большую часть сожрут птицы. Но некоторые выживут и пророют в земле норы, где поселятся в безопасности. Потом, когда придет Вейр-Зима, эти рыбы вырастут длинными, как змеи.
— Это черви Вутры, их еще так называют, — заметил капитан. — Лучше выбросьте ее, господин. Этих рыб моряки не употребляют в пищу.
— Но в Лорае скаппера едят.
Капитан ответил вежливо, но твердо.
— Сударь, в Лорае едят и червей — и признают их деликатесом. А эти рыбы ядовиты. Лорайцы варят их с ядовитыми лишайниками и говорят что два яда убивают друг друга. Я лично, сударь, пробовал это блюдо — несколько лет назад, когда потерпел у этих берегов крушение. И до сих пор от вида и вкуса этой рыбы меня воротит, и уж, конечно, я не хочу, чтобы мои люди набивали животы этой пакостью.
— Хорошо.
Шокерандит выбросил извивающуюся рыбу в море.
Над их головами с криками носились фагоровы белые птицы и другие пернатые. Моряки, освежевав шесть шлемовых тюленей, поскорее отнесли мясо к шлюпке. Остатки бросили на берегу, другим хищникам.
Торес Лахл молча плакала.
— Забирайтесь-ка в лодку, — велел Фашналгид. — Зачем лить слезы?
— Какое ужасное место, — ответила женщина, отворачиваясь от капитана. — Место, где из воды выбираются ходячие рыбы и где все поедает вся.
— Таков мир, сударыня. Прыгайте в лодку.
Они поплыли обратно к кораблю, а птицы преследовали их, и кричали, и плакали.
«Новый сезон» поднял паруса и снова пошел по тихой воде в сторону Шивенинка. Торес Лахл пыталась поговорить с Шокерандитом, но тот приказал ей отойти. Ему нужно было что-то обсудить с Фашналгидом. Торес Лахл встала у борта и, приложив ладонь козырьком к глазам, принялась рассматривать неясный дальний берег.
К ней подошел Одим и встал рядом.
— Не нужно печалиться. Очень скоро мы доберемся до Ривеника и там уже будем в безопасности. Мой брат позаботится о нас, у нас появится время отдохнуть и забыть все обрушившиеся на наши плечи несчастья.
Слезы снова навернулись на глаза Торес Лахл.
— Вы верите в бога? — спросила она, повернув к Одиму мокрое от слез лицо. — Во время этого плавания вам пришлось пережить такое горе.
Одим помолчал, прежде чем ответить.
— Сударыня, всю жизнь я прожил в Ускутошке. Моя вера та же, что у ускутов.
Я был верующим человеком — то есть регулярно молился Азоиаксику, богу Сиборнала. Теперь мне пришлось уехать из этой страны, или, скорее, эта страна заставила меня уехать, изгнала меня, поскольку я не ускут. Я сам теперь вижу, насколько я не ускут. И более того, я вдруг обнаружил, что совершенно не верю в Бога. После того, как Бог ушел от меня, я почувствовал, как с моей души словно сняли камень.
В подтверждение своих слов Одим постучал себя по груди.
— Я говорю об этом только вам, потому что вы не ускутка.
Торес Лахл махнула рукой в сторону берега, мимо которого они проплывали.
— Этот жестокий край... эти ужасные животные... и все, о чем я думала... мой муж пал в битве... кошмар, который творился на этом корабле... все становится только хуже, год от года... Почему я не родилась во времена весны? Извините, Одим, — это так непохоже на меня...
Помолчав, он мягко сказал:
— Я вас понимаю. Я тоже пережил страшное горе. Моя жена, мои дети, дорогая Беси... Но я нисходил в паук, разговаривал с духом жены, и она утешила меня. Почему бы вам не обратиться к своему мужу в пауке, сударыня?
Она тихо ответила ему:
— Да, да, я уже спускалась к призракам и встречалась с мужем. Но он не таков, каким я бы хотела его видеть. Он утешил меня и сказал, что я должна найти свое счастье с Лутерином Шокерандитом. Он простил меня. Он так добр, все простил...
— В самом деле? Из того, что я слышал и видел, можно решить, что Лутерин вполне приятный и достойный молодой человек.
— Я никогда не смогу простить его. Я его ненавижу. Он убил Бандала Эйта. Как я могу принять его?
Торес Лахл вздрогнула от терзающих ее внутренних противоречий.
Одим пожал широкими плечами.
— Но если так советует призрак вашего мужа....
— Я женщина с принципами. Может быть, когда ты мертв, прощать легче. Все призраки говорят одинаковыми голосами, сладкими, как дух разложения. Наверное, я больше не стану входить в паук, это дурная привычка, нужно ее бросить... Я не могу принять мужчину, который превратил меня в рабыню — с какими бы намерениями он ни предлагал стать его женой. Никогда. Это будет противно моей натуре.
Одим накрыл руку девушки своей.
— Противно вашей натуре, в самом деле? Тогда вам стоит подумать о том, что за жизнь может ожидать нас, изгнанников, в новом мире, как пытаюсь представить это себе я. Мне двадцать пять лет и пять теннеров — я уже не зеленый юнец! А вы еще моложе. Олигархия старательно заботится о том, чтобы превратить весь мир в камеру пыток. Но явью это становится только для тех, кто позволяет себе верить в это.
Когда мы вышли на берег, чтобы убить тюленей — всего шесть из тысяч и тысяч, всего лишь! — мне вдруг представилось, до чего замечательным образом изменилось мое тело в предчувствии близкой зимы! Я нарастил на теле жир и изгнал из своей души бога Азоиаксика... — Одим вздохнул. — Мне трудно вести сложные беседы. Я гораздо ловчее управляюсь с цифрами. Ведь я всего лишь купец, понимаете, сударыня? Но метаморфозы, которые нам пришлось перенести — мне показалось, что это так прекрасно... что мы должны, просто обязаны, жить в согласии с природой и ее мудрой бухгалтерией.
— Вы считаете, я должна сдаться на милость Шокерандита, да? — спросила Торес Лахл, глядя Одиму прямо в глаза.
В уголках губ купца появилась улыбка.
— Харбин Фашналгид тоже смотрит на вас благосклонно, сударыня.
Они рассмеялись, и Кенигг, единственный выживший сын Одима, подбежал к ним и обнял. Одим наклонился и расцеловал сына в обе щеки.
— Вы удивительный человек, Одим, я всегда так считала, — сказала Торес Лахл, прикасаясь к руке Одима.
— Вы тоже замечательная — только не перестарайтесь, иначе это помешает вашему счастью. Так говорили в Кай-Джувеке в старые времена.
Торес Лахл склонила голову, словно соглашаясь, и в ее глазах блеснули слезы.
Когда корабль подходил к берегам Шивенинка, погода внезапно испортилась. Шивенинк был узкой полоской земли, страной, почти целиком состоящей в основном из прекрасных, но совершенно безжизненных горных цепей — то был Шивенинкский хребет, давший имя и самой стране. Хребет разделял земли Лорая и Брибахра.
Шивенинкцы были мирными и богобоязненными людьми. Казалось, весь их гнев иссяк в пору страшных первородных тектонических катаклизмов, породивших их горную страну. В укромном месте природной твердыни шивенинкцы построили артефакт, чудо света, придавшее их нации особую святость и устремленность, Великое Колесо Харнабхара. Это колесо превратилось в символ не просто Сиборнала, но всего мира.
Огромные киты высовывали из вод клювастые головы, чтобы поглядеть, как «Новый сезон» входит в воды Шивенинка. Внезапная метель, налетевшая на корабль, почти полностью скрыла из вида китов.
Последние дни плавания давались с большим трудом. Ветер свистел в снастях, волны били в борта и осыпали палубу ледяными брызгами; бриг раскачивался из стороны в сторону — игрушка во власти яростных волн. В густых сумерках, ужасно похожих на полную тьму — то был час заката Фреира, — морякам приходилось лазить по вантам. Из-за нового строения тел это было нелегко, руки стали неловкими. Моряки взбирались на мачты — мокрые, пронизываемые до костей ветром, избитые и измученные. Потом снова спускались на палубу, беспрестанно окатываемую волнами. Бесполезные паруса были убраны.
Команда была занята, и из-за острой нехватки людей Шокерандиту и Фашналгиду вместе с выжившими родственниками Одима приходилось работать у помп. Две помпы находились в центральной части корабля, на нижней палубе возле грот-мачты. Работать у помпы могли одновременно восемь человек, по четыре на каждую ручку. В маленьком помповом отсеке едва хватало места для шестнадцати человек. Волны беспрестанно обрушивались на верхнюю палубу, вода катилась вниз, и казалось, что все труды пропадают зря, что это никогда не кончится. Люди с проклятиями продолжали качать, помпы скрипели, словно злобные старухи, вода все лилась и лилась.
По прошествии двадцати четырех часов ветер начал стихать, барометр установился, волны перестали походить на горы. Медленно кружась, падал снег, со стороны суши ровно дул слабый ветер. На берегу не было видно ничего, хотя его близость ощущалась постоянно, словно там залегло какое-то огромное существо, окаменевшее, но готовое вот-вот проснуться от векового сна. Мореплаватели глядели в сторону берега, напрягая глаза, но ничего не видели в густом снегу.
На следующий день погода улучшилась, словно своим оркестром приветствуя их труды.
В зеленых водах вокруг плавали запорошенные снегом айсберги. Над головой сиял Беталикс. Спящее существо медленно пробуждалось, показываясь миру. Поначалу были видны лишь его ноги.
На фоне огромных голубовато-зеленых бастионов, чьи вершины терялись в облаках, корабль превратился в игрушку. Он, снова под всеми парусами, на отличной скорости шел вперед, на запад, и бастионы представали во всей красе. Эта горная страна не поддавалась пониманию, каждая вершина казалась выше предыдущей. Выходящие из моря огромные гранитные столбы словно были намеренно вырублены для важных целей человеческой рукой, с тем чтобы служить опорой уходящим почти вертикально вверх стенам скал. Тут и там за крутые склоны цеплялись деревья, находя укромные места в складках утесов. Белые от снега горизонтальные извилины-морщины подчеркивали трещины на каждой гранитной стене.
Пропасти между горными склонами были глубоки и вместительны — там горы хранили запасы мрака и бурь. В этих ущельях постоянно сверкали молнии. Над пропастями, опираясь на восходящие потоки воздуха, реяли белые птицы. Из нутра этих мглистых ущелий доносились странные, небывалые звуки, разносившиеся над просторами вод множащимся эхом, болезненно обжигая сознание людей, словно соль, засыхающая на их губах белым налетом.
Редкие лучи солнца, которым удавалось проникнуть в эти туманные провалы, высвечивали в их дальних углах голубые потеки ледников, исполинские водопады, застывшие навеки, некогда обрушивавшиеся с высочайших горных вершин, лед, камень и ветер, почти постоянно укрытые облаками.
Потом показалась бухта, еще больше предыдущей. Залив, окруженный черными стенами. В устье залива из воды поднималась скала, которую не смогло подточить и одолеть море; на скале был устроен маяк. Этот знак присутствия человека лишь усугублял чувство гнетущего одиночества. Капитан кивнул и проговорил:
— Это залив Ваджачар. Отсюда можно увидеть и сам Ваджачар — он торчит из моря, словно зуб на нижней челюсти залива.
Они поплыли дальше, и огромный возвышающийся кусок мира, казалось, плыл вместе с ними.
Позже, когда они добрались до полуострова Шивен, береговой пейзаж отчасти утратил гнетущую грандиозность. Чтобы дойти до Ривеника, требовалось обогнуть полуостров. На его берегах не было бухт. Главной отличительной чертой Шивена были его размеры. Даже бывалые моряки в часы, свободные от вахт, поднимались на палубу, чтобы насладиться зрелищем.
Пологие просторные склоны Шивена покрывала растительность. Ползучие растения свешивались вниз, ниспадая, словно миниатюрные водопады, начавшие да так и не завершившие свое падение, иссеченные ветрами, терзающими морщинистый лик скал. Временами облака расступались, чтобы продемонстрировать снежные вершины великих скалистых гор, подпирающих небеса. Это был южный отрог хребта, изогнувшегося на север, чтобы там соединиться с огромным лавовым плато, составляющим часть полярной ледяной шапки.
В нескольких милях от корабля хребет поднимался на шесть с четвертью миль над уровнем моря. Превышая все мыслимые земные горы, Шивенинкский хребет уступал разве что Верхнему Никтрихку Кампаннлата. Хребет являл собой один из самых примечательных видов планеты. В круговерти порожденных им самим бурь, в собственном особом климате, Великий Хребет изредка являлся человеческому взору, устремленному разве что с палуб проплывающих кораблей.
Освещенные почти горизонтальными лучами Фреира, горы были ареной игры теней и света, от которой захватывало дух. Мореплавателям все казалось новым и замечательным, все вызывало восторг. Для того чтобы увидеть такое величие, все высыпали на палубу. Хотя они видели это впервые, зрелище оставалось невероятно древним, даже по планетарным понятиям.
Вершины, что вздымались над ними, образовались примерно четыре тысячи с лишним миллионов лет назад, когда в кору Гелликонии, формирование которой еще не завершилось, врезался метеорит. Шивенинкский хребет, Западный Барьер Кампаннлата, а также далекие горы Геспагората остались памятником этим событиям, образовав сегменты огромного круга, представляющего собой результат единого мощного выброса. Океан Климента, который моряки считали бескрайним, лежал в сердце первичного кратера.
Так они плыли день за днем. По правому борту, словно во сне, тянулся полуостров, неизменный, словно бы нескончаемый.
Один раз они миновали небольшой остров, жалкий прыщик на лике океана, частицу, отколовшуюся от массы материка. И хотя было трудно представить, что кто-то способен жить в таких ужасающих условиях, тем не менее остров был обитаем. Корабля достиг запах костра; запах дыма и вид хижин, притулившихся между деревьями, разбудил в мореплавателях тоску по твердой земле, но капитан словно ничего не слышал и не видел.
— Эти островитяне сплошные пираты, отчаянные головорезы, а есть и такие, кто потерял свои корабли во время штормов. Стоит нам пристать к берегу, и они немедленно убьют нас и попытаются захватить наш корабль. Я скорее доверюсь стервятникам.
От острова отчалили три длинных кожаных каноэ. Шокерандит пустил по кругу подзорную трубу, и все увидели мужчин, одетых в черное, которые что было сил гребли им вдогонку, так, словно от этого зависели их жизни. На носу одной из лодок стояла нагая женщина с распущенными волосами. На руках она держала ребенка и кормила его грудью.
В тот же миг с гор налетела новая буря, мгновенно затянув море мглой. Снежинки падали на грудь женщины и таяли там.
«Новый сезон» шел на всех парусах, и каноэ было за ним не угнаться. Скоро лодки остались далеко за кормой. И все равно гребцы продолжали трудиться с прежним пылом. Каноэ уже почти скрылись из виду, а мужчины в черном по-прежнему гребли словно безумные.
Раз или два облака и туман расступались, и мореплаватели могли ненадолго увидеть вершины Шивена. Те, кто первыми замечали разрыв в облаках, немедленно оповещали криками остальных, и все стремглав бросались на палубу, чтобы с восторгом лицезреть, как высоко в небеса уходили сочащиеся влагой скалы, вертикальные джунгли, снежные равнины.
Один раз они увидели обвал. Часть утеса оторвалась от массы полуострова и рухнула в море. Падение продолжалось, казалось, бесконечно, увлекая за собой все больше камней и скал. Там, где камни падали в море, вздымались громадные волны. Огромный клин льда упал и исчез под водой, чтобы вновь лениво появиться на поверхности. Вслед за первой льдиной упали другие — очевидно, ледник был скрыт наверху, где-то в облаках. Падение льдин рождало могучий звук и многократное эхо.
Колония коричневых птиц числом в несколько тысяч, крича от страха, снялась с берега. И так много было этих птиц, что шум их крыльев, когда они пролетали над кораблем, напоминал рев небольшой бури. Колония летела над ними в течение получаса, и капитан подстрелил нескольких птиц, чтобы разнообразить корабельное меню.
Когда же наконец бриг обогнул полуостров и взял курс на север, и до Ривеника оставалось два дня ходу, налетел новый шторм. Но этот шторм был слабее предыдущего. Корабль кружило в вихрях тумана и снега, налетающих мерными зарядами. Целый день солнце светило сквозь туман и метель неясным пятном, снег падал огромными хлопьями размером с человеческий кулак.
Но мало-помалу буран утих, измученные люди у помп наконец смогли, шатаясь, отправиться спать, и в эту самую пору перед кораблем возникла далекая полоска берега.
Утесы на этом берегу были не такими отвесными, хотя вселяли такой же благоговейный восторг. Из одной набрякшей дождем тучи выступила огромная, окутанная туманом статуя человека.
Человек словно бы собирался прыгнуть с берега на палубу «Нового сезона».
Торес Лахл вскрикнула от испуга.
— Это статуя Героя, госпожа, — сказал один из матросов, желая успокоить ее. — Знак того, что наше плавание подходит к концу — и хорошее предзнаменование.
Как только стало возможно оценить размеры берега, мореплаватели поняли, что статуя огромна. При помощи секстанта капитан продемонстрировал, что высота статуи составляет около тысячи метров.
Руки Героя были подняты над головой и чуть выдвинуты вперед. Колени чуть согнуты. Поза говорила о том, что он собирается то ли прыгнуть в море, то ли взлететь. Последнее подтверждала пара крыльев — или широко распахнутый плащ, развевающийся за широкими плечами. Для равновесия ступни статуи составляли единое целое с поверхностью скалы, из которой, очевидно, были высечены.
Статуя была стилизованная, вырубленная странными уступами, словно для того, чтобы больше соответствовать законам аэродинамики. Резкие черты были орлиными, хотя сохраняли и некоторое сходство с человеческими.
Подчеркивая торжественность картины, с далекого берега к бригу поплыл колокольный звон.
— Какая красивая статуя, верно? — не без гордости спросил Лутерин Шокерандит. Претерпевшие метаморфозу мореплаватели с тревогой взирали на великолепную фигуру, выстроившись у борта.
— И что она символизирует? — спросил Фашналгид, поглубже упрятывая руки в карманы шинели.
— Она ничего не символизирует. Просто стоит. Просто Герой.
— Но он же должен что-то означать?
Шокерандит, начиная раздражаться, ответил:
— Он просто стоит здесь — и все. Это человек. Он тут просто для того, чтобы смотреть на него и восхищаться.
Повисло неловкое молчание. Все слушали меланхоличный звон колокола.
— Шивенинк — страна колоколов, — заметил наконец Шокерандит.
— А у Героя случайно нет большого колокола в животе? — спросил юный Кенигг.
— Кому придет в голову устраивать колокольню в таком месте? — быстро спросил Одим, чтобы загладить впечатление от невежливого вопроса сына.
— Позвольте, молодой человек, объяснить вам, что эта статуя воздвигнута давным-давно — несколько Великих Лет назад, — ответил Шокерандит. — По легенде, статуя была воздвигнута расой сверхлюдей, так называют Архитекторов Харнабхара. Архитекторы также построили Великое Колесо. Это были самые умелые строители в мире, после них такой талант был утерян. Выстроив и наладив Колесо, эти строители воздвигли статую Героя. И с тех пор Герой охраняет подступы к Харнабхару и Ривенику.
— Вседержитель, куда мы приплыли? — спросил себя Фашналгид. И повернулся, чтобы спуститься к себе в каюту, выкурить вероник и почитать книгу.
* * *
После того как постапокалиптическая Земля снова погрузилась в безжизненность Ледникового периода, сигналы с Гелликонии поступали на протяжении еще трех веков. Ледники продвигались к югу, но на Земле, в дополнение к андроидам Харона, оставались люди, способные по-прежнему наблюдать за развитием истории открытой планеты.
Ледниковый период полностью вступил в свои права. Льды без следа стерли с лица земли шелуху гниющей оболочки мертвых городов. Льды уничтожили память о том, что на планете прежде обитал человека. Крысы, волки и мыши теперь жили там, где раньше пролегали скоростные шоссе. В южном полушарии льды также наступали. Пустынные Анды патрулировали одинокие кондоры. Поколение за поколением пингвины продвигались вместе с обеспечивающей им благоприятные условия существования полярной шапкой к пляжам Копакабаны.
Падения температуры на несколько градусов оказалось достаточно, чтобы разрушить шестеренки сложного механизма климатического самоконтроля. Ядерные взрывы произвели шоковое воздействие на живую биосферу — Гайю, Мать-Землю. Впервые за несколько миллионов лет Гайя столкнулась с грубой силой, которой не смогла противостоять. Мать была обесчещена и убита собственными детьми.
В течение сотен миллионов лет поверхность Земли постепенно формировалась в узком диапазоне температур, наиболее пригодных для поддержания жизни, — формировалась бессознательным сотрудничеством всех живых существ с их родительским миром. Несмотря на существенные колебания солнечной активности, приводящие к изменениям в составе атмосферы, равновесие и союз сохранялись. Соленость морей установилась на постоянном уровне 3,4 процента. В случае, если бы содержание солей внезапно возросло до 6 процентов, вся морская жизнь немедленно погибла бы. При повышенной солености разрушались все клеточные мембраны.
Точно так же содержание кислорода в атмосфере установилось на стабильном уровне 21 процента. Установился и процент аммиака в атмосфере. Образовался озоновый слой.
Это гомеостатическое равновесие установила Гайя, Мать-Земля, вместилище бытия всех живых существ, от секвойи до водоросли, от кита до вируса. И только человечество выросло и забыло Гайю. Человечество выдумало собственных богов, начало поклоняться им, впало в одержимость, и превратило свои божества в оружие против врагов — и против самого себя. Человечество сделалось рабом своей ненависти и любви. В безумии своей изоляции человечество изобрело запретное оружие разрушения. И, в пылу самоуничтожения, человечество едва не убило Гайю.
Гайя приходила в себя, хотя и ужасно медленно. Одним из явных симптомов ее заболевания было исчезновение деревьев. Эти вездесущие живые организмы, существующие везде, от тропиков до северной тундры, пали жертвой радиоактивности и невозможности фотосинтеза. С исчезновением деревьев разрушилось важное звено цепочки гомеостаза; приют, который деревья предоставляли миллиардам живых существ, был утерян.
На тысячу с лишним лет установились холода. Земля лежала в ледяной каталепсии. Но моря выжили.
Моря вобрали большую часть двуокиси углерода, образовавшейся в результате ядерного холокоста. Двуокись углерода, растворившись в морской воде, на века стала принадлежностью глубинной циркуляции океанских вод. Последующее высвобождение двуокиси углерода означало начало потепления, связанного с парниковым эффектом.
Как и раньше, жизнь вышла из моря. Многие компоненты биосферы — насекомые, микроорганизмы, растения, да и сам человек — выжили благодаря изолированности, несмотря на ураганы и иные неблагоприятные условия. Жизнь вновь закипела, белое безмолвие уступило место зелени. Вновь образовался озоновый слой, защищающий живые существа от смертоносного ультрафиолета. После таяния льдов зазвучали голоса разнообразных инструментов, вновь пробудившихся в общей оркестровой яме.
К 5900 году общее улучшение условий стало очевидным. Между низкорослыми шипастыми деревьями уже прыгали антилопы. Мужчины и женщины завернулись в шкуры и двинулись на север вслед за отступающими ледниками.
По ночам эти жалкие существа, прижавшись друг к другу в поисках тепла и защиты, смотрели вверх на звезды. А звезды мало изменились со времен человека палеолита. Изменилась раса людей.
Все нации ушли в небытие. Предприимчивые люди, придумавшие бесчисленные технологии и покорившие планеты-сестры, а потом добравшиеся и до звезд, выковавшие умное оружие и сложившие легенды — все они стерли себя с лица Земли. Единственными их наследниками стали бесплодные андроиды, работающие на внешних планетах.
Остались народности, по раннему пониманию относившиеся к расам-неудачникам. Они жили на островах или в дикой глуши, на вершинах гор или в устьях неукрощенных рек, в джунглях и на болотах. Когда-то эти люди были бедны. Но теперь они стали единственными обитателями Земли.
Они остались наслаждаться прелестями жизни. С первых поколений у этих людей, живших в пору отступления льдов, не было причин для ссор. Мир вокруг них пробуждался. Гайя простила их. Эти люди заново открыли способ жить в мире со всем миром, частью которого они были. И они вновь открыли Гелликонию.
С года 6000 несколько последующих веков Гайя, если можно так выразиться, постепенно выздоравливала. Огромные ледники быстро отступали к своим полярным чертогам.
Некоторые старые формы жизни все же уцелели. С возвращением суши открывались бастионы прежней технократической культуры — по преимуществу скрытые под землей в секретных военных комплексах. В самых глубоких бастионах жили потомки тех, чьи предки составляли правящую элиту технофильной культуры; эти существа обеспечили свое выживание, в то время как те, кем они управляли, погибли. Но эти живые ископаемые, стоило им выйти на солнечный свет, умирали в течение нескольких часов — подобно рыбам, выброшенным из океанских глубин, где давление невероятно высоко.
В их затхлых убежищах отыскалась надежда — связь с другой живой планетой. Сквозь пространство были отправлены сигналы к Харону, и на Землю прибыли отряды андроидов. Эти андроиды, действуя с неустанной сноровкой, выстроили по всей Земле здания-аудиториумы, в которых новое население могло наслаждаться видом происходящего на далекой планете.
Менталитет нового населения в большой степени сформировали события, которым люди стали свидетелями. Те, кто уцелел на далеких планетах, отрезанные от Земли, тоже были связаны с Гелликонией.
Аудиториумы стояли на свежих зеленых полях подобно воткнутым в песок ракушкам. Каждый был способен вместить до десяти тысяч человек. Обутые в сандалии, одетые в грубые шкуры, а позже в простую одежду, люди приходили взглянуть на чудо. Они видели, как планета, не многим отличающаяся от их собственной, медленно освобождается от цепких объятий длинной зимы. Такова же была и их собственная история.
Иногда аудиториумы безлюдели на несколько лет. Новое население порой переживало и свои кризисы, и естественные катаклизмы, которыми сопровождалось воскрешение Гайи. Люди унаследовали не только Землю, но и ее неустроенность.
Но при первой возможности новые поколения возвращались к наблюдению за историей жизни, протекающей параллельно их собственной. То было поколение безбожников, но фигуры на гигантских экранах представлялись им богоподобными. Эти боги участвовали в невиданных драмах страстей и веры, захватывающих и озадачивающих земную аудиторию.
К 6344 году разнообразие живых форм снова достигло умеренного изобилия. Человечество принесло суровую клятву владеть всем достоянием сообща, провозгласив, что не только жизнь, но и свобода жизни священна. Немалое влияние на землян оказывали события, разворачивавшиеся тогда в глухом уголке центрального континента Гелликонии, точнее — вождь тамошних жителей Аоз Рун. Земляне увидели, как хороший человек потерпел крах из-за стремления идти собственным путем. Для нового поколения «собственного пути» не существовало вовсе; был только общий путь, путь самой жизни, укт общественного духа.
Наблюдая за огромной фигурой Аоза Руна, глядя, как течет с его губ и бороды вода, которую он пьет из своих ладоней, земляне видели, как срываются и падают капли, совершившие свой полет тысячи лет назад. Человеческое понимание ушедших поколений заставляло прошлое и будущее сливаться воедино. На многие годы фигура Аоза Руна, пьющего из ладоней, стала популярной иконой.
Для нового поколения, с его обостренным ощущением жизни, было естественно задуматься о том, есть ли у них возможность помочь Аозу Руну и тем, кого он вел за собой. У этих людей не было намерений создавать и отправлять к другим мирам звездные корабли, о чем могли бы мечтать люди, жившие до ледникового периода. Вместо того они решили сфокусировать свое сознание и передать его в пространство при помощи аудиториумов.
Именно такой сигнал был отправлен с Земли в сторону Гелликонии, впервые отвечая на сигнал, который вот уже много лет передавался в обратном направлении.
Свойства человеческой расы теперь определял немного иной генофонд, чем раньше. Те, кто унаследовал Землю, умели сопереживать. Сочувствие и сопереживание никогда не были главными чувствами в предледниковом мире. Дар поставить себя на место другого, ощутить по определенным симптомам духовное состояние и раньше не был чем-то выдающимся. Но элита всегда презирала эту способность — или отвергала ее. Сочувствие было противно элитарным интересам рыночников и эксплуататоров. Сила и сочувствие никогда не были союзниками и не уживались.
Но теперь сочувствие широко распространилось среди расы людей. Благодатное для выживания качество, сопереживание стало доминирующей чертой. В этом чувстве не было ничего чуждого природе человека.
Однако в обитателях Гелликонии было много нечеловеческого, чужеродного. Это нередко удивляло землян. Гелликонцы очень многое знали о душах своих умерших и умели вступать с ними в регулярное общение.
Новая раса Земли вела особый счет смертям. Новые люди понимали, что после смерти они возвращаются в плоть-почву Земли и соединяются с ней, при этом их простейшие частицы закладывают основу будущих жизней. Новые люди хоронили умерших, закапывая их неглубоко, с цветами во рту, символизирующими силу, которая должна была воскресить их из праха. Но на Гелликонии все было по-другому. Землян поразила способность гелликонцев уходить в паук и общаться со своими умершими, духами и останками, этими искрами живой энергии.
Было отмечено, что раса анципиталов обладала такой же способностью общения со своими умершими. Мертвые фагоры нисходили в состояние «привязи» и, как обнаружилось, оставались в нем, постепенно мумифицируясь, в течение нескольких поколений. У фагоров вообще не было традиции хоронить умерших.
Это чудесное умение продлевать жизненной путь на Земле поняли, как компенсацию крайне неблагоприятного климата, истязавшего живые существа в течение Великого Года Гелликонии. И тем не менее усопшие люди и усопшие фагоры сильно отличались.
Фагоры в привязи поддерживали своих сохранивших искру жизни предков, формируя резервуар мудрости и ободрения, утешая живых и укрепляя советом. Души людей, которых навещали в пауке, были откровенно недоброжелательны. Ни один человеческий останок никогда ни о чем хорошем не говорил, они лишь бормотали упреки и жаловались на напрасно ушедшую жизнь.
— Отчего такая разница? — вопрошали интеллектуалы.
Ответ лежал в собственном опыте людей. Говорили так: несмотря на то, что фагоры ужасны, они наиболее близки к Всеобщей Прародительнице, гелликонской Гайе. Поэтому душам нет необходимости терзать своих потомков. Люди более развиты, следовательно более далеки от Гайи; они поклоняются многочисленным бесполезным богам, от которых происходят душевные болезни. Поэтому их души вовек не находят покоя.
Как счастливы обитатели Гелликонии, говорили между собой наиболее сочувствующие, если посреди вихря бед могут получить утешение от своих мертвых.
Так мало-помалу зрело намерение. Те, кто достаточно преуспел и радовался тому, что с молекулярного уровня вознесся на поверхность, к великому свету, как лосось выпрыгивает из потока словно для того, чтобы познать жизнь крылатых, решили поделиться своей радостью с Гелликонией.
Иными словами, жителям Земли предстояло излучать в сторону Гелликонии в качестве сигнала сочувствие. Но не для живых обитателей Гелликонии. Живые, отстранившись от своей Всеобщей Прародительницы, были заняты собственными делами, захвачены страстями и ненавистью, и трудно было ожидать, что они смогут уловить этот сигнал. Но мертвые — наиболее жадные до контакта — могли ответить! Мертвецы, влачащие лишенное событий существование, висящие в обсидиане и словно тонущие в нем, погружаясь к Всеобщей Прародительнице, — эти мертвецы возможно были бы в силах ответить аналогичным импульсом сочувствия.
Эту драгоценную пророческую гипотезу обсуждало целое поколение.
— Стоит ли вообще предпринимать такую попытку? — вот о чем спрашивали.
— Даже в случае неудачи полученный опыт обучит нас единению, — отвечали другие.
— Можно ли надеяться, что чужеродные существа поймут нас — тем более мертвые, находящиеся от нас так далеко?
— Через нас Гайя обратится к Всеобщей Прародительнице. Они родственны друг другу и не чужие. Возможно, потрясающая идея, что пришла нам в голову, вовсе не наша, а исходит от Гайи. Нужно рискнуть.
— Даже если мы так разнесены в пространстве и времени?
— Сочувствие определяется своей силой. Сочувствие отвергает пространство и время. Разве вы не ощущаете в этой чудесной истории зов древнего мира? Давайте попробуем.
— Но стоит ли?
— В любом случае попытка не пытка. Нами руководит дух Гайи.
И они попробовали.
Попытка растянулась во времени. Что бы ни делали земляне — сидели или смотрели — куда бы ни шли и где бы ни путешествовали в своих грубых сандалиях, поколения живых одно за другим отказались от словесных формулировок и излучали сопереживание и сочувствие, направленные к душам умерших Гелликонии. И даже когда земляне не могли не включить в число тех, к кому обращались, живых — Шей Тал, или Лейнтала Эй, или кого-то другого, кому лично симпатизировали — они все равно сопереживали тому, кто давно был мертв.
По прошествии многих лет тепло их сопереживания дало желаемый эффект. Останки перестали горевать, духи отказались от жалоб. И те из живых, кто обращался в пауке к своим предкам, не встречал ни отпора, ни глумления. Бескорыстная любовь стала всеобщей.
Глава 9 Тихий день на берегу
На каминной решетке горел биогаз. Перед решеткой сидели и разговаривали двое братьев. Время от времени более худой протягивал руку и хлопал по плечу более плотного, повествующего о своих злоключениях. Одирин Нан Одим, которого все родственники и друзья звали просто Одо, был на год и шесть теннеров старше Эедапа Мун Одима. Он был очень похож на брата во всем, кроме резкой горькой складки, залегшей у того на челе, ибо жирная смерть еще не отметила Ривеник своей ужасной печатью.
Братьям было что рассказать друг другу и было что вместе замыслить. Совсем недавно, накануне, в порт прибыл корабль с солдатами олигарха на борту, а кроме того, с целым перечнем новых правил и законов, суть которых уже начала беспокоить Одо. При этом шивенинкцы были менее склонны исполнять приказы, чем ускуты. До сей поры Ривеник был наиболее удобным для проживания местом.
То, и немалое, количество уцелевшего драгоценного фарфора, которое Одим преподнес брату, было принято замечательно.
— Очень скоро этот фарфор приобретет особую ценность, — заметил Одо. — Думаю, что такое тонкое и высокое качество не скоро удастся воспроизвести.
— Это потому, что наступает Зима.
— Из этого следует, брат, что топлива, в большом количестве потребного печам для обжига фарфора, будет не хватать для обогрева жилищ и что цена на топливо невероятно повысится. По мере того как жизнь людей будет становиться все труднее, они привыкнут довольствоваться грубой посудой.
— Что же ты собираешься предпринять, брат? — спросил Одим.
— Я веду успешную торговлю с Брибахром, соседней страной, и отправляю товар даже в Харнабхар, довольно далеко на север. Фарфор и другая посуда не единственные товары, с которыми можно путешествовать такими тропами. Мы должны приспособиться и начать торговлю другим товаром. У меня есть кое-какие соображения насчет...
Но Одирин Нан Одим никогда не позволял себе долго засиживаться на месте. Как и дома у Эедапа Одима в Кориантуре, в его доме проживала родня, и теперь кое-кто из них, велеречивые и тучные, торопились во двор, крича как на пожаре, в плену раздоров, которые мог прекратить только Одо. Часть родственников Эедапа Муна, переживших и чуму и плавание, поселили рядом с их ривеникскими родичами, и проблема борьбы за жизненное пространство обострилась, как встарь.
— Сходишь со мной посмотреть, что происходит? — спросил Одо.
— С радостью. С этого дня я стану твоей тенью, брат.
Дома в Ривенике строились в виде полукруга с двориком в середине или в виде небольшой крепости с высокими стенами, отгораживающими внутреннюю часть дома от улицы. Чем выше был достаток семьи, тем выше были стены. В разных уголках этой круглой крепостцы обитали разнообразные родственники Одо — несколько более предприимчивые, чем те, что приплыли из Кориантуры.
Вместе с семьями ютились их домашние животные, размещенные в стойлах, соседствующих с человеческим жильем. Часть животных была теперь убрана из стойл, чтобы дать место вновь прибывшим. Именно эти перемещения и послужили причиной ссоры: родственники-старожилы ставили свой скот выше новоявленной родни — тем более что тому были справедливые основания.
Санитарное состояние многих домов-крепостей Шивенинка зависело от количества людей и животных. Все экскременты из человеческих жилищ и стойл смывались в выгребную яму, имеющую вид большой бутыли и устроенную под внутренним двором. Выгребная яма очищалась через особое отверстие в центре внутреннего двора, прикрытое особой крышкой. В то же самое отверстие сваливали различные очистки и объедки. Все это, очистки и прочее, перегнивало под землей, выделяя биогаз, по преимуществу метан.
Биогаз, поднимающийся из выгребной ямы, собирали и по трубам направляли в дом, где использовали для приготовления пищи и обогрева.
Эта цивилизованная система была придумана и разработана в Шивенинке для того, чтобы противостоять холодам и невзгодам Вейр-Зимы.
Расследуя жалобы родственников, братья Одимы обнаружили, что двоих вновь прибывших разместили в стойле, где имелась небольшая утечка газа. Неприятный запах показался братьям оскорбительным, и они настойчиво требовали разместить их в соседнем доме, куда уже и так набилось полно народу.
Утечку газа устранили. Братья, на всякий случай продолжая протестовать, вернулись в конце концов в отведенное им стойло. К газовой яме были направлены рабы, чтобы убедиться в исправности системы.
Одо взял брата под руку.
— Как ты уже наверняка успел заметить во время поездки по городу, здесь неподалеку есть церковь. Сегодня я заказал там небольшую вечернюю благодарственную службу. Вы выжили, и бога Азоиаксика следует возблагодарить за это.
— Ты так внимателен и добр, брат. Но должен предупредить: я свободен от всяких религиозных верований.
— Эта маленькая служба необходима, — ответил Одо, предостерегающе поднимая палец. — Служба позволит тебе официально встретиться со всеми нашими родственниками. Твой дух подорван, брат, но это и понятно, виной тому многочисленные бедствия, выпавшие на твою долю. Ты должен взять себе хорошую женщину или хотя бы рабыню, чтобы она сделала тебя счастливым. Кто эта иноземка, по имени Торес Лахл, которая прибыла с остальными на твоем корабле?
— Она рабыня, принадлежит Лутерину Шокерандиту. Она врач — и очень преданный своему делу. Лутерин приятный молодой человек, к тому же родом из Харнабхара. Насчет капитана Фашналгида не знаю. Он дезертир, хотя я его не виню. Свое плавание я начал раньше, чем жирная смерть пришла к нам, а на борту корабля была женщина, которая много значила для моего душевного покоя. Увы, она умерла во время эпидемии.
— Она была кай-джувек, брат?
— Нет, но она опустилась как голубка на ветвь моего дерева. Она была доброй и преданной. Ее имя — я должен назвать его тебе — было Беси Бесамитикахл. Она значила для меня даже больше, чем...
Одим неожиданно умолк: к ним подбежал Кенигг с вновь приобретенным другом. Одим улыбнулся и взял сына за руку, а его брат проговорил:
— Так помоги мне найти для тебя другую голубку, которая опустится на ветви твоего дерева. У тебя лишь один брат, но поверь, в воздухе кружит очень много голубок, которые только и ждут подходящей ветви, чтобы опуститься на нее.
Благодаря щедрости и гостеприимству Одо Лутерину Шокерандиту и Харбину Фашналгиду отвели небольшую комнату под самой крышей. Источником света в комнате было единственное чердачное окошко с видом на внутренний дворик, где беспрестанно сновали по разным надобностям родственники и слуги. В комнатке в нише имелась и небольшая плита, на которой рабыня могла готовить пищу.
Оба получили по деревянной кровати, приподнятой над полом и покрытой коврами. Предполагалось, что Торес Лахл будет спать на полу у кровати Шокерандита.
Пока Фашналгид спал, Шокерандит забирал Торес к себе. Так, обняв свою рабыню, он проспал всю ночь. И только когда Шокерандит поднялся, Фашналгид тоже зашевелился.
— Лутерин, к чему вскакивать в такую рань? — широко зевая, спросил он товарища. — Разве вчера за ужином ты выпил недостаточно вина за столом семейства Одимов? Отдохни, приятель, и ради Азоиаксика позволь своему телу восстановить силы после этого жуткого плавания.
Повернувшись к капитану, Шокерандит ответил ему, глядя сверху вниз и улыбаясь:
— Вина я выпил достаточно. Но теперь я хочу поскорее отправиться в Харнабхар. Здесь у меня неопределенное положение. Я должен побыстрее увидеться с отцом.
— К чертям отцов. Пусть их духи грызут нам сапоги.
— У меня есть и другая забота — и тебя это тоже касается. Олигарх занят войной с Брибахром, однако он прислал сюда военный корабль. Вскоре могут появиться другие корабли. Наверняка нас обоих скоро заметят. Чем быстрее я отправлюсь отсюда в Харнабхар, тем лучше. Почему бы и тебе не поехать со мной? Там ты сможешь жить в безопасности и работать у моего отца.
— В Харнабхаре вечные холода. Разве не такая слава у этих мест? И как далеко на север нам еще нужно забраться?
— Дорога в Харнабхар доходит до двадцать второй параллели.
Фашналгид рассмеялся.
— Хорошо, я еду с тобой. И останусь там. Дождусь корабля в Кампаннлат или Геспагорат. Потому что я соглашусь на все что угодно, только не на твои холода, Лутерин.
— Успокойся. Мы должны привыкнуть уживаться друг с другом — это во-первых. Мужчины должны научиться ладить: дорога в Харнабхар того требует.
Фашналгид вытащил руку из-под мехов и протянул ее Шокерандиту.
— Отлично, ты — человек системы, я против системы, но это не мешает нам оставаться друзьями.
— Ты считаешь меня человеком системы, но после своего превращения я оказался по другую сторону баррикад.
— В самом деле? И все равно стремишься к своему отцу в Харнабхар.
Фашналгид рассмеялся.
— Обычно конформисты понятия не имеют, на что соглашаются. Лутерин, ты мне очень нравишься, хотя иногда мне кажется, что я сломал тебе жизнь, когда остановил тебя под Кориантурой. С другой стороны, кто, кроме меня, мог спасти тебя от когтей олигархии, так что ты должен быть мне благодарен за это. Достаточно благодарен, чтобы позволить сегодня утром попользоваться в своей постели твоей Торес Лахл. Как ты на это смотришь?
Шокерандит покраснел.
— Пока меня не будет, она приготовит поесть и сходит за водой. Тебя она тоже покормит. В остальном она принадлежит мне. Попроси брата Одима, может быть, он подыщет тебе рабыню — у него полно девушек, на которых ему наплевать.
Мужчины заглянули друг другу в глаза. Потом Шокерандит повернулся и вышел из комнаты.
— Можно, я пойду с тобой? — спросила вслед ему Торес Лахл.
— У меня много дел. А ты можешь остаться здесь.
Едва Шокерандит вышел, Фашналгид сел в кровати. Женщина торопливо одевалась. Она бросила на капитана быстрый взгляд. Капитан улыбнулся в ответ, разглаживая усы.
— Не стоит так торопиться, женщина. Подойди ко мне. Милая Беси умерла, и кто-то должен меня утешить.
Торес ничего не ответила, и тогда капитан выбрался из постели в чем мать родила.
Торес Лахл бросилась к двери, но капитан успел поймать ее за руку и рывком притянул к себе.
— Не нужно торопиться, я сказал. Ты что, не слышишь?
Капитан запустил Торес Лахл руку в волосы и нежно потянул к себе.
— Обычно женщинам нравится бывать с капитаном Фашналгидом.
— Я принадлежу лейтенанту Шокерандиту. Вы слышали, что он сказал?
Капитан больно выкрутил Торес руку и заглянул в глаза.
— Ты рабыня, значит, не можешь ничего решать. Ты никто. А кроме того, ты ненавидишь его всеми потрохами — я видел, как ты на него зыркала. Я никогда не брал женщин силой, Торес, это правда, и ты поймешь, что в таких делах я куда опытнее нашего бравого лейтенанта, судя по тому, что мне удалось услышать.
— Пожалуйста, отпустите. Или мне придется все рассказать ему, и он убьет вас.
— Вот это да, ты так хороша, когда начинаешь грозить! Не нужно сопротивляться. Ведь это я спас тебе жизнь, верно? Ты с твоим лейтенантом ехали прямо в ловушку. Он хороший парень, твой Лутерин, но от него одни неприятности. Сколько народу перемерло...
Капитан положил руку ей между ног. Торес Лахл свободной рукой влепила ему пощечину.
Взревев от ярости, Фашналгид рывком швырнул Торес на свою кровать. И бросился на нее.
— Послушай внимательно, прежде чем решишь сопротивляться дальше, Торес Лахл, и доведешь меня до ручки. Мы с тобой на одной стороне и в одинаковом положении. Шокерандит отличный парень, но навострился домой, где его ждут покой, достаток и уважение — то, чего мы с тобой лишились, может быть, навсегда. Более того, для этого он собирается протащить тебя на несколько поганых сотен миль на север. Там нет ничего, кроме снега и святости этого здоровенного Колеса.
— Но он там живет.
— Харнабхар хорош только для тех, кто стоит у власти. Остальные там мрут от холода. Разве ты не слышала о Колесе и связанных с ним историях? Раньше это была тюрьма, худшая в мире. Ты хочешь закончить жизнь в этом Колесе? Тебе лучше остаться со мной. Я уже видел женщин вроде тебя. А ты понимаешь таких мужчин, как я. Я изгой, но я умею защитить себя. И прежде чем отправиться за несколько сот миль, на север, в тюрьму среди льдов и снегов, в тюрьму, откуда ты никогда не сбежишь... прояви мудрость, прояви мудрость, женщина, и останься со мной. Мы купим места на корабле и отправимся куда-нибудь, где климат лучше — в Кампаннлат или еще куда-нибудь. Может быть, мы даже доберемся до твоего драгоценного Борлдорана.
Торес Лахл сильно побледнела. Лицо капитана всего в нескольких сантиметрах над ее лицом, его пронзительные глаза, роскошные усы. В ее душе зародился страх, что Фашналгид может ударить ее или даже убить — а Шокерандиту будет все равно. Он бросил ее и ушел искать путь к спасению. Лутерин хочет спасаться один.
— Но он мой хозяин, капитан. О чем еще говорить? Но вы можете воспользоваться мной, если хотите. Почему бы и нет. Лутерин же пользуется.
— Так-то лучше, — улыбнулся Фашналгид. — Я не обижу тебя. А теперь давай раздевайся...
Лутерин Шокерандит отлично знал порт Ривеник. Ривеник всегда был великим городом, о нем в Харнабхаре говорили с завистью, а раз побывав — вспоминали с восторгом. Теперь, когда ему удалось повидать мир, он понял, что Ривеник не так уж велик.
Однако приятно было уже то, что он снова оказался на берегу. Лутерин мог поклясться, что ему до сих пор чудится под ногами раскачивающаяся палуба. Шагая к гавани, он завернул в таверну и выпил стакан йядахла, прислушиваясь к разговорам сидящих рядом матросов.
— Солдаты тут наверняка неспроста, — говорил один матрос своему товарищу. — Ты слыхал, вчера ночью какого-то солдата зарезали на улице Мудрости, и я не удивляюсь, что теперь такое творится.
— Они завтра отплывают, — отозвался его друг. — Сегодня вечером они останутся на борту, а утром корабль выйдет из гавани.
Моряк заговорил тише.
— Они плывут перестрелять по приказу олигарха добрых жителей Брибахра. Чем нам, простым людям, так навредил Брибахр, не понимаю!
— Они могут захватить Брайджт, но Раттагон неприступен. Олигарх напрасно тратит время.
— Крепость стоит на острове посреди озера, как я слышал.
— Точно, Раттагон.
— Что ж, хорошо, что я не солдат.
— По твоему уму тебе только матросом и быть.
Моряки засмеялись, а Шокерандит принялся читать плакат на двери. Плакат гласил, что с этих пор Вошедший в состояние Паука будет объявлен Вне Закона. Занятие Пауком, в одиночку или скопом, означает пособничество распространению поветрия, известного под названием «жирная смерть». Наказание за первое нарушение этого нового закона — штраф в сто сибов, за второе — пожизненное заключение. Приказом олигарха.
Хотя до сих пор Шокерандит никогда не пытался войти в паук, он почувствовал раздражение от тона нового указа олигархии.
Допивая свой йядахл, Шокерандит вдруг подумал, что в душе давно уже ненавидит олигархию. Когда священник-военачальник Аспераманка отправил его с донесением олигарху, он чувствовал гордость. Но потом Фашналгид остановил его у самой границы Сиборнала; для того, чтобы поверить в то, о чем говорил ему этот человек, потребовалось немного времени. Правда заключалась в том, что его и всю возвращающуюся армию готовились хладнокровно истребить. И тяжелее всего было поверить в то, что армию Аспераманки готовились истребить по прямому приказу олигарха.
В том, чтобы помешать распространению чумы, был смысл. Но то, что запрет был наложен и на паук, говорило о том, что власти предержащие все больше поражает тоталитаризм. Лутерин утер губы рукой.
В результате последних событий Шокерандит превратился из героя в беглеца. Он и представить себе не мог, как повернулась бы его судьба, если бы его теперь арестовали как дезертира.
— О чем говорил Харбин, когда назвал меня человеком системы? — пробормотал он. — Я повстанец, я изгой — в точности как он сам.
Как ни крути, выходило, что нужно вернуться домой и воспользоваться покровительством и властью отца. По крайней мере, в отдаленном Харнабхаре власть олигарха не доберется до него. Об Инсил он сможет подумать потом.
Сразу после этого ему вспомнилось кое-что другое. Он в долгу перед Фашналгидом. Если Фашналгид согласится, ему придется взять его с собой в путешествие на север, в этот нелегкий для любого человека путь. В Харнабхаре от Фашналгида будет польза: там капитан может засвидетельствовать, что сотни молодых шивенинкцев были убиты по приказу олигарха.
«Я проявил отвагу в бою, — сказал себе Шокерандит. — Теперь, если будет необходимо, мне придется вступить в схватку с олигархом. Дома найдутся такие, кто разделит мои убеждения, если узнает правду».
Он заплатил за выпивку и вышел из таверны.
Вдоль набережной была высажена длинная аллея раджабаралов. С наступлением холодов деревья готовились к долгой зиме. Вместо того чтобы сбрасывать листву, эти деревья сбрасывали ветви, с самой вершины до подножия огромного ствола. В книгах по естественной истории Шокерандит видел картинки, на которых объяснялось, как из отверстий отпавших ветвей вытекала смола, обволакивающая ствол защитным покровом, предохраняющим дерево до наступления более теплого времени большого года, Великой Весны, когда придет пора давать новые семена.
Под раджабаралами, развернув флаги олигарха и Сиборнала, расположились солдаты олигархии. Шокерандит на мгновение испугался, что кто-нибудь может узнать его; но изменившийся облик служил ему защитой. Он повернул от гавани в город, к рынку, где помещались конторы, организующие поездки для тех, кто имел намерение посетить Харнабхар.
Чтобы защититься от холодного ветра, дующего с гор, ему пришлось поднять воротник и пригнуть голову. У дверей конторы агента толпились пилигримы, жаждущие посетить святые места и увидеть Великое Колесо, очень многие бедно и легко одетые.
Чтобы организовать проезд так, как казалось нужным Шокерандиту, ушло немало времени. Он мог отправиться в Харнабхар вместе с пилигримами. Но мог и сам по себе, для чего следовало нанять сани, упряжку, погонщика и проводника. Первый путь был безопасный, не такой дорогой, но медленный. Шокерандит выбрал второй способ, как более подходящий сыну Хранителя Колеса.
Но для того, чтобы зафрахтовать упряжку, требовалось внести залог наличными.
В городе он мог разыскать отцовских друзей, людей влиятельных и с деньгами. Немного подумав, Шокерандит решил обратиться к наименее привилегированному из друзей отца, человеку по имени Хернисарах, владельцу фермы и постоялого двора для пилигримов на окраине Ривеника. Хернисарах с радостью принял Шокерандита, снабдил его необходимой долговой распиской для агента и настоял на том, чтобы Шокерандит разделил полуденную трапезу вместе с хозяином и его женой.
Провожая Шокерандита, Хернисарах обнял его на ступеньках своего дома.
— Лутерин, я вижу, что ты открытый и честный молодой человек, подлинно невинная душа, и я с радостью помогу тебе. С приближением Вейр-Зимы фермерское хозяйство с каждым днем отнимает все больше сил. Но будем надеяться, что когда-нибудь мы снова встретимся и снова отобедаем вместе.
— Так приятно встретить воспитанного молодого человека, — прибавила жена хозяина. — Передайте отцу наши наилучшие пожелания.
Шокерандит уходил от своих новых знакомых с приятным чувством, довольный тем, что сумел произвести хорошее впечатление; Харбин теперь наверняка уже пьян. Но почему Хернисарах назвал его «невинная душа»?
С небес на землю начал падать снег; он медленными хлопьями кружился в воздухе и, подобно сахарной пудре, таял в лужах. Потом снегу удалось запорошить землю, снежный покров утолщался и, наконец, стал таким пухлым, что заглушал шаги прохожих по мостовой. Улица медленно опустела. Вытянулись тени полусвета, густые — от Фреира, более светлые — от Беталикса, и над гаванью собрались тучи, погрузившие весь Ривеник во мрак.
Внезапно Шокерандит остановился под одним из раджабаралов.
Следом за ним, придерживая воротник пальто у горла, шел незнакомец. Незнакомец миновал дерево, оглянулся, потопал ногами по снегу и быстро свернул в боковую улицу. С некоторым удивлением Шокерандит отметил, что она называется улицей Мудрости.
С несвойственной ему непредусмотрительностью он не сообщил своим товарищам-мореплавателям, что в голове Героя, охраняющего вход в гавань Ривеника, устроена сигнальная станция с гелиографом. Весть о том, что в порт на борту «Нового сезона» входят дезертиры, могла достигнуть цели задолго до того, как они ступили на сушу...
Он вернулся в дом Одо самым запутанным и кружным путем, какой только удалось придумать. К тому времени самый сильный снегопад уже закончился.
— Приятно, что ты прибыл вовремя, — сказал Одо, заметив, что Шокерандит у порога обивает снег с сапог. — Я, брат и моя остальная семья как раз собирались в церковь, поблагодарить Бога за то, что «Новому сезону» в конце концов удалось добраться до цели. Ты ведь тоже пойдешь с нами?
— Да... конечно. Это будет частная церемония?
— Совершенно верно. Только для нас. Будет один священник и все.
Шокерандит оглянулся на Одима, и тот утвердительно кивнул.
— Ты собираешься вновь пуститься в путь, Лутерин, начать новое путешествие. Те, кто перенес вместе столько бед, опять должны расстаться. Эта церковная служба придется как нельзя более кстати, даже если ты и не веришь в Бога.
— Я поднимусь к Фашналгиду, приглашу и его.
Шокерандит торопливо взбежал по деревянной лестнице к комнате, которую любезно предоставил им Одо. Там он нашел Торес Лахл, лежащую под шкурами на его кровати.
— Ты должна работать, а не валяться в постели, — резко бросил ей Шокерандит. — Или ты все еще оплакиваешь мужа? Где капитан?
— Не знаю.
— Разыщи его, слышишь? Наверняка уже пьет где-нибудь.
Шокерандит бегом спустился вниз. Как только все семейство отбыло в церковь, Фашналгид со смехом выбрался из-под кровати. На лице Торес Лахл не появилось и тени улыбки.
— Мне нужна еда, а не молитва, — сказал капитан, внимательно глядя в окно. — И выпивка, о которой вспоминал твой друг, тоже не помешает...
Клан Одимов собрался во дворе, где до этого бесполезно копошились рабы, которые по длинным шестам спускались осматривать бак с биогазом, впрочем, без всякой видимой пользы, распространяя в белом от снега воздухе вонь, и только. Во дворе стоял гул от многочисленных голосов.
Появился Шокерандит. Несколько женщин, плывших вместе с ним на борту «Нового сезона», бросились к нему, чтобы обнять, в манере, свойственной скорее кай-джувекам, чем сиборналкам. Шокерандит, оставив свои прежние суровые привычки, не возражал против столь вольного обращения.
— Ах, Ривеник такой славный город, — сказала, взяв Шокерандита за руку, одна из тетушек, плотно завернутая в меха. — Столько красивых зданий, и вполне цивилизованно. Даже памятники есть. Я собираюсь заняться здесь изданием книжек стихов, открою маленькую типографию. Уверена, что найду тут свое счастье. Как ты считаешь, жителям гор и долин, таким людям как ты, понравится поэзия?
Но Шокерандит не успел открыть рот для ответа: дамочка отвернулась от него и схватила за рукав Эедапа Мун Одима.
— Вы наш герой, кузен, ибо привели наш корабль к спасению. Позвольте мне стоять в церкви рядом с вами. Мы пойдем рядом — к моей величайшей гордости.
— Для меня большая честь идти рядом с вами, тетя, — ответил Одим с мягкой улыбкой. Постепенно говорливая толпа потянулась со двора к воротам на улицу, а оттуда к ближайшей церкви.
— Мы горды тем, что ты идешь с нами, Лутерин, — сказал Одим, решивший развлечь юношу беседой, чтобы Лутерин не чувствовал себя оторванным от остальных участников церемонии. Потом Одим оглянулся по сторонам, довольный тем, что собралось сразу столько Одимов. Хотя их ряды сильно поредели после сражения с жирной смертью, то, что тела переживших болезнь стали крепче и шире в плечах, могло служить воздаянием за потери.
В церкви с высоким сводом Одим встал рядом с братом, и их локти соприкоснулись. Одим задумался, верит или нет (как не верил он сам) брат Одо в бога Азоиаксика. Он был слишком воспитан, чтобы в такой момент задать брату столь прямой вопрос; тайна — свойство людей, гласит пословица. Если в один прекрасный вечер брат решит открыть ему душу за стаканчиком вина — это другое дело. Сейчас же достаточно того, что брат стоит с ним рядом, что служба позволяет ему оплакать умерших, в том числе жену и детей и ненаглядную Беси Бесамитикахл, а также возрадоваться тому, что им самим удалось сохранить жизнь.
Трепещущий голос, бестелесный, бесполый, свободный от желаний и прихотей, свивал нить несколько утрированно-театрального покаяния и по спирали восходил к куполу церкви, словно желая оплести этой нитью перекрещивающиеся балки.
Распевая гимны вместе со всеми, Одим улыбнулся, чувствуя, как его душа воспаряет следом за голосом. Вера приносит облегчение! Даже желание веры несло в себе утешение.
Покуда собравшиеся в церкви хором распевали гимны, десять крепких солдат в сопровождении офицера промаршировали по улице и остановились у ворот дома Одирина Нан Одима. Сторож с поклоном открыл ворота. Солдаты оттолкнули сторожа и ворвались во двор, топча ковер только что выпавшего свежего снега.
Офицер отрывисто выкрикивал приказы. Четверки его людей отправились во все стороны обыскивать дом, с указанием останавливать всех, кто попытается выйти. Все обитатели должны были оставаться на местах.
— Абро Хакмо Астаб! — прорычал Харбин Фашналгид, выпрыгивая из постели. Только что он сидел в кровати полуодетый, одним глазом наблюдая через окошко за двором, другим скользя по страницам маленькой книжки стихов, откуда время от времени вычитывал Торес Лахл отдельные строфы. Повинуясь приказам хозяев, Торес занималась приготовлением пищи и как раз разжигала плиту, положив туда угли и горящую головню, которые принесла от рабов, с кухни.
Услышав запретное ругательство, Торес вздрогнула, хотя слышала эту ругань и раньше из уст солдат.
— Как мне нравится хорошо поставленный военный голос! «Под весенними небесами нет голосов слаще твоего...» — говорил Фашналгид. — «Стук армейских сапог». Да, вот и они. Пожаловали. Только посмотрите на этого молодого болвана-лейтенанта, форма новенькая. Я тоже был когда-то...
Фашналгид внимательно посмотрел вниз, на отряд солдат, выстроившихся перед рабами, по-прежнему занятыми очисткой бака с биогазом и бросающими на вооруженных пришельцев полные недоверия взгляды.
Фашналгид зарычал, продемонстрировав белые зубы под щеткой усов. Выхватив шпагу, он диким взором обвел комнату, словно затравленный зверь. Торес Лахл, бледная и неподвижная, стояла, прижав руку к губам, с горящей головней в другой руке.
— Ага...
Фашналгид бросился вперед, выхватил у Торес головню и, оставляя за собой шлейф дыма, рванулся к окну. Он распахнул створки, высунулся чуть не по пояс и изо всех сил метнул головню вниз, во двор.
Воинских навыков он не потерял. Огненное пятно, описав в темноте точную параболу, исчезло в жерле бака с биогазом. На миг повисла тишина. Потом двор взорвался. Во все стороны полетели осколки плиток, выстилавших двор. В вечерней тьме поднялся огромный огненный столб с синим пламенем в центре.
С радостным воплем Фашналгид устремился через комнату к двери и широко ее распахнул. За дверью стоял молодой солдат, в нерешительности обернувшийся на взрыв, в ту сторону, откуда только что пришел. Фашналгид без промедления бросился на солдата с кулаками и сбил того с ног. Солдат кубарем покатился вниз по лестнице и без движения замер у ее подножия, видимо со сломанной шеей.
— Теперь придется бежать со всех ног, женщина, от этого зависят наши жизни, — крикнул Харбин Торес Лахл и схватил ее за руку.
— Лутерин... — прошептала она, но, слишком испуганная, чтобы попробовать что-то предпринять, покорно последовала за капитаном. Они выскочили на улицу. Внизу, во дворе царила паника. Газ продолжал гореть. Одимы, слишком юные, слишком старые или слишком толстые для того, чтобы отправиться в церковь, бегали по двору вместе с солдатами. Здесь же метался скот. Умный лейтенант пару раз пальнул в небо. Рабы кричали. Один из домов загорелся.
Обогнуть кучу-малу и выскользнуть за ворота не составило труда.
Как только они оказались на улице, Фашналгид пошел спокойным шагом и убрал шпагу, чтобы не привлекать внимания.
Они вошли на церковный двор.
Капитан толкнул женщину за контрфорс, задыхаясь от волнения. Внутри пели гимны богу Азоиаксику. От восторга Фашналгид больно схватил Торес за предплечье.
— Эти скопцы и здесь нас настигли... Даже в этом ледяном болоте...
— Отпустите меня. Мне больно.
— Отпущу, отпущу. А ты войдешь в церковь и позовешь Шокерандита. Скажи ему, что солдаты пытались схватить нас в доме его приятелей. На корабль нам больше дороги нет. Если он уже договорился насчет упряжки, то нужно ехать в Харнабхар как можно скорее. Иди и скажи это ему.
Он подтолкнул Торес в спину, чтобы та поторапливалась.
— Скажи ему, что они собираются нас повесить.
К тому времени, как Торес Лахл появилась на улице с Шокерандитом, вокруг прошло много народу, и не только мирных прохожих. Глядя на выбегающих с криками ужаса Одимов, Фашналгид спросил:
— Лутерин, ты уже договорился насчет упряжки? Мы можем уехать немедленно?
— Зачем ты разрушил дом Одимов? И это после того, что они сделали для нас? — разгневанно спросил Шокерандит, тоже с тревогой наблюдая за беспорядком.
— Не стоит так доверять Одимам. Они ведь купцы. А нам нужно уносить ноги. Армия ищет нас. Не забывай, твоя драгоценная Торес Лахл числится беглой рабыней. Ты знаешь, какое за это полагается наказание? Так что с упряжкой?
— Мы сможем получить упряжку в конторе, когда взойдет Беталикс. Что-то ты слишком быстро передумал... почему?
— И где нам придется прятаться до утра?
Шокерандит поразмыслил.
— У меня тут есть знакомый, друг отца, по имени Хернисарах. Он и его жена примут нас и спрячут до рассвета... Но мне нужно сходить к Одимам, попрощаться.
Фашналгид наставил на него толстый палец.
— Не вздумай сделать такую глупость. Тебя повесят. Там везде полно солдат. Но ты ведь ни при чем, верно?
— Ладно, безумец. Оставим перебранку, лучше скажи, отчего ты так внезапно изменил планы? Еще утром ты собирался отплыть в Кампаннлат.
Фашналгид улыбнулся.
— Предположим, мне внезапно захотелось приблизиться к Богу. Я решил отправиться с тобой и с твоей рабыней в Священный Харнабхар.
Глава 10 Мертвые не говорят о политике
В шестой день шестого теннера шестого малого года синод Церкви Грозного Мира собрался в Аскитоше.
Более мелкая церковная рыбешка почитала за счастье встречаться в задних комнатах дворца верховного священника. Встреча пятнадцати дигнитариев, составляющих синод, происходила в самом дворце. Они представляли как духовную, так и мирскую и военную ветви церковной организации. Тяготы конторской работы лежали на них тяжким грузом. Этим людям не разрешалось почивать на лаврах. И они не были расположены шутить.
Но человек остается человеком, и у каждого из пятнадцати были свои слабости. Один регулярно напивался, начиная с четырех часов дня. Кто-то прятал в своих покоях юных рабынь или рабов. Другие имели иные диковинные пристрастия и практиковали иные способы растления. Тем не менее большая их часть преданно служила церкви и отстаивала ее интересы. А поскольку в эти времена тяжело было найти хороших людей, эти пятнадцать слыли хорошими людьми.
Самым преданным из пятнадцати считался Чубсалид, уроженец Брибахра, взращенный святыми отцами в лоне церкви, ныне старший верховный священник Церкви Грозного Мира, полномочный представитель бога Азоиаксика на Гелликонии, бога, который существовал прежде жизни, стержня коловращения мира.
Самые внимательные духовные лица ни разу ни одним глазком не подглядели, чтобы рука Чубсалида подносила к его губам бутылку. Если у него и были какие-либо необычные сексуальные пристрастия, то они оставались тайной между ним и создателем. Если он когда-нибудь испытывал страх, гнев или печаль, то даже тень этих эмоций никогда не отражалась на его розовом лице. И он был умен.
В отличие от олигархии, устраивавшей собрания на Ледяном Холме, менее чем в миле от храма, синод опирался на широкую поддержку масс. Церковь открыто отстаивала нужды народа, поднимала дух людей и поддерживала их в минуту испытаний. И хранила нейтральное молчание касательно паука.
В отличие от олигарха, которого никто и никогда не видел и чей образ в устрашенном общественном воображении более всего соответствовал огромному ракообразному с пугающе гипертрофированными клешнями, верховный священник Чубсалид снисходил до пешего хождения среди бедных и был популярным и частым гостем на службах своей паствы. Он выглядел до последней черточки верховным священником — гордая осанка, грубоватая, но представительная внешность и гордая грива седых волос. Когда Чубсалид говорил, люди с готовностью и желанием внимали ему. Его речи часто были далеки от благочестия, но неизменно исполнены мудрости: он мог заставить аудиторию и смеяться, и возносить молитвы.
Дискуссии на синодальных собраниях велись на высоком сибише и изобиловали оговорками, изысканно-сложными вводными, разноцветными, словно радуга, глагольными формами. Однако нынешняя встреча преследовала совершенно практическую цель и касалась ухудшения отношений между двумя великими правящими силами Сиборнала — государством и церковью.
Церковь с волнением следила за тем, как раз от раза указы государства становились все более жестокими. Один из синодальных священников говорил об этом, обращаясь к собранию:
— Новое ограничение прав личности актом «О проживании» и подобные ему указы государство выдает/продолжает выдавать за борьбу с надвигающейся чумой. Но эти указы повлекли за собой не меньше/столько же потерь, сколько повлекла/влечет/могла бы повлечь чума. Бедные подвергаются обвинениям и арестам за бродяжничество или умирают от холода.
Священник был стар и сед и говорил звонким, серебристым, как его волосы, голосом, и убежденность, звучавшая в этом голосе, была различима в самом дальнем конце комнаты.
— За этим жестоким актом легко просматривается движение политической мысли. По мере того как фермы на севере приходят/будут приходить в упадок, крестьяне и фермеры начнут продвигаться к городу, где станут искать для себя убежище всеми возможными способами, чаще всего в условиях человеческой скученности и нужды. Там им неминуемо грозит голод. Я надеюсь, что не прослыву циником, если скажу, что гибель стольких людей вполне соответствует целям государства. Мертвые не говорят о политике.
— И в случае неприменения указа городам, по-вашему, грозил бы упадок? Или даже восстание? — спросили священника с дальнего конца стола.
— В дни моей молодости говорили, что сиборнальцы работают для того, чтобы жить, женятся для продолжения жизни и всю жизнь мечтают о хорошей жизни, — ответил серебристый голос. — Вот только восстания нам неизвестны. Это не в нашем стиле. Смуту мы оставим на долю людей с Дикого Континента. До сих пор церковь никак не высказалась об этих ограничительных указах. Теперь, я думаю, мы можем обсудить наиболее выдающийся в реакционном смысле указ «О запрете на паук».
— В пауке нет никакой политики. Как у нас нет никакой заинтересованности в пауке.
— До сих пор государство тоже никак не было политически заинтересовано в пауке. Ввиду того, что мертвые не интересуются политикой, это ровно в той же мере имеет/будет иметь отношение к пауку, и государство это отлично понимает. Как бы там ни было, государство официально приняло закон, запрещающий заниматься пауком. Этот закон причинил/причиняет/будет причинять дополнительные страдания пастве, для которой — простите за сказанное, но это правда, — паук был единственным утешением, являясь неотъемлемой частью жизни, как, скажем, роды.
Бедные незаслуженно терпят наказание, словно это они виноваты в приходе Зимы. Я предлагаю церкви официально выступить против последних деяний государства.
Совершено лысый старик с совершенно бесцветной кожей поднялся с места, опираясь на две трости, и заговорил:
— Возможно, дела обстоят именно так, как вы говорите, братья. Олигархия стискивает наше горло в своем кулаке, как петля — шею повешенного. Но я думаю, что именно так все и должно обстоять. Подумайте о будущем. Очень скоро наши потомки окажутся/оказались на пороге двух веков Вейр-Зимы. Олигархия исходит из того, что ужесточение природных условий требует соответственного ужесточения общественного порядка.
Позвольте напомнить вам о страшном ругательстве на сибише, о ругательстве, которое запрещено произносить. Это ругательство принято понимать как жесточайшее оскорбление, и не случайно. И тем не менее, это ругательство вызывает восхищение. Я не рискну/не рисковал повторять это ругательство в присутствии собрания, но все равно утверждаю, что продолжаю восхищаться его точностью и силой.
Старик выпрямился. В собрании было несколько человек, убежденных в том, что старик вот-вот осквернит свои уста запретной бранью. Но старик избрал другой ход.
— На Дикий Континент, Кампаннлат, с наступлением холодов приходит хаос. В этих странах нет жестокого режима, как у нас. Обитатели Кампаннлата заберутся в свои пещеры. Сиборнал выживет, почти не изменившись. Мы выживали/выживаем/будем выживать благодаря нашей организации. Эта организация будет сжиматься вокруг нас как железный кулак. Для того чтобы государство выжило, нужно, чтобы многие умерли.
Многие жалуются на то, что согласно приказу всех фагоров следует застрелить — всех без исключения. А я утверждаю, что фагоры не люди. От них нужно избавиться. У них нет души. Застрелим их. И застрелим всех, кто защищает фагоров. Перестреляем фермеров, чьи фермы пришли в упадок и разорились. У нас нет времени разбираться с отдельными личностями. Индивидуалисты должны быть/будут наказаны по закону — смертью.
Старик в тишине опустился на место, и его трости простучали, как бамбук на ветру.
По комнате пролетел потрясенный шепоток, но верховный священник Чубсалид взял слово и примирительно сказал из своего обитого горностаем кресла:
— Вне всякого сомнения именно такие речи звучат на Ледяном Холме, но мы должны придерживаться избранного пути, который провозглашал/продолжает провозглашать сострадание и терпение даже в отношении разорившихся фермеров. Наша церковь придерживается общения с отдельными личностями, с отдельным сознанием, со спасением отдельно взятого человека, и наш долг — время от времени напоминать нашим друзьям из олигархии, что в этом смысле у народа не должно возникать никаких сомнений на наш счет.
Климат становится все суровее. Но нам не нужно брать пример с природы, для того чтобы даже в самые тяжелые времена учение церкви могло/должно было жить. Иначе нет жизни в Боге. Государство видит это время кризисов как лучшее время для утверждения своей силы. Церковь должна по меньшей мере сделать то же самое. Кто из пятнадцати возражает против того, что церковь должна противостоять государству?
Все четырнадцать присутствующих, к которым он обращался, повернулись, чтобы пошептаться с соседями. Всем им нетрудно было представить, что будет, если они изберут путь, который отстаивал их глава.
Один из присутствующих поднял унизанную перстнями руку и проговорил дрожащим голосом:
— Сударь, времена, когда нам придется занять позицию, о которой вы говорите, неминуемо/возможно придут. Но что нам до паука? Мы тщательно старались не замечать паук много веков — возможно, в связи с некоторыми сомнениями в правомерности вызова, который он бросает нам, — когда миф о Всеобщей Прародительнице противопоставлялся нашему...
Оратор замолчал, выдержал театральную паузу.
Самым молодым членом синода был капеллан по имени Парлингелтег, человек тонко чувствующий, хотя о нем ходили слухи, будто некоторые из его деяний были отнюдь не тонкого свойства. Священник-капеллан никогда не боялся взять слово и сейчас обратился прямо к Чубсалиду.
— В чем убедили меня — и, смею надеяться, вас тоже — прозвучавшие последними жалкие слова, так это в том, что мы должны противопоставить себя государству. Возможно, в особенности касательно паука. Не будем делать вид, что паук на самом деле не существует, только потому, что он не согласуется с учением.
Почему, как по-вашему, государство пытается запретить паук? На это есть только одна причина. Государство повинно в геноциде. Государство убило несколько тысяч человек из армии Аспераманки. После смерти сыновей, убитых государством, их матери общались с ними. Духи не молчат. Кто сказал, что мертвым безразлична политика? Это чушь. Тысячи мертвых ртов выкрикивают обвинения против государства и убийцы-олигарха. Я поддерживаю верховного священника. Мы должны выступить против Торкерканзлага и заставить его покинуть дворец.
Несколько старших коллег зааплодировали капеллану, и от удовольствия тот покраснел до корней волос. Собрание прервали. И тем не менее решение не было принято. Неужели церковь и государство неразделимы? И говорить вслух о недавнем массовом убийстве... Они предпочитают жить в мире... и поддерживать мир — некоторые любой ценой.
Последовал часовой перерыв. Снаружи было слишком холодно, чтобы гулять. Священники прохаживались в просторном зале, куда слуги подали воду и вино в фарфоровых чашках, и беседовали. Возможно, есть способ избежать реального противостояния; ведь, кроме духов, никаких иных доказательств не осталось, не правда ли?
Ударил колокол. Священники снова расселись за столом. Чубсалид наедине переговорил с Парлингелтегом, и вид у обоих был мрачный.
Обсуждение продолжилось, но вскоре в дверь постучали, и в залу вошел ливрейный раб. Он поклонился верховному священнику и подал ему на подносе письмо.
Прочитав письмо, Чубсалид некоторое время сидел, поставив локти на стол и упираясь пальцами в высокий лоб. Разговоры затихли. Все ждали, что скажет предводитель.
— Братья, — сказал он наконец, оглядев собрание. — Ко мне пришел посетитель, важный свидетель. Я предлагаю призвать его сюда и попросить говорить перед нами. Слова этого человека, уверен, имеют больший вес, чем любые наши дальнейшие споры.
Чубсалид махнул рукой рабу; тот поклонился и вышел из залы.
Вошел другой человек. Помедлив немного, мужчина затворил за собой дверь и двинулся вперед, к столу, за которым сидели пятнадцать высших иерархов церкви. Мужчина с ног до головы был одет в голубое; сапоги, штаны, рубашку, куртку, плащ, в руках он нес шляпу. Лишь голова была седая, хотя с каждой стороны оставалось немного черных прядей. Когда синод видел этого человека перед собой в последний раз, его волосы были черны, как вороново крыло.
Седая грива словно увеличивала размеры его головы. Прямые брови и рот подчеркивали бушующий во взгляде гнев, глаза горели.
Мужчина низко поклонился верховному священнику и поцеловал ему руку. Потом повернулся и поприветствовал синод.
— Благодарю, что согласились дать мне аудиенцию, — проговорил он.
— Архиепископ-военачальник Аспераманка, мы слышали, что вы пали в бою, — сказал Чубсалид. — Но я рад, что наши сведения оказались неточны.
Губы Аспераманки сложились в ледяную улыбку.
— Я более чем умер — но не в бою. История о том, как мне удалось добраться до Аскитоша, одному, без армии, воистину достойна удивления. В меня стреляли в Чалце и на всех границах нашего материка, меня захватили в плен фагоры, я бежал и заблудился в пустошах — короче говоря, только Божьей милостью я снова стою перед вами. Бог защитил меня и отточил, как острейшее лезвие, превратив в орудие правосудия. Ибо я явился как живое доказательство преступления, которому нет равных в богатой истории Сиборнала.
— Сядьте и помолитесь, — сказал Чубсалид, жестом приказывая рабу подать стул. — Мы готовы выслушать вашу историю, все, что вы посчитаете нужным нам рассказать. Ваше свидетельство надежней слов любого духа.
Аспераманка рассказал, как его армия угодила в засаду, как силы олигархии встретили возвращающихся из Чалца ураганным огнем с укреплений, и по мере того как сказанное доходило до сознания присутствующих, они начинали понимать, что в словах Парлингелтега все истинная правда. Церковь должна противопоставить себя государству. В противном случае церковь может оказаться соучастницей в убийстве.
Аспераманке потребовался целый час для того, чтобы поведать историю победы и предательства. Наконец он умолк. Но молчал он всего минуту. Потом он неожиданно спрятал лицо в ладонях и разрыдался.
— И я причастен к преступлению, — рыдал он. — Я был орудием олигархии. Я боялся олигарха. Для меня церковь и государство были одно.
— Но отныне это не так, — проговорил Чубсалид. Он поднялся и положил руку на плечо Аспераманки. — Благодарим тебя за то, что, став орудием Господа, ты упростил нашу задачу.
Олигархия имеет власть над человеческим телом, церковь же властвует над душами. С сегодняшнего дня мы должны посвятить себя утверждению превосходства души над телом. Мы должны выступить против олигархии. Все ли тут настроены так же решительно?
Все четырнадцать членов синода разразились одобрительными выкриками, их посохи застучали под столом.
— Итак, решение принято единогласно.
После краткого обсуждения было решено, что в качестве первого шага надлежит разослать во все церкви по всей стране решительно сформулированный билль. В билле следует указать, что церковь становится на защиту древнего ритуала паука, полагая его частью необходимой свободы каждого, мужчины или женщины, в реальности их существования. В мире нет доказательств тому, что так называемые духи когда-либо говорили что-либо, отличное от истины. Церковь ни в коем случае не может принять то утверждение, что паук способствует распространению так называемой жирной смерти. Чубсалид поставит под биллем свое имя.
— Это будет, вероятнее всего, самый революционный билль церкви, который когда-либо видел свет, — проговорил серебристый голос. — Я просто хотел отметить это. Но признавая паук, не признаем ли мы тем самым Всеобщую Прародительницу? И не допустим ли языческие суеверия в нашу церковь?
— Наш билль никоим образом не будет упоминать о Всеобщей Прародительнице, брат, — мягко ответил Парлингелтег.
Так билль был одобрен и отправлен в типографию духовников, а из типографии — разослан по всем церквям страны.
Прошло четыре дня. Во дворце верховного священника церковники ждали бури, которая неминуемо должна была разразиться.
Гонец, одетый из-за непогоды в непромокаемый костюм, спустился с Ледяного Холма, чтобы доставить во дворец запечатанный документ.
Верховный священник сломал печать и прочитал письмо.
В письме говорилось, что злонамеренные памфлеты, распространяемые синодом с предательской целью, подвергают сомнению истинность выпущенных недавно государственных указов. Предательство карается смертью.
Если же подобному злонамеренному деянию церкви имеется объяснение, то верховный священник Церкви Грозного Мира должен лично предстать перед олигархом и представить это объяснение.
Письмо было подписано олигархом Торкерканзлагом II.
— Я не верю в то, что этот человек существует, — сказал Чубсалид. — Он правит вот уже тридцать лет. Никто и никогда его не видел. По тому, что он творил в этом мире, можно запросто решить, что он фагор...
Продолжая бормотать себе под нос в том же духе, Чубсалид отправился в библиотеку синода, где тщательно сличил подпись олигарха, рассмотрев ее в лупу и качая головой.
Подобные действия верховного священника чрезвычайно обеспокоили его советников, поскольку явно свидетельствовали о том, что Чубсалид всерьез и близко к сердцу воспринял мрачный приказ, который не мог обещать ничего, кроме скорой казни. Главные советники, говоря меж собой, предположили, что вся верхушка церкви немедленно должна переехать из Аскитоша в более безопасное место — возможно, в Раттагон, хотя крепость была в осаде; (несмотря на это, расположение посреди озера делало ее наиболее безопасным местом), или даже в Харнабхар, несмотря на суровость тамошнего климата, поскольку Харнабхар считался религиозным убежищем.
Но у Чубсалида был собственный замысел. Бегство и отступление никогда не входили в его планы. Проведя час за сличением подписей, он заявил, что встретится с олигархом. С этой целью он лично написал записку, в которой принимал приглашение. В записке предлагалось провести встречу в большой приемной зале Ледяного замка, чтобы любой, кто пожелает, мог прийти туда и услышать переговоры двух величайших людей.
После того как Чубсалид поставил свою подпись под этим документом, священник-капеллан Парлингелтег вышел вперед и преклонил колено перед креслом верховного священника.
— Господин, прошу позволить мне сопровождать вас. Что бы ни было вам там уготовано, я хочу разделить вашу участь.
Чубсалид положил руку на плечо молодого человека.
— Да будет так. Я буду рад такому спутнику.
Чубсалид повернулся к Аспераманке, который тоже был здесь.
— А вы, архиепископ-военачальник, готовы ли вы отправиться в Ледяной замок, чтобы свидетельствовать преступления олигархии?
Аспераманка огляделся по сторонам, словно в поисках отсутствующей двери.
— Верховный священник, по сравнению со мной вы гораздо лучший оратор. Мне кажется, было бы неумно упоминать о надвигающейся эпидемии. Справиться с жирной смертью нам не менее важно, чем государству. Олигархия могла выступить против паука по причинам, о которых мы понятия не имеем.
— Тогда мы должны услышать о них. Так вы пойдете с Парлингелтегом и со мной?
— Возможно, нам следует взять с собой врачей.
Чубсалид улыбнулся.
— Я уверен, что мы сможем противостоять олигарху и без помощи докторов.
— Конечно, нам следует постараться найти выход и компромисс, — сказал совершенно убитый Аспераманка.
— Мы постараемся сделать все, что в наших силах, — кивнул Чубсалид. — И благодарю вас за то, что согласились пойти с нами.
День клонился к закату. Облачившись в одежды духовного лица, верховный священник Чубсалид попрощался со своими товарищами. Одного или двух он обнял.
Седой человек прослезился.
Чубсалид улыбнулся ему.
— Чтобы ни случилось сегодня, я требую от вас такой же отваги, как и от себя самого.
Голос Чубсалида звучал решительно.
Потом священник взобрался в повозку, где его уже ожидали Аспераманка и Парлингелтег. Повозка двинулась вперед.
Они проехали по пустынным и тихим улицам. Полиция по приказу олигарха прогнала всех зевак, поэтому на улицах не было никого, кто мог бы приветствовать криками верховного священника, как это обычно происходило. Только тишина.
Повозка поднималась по дороге к гранитным утесам Ледяного замка, и постепенно стало заметно присутствие солдат. У ворот дворца вперед выступили вооруженные люди и задержали священников, которые следовали за повозкой своего главы. Проследовав под огромной каменной аркой ворот, повозка въехала во дворец. Мощные стальные створки затворились.
Внутренний двор со всех сторон окружало множество окон, слепо взирающих на приехавших в своем осуждающем отблеске. Это были не просто окна, они казались глазами, и даже более того — острыми зубами.
Троих священников без долгих церемоний препроводили из повозки в холодную утробу дворца. В огромном приемном зале их шаги рождали эхо. По сторонам стояли на часах солдаты в замысловатых мундирах. Ни один из караульных не повернул головы к пришедшим.
Священников отвели в заднюю комнату, то ли коридор, то ли приемную для ожидания, где каменный пол был истоптан и стерт множеством башмаков так, словно тут мучили животное, которое много лет безуспешно пыталось выбраться на свободу. После недолгого ожидания провожатый по сигналу отвел священников наверх по узкой деревянной лестнице; им пришлось подняться на два пролета, не освещенных ни одним окном. Они оказались в другом коридоре, еще более напоминающем о мучимом тут животном, чем первый, и остановились перед дверью.
Голос из-за двери приказал им войти.
Они вошли в комнату, отличающуюся всеми приметами, свойственными, как это признавалось, олигархии. Это было нечто вроде зала для приемов с расставленными вдоль стен небольшими стульями, способными вместить лишь самые тощие зады. Единственное окно зала скрывала кожаная штора, сшитая так, чтобы ни один бродячий луч света извне не мог осквернить помещение.
Освещение лишь подчеркивало скудость обстановки этого зала, где высота потолка поддерживала глубокий мрак в его углах. Единственная толстая новая свеча горела в высоком подсвечнике, установленном посреди голого пола. Откуда-то тянуло сквозняком и тени на скрипучем паркете колебались.
— И сколько нам придется тут ждать? — спросил Чубсалид.
— Недолго, господин.
Считанные минуты в подобном зале показались веками, но наконец дальняя дверь отворилась. Вошли двое с обнаженными мечами и встали по сторонам дверного проема, открыв перед священниками вход в следующую комнату.
Следующую комнату освещали газовые рожки, бросающие переменчивый свет на все, кроме лица человека в мантии, сидящего в большом кресле в глубине комнаты. Газ горел у него за спиной, и лицо человека было погружено в тень. Он сидел недвижимо.
— Я верховный священник Церкви Грозного Мира Чубсалид, — звонким голосом проговорил Чубсалид. — Кто ты?
Не менее звонкий голос был ему ответом:
— Можешь звать меня олигарх.
Пришедшие священники хотя и внутренне подготовились к встрече, на мгновение потеряли дар речи от благоговейного ужаса. Они инстинктивно подались к еще открытой двери, в которую только что вошли, но солдаты с обнаженными мечами преградили им путь.
— Вы Торкерканзлаг Второй? — спросил Чубсалид.
И снова отчетливый голос ответил ему:
— Обращайся ко мне — олигарх.
Чубсалид и Аспераманка переглянулись. Наконец, бывший военачальник взял слово:
— Мы пришли сюда, уважаемый олигарх, чтобы обсудить состояние традиционных свобод нашего государства, а также для того, чтобы поговорить с вами о недавнем преступлении, совершенном...
Звонкий голос прервал его:
— Вы пришли сюда не для того, чтобы что-то обсуждать, священник. Вы пришли сюда не для того, чтобы говорить. Вы пришли сюда по обвинению в предательстве, ибо решились открыто выступить против недавних государственных указов. Вы пришли сюда потому, что кара за предательство — смерть.
— Это не так, — подал голос Парлингелтег. — Мы пришли сюда потому, что надеялись на понимание и логику, на правосудие и открытый спор. А совсем не на мрачную мелодраму, которую вы перед нами разыгрываете.
Аспераманка встал прямо перед одним из направленных на него мечей так, чтобы острие смотрело ему в грудь.
— Уважаемый олигарх, я верно служил вам. Я архиепископ-военачальник Аспераманка, который, можете не сомневаться в этом, вел вашу армию к победе против тысяч язычников Панновала. Возможно, вы не знаете — ваша армия была уничтожена при возвращении на родину. Вы слышали об этом?
Спокойный голос олигарха ответил:
— В присутствии твоего правителя ты не смеешь задавать вопросы.
— Скажи нам, кто ты такой, — подал голос Парлингелтег. — Если ты человек, то докажи это.
Не обращая внимания на то, что его так грубо перебили, Торкерканзлаг II приказал стражу:
— Открой штору.
Страж, тот самый, что привел сюда троих священников, печатая шаг, прошел к кожаной занавеси и взялся за нее обеими руками. Очень медленно, с усилием, он отвел штору в сторону и открыл длинное окно.
Серый уличный свет залил комнату. Пока два спутника верховного священника глядели наружу, Чубсалид торопливо всматривался в черты сидящего перед ним человека. Некоторое количество тусклого света упало на трон, где неподвижно восседал в тени олигарх; черты его лица проявились отчетливей.
— Я знаю вас! Конечно же, вы... — но верховный священник не успел договорить: солдат грубо схватил его за плечи и без лишних церемоний развернул к окну. Стоящий у окна стражник указал вниз.
Внизу под окном лежал как на ладони внутренний двор замка, окруженный серыми стенами. Любой, кто находился во дворе, испытывал давящее чувство из-за глядящих на него сверху рядов окон.
В самой середине двора были сложены колодцем бревна. В центре колодца был установлен высокий прочный столб. Столб окружала деревянная платформа, а сам он был огорожен деревянной клеткой. Среди бревен для легкости розжига торчали вязанки хвороста. Неподалеку в жаровне дымились угли.
Олигарх снова заговорил:
— Кара за предательство — смерть. Вы знали это еще до того, как вошли сюда. Смерть на костре. Вы посмели выступить против государства. За это вы сгорите.
Штора снова была задернута. Парлингелтег опять заговорил, и опять его голос звучал дерзко.
— Если вы посмеете сжечь нас, вы обратите религию Сиборнала против государства. На вас поднимется всякая рука. Вам не выжить. Сиборнал тоже погибнет.
— Я позабочусь о том, чтобы весь мир узнал об этом злодействе! — вскричал Аспераманка и бросился к двери, но был задержан солдатами и возвращен обратно.
Чубсалид, стоящий посреди зала, успокоил военачальника:
— Будь тверд, мой добрый священник. Если подобное злодеяние совершится здесь, в центре Аскитоша, то останутся те, кто не найдет покоя до тех пор, пока Азоиаксик не восторжествует. Перед нами чудовище, которое считает, что предательство сильнее любой армии. Скоро он обнаружит, что предательство стоило ему всего.
Неподвижный человек на троне заметил:
— Величайшее благо — выживание цивилизации в течение нескольких последующих веков. Ради этого блага все остальное можно принести в жертву. В том числе и нравственные принципы. Если восторжествует чума, то закон и порядок падут. Так всегда бывало в начале Великой Зимы — в Кампаннлате, в Геспагорате и даже в Сиборнале. Армии, обезумев, бежали, ученые записи жгли, культурные памятники цивилизации уничтожали. Торжествовало варварство.
Но в этом Году, этой Зимой, мы победим/должны будем победить. Сиборнал превратится в крепость. К нам уже никто не способен проникнуть. Вскоре ни одна живая душа не сможет уехать или уплыть из страны. На четыре века мы превратимся в оплот закона и порядка, да прольются об этом слезы стай голодных волков. Мы будем жить тем, что дает нам море.
Будут установлены шкалы ценностей, но определять их будет выживание. Мне не нужны ни церковь, ни государство, состоящие из вольнодумцев и легкомысленных. Такое решение приняла олигархия. Наш план единственно верный, способный сохранить жизнь максимальному количеству людей.
Следующей Весной мы восстанем в полной силе, в то время как Кампаннлат погрязнет в дикости и их женщины будут таскать повозки с дровами, как гужевые животные, если только эти люди не позабудут к тому времени, что такое колесо. Тут-то мы раз и навсегда положим конец угрозе, исходящей из этой дикой страны.
И вы называете нас злодеями? Вы называете это злом, верховный священник? Вы называете злом возможность завоевать следующей весной целый материк?
Улыбаясь такой риторике, Чубсалид выпрямился. Он набрал полную грудь воздуха. Дождался, когда слова олигарха поглотит тишина, и только тогда ответил:
— Хотя вы уверены в обратном, но ваши речи — это речи и планы слабого человека. У нас в Сиборнале очень суровая религия, откованная, как само Великое Колесо, в нашем суровом и холодном климате. Но то, к чему мы взываем, — стоицизм, а не жестокость. То, о чем говорите вы, означает лишь забвение правосудия. В конце концов вы обнаружите, что ваш план насаждения жестокости рано или поздно потерпит неудачу, и вас ждет неминуемый крах. Это неизбежно.
Человек на троне шевельнул рукой, что могло означать досаду.
— Вы ошибаетесь, верховный священник, уверяю вас. По-вашему, выходит, мы должны хоронить своих мертвецов и пустить все на самотек?
Снова зазвенел чистый молодой голос Парлингелтега:
— Но все умершие будут свидетельствовать против вас. Слово будет передаваться от одного духа к другому. Все всё равно узнают о ваших преступлениях.
Мрачный голос олигарха был ему ответом:
— Мертвые могут свидетельствовать словом. По счастью, они не могут свидетельствовать оружием.
— Но если все узнают о вас все, то оружие окажется в руках у живых!
— Сейчас вы не способны ни на что, лишь сотрясать воздух пустыми угрозами, но придет день, когда вы увидите этих живых под землей в тепле и довольстве, не помышляющих взять в руки оружие... То, что я сказал, никого из вас не подвигло изменить свое мнение и присягнуть на верность государству?
Человек на троне подал знак стражнику. Парлингелтег выкрикнул запретное ругательство:
— Абро Хакмо Астаб, проклятый олигарх!
Вооруженные солдаты с непреклонным видом прошли твердым шагом через комнату, чтобы встать позади духовников.
Аспераманка не мог вымолвить ни слова, до того тряслась у него челюсть. Он скосил глаза на Чубсалида, который похлопал его по плечу. Молодой священник взял Чубсалида за руку и снова выкрикнул:
— Если вы сожжете нас, то весь Аскитош займется пожаром!
— Предупреждаю вас, олигарх, — проговорил следом Чубсалид, — если вы попытаетесь столкнуть церковь и государство, то никогда не добьетесь успеха. Вы только разобщите народ. Если вы сожжете нас, то считайте, что ваши планы уже провалились.
Олигарх спокойно ответил:
— Я просто найду других, кто согласится сотрудничать со мной, верховный священник, только и всего. Дюжины послушных рабов с готовностью бросятся ко мне, стоит только посулить им ваше место — и еще почтут это за честь. Я хорошо знаю людей.
Солдаты схватили священников за руки, но Аспераманка вырвался. Он бросился к трону олигарха и упал на одно колено, склонив голову.
— Любезный олигарх, пощадите. Вы же знаете, что я, Аспераманка, был вашим преданным слугой всю свою жизнь, также и на войне. Вы не допустите, чтобы столь ценный инструмент был уничтожен из простой расточительности. Делайте с этими двумя все что хотите, но пощадите меня и позвольте служить вам снова. Я верю, что путь Сиборнала к выживанию именно тот, какой вы описали. Тяжелые времена требуют тяжелых мер. Чтобы люди выжили, власть духа должна проторить путь государственной власти, пусть временной. Пощадите меня, и я буду служить вам... во славу Господа!
— То, что ты говоришь сейчас, и то, что будешь делать потом, ты делаешь только ради себя, но не ради Господа, — проговорил Чубсалид. — Перестань умолять, Аспераманка! Умри вместе с нами — так ты познаешь гораздо меньше боли!
— Ради жизни или ради смерти — но мы принимаем роль боли в нашем существовании, — заметил олигарх. — Аспераманка, я не ожидал услышать такое от тебя, победителя при Истуриаче. Ты вошел в этот дворец со своими братьями; почему ты не хочешь сгореть вместе с ними?
Аспераманка молчал. Потом, поднявшись с колена, разразился длинной витиеватой речью.
— То, о чем вы говорили, по большей части принадлежит не политике и не морали, а истории. Вы, олигарх, хотите изменить историю — возможно, этим одержимы все великие люди. Конечно, циклическая история требует пересмотра и реформирования — реформы достаточно грубой, для того чтобы дать эффект.
И тем не менее я говорю от лица нашей возлюбленной церкви, которой тоже служу — служу преданно. Пусть эти сгорят за церковь. Но я предпочитаю жить для нее. История говорит нам, что религии могут умирать, так же как и целые нации. Я не забыл уроки истории, преподанные мне, когда еще ребенком я жил в монастыре в Старом Аскитоше, где меня учили защищаться от влияния религии Панновала, которой манипулировали злонамеренный король Борлиена и его прислужники. Если церковь и государство разойдутся, то и наш Могущественный Бог окажется под угрозой. Так позвольте мне, лицу духовному, служить вам в стане церкви.
Когда солдаты выводили двух других священников из залы, Парлингелтег, проходя мимо Аспераманки, сильно толкнул его, и архиепископ-военачальник упал на пол.
— Лицемер! — крикнул ему капеллан, которого солдаты тащили прочь.
— Отведите этих двоих во двор, — приказал олигарх. — Нужно поселить в сердце церкви толику страха, и в будущем та присмиреет.
Пока шли приготовления к сожжению верховного священника Чубсалида и капеллана Парлингелтега, олигарх сидел неподвижно.
Зал опустел. Остались только стражники с обнаженными мечами да лежащий на полу Аспераманка, белый как мел.
Холодный взгляд олигарха обратился в сторону Аспераманки.
— Для таких, как ты, у меня всегда найдется работа, — проговорил глава государства. — Встань и подойди.
Глава 11 Суровый закон дороги
Почти все реки в Сиборнале текли на юг. Почти все реки большую часть года были быстры и своенравны, ибо рождались в ледниках.
Река Венджи не была исключением. Неширокая, полная опасных течений и водоворотов, она, скорее, неслась, чем текла в своих берегах в сторону Ривеника.
За несколько веков Венджи промыла себе в долине хорошее удобное русло, в котором могла течь неспешно и разливаться, если было настроение. Мимо упомянутого русла и проходила дорога, по которой шли все, кто направлялся на север, к Харнабхару.
Дорога взбиралась по склону в приятной для глаз местности, защищенной от сильных ветров стеной Шивенинкского хребта. Здесь иногда, в благоприятные времена, распускаясь огромными цветами, рос густой кустарник, безразличный к холодам. По обочинам дороги росли цветы поменьше, и пилигримы собирали их, потому что таких цветов больше не было нигде.
На этом участке дороги, первом участке сухопутного пути к Харнабхару, пилигримы шагали беззаботно. Одетые в разнообразные одежды, по большей части в рубище, они странствовали группами или в одиночку. Некоторые шли босиком, заявляя, что умеют управлять своим телом и не чувствовать холода. Тут и там в отрядах путешественников звучали музыка и песни. Это было серьезное событие для верующих — побывавший в Харнабхаре и прошедший тропой пилигримов пользовался на родине почетом до конца своих дней — и все равно это был праздник, и потому все радовались. На несколько миль от Ривеника вдоль дороги были устроены лавки, где желающие могли купить эмблемы Колеса или провизию в дорогу. Часто тут торговали крестьяне из Брибахра (граница была совсем рядом), они спускались с гор и продавали идущим продукты своего труда. Этот участок пути был самым легким.
Потом дорога начинала круто подниматься в горы. Постепенно воздух становился разреженным. Цветы на кустах с кожистыми листьями мельчали, хотя и не исчезали. Крестьяне тоже встречались все реже — мало кто решался подняться сюда из долины. Пилигримы лишь изредка дули здесь в трубы — для этого уже не хватало воздуха. Полз шепоток о случаях грабежа.
Но эта дорога по-прежнему хранила дух приключения, возможно величайшего приключения жизни. Они вернутся домой героями. Небольшие трудности не помеха. Таверны, где пилигримы ночевали, если могли себе это позволить, становились все беднее и строже, сны путников — все тревожней. Ночи наполнял звук неустанно падающей воды (может быть, вечно падающей) — напоминание о том, что над головами у них, скрытые в облаках, таятся невообразимые выси. Поутру они продолжали путь в тревожном молчании. Горы требовали молчания и подавляли любой начатый разговор. Искусство праздной беседы родилось внизу, в долинах.
Дорога по-прежнему поднималась в горы, по-прежнему вдоль своенравной Венджи. Путники упорно продвигались вперед. В конце концов наградой им становился чудесный волшебный вид.
На подходах к Снарагатту, расположенному на высоте пяти тысяч метров над уровнем моря, облака расступались, что случалось не часто, открывая вид на северо-запад, на неровную горную страну с ужасными пропастями, над которыми парили стервятники. Даже у края горной страны остроглазым пилигримам удавалось различить долины Брибахра, голубые из-за дали или, возможно, от изморози.
Перед входом в Снарагатт снова появлялись лавчонки, сначала редкие. В одних торговали орехами или горными фруктами, кое-где предлагали полотна с горными пейзажами, написанные дурно из-за стремления к сильной идеализации. Появились дорожные указатели. Потом следовал поворот дороги — и другой (до чего уставали к тому времени ноги!); на обочине — лавочка торговца печеньем; потом пилигримы видели высокий деревянный шпиль — новый поворот — людей — толпы — и начинался Снарагатт — да, Боже! — Снарагатт, где можно было получить ванну и чистую постель.
В Снарагатте имелось множество церквей, среди прочих — копии харнабхарских. Шла оживленная торговля картинами и гравюрами с видами Харнабхара. По слухам, зная, куда обратиться, можно было купить даже подлинный сертификат, подтверждающий, что ты действительно побывал в Харнабхаре и видел Великое Колесо.
Ибо Снарагатт — несмотря на все труды, потребные, чтобы добраться до него, — был ничто, лишь остановка в пути, лишь начало настоящей дороги. Снарагатт был тем местом, откуда начиналась подлинная дорога к Харнабхару. Обещая все на свете, Снарагатт тем не менее был пробным камнем рухнувших надежд. Многие приходили к убеждению, что слишком стары, или слишком устали, или слишком больны, или просто слишком бедны для того, чтобы отправиться дальше. Такие оставались тут на день или на два, а потом устремлялись в обратный путь к Ривенику, к устью своенравной реки.
Ведь Снарагатт когда-то граничил с тропиками. Еще севернее, выше в горах, климат быстро становился суровым. Многие сотни миль отделяли Снарагатт от Харнабхара. Чтобы пройти такой путь, требовалось подлинное упорство и даже более того.
Лутерин Шокерандит, Торес Лахл и Харбин Фашналгид ночевали в Снарагатте в гостинице «Звезда». Точнее, они ночевали на открытой веранде, устроенной под раскидистыми вязами во дворе гостиницы «Звезда». Шокерандит, тщательно продумавший их путь еще в Ривенике, не хотел попадаться на глаза толпам пилигримов, наводнявших гостиницу. Спать на веранде было удобно, поскольку предприимчивые хозяева давно уже устроили здесь трехъярусную кровать.
Самый верхний ярус занял Фашналгид, посередине лежал Шокерандит, а в самом низу — женщина. Фашналгиду такое распределение мест совсем не понравилось, но Шокерандит принес каждому из них по трубке с оччарой, травой, растущей на горных склонах, и они заснули с покоем в душе. Путь от Ривеника до Снарагатта они проделали в легкой повозке, вместе с другими состоятельными странниками. Завтра они пойдут договариваться насчет упряжки с санями. Но этой ночью им нужно было отдохнуть. Небо над горами очистилось от туч, наверху блеснули знакомые созвездия: Шрам королевы, Фонтан, Старый всадник.
— Торес Лахл, ты видишь звезды? Ты можешь назвать их? — спросил сонным голосом Шокерандит.
— Могу — это звезды... — Торес слабо усмехнулась.
— Тогда мне стоит спуститься к тебе и объяснить.
— Звезд так много...
— Значит, это займет много времени...
Но Лутерин заснул прежде, чем сумел двинуть рукой, и даже крики животных, доносящиеся со склонов гор, не разбудили его.
На следующее утро Шокерандит поднялся с кровати усталым и разбитым. Он облачился в волглые от ночного тумана одежды и разбудил Торес Лахл.
— Оставшуюся часть пути нам придется спать только в одежде, — сказал он ей.
Не дожидаясь Торес, он отправился к лавочке, чтобы купить снаряжение, которое понадобится им в дорогу длиной в месяц. Над дверью лавочки имелась вывеска: «СЕВЕРНЫЙ ПУТЬ», под вывеской было намалевано Великое Колесо.
Лутерин был взволнован. Фашналгид, настоящий ускут, всегда считал Шивенинк всего лишь горной провинцией, забытой государством. Но Лутерин Шокерандит знал больше. Расположенный вдали от столицы Шивенинк был наводнен полицией и доносчиками. После того как Фашналгид убил солдата, по его следу наверняка пустили полицию и военные части. Шокерандит с тоской думал о том, какие беды они могли навлечь на Эедапа Мун Одима и его брата, а также Хернисараха.
Назвавшись вымышленным именем, он купил в лавке необходимое снаряжение и отправился договориться насчет упряжки, которую зафрахтовали заранее. Упряжка должна была довезти их до Харнабхара — к безопасности, к поместью отца.
Фашналгид поднимался утром не так энергично. Как только Шокерандит вышел с веранды, капитан бросил притворяться спящим и спустился на нижнюю кровать к Торес Лахл. Теперь, когда ее дух был сломлен, она уже не оказывала сопротивления.
— Лутерин убьет тебя, если узнает, что ты делаешь, — говорила она.
— Заткнись и получай удовольствие, дурочка. Когда время придет, я позабочусь о нем.
Фашналгид сжал Торес Лахл в медвежьих объятиях, обхватил ногами, раздвинул ей колени и вошел в нее. От его мерного пыла трещала слабая кровать и тряслись стены веранды.
Снарагатт был поделен на две части: собственно Снарагатт и Северный Снарагатт. Обе части располагались вплотную друг к другу. Обе части города разделяли от силы сто футов и выступающий углом край утеса. Снарагатт был защищен горной стеной, вздымающейся над ним. В Северном Снарагатте с гор дули незатихающие ветра, отчего температура там всегда была ниже на несколько градусов. Упряжки, отправляющиеся на север, можно было найти только в Северном Снарагатте. Климат главного Снарагатта был для них слишком мягок.
Шокерандиту понадобилось два часа, чтобы убедиться: все готово к дальнему переезду. Он хорошо знал народ, с которым ему предстояло иметь дело. Это были горцы, ондоды, что означало — по крайней мере в переводе с простого языка этих людей — либо «люди духа», либо «одухотворенные люди».
Один из ондодов должен был стать погонщиком упряжки. С ним отправлялся и раб-фагор. У погонщика имелись хорошие сани и упряжка из восьми собак-асокинов.
Когда Шокерандит фут за футом осматривал упряжь, появилась Торес Лахл, бледная и мрачная.
— Там холодно, — только и сказала она.
Шокерандит отправился к мешкам с провиантом и снаряжением, которые он подготовил, и принес оттуда теплое шерстяное белье, полностью облегающее тело.
— Это для тебя. Надень.
— Где?
— Да здесь.
Уразумев, что она имеет в виду, Шокерандит оглянулся на фагора и ондода.
— Эти существа не понимают, что такое стыд и смущение. Можешь одеваться при них.
— Но я-то понимаю, — ответила Торес, однако поступила так, как ей предложили, а остальные смотрели и улыбались.
Шокерандит снова занялся проверкой снаряжения и переговорами с ондодом-погонщиком по имени Уундаамп, человеком маленького роста, с блестящими черными глазами, щеками, изрытыми оспой, и редкой бороденкой, на скулах превращающейся в жидкие волоски. Ондоду было четырнадцать лет, и он был опытным погонщиком, проделывавшим северное путешествие много раз.
Когда Уундаамп отвел Шокерандита взглянуть на асокинов, Торес Лахл в новой одежде пошла вместе с ними, время от времени с интересом поглядывая на ондода.
— Все погонщики довольно молоды, — объяснил ей Шокерандит. — Они питаются одним мясом и обычно умирают молодыми.
В дальнем торце конторы обнаружилась дверь, через которую они попали на задний двор. Там были устроены загоны, разделенные высоким частоколом из заостренных кольев. На земле лежал грязный снег. Лай собак оглушал.
Уундаамп прошел по узкому проходу между клетками-загонами. В загонах асокины бросались на колья, щелкали зубами, слюна текла с клыков на снег. Стоя на задних лапах, рогатые собаки ростом не уступали человеку, на всех четырех — человеку по пояс. Густой мех был серым, коричневым, черным или вперемежку, пятнами.
— Наша упряжка — гуумта упряжка — очень хороший асокин, — сказал Уундаамп, указывая на угловой загон и лукаво косясь снизу вверх на Шокерандита. — Идти потом, сперва вы двое дать кусок мяса вожаку, подружиться с ним. Тогда вы всегда будете с ним друзья. Итчо?
— А который вожак, вон тот, черный? — спросил Шокерандит.
Уундаамп кивнул.
— Тот черный пес, он вожак. Его звать Уундаамп, как меня. Люди говорят, он размером с меня, только не такой злой.
У черного асокина были аккуратно подпиленные и загнутые рога, концами торчащие в разные стороны, угольно-черная шерсть блестела. Только на груди белело пятно, да по низу хвоста — белая шерсть. Уундаамп указал на эти белые пятна, которые позволяли остальным асокинам легко бежать следом за вожаком.
Уундаамп повернулся к Торес Лахл.
— Госпожа, тебе скажу. Дай этому Уундаампу только одно мясо, как я сказал. И больше никогда не давай. И никогда не давай мясо другим асокинам, понимаешь? Эти асокины, они знают правила. Мы должны слушаться. Итчо?
— Итчо, — ответила Торес. Язык горцев она освоила еще по пути из Ривеника.
Уундаамп взглянул на нее снизу вверх веселыми глазами.
— Ты большая женщина. Мне тебя одним куском мяса не прокормить. Моя женщина, она поедет в Харнабхар вместе с нами. И еще одна вещь. Очень важный. Никогда не пытайтесь гладить этих асокинов. Откусит руку как кусок мяса.
Торес Лахл вздрогнула и рассмеялась.
— Я и не думала их гладить.
— Тогда заберем Фашналгида и отправимся сейчас же, — сказал Шокерандит, когда тщательная проверка закончилась. Припасов и снаряжения было как раз на дорогу в одну сторону; сани не следовало перегружать. Он взял ее за руку.
— Все в порядке, ты не заболела? В пути не стоит болеть.
— А нельзя оставить Фашналгида здесь?
— Нет. Он хороший человек. Если в пути что-то случится, он будет нам полезен. Должен сказать, что я уверен: агенты олигархии идут по нашему следу. Возможно, они думают, что если я сумею добраться к отцу и все ему рассказать, то он повернет армию против олигархии. Многие из соседей и друзей отца служат в армии. Я проверил в конторе: по списку через час после нас, в четыре, отправляются еще одни сани. Мне сказали, их наняли четверо. Чем раньше мы отправимся, тем лучше. У меня есть револьвер.
— Мне страшно. Ты доверяешь этому ондоду?
— Они не люди. Они родственники нондадов из Кампаннлата. У нашего на руке восемь пальцев — можешь проверить, когда он снимет рукавицы. Они терпят фагоров, хотя предпочитают селиться поближе к людям. Но ондоды очень хитрые. Им приходится платить и угождать, иначе с ними нужно держать ухо востро.
За этим разговором они прошли из Северного Снарагатта в Снарагатт. Разница в температуре была заметной.
Торес схватила Шокерандита за руку и обиженно произнесла:
— Зачем ты заставил меня раздеться перед ними? Ты не должен был унижать меня так лишь потому, что я рабыня.
Шокерандит рассмеялся.
— О, это часть моего вежливого отношения к ним, часть ритуала. Они хотели видеть тебя голой. После этого они стали лучше относиться ко мне, а значит, ко всем нам.
— Но я не стала после этого лучше относиться к тебе.
— Знаешь, я ведь чурбан.
Торес спросила с раздражением:
— Почему ты не приходишь ко мне в постель? С тобой что-то не в порядке? Ведь ты можешь байвак меня, когда только захочешь, я ведь твоя?
— Ого, похоже, ты наконец меня захотела? Какая перемена в разговоре!
Шокерандит злобно усмехнулся.
— Тебе понравится, как мы устроимся сегодня на ночь.
Они забрали Фашналгида, который уже напивался в соседнем кабачке. После этого Шокерандит некоторое время провел в лавчонке, где продавались яркие одеяла в желтую и красную клетку. Среди узоров был вышит безошибочно узнаваемый символ Великого Колеса.
— Всемогущий, куда ты тратишь наши деньги? — возмутился Фашналгид. — Я полагал, что все необходимые запасы и снаряжение ты уже купил.
— Я только зашел сюда взглянуть на товары, и мне понравилось одеяло — красивое, правда?
Шокерандит заплатил и завернулся в яркое одеяло, прежде чем отправиться обратно в Северный Снарагатт. Другие путешественники не обращали внимания на странный наряд Шокерандита, все были одеты кто во что, лишь бы защититься от холодного горного ветра. Фашналгид с удивлением отметил, что в другой лавочке Шокерандит купил, за приличные деньги, копченого козленка.
Хозяин «Северной путеводной звезды» сообщил им, что Уундаамп спит. Шокерандит один вошел в помещение, вырубленное в цельной скале на задах лавочки, рядом с загонами для собак-асокинов. В комнате сидели несколько ондодов и ели сырое мясо, ловко отрезая ножами полоски. Другие спали со своими женщинами на полках, устроенных вдоль каменных стен.
Уундаамп проснулся и слез с полки, почесывая подмышки и зевая, показывая зубы, почти такие же острые, как у его собак.
— Ты слишком строгий начальник, в три часа выходить рано. До четырех я не твой человек.
— Извини. Понимаешь, я хочу выехать пораньше. Я принес тебе подарок, итчо?
Шокерандит на пол бросил копченого козленка. Уундаамп немедленно уселся на пол и позвал друзей. Потом ондод вытащил нож и поманил им Шокерандита.
— Все идут есть, друг, потом рано выезжаем. Гуумта.
Все присутствующие собрались вокруг. После некоторого раздумья Уундаамп даже позвал свою жену, и та скатилась с полки и пришла, завернутая в одеяла. Со стороны было очень хорошо заметно, что у подруги Уундаампа такое же круглое лицо и черные глаза, как и у ее мужчины. Женщина даже не попыталась войти в круг жадно глазеющих на козленка мужчин. Вместо этого она тихо встала позади Уундаампа и время от времени ловила обрезки мяса, которые он кидал ей через плечо.
Жуя мясо, Шокерандит тем временем рассматривал руки ондода. Руки у Уундаампа были узкие и жилистые, на каждой по восемь пальцев. Тупые ногти, похожие на когти, одинаково черные, блестели от грязи и жира, въевшихся под них.
— Гуумта, — сообщил Уундаамп с набитым ртом.
— Гуумта, — согласился Шокерандит.
— Гуумта, — согласились другие ондоды. Женщина, будучи женщиной, не сказала ничего, поскольку никто не интересовался ее мнением: хорошая была еда или нет.
Вскоре от козленка остались лишь рожки да ножки. Уундаамп немедленно поднялся на ноги, вытирая руки о меховую куртку.
— Кстати, начальник, — сообщил он, дожевывая, — этот мешок позади меня, пузо с отхожими газами и детьми, — моя женщина. Зовут — Моуб. Можешь забыть имя. Она поедет с нами. Ты не возражаешь.
— Пусть едет, добро пожаловать, ведь она такая красивая, Уундаамп. Я принес это одеяло для себя и не собирался его отдавать, но, увидав, какая красавица твоя Моуб, я решил сделать ей подарок.
— Луубис. Можешь дарить, начальник. Она ничего не потеряет. Она поцелует тебя.
И Шокерандит подарил одеяло в желтую и красную полоску Моуб.
— Луубис, — проговорила та. — Слишком хорошо для мешка с отхожими газами, которому хозяин этот злой Уундаамп.
Женщина ловко метнулась вперед и поцеловала Шокерандита полными, лоснящимися от жира губами.
— Гуумта. Захочешь байвак, начальник, можешь брать Моуб. Она страшная, но тут у нее все в порядке, итчо?
— Луубис!
Дружба на время пути была должным образом скреплена. Шокерандит почувствовал прилив счастья оттого, что так хорошо все устроил, вспомнив, как катался на упряжке в санях вместе с матерью, когда был мальчишкой, как играл с ребятишками-ондодами в поместье отца. Мать всегда говорила, что ондоды грубые и похожи на зверей, возможно, по причине свободного отношения между полами, что мать принимала за дикость. Потом Шокерандит с друзьями стал ходить в хижину к ондодкам на опушку каспиарнового леса и свой первый сексуальный опыт приобрел именно с женщиной-ондодкой. Он вспомнил пухлую девочку по имени Ипаак. Для Ипаак он всегда был «розовым вонючкой».
Суровая дисциплина для асокинов, суровая дисциплина для путешественников. Таковы были правила для пилигримов между внешним миром и Харнабхаром. Уундаамп сидел на передке саней с кнутом, Моуб калачиком свернулась позади него. Бхрайр, фагор, ехал позади, стоя на полозьях и направляя длинные сани, иногда спрыгивая и толкая их направо или налево, иногда что было мочи налегая на задок саней, чтобы помочь асокинам. Трое людей сидели среди упакованных в просмоленную парусину припасов, в пути переходя с одной стороны на другую, в зависимости от направления ветра.
Ничего не стоило выпасть из саней. Приходилось все время смотреть за погонщиком, следить за тем, в какую сторону он собирается повернуть. Иногда с нависающих над их головами вершин горной гряды валил такой густой снег, что Уундаампа было еле видно. Они переправились по ненадежному мостику на другой берег коварной Венджи и теперь продвигались приблизительно на северо-северо-восток, следуя изгибам высокого Шивенинкского хребта, где в течение всего Великого Года на высоте десяти тысяч метров постоянно лежал лед.
Даже когда воздух очищался от снега, дыхание собак, стлавшееся паром, окутывало пассажиров, закрывая обзор. В упряжке бежала одна сука, чтобы подзадоривать семерых кобелей. Часто, особенно перед началом очередного участка пробега, собаки поднимали лай, перекрывающий вой ветра. Во время движения единственными звуками были скрип полозьев и частое дыхание асокинов. Прочие звуки тонули в этом. Вокруг ничего не было видно, кроме вздымающихся по обе стороны горных стен. Запах псины и нестираной одежды стал главным. Монотонность езды притупляла чувство опасности. Усталость, белизна снега, однообразные картины гор уже проносились через сознание не задевая. Так утекал день за днем.
Асокины тянули сани на длинных двадцатифутовых кожаных постромках. Псам давали передохнуть десять минут каждые три часа езды. Все собаки во время отдыха ложились на снег, кроме вожака, Уундаампа. Погонщик Уундаамп был так же близок к своему вожаку, как к своей женщине Моуб. Собаки были его жизнью.
Во время привалов Уундаамп и Моуб тоже не сидели на месте, они устраивали короткие вылазки в стороны, присматриваясь к явлениям природы — какой формы облака, как летят птицы — ко всему, что могло бы предсказать изменение погоды, к повадкам зверей, к звукам, предвещающим лавины.
Иногда им встречались пилигримы, идущие в ту же сторону или навстречу, решившиеся преодолеть этот тяжкий путь пешком. Часто попадались и другие сани, звенящие колокольчиками. Один раз им пришлось тащиться следом за длинными возами с рыбой: купцы ехали медленно, и конца их саням не было. Это была сухопутная версия рыболовецких шхун. На них далеким покупателям везли многочисленные бочонки с соленой рыбой.
Когда навстречу попадались другие сани, асокины принимались бешено лаять, но погонщики ни единым движением не приветствовали друг друга.
Ночлег протекал совсем иначе, чем дневные короткие передышки. Уундаамп сворачивал с тропы и отыскивал место для стоянки, чаще всего — известное заранее. Первым делом он устраивал собак, которых нужно было разместить на ночь каждую отдельно и подальше от саней, чтобы они не объели шкуры. Каждого асокина кормили двумя фунтами сырого мяса на каждый третий день; на пустой желудок собаки бежали резвее. Но каждый вечер каждому асокину бросали по одной рыбине, каждому раздельно, начиная с Уундаампа. Асокины ловили рыбу на лету и проглатывали одним махом. Суку кормили последней. Вожак спал поодаль от прочих собак. Если ночью шел снег, то собаки так и спали под снегом, устраиваясь в тепле в образовавшихся пещерах. Фагор Бхрайр спал вместе с собаками.
После остановки на ночлег ужин обычно бывал готов через пятнадцать минут. Таково было еще одно правило.
— Не понимаю, какой смысл торопиться? — жаловался Фашналгид.
— Смысл в том, что если через пятнадцать минут уже можно ужинать, то так и нужно сделать, — объяснил Шокерандит. — Поставь палатку да потуже натяни парусину.
От холода парусина была жесткой. У людей облезала кожа с носов, щеки потемнели от обморожения.
Сани тоже требовалось разгрузить. Над санями натягивали палатку, что всегда означало долгое состязание в упорстве с ветром. На самих санях расстилали шкуры. Все спали в санях, повыше от земли. Принадлежности, необходимые для ночевки, также приготавливали неподалеку: еду, плиту, ножи, масляную лампу. Несмотря на то, что поначалу температура в палатке обычно была ниже нуля, ночью все потели, потому что спали в тесноте, отогреваясь после холода целого дня пути.
В первую же ночь, забравшись в палатку, Уундаамп оказался в самом центре ссоры своих пассажиров.
— Больше не говорите. Будьте умные. Ссора приводит смртаа.
— Я и неделю такой дороги не вынесу, — огрызнулся Фашналгид.
— Если не станешь его слушаться, он просто бросит тебя на тропе, — объяснил Шокерандит. — Все, о чем он просит, это забыть о личных чувствах на время пути. Холод не любит ругани, иначе нас может постигнуть смерть.
— Пускай этот урод заткнется.
— Без него мы тут погибнем — неужели ты не можешь этого понять?
— Оччара скоро, скоро, — сказал Уундаамп, подталкивая в бок Фашналгида. Только недавно Уундаамп дал Моуб пару серебристых лисиц, чтобы та приготовила им ужин. Лисицы попали в капкан, поставленный им во время прошлой поездки по тропе.
В палатке распространился вкусный дух еды. Мясо отлично пахло. Они ели грязными руками, потом запили еду растопленным снегом из общего котелка.
— Еда итчо? — спросила Моуб.
— Гуумта, — ответили все.
— Она плохо стряпает, — заявил Уундаамп, раскуривая трубки с оччарой и передавая их по кругу. Лампу погасили и курили в темноте и покое. Вой ветра словно бы затих в отдалении. Дым, клубящийся в ноздрях, был как дыхание волшебной лучшей жизни. Они были дети гор, и горы готовы были окружить их заботой. Никакая беда не придет к тем, кто съел серебристую лисицу. Всякое различие между мужчинами и женщинами, между мужчинами и мужчинами, было благом и только благом — священный дым клубами плыл из их ноздрей, и возможно из глаз и ушей, а также других отверстий тела. Сон сам по себе тоже был отверстием, дырой, уводящей к горному богу. Иногда во сне человек становился серебристой лисицей.
Утром, когда они с трудом сворачивали палатку в спокойном, но морозном воздухе, Торес Лахл сказала Шокерандиту:
— Ты отвратителен, глаза бы мои на тебя не глядели! Прошлой ночью ты байвак этот мешок собачьего жира, Моуб. Я все слышала. Все сани тряслись.
— Я просто оказал уважение Уундаампу. Из простой вежливости. Никакого удовольствия.
Ночью Шокерандит обнаружил, что ондодка беременна на большом сроке.
— Я не сомневаюсь, что за этот знак вежливости она наградит тебя болезнью.
К ним подошел улыбающийся Уундаамп с парой хвостов черно-бурой лисицы.
— Это держать в зубах. Гуумта. И тогда холод не достанет до лица.
— Луубис. У тебя есть еще один для Фашналгида?
— У этого человека на лице и так растет хвост, — ответил Уундаамп, с веселым смехом указывая на усы капитана.
— По крайней мере он старается быть с нами добрым, — проговорила Торес Лахл, потом помедлила, но зажала хвост зубами, и мех защитил ее нос и щеки от мороза.
— Уундаамп добрый. И когда завтра ночью мы разобьем палатку, будь с ним поласковее. Добро должно возвращаться.
— Э-э-э, нет... Лутерин... только не это, пожалуйста. Мне казалось, я тебе небезразлична.
Шокерандит в ярости повернулся к женщине.
— Да — но в первую очередь мне небезразлична наша судьба. Нам нужно добраться живыми до Харнабхара. Я знаком с привычками ондодов и знаю, что такое дорога через холодные горы, а ты ничего не знаешь. Это обычай, от него зависит, выживем мы или нет. Прекрати считать себя особенной.
Торес Лахл, оскорбленная до глубины души, ответила:
— Значит, тебе наплевать и на то, что Фашналгид насиловал меня всякий раз, как ты отвернешься?
Шокерандит бросил палатку и схватил Торес за отвороты куртки.
— Врешь! Когда он посмел к тебе прикоснуться? Выкладывай сейчас же. Когда и сколько раз? Это было не однажды?
Торес Лахл все ему рассказала, а он слушал, и глаза его погасли.
— Хорошо, Торес Лахл.
Теперь он говорил почти шепотом, его лицо застыло.
— Фашналгид нарушил офицерский закон чести. В дороге он еще нужен нам. Но как только мы вернемся домой, я убью его. Понятно? Все, молчи.
Не сказав больше ни слова, они загрузили сани. Смртаа — возмездие. Частый гость в этих краях. Уундаамп запряг собак, и через несколько минут сани уже мчались по тропе сквозь туман. Шокерандит и Торес Лахл крепко вцепились зубами в лисьи хвосты.
Недремлющая машина Аверна продолжала вести запись всех событий, происходящих внизу на планете, автоматически транслируя запись на Землю. Но ничтожное количество людей, уцелевших на станции наблюдения, теперь мало заботила эта своя главная обязанность; главным для них стало собственное выживание. Количество людей на станции чрезвычайно уменьшилось в результате болезней и постоянных схваток, и самозащита стала повседневной реальностью.
Продолжительное время заняли возникновение племен и установление племенных территорий, положившее конец постоянным стычкам. На нейтральной территории между племенами существовали срамные куклы, к тому времени превратившиеся в нечто среднее между богами и демонами.
Таким образом установился более или менее равновесный мир, хотя давнишнее разрушение установок по производству синтетической пищи означало, что каннибализм все еще был широко распространен. На станции почти не было другого мяса, кроме человеческого. Но настал день, и употребление в пищу человеческого мяса стало суровым табу, которое не смели нарушить послушные обитатели Аверна, покорные во многих поколениях. Нисхождение к варварству, тем более за одно поколение, — вынести такое психика не могла.
В племенах установился матриархат, при этом основная масса половозрелых молодых людей практиковала разделение личности. Так, в одном теле могло существовать более десяти личностей с разнообразными наклонностями, разного пола, возраста и привычек. Большинство, аскеты-вегетарианцы, существовали в шаге от каменного дикарского века, буйные танцоры — от законотворцев.
Сложное разъединение с природой, происходящее среди колонистов Аверна, достигло своих пределов. Теперь не только отдельные личности отвернулись друг от друга, многие не понимали самих себя.
Не для всех подобная адаптация к стрессовой ситуации превратилась в повседневность. Когда начались первые жестокие схватки, несколько техников покинули станцию. Они похитили челнок из дока технического обслуживания и бежали. Техники образовали колонию на Аганипе.
Несмотря на весь соблазн, исходящий от зеленой, голубой и белой Гелликонии, та таила в себе огромную опасность для людей, о которой нельзя было забывать. В мифологии Аверна Аганип занимал особое место, поскольку именно здесь много тысяч лет назад корабль с колонистами с Земли впервые основал базу, где люди жили, пока шло строительство Аверна.
На Аганипе не было жизни, его атмосфера почти целиком состояла из двуокиси углерода с небольшой примесью азота. Но ранее основанная база все еще оставалась в отличном состоянии и готова была принять обитателей.
Беглецы построили для себя небольшой купол. Жить там можно было только в очень стесненных условиях. Первым делом они отправили донесение на Землю, после чего, не имея намерения две тысячи лет дожидаться ответа, — на Аверн. Но у Аверна были собственные проблемы, и станция не ответила.
Беглецы не смогли понять природу человека, а именно того, что, подобно слонам и обыкновенным маргариткам, люди были всего-навсего функциональной частью биосферы. Оторванные от биосферы люди, существа более сложные, нежели слоны и маргаритки, имели гораздо меньше шансов продолжить существование. Передачу сигналов вели еще очень долго.
Но никто не отвечал.
Глава 12 Какуул в пути
Но что случилось после того, как отправленный сообществом людей сигнал сочувствия пронизал пространство и время и достиг духов Гелликонии? Разве после этого не случилось ничего важного — или значительного, чего-то совершенно отличного от событий прошлого?
Ответ на этот вопрос навсегда скрыт в туманном облаке догадок; у человечества имелся свой умвелт, сколь отважны ни были бы его попытки расширить тесный универсум своего проникновения. Могло оказаться, что стать частью другого умвелта просто невозможно с биологической точки зрения. Но могло быть справедливо и обратное. Возможно, нечто действительно великое, по-настоящему значительное, существенное и из ряда вон выходящее на самом деле произошло, но в другом, большем умвелте, чем умвелт человечества.
Если нечто подобное и впрямь имело место, это означало совместное действие, возможно, сочетание различных факторов, схожее с объединением усилий различных по воспитанию и манерам поведения человеческих личностей, которые, напрягая все силы, теперь одолевали путь к Харнабхару.
Если нечто подобное в самом деле произошло, то результирующий эффект должен был сохраниться надолго. Этот эффект мог быть отслежен на примере представляющих резкий контраст судеб Земли, где правила Гайя, и Новой Земли, существующей без общего духа биосферы...
Начнем со случая Земли, в честь которой назвали Новую Землю.
Промежуток между двумя постъядерными ледниковыми периодами понимался как взмах маятника. Гайя пыталась восстановить свои часы. Но это было гораздо легче сказать, чем сделать, поскольку биосфера значительно сложнее механизма часов. Истину можно было установить и более точно. Гайя перенесла почти неизлечимую болезнь и теперь выздоравливала, но выздоровление неминуемо должно было затянуться, сопровождаясь чередой рецидивов.
Или же, избегая персонификации сложного процесса, можно было бы сказать, что двуокись углерода, высвобождаемая океанскими глубинами, инициировала отступление льдов. В конце периода парникового потепления, во время возврата к нормальному состоянию, случались и обратные перегибы: биосфера и разрушенная биосистема силились вернуться в равновесное состояние. В результате льды возвращались.
На этот раз холод был не такой жестокий, пояс льдов распространялся не так далеко, продолжительность похолодания была не столь велика. Этот глобальный период был отмечен существенными, но постоянно сглаживающимися отклонениями климатических условий, что напоминало постепенно затухающие колебания маятника. Это был период дискомфорта для многих поколений сильно уменьшившейся в числе человеческой расы, разбросанной редкими очагами по земному шару. На исходе 6900-х годов, например, случилась небольшая война на территории, некогда именовавшейся Индией, — и повлекла за собой голод и эпидемии.
Можно ли было объяснить эти небольшие локальные войны выздоровлением Земли?
Тяготы и беспокойства этого периода породили смятение и беспокойство человеческого духа. Границы и навязанные преграды отныне были невозможны. Старый мир границ погиб, и ничто не обещало, что он воскреснет.
«Мы все принадлежим Гайе». С открытым пониманием этого пришло и иное понимание, что вовсе не люди — лучшие друзья и союзники Гайи. Чтобы увидеть этих лучших друзей и союзников, требовался микроскоп.
Годы шли, и задолго до изобретения и усовершенствования ядерного оружия не раз появлялись те, кто предсказывал, что гибель мира будет связана со злом, исходящим от человека. Таким пророкам всегда верили, сколько бы раз их пророчества ни оказывались неверными в прошлом. В людях всегда имелось стремление к наказанию и страх перед ним.
С изобретением ядерного оружия, пророчества приобрели мнимую достоверность, хотя на этот раз их питали в основном лживые утверждения, а вовсе не религиозные верования.
Были предъявлены доказательства, гораздо более убедительные оттого, что правительства подтверждали их, а именно доказательства того, что мир можно уничтожить одним нажатием кнопки.
В конце концов кнопку нажали. Посыпались бомбы.
Но человеческая злоба оказалась слишком слаба для того, чтобы уничтожить мир. Против нее выступили строители-микробы, которые не имели понятия и знать ничего не хотели о злобе.
Большие деревья и крупные растения исчезли. Плотоядные, включая человека, на время ушли со сцены. Эти существа были слишком требовательны. Крупные животные и растения были основными действующими лицами разыгрываемой на Земле драме. Сами драматурги уцелели. Под поверхностью Земли, на дне морей, в подходящих убежищах протекала, продолжая историю Гайи, бурная микрожизнь, недостижимая ни для радиации, ни для повысившегося уровня ультрафиолетового излучения.
* * *
Гайя восстановила себя. Человечество сыграло свою роль в этом восстановлении. Человеческий дух был подвигнут к квантовому переходу на другой уровень сознания.
Подобно тому, как природа воплотила разнородное единство, поступило теперь и сознание. Мужчины и женщины отныне не могли просто думать или чувствовать; осталась только способность к разумному сочувствию и состраданию. Голова и сердце превратились в одно.
Еще одним немедленным эффектом было недоверие к власти.
Среди людей нашлись такие, кто понимал, что жажда власти в любом своем проявлении может сотворить с миром. Постепенно холод этого понимания ушел из сознания. Человечество мало-помалу повзрослело и начало жить по-взрослому и мыслить взрослыми категориями. Мужчины и женщины, окидывая взглядом территорию, на которой им довелось проживать, больше не думали: «Какую пользу мы можем извлечь из этой земли?», вместо того спрашивая себя: «Чему нас может научить эта земля?»
Вместе с новым сознанием ушли и старая тяга к исследованию, и жажда к захвату новых пространств, и отсутствие тяги к установлению новых контактов. Старинная структура семьи отмерла и растворилась в новой сверхсемье. Все человечество превратилось в нежестко связанный изнутри сверхорганизм. Это случилось не сразу и не со всеми. Кое-кто не подвергся метаморфозам. Но ослабленные гены этих людей привели к их постепенному вымиранию. В новом мире сочувствия и сопереживания существование этих людей было бессмысленным. Эти люди единственные не улыбались.
Минуло еще несколько поколений, и новая раса почувствовала себя частью сознания Гайи. Экосистема многоклеточной жизни получила свой голос — хотя лучше будет сказать, сама изобрела для себя голос.
Но и тогда выздоровление системы еще не завершилось. Пока шло развитие и эволюция человечества, на Земле возник и развился совершенно новый вид живых существ.
Многие виды животных исчезли навсегда. Разнообразие тропических лесов в районе экватора с их миллиардами жизненных видов иссякло в результате ядерной бойни. Обитатели низменностей были потеряны в океанах без надежды на воскрешение. На смену старым видам пришли совершенно новые.
Новые виды родились не в океанах. Эти виды жизни пришли из снегов и льда Арктики, питались ультрафиолетовой радиацией и начали свое продвижение на юг вместе с отступлением ледников на север.
Первый же человек, столкнувшийся с этой новой жизненной формой, испытал глубочайшее потрясение.
К нему медленно приближались белые многогранники. Некоторые были не больше древней гигантской черепахи. Другие достигали в высоту человеческого роста.
За многоугольными внешними панелями у многогранников не заметно было никакого внутреннего устройства. Никакого видимого движения внутри или снаружи. Никаких щупалец или рук. Никакого рта или чего-либо подобного. Никаких отверстий. Ни ушей, ни глаз. Никаких внешних отростков. Просто белые многогранники. Возможно, одни из граней были чуть темнее других, но и только.
Многогранники не оставляли за собой следов. Могли перемещаться в любую сторону. Продвигались медленно, но ничто не могло остановить их, хотя отдельные храбрецы пытались это сделать. Многогранникам дали имя — «геонавты».
Геонавты размножились и распространились по всей Земле.
Геонавты олицетворяли новое чудо. Старые чудеса Земли никуда не делись. Например, огромные аудиториумы в виде вертикальных ракушек по-прежнему были разбросаны по всей Земле. Андроиды, свободные от иных забот — перепрограммировать их никто не потрудился, — продолжали поддерживать аудиториумы в рабочем состоянии.
На голографических экранах на смену зиме пришла весна Великого Года, подобно тому как растаяли снега и льды на Земле. История прекрасной МирдемИнггалы, королевы королев, стала знакома всем и каждому. Новая раса людей сумела многое почерпнуть из этой печальной истории, случившейся тысячу лет назад.
Люди внимали. Они прославляли благоприятное воздействие, которое их сочувствие оказало на духов. Но и их собственный новый мир взывал к неотложному вниманию, демонстрируя новую красоту, которой нельзя было противиться. Тысячелетняя весна наступила и на их родине.
Но было ли в этих двух прекрасных, хотя и разных, связанных нитью сочувствия мирах нечто особое, что обнаруживало бы их связь? Были ли какие-либо следы этой связи, которые могли бы выдать себя ищущему их наблюдателю?
Например, в случае Новой Земли.
Сестринские планеты Земли, кстати, также проявляли признаки выздоровления. На мертвых планетах, вроде Марса или Венеры, не было местной хозяйки, Матери-Природы. Температура поверхности этих планет в основном оставалась неизменной, атмосфера их содержала огромное количество двуокиси углерода. И тем не менее несчастные колонисты, которые обосновались там, погибли не все, а умудрились выжить благодаря своей находчивости и технологиям.
Эти неземляне испытывали стойкую антипатию к Земле. Поколение за поколением колонисты превращались в коренное население планеты, в космических изгоев. Они никогда больше не вернутся на Землю. Эти люди чувствовали себя отвергнутыми.
И вновь высокоразвитые технологии дали людям преимущество — и те решали технологические проблемы гораздо более энергично, чем социальные; они построили космический корабль и отправились в полет к ближайшей планете, которую колонизировали ранее, к так называемой Новой Земле.
В экспедиции принимали участие только мужчины. Мужчины оставили своих женщин дома, предпочитая отправиться в долгий космический полет с партнерами-роботами, сконструированными так, чтобы воплотить абстрактное представление мужчины об идеальной женщине. В течение полета мужчины наслаждались соитием с этими чудесными металлическими образами.
На Новой Земле воздух был вполне пригоден для дыхания. Единственный маленький океан по-прежнему со всех сторон окружала пустыня — пустыня и враждебная горная гряда. На экваторе имелся космический порт, а рядом — город. Космопортом не пользовались веками. Город тоже не проявлял признаков роста; дороги, ведущие из города, уходили в никуда. Горожане ничего не знали ни об океане, который их окружал, ни о Вселенной, куполом раскинувшейся над их головами.
Новоземляне походили на разумных животных. Нечто жизненно важное, составляющее дух бунтарства, ушло из их душ. Этим людям не было свойственно вдохновение, они никогда не думали о безграничности космоса, не питали любви к планете, ставшей им родным домом, не испытывали трепета при виде величественности рассвета и заката. В дегенеративном языке, на котором они общались, отсутствовало будущее время. Музыка была забыта и полностью утеряна, так же как и другие искусства.
В этом не было ничего удивительного. Ведь и в их мире не было души.
Новые земляне иногда выбредали на берег своего соленого моря. Но эти прогулки затевались не с целью искупаться и освежиться, а устраивались единственно для того, чтобы нагрузить полные повозки водорослей. Эти водоросли были одной из малочисленных жизненных форм, существовавших на планете. Еще люди Новой Земли ухаживали за полями, где росли злаки, привезенные с Земли на заре колонизации.
Этим людям никогда не снились сны, поскольку их существование протекало в мире, где не было и следа существа, напоминающего Гайю. У них не было легенд и мифов. За исключением одного. Эти люди верили, что их жизнь течет внутри огромного яйца, в котором пустыня — это желток, а облака над головой — скорлупа. Однажды, утверждал миф, небо расколется и упадет на землю. И в этот миг все они родятся. У них появятся желтые крылья и белые хвосты, и все люди перелетят в новый, лучший край, где деревья в виде огромных пучков водорослей растут повсюду среди чудесных долин и всегда идет дождь.
Когда неземляне прибыли на Новую Землю, она им совсем не понравилась.
Затем они отправились на соседнюю планету, чтобы исследовать и ее. Соседняя планета также была размером с Новую Землю, то есть относилась к земному типу.
Если Новая Земля была миром песка, то ее соседка была миром льда.
За компьютерными снимками того, что имелось на ледяной поверхности планеты и лежало подо льдом, выслали исследовательские дроны, автоматические аппараты.
Это был мир смерти, запретный для жизни. Ледники погребли под собой пики огромных гор. Бескрайние снежные поля без единой тропы простирались на месте равнин. Гелликония в апоастре никогда не была столь мертвой, как этот застылый шар смерти.
Специальные глубинные снимки показали, что под поверхностью льда имеются замерзшие океаны. Более того. Снимки показали, что подо льдом имеются руины огромных городов и широкие дороги, ведущие от города к городу.
Неземляне посадили свой корабль на поверхность планеты. Останки величественных зданий, сохранившиеся под слоем льда, стоили того, чтобы на них взглянуть. Некоторые фрагменты зданий выступали на поверхность; другие части разрушенных зданий ледники унесли далеко от изначального места. Используя огонь, исследователи очистили от льда широкое пространство среди руин.
Первым артефактом, найденным ими, была голова, вырезанная из долговечного искусственного материала. Голова принадлежала негуманоидному существу. Посреди яйцевидного черепа были расположены четыре глаза, лишенные век. Под глазами шли ряды коротких перьев. Небольшой клюв впереди уравновешивался клиновидным выступом черепа сзади.
С одной стороны голова почернела.
— Как красиво, — сказала робот-партнер.
— Ты хотела сказать — какое уродство.
— Когда-то для кого-то это было прекрасно.
Установить дату не составило труда. Город был разрушен 3,2 тысячи лет назад, в период бурной колонизации соседней Новой Земли.
Планета была уничтожена в результате массированной ядерной бомбардировки, и птичья раса полностью погибла в результате этой катастрофы.
Неземляне дали планете имя Армагеддон. Испытывая несказанную грусть, они еще некоторое время оставались на поверхности этой планеты, обсуждая, что можно предпринять.
— Я полагаю, — сказал капитан корабля, — что здесь мы нашли ответ на вопрос, который мучает человечество на протяжении многих поколений. С этим все согласятся.
Почему, отправившись наконец в космос, человек не нашел там ни одной разумной расы? Раньше всегда предполагали, что галактика переполнена жизнью. Но это оказалось не так. Почему таких планет, как Земля, не оказалось совсем?
Что ж, приходится признать, что Земля — место весьма необычное, где совпали несколько особо важных и редких природных комбинаций. Возьмем хотя бы один пример — количество кислорода в атмосфере Земли составляет около двадцати одного процента. Если бы количество кислорода составляло, например, двадцать пять процентов, — дерево вспыхивало бы от одной искры и все леса немедленно уничтожил бы пожар, растительность сгорела бы даже на болотах. На Новой Земле содержание кислорода равно восемнадцати процентам; здесь нет зеленых растений, которые могли бы связать двуокись углерода и высвободить молекулярный кислород. Неудивительно, что несчастные обитатели Новой Земли живут словно во сне.
Тем не менее по статистике во Вселенной должны существовать планеты подобные Земле. Быть может, когда-то такой планетой был Армагеддон. Предположим, что некий вид со способностью к достаточно разнородному питанию достиг на этой планете господства и превратился в доминирующий, как когда-то случилось на Земле перед ядерной войной. Для этого упомянутая раса должна была обладать технологией — начиная от дубинки и заканчивая луком и стрелами. Эта раса подчинила себе законы природы.
Со временем уровень развития технологии этой расы настолько повысился, что появилась возможность выбора. Раса могла выйти в космос для колонизации соседних миров или уничтожить своих недругов ядерным оружием.
— Но если на этой планете у них не было никаких врагов? — выкрикнул кто-то.
— Тогда этой расе потребовалось бы выдумать себе врагов. Давление духа соревнования, который порожден развитием технологии, делает врагов необходимыми, вы и сами это знаете. В этом-то и состоит моя точка зрения. На данной ступени развития, перед вновь открытым жизненным путем, не испытывая больше необходимости быть привязанными к родной планете, у порога важнейших открытий — в этот самый миг перед расой встает необходимость выбрать ответ на важный вопрос: смогу ли я создать глобальную силу, которая обуздает мою агрессию? Смогу ли я укротить свою ненависть и примириться с врагами, для того чтобы отказаться от смертоносного оружия раз и навсегда?
Вы понимаете, что я имею в виду? Если раса не может решить эту проблему, то она уничтожает себя и свою планету, не в состоянии преодолеть важнейшую карантинную зону, разделяющую ее и космос.
Армагеддон не выдержал проверки. Он умер, поскольку в нем гнездилась болезнь. Его люди погибли. Они убили себя.
— Но вы говорите, что люди везде и всюду несут в себе порок. И нам никогда не найти другой расы, которая способна выйти в космос.
Командир рассмеялся.
— Мы пока что стоим только на пороге Земли, не забывайте. Никто не придет к нам в гости до тех пор, пока не поймет, что нам можно доверять.
— А нам можно доверять?
Под общий смех командир ответил:
— Сначала давайте изучим Армагеддон. Может быть, нам удастся воскресить это древнее место жизни, если мы нажмем на нужную кнопку.
Дальнейшие исследования показали, каким когда-то был этот мир. Одной из отличительных его черт было расположение морей на высоких широтах, по причине чего они даже летом — до ядерной катастрофы — были покрыты льдом, по крайней мере частично. После ядерного катаклизма загрязнение атмосферы привело к общему похолоданию атмосферного щита, и моря в высоких широтах оказались теплее окружающего воздуха. Воздух постоянно подогревался снизу, а влага поднималась наверх. Результатом были сильнейшие катастрофические высотные ураганы, которых было достаточно, чтобы уничтожить выживших после ядерной катастрофы. На средних широтах выпали обильные снегопады, и плато, некогда отмеченные городами, оказались полностью скрытыми под снеговым покровом. Начавшееся общее оледенение стало самоподдерживающимся.
Неземляне решили сбросить заряд того, что их командир назвал оружием зла, на замерзшие моря высоких широт, чтобы «запустить мотор». Но ледяная пустыня и после этого осталась ледяной пустыней. То, что раньше олицетворяло дух этого мира, теперь умерло навеки.
После неудачной попытки у неземлян почти полностью закончилось топливо. Поэтому они решили вернуться на Новую Землю и завоевать ее. Открытия, совершенные на Армагеддоне, подсказали им стратегию. По их плану единственный термоядерный заряд, сброшенный на полярную шапку Новой Земли, вызовет обильные дожди, и облик планеты изменится. Моря увеличатся в объеме; местные жители найдут себе применение, займутся рытьем каналов. Можно будет увеличить урожаи водорослей, и постепенно приток кислорода в атмосферу возрастет. На первый взгляд расчеты выглядели убедительными. По мнению неземлян, новая попытка применить термоядерный заряд была вполне разумна. Они сели на корабль и покинули Армагеддон, оставив его на века скованным льдами.
И по крайней мере часть мифа населения Новой Земли сбылась. Небо треснуло и обрушилось на их головы.
Так в чем же заключается великое коренное отличие? Почему Новой Земле так и не удалось воскреснуть, в то время как старая Земля расцвела и даже произвела на свет новые жизненные формы, вроде геонавтов?
После того как земляне установили связи сопереживания и сочувствия с Гелликонией, во Вселенной появился новый эволюционный фактор. Земляне, осознанно или нет, воздействовали из фокуса сознания целой биосферы. В сочувственной связи оказалась заложена огромная мощность. Сочувствие оказалось эмоциональным и социальным эквивалентом гравитации и электромагнитного поля; нить сопереживания связала две планеты.
Проще всего будет сказать, что в итоге Гайя установила прямую связь со своей младшей сестрой, Всеобщей Прародительницей.
Конечно, это было и остается только догадкой. Человечество не может ясно видеть в своем великом умвелте. Однако человечество вполне способно обострить имеющиеся в его распоряжении чувства, чтобы отыскать вокруг себя доказательства. А все доказательства говорили о том, что Гайе и Всеобщей Прародительнице удалось установить связь через посредство своего потомства, выступившего проектором этой связи. Можно только догадываться, каково было потрясение, когда эта связь наконец установилась — если не считать доказательством вторично наступивший ледниковый период и чем сопровождалось последующее отступление льда.
Догадки говорили также о том, что выздоровление Гайи ускорило освежающее воздействие контакта с сестринским духом, находящимся неподалеку.
Были и геонавты: невозмутимые, совершенно спокойные, дружелюбные и, главное, — абсолютно новые и незнакомые создания. Их нельзя было рассматривать как гримасу эволюции, только как проявление доброй воли, порожденное новой и могущественной дружбой...
Но пока на Гелликонии продолжалось увядание большого сезона — великий август неостановимо истекал.
В северном полушарии малое лето уже подошло к концу. Ночные заморозки обещали еще более морозные ночи. В извилистых проходах Шивенинкского хребта уже властвовал мороз, и все живые существа, забредшие сюда, подчинялись законам этого ледяного повелителя.
Стояло утро. С северного полюса несла свое воющее дыхание буря. Припасы были надежно укрыты. Фагор и Уундаамп запрягали асокинов. С тех пор как они покинули Снарагатт, минуло семнадцать дней. Ничто не говорило о том, что за ними кто-то гонится.
Из трех пассажиров лучше других держался Шокерандит. Торес Лахл замолчала и уже несколько дней не произносила ни слова. Ночью она лежала в палатке тихо, как мертвая. Фашналгид говорил очень редко, в основном ругался. Уже через минуту после того, как они выходили из палатки на мороз, их брови и уши белели от обморожения, а щеки давно почернели от стужи.
Последний участок тропы лежал на высоте шести тысяч метров. Справа в клубящемся облаке высилась сплошная ледяная гора. Видимость составляла всего несколько футов.
Уундаамп подошел к Шокерандиту, взглянул на него смеющимися, обведенными изморозью глазами:
— Сегодня будет легкий переход, — прокричал ондод. — Пойдем вниз с холма, через тоннель. Помнишь тоннель, начальник?
— Тоннель Нунаат?
Для того чтобы говорить на ветру, требовалось немало усилий.
— Ага, Нунаат. К вечеру будем там. Такип пить, мясо кусать, оччара курить. Гуумта.
— Гуумта. Торес устала.
Ондод потряс головой.
— Скоро она будет мясом для асокинов. Больше не дает байвак гуумта, ага?
Ондод засмеялся, не разжимая губ.
Шокерандит увидел, что погонщик хочет сказать что-то еще. Они одновременно повернулись спиной к тем, кто паковал груз в сани, затягивая кожаными ремнями. Уундаамп сложил руки на груди.
— У твоего друга под носом вырос хороший хвост.
Ондод быстро и лукаво сверкнул глазами в сторону саней.
— Ты про Фашналгида?
— Про твоего друга с хвостом под носом. Упряжка его не любит. Для упряжки от него много какуул. Только плохо. Мы выбросим этот мусор в тоннеле Нунаат, ага?
— Он обидел Моуб?
— Комар кусается? Нет, но прошлой ночью он сунул свой сук в Моуб. Байвак этот мешок с салом, итчо? Ей не понравилось. В ней ребенок Уундаампа.
Ондод рассмеялся.
— Поэтому мы выбросим этот мусор в тоннеле, понимаешь.
— Извини, Уундаамп. Луубис за то, что сказал мне — но не нужно смртаа в тоннеле, пожалуйста. Я поговорю со своим другом в Нунаате. Он не будет больше байвак Моуб.
— Начальник, нам лучше выбросить твоего друга. Иначе большой какуул вижу.
Уундаамп осклабился, похлопал себя по лбу и круто повернулся на пятках.
Ондоды редко выдают свое раздражение или злость. Но ондоды большие предатели — и это Шокерандит отлично знал. Уундаамп продолжал держаться дружелюбно; без хотя бы видимости дружелюбия путешествие было бы совершенно невозможно; но, рассказав человеку о том, что его жена опозорена, ондод потерял лицо.
Шокерандиту было предложено соединиться с Моуб. Таково было гостеприимство ондодов, и, отклонив приглашение, Шокерандит мог нанести большую обиду. Но Фашналгида никто не приглашал, он взял свое без спросу и тем самым нарушил закон ондодов. А закон ондодов был прост и строг; оскорбление означало смерть нарушителю, смртаа. Фашналгида полагалось убить без колебаний и предупреждения. И если Уундаамп решил бросить Фашналгида в тоннеле Нунаата, то Шокерандит никак не мог поколебать этого решения.
Оба, и Фашналгид и Торес Лахл, бросали на Шокерандита любопытные взгляды, поднимая на него обведенные красными веками глаза. Он не сказал им ни слова, хотя сильно встревожился. Уундаамп не преставая следил за ними, и стоило Шокерандиту сказать хоть слово Фашналгиду, это бы означало приговор им всем.
Из мрака появилась мохнатая фигура Бхрайра, бредущего вдоль саней. Фагор на мгновение повернул к ним голову, и его карие глаза блеснули кровавым отблеском. Равнодушный взгляд фагора пронзил Шокерандита насквозь. Никто не мог прочитать выражение морды двурогого, никто не мог сказать, о чем думало это существо.
Фагор хлюпнул молоками в покрытых инеем ноздрях и прокричал, стараясь перекрыть вой ветра:
— Упряжка готова. Забирайтесь по местам. Держитесь крепче.
Харбин Фашналгид вытащил из-под шкур фляжку, обхватил горлышко обмороженными губами и сделал основательный глоток. Как только Фашналгид оторвал фляжку от губ, Шокерандит сказал:
— Послушайся моего совета, не пей. И держись покрепче, как он велел.
— Абро Хакмо Астаб! — прорычал Фашналгид. Потом рыгнул и отвернулся.
Торес Лахл вопросительно взглянула на Шокерандита. Тот мрачно кивнул, молча подавая сигнал: «Не сдаваться, крепче вцепись зубами в лисий хвост».
Они заняли места в санях и видели впереди только темные мешки, в которые превратились Уундаамп и Моуб; на плечах у последней было ее яркое одеяло. Собак не было видно вообще. Уундаамп взмахнул над головой длинным хлыстом. Ипссссиссии. Заскрипели стальные полозья, мучительно отрываясь от снега. Место, где путники провели ночь, помеченное желтыми пятнами мочи людей и асокинов, мигом скрылось позади.
Через час они уже мчались под гору к тоннелю Нунаат. Шокерандит почувствовал, как тошнотворный страх сжимает ему горло. Если он позволит ондоду убить своего собрата-человека, то сам потеряет перед ондодом лицо, чем бы это убийство ни было оправдано. Он почувствовал, как его собственная ярость оборачивается против Уундаампа — и Харбина Фашналгида. Капитан сидел рядом с ним, сгорбившись и имея жалкий вид. Между ними не было сказано ни слова.
Сани постепенно разгонялись. Упряжка делала, наверное, около пяти миль в час. Шокерандит продолжал упорно смотреть вперед, сильно щурясь от секущего ветра. Но перед собой он видел лишь бесконечную серую мглу, и только где-то впереди маячил намек на просвет. Призрачные белые деревья проносились мимо.
Но вот на фоне обычных звуков — скрипа саней, свиста бича, хриплого дыхания собак, скрежета льда, пения ветра — начал нарастать другой звук, пустой и гулкий, устрашающий. Это был вой ветра, задувающего в тоннель Нунаат. В ответ Моуб громко затрубила в кривой сигнальный рог.
Так ондоды предупреждали другие сани, которые, может быть, в этот самый миг выезжали из тоннеля.
Потом призрачный мглистый свет над головой внезапно померк. Они мчались по тоннелю. Фагор испустил хриплый крик и налег на задний тормоз, чтобы сбросить скорость. Бич Уундаампа защелкал по-другому, теперь — прямо перед носом носящего хозяйское имя вожака, чтобы тот замедлил бег.
Ледяной ветер ударил в лицо, словно кулаком. Тоннель был короткой дорогой через гору к станции Нунаат. Дорога, по которой проезжал основной транспорт и шли пешие, была на несколько миль длиннее и гораздо менее опасна. В тоннеле всегда существовала опасность столкновения двух саней, летящих друг другу навстречу, иногда попадались следы безнадежных ножевых схваток ездоков и яростной, до смерти, грызни асокинов. Поскольку тоннель был почти круглым, теоретически пара упряжек могла разъехаться по двум противоположным склонам тоннеля, но возможность эта была столь невелика, что погонщики всегда рисковали и громко трубили в рог, чтобы предупредить встречную упряжку о своем приближении.
Длина тоннеля составляла девять миль. Из-за неровной поверхности, возникшей в результате обвалов, и из-за встречного ветра сани бросало из стороны в сторону, словно корабль в шторм.
От усилий Уундаампа притормозить сани седоков сильно трясло. Фашналгид выругался. Погонщик и его женщина, опустив ноги по разные стороны саней, упирались пятками в снег, чтобы еще больше замедлить ход.
Бхрайр перегнулся вперед и прокричал на ухо Фашналгиду:
— Ты уронил бутылку.
— Бутылку? Где?
Едва Фашналгид наклонился вперед, глядя туда, куда указывал фагор, Бхрайр сильно толкнул его в спину. Испустив яростный вопль, Фашналгид лицом вперед выпал из саней на снег и покатился кубарем.
В тот же миг Уундаамп пронзительно вскрикнул, послышался свист бича. Фагор отпустил задний тормоз. Сани мгновенно рванулись вперед, увлекаемые вниз по склону.
Фашналгид уже вскочил на ноги и бежал. Но мрак немедленно начал поглощать его. Капитан бежал следом за санями. Шокерандит крикнул: поднажми. Ветер ревел. Ондод продолжал пронзительно гикать, снег и лед свистели под полозьями. Фашналгид уже почти догнал сани. Но как только капитан поравнялся с задком саней и с перекошенным от натуги лицом протянул руку, фагор ударил его лапой прямо в лицо.
Остаться в тоннеле одному означало верную гибель. Сани вылетали из мрака без остановки и предупреждения, и уклониться от них было невозможно. Сани проезжали прямо по человеку. Это была смртаа ондодов.
Отчаянно крича, Шокерандит выхватил из кармана револьвер и на коленях пополз по саням. Потом приставил дуло к длинному черепу фагора.
— Сейчас я вышибу к черту твою проклятую привязь.
Хвост черно-бурой лисы выпал у него изо рта и немедленно был унесен прочь.
Фагор зарычал в ответ.
— Давай тормози.
Бхрайр послушался, но скорость уже была так велика, что толку от заднего тормоза не было никакого, только снег летел из-под полозьев, в лицо бегущему человеку.
Погонщик снова закричал на асокинов и щелкнул бичом. Фашналгид уже отставал, его рот был открыт, почерневшее лицо искажено. Железная воля на этот раз подвела его.
— Не отставай! — крикнул Шокерандит, протягивая капитану руку.
Фашналгид снова наддал. Его сапоги мерно стучали по снегу, и он уже поравнялся с задней ручкой саней. Бхрайр под прицелом револьвера не мог ему помешать. Ветер свистел.
Ухватившись затянутой в перчатку рукой за веревку, перехватывающую палатку, Шокерандит как можно дальше наклонился вперед и протянул руку Фашналгиду. Криками он продолжал подбадривать капитана. Фашналгид старался из последних сил. Но сани продолжали набирать скорость. Мужчины смотрели друг другу в глаза. Их руки в перчатках соприкоснулись.
— Да! — крикнул Шокерандит. — Прыгай вперед, старина, быстро!
Он уже схватил капитана за руку. Но стоило Шокерандиту потянуть Фашналгида на себя, как Уундаамп бросил сани влево, объезжая завал, при этом чуть не перевернув упряжку. Шокерандита выбросило из саней. Он упал на снег на колени и покатился кувырком, а капитан с разбегу рухнул на него сверху. Задыхаясь, они упали на снег.
Когда они снова поднялись на ноги, сани исчезли во мраке.
— Чертов криворукий погонщик, — сказал Фашналгид, откидываясь на стену и задыхаясь. — Животные.
— Это они устроили специально. Это смртаа ондодов — месть. За твои кобелиные проделки с его женщиной.
Чтобы сказать это, Шокерандиту пришлось повернуться спиной к ветру.
— С этим вонючим мешком ворвани? Он сам говорил, что от нее нет никакого толку, даже асокины побрезгуют.
Фашналгид согнулся в три погибели, задыхаясь.
— Глупец, они так всегда говорят о себе. Теперь послушай и запомни то, что я скажу. Через минуту-другую здесь могут появиться другие сани, или с той стороны, или с другой. У нас нет возможности ни предупредить их, ни остановить, поэтому они проедут прямо по нашим головам. До выхода нам придется пройти миль семь, думаю, не меньше, так что лучше отправиться прямо сейчас.
— Может лучше вернуться и пройти вокруг по дороге?
— Это больше тридцати миль. У нас нет провизии, и ночь застанет нас в дороге. Мы наверняка погибнем. Ты готов бежать дальше? Потому что я собираюсь бежать.
Фашналгид выпрямился.
— Спасибо, что пытался спасти меня, — прохрипел он.
— Астаб тебя возьми, ты просто слепой глупец. Почему ты не согласился подчиниться системе?
Сказав это, Лутерин Шокерандит повернулся и побежал. Спасибо хотя бы за то, что бежать приходилось под гору. Он прислушивался, стараясь различить скрип санных полозьев, но пока что слышал только рев ветра в ушах.
Позади него эхом отдавались шаги Фашналгида. Шокерандит ни разу не обернулся. Все его силы и воля теперь были сосредоточены на том, чтобы выбраться из тоннеля и добежать до лагеря.
Когда ему казалось, что бежать дальше он просто не сможет, он заставлял свои ноги двигаться. Один раз сбоку от него мелькнул свет. Он с облегчением повернулся и пробрался к свету посмотреть. Часть скалы на внешней стене развалилась, впустив в тоннель дневной свет. Но в облаках снаружи ничего невозможно было разглядеть, только впереди на расстоянии вытянутой руки торчал ледяной сталактит. Шокерандит бросил кусок камня в дыру, прислушался, но так и не услышал звук падения.
Позади него, отдуваясь, затопал Фашналгид.
— Давай вылезем наружу через эту дыру.
— Но там отвесная скала.
— Черт с ним. Где-то там внизу Брибахр. Цивилизация. Не то что эта душегубка.
— Жить надоело?
Фашналгид решительно полез в дыру в скале, и в тот же миг вдали заревел рог, извещая о приближении саней — эти сани тоже ехали с юга. Шокерандит обернулся и заметил маячащий в тоннеле свет. Он втиснулся в естественную расселину, заслонившись острыми выступами скалы рядом с Фашналгидом.
Еще через секунду мимо них пронеслись длинные сани, увлекаемые упряжкой из десяти собак. Погонщик отчаянно звонил в колокольчик. В санях сидело несколько человек, все мужчины, возможно, их была целая дюжина; они все как один пригнулись и скрыли лица от ледяного ветра под вязаными масками. Видение продлилось один миг.
— Это солдаты, — прохрипел за спиной Шокерандита Фашналгид. — Может, за нами погоня?
— За тобой, ты хочешь сказать? Какое это теперь имеет значение? Они уехали вперед, теперь дорога свободна, это наш шанс выбраться живыми из тоннеля. Если ты передумал прыгать с высоты тысячи футов, то давай, прошу пожаловать за мной.
Он снова пустился бежать. Постепенно бег превратился в автоматическое повторение движений. Он чувствовал, как бьются о ребра его легкие. Лед стянул подбородок. Веки сощуренных глаз смерзлись. Лутерин потерял счет времени.
Когда сияние налетело, оно ослепило его. Он не мог заставить себя открыть глаза и бежал еще некоторое время, пока наконец не убедился в том, что выбрался из тоннеля. Всхлипывая, он пошатнулся и опустился на валун. Так он лежал некоторое время, задыхаясь и не веря в то, что когда-нибудь вновь сможет дышать. Двое саней пронеслись мимо, на них трубили в рог, но он даже не поднял голову.
Снег, осыпавшийся на него с дерева, вернул Лутерина к жизни. Лутерин протер снегом лицо и поглядел вперед. Свет вокруг казался ослепительно ярким. Ветер прекратился. В облаках над головой появился разрыв. Совсем неподалеку, кутаясь в одеяла, по дороге шли люди и курили вероник. В лавочке что-то покупали женщины. Древний, согбенный в три погибели старик гнал рогатых овец вниз по улице. Над таверной болталась вывеска: «ПИЛИГРИМЫ — ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ. ОНДОДАМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН». Он добрался до Нунаата.
Нунаат был последней остановкой перед Харнабхаром, обычной остановкой в пути, среди дикого края, местом, где можно сменить упряжку, передохнуть. Но здесь путники получали и еще кое-что: возможность выбора. Тропа между Харнабхаром, Северным Снарагаттом и Ривеником петляла, повторяя очертания горной цепи, используя любой возможный выступ — данную природой защиту от дующего с севера ветра. Но одновременно Нунаат был узлом, соединением, дорогой через великие водопады, долины и плато к западным горным цепям, к проходу на равнины Брибахра. До Харнабхара было ближе, чем до равнин. Но до равнин было ближе, чем до Ривеника, как ни меряй.
О войне между Ускутошком и Брибахром наблюдателю говорило огромное количество людей в военной форме, находящихся в Нунаате, где для солдат были выстроены новые бревенчатые дома окнами на запад.
Совершенно измученный Шокерандит был не в силах позаботиться о себе. Но ему хватило воли и остатков сознания, чтобы, оттолкнувшись от валуна, за которым он отлежался, по тропинке добрести до вершины холма и разыскать там сложенный из камня козий хлев. Он забрался в хлев и свалился спать, как подкошенный.
Проснувшись, он почувствовал себя посвежевшим, а с силами вернулась злость на себя, зачем потерял столько времени. Ему было глубоко плевать на то, что стало с Фашналгидом, так велико было его стремление разыскать Торес Лахл и найти сани, которые довезут его до Харнабхара. Как только он доберется до дома, все его проблемы будут решены.
Внизу под ним раскинулся городок Нунаат. Бедные домики льнули к горным склонам, словно мех — к боку огромного зверя. Почти все дома использовали преимущество соседства с деревьями элдавон, укрываясь среди них, по сути опираясь при постройке на стволы. Поскольку большинство домов были сложены из элдавоновых же бревен, отличить жилище от растительной чащи удавалось с трудом.
Дома ютились тут и там, соединенные тропинками, по которым бродили люди, животные и домашняя птица, и были выстроены ярусами, так что крыльцо одного дома приходилось вровень с трубой соседнего. Кое-где поля зеленели прямо на крышах. Возле каждого дома лежала поленница. Некоторые поленницы были сложены у стены, некоторые на отшибе, вокруг специальных столбов. Тут и там люди рубили дрова, орудуя топорами, складывая поленницы вокруг столбов или под стенами домов.
Через некоторое время небо очистилось от облаков, и все вокруг залил чистый свет погожего дня в горах. Над далекой горной грядой сиял Беталикс. На каменистых склонах мальчишки, вероятно отправленные туда пасти коз и овец, вместо этого запускали змеев.
Из Харнабхара только что прибыл отряд пеших пилигримов. Их голоса разносились в чистом воздухе. У многих были выбриты головы, многие были босы, несмотря на снег под ногами. Среди пилигримов попадались люди всех возрастов; была даже одна желтая старуха, ее несли слуги в специальном плетеном кресле с ручками-шестами. Несколько местных торговцев внимательно следили за прибывшими, впрочем, без особого интереса. Эту группу они успели обобрать по дороге на север.
Шокерандит уже проходил этой тропой раньше и был уверен в том, что Уундаамп непременно остановится в городе. И ему и Моуб нужно было отдохнуть. Асокинов рассадят по отдельности и накормят, Уундаампу, вожаку, кинут дополнительный кусок мяса. Чтобы преодолеть последний перегон до Харнабхара, сани и упряжь следовало тщательно осмотреть, подготовить, устранить неисправности, конечно, если ондоды собираются в Харнабхар. И что они намерены сделать с Торес Лахл?
Ее не убьют. Слишком ценный товар. Ее можно продать как рабыню; но ни один человек не станет покупать раба-человека у ондодов. С другой стороны, есть двурогие... Шокерандит так забеспокоился о Торес, что совершенно забыл о Фашналгиде.
Хотя в целом анципиталы были не слишком распространены в Сиборнале, те из них, кому удавалось вырваться из рабства, пробирались в Шивенинк и умели отыскать в диких горных грядах отличные места для обитания. Испытав рабство на собственной шкуре, фагоры предпочитали пользоваться рабами-людьми. Но как только двурогие уведут Торес Лахл в горы, можно считать, что она потеряна для человечества навсегда.
Пробираясь тропинками за домами, Шокерандит прошел город от края до края. На окраине он забрался в один из дворов. Стоило ему перелезть через забор, как он был встречен яростным лаем. Осторожно выглянув, Шокерандит увидел упряжных асокинов, привязанных по отдельности в клетках. Асокины яростно бросались вперед, так далеко, насколько позволяли цепь и решетки.
Не стоило сомневаться в том, что это станция, где отдыхают упряжки. Теперь Шокерандит это точно вспомнил. Последний раз, когда он был здесь, шел сильный снег, и почти ничего не было видно. Теперь здесь дожидались своей очереди пять полуголодных асокинов.
Не желая больше злить рогатых собак, Шокерандит осторожно обошел дом.
Станция упряжек была последним домом на севере Нунаата. Крики оповестили о том, что его заметили, хотя никого из хозяев он пока не видел. Ондоды были слишком осторожны, и застать их врасплох было невозможно.
На пороге немедленно появились три ондода с хлыстами. Шокерандит знал, как смертоносны могут быть хлысты в умелых руках, и торопливо сотворил на лбу знак мира.
— Мне нужен мой друг Уундаамп, дать ему луубис. Скажите ему луубис, итчо?
Ондоды молча смотрели на пришельца. Никто из них не двинулся с места.
— Уундаампа не видно. Уундаампу не нужен луубис от тебя. Толстуха Уундаампа сейчас много какуул.
— Я знаю, — кивнул Шокерандит. — Я принес помощь. Моуб рожает, я-я?
Внезапно ондоды повернулись, приглашая его последовать за ними. Он сказал себе, что внутри его ожидает ловушка и что он должен быть готов ко всему.
Ондоды двинулись ко входу в похожее на амбар здание станции, в дверях остановились и мрачно переглянулись. Потом поманили Шокерандита, приглашая войти. Внутри было темно и неуютно. Шокерандит почуял оччара.
Его толкнули в спину и захлопнули дверь.
Он бросился вперед и упал ничком на пол. Над его головой раздался свист и оглушительный щелчок хлыста. Он перекатился к стене.
Быстро оглянувшись по сторонам, он заметил голую Моуб: та лежала на лавке, на расстеленном одеяле, том самом, что он подарил ей, только чуть прикрытая его краем. Моуб лежала на спине, широко расставив ноги. Перед ней на коленях стояла Торес Лахл. Предплечья Торес были связаны, но так, чтобы оставить рукам ограниченную свободу. Другой конец связывающей Торес веревки держал фагор со спиленными рогами, стоящий без движения с парой своих собратьев у стены напротив той, под которой скорчился Шокерандит. Посреди комнаты был привязан вожак упряжки Уундаампа, асокин Уундаамп, щелкающий зубами в яростной и безуспешной попытке перегрызть цепь и отхватить ближайший кусок Шокерандита.
Сам Уундаамп видел и слышал, как Шокерандит крался к дверям — в доме были узкие окна-бойницы. С проворством, свойственным его расе, ондод прыгнул к дверям и встал там, широко расставив ноги, перекрывая выход и готовый снова ударить хлыстом. При этом он улыбался, без злобы.
Но Шокерандит уже держал в руках револьвер. Он был умнее и не стал целиться в ондода — его жест мог спровоцировать Уундаампа и фагоров. Угрожать Моуб тоже было бесполезно — сейчас Уундаампа это не остановит.
И Шокерандит направил револьвер на пса.
— Я пристрелю твою собаку, прикончу, итчо? Так что будь умным, брось хлыст. Иди сюда, друг, ты, Уундаамп. Или быстро через одну секунду твоему псу будет много какуул!
Говоря это, Шокерандит поднимался на ноги, обеими руками направляя револьвер прямо в голову яростно лающему асокину.
Хлыст упал на пол. Уундаамп метнулся вперед. Он улыбался. Он поклонился, прикоснувшись ко лбу.
— Друг, ты упал с саней в тоннеле. Не гуумта. Я очень жалко.
— Если ты меня обманешь, твой вожак будет мертвый. Развяжи Торес Лахл. Ты в порядке, Торес?
— Мне приходилось принимать роды раньше, справлюсь и сейчас, — раздался в ответ слабый голос. — Но я рада видеть тебя, Лутерин.
— И что тут происходит?
— Фагоры что-то должны сделать для Уундаампа. Он договорился, что отдаст им меня в оплату за какую-то услугу. Меня запугали до смерти, но вреда не причинили. А ты как?
Голос Торес Лахл дрожал.
Фагор не двинулся с места. Пока Шокерандит развязывал узлы на руках Торес, Уундаамп у него за спиной говорил:
— Такая приятная госпожа, да. Ничего ей не сделали, ага.
Уундаамп рассмеялся.
Шокерандит прикусил губу; придется позволить этому зверю сохранить лицо. У них больше нет денег, и им придется ехать с Уундаампом дальше, потому что иначе им не добраться до Харнабхара.
Когда ее руки были развязаны, Торес Лахл сказала Уундаампу:
— Ты очень добр. Когда твой ребенок родится, я куплю тебе и Моуб трубки с оччарой, итчо?
Шокерандит молча одобрил находчивость Торес. Поразительно.
Уундаамп улыбнулся и присвистнул сквозь зубы.
— А для ребенка тоже купишь, вдобавок? Если так, то я курю три трубки сразу.
— Я-я, только если ты выпроводишь отсюда этих мохнатых болванов, пока я буду принимать роды.
Бледная Торес Лахл смотрела прямо в глаза ондоду, и ее голос больше не дрожал.
Но Уундаампу еще не казалось, что его честь восстановлена в полной мере.
— Деньги давай сейчас. Моуб пойдет купить три трубки оччара сейчас. Лучше уехать из Нунаата, пока светло.
— У Моуб отошли воды, она сейчас родит.
— Ребенок не выйдет минут двадцать. Она быстро сходит и принесет. Покурим, потом рожать.
Уундаамп еще раз хлопнул в свои восьмипалые ладоши и рассмеялся.
— Ребенок уже почти выходит из нее.
— Эта женщина — ленивый мешок.
Уундаамп схватил жену за руку. Та послушно поднялась и села. Торес Лахл и Шокерандит переглянулись. Шокерандит кивнул, и Торес достала несколько сибов и протянула их женщине. Моуб завернулась в красное одеяло в желтую клетку и, ни словом не возразив, побрела к выходу.
— Останься тут, — сказал Шокерандит. Торес Лахл присела на скамью в пятнах вод. Вожак успокоился и, вывалив красный язык, сел возле шеста, к которому был привязан. По знаку Уундаампа фагоры двинулись в дальний конец дома, где вышли наружу через заднюю дверь. Шокерандит увидел, что на заднем дворе стоят сани Уундаампа, полностью готовые в дорогу.
— Где твой друг с хвостом на лице? — с невинным видом спросил Уундаамп.
— Я потерял его. Твой план не сработал.
— Ха-ха. Мой план отлично сработал. Мы едем в Харбер, не передумал?
— А ты разве не туда собираешься? Я заплатил тебе, Уундаамп.
Выражая полнейшую откровенность, Уундаамп развел руки в стороны, демонстрируя все шестнадцать блестящих ногтей с черной каймой.
— Если твой друг скажет полиции, не гуумта. Мне плохо. Этот плохой человек не понимает ондодов, как ты. Он хочет смртаа. Лучше нам ехать быстро, итчо, как только мой мешок выбросит ребенка из своего зада.
— Согласен.
Нет смысла дальше спорить. Шокерандит спрятал револьвер в карман. Мнимая тропа дружбы была восстановлена.
Они стояли в доме и смотрели друг на друга, асокин сидел у столба на цепи. Прибрела Моуб, завернутая в одеяло. Она отдала две трубки Уундаампу и снова тяжело улеглась на одеяло на скамью перед Торес Лахл, зажав третью трубку в зубах.
— Ребенок идет, гуумтаа, — сказала Моуб. После чего в полной тишине на свет появился крошечный ондод. Когда Торес Лахл взяла малыша на руки, Уундаамп только взглянул в его сторону, кивнул и отвернулся. И отправился на двор смотреть сани.
— Мальчик. Хорошо. Не люблю девочек. Мальчик сделает больше работы, скоро насчет байвак, может через один год.
Моуб села и рассмеялась.
— Ты глупый баран, ты не можешь хорошо байвак. Это ребенок Фашналгида.
После этих слов они рассмеялись оба. Уундаамп вернулся, прошел через комнату, чтобы обнять свою женщину. Они поцеловались, потом еще и еще.
Эта сцена настолько привлекла внимание остальных, что никто из них не слышал предупреждающего свиста, донесшегося снаружи. Трое полицейских с ружьями в руках вошли в дом через двери, ведшие на улицу.
— У нас есть приказ всех вас задержать. Против вас выдвинуто обвинение, — холодно сказал старший полицейский. — Уундаамп и женщина, за вами числится несколько убийств. Лутерин Шокерандит, мы следуем за тобой от самого Ривеника. Ты обвиняешься в том, что посредством взрыва убил армейского лейтенанта и его солдат во время исполнения теми служебных обязанностей. Ты также обвиняешься в дезертирстве. Далее, ты, Торес Лахл, рабыня, виновна в побеге. У нас есть приказ расстрелять вас всех тут, в Нунаате.
— Кто эти люди? — спросил Уундаамп, с наигранным удивлением указывая на Торес Лахл и Шокерандита. — Я их не знать. Они только пришли сюда, одну минуту, и натворили много какуул.
Не обращая внимания на ондода, старший полицейский сказал Шокерандиту:
— У меня приказ пристрелить тебя на месте, если ты попытаешься бежать. Брось на пол оружие, если оно у тебя есть. Где твой приятель? Нам он тоже нужен.
— О ком вы говорите?
— Ты знаешь о ком. Харбин Фашналгид, тоже дезертир.
— Я здесь, — неожиданно раздался голос. — Бросайте ружья. Я могу перестрелять вас всех, а вы не заденете меня, поэтому не пробуйте сопротивляться. Считаю до трех, а потом выстрелю одному из вас в живот. Раз. Два.
Ружья упали на пол. Тогда створки одного из окон стукнули, и из щели между ставнями выглянуло револьверное дуло.
— Хватай ружья, Лутерин, да поживее.
Шокерандит вышел из ступора и быстро выполнил указание. Со двора, где уже заливались лаем асокины, в заднюю дверь вошел Фашналгид.
— Ты очень вовремя, — подала голос Торес Лахл. — Откуда ты узнал, когда нужно прийти?
Фашналгид ухмыльнулся.
— Просто я рассуждал так же, как эти болваны. Я шел за красным одеялом в желтую клетку, таких немного, и не ошибся. Иначе как бы я вас нашел? Как видите, я даже переоделся.
Это было заметно. Фашналгид сбрил свои роскошные усы и коротко подстригся. Говоря, он профессионально держал полицейских на мушке.
— Ружья стоят хорошие деньги, — внес предложение Уундаамп. — Сначала перережем глотки этим людям, итчо?
— У меня нет возражений, мой маленький пожиратель падали. Твоему мохнатому другу повезло, что его не оказалось поблизости, иначе бы я точно вышиб ему мозги. Мне тоже повезло, потому что в городе полно полиции и солдат.
— Тогда нам лучше поскорее убраться отсюда, — сказал Шокерандит. — Момент для появления был самый подходящий, Харбин. Ты еще станешь старшим офицером. Мы присмотрим за этими тремя полицейскими, Уундаамп, а ты вместе со своей женщиной сможешь быстро приготовить сани и упряжку к отправлению?
Ондод немедленно приступил к делу. Он приказал жене и Торес Лахл выкатить сани из сарая и смазать жиром полозья, что, как он настаивал, было совершенно необходимо. Полицейским приказали спустить штаны и так стоять, положив руки на стену. Все отошли в сторону, и Уундаамп отвязал от столба вожака, Уундаампа, потом запряг его и остальных семерых асокинов, каждого на свое место. Занимаясь делом, Уундаамп вполголоса ругал собак, но каждую в разных выражениях и с другой интонацией.
— Пожалуйста, поскорее, — взволнованно попросила Торес Лахл.
Ондод вошел обратно в дом и уселся на одеяло, где его жена только недавно родила ребенка.
— Нужно чуть передохнуть, итчо?
Все принялись покорно ждать, и ни один не двинулся с места, пока чувство чести ондода не было удовлетворено. В открытую заднюю дверь, пока ондод методично проверял упряжь, мело.
Со стороны улицы они услышали свист и крики. Пропажу трех полицейских уже обнаружили.
Уундаамп взял хлыст.
— Гуумта. Едем.
Все поспешно погрузились в сани, предварительно засунув под парусину ружья. Уундаамп-погонщик выкрикнул команду Уундаампу-вожаку, и сани тронулись с места. Полицейские в доме принялись громко звать на помощь. С улицы донеслись ответные крики. Сани устремились к задним воротам, за которыми начиналась тропа.
В клетках заходились яростным лаем асокины. По пути к воротам Уундаамп поднялся в санях и взмахнул хлыстом так, что кончик ремня ударил по задвижке клеток, запертых на толстый деревянный клин. Ударом хлыста ондод выбил клин, и дверь клетки больше ничто не удерживало.
Под натиском асокинов она распахнулась, и злобные звери вырвались на свободу единым потоком меха, клыков и когтей. Чуя полицейских, асокины всей стаей бросились в дом. Уже через миг оттуда донеслись жуткие крики.
Сани набирали скорость, подскакивая на неровностях тропы, виляя из стороны в сторону. Уундаамп пронзительно кричал на собак, раз за разом точно взмахивая хлыстом и легко обжигая каждую по очереди. Они перевалили склон холма, выбрались на северную тропу, и рычание, лай и крики боли затихли в отдалении.
Шокерандит обернулся. Никто за ними не гнался. Приглушенные снегопадом крики все еще были смутно различимы вдали. Тропа неожиданно повернула, и Торес Лахл ухватилась за Лутерина. Одной рукой она прижимала к себе под меховой курткой новорожденного, завернутого в грязные тряпки. Новорожденный взглянул на нее и улыбнулся, показал крохотные, острые детские зубки.
Через милю Уундаамп притормозил и свернул к краю тропы.
Потом указал рукояткой хлыста на Фашналгида.
— Ты — человек, от которого какуул. Ты слезай. Не хочу.
Фашналгид ничего не ответил. Потом оглянулся на Шокерандита и поморщился. А потом спрыгнул с саней.
Пелена падающего снега мгновенно скрыла его фигуру. Издалека до них долетели последние слова капитана, отвратительное ругательство:
— Абро Хакмо Астаб!
Уундаамп уже смотрел на тропу впереди.
— В Харнабхар! — крикнул он.
Не рискуя заходить в Нунаат, Фашналгид примкнул к группе брибахрских пилигримов, возвращающихся из Харнабхара через Нунаат длинными извилистыми тропами на родину, в западные долины. Он брил усы, чтобы оставаться неузнанным, и всячески старался держаться подальше от крупных поселений людей.
Он не провел с первым отрядом пилигримов и суток, когда навстречу им попался другой отряд, поднимающийся в гору со стороны Брибахра. От этих людей он услышал об опасностях, поджидающих впереди, и немедленно понял, что выбрал неправильный путь. Хотя, возможно, правильного пути для него больше не существовало.
По словам пилигримов, Десятая гвардия олигарха отправилась в долину Большого ущелья Брибахра с приказом захватить или уничтожить два великих города, Брайджт и Раттагон.
Горную долину почти целиком заполняли кобальтово-зеленые воды озера Брайджт. На озерном острове стояла огромная старинная крепость, город Раттагон. Штурмовать его можно было единственным способом: подойти на лодках. Любого врага, покусившегося приблизиться к крепости, немедленно расстреливали из орудий, выставленных на мрачных крепостных стенах.
Брибахр был великой житницей Сиборнала. Плодородные земли Брибахра простирались на огромные расстояния, вплоть до тропических зон. На севере, у края ледяных пустынь, природа поставила барьер — тундру с многомильной опушкой каспиарнового леса, способного выдержать даже смертоносное дыхание Вейр-Зимы.
Брибахр населяли в основном мирные крестьяне-земледельцы. Но воинственная элита Брибахра, обретающаяся в двух главных городах края, Брайджте и Раттагоне, в свое время безрассудно угрожала даже Харнабхару, святому городу. Брайджту всегда хотелось стяжать львиную долю благосостояния Сиборнала. Фермеры Брибахра продавали зерно в Ускутошк за смехотворно малую цену; отвергая подавляющую волю олигархии, фермеры предприняли вылазку к Священному Харнабхару, покинув однажды свои поля и равнины.
В ответ на подобную угрозу Аскитош послал в Брибахр свою армию. Брайджт уже пал.
Теперь Десятая гвардия встала лагерем на берегах озера Брайджт, устремив взор на Раттагон и выжидая. Страдая от голода. И холодов.
Грянули первые осенние заморозки. Озеро начало покрываться льдом.
Наступит время, и в Раттагоне знали это, когда лед на озере станет достаточно крепким, чтобы позволить вражеской армии добраться до крепости пешком. Но это время еще не наступило. Сегодня по льду не могло пройти ничего тяжелее волка. Пройдет не менее теннера, пока лед станет достаточно крепким, чтобы выдержать взвод солдат. А к тому времени армия на берегу от голода и холодов разбежится по домам. Раттагонцы хорошо знали ритм жизни своего озера.
В стенах крепости голод не слишком досаждал людям. Внутри древнего ущелья имелось множество каверн. Так, из крепости вел тайный ход на северный берег. Идти по нему было трудно, вода иногда поднималась там до колен. Но по этому тайному ходу в крепость доставлялись припасы; и защитники Раттагона могли позволить себе ждать столько, сколько нужно, пока тяготы на берегу усугублялись. Так бывало уже много раз в тяжкую годину.
В одну из ночей, когда Фреир скрыла метель, налетевшая с севера, Десятая гвардия привела свой отчаянный план в исполнение.
Лед был достаточно крепок, чтобы выдержать волка. Лед был достаточно крепок и для того, чтобы выдержать человека с воздушным змеем, который частично уменьшит давление человеческого тела на землю, отчего бойцы сравняются с волками и весом, и скоростью, и яростью.
Офицеры подбадривали солдат, рассказывая им о прекрасных женщинах Раттагона, которые остались в крепости вместе с мужьями, чтобы согревать тем постели.
Ветер дул в сторону озера, сильный и ровный. Воздушные змеи, привязанные у бойцов за плечами, поднялись в воздух. Солдаты отважно вышли на лед и не менее отважно позволили ветру перенести их по льду, прямо к серым стенам крепости.
Внутри крепости, за ее стенами, спали все, даже дозорные, отыскавшие для себя от ветра теплый уголок. Они умерли, не издав ни единого крика.
Добровольцы из Десятой гвардии обрубили веревки своих змеев и бросились к центральному укреплению. Все военачальники были зарезаны во сне и не успели даже захрипеть.
На следующий день над Раттагоном развевался флаг олигархии.
Эта пугающая история, которую услышал у вечернего костра Фашналгид, навела его на мысль о том, что ему лучше вернуться в Нунаат и искать оттуда дорогу на юг.
«Простой человек на переломе истории всегда страдает мучительно», — говорил он себе, принимая из рук ближайшего пилигрима бутылку, пущенную по кругу.
Глава 13 Старинная вражда
Ночь была живой. Снег падал так густо, что, когда он в своем падении скользил по лицам людей, казалось, будто они прикасаются к меху огромного зверя. Мех этот был не столь холоден, сколь удушлив; он занимал место, которое обычно занимали воздух и звуки. Но когда сани остановились, стали слышны далекие мерные удары колокола.
Лутерин Шокерандит помог Торес Лахл подняться и выбраться из саней. От снежной пелены у нее кружилась голова. Она стояла прямо, но ссутулив плечи и прикрыв рукой глаза.
— Где мы?
— Дома.
Она ничего не видела — лишь темный зверь все катился и катился на нее. Потом в пелене она различила Шокерандита, который косолапо шел к передку саней. Там он обнял обоих, Уундаампа и мать Моуб, на руках у которой был ребенок, завернутый в красное в желтую клетку одеяло.
Уундаамп поднял на прощание хлыст и быстро улыбнулся лукавой улыбкой. Зазвенел колокольчик саней, свистнул хлыст над головами асокинов, и через мгновение упряжку поглотил клубящийся мрак.
Сгибаясь в три погибели, Шокерандит и Торес Лахл добрались до ворот, за которыми сиял призрачный свет. Лутерин потянул металлическую ручку колокольчика. Потом они стояли и ждали, без сил прислонившись к каменным столбам ворот, пока где-то за стальными решетками не появилась фигура в военной форме, выступившая из своего укрытия. Ворота с лязгом отворились.
Они стояли в караульной, пока страж возвращался к воротам и запирал их и потом обыскивал вновь прибывших, внимательно заглядывая в лица при свете лампы.
Одет стражник был в старинный мундир. Губы стражника были плотно сжаты, он избегал встречаться глазами с пришедшими, выражение его лица не говорило ни о чем. Покончив с обыском, он, глядя в пол, спросил:
— Что вы хотите?
— Ты говоришь с Шокерандитом, солдат. У тебя есть мозги?
Резкий тон Шокерандита заставил солдата поднять глаза и внимательно рассмотреть лицо пришедшего. Потом, сохраняя прежнее непроницаемое выражение, стражник спросил:
— Вы хотите сказать, что вы — Лутерин Шокерандит?
— А разве ты не знаешь, что я долго отсутствовал дома, эдакий ты болван? Ты что же, так и будешь держать нас в этой конуре?
В ответ солдат позволил себе окинуть новую приземистую фигуру Шокерандита одним быстрым, но исполненным презрения взглядом:
— Повозка доставит вас в дом, сударь.
Когда стражник отвернулся, Шокерандит, все еще оскорбленный тем, что его не сразу узнали, резко спросил:
— Мой отец дома?
— В данный момент нет, сударь.
Стражник приложил руку рупором ко рту и прокричал приказ рабу, который промелькнул где-то в глубине сторожки. Через некоторое время из снежной круговерти выкатился кабриолет, запряженный парой лойсей, на спинах которых уже успел скопиться снег.
Ворота отделяла от старинного поместья примерно миля, занятая тем, что ранее и всегда именовалось Виноградником. Теперь это была просто круглая пустошь, пастбище, где бродили поместные лойси.
Шокерандит выбрался из повозки. Снег немедленно набросился на них, вырвавшись из-за угла дома, словно поставил перед собой задачу превратить людей в лед. Женщина закрыла глаза и вцепилась в кожаный рукав Шокерандита. Ориентируясь на призрачные очертания дома, они поднялись по широкой лестнице к обитым железными полосами входным дверям. Над их головами звенел в далекой вышине колокол, сквозь снег звуки доносились как из-под воды. Другие колокола, еще более далекие, вторили этому звону.
Дверь перед ними раскрылась. Показалась неясная фигура стражника, который помог им войти. Снег немедленно прекратился, звон колоколов тоже стих, внешние звуки умерли — за спинами молодых людей на дверях задвинули засовы.
В темном холле, полном гулкого эха, Лутерин обменялся парой слов с невидимым слугой. Высоко на мраморной стене горела лампа, но ее свет не распространялся дальше границ собственного отражения в словно подернутой изморозью стене. Они побрели наверх; ступени под ногами протестующе скрипели. Тяжелая штора преградила им путь, словно символ власти и тайны, но ее медленно отвели в сторону. Они вошли и застыли в ожидании, глядя, как слуга зажег лампы и с поклоном удалился.
Запах в комнате стоял нежилой. Шокерандит подкрутил фитиль в лампе. Просторная комната, низкий потолок, ставни на окнах безуспешно пытаются отгородить их от ночи, кровать... Они принялись стаскивать с себя грязную одежду.
Они провели в пути тридцать один день и после Снарагатта редко спали больше шести часов в сутки, чаще меньше, в зависимости от того, как близко, по мнению Уундаампа, полиция подбиралась к ним. Их лица почернели от обморожения и страшно осунулись от усталости.
Торес Лахл взяла с кровати одело и приготовилась улечься на полу. Но Шокерандит забрался в кровать и поманил ее к себе.
— Теперь ты будешь спать со мной, — сказал он.
Она стояла перед ним, и взгляд ее по-прежнему туманила усталость после долгого пути.
— Скажи, что это за дом?
Он улыбнулся.
— Ты и сама знаешь, где мы. Это дом моего отца в Харнабхаре. Все наши беды позади. Теперь мы в безопасности. Забирайся в постель.
Она попыталась улыбнуться в ответ.
— Я твоя рабыня и потому повинуюсь, господин.
Торес легла рядом с ним. Ее ответ не порадовал Лутерина, но он обнял ее и занялся с ней любовью. После этого он немедленно провалился в сон.
Когда девушка проснулась, Шокерандит уже ушел. Она некоторое время лежала и смотрела в потолок, пытаясь понять, для чего Лутерин оставил ее одну, предоставил самой себе. Она чувствовала, что не может заставить себя выбраться из уютной постели, взглянуть в лицо тем переменам, что ожидают ее. Лутерин хорошо к ней относился, не более; на этот счет у нее не было сомнений. Она же могла позволить себе испытывать только ненависть к нему. Его небрежное обращение с ней, то, что он отдал ее этому животному в санях, это унижение все еще было свежо в ней, и это был лишь последний из таких примеров. Конечно, он не хотел унизить ее специально; просто обращался с ней как с обычной рабыней, придерживаясь принятых традиций.
Она имела все основания надеяться на то, что он решит восстановить ее положение в обществе. Она больше не будет считаться рабыней. Но если для этого потребуется выйти замуж за него, за убийцу ее мужа, она вряд ли сможет пройти через нечто подобное, пусть это и явилось бы залогом ее безопасности.
Кроме того, дом, куда привезли Торес, пугал ее, и это нисколько не улучшало ее настроения. Казалось, здесь в углах притаились призраки, всюду чувствовался холодный, враждебный дух.
Перевернувшись в огромной кровати, она увидела, что ее пробуждения уже давно молчаливо дожидается девушка-рабыня, стоящая на коленях у дверей. Торес Лахл села в постели, натянув на обнаженную грудь простыню.
— Что ты здесь делаешь?
— Господин Лутерин приказал мне помочь вам выкупаться, когда вы проснетесь, госпожа.
Девушка поклонилась.
— Не называй меня госпожа. Я такая же рабыня, как и ты.
Услышав такой ответ, девушка заметно растерялась. Обдумывая ситуацию и не переставая удивляться, Торес Лахл нагишом выбралась из постели. Потом величественно подняла руку.
— Помоги же мне! — приказала она.
Покорно кивнув, девушка повиновалась и проводила Торес Лахл в ванную, где из медного крана текла горячая вода. Как объяснила рабыня, все поместье отапливалось биогазом, в том числе производился нагрев воды.
Погрузившись в роскошно-теплую воду, Торес Лахл рассмотрела свое тело. После тяжелого путешествия оно отчасти утратило массивность. На бедрах медленно заживали царапины от когтей Уундаампа. И что хуже всего, она подозревала, что, возможно, беременна. От кого, она не могла сказать точно, но благодарила Прародительницу за то, что связи между ондодами и людьми никогда не давали приплода.
Борлдоран и ее родной город Олдорандо остались где-то далеко, за тысячу миль отсюда. И если ей доведется когда-нибудь увидеть родной край, то лишь благодаря невероятно счастливому стечению обстоятельств. Жизнь женщины-рабыни, как правило, тяжела и коротка. Торес хотела расспросить об этом девушку, которая помогала ее омовению, но почла за лучшее держать язык за зубами. Если Лутерин решит жениться на ней, ее участь изменится, станет в тысячу раз лучше.
Что он скажет? О чем попросит? Сделает ли предложение? Ей придется пройти через все, о чем он ее попросит.
После того как служанка вытерла ее полотенцем, Торес надела принесенную для нее мантию-сатара. Потом снова улеглась в кровать и погрузилась в состояние паука. С тех пор, как они покинули Ривеник, она в первый раз обращалась к миру духов. Там, внизу, существовал дух ее мужа, висящий в обсидиане, последняя инстанция для нее, искра во тьме, зовущая ее к себе.
Поместье радовало глаз, как всегда. Незатихающий северный ветер сдул большую часть снега. Оголившиеся поля были девственно чисты. На южной стороне за каждым деревом белел узкий клинышек снега, тонкий и вытянутый, словно птичья кость. Старший распорядитель, которого Лутерин знал с самых юных лет, сопровождал его в прогулке по поместью. Обычная жизнь начиналась вновь. Согнутые ветром каспиарны и брассимпсы выстроились словно на параде. Куда ни глянь, вблизи и вдали поднимались снежные пики, дочери и сыновья горной страны, сейчас полностью скрытой облаками. На севере в тучах виднелась Священная Гора, где находилось Великое Колесо. Лутерин резко прервал разговор и вскинул затянутую в перчатку руку в приветственном жесте.
Поверх прежней одежды он накинул теплую шубу и привязал к ремню поясной колокольчик. На конюшне голые по пояс рабы подвели ему молодого гуннаду для выездки. Двуногое ушастое животное удерживало равновесие за счет длинного хвоста и бежало на когтистых птичьих лапах. Как лойси и двулойси, рядом с которыми гуннаду обитали в дикой природе, гуннаду были некрогенами. Иными словами, они принадлежали к той категории животных, которые могли дать жизнь потомству только через собственную смерть. Однажды мать Лутерина горько сказала ему: «Впрочем, как и люди». У гуннаду не было матки; сперма в желудках превращалась в личинки, которые питались плотью родителей и прогрызали себе путь наружу до тех пор, пока не проникали в артерии. С потоком крови личинки распространялись по всему материнскому телу, приводя к быстрой смерти родителя. После этого личинки проходили через несколько ступеней развития, питаясь мертвой плотью, и, наконец, достигнув размеров, позволяющих выжить во внешнем мире, появлялись на свет уже как маленькие гуннаду.
Взрослые гуннаду были отличными верховыми животными, хотя и недостаточно выносливыми. Но тем не менее гуннаду идеально годились для коротких поездок, вроде осмотра поместья Шокерандитов.
Лутерин наслаждался чувством полной безопасности. Полиция никогда не решится войти на земли великого поместья. Пока его отец был в отлучке, развлекаясь охотой, Лутерин оставался в поместье за старшего. Несмотря на долгое отсутствие, несмотря на метаморфозу тела, сейчас он с легкостью вошел в свою роль. Все слуги, от старшего распорядителя до самого младшего раба, знали его. Было бы нелепо думать, будто что-то может пойти иначе. К тому же он был единственным сыном своих родителей.
У него были обязанности. Обязанности, которые надлежало исполнять. Он должен будет представить Торес Лахл матери. Ему придется поговорить с Инсил Эсикананзи; разговор будет неловким... А кроме того, у него есть и более серьезные дела.
Он вырос и возмужал. Он поймал себя на мысли о том, что не видит в отсутствии отца ничего плохого. Раньше он всегда скучал по отцу. Слово Лобанстера Шокерандита было здесь законом, как и слово его младшего сына. Но грозный Хранитель Колеса часто и подолгу отсутствовал. Отец любил грубую жизнь на природе, как он сам говорил, и выезды на охоту часто отнимали у него по два или три теннера. Отец уезжал, забирая с собой своих собак и лойсей. Иногда он уезжал в сопровождении одного лишь главного егеря, немого Липаротина. Взмах руки на прощание — и отец уносился прочь, в леса и поля, где невозможно было отыскать его след.
Эту небрежно вскинутую руку Лутерин помнил с самого детства. Что означал этот жест? Менее всего — знак любви к сыну и жене, которые провожали его, более всего приветствие духу гор, который один был товарищем отца на долгой охоте среди безлюдных скал.
Подрастая, Лутерин, сколько помнил себя, скучал по отцу. Он вырос без отца. Его предпочитающая одиночество мать мало чем могла заменить отца. Однажды Лутерин настойчиво попросил отца и брата Фавина взять его на охоту. Тогда он был очень горд тем, что его взяли, что он ехал вместе со взрослыми среди гордых каспиарнов; но немой Лобанстер предусмотрительно взял с собой своих сыновей, и менее чем через неделю Лутерину было велено возвращаться с сыновьями егеря домой.
Он презрительно фыркнул. Потом сказал себе, что предпочитает быть одиночкой, как отец. После этого его мысли перенеслись к Харбину Фашналгиду, которого он видел последний раз тогда, когда Уундаамп согнал капитана с саней. Только теперь Лутерин понял, как привязался к Фашналгиду, как хочет ему помочь. Его ревность к этому человеку, украдкой обладавшему Торес Лахл, испарилась.
Он вспомнил Харбина, прорычавшего свое немыслимое ругательство, и улыбнулся. Вот уж действительно одиночка, изгой среди людей! Возможно, именно поэтому слова капитана так задели Лутерина, слова о том, что он, Лутерин, жертва системы, или как там выразился капитан. В сердце у Фашналгида тоже таилось добро.
Вместе со старшим распорядителем они навестили стойла стунжебагов. С тех пор как Шокерандит уехал отсюда, этих медлительных животных прибавилось. Считалось, что Шокерандиты разводят стунжебагов в течение четырех Великих Лет. Стунжебаги походили на поросших редким волосом гусениц или, когда вытягивались во всю длину, на поваленные деревья. Это были наполовину растения, наполовину животные, создания, появившиеся на свет в пору таяния снегов, когда планета начинала подвергаться насыщенному радиацией облучению Фреира.
Рабы трудились в стойлах хоксни. Некогда стада хоксни бродили по равнинам. Теперь эти животные начинали впадать в спячку. Рабы собирали заснувших верховых животных во всех темных, укромных уголках поместья, где те предпочитали прятаться, сносили всех в одно место и складывали в сухом сарае. Раз впав в спячку, тела хоксни приобретали жесткое, остекленевшее состояние, вся энергия из них улетучивалась. Тела их напоминали полупрозрачные стеклянные фигурки. Некоторые уже теряли свою тускло-коричневую окраску, на боках проступали бесцветные горизонтальные полосы, с которыми хоксни пробудятся вновь следующей Весной Великого Года.
Впавших в спячку хоксни называли глосси, призраками, потому что, как призраки, они не умирали до конца.
Управляющий поместьем, вольный человек, приветствовал Лутерина, прикоснувшись пальцем к полям шляпы.
— Рад видеть, что вы вернулись, хозяин. Мы собираем призраков и складываем в сараи, перестилаем сеном, как видите, чтобы за зиму они не повредились. Так что следующей весной они будут в отличной форме, как всегда. Если только весна наступит.
— Весна наступит. Нужно только подождать несколько веков.
— Так говорят книжники, — отозвался управляющий, украдкой подмигнув старшему распорядителю.
— Важно подготовиться к зиме, а потом к приходу весны. Вместо того чтобы бросить их на улице, где их истреплет непогода, мы складываем этих хоксни в надежном месте, благодаря чему, когда придет время, у нас будут отличные верховые животные.
— Когда это случится, нас уже не будет.
— Кто-то останется тут вместо нас, я уверен, и поблагодарит нас за нашу предусмотрительность.
Говоря это, Лутерин думал о другом: Фашналгид никак не шел у него из головы.
Вернувшись в поместье, он вызвал к себе секретаря отца, нелюдимого ученого, по имени Эванпорил. Он приказал Эванпорилу отправить двоих вооруженных людей на паре гигантских двулойсей по дороге в Нунаат на поиски Фашналгида, чтобы те проехали как можно дальше и разыскали следы капитана. Если им удастся найти Фашналгида, тот должен быть доставлен в поместье Шокерандитов в целости и сохранности. Секретарь отправился выполнять задание.
Лутерин съел легкий завтрак и только после этого вспомнил, что еще не навестил мать.
В зале огромного особняка царили сумерки. На первом этаже окон не было вообще, чтобы сделать дом более устойчивым ко льдам, снегу и паводкам. На мраморном полу стоял массивный деревянный стул, сейчас пустой; сколько Лутерин себя помнил, на этом стуле никто и никогда не сидел.
Между тусклыми лампами-рожками, в которых горел биогаз, из стены выпирали висящие черепа фагоров. Экземпляры, которых убили Лобанстер и Шокерандиты до него. Теперь эти фагоры, наверно, держали свои рога высоко, их пустые глазницы, в которых залегла тень, с грустью глядели в дальний конец зала.
По дороге в комнаты матери он помедлил, прислушиваясь к крикам снаружи. Кто-то кричал глухим голосом пьяного. Звеня поясным колокольчиком, Шокерандит бросился к боковой двери. Раб поспешно отодвинул засов, чтобы хозяин смог пройти.
Во дворе, хорошо видном из окон верхних этажей поместья, стояли вассал и двое свободных с обнаженными мечами в руках. Они теснили в угол шестерых фагоров со спиленными рогами. Один из фагоров, гиллота с оттянутым тощим выменем, что говорило о годах пребывания в неволе, хриплым голосом выкрикивала на сибише: «Вы не убьете нас, злые сыны Фреира! Это Хрл-Ичор Йхар, двурогий, вернулся назад, чтобы мы владели им! Остановитесь! Остановитесь!»
— Остановитесь! — крикнул Шокерандит.
Внизу одного из нелюдей уже убили. Мечник распорол сталлуну брюхо размашистым ударом меча сверху вниз. Разрубленное тело фагора рухнуло на снег, потроха и легкие вывалились. Когда Шокерандит склонился над убитым анципиталом, чье тело еще содрогалось в агонии, из разрубленных внутренностей наружу хлынул поток желтой крови.
Из грудной клетки фагора начала медленно изливаться густая масса с более плотными сгустками, похожая на густое варево или недоваренный яичный желток. В желтой массе мелькали более коричневые блестящие сгустки, все это походило на нечто живое и стремилось из огромной раны наружу, по плитам двора, затекая в щели между плитами, растекаясь широкой лужей, в устье которой в общем месиве уже невозможно было различить отдельные органы — это был сплошной кровавый невосстановимый разрыв.
Шокерандит оттянул торчащее ухо фагора, проверяя выжженное там клеймо.
Потом в ярости взглянул на мечников.
— Это был раб, поместный фагор. Что вы сделали?
Вассал мрачно ухмыльнулся.
— Лучше не мешайте нам, господин. Нам приказали убить всех фагоров, поместных или чужих, всех до единого.
Пять оставшихся фагоров с хриплыми криками начали проталкиваться мимо мечников, которые немедленно преградили путь двурогим острыми лезвиями.
— Стойте. Дриксталгил, кто отдал тебе этот приказ?
Неожиданно он вспомнил имя отцовского вассала.
Не спуская глаз с анципиталов и держа меч наготове, вассал сунул левую руку в карман и вытащил оттуда сложенную бумагу.
— Вот, смотрите — секретарь Эванпорил дал нам это сегодня утром. А теперь отойдите в сторону, и, если не возражаете, мы займемся делом, господин, не то вас помнут.
Вассал отдал Шокерандиту листовку, которую тот в гневе развернул. Черные буквы, напечатанные на белой бумаге.
Бумага, новый плакат олигархии, разъясняла: только что выпущенный новый указ направлен на то, чтобы удержать чуму, известную под названием «жирная смерть», за пределами государства. Раса анципиталов признана носителями чумы. По этой причине все фагоры должны быть убиты. Фагоры-рабы должны быть зарублены или преданы другой не требующей расходов смерти. Дикие фагоры подлежат расстрелу на месте. Награду в один сиб за голову каждого анципитала может получить каждый, у любого представителя государственной власти в любой провинции. С этих пор владение фагорами считается вне закона и карается смертью. Приказом олигарха.
— Уберите мечи в ножны, пока я не отдам новый приказ, — сказал Шокерандит. — До тех пор, пока на то не будет моего слова, никаких убийств. И уберите отсюда труп.
После того как люди неохотно повиновались ему, Шокерандит вернулся в дом и в гневе поднялся наверх, к секретарю.
В поместье было множество старинных гравюр, большая часть которых вышла из-под стальных прессов в Ривенике в ту пору, когда этот город был прославленным пристанищем художников. В основном гравюры изображали сцены из дикой горной жизни: охотники неожиданно набрасываются из засады на медведей, медведи неожиданно нападают на охотников, олени мирно пасутся, люди верхом на лойсях падают в пропасть, зарубленные женщины в лесной глуши, заблудившиеся дети умирают обнявшись, прильнув к корням огромных деревьев.
У двери секретаря висела гравюра, изображающая солдата-священника, охраняющего подступы к вратам Великого Колеса. Поза солдата была чуть неестественной — его запечатлели в миг, когда он вонзал копье в грудь фагора, набросившегося на него из засады. Гравюра была снабжена подписью — на сибише, буквами с причудливыми завитками: «Древняя вражда».
— Очень уместно, — вслух проговорил Шокерандит, стукнув в дверь Эванпорила, и, не дожидаясь ответа, вошел.
Секретарь стоял у окна, глядел вниз, во двор, и наслаждался чашкой пелламонтейнового чая. Повернувшись к Шокерандиту, он вопросительно взглянул на него, не говоря ни слова.
Шокерандит расправил на столе плакат олигархии.
— Вы не сказали мне об этом, когда я заходил к вам утром. Почему?
— Вы не спрашивали, хозяин Лутерин.
— Сколько анципиталов работает у нас в поместье?
Секретарь ответил без промедления:
— Шестьсот пятьдесят.
— Если наши люди перебьют их всех, это будет огромная потеря. Новый указ не следует выполнять так бездумно и поспешно. Сначала я хочу увидеть, как поступили другие дворяне и землевладельцы.
Секретарь Эванпорил откашлялся в кулак.
— Я бы не советовал вам сейчас отправляться в город. Мне сообщили, что там имели место беспорядки.
— Какие беспорядки?
— Беспорядки среди духовенства, господин. Сожжение заживо первосвященника Чубсалида вызвало некоторое волнение. Со дня его смерти прошел уже целый теннер, и мне донесли, что сегодня утром это событие отметили сожжением портрета олигарха. Член совета Эбсток Эсикананзи повел людей прекращать беспорядки, но волнения по-прежнему продолжаются.
Шокерандит присел на край стола.
— Эванпорил, скажите мне, как, по-вашему, можем ли мы позволить себе убить разом шестьсот пятьдесят фагоров?
— Не мое дело принимать решения, господин. Я лишь исполнитель.
— Но этот указ — он действительно требует беспрекословного исполнения? Как вы думаете?
— Поскольку вы задали вопрос, то я рискну высказать свое мнение: скрупулезное исполнение приказа, господин Лутерин, избавит Сиборнал от расы анципиталов навсегда. Это большое благо, разве вы не согласны?
— Мгновенная потеря дешевой рабочей силы для нас... Вряд ли отцу это понравится...
— Может быть, и так, господин, но для общего блага... — секретарь сделал многозначительную паузу.
— Тогда мы не станем исполнять этот указ до возвращения моего отца. И я хочу написать Эсикананзи и остальным землевладельцам об отрицательном воздействии этого указа. Проследи за тем, чтобы управляющие немедленно были извещены о моем запрете убийства.
Все утро Шокерандит был совершенно счастлив, объезжая поместье, везде проверяя, чтобы ни одному фагору больше не причиняли вреда. Он даже проехал несколько миль для того, чтобы заглянуть в соседнее поместье двоюродного брата отца, у подножия гор. В его голове роилось множество планов, и он начисто забыл о матери.
Этой ночью он, как обычно, занялся любовью с Торес Лахл. И слова, которые он шептал ей, то, как он прикасался к ней, пробудило в ней ответ. Она стала другим человеком, податливым, полным воображения и жизни. Восторг превыше любого счастья наполнил Лутерина. Ему казалось, что он выиграл самый главный приз. Такое счастье стоило всей боли бытия.
Ночь они провели в объятиях друг друга, двигаясь то медленно, то как дикие звери, то не двигаясь вообще. Их души и тела слились в единое целое.
К утру Лутерин заснул. И ему приснился сон.
Он шел по просторной бескрайней равнине, почти лишенной деревьев. Под ногами шелестела низкая сухая трава. Впереди простиралось огромное замерзшее озеро, о размерах которого можно было только догадываться. Это было его будущее: всемогущая ночь занимала большую часть короткой зимы, длящейся внутри Вейр-Зимы. В небе не было ни малейших намеков на солнце. Вслед за ним плелось вьючное животное, со всех сторон слышалось тяжелое дыхание.
Это было его прошлое. На берегах озера стояли лагерем все те, кто пал от руки врага в битве при Истуриаче. Раны зияли на их обезображенных телах. Среди прочих Лутерин увидел Бандала Эйт Лахла, который стоял в стороне от прочих, сунув руки в карманы, устремив взгляд в землю.
Подо льдом находилось что-то огромное. Он понял, что дыхание доносится именно оттуда.
Неожиданно создание вырвалось из-под льда. Но лед не раскололся. Существо оказалось огромной женщиной с блестящей черной кожей. Она поднималась все выше в небо. Никто ее не видел, только Лутерин.
Равнодушно взглянув на Лутерина, она проговорила:
— У тебя никогда не будет женщины, которая сделала бы тебя счастливым. Но настоящее счастье ты найдешь в преследовании.
Она сказала ему что-то еще, но Лутерин не мог вспомнить, что, когда проснулся.
Рядом с ним лежала Торес Лахл. У нее были закрыты не только глаза: все ее тело и лицо говорили о полной закрытости и самопогружении. На лицо упал локон; она прикусила его, как совсем недавно держала хвост лисы, чтобы уберечь лицо от обморожения. Она едва дышала. Он понял, что Торес находится в пауке.
Наконец она вернулась. Открыв глаза, она взглянула на него, словно не узнавая.
— Ты никогда не бывал там, внизу? — спросила она глухим голосом.
— Мы, Шокерандиты, относимся к этому как к суеверию.
— Тебе никогда не хотелось поговорить с умершим братом?
— Нет.
Помолчав, он сжал ее руку и спросил:
— Ты разговаривала с мужем?
Она молча кивнула, зная, что это причинит ему боль. Через мгновение она сказала:
— Тебе не кажется, что мир, в котором мы живем, похож на кошмарный сон?
— Нет, если мы будем жить в нем согласно нашей вере.
Торес прижалась к нему и сказала:
— Но ведь правда, что придет день, и мы состаримся, и наши тела начнут разлагаться, а разум утратит остроту? Ведь правда? Что может быть хуже?
Они снова занялись любовью, на этот раз больше от страха, чем от желания.
В этот день он снова объехал поместье верхом и, найдя везде покой и порядок, отправился навестить мать.
Покои матери находились в глубине поместья. Молодая девушка-служанка открыла дверь и проводила его в приемную. Там в привычной позе стояла мать, крепко стиснув руки перед собой, чуть склонив голову набок и легко улыбаясь.
Он поцеловал ее. И тотчас им овладело знакомое чувство, и его окружила знакомая атмосфера. Что-то в позе и жестах матери говорило ему о печали, даже — он часто думал об этом — о болезни: и болезнь, и печаль были равно знакомы ему, словно Лорна Шокерандит настолько погрузилась в них, это стало ее отличительными чертами, заменив все другое.
Когда она ласково заговорила с сыном, ни словом не упрекая его за то, что он не нашел времени зайти к ней раньше, в его сердце проросло сострадание. Он заметил, что годы явственнее прежнего запечатлелись в ее чертах с тех пор, как они в последний раз виделись.
Ее щеки и виски запали еще больше, кожа приобрела сходство с пергаментом. Он спросил, что она сотворила с собой.
Мать протянула руку и прикоснулась к нему, чуть нажав, словно не знала, что сделать, прогнать сына прочь или приблизить к себе.
— Нам не стоит тут говорить. Твоя тетя тоже хочет тебя видеть.
С этими словами Лорна Шокерандит повернулась и повела его в небольшую отделанную деревянными панелями комнату, где провела большую часть жизни. Лутерин помнил эту комнату с детства. Стены без окон были увешаны картинами, изображающими залитые солнцем одинаково мрачные каспиарновые леса. Тут и там, затерявшиеся среди изображений листвы, из овальных рамок выглядывали женские лица. Тетя Яринга, пухлая и эмоциональная Яринга, сидела в углу и вышивала, изогнутые рукоятки кресла словно повторяли контуры ее тела.
Яринга вскочила и издала похожий на всхлип звук, означающий приветствие.
— Наконец-то ты дома, бедный, бедный скиталец! Как тебе удалось через все это пройти...
Лорна Шокерандит неловко опустилась в бархатное кресло. Когда Лутерин присел с ней рядом, она взяла его за руку. Яринга вернулась в свое кресло в углу обшитой деревом комнаты.
— Для нас большое счастье, что ты вернулся, Лутерин. Мы не знали, что и думать, чего бояться, в особенности после того, как услышали, что произошло с армией Аспераманки.
— Моя жизнь была спасена только благодаря счастливому стечению обстоятельств. Все наши земляки-фермеры и дети благородных владетелей пали на границе с Сиборналом. Пали жертвой настоящего предательства, которому нет оправдания.
Мать взглянула на свои худые колени и выдержала долгую паузу. Наконец она сказала, не поднимая глаз:
— Всех нас потряс твой новый облик, Лутерин. Ты стал таким...
Она помедлила на последнем слове, зная, что сестра слышит ее.
— Я пережил жирную смерть и теперь готов к приходу Зимы, мама. Мне нравится мое новое тело, оно кажется мне идеальным.
— Ты так потешно выглядишь, — сказала Яринга, но на ее слова не обратили внимания.
Он немного рассказал дамам о своих приключениях и под конец добавил:
— Своей жизнью я во многом обязан женщине по имени Торес Лахл, вдове борлдоранца, которого я убил в бою. Она преданно ухаживала за мной, пока я лежал в жирной смерти.
— Преданность — необходимое качество раба, — ответила Лорна Шокерандит. — Ты еще не заходил повидаться к Эсикананзи? Инсил обрадуется, узнав, что ты наконец вернулся, ты сам знаешь.
— Я еще не говорил с ней. Пока нет.
— Завтра вечером я прикажу устроить пир и приглашу Инсил с семьей. Нам следует отпраздновать твое возвращение.
Она хлопнула в ладоши, почти беззвучно.
— Я спою для тебя, Лутерин, — проговорила Яринга.
Это было лучшее, что она умела.
Выражение лица Лорны изменилось. Она выпрямилась в кресле.
— Эванпорил сказал мне, что ты воспрепятствовал новому указу, велящему уничтожать всех фагоров.
— Мама, мы можем извести фагоров постепенно. Но уничтожить их сразу означает остановить все работы в поместье. У нас не найдется шести сотен рабов-людей, чтобы заменить этих двурогих, — не говоря уж о том, сколько стоят нынче люди-рабы.
— Но мы должны выполнять повеления государства.
— Я думаю, мы должны дождаться возвращения отца.
— Хорошо. Но в остальном ты готов согласиться с законом? Все смотрят на нас, Шокерандитов, и важно, какой мы подаем пример.
— Конечно.
— Тогда должна сказать тебе, что сегодня утром в твоих покоях арестована рабыня-иноземка. Мы посадили ее за решетку, и она предстанет перед местным советом, когда он соберется в следующий раз.
Лутерин Шокерандит вскочил.
— Почему ты сделала это? Кто посмел войти в мою комнату?
Гордо вскинув голову, мать ответила:
— Рабыня, которой ты приказал прислуживать этой иноземке, донесла мне, что та практикует паук. Паук запрещен законом. В настоящее время расплата за противление закону наступает очень быстро, стоит только вспомнить пример такого значительного лица, как верховный священник Чубсалид. И никаких исключений быть не может, даже для иноземок-рабынь.
— В этом случае может быть сделано исключение, — сказал Шокерандит, страшно бледнея. — Прошу прощения.
Он поклонился матери и тете и вышел из покоев.
Охваченный яростью, он пронесся через поместье в контору, где сорвал свой гнев на служащих.
Вызывая капитана поместной стражи, Шокерандит говорил себе: «Прекрасно, тогда я женюсь на Торес Лахл. Я должен защитить ее от несправедливости. Она будет в безопасности, став женой наследника Хранителя Колеса, который сам в будущем станет Хранителем... и, может быть, страх, который она пережила за решеткой, заставит ее отказаться от привычки разговаривать с призраком мужа так часто».
Торес Лахл без возражений освободили из темницы и возвратили в комнату Шокерандита. Они обнялись.
— Я горько сожалею о том неуважительном обращении, которому ты подверглась в моем доме.
— Я уже начинаю привыкать к неуважению.
— Тогда тебе нужно начать привыкать к кое-чему другому. При первой возможности я отведу тебя познакомиться с моей матерью. Вы должны лучше узнать друг друга.
Торес Лахл рассмеялась.
— Уверена, что не произведу на харнабхарских Шокерандитов благоприятное впечатление.
В честь возвращения Лутерина Шокерандита был устроен пир. Мать Лутерина стряхнула летаргию, чтобы пригласить всю местную знать, а также уважаемых родственников Шокерандитов.
Семейство Эсикананзи явилось в полном составе. Вместе с членом совета Эбстоком Эсикананзи прибыла его болезненного вида жена, двое сыновей, дочь Инсил Эсикананзи и целый хвост родственников.
С того дня, как Лутерин и Инсил виделись в последний раз, она превратилась в привлекательную женщину, хотя из-за тяжелых насупленных бровей ее невозможно было назвать совершенной красавицей — но в то же время это говорило о манере смело встречать судьбу, что издавна было фамильной чертой Эсикананзи. На ней было длинное платье из красивого серого бархата, с большим воротником из широких кружев, которые ей особенно нравились. Лутерин отметил подчеркнутую вежливость, за которой Инсил скрыла свое отвращение при виде его изменившейся фигуры, что, конечно же, только явственнее проявило его.
Все Эсикананзи издавали сильный и мерный звон; голоса их поясных колокольчиков были одинакового тона. Колокольчик Эбстока был самым громким. Громким шепотом отец Инсил говорил о своей безграничной печали из-за гибели сына, Умата, при Истуриаче. Лутерин пытался возражать, доказывая, что Умат сгинул в побоище на подступах к Кориантуре, но от его слов отмахнулись как от наветов лжеца, распространяющего измышления Кампаннлата.
Член совета Эбсток Эсикананзи был человек мрачный, спокойный, необычного облика. Долгое воздействие холода во время частых поездок на охоту покрыло его щеки сеткой красных жилок, испещривших их словно особая разновидность ползучего растения. При разговоре он смотрел собеседнику в рот, а не в глаза.
Член совета Эбсток Эсикананзи считал себя человеком, который никогда не боится сказать то, что считает нужным, несмотря на то, что всегда использовал исключительно одну интонацию речи, подчеркивающую важность того, что говорящий полагал необходимым сказать.
Гости уничтожали куски копченой оленины на своих тарелках, а Эсикананзи вещал, обращаясь одновременно к Лутерину и остальным присутствующим за столом:
— Ты, конечно же, слышал новость о нашем друге, первосвященнике Чубсалиде. Некоторые из его последователей решили наделать шуму и у нас в Харнабхаре. Злоумышленники замыслили предательство интересов государства. В лучшие дни мы с твоим отцом часто ездили на охоту вместе с Чубсалидом. Ты знал об этом, Лутерин? Да, мы действительно один раз охотились вместе.
Предатель родился в Брибахре, так что неудивительно... Он посещал и монастыри Колеса. Но теперь ему взбрело в голову вести речи против государства, всегдашнего друга и защитника церкви.
— Отец, если это сколько-то утешит тебя, то знай, что за эту ересь его сожгли, — со смехом вставил один из сыновей Эсикананзи.
— Конечно. И его поместья в Брибахре конфискованы. Интересно, кто их получит? Олигархия решит, кто самый достойный. Главное, что по мере наступления зимы борьба с анархией должна ужесточаться. В том, что касается Сиборнала, существует четыре основные задачи. Объединение континента, нанесение молниеносных ударов по центрам подрывной деятельности, как то: в религии, экономике, научной жизни...
Гудящий голос не умолкал. Лутерин Шокерандит смотрел в свою тарелку. У него не было аппетита. Многочисленные события после Шивенинка существенно расширили его представления о жизни, и теперь все, о чем говорил Эсикананзи и чем он сам раньше благоговейно восхищался, даже тон Эбстока, вызывали в нем ярое неприятие. Узоры на стоящей перед ним тарелке оказывали воздействие на его сознание; почувствовав ностальгию, он вдруг понял, что это экспортный товар Одима, привезенный сюда из Кориантуры, со склада купца, в лучшие времена. Он с сочувствием подумал о судьбе Эедапа Мун Одима и его добродушного брата, а потом, виновато, о Торес Лахл, оставленной им в своей комнате под замком, для пущей безопасности. Подняв глаза, он ощутил на себе ледяной взгляд Инсил Эсикананзи.
— Олигархии придется заплатить за смерть первосвященника, — неожиданно сказал он, — и цену не меньшую, чем за бойню, устроенную армии Аспераманки. Почему считается, что Зима это повод, оправдывающий отказ от человеческих ценностей? Прошу прощения.
Поднявшись, он вышел из комнаты.
По окончании трапезы мать несколько раз посылала за ним слуг и приходила сама с просьбой вернуться в общество. В конце концов он, как послушный ягненок, приплелся в зал и сел со всеми, вместе с Инсил и ее семьей. Они кое-как поддерживали беседу до тех пор, пока слуга не привел гиллоту, обученную всяким трюкам. Повинуясь щелчкам бича дрессировщика, гиллота перепрыгивала с одной ноги на другую, удерживая на рогах поднос с пирамидой предметов.
Вслед за гиллотой несколько номеров показали рабы-танцоры; им на смену явилась Яринга Шокерандит, исполнившая любовные песни Осенних дворцов.
Будь мое сердце свободно, будь мое сердце свободно для тебя,
и дико, словно воды Венджи...
— Ты был офицером или просто солдатом? — вдруг спросила Инсил, воспользовавшись музыкой как прикрытием. — Ты считаешь нашу свадьбу просто глупой показухой?
Он взглянул в знакомое лицо, улыбнулся знакомым издевательским вопросам. Он восторгался узорами кружев на ее плечах и груди, отмечая, как хорошо оформилась эта грудь со времени их с Инсил последней встречи.
— Какого ответа ты ждешь, Инсил?
— Я ожидаю, что ты сделаешь то, чего все от нас ждут, поведешь себя так же, как это дрессированное животное. Разве не это правильно и необходимо в такие времена, как сейчас, — когда, как ты тактично напомнил папе, обычные порядки и ценности отбрасывают как ненужный хлам, с тем чтобы встретить зиму нагими.
— Важнее, что мы ожидаем от себя. Возможно, варварство придет, но в нашей воле отвергнуть его.
— Говорят, в Кампаннлате вслед за поражением, которое ты нанес вражеской армии диких народов, началась гражданская война и что цивилизация уже прекратила свое существование. Необходимо избежать здесь подобного любой ценой... Ты заметил, как много я начала думать и говорить о политике, с тех пор как мы расстались? Разве это не варварство?
— Я не сомневаюсь, что тебе не раз и не два приходилось выслушивать своего отца, рассказывающего об ужасах анархии. Я не вижу в тебе ничего варварского, разве что это ожерелье с юга.
Инсил рассмеялась, и волосы упали ей на лоб.
— Лутерин, мне приятно видеть тебя снова, несмотря на твой странный новый облик — ты стал толстым как бочонок. Давай поговорим где-нибудь наедине, пока твоя родственница не допоет наконец и не выплачет свое сердце над водами этой ужасной реки.
Извинившись, они отправились в прохладный соседний зал, где на стенах горели рожки с биогазом, шипящим на одной тревожной ноте.
— Надеюсь, теперь мы можем прекратить игру словами и вложить в них больше тепла, чем растворено в воздухе этой комнаты? — спросила Инсил. — Брр, как я ненавижу Харнабхар. Ты болван, если вернулся сюда. Ведь не ради меня, верно?
Она быстро взглянула на него.
Он прошелся перед ней от стены к стене.
— Сил, ты никак не бросишь свои старые привычки. Ты была моим первым мучителем. Прошло время, и я нашел других. Я измучен — измучен злом олигархии. Измучен мыслью о том, что Вейр-Зиму можно пережить только в обществе, построенном на сочувствии, сострадании, а не в хладнокровном, жестоком и равнодушном, как наше. Настоящее зло — это олигархия, приказавшая уничтожить собственную армию. При этом я тоже уверен, что Сиборнал должен превратиться в крепость, подчиниться жестким и даже жестоким законам, чтобы не пасть под ударами Кампаннлата во время наступающей зимы. Поверь, я уже не тот ребенок, каким был.
Инсил выслушала эту речь без особого воодушевления. Она присела на ручку кресла.
— Да, Лутерин, ты действительно не похож на прежнего себя. Твой вид внушает мне отвращение. Только когда ты улыбаешься, когда ты не так пристально, с надутым видом смотришь в тарелку, проступает твой прежний облик. Но то, как ты изменился... Хочу надеяться, что сама я изменилась только внутренне. Любые меры против чумы, какими бы жестокими они ни были, по-моему, оправданны, если спасут нас от нее.
Ее поясной колокольчик согласно звякнул, и его звук словно принес эхо из прошлого.
— Метаморфозы — это не уродство; это необходимые физиологические превращения. Это нормальный биологический акт. Это природа.
— Ты же знаешь, как я ненавижу природу.
— Откуда такая брезгливость?
— А откуда у тебя такая брезгливость к действиям олигархии? Все вы звенья одной цепи. Твоя мораль так же скучна для меня, как и политика моего отца. Кому какая разница, что нескольких людей и фагоров застрелили? Разве жизнь — не сплошная великая охота?
Он молча смотрел на Инсил, на ее фигуру, стройную и сильную, на то, как она обхватила себя за плечи, спасаясь от холода. Прежнее раздражение вдруг поднялось в нем:
— Прародительница, ты по-прежнему любишь спорить. Мне это нравится, но терпеть это всю жизнь я не намерен.
Инсил рассмеялась, закинув голову.
— Кто знает, что нам придется терпеть и что мы способны вытерпеть? Женщине фатализм нужен еще больше, чем мужчине. Женская доля — слушать, но до сих пор я ничего не услышала, ничего, кроме воя ветра. Поэтому я предпочитаю хотя бы звук собственного голоса.
Первый раз с начала их разговора он прикоснулся к ней.
— Тогда чего же ты хочешь от жизни, если не можешь даже видеть и слышать меня?
Она поднялась, глядя в сторону.
— Мне хотелось бы быть красивой. Я знаю, что природа не дала мне лица — просто два профиля, слепленных вместе. Но будь я красивой, то могла бы избежать своей участи или, по крайней мере, выбрать более интересную судьбу.
— Твоя судьба достаточно интересна.
Инсил покачала головой.
— Иногда мне кажется, что я уже умерла.
Ее голос оставался совершенно бесстрастным — можно было подумать, что девушка описывает вид из окна.
— Я не хочу ничего из того, о чем знаю, но даже и того, чего не знаю, я тоже не желаю. Я ненавижу свою семью, свой дом, это место. Мне холодно. Я из камня, и у меня нет души.
Однажды моя душа вылетела в окошко... может быть, это случилось в тот год, когда ты притворился мертвым... Я устала и мне все надоело. Я ни во что не верю. И никто ничего не сможет мне дать, потому что сама я не могу дать ничего, как не могу ничего взять у другого человека.
Лутерин почувствовал ее боль, но и только. Повзрослевший, он осознал, что не понимает ее и растерян.
— Сил, ты столько дала мне, с самого нашего детства.
— А кроме того, я, похоже, неспособна к любви. Даже простой поцелуй мне невыносим. Твоя жалость вызывает во мне презрение.
Она отвернулась, словно слова давались ей дорогой ценой:
— А чтобы заняться любовью с тобой таким, каким ты стал... мне это отвратительно... да я и раньше не испытывала к тебе влечения.
Неспособный тонко понимать людей Лутерин тем не менее увидел, что ее холодность — не что иное, как привычка унижать и мучить себя. Теперь эта привычка укоренилась сильнее прежнего. Возможно, девушка говорила чистую правду: Инсил всегда предпочитала говорить правду.
— Я не прошу тебя заняться со мной любовью, милая Инсил. Потому что есть женщина, которую я люблю и на которой собираюсь жениться.
Она так и осталась стоять вполоборота к нему — левая щека на фоне кружев воротника. Казалось, она разом увяла. От света газовых рожков ее шея у ключиц поблескивала. Из горла Инсил вырвался низкий стон. Оттого, что она не смогла сдержать этот стон, она зажала рот рукой и принялась бить себя кулачком по бедру.
— Инсил! — в тревоге воскликнул Лутерин, обнимая ее за плечи.
Но когда девушка повернулась к нему, маска защитного смеха уже снова была на ее лице.
— Вот это сюрприз! Оказывается, в мире все же есть нечто, чего мне действительно хотелось бы, но о чем я и не мечтала... Да, я была бы для тебя слишком большим наказанием, верно?
— Не нужно так плохо думать о себе, ты хорошая.
— О да... это я уже слышала. И о той, другой... рабыне в твоей комнате. Ты решил жениться на рабыне, а не на свободной женщине, и это потому, что вырос таким же, как все здесь, с желанием безраздельно владеть кем-то безответным.
— Нет, Инсил, ты неправа. Ты не свободная женщина. Ты рабыня. Я испытываю нежные чувства к тебе и всегда испытывал, но ты упрямо держала свою душу в клетке своего «я».
В ответ она рассмеялась, почти весело.
— Теперь ты лучше понял, кто я такая, верно? Хотя раньше я всегда была для тебя загадкой, ты сам так говорил. Ты стал ужасно груб. Почему ты не подготовил меня, а выложил мне эту новость внезапно? Почему ты сначала ничего не сказал моему отцу, как того требует договор? Ты ведь всегда так уважал договоры и всякие условности.
— Я считал, что сперва должен сказать тебе.
— В самом деле? А своей матери ты уже сообщил эту забавную новость? Какими станут теперь отношения между Шокерандитами и Эсикананзи? Ты не подумал о том, что, когда твой отец вернется, нас скорее всего просто заставят пожениться, может быть? У тебя есть свои обязанности, так же как у меня — свои, и от этих обязанностей никуда не деться, ни тебе, ни мне. Но, возможно, дело в том, что ты попросту не такой храбрый, как я. Если день, когда нас силой уложат в одну постель, все же настанет, я отомщу тебе за оскорбление, которое ты мне сегодня нанес.
— Да что я сделал, ради Прародительницы? Ты разозлилась на меня за то, что я не смог разделить твои переживания по поводу нашей свадьбы? Думай, что говоришь, Инсил!
Но ответом ему был только ледяной взгляд из-под растрепанных волос. Подобрав юбку, Инсил прижала бледную руку к не менее бледной щеке и торопливо вышла из зала.
На следующее утро, после того как Торес Лахл приняла ванну и рабыня помогла ей одеться, Лутерин отвел ее представить матери и формально объявил о своем намерении жениться на Торес, а не на Инсил Эсикананзи. Мать рыдала и выкрикивала угрозы — в частности, обещала гнев и проклятие отца — и в конце концов удалилась во внутренние комнаты своих покоев.
— А теперь пойдем прокатимся, — спокойной сказал Лутерин, засунув в кобуру револьвер и прихватив короткое кавалерийское ружье. — Я покажу тебе Великое Колесо.
— Я поеду позади тебя?
Лутерин с улыбкой взглянул на нее.
— Ты слышала, что я сказал матери?
— Я слышала, что ты сказал своей матери, но я еще не свободная женщина, а здесь не Чалц.
— После того как мы вернемся, я прикажу секретарю написать указ о твоем освобождении. Это возможно. А сейчас мне хочется на воздух.
Он нетерпеливо двинулся к двери, где двое конюших дожидались их, держа за поводья двух лойсей.
— Когда-нибудь я расскажу тебе больше об этих лойсях, — сказал Лутерин, когда они выехали за ворота поместья. — Это наши домашние лойси, их вывели мой отец и мой дед.
Оказавшись за воротами поместья, они немедленно попали в когти ветра. Под ногами было не больше фута снега. По обочинам дороги торчали выкрашенные полосатые столбы, дожидаясь, когда снег поднимется выше.
Чтобы добраться до Харнабхара, до подножия горного пика, им предстояло проехать мимо поместья Эсикананзи. За ним тропа сворачивала на опушку леса каспиарнов, ветви которых отяжелели от инея. По мере продвижения вперед, от Харнабхара, словно постепенно появляясь из облаков, все отчетливее доносились голоса различных колоколов.
Колокола здесь были везде: внутри домов и снаружи. То, что поначалу служило только практическим целям, не позволяя потеряться в метели или в тумане, теперь стало традицией.
Торес Лахл дернула поводья своего лойся и остановилась, прикрывая рукавом плаща рот и подбородок. Впереди лежал городок Харнабхар: приюты для пилигримов и конюшни по одну сторону главного тракта, дома тех, кто трудился для Великого Колеса, — по другую его сторону. Почти на каждой крыше висел колокол, прикрытый куполом, каждый с собственным хорошо отличимым голосом; звон был слышен даже в плохую погоду, когда самих колоколов не было видно.
Далее тракт вел выше в гору, к Великому Колесу. Вход в легендарное Колесо не менее легендарные Архитекторы украсили гигантскими гребцами с птичьими лицами. От входа коридор вел в глубь горы Харнабхар. Гора была самой высокой точкой в окрестностях городка.
По склонам горы взбирались здания, часовни и мавзолеи, выстроенные на пожертвования пилигримов, с радостью отдающих деньги на украшение этого самого святого из мест. Некоторые часовни и мавзолеи, совершенно новые, гордо высились на голых скальных уступах, заметаемые снегом. Иные часовни лежали в развалинах.
Шокерандит широким жестом обвел панораму.
— За всем этим надзирает мой отец.
Потом он обернулся к Торес.
— Не хочешь взглянуть на Колесо поближе? Никто не потащит тебя туда силой. В наши дни достаточно добровольцев, которые стремятся занять свое место в Колесе.
Они снова двинулись вперед, и Торес Лахл спросила:
— Мне казалось, часть Колеса можно увидеть снаружи?
— Нет, Колесо полностью находится внутри горы. Такова главная идея. Тьма. А с тьмой приходит мудрость.
— Я думала, мудрость приносит свет.
Проходящие мимо местные жители с удивлением оглядывались на их странные фигуры, подвергшиеся метаморфозам. У многих местных заметен был выпирающий зоб, нередкое заболевание в горной местности вроде Харнабхара. Подходя к воротам вместе с Торес Лахл и Лутерином, люди суеверно творили на лбу знак Колеса.
Вблизи стало видно больше: откосы массивных стен с каждой стороны вели внутрь, а далее люди исчезали в жерле горы. Над входом, защищенные от лавин широким козырьком, были выгравированы на стенах застывшие, словно схваченные морозом, символы Колеса. Гребцы в богатых одеждах влекли Великое Колесо по небесам, на которых можно было увидеть несколько зодиакальных созвездий: Валун, Старый всадник, Золотой корабль. Звезды изливались из груди удивительной фигуры Матери, которая стояла сбоку от арочного входа, гостеприимно раскинув руки для входящих в гору.
Пилигримы, кажущиеся на фоне огромных фигур карликами, опускались при входе в храм на колени, громко выкрикивая имя Азоиаксика Первого.
— Действительно прекрасно, — выдохнула она.
— Для тебя это роскошная постройка, только и всего. Но для нас, выросших в этой вере, это наша жизнь, источник, который дает силы для того, чтобы противостоять тяготам жизни.
Легко спрыгнув с седла, он взял под уздцы лойся Торес и сказал, глядя снизу ей в лицо:
— Однажды, если отец сочтет меня достаточно подготовленным, я приду ему на смену и стану новым Хранителем Колеса. Следующим Хранителем по порядку наследования должен был стать мой старший брат, но он погиб. И я надеюсь, что мне выпадет шанс.
Она взглянула в на него и дружелюбно улыбнулась, пока не понимая:
— Ветер утих.
— Здесь всегда тихо. Гора Харнабхар очень высока, как говорят, четвертая по высоте в мире. Позади Харнабхара стоит еще большая гора — сейчас ее не видно из-за облаков, — высочайший пик Шивенинк, который заслоняет Харнабхар от полярных ветров. Шивенинк более семи миль в высоту, это третий по высоте пик. Когда-нибудь в другой раз ты его увидишь.
Лутерин замолчал, почувствовав, что говорит с излишним жаром. Ему хотелось быть счастливым, уверенным, таким, как когда-то. Но разговор с Инсил, почти ссора, расстроил его. Внезапно он вскочил в седло и двинулся прочь от ворот Колеса.
Не проронив ни слова, он проехал по улицам городка, где перед лавочками с одеждой и прилавками с колокольчиками толпились пилигримы. Некоторые из пилигримов жевали лепешки с вытисненным знаком Великого Колеса.
Позади городка начинался пологий склон с тропинкой, которая, петляя, спускалась к далекой равнине. Здесь деревья росли плотнее, между деревьями высились большие камни. Кое-где лежали островки наметенного снега, делающие дорогу опасной, предательской. Лойси осторожно выбирали путь, звеня колокольчиками на сбруе. Над их головами высоко в ветвях перекликались птицы, и был слышен звук падающей на камни воды. Шокерандит напевал себе под нос. Беталикс слабым сиянием освещал их путь. Далеко внизу, в провале равнины, правили сумерки.
Тропинка раздваивалась, и Шокерандит остановился на развилке. Одна тропа змеилась вверх по склону, другая бежала вниз. Когда Торес Лахл поравнялась с ним, он сказал:
— Говорят, когда Вейр-Зима наконец придет по-настоящему, эту долину доверху завалит снегом — например, мои внуки, если они у меня будут, это увидят. Мы поедем по тропинке, которая ведет наверх, это самый легкий путь к дому.
— А куда ведет другая тропинка?
— Внизу есть старая церковь, часовня, построенная королем, твоим земляком, поэтому тебе это может показаться интересным. А рядом курган, который построил отец в память о моем брате.
— Я хочу посмотреть, если можно.
Вниз тропинка пошла круче. Поваленные деревья преграждали им путь. Шокерандит выпятил губы при виде того, в какое запустение пришло поместье. Они миновали водопад и начали осторожно перебираться через засыпанную снегом поляну. За горную гряду цеплялись облака. Вверху и вокруг блестел каждый лист. Света уже не хватало.
Они объехали кругом купол часовни. Колокол внутри молчал. Когда молодые люди добрались до ровного места, то увидели, что входную дверь замело снегом.
Уроженка Борлиена, Торес Лахл немедленно поняла, что церковь построена в так называемом эмбруддокском стиле. Большая часть церкви — под землей. Ступеньки, спиралью обегающие внешние стены здания, должны дать верующим возможность очистить разум от земных забот, перед тем как войти в храм.
Расчистив рукой в перчатке снег, она заглянула в маленькое прямоугольное окошко, устроенное в двери. Внутри царила темнота, но сверху проникало немного света. Позади круглого алтаря со стены взирал портрет старого бога. Она почувствовала, что ее дыхание участилось.
Она никак не могла вспомнить имя этого божества, но имя короля было выбито на защищенном от снега и дождя козырьком бюсте, под навесом перед дверью в храм. Это был ЯндолАнганол, король Борлиена и Олдорандо, стран, которые впоследствии превратились в Борлдоран.
— Почему я оказалась здесь? — с дрожью в голосе проговорила она. — Этот король мой далекий предок. Там, откуда я пришла, его имя известно всем и каждому, хотя он умер пять веков тому назад.
— Я знаю, что церковь старая, — только и сумел ответить Лутерин. — Здесь неподалеку покоится мой брат. Пойдем посмотрим.
Через минуту она собралась с силами и двинулась за ним, шепча:
— ЯндолАнганол...
Он стоял перед каменной насыпью-пирамидой. Камни, аккуратно уложенные на камни, наверху венчала высеченная из гранита полусфера. Имя его брата — ФАВИН — было высечено на граните вместе со священным знаком: один круг внутри другого.
Чтобы выказать почтение, Торес Лахл спустилась на землю и встала рядом с Лутерином. Каменная пирамида по сравнению с изящной церковью казалась грубой.
Наконец Лутерин повернулся и указал на утес над их головами:
— Видишь, где берет начало водопад?
Высоко над их головами выступал гранитный козырек. Через край каменной губы лилась вода, беспрепятственно падая с высоты семидесяти футов на камни и разбиваясь в брызги. Еще проезжая долину, они слышали шум падающей воды.
— Когда-то, когда было еще тепло, он спрыгнул с этого обрыва на своем хоксни. Оба погибли — скакун и человек. Азоиаксик знает, что заставило его это сделать. Мой отец в ту пору был дома. Он очень горевал по брату, который погиб вот на этом месте. И приказал воздвигнуть курган в его честь. С тех пор в нашем доме запрещено произносить имя брата. Я уверен, что сердце отца с тех пор разбито, как и мое.
— А твоя мать? — спросила Торес после паузы.
— О, она тоже расстроилась, конечно.
Она снова взглянула на водопад, закусив губу.
— Ты очень высоко ценишь своего отца, так?
— Все высоко ценят своих отцов.
Он откашлялся и добавил:
— Его влияние на меня огромно. Возможно, если бы он чаще бывал дома, то не был бы мне так близок. Мой отец известен тут всем и каждому, как святой, — почти так же, как твой предок, король.
Торес Лахл рассмеялась.
— ЯндолАнганол не был святым. В историю он вошел как один из самых черных злодеев, разрушивший старую религию и предавший огню предводителя этой религии вместе с его последователями.
— Ну что ж, здесь он числится в святых. И его имя тут считается святым.
— Для чего он пришел сюда?
Лутерин нетерпеливо тряхнул головой.
— Потому что тут расположен Харнабхар. Многие, если не все, хотят побывать здесь. Возможно, тем самым он пытался получить прощение за свои грехи...
На это она ничего не смогла ответить.
Он стоял, глядя вниз, в долину, на изрезанные ущельями склоны холмов.
— В мире нет любви чище, чем любовь отца к сыну и сына к отцу — уверен, ты согласишься с этим. Теперь, когда я вырос, я познал другую любовь, разные ее виды, и все они — ловушка. Ни в одной из них нет чистоты — ясности — той любви, которую я питаю к отцу. Любая другая любовь порождает множество вопросов, конфликтов. Любовь к отцу не знает вопросов. Я хотел бы быть одной из его гончих, хотел бы повиноваться ему беспрекословно. Он уехал в каспиарновый лес на месяц. Если бы я был его гончей, я мог бы всегда следовать за ним, идти туда, куда он.
— И питаться объедками, которые он бросал бы тебе.
— На все его воля.
— Ты болен, если мечтаешь об этом.
Он резко повернулся к ней, глядя с ненавистью.
— Я больше не мальчик. Я могу поступать по своему усмотрению или подчинить свою волю другим. Как и любой человек. Способность подчиняться и твердость нужны одновременно. Мы должны сражаться против тех, кто отказывается повиноваться закону. Столько, сколько нужно, чтобы анархия не подмяла власть, иначе Вейр-Зима нас доконает. Когда настанет весна, Сиборнал воспрянет еще более сильным, чем прежде. Мы должны сосредоточиться на исполнении четырех задач. Объединить наш континент. Еще лучше организовать и сделать эффективной работу, действовать заодно ввиду оскудения ресурсов... Что ж, все это не касается твоих...
Она стояла в стороне от него. Облачка пара срывались с их губ, не смешиваясь.
— И какая роль отведена мне в твоем плане?
Он принял вопрос с тревогой, однако ему понравился сухой тон, которым вопрос был задан. Общество Торес Лахл разительно отличалось от общества Инсил. Под влиянием внезапного порыва Лутерин повернулся и обнял Торес, и секунду глядел ей в глаза, прежде чем быстро поцеловать. Потом он отступил, глубоко вздохнул, словно пытаясь насытиться ее чертами. Потом снова наклонился вперед и на этот раз поцеловал ее с большим чувством.
Но даже когда она легко ответила ему, он не мог избавиться от мыслей об Инсил Эсикананзи. У Торес Лахл было прошлое, на ее губах словно бы еще чувствовался поцелуй ее покойного мужа.
Они оторвались друг от друга.
— Нужно терпение, — сказал он, обращаясь скорее к самому себе. Она промолчала.
Лутерин вскочил на своего лойся, и они отправились обратно по тропе между темными деревьями. На сбруе лойсей позвякивали колокольчики. Занесенная снегом маленькая часовня вскоре скрылась позади, пропала за деревьями.
Когда Лутерин вернулся в поместье, его ожидало запечатанное письмо от Инсил. Он медленно, неохотно распечатал его, но не нашел внутри ничего примечательного, кроме нескольких слов касательно их вчерашней ссоры, а именно:
«Лутерин!
Ты обиделся на меня, но главные неприятности впереди. Будущее таит гораздо большую опасность, чем ты можешь себе представить. От людей еще более злобных, чем я представляюсь тебе.
Ты помнишь, как мы говорили о возможной причине смерти твоего брата? Помню, этот разговор состоялся, когда ты наконец решил выйти из состояния той горизонтальной прелюдии, что обычно предшествуют смерти. Твоя невинность воистину была героической. Но теперь я хочу сказать тебе больше и вскоре скажу.
Умоляю тебя, прибегни к хитрости и обману. Держи «нашу тайну» при себе, ради твоей же безопасности.
Инсил».
— Поздно, — раздраженно сказал он, скатывая записку в шарик.
Глава 14 Величайшее преступление
Но как нам теперь убедиться в том, что эти мудрые и могущественные духи сфер, Всеобщая Прародительница и Гайя, существуют?
Объективных доказательств тому нет, поскольку измерить сочувствие и сострадание невозможно. Жизнь микроорганизмов ничего не знает о жизни людей: их умвелты несоизмеримы. Только интуиция позволяет человечеству видеть и слышать поступь этих геохимических духов, которые управляют жизнедеятельностью всего мира как единого организма.
Помимо прочего, эта интуиция подсказывает человечеству, что жизнь в согласии с духом, неощутимым для людей, означает отказ от желания господствовать. Но этим ли чутьем руководствовались люди, которые тайно встретились на Ледяном Холме и затворились вдали от себе подобных, обезопасив себя от внешнего мира, мечтая захватить власть над человечеством?
И что будет, если эти люди добьются успеха?
Мир биосферы умел приспосабливаться и прощать. Интуиция подсказывает нам, что везде и всему есть альтернатива. Гомеостаз — не превращение в ископаемое, но достижение равновесия для выживания.
Древние племенные охотники, сжигающие леса для того, чтобы изловить добычу, породили саванну. Начавшиеся мутации дали сигнал кибернетическому контролю Гайи.
Серый плащ Всеобщей Прародительницы раскинулся над Гелликонией. Человеческие существа могли принимать ее или отвергать, в зависимости от настроя личности.
За пределами того, что находилось под властью бледной немочи человечества, существа дикой природы создавали свой порядок. Деревья брассимпсы жадно накапливали глубоко под землей запасы пищи, чтобы поддерживать свое существование и зимой. Маленькие сухопутные ракообразные, рикибаки, собирались многими тысячами на нижней стороне алебастровых глыб, устраивая внутри камней убежища благодаря особым железам, выделяющим кислоту; подобное качество было необходимо для того, чтобы в состоянии оцепенения пережить холода. Рогатые горные овцы, дикие асокины, барсуковые тимуруны, фламберги на бедных кормом равнинах — все вступали в ожесточенные схватки. Времени оставалось для одного спаривания и, может быть, еще для одного: численность потомства будет определяться температурой воздуха, возможностью добыть еду, смелостью, опытом.
Существа, которых нельзя было причислить к человеческой расе, но тем не менее отстающие от людей всего на полшага эволюции, задумчиво и с тоской глядели на огни людских становищ — эти создания тоже устраивали свое будущее.
Племена дриатов, наделенных даром речи и даже способных браниться на своем языке, с проклятиями спустились с высоких холмов на каменистые равнины своего континента, где еще можно было отыскать пищу. Странники-мади, внезапно изгнанные из своего умирающего укта, отправились искать убежище на Западе и заселили разрушенные города, покинутые человечеством. Нондады глубже зарылись под корни Великого Древа, где могли вести жизнь, мало чем отличающуюся от той, что вели в жарких лучах Лета.
Что же касается расы анципиталов, то каждое их новое поколение с удовольствием отмечало, что общие условия обитания все больше приближаются к тем, которые существовали прежде, чем в небеса Гелликонии вторгся Фреир. В их вневременном разуме все будущее более или менее приобретало сходство с прошлым. На широких равнинах Кампаннлата фагоры превратились в доминирующий разумный вид, приняв в качестве источника питания мясо — стада лойсей и двулойсей, чье поголовье увеличивалось, — и все более смело и яростно нападали на поселения и отряды сынов Фреира. Только в Сиборнале, где присутствие двурогих никогда не было особенно заметно, фагоры встречали сильное, упорное сопротивление, переходящее в контратаки.
Все эти расы неутомимо соперничали друг с другом, однако лишь в определенных отношениях. Но в более широком смысле все виды составляли единое целое. Постепенное, но неуклонное исчезновение зелени приводило к уменьшению поголовья крупных животных, но в целом виды сохранялись в неприкосновенности, поскольку все они в конечном итоге зависели от анаэробной массы на дне гелликонского моря, неустанно работающей над поглощением углекислого газа и поддержания доли кислорода в атмосфере во имя того, чтобы великий процесс дыхания и фотосинтеза был сбалансирован между сушей и океаном.
Всех этих созданий можно было рассматривать как часть планетарной жизни. Отчасти это так и было. Но почти половина биомассы Гелликонии обитала в глубинах морей и океанов. Основу этой массы составляли, главным образом, одноклеточные микроорганизмы. Это они были подлинным регулятором жизни, и для них мало что менялось, был ли Фреир далеко или вблизи планеты.
Всеобщая Прародительница поддерживала равновесие между всеми живыми существами. Почему на планете была возможна жизнь? Потому что эта жизнь была жизнью самой планеты. Что случилось бы, не будь тут жизни? Всеобщая Прародительница была духом, носившимся над водами, не отдельным духом, наделенным разумом, но огромной единой сущностью, создающей всеобщее благоденствие из ока яростной биохимической бури. На Гелликонии Всеобщей Прародительнице поневоле приходилось быть еще более целостной, чем ее далекая сестра, богиня Гайя, правящая далекой Землей.
Особняком от всей живой биомассы — от водорослей, драчливых овец и скрытных рикибаков — стояло человечество Гелликонии. Эти существа хотя и образовывали полностью независимую гомеостатическую биосферу, как и другие живые группы, тем не менее подняли себя до особой категории. Люди создали язык. Посреди бессловесной Вселенной люди создали собственный умвелт слов.
У людей были песни и поэмы, драмы и истории, споры, жалобы и заявления, которые стали языком всей планеты. Следом за словом пришла способность к сочинительству. Едва появился язык, появились легенды. Литература была для слов тем же, чем была Гайя для Земли и Всеобщая Прародительница для Гелликонии. Ни у одной из планет не было собственных легенд, пока человечество не вышло на сцену, чтобы их придумать — и запечатлеть все то, что каждое поколение видело в окружающей реальности.
Были на Гелликонии и такие, кто во времена кризисов в делах людских обожествлял сущность Всеобщей Прародительницы. Но свидетели всегда имелись, часто почти немые, поскольку существовали и работали они близ порога полной немоты. Они видели и ощущали присутствие азоиаксиков Вселенной, чего-то такого, что протекало вне рамок обычных жизненных устоев, что некогда было неживым, но теперь стало Жизнью.
Эти видения не так легко облекались в слова. Но поскольку слова были лишь словами, слушатели не могли с уверенностью сказать, были ли эти видения истинными или иллюзорными. У слов не было атомного веса. Вселенная слов не имела крайних состояний, соответствующих понятиям жизни и смерти безъязыкого мира. Вот почему воображаемый мир, в котором не было ни жизни, ни смерти, мог оказаться выдуманным.
Одним из таких воображаемых миров было прекрасно функционирующее государство Сиборнал, такое, каким его видела олигархия. Другим миром была Вселенная бога Азоиаксика, как ее видели старейшины Церкви Грозного Мира. После того, как церковь пренебрегла, а затем открыто не подчинилась указам олигархии, в ответ на что власть сожгла первосвященника Чубсалида и его товарища-духовника, два этих прекрасных воображаемых мира перестали совпадать. После продолжительного периода объединенного существования, без преувеличения — идентичности, церковь и государство открыли свои индивидуальные и общие ужасы, в которых они противостояли друг другу.
Многие из главенствующих клерикалов, вроде Аспераманки, которых государство крепко держало в руках, не могли протестовать. Тревогу забило низшее, рядовое сословие церкви, простые и впавшие в немилость монахи, те, кто ближе всего был к людям. Именно они почувствовали неладное.
Один из членов Совета олигархии бросил клич против «святош, которые только и шныряют туда-сюда, распространяют лживые слухи среди простого народа» — неосознанное эхо голоса Эразма, прозвучавшего на Земле много веков назад. Но среди олигархии не было защитников гуманизма. На сопротивление репрессиям олигархия умела отвечать только усилением репрессий.
И снова энантиодромия. Как только ряды сплотились, пропасть расширилась; когда союз укрепился, разделение лишь усилилось.
Олигархия все обратила себе на пользу. Беспокойство в ряде своих провинций государство использовало как повод для применения еще более жестких мер. Армии, возвратившиеся после успешной вылазки в Брибахр, принялись наводить порядок в городах и деревнях Ускутошка. Население городков стояло мрачно понурив головы, пока солдаты расстреливали священников.
Раскол достиг даже Харнабхара.
Эбсток Эсикананзи вызвал Лутерина, чтобы обсудить неприятную ситуацию, и в продолжение всего разговора, пока Лутерин призывал к осторожности, глядел ему не в глаза, а в рот. Были и другие представительные лица от обеих сторон. Лутерин несколько часов провел в одной комнате с секретарем Эванпорилом и простыми вассалами и ввиду собственной участи не мог настаивать на жестком решении судьбы своей провинции.
Предметом спора стало даже Великое Колесо. Колесо находилось под управлением и присмотром церкви, а землями, на которых оно располагалось, управлял назначенный олигархией Хранитель. Пропасть между наместником и духовными лицами расширилась. Чубсалид не был забыт.
После двух дней спора Лутерин сделал то, что должен был сделать, прежде чем репрессии коснулись его самого. Он бежал.
Взяв с собой пару хороших гончих и грума, он уехал в дикие, почти бескрайние леса вокруг горы Харнабхар. Началась метель, но он не обращал на нее внимания. Затерявшись на равнинах или проходя по опушкам каспиарновых лесов, он ночевал в часовнях и приютах, построенных для того, чтобы дать укрытие охотничьим отрядам. Там он давал отдых своим верховым животным и себе.
Часто в нем вспыхивала надежда на то, что он может встретить отца. Он представлял себе эти встречи. Он видел отца среди отряда охотников в тяжелом снаряжении, окруженных вьющимся снегом. Соколы в клобучках сидели на плечах сокольничих. Двулойси были впряжены в волокуши, тяжко груженные битой дичью. Из пасти гончих валил пар. Его отец неловко спешивается и идет Лутерину навстречу, распахнув объятия.
Его отец уже наслышан о подвигах сына при Истуриаче и готов поздравить его с тем, что он избежал смерти у Кориантуры. Они обнимаются...
Но ему и его спутникам так никто и не встретился, они ничего не слышали, кроме скрежета ледников. Они спали на дальних заимках, где высоко над лесами сверкали зарницы.
Уставали они или нет, скольких бы животных они ни убили, но ночью Лутерину снились дурные сны. Ему грезился кошмар, в котором он карабкался по склонам, но не лесов и гор, а странно наклоненных залов, уставленных покосившейся бесполезной мебелью и древними предметами искусства. В этих комнатах и залах в нем медленно поднималось чувство ужаса. Он не мог ни бежать, ни скрыться от существа, которое кралось за ним следом.
Часто, вынырнув из сна, он чувствовал, что снова лежит разбитый параличом. Понимание того, где он на самом деле, возвращалось к нему постепенно. Он терпеливо пытался успокоить свой разум мыслями о Торес Лахл; но раз за разом в его видениях к нему приходила Инсил, стоящая рядом с женщиной Дикого Континента.
После пира, устроенного в его честь, мать быстро удалилась в свою спальню, и новость о том, что он не имеет более намерения жениться на Инсил, так никто и не услышал.
Думая об Инсил, он понимал, насколько та подходит ему в жены ввиду грядущих лет Великой Зимы; в Инсил таился несгибаемый дух Харнабхара.
В противовес этому Торес Лахл была чужой, изгнанницей, чужеземкой. Разве он решил жениться на ней не для того, чтобы доказать свою независимость?
Он ненавидел себя за то, что до сих пор не в силах принять решения. Но он не мог принять решение до тех пор, пока его собственное положение оставалось неопределенным. Предстояло еще пережить встречу с отцом.
Ночь за ночью, лежа в своем спальном мешке, он с колотящимся сердцем пытался представить, как будет происходить этот спор с отцом. Он может жениться на Инсил только в том случае, если отец не станет приказывать ему. Его отец должен принять решение своего сына.
Он должен стать героем или изгнанником. Другого выбора у него не было. Он должен встать лицом к лицу с противоборствующей волей. Когда все сказано, пол ребенка становится вопросом власти.
Иногда, когда сполохи зарниц проникали в темные глубины залов, он видел во тьме лицо своего брата Фавина. Брат тоже бросил отцу вызов — по-своему — и проиграл. Каждое утро, спозаранок, когда в небе и под деревьями еще летали ночные птицы, Лутерин и его егеря пускались в путь. Они поровну делили еду, но ни разу не поговорили по душам, ни разу не перекинулись откровенным словом.
Как бы тяжко ни проходили ночи, дни наполняло чистое счастье. Каждый новый час приносил новые ощущения и смену впечатлений. Повадки животных, которых они выслеживали, менялись чуть ли не каждый час. Малый год уходил, и день становился короче, Фреир опускался все ниже к горизонту. Но иногда, если удавалось взобраться на горную гряду, охотники получали возможность полюбоваться старым владыкой небес во всей его сияющей красе, ярким и яростным, озаряющим равнины, в глубине заполненные тенями, подобно морям; так короли наполняли свои кубки вином.
Стоическое молчание природы окружало их со всех сторон, лишь усиливая ощущение бесконечности. Скалы, по которым они спускались напиться из горных источников, питаемых ледниками и тающими снегами, казались первозданными, нетронутыми временем. Из тишины рождалась великая музыка, претворяющаяся в крови Лутерина в свободу.
На шестой день в лесах они столкнулись с группой из шести рогатых фагоров, пересекающих ледник верхом на кайдавах. Белые птицы, сидящие на плечах у анципиталов, предупредили тех заранее. Полтора дня они преследовали фагоров, пока не сумели обогнать их и устроить в ущелье засаду.
Они убили всех шестерых двурогих. Их белые птицы с криками улетели. Кайдавы отлично пригодились. Лутерин и его егеря сумели изловить пять кайдавов и решили отвести их домой, в поместье. Возможно, в будущем потомки Шокерандитов сумеют объездить и вывести одомашненную породу кайдавов.
Экспедиция закончилась скромным, но успехом.
Колокол, звонящий на крыше поместья, они услышали в горах задолго до того, как в голубой дымке появились сами дома.
Подъезжая к дому, Лутерин услышал крики и увидел отцовского лойся, уже стоящего в стойле, вычищенного и отдохнувшего, повсюду лежала битая дичь, в оружейной сидели отцовские грумы и вовсю хлестали йядахл.
Сколько ни тщился Лутерин представить себе встречу с Лобанстером Шокерандитом, на деле обошлось без объятий.
Лутерин поспешил в приемный зал, сбросив с плеч только теплую одежду, так и оставшись в сапогах и при револьвере на поясе, с поясным колокольчиком. Отросшие волосы неприбранные развевались за плечами Лутерина, когда он ворвался в зал, чтобы увидеть отца.
По залу бродили пегие гончие и мочились на свисающие со стен драпировки. У дверей, спиной ко входу, стояли и оглядывались по сторонам, словно замышляя что-то, вооруженные люди.
Рядом с Лобанстером Шокерандитом стояла его жена, Лорна, и ее сестра, а также друзья — семейство Эсикананзи: Эбсток, его жена, Инсил и два ее брата. Они разговаривали. Лобанстер стоял спиной к Лутерину, и мать увидела сына первой. И окликнула по имени.
Разговоры прекратились. Все повернулись и посмотрели на него.
Что-то в их лицах — неприязненное сочувствие — сказало ему, что разговор шел именно о нем. Он остановился на полпути. Они продолжали глядеть на него с любопытством, хотя было ясно, что истинное внимание обращено к человеку в черном, стоящему среди них.
Лобанстер Шокерандит всегда привлекал внимание собравшихся. И причина крылась не в его фигуре или осанке, совершенно заурядных, а в ощущении властной уверенности, исходившей от него. Это его качество замечали все без исключения, хотя никто никогда не решался заговорить об этом. Те, кто ненавидел его, слуги и рабы, утверждали, будто он способен взглядом заставить человека застыть на месте; его друзья и товарищи говорили, что Лобанстер обладает поразительной способностью отдавать приказы и никогда ни с кем не вставал на одну линейку. Его гончие не говорили ничего, но всегда вертелись у его ног, поджав хвосты.
Движения его рук были точными и экономными, удлиненные ногти чуть заострены. Руки Лобанстера Шокерандита были особенно примечательны. Пока его тело оставалось в полной неподвижности, руки жили в движении. Часто руки отправлялись на прогулку к горлу, всегда укрытому черным шелком, двигаясь с испуганной резкостью, словно крабы или лапы коршуна, выискивающие спрятавшуюся добычу. У Лобанстера была базедова болезнь, зоб, что скрывал его шарф, но выдавали руки. Зоб придавал шее основательность храмового столпа, достаточную, чтобы поддерживать крупную голову.
Седые волосы на этой замечательной голове, зачесанные назад удивительно ровно, словно по линейке, открывали широкий лоб. Бровей не было видно, но глаза обрамляли густые темные ресницы — настолько густые, что некоторым приходила в голову мысль о капле крови мади. Глаза словно бы покоились на подушечках, раздувшихся серых мешках. Эти мешки, имеющие ту же зобную природу, служили словно укреплениями, из-за которых глаза взирали на мир. Губы, хотя и не узкие, в то же время были очень бледными, такими же бледными, как глаза, а оттенок кожи почти совпадал с оттенком губ. На лбу и щеках она была жирной и блестела — иногда пребывающие в постоянной занятости руки поднимались ко лбу или щекам, чтобы стереть эту пленку, отчего все лицо блестело, словно Лобанстер только недавно поднялся из моря.
— Подойди ближе, Лутерин, — сказало это лицо. Голос был низкий и чуть медлительный, словно подбородку чрезвычайно не хотелось тревожить пригорок зоба, лежащий под ним.
— Я рад, что ты наконец вернулся, отец, — проговорил Лутерин, подходя. — Твоя охота была удачной?
— Достаточно удачной. Ты так изменился, что я едва узнал тебя.
— Все, кому посчастливилось выжить после болезни, меняются, их тела принимают более компактные размеры, чтобы противостоять Вейр-Зиме, отец. Хочу заверить, что отлично себя чувствую.
С этими словами он взял отца за аккуратную руку.
Эбсток Эсикананзи подал голос:
— Фагоры наверняка тоже отлично себя чувствуют, хотя доказано, что двурогие — носители болезни.
— Я выздоровел от болезни. Я не переносчик.
— Мы уверены, что так и есть, дорогой, — сказала мать.
Лутерин повернулся к матери, и тут отец сурово изрек:
— Лутерин, я хочу, чтобы ты вышел в соседний зал и дождался меня там. Я скоро приду. У нас есть личный вопрос, который следует обсудить.
— Что-то случилось?
Лутерин взглянул отцу в глаза и ощутил всю силу его взгляда. Потом молча поклонился и вышел в соседний зал.
Оказавшись в одиночестве, он пустился кружить по залу, не слыша мерного звона своего колокольчика. Он не мог понять, отчего отец так холодно говорил с ним. Само собой, этот легендарный августейший человек всегда держался отстраненно, но то было лишь одно из привычных отцовских качеств, такое же обыденное, как отцовский зоб.
Лутерин позвал раба и велел ему привести из покоев Торес Лахл.
Она пришла, не понимая, для чего ее вызвали. Когда она вошла в зал, Лутерин подумал, как притягательно для него ее изменившееся тело. Пятна обморожения на ее щеках уже исчезли, излеченные.
— Куда ты так внезапно уехал? Почему тебя не было так долго?
В ее голосе звучали вызов и обида, хотя она улыбнулась ему и взяла за руку.
Поцеловав ее, он сказал:
— Мне по званию полагается подолгу пропадать на охоте. Это в крови у нашего семейства. Теперь выслушай меня: я очень за тебя беспокоюсь. Мой отец вернулся, и, как я вижу, он рассержен. Возможно, это касается именно тебя, потому что моя мать и Инсил говорят с ним.
— Мне жаль, что ты, Лутерин, не с ними и не можешь приветствовать отца.
— Это поправимо, — быстро проговорил он, отмахнувшись. — Послушай, я хочу кое-что дать тебе.
Лутерин отошел в нишу, где стоял большой деревянный буфет. Достав из кармана ключи, он отомкнул дверцу буфета. Внутри висело несколько дюжин тяжелых ключей, каждый с биркой. Нахмурившись, он провел пальцем по рядам ключей.
— У твоего отца мания все запирать, — с улыбкой сказала Торес.
— Не глупи. Он ведь Хранитель. И наше поместье должно быть не просто домом — домом, способным превратиться в крепость.
Он нашел то, что искал и снял с крючка большой ржавый ключ почти в ладонь длиной.
— Этого ключа никто не хватится, — сказал он, снова запирая буфет. — Возьми его. Спрячь. Это ключ от часовни, построенной твоим земляком, королем-святым. Помнишь, там, в лесу? Могут возникнуть неприятности — возможно, ничего серьезного, точно не знаю, что и когда. Возможно, из-за паука. Я не хочу, чтобы тебе причинили вред. Если со мной что-то случится, потом могут схватить и тебя. Тебе может угрожать опасность. Тогда беги и спрячься в часовне. Возьми с собой рабыню — они все мечтают о побеге. Выбери женщину, которая хорошо знает Харнабхар, лучше крестьянку.
Торес опустила ключ в карман своих новых одежд.
— А что с тобой может случиться?
Она стиснула его руку.
— Возможно, ничего — у меня просто предчувствие.
Он услышал, как открылась дверь. Стуча когтями по плиткам пола, вбежали несколько суетливых гончих. Он толкнул Торес Лахл в тень буфета и вышел на середину зала. В зал вошел отец. Следом, позванивая колокольчиками на поясах, шествовали с полдюжины вооруженных людей.
— Нам нужно поговорить, — сказал Лобанстер, подняв палец. Потом повернулся и двинулся на первый этаж, в небольшую комнату со стенами, обшитыми деревянными панелями. Лутерин послушно шел за ним, а позади, поодаль, молча шагали вооруженные люди. Последний запер за собой дверь. С шипением зажглись биогазовые рожки.
Кроме деревянной скамьи и стола в комнате почти ничего не было. Здесь проводились допросы. Другая деревянная дверь, тяжелая, сейчас запертая, была обита полосами железа. Отсюда ступени вели в подвал с колодцем, в котором никогда не замерзала вода. Легенды гласили, что в самую холодную пору зимы там же сберегались наиболее ценные породистые животные.
— О чем бы мы теперь ни говорили, отец, я хочу, чтобы это осталось между нами, — сказал Лутерин. — Я даже не знаю, что это за господа у двери, хотя они чувствуют себя в нашем доме вполне свободно. Они не похожи на егерей.
— Они вернулись из Брибахра, — ответил Лобанстер, выговаривая слова так, словно получал от них холодное удовольствие. — Сегодня благородному человеку не обойтись без телохранителей. Ты слишком молод, чтобы осознать, какой раскол может внести чума в устройство государства. Сначала болезнь разрушает малые группы людей, потом принимается за большие. Появляется опасность распада всей нации.
У странных незнакомцев вид был очень серьезный. В тесной комнатке невозможно было далеко отодвинуться от них. Только Лобанстер стоял в стороне, неподвижный, отгородившись столом и барабаня пальцами по столешнице.
— Отец, мне оскорбительно то, что мы вынуждены говорить откровенно при незнакомцах. Мне это противно. Но я скажу тебе — и им тоже, если у них хватит совести стоять и слушать, — что в твоих словах наверняка все правда, но есть и большая правда, которой ты пренебрег. Есть другие причины вымирания нашей нации, отличные от болезни. Против занятия пауком — а это означает против людей и церкви — применяются очень жесткие меры, при этом жестокость превышает все разумные пределы, и в итоге все это повлечет еще большие потери, чем жирная смерть...
— Молчать, мальчишка!
Рука отца взметнулась к горлу.
— Жестокость — часть самой природы. Где еще искать милосердия? Только в человеке. Человек изобрел милосердие, но жестокость была до него, в самой природе. Природа — это давление на нас извне. Год за годом это давление повышается. Мы не можем бороться с природой иначе, чем привнося в нее нашу собственную жестокость. Чума — это последняя мера жестокости природы, и мы должны бороться с ней нашей жестокостью, собственным оружием природы.
Лутерин онемел. Под взглядом этих холодных светлых глаз он не мог объяснить, что если случайная жестокость, вызванная обстоятельствами, еще возможна, то возведение жестокости в нравственный принцип есть попросту извращение естественного порядка вещей. И то, что он слышал подобные высказывания от родного отца, вызывало у юноши тошноту.
— Ты просто наслушался олигарха и бездумно принимаешь его слова на веру, — только и вымолвил он.
— Это долг каждого из нас, — внезапно высоким звонким голосом проговорил один из вооруженных людей.
Странный незнакомый голос, давящая теснота маленькой комнаты, напряжение и гнев отца — все это вскипело в душе Лутерина. Словно со стороны он услышал собственный крик:
— Я ненавижу олигарха! Олигарх — чудовище! Он расстрелял армию Аспераманки! И поэтому я здесь как беглец, а не как герой. Теперь он уничтожает церковь. Отец, нам нужно бороться с этим злом, пока оно не поглотило и нас.
Он кричал что-то еще, словно в припадке, и смутно ощущал, как вооруженные люди взяли его за плечи и вывели из комнаты для допросов. Вскоре в лицо ему ударил ледяной ветер. Мела метель. Его провели через двор, к яме с биогазом, и дальше, к конюшне.
Всех конюшенных отослали прочь, отцовские «телохранители» тоже ушли. Лутерин остался один на один с отцом. Светлый взгляд отца по-прежнему был ему невыносим, и он со стоном сжал голову руками. Через некоторое время до его сознания дошло то, что говорил отец.
— ...остался единственный сын. Я должен воспитать тебя так, чтобы ты смог нести почетное звание Хранителя. Наверняка на твою долю выпадут тяжкие испытания. И ты должен быть сильным...
— Я сильный, отец! Но я не хочу подчиняться системе.
— Если нам приказали уничтожить паук, значит, мы должны это сделать. Если нам приказано уничтожить всех фагоров, значит, мы должны перебить их всех. Отказаться от выполнения приказа значит проявить слабость. Мы не можем жить без системы — иначе воцарится анархия.
Мать сказала мне, что у тебя есть женщина-рабыня, под чье влияние ты подпал. Лутерин, ты Шокерандит, и ты должен быть сильным. Необходимо избавиться от этой рабыни и жениться на Инсил Эсикананзи, как было договорено со дня твоего рождения. У меня нет сомнений, что ты должен подчиниться этому договору. Должен подчиниться не ради меня, но ради свободы и Сиборнала.
Лутерин усмехнулся.
— И что это будет за свобода? Инсил ненавидит меня, я уверен, а для тебя все это лишь политика. Сегодня мы живем по таким законам, что о свободе и речи быть не может.
Впервые с начала их разговора Лобанстер пошевелился. Это был простой жест — он лишь убрал руку с горла, чтобы протянуть ее к Лутерину:
— Верно, у нас суровые законы. Это понятно. Но без законов ни при каких обстоятельствах нет свободы. Без суровых законов, сурово же исполняемых, мы погибнем. Точно так же, как уже погиб без законов Кампаннлат, хотя климат там не такой суровый, как у нас в Сиборнале. Под ударами приближающейся Великой Зимы Кампаннлат рухнул. Но Сиборнал должен устоять.
Позволь напомнить, любезный сын, что Великий Год насчитывает тысячу восемьсот двадцать пять малых лет. И этот Великий Год закончится через пятьсот шестьдесят с небольшим лет, когда наступит время самых сильных холодов, в момент зимнего солнцестояния, когда Фреир будет от нас дальше всего.
До тех пор мы должны превратиться в железо. Обычные люди в эту пору не выживут. Со временем чума уйдет, и жить станет немного легче. Нам, жителям Харнабхара, это известно с самого рождения. Предназначение Великого Колеса — провести нас через тяжелые времена, чтобы мы снова могли выйти к свету и теплу...
Но Лутерин возразил, хотя и более спокойно:
— Я согласен с тобой, отец, Колесо поддерживает нас, именно так, как ты говоришь. Но согласись, сожжение первосвященника Чубсалида, величайшего из деятелей церкви, подвергающейся сейчас общим гонениям, этого святого и мудрого человека, есть жестокое злодеяние.
— В Колесе заключено главное противоречие, вот в чем соль, — Лобанстер издал горловой звук, напоминающий смех, и его зоб сотрясся под черным шелком. — Бессмысленное противоречие. Колесо не может спасти всю Гелликонию. Колесо не сможет спасти даже весь Сиборнал. Это просто сентиментальная достопримечательность. Колесо действует должным образом только тогда, когда в нем заключены убийцы и преступники. Колесо вступает в противоречие с научными принципами олигархии. Законы олигархии, и только они одни, могут дать нам возможность пережить Вейр-Зиму, которая уже занесла свой ледяной меч над головами наших детей. Вот почему церковь подлежит уничтожению. И первый шаг в сторону этого уничтожения — запрет занятий пауком.
И снова Лутерин не смог найти слов.
— И ты привел меня сюда, чтобы все это сказать? — спросил он наконец.
— Мне не хотелось, чтобы кто-то посторонний слышал наш спор. Меня тревожит твое пренебрежение законами касательно паука и уничтожения фагоров, насколько я понял со слов Эванпорила. Не будь ты моим сыном, мне пришлось бы убить тебя. Ты понимаешь это?
Лутерин лишь кивнул и уставился в земляной пол конюшни. Как в детстве, он не мог найти в себе сил взглянуть отцу в глаза.
— Ты понимаешь?
Лутерин все еще не мог говорить. Потрясенный, он испытывал острое отвращение к такому откровенному пренебрежению его чувствами, которое проявлял отец.
Утерев блестящий лоб, Лобанстер прошел через комнату к столу, где вместе с другой упряжью лежала седельная сумка. Отец отстегнул пряжку, и из сумки выпал рулон листовок, которыми та была переполнена. Взяв одну из листовок, он протянул ее сыну.
Вздохнув, Лутерин взял бумагу. Ему хватило одного взгляда, чтобы понять ее смысл, прежде чем он выпустил ее из рук, на пол. Листок, плавно скользя, улетел в угол комнаты. Черным по белому в листовке описывались новые меры по обузданию чумы, а именно — любой человек, чье тело подверглось метаморфозам в результате болезни, подлежит уничтожению. Приказом олигарха. Лутерин не сказал ничего.
Тогда заговорил отец.
— Ты понимаешь, что, если ты не станешь мне повиноваться, я не смогу тебя защитить? Это не в моих силах.
Когда наконец Лутерин поднял на отца глаза, в его взгляде была печаль.
— Я всегда повиновался тебе, отец. Всю свою жизнь я поступал так, как ты хотел — как подобает послушному сыну. Я всегда был — и наверняка не заслуживал большего — лишь твоей собственностью. Я не сомневаюсь, что осознание чего-то подобного заставило Фавина свести счеты с жизнью, бросившись с обрыва. Но сегодня я не стану повиноваться тебе. И не только ради себя. Не только ради веры или ради государства. Ведь, как бы там ни было, это лишь абстракции. Я не стану повиноваться тебе ради тебя самого. Потому что то ли приближение Зимы, то ли влияние олигархии свели тебя с ума.
Щеки отца запылали зловещим румянцем, но глаза остались подобными светлому камню, как всегда.
Схватив со стола длинный черный сапожный нож, он протянул его сыну.
— Возьми, нож, глупец, и ступай за мной наружу. Там ты увидишь, кто из нас сошел с ума.
Снаружи валил густой снег, свиваясь серыми вихрями в закоулках поместья, словно торопясь как можно быстрее намести сугробы вровень со стенами. Телохранители отдельной группой ждали возле крыльца, засунув руки за пояс и притопывая, чтобы согреться. Около них стоял лойсь, все еще под седлом, рядом — встревоженный всадник. Прямо перед ними громоздилась гора мертвых фагоров; двурогие были забиты уже давно: снег падал на них и не таял.
Сбоку от наружных ворот на высоте больше человеческого роста из стены торчали несколько ржавых крюков. На крюках в петлях висели четыре мертвеца, трое мужчин и одна женщина. Все были раздеты.
Лобанстер толкнул сына в спину, заставил идти вперед. Прикосновение отца обжигало, подобно огню.
— Срежь этих мертвецов и взгляни на них. Посмотри, в каких чудовищ они превратились, а потом скажи, верно ли поступила с ними олигархия. Иди.
Лутерин двинулся вперед. Казнь состоялась совсем недавно. На искаженных лицах казненных еще не замерз пот. Все четверо перенесли жирную смерть, и тела их изменились.
— Закон создан для того, Лутерин, чтобы ему повиновались. Общество основано на законах, а без общества люди превращаются в животных. Мы поймали этих четверых сегодня по пути в Харнабхар и повесили их, потому что таков закон. Они умерли во имя выживания общества. И ты продолжаешь считать, что олигархия безумна?
Лутерин ничего не ответил, и отец сурово продолжал:
— Иди же, срежь их, взгляни на муку в их лицах и спроси себя, готов ли ты к такой жизни? И когда к тебе придет ответ, ползи на коленях ко мне.
Сын умоляюще взглянул на отца.
— Я любил тебя, как собака любит хозяина. Зачем ты заставляешь меня делать это?
— Срежь их!
Рука судорожно взметнулась к горлу.
Задыхаясь, Лутерин подошел к первому трупу. Он поднял нож и заглянул в перекошенное лицо мертвеца.
Он знал этого человека.
На мгновение он замешкался. Но он не спутал бы это лицо ни с каким другим, даже без роскошных усов, как сейчас. Тоннель Нунаат встал перед его глазами: то же искаженное напряжением лицо. Взмахнув ножом, он срезал останки капитана Харбина Фашналгида. В тот же миг его разум осенило. На мгновение он снова превратился в мальчика, предпочитающего год паралича правде.
Он повернулся к отцу.
— Отлично. С одним ты справился. Теперь следующий. Это закон, и ты должен ему повиноваться. Твой брат был слишком слаб. А ты должен быть сильным. Когда я был в Аскитоше, я слышал о твоих подвигах у Истуриачи. Ты сможешь стать Хранителем, Лутерин, и твои дети тоже. Ты сможешь стать кем-то большим, чем Хранитель.
Брызги слюны срывались с губ отца и уносились со снежным вихрем. Но выражение лица сына заставило его замолчать.
В одно мгновение его уверенность улетучилась. Отец обернулся к телохранителям, словно ища у тех поддержки, и его поясной колокольчик звякнул, может быть, в первый раз.
Слова сорвались с губ Лутерина.
— Отец, ты — олигарх! Это ты! Ведь об этом узнал Фавин, правда?
— Нет!
Внезапно все в Лобанстере изменилось. Властный тон бесследно исчез. Похожие на клешни руки взлетели вверх, каждая черточка его тела выражала страх. Он ухватил сына за запястье, но поздно — нож вонзился ему под ребра, прямо в сердце. Из разрезанной одежды брызнула кровь и залила обе руки, сына и отца.
Мгновенно двор поместья превратился в картину «Растерянность». Первым сорвался с места всадник и с криком ужаса бросился к воротам. Он знал, что грозит слугам, оказавшимся свидетелями убийства. Телохранители спохватились чуть позже. Их хозяин медленно упал на колени, потом боком на снег, заливая все кровью, одной окровавленной рукой бессильно цепляясь за зоб, и в конце концов растянулся поперек тела Фашналгида. Телохранители следили за этим падением словно завороженные.
Лутерин не стал ждать. В ужасе от содеянного он бросился к лойсям и с разбегу взлетел в седло. Потом, когда он галопом несся через двор, позади хлопнул одинокий выстрел, и он услышал, что среди телохранителей наконец-то начался переполох.
Щурясь от летящего в глаза снега, он пришпорил лойся. Проскакал через задний двор. С обеих сторон и вслед ему кричали. Обоз, с которым недавно вернулся отец, все еще стоял неразгруженный. Из дверей выбежала женщина, вскрикнула, поскользнулась и упала. Лойсь перескочил через нее. Впереди начали закрывать ворота, чтобы остановить Лутерина. Но охрана действовала не слаженно. Он ударил одного из стражников револьвером в голову, когда тот попытался перехватить поводья лойся. Стражник упал на снег.
Направляя лойся к опушке, где начиналась тропа, он на скаку повторял про себя одно. Он утратил способность рассуждать логически. Только немного погодя он понял, что он твердил всю дорогу.
Вот что он непрерывно говорил себе:
— Отцеубийство, величайшее преступление.
Слова выстраивались в ритме его бегства.
Он не думал, куда бежит, и не размышлял по этому поводу. В Харнабхаре было только одно место, где он мог спастись от погони. По обе стороны от него мелькали деревья, едва различимые сквозь прищур. Пригнувшись к шее лойся, Лутерин безостановочно скакал вперед, во весь голос объясняя животному, каково величайшее в мире преступление.
В густеющих сумерках перед ним замаячили ворота поместья Эсикананзи. На крыльце мелькнул огонек лампы и наружу выбежал человек. Потом метель и снег скрыли фигуру со светляком в руках. Дробный стук копыт лойся и свист ветра заглушали всякие звуки погони, если погоня была.
Лутерин вдруг понял, что ворвался в городок. Когда он проносился мимо первого монастыря, в его ушах болезненно грохотали колокола. Вокруг мельтешили люди. С криками разбегались пилигримы. Краем глаза он заметил, как перевернул жаровню с лепешками. Потом и это исчезло: куда ни глянь, тянулись казармы — до тех пор, пока из мрака не поднялась еще неясная громада монастыря Харнабхара. Тоннель с могучими огромными фигурами, поставленными на страже перед ним.
Промедлив ровно столько, сколько было необходимо, чтобы чуть придержать лойся, Лутерин спрыгнул на землю и бросился вперед. Впереди гудел огромный колокол. Его угрюмый голос свидетельствовал о тяжести преступления Лутерина. Но инстинкт самосохранения продолжал гнать юношу вперед. Он побежал вниз по наклонному спуску. Перед ним появились несколько фигур в монашеских одеждах.
— Солдаты! — только и сумел прохрипеть он.
Его поняли. Солдаты больше не были их союзниками. Его торопливо повели вниз, и позади с лязгом захлопнулись тяжелые металлические двери.
Великое Колесо поглотило его.
Глава 15 Внутри Колеса
Геонавты были первыми живыми существами на Земле, не состоявшими из клеток и, следовательно, не зависящими от бактерий. Геонавты представляли собой совершенно иной этап эволюции, отступление от привычного, более всего отличаясь от вселенных, составленных из генов — людей.
Возможно, на великом поединке человечества и природы Гайя вздумала обратить большой палец вниз, решив заняться метаморфозами в другом направлении. Всем своим существованием люди доказали, что они скорее проклятие, чем подспорье и союзники биосферы. Возможно, для людей пришла пора уйти, разделить судьбу более великих творений.
Как бы ни было, белые многогранники теперь наличествовали повсюду, заполонив все материки. Казалось, многогранники не причиняют вреда. Проникнуть в смысл их существования было так же тяжело, как королю проникнуть в смысл существования кошки, и наоборот, кошке проникнуть в смысл существования короля. Но многогранники излучали энергию.
Эта энергия имела иную природу, нежели энергия, которую человечество открыло много веков назад и назвало электричеством. Новую энергию люди назвали эгоством, возможно, в память о старых временах.
Эгоство невозможно было генерировать. Эгоство было силой, которую излучали многогранники — кроме поры их воспроизводства или периода медитации того или иного рода. Тем не менее, эгоство можно было ощутить. Эгоство воспринималось как мягкий мелодичный звук в нижней части живота, или области хора. Эгоство невозможно было зарегистрировать ни одним прибором из тех, что еще оставались в распоряжении людей постледникового периода. Эти люди были путешественниками. Они больше не мечтали владеть землей, скорее, мечтали, чтобы земля владела ими. Старый мир заборов и изгородей ушел навсегда.
Куда бы эти люди ни отправились, они шли пешком. Постепенно выяснилось, что проще всего следовать за направляющимся в нужную сторону геонавтом. Человечество не потеряло прежние склонности селиться общинами, и люди хорошо помнили, как работать руками. Одно поколение сменяло другое, и группы мужчин на нескольких новых материках открыли способы фокусировать определенное количество эгоства, чтобы перемещать небольшие повозки с багажом. Вскоре повсюду можно было встретить повозки с багажом малой скоростью катящие перед направляющими их геонавтами.
Когда геонавты воспроизводили себе подобных, извергая из своих тел потоки крохотных многогранников, развертывающихся как листы бумаги на ветру, поток эгоства уменьшался и владельцам повозок приходилось находить для их перемещения другие источники энергии.
Однако это было лишь самое начало. Впоследствии эволюция предложила лучшие способы.
Человеческая раса, значительно уменьшившаяся по сравнению со своей прежней численностью, странствовала по новой Земле, угодив в зависимость от геонавтов, число которых возрастало год от года, от поколения к поколению.
Никто не работал так, как когда-то работали люди, когда им приходилось окучивать картошку на грязных полях или по колено в воде ухаживать за рисом. Время от времени люди сажали овощи, но без особой охоты; в результате плоды их труда доставались другим — к тому времени сеятели уже уходили на другое место, редко проделывая больше мили в день. Эгоство выделялось не слишком бурно.
В конторах никто больше не работал. Конторы были уничтожены.
Могло показаться, что у этих людей вечные каникулы или что они наконец смогли отыскать спартанскую версию райского сада. Но на самом деле все обстояло иначе. Люди были поглощены работой, в которую оказался вовлечен их собственный вид. Люди были заняты тем, что они называли переосмыслением.
Радиоактивные бури, последовавшие за ядерной войной, наложили отпечаток на генофонд человечества. Выжившие из числа людей наслаждались совершенно новыми нейронными связями в своем мозгу. Образование новых нейронных констелляций в коре головного мозга было обусловлено, говоря языком геологии, катастрофическим скачком в развитии. В обычной обстановке эти связи функционировали успешно, но при стрессе вытеснялись эмоциями. В предъядерную эпоху подобная неполноценность воспринималась как норма, иногда как желательная норма. Насилие расценивалось как приемлемый путь решения многих проблем, которые не появились бы вовсе, не будь насилие средством.
В новые, более мирные времена насилие сочли нежелательным. Насилие воспринималось как признак поражения, не как возможное решение проблемы. Со сменой многих поколений установилась лучшая связь новой коры головного мозга с его прочими отделами. Человечество впервые за время своего существования начало познавать самое себя.
Эти люди-странники устроили себе каникулы. Таким образом, Гайя определила ход эволюции. Люди находили особое удовольствие в совершенствовании вида гомо сапиенс, и те пары, которые обзавелись детьми, воспитывали потомство так, чтобы в следующем поколении и эти дети самосовершенствовались путем переосмысления.
В основном мыслительные досуги людей были посвящены поиску новых структур человеческого сознания. Анализируя те черты сознания, которые сформировали человеческую расу, благодаря чему история до сих пор складывалась именно так, а не эдак, они учитывали также и то, что происходило на Гелликонии. Анналы человеческой истории эпохи до ядерной катастрофы были почти полностью уничтожены; из-под руин удалось извлечь всего две или три более-менее полных библиотеки со сводом человеческих знаний. При этом Гелликонию считали современной глубинной параллелью того, что некогда руководило людьми на Земле.
Те из землян, что когда-то безумно страшились собственной склонности к насилию, те, кто защищался от окружающего мира заборами, а то и каменными стенами, вооружался и насаждал жестокие законы — так, по крайней мере, им помнилось, — не слишком отличались манерой поведения от молодого человека, убившего своего отца. Агрессия и убийство были способом бегства от боли: в конце концов планета была уничтожена собственными сынами.
Хотя на целой планете вряд ли отыскался бы тот, кто не слышал о Великом Колесе Харнабхара, воочию Колесо видели лишь немногие. И почти никто не видел Колесо внутри.
Великое Колесо скрывалось под землей, похороненное в недрах горы Харнабхар. Колесо было построено Архитекторами Харнабхара, и после них не нашлось никого, кто сумел бы повторить их работу.
Об Архитекторах Харнабхара не было известно ничего, но одно было ясно наверняка. То были преданные своему делу люди. Люди, убежденные, что вера может двигать мирами. Для этого они соорудили каменную машину, способную нести Гелликонию сквозь мрак и холод, покуда планета не пристанет к теплому лону бога Азоиаксика. До сих пор машина успешно работала.
Машина доказала свое соответствие вере, и вера жила в сердцах людей.
Способ, которым люди попадали в Колесо, не менялся тысячелетиями. После предварительной церемонии у врат тоннеля новичков приводили на широкую лестницу, извивами спускающуюся внутрь горы. Рожки с биогазом освещали им путь. У подножия лестницы, в комнате в виде воронки дальняя стена была частью самого Колеса. Новичку помогали войти или, в зависимости от его настроения, силой уводили в камеру Колеса, в упомянутый миг открытую. Через некоторое время Колесо начинало толчками вращаться. Медленно, мало-помалу, картина внешнего мира исчезала, заслоняемая от заключенного каменной наружной стеной, сглаженной скалой. Внешний мир на долгое время пропадал. Теперь новичок оставался один — лишь в соседней камере были люди, увидеть которых ему было не суждено до окончания периода обращения и срока пребывания в Колесе.
Лутерин Шокерандит мало чем отличался от тех, кто входил в Колесо до него. И до него тут многие побывали в поисках убежища. Одни были святыми, другие — грешниками.
Изначально план Архитекторов претворяла в жизнь церковь. В прежние времена не было недостатка в добровольцах, согласных занять место внутри Колеса, чтобы стать его гребцами и вести Гелликонию к заветной пристани рядом с Фреиром. Но когда наконец наступали долгие века света, когда Сиборнал снова заливало солнце, сила веры убывала и убеждать верующих, с тем чтобы войти во тьму, становилось слишком сложно.
Колесо могло бы остановиться, не приди на помощь церкви государство. Государство присылало в Харнабхар преступников, приговоренных к отбыванию срока внутри Колеса, чтобы те, согнувшись в три погибели в каменной камере, влекли бы свой мир и сами влеклись к искуплению. Таково было тесное сотрудничество государства и церкви, питающее силу Сиборнала большую часть Великого Года, дабы эта сила не забывалась.
Летом и долгой ленивой осенью Колесо влекли по его пути в равной мере монахи и преступники. Только когда жизнь становилась более тяжелой, когда с неба начинал непрерывно сыпать снег и урожаи скудели и исчезали, старая вера вновь укреплялась. В эту пору религиозность возвращалась, занимая среди правоверных надлежащее место. Преступников отправляли в солдаты или матросы или, без лишних церемоний, — с ядром на дно бухты Осужденных.
Отец, отец, что творится с водою здесь,
Где скала горит, как мой лоб,
Где я дрожу, как в лихорадке, в жестокой красной тьме.
Ты здесь, со мной, подле меня и надо мною,
Ждешь моей смерти. О, смерть,
Я чую тебя совсем рядом. Свет проносится мимо,
Проносится мимо, и я внутри него в тревожном сне;
Внутри скалы я просыпаюсь, внутри камня.
Это невозможно, но это так;
Твой нож режет всех нас сразу,
Клянусь, нож рассекает мои жилы;
Там, где кричат от ужаса,
Где я бесконечно истекаю кровью, как лавовый поток,
Где залепляет мне горло каменная красная тьма.
Его мысли текли странным образом, словно бесконечным потоком пронизывая его насквозь. Время заключенной в темницу душе отмеряли скрежет камня о камень и хриплые выкрики и стоны товарищей по несчастью в соседних камерах. Постепенно стоны привлекли его внимание. Его разум затих, чтобы лучше слышать эти стоны.
Лутерин не мог бы точно определить, где находится. Он представлял, что лежит в подземном стойле какого-то огромного раненого животного. Раненый и умирающий зверь все равно продолжал искать его, заглядывая во все углы. Стоит зверю отыскать его, и он бросится на человека, сокрушит и раздавит, сотрясаясь в агонии.
В конце концов он поднялся с койки. То, что он слышал, было голосом ветра. Ветер задувал в отверстия Великого Колеса, порождая в нем целые хоры стонов. Скрипы и скрежет знаменовали движение Колеса.
Лутерин поднялся и сел. Монахи Колеса пустили его внутрь и тем самым спасли от дальнейших преследований и бедствий или мести отца, а прежде чем поместить его в камеру, отпустили ему все грехи. Таков был обычай Колеса. Человек, попавший в камеру Колеса с бременем грехов, скорее всего сойдет с ума.
Он поднялся и встал. Ужас случившегося объял его душу, и он с содроганием взглянул на свою правую руку, на пятна крови на правом рукаве куртки.
Принесли еду. Над головой в узком каменном колодце послышался говор, потом шорох. Еда состояла из ломтя хлеба, сыра и ломтя мяса, возможно, жареного стунжебага, в куске холста. Значит, наверху Беталикс клонится к закату. Очень скоро малая зима вступит в свои права, и Беталикс на несколько теннеров исчезнет за горизонтом. Но внутри горы Харнабхар это мало что изменит. Жуя хлеб, Лутерин ходил по камере, исследуя ее с вниманием человека, рассматривающего помещение, которое должно стать его миром на ближайшие десять лет.
Архитекторы Харнабхара воплотили в размерах камеры главные астрономические понятия, руководящие жизнью Харнабхара. Высота камеры составляла 240 сантиметров, что соответствовало шести неделям теннера, умноженным на сорок минут в часе, или пять раз по шесть недель на восемь дней в неделю.
Ширина камеры в широкой части составляла 2,5 метра — 250 сантиметров, что соответствовало десяти теннерам в малом году, умноженным на число часов в сутках.
Длина камеры составляла 480 сантиметров, что соответствовало числу дней в малом году.
Возле стены стояла койка, единственный предмет мебели в камере. Над койкой находился лаз, через который поступала провизия. В глубине камеры имелось отверстие, служащее уборной. Отходы падали в тоннель, ведущий под Колесо в камеру с биогазом, где благодаря добавке нечистот, овощей и помета животных из монастыря образовывался метан, идущий на освещение и обогрев Колеса.
Камера Лутерина была отделена от соседней камеры стеной толщиной 0,64159 метров — если прибавить это число к ширине камеры, получалось число пи. Сидя на койке, привалясь спиной к стене, он смотрел на стену слева от себя. Это была неподвижная цельная скала, образующая четвертую стену камеры почти без зазора между стеной и массивом самого Колеса. В этой стене были вырублены две ниши: в высокой помещался рожок с биогазом, обеспечивающий камеру теплом и светом, а во второй, нижней, несколько цепей, намертво вмурованных в стену.
Продолжая жевать хлеб, Лутерин подошел к дальней наружной стене и взял в руку отрезок цепи. Казалось, цепь в его руках истекает потом. Он бросил цепь на пол, и та упала вниз, в малую нишу. Цепь состояла из десяти звеньев, по одному на каждый малый год.
Он постоял не двигаясь, не сводя глаз с цепи. За ужасом собственного преступления вырастал новый ужас — ужас заточения. Посредством этой цепи из десяти звеньев Колесо надлежало перемещать в пространстве.
Он еще никогда не пытался взять в руки цепь. Он понятия не имел о том, сколько времени он пролежал в прострации, пока весь мир, все его прошлое проносилось, подобно птице, сквозь его сознание. Все, что ему удалось вспомнить — это пронзительные звуки монашеских труб, доносящиеся откуда-то выше Колеса, после чего Колесо начинало свое горизонтальное движение, продолжающееся половину дня.
Исследование наружной стены наполнило душу Лутерина страхом. Наверняка он сумеет смириться с этим не сразу. Эта стена отныне станет единственным, что будет меняться в его камере. Отметины на стене станут картой его странствия сквозь скалу; наблюдая за этими отметинами, опытный узник сможет чертить свой путь сквозь время и гранит.
Внутреннюю стену, неподвижную стену камеры, покрывали сложные узоры, вырезанные предыдущим обитателем. Портреты святых и рисунки половых органов свидетельствовали о смешанных настроениях предыдущего узника или просто о различных обитателях. Были и стихи, календари, признания, расчеты, графики. Не осталось ни одного свободного дюйма. На стене запечатлелись души давно умерших. Палимпсесты страданий и надежд.
Можно было прочитать несколько революционных лозунгов. На самом верху была вырезана очень ясная и чистая молитва, вознесенная богу по имени Акха. Во многих местах старые письмена были затерты более поздними, напоминая о том, как одно поколение сменяет другое. Некоторые из ранних надписей, теперь неясные, были сделаны изящным легким почерком. Некоторые были на языке вязи, давно уже исчезнувшем из этого мира.
В одном месте, где шрифт почти стерся, Лутерин прочитал историю самого Колеса, основные детали. То были цифры, имеющие власть над всем остальным, что было выбито на этой стене.
Колесо более всего напоминало кольцо, вращающееся вокруг огромного центрального гранитного пальца.
Высота Колеса была около 6,6 метров, или двенадцать раз по 55 (северная широта точки нахождения самого Колеса). Основываясь на этом, можно было рассчитать толщину Колеса — 13,19 метров (1319 год заката Фреира, или год Мирквира, на 55 градусе северной широты, считая от первого года апоастра). Диаметр Колеса составлял 1825 метров, число малых лет в одном большом году. А еще 1825 камер было во внешнем ободе Колеса.
Сложный вырезанный на камне чертеж, почти незатронутый другими рисунками, соблюдал примерно те же пропорции. Чертеж представлял собой пропорционально уменьшенное встроенное в скалу Колесо. Над Колесом имелась пещера, достаточно большая для того, чтобы дать монахам возможность ходить по верхней части Колеса и опускать находящимся внизу заключенным пищу. Войти в пещеру можно было только через монастырь Бамбек, выстроенный на склоне горы Харнабхар, прямо над вмурованным Колесом.
Тот, кто вырезал на граните этот чертеж, наверняка был точно осведомлен о строении Колеса. Река, протекающая под Колесом, способствующая его вращению, тоже была изображена. Прочие, схематические, линии соединяли самый центр Колеса с Фреиром и Беталиксом, а также с десятью зодиакальными созвездиями — Летучей мышью, Вутрой-буйволом, Валуном, Ночным червем, Золотым кораблем и другими.
— Абро Хакмо Астаб! — выругался Лутерин, впервые в жизни произнеся запретное старинное ругательство. Эти предполагаемые связи вызывали в нем глубокое отвращение. Это была ложь. Никаких связей не существовало. Только он, замурованный в камне, хуже духа. Он бросился на койку.
И снова прошептал ругательство. Как одному из проклятых, ему это было позволено.
Тускнеет зрение, но обостряется слух. Лутерин догадался: когда Колесо неподвижно, его обитатели спят. Лежа на койке, он пустым взглядом рассматривал стены каменной коробки, в которой теперь обитал.
Вода для питья текла ручейком из ключа в изножье его койки. Тихий плеск разносился со звонкой равномерностью, словно тиканье часов.
Более глухим был плеск воды под каменным полом, где протекала река. Он походил на бормотанье пьяного, тяжелое, ленивое. Эти звуки усыпляли Лутерина.
Другие звуки воды, плеск и стук капель, доносились издалека, сообщая, что снаружи имеется мир природы, приволье и охота. Он представлял себя на воле, в каспиарновом лесу. Но эти воображаемые картины невыносимы. Снова и снова в его воображении всплывало лицо отца, искаженное мучительной болью. Ручьи, водопады, потоки — все это исчезало из сознания Лутерина, сменяясь ручьем крови.
Оцепенение отпустило его только однажды, когда, развязав дневную порцию еды, он обнаружил внутри записку.
Он отнес клочок бумаги к голубому огоньку и впился в записку глазами. Кто-то писал очень маленькими буквами. «Наверху все хорошо. Люблю».
Не было подписи, не было даже инициалов. От матери? От Торес Лахл? От Инсил? От друга?
Но, пусть и анонимная, записка подбодрила его. Снаружи кто-то думал о нем, беспокоился и — пусть даже таким скудным образом — мог общаться с ним.
В этот день, как только грянули трубы монахов, он вскочил с места и ухватился за цепи, свисающие из ниши в наружной стене. Упершись ногами в выступ стены, он потянул за цепь. И камера сдвинулась с места — Колесо начало вращаться.
Он снова потянул, и на этот раз движение далось чуть легче. Его камера продвинулась на несколько сантиметров.
— Тяните, вы, байваки! — закричал он. Ободряющие звуки труб раздавались каждые двенадцать с половиной часов, потом все стихало на такой же промежуток времени. К концу трудового дня Лутерин продвигался ни много ни мало на 119 сантиметров, почти на половину длины своей камеры. Огонек рожка, освещавший его каземат, теперь был почти рядом с разделительной стеной. К концу следующего рабочего дня огонек угаснет — кажется, в следующей камере, — но на смену ему появится новый огонек.
Массу, равную 1284551,137 тонн, можно сдвинуть с места: таков был груз, который святость водрузила на плечи узников Колеса. Казалось, это был лишь физический труд. Но день уходил за днем, и Лутерин все больше относил эту задачу к разряду духовных; и чем очевиднее это становилось, тем более крепли связи, идущие от его сердца и Колеса к Фреиру, и Беталиксу, и ко всем созвездиям. Из понимания рождалась уверенность, что Колесо несет в себе не только физическое наказание, но и — как свидетельствовала легенда — зарождение мудрости.
— Тяните! — кричал он опять и опять. — Тяните, святые и грешники!
С этой самой минуты он превратился в фанатика, мигом вскакивающего с койки и принимающегося за работу, едва раздастся призыв долгожданных труб. Он посылал проклятия тем, кто (в его воображении) поднимался со своего места не так споро, как он. Он проклинал тех, кто вообще не трудился у своих цепей, как трудился он сам. Он не понимал, почему время, отведенное для работы, так коротко.
Ночью — если только за пределами Колеса существовала ночь — Лутерин ложился спать и видел во сне медленно, со скрипом и хрустом вращающееся Колесо, подобно жерновам размалывающее жизнь людей в прах. Колесо не останавливалось ни на день, с тех пор как великие Архитекторы воздвигли его.
Вращение Колеса таило в себе горькую иронию. Узники, сидящие, подобно личинкам, каждый в своей камере по окружности Колеса, вынужденно влеклись сквозь гранитное сердце скалы. И лишь отдавшись этому жестокому путешествию, рьяно в нем участвуя, можно было надеяться выйти наружу. Только путем участия в этом путешествии можно было организовать вращение Колеса, которое означало свободу. Только проникая в утробу горы, возможно было выйти наружу свободным человеком.
— Тяните, тяните! — кричал Лутерин, напрягая все силы. Он думал о 1824 других заключенных, сидящих по своим камерам и вынужденных тянуть за свои цепи для того, чтобы выйти на волю.
Он ничего не знал о том, какие беды бушуют сейчас во внешнем мире. И о том, цепи каких событий положил начало. Он ничего не знал ни о тех, кто остался жить, ни о тех, кто умер. Мало-помалу, по мере того как теннер уходил за теннером, его разум наполнялся ненавистью к другим заключенным — некоторые из них были больны, а другие, может быть, умерли, — которые не могли тянуть Колесо в полную силу. Ему казалось, что он один тащит тяжесть Колеса на своих плечах, рвет сухожилия, что он один катит Колесо сквозь гранитную толщу к свету.
Прошло положенное количество теннеров, и миновал малый год. Изменились только царапины на наружной гранитной стене. В остальном все осталось прежним.
Однообразие завладело его еще незрелым рассудком. Теперь он уже не всегда вскакивал с места, когда над головой начинали греметь трубы священников, зов которых заглушала толща гранитного свода.
Постепенно мысли об отце отступили на задний план. Терзаясь чувством вины, он пришел к следующему убеждению: отец сам страдал от чувства неискупаемой вины и потому сам вложил в руку своего сына нож, а после вышел с ним на улицу, чтобы там встретить смерть. Это лицо с вечно лоснящейся кожей было маской подлинного страдания.
Довольно много времени прошло, пока он наконец решился посетить отца в пауке. Но эта мысль долго зрела в его мозгу, не давая покоя. На второй год своего одиночного заключения Лутерин улегся на койку и закрыл глаза. Он мало что знал о том, что теперь следует делать. Но постепенно состояние паука овладело им и он опустился вниз, во тьму более глубокую, чем сердце горы.
Никогда прежде ему не случалось нисходить в печальный мир духов, где все некогда живые, а теперь расставшиеся с жизнью, медленно тонули в жуткой тишине небытия. От потери ориентации у него закружилась голова. Поначалу он не двигался вниз со всеми; потом никак не мог остановить нисходящее движение. Он медленно погружался вниз, к искрам, поблескивающим, словно отражение звезд в сточной канаве, собранным в статичные созвездия, неподвижность которых была возможна только в мире мертвых.
Барка Лутериновой души продвигалась медленно, но непрерывно, скользя невидящим взглядом по рядам останков, просачивающихся вниз, к сердцу Всеобщей Прародительницы. При ближайшем рассмотрении все духи представляли собой нечто вроде опаленной домашней птицы, подвешенной для просушки. Сквозь грудные клетки, сквозь прозрачные животы просвечивали фрагменты окружающего, частицы, медленно кружащиеся, словно мухи в бутылке. В головах, лишь частично сохранивших форму, в пустых глазницах мигали крохотные огоньки. Повинуясь указанию, какого не дал бы ни один компас, душа Лутерина просочилась к духу Лобанстера Шокерандита.
— Отец мой, тебе достаточно сказать одно слово, и я уйду, я, который любил тебя больше всех и причинил тебе величайший вред.
— Лутерин, Лутерин, я ждал здесь, медленно погружаясь, продвигаясь к полному распаду и исчезновению, в единственной надежде увидеться с тобой. Кто в целом мире может более порадовать меня, чем ты? Как ты чувствуешь себя гостем в мире мертвых, дитя мое?
Последние слова, обратившись в облако поблескивающих частиц, растаяли в вечной тьме.
— Отец, не спрашивай обо мне, говори о себе. Моя душа никогда не освободится от преступления, которое я совершил. Мой ужасный проступок, страшный миг во дворе нашего поместья всегда будет преследовать меня.
— Ты должен простить себя, как я простил тебя, когда оказался, наконец, здесь. Мы принадлежали к разным поколениям, и мой разум не мог, да и до сих пор не может, понять тебя, тем более что пока ты не способен окинуть взглядом столь продолжительную историю человеческих дел, какой был свидетелем я. Но ты подчиняешься принципам, как и я. Это делает тебе честь.
— Однако я никогда не думал о том, что способен убить тебя, возлюбленный отец, — только олигарха.
— Олигарх бессмертен. На смену одному приходит другой.
Дух говорил, и из его рта, оттуда, где некогда помещались губы и язык, вылетали облачка тускло-блестящих частиц. Некоторое время частицы висели в небытии, потом медленно исчезали, как снежинки, тающие на черной угольной пыли.
Прах Лобанстера описал сыну, отчего вышло так, что он согласился возложить на себя бремя власти олигарха: он верил, что ценности Сиборнала достойны того, чтобы их сохранить. Отец говорил об этих ценностях, но много раз его рассуждения уходили в сторону.
Он рассказал о том, как держал свое высокое государственное положение в тайне от семьи. Долгие охотничьи вылазки были одной из уловок. В пустынном месте в горах, далеко от людских жилищ, у отца имелось тайное убежище. Там он до времени мог держать своих охотничьих собак, пока сам с небольшой охраной отправлялся в Аскитош. По дороге домой он забирал свору. Однажды вышло так, что старший сын Лобанстера обнаружил тайное укрытие для гончих и связал одно с другим. Но, предпочитая сохранить свое открытие в тайне, Фавин решил броситься со скалы.
— Ты легко можешь представить, какое горе овладело мной, сын. Лучше уж оказаться здесь, в обсидиане, в покое и безопасности, чем сносить такие жестокие удары судьбы, истязающие и плоть, и дух.
Эти слова тронули, но не убедили душу сына.
— Почему ты ничего не сказал мне, отец?
— Я полагал, что, когда придет время, ты сам обо всем догадаешься. Чуму необходимо было остановить, а людям следовало лучше понять, что означает для них повиновение. В противном случае под ударами долгих вековых морозов цивилизация попросту рухнет. Только укрепляясь этой мыслью, я мог неколебимо творить то, что творил.
— Уважаемый отец, как ты можешь говорить от имени всей цивилизации, когда на твоих руках кровь тысяч людей.
— Все эти люди здесь, со мной, сынок, солдаты армии Аспераманки. Представь себе, никто из них ни единым словом не выразил мне ненависти или обиды! Даже твой брат, который тоже здесь.
Душа произвела действие, соответствующее рыданиям.
— После смерти все представляется иначе и имеет другую ценность. Прежних чувств не остается, только благожелательность.
— А война, которую ты развязал против соседнего Брибахра, древнего города Раттагона, который был разрушен? Разве это не деяние чистой жестокости?
— Жестокость, но в пределах необходимого. Для меня самым коротким и быстрым путем в далекий Аскитош было повернуть на восток от Нунаата и быстро спуститься по брибахрской реке Джердалл — по реке, по которой пускаться в плавание гораздо безопаснее, чем по своенравной Венджи. Так я мог добраться до побережья никем не узнанный, в то время как в Ривенике меня наверняка бы узнали. Ты понимаешь, сын мой? Я рассказываю лишь для того, чтобы ты успокоился.
Сохранить анонимность олигарха было очень важно. Так значительно уменьшается вероятность покушения или возникновения соперничества между нациями. Но несколько дворян из Раттагона, сплавлявшихся по Джердалл вместе со мной, узнали меня. И, памятуя о враждебности между нашими странами, готовили разоблачение. Желая обезопасить себя, я первым нанес удар. И ты, любезный сын, должен учиться поступать так же, когда наступит твой черед. Защищай и береги себя.
— Никогда, отец.
— Что ж, у тебя еще очень много времени впереди, чтобы повзрослеть, — снисходительно сообщила мерцающая тень.
— Отец, но ты также нанес непоправимый удар нашей церкви.
Душа Лутерина помолчала. Нужно было взять себя в руки и умерить накал страстей, чтобы оказать уважение и добиться истины в беседе с этим словно бы прокопченным в дыму останком.
— Я хотел спросить: как ты думаешь, Бог когда-нибудь прислушивается к нам или говорит с нами?
Неподвижное пустое ротовое отверстие исторгло ответ.
— Мы, духи, пребывающие внизу, способны видеть и понимать, откуда приходят к нам наши гости. Я точно знаю, что ты, сынок, явился ко мне из сердца нашей национальной святыни. И я спрашиваю тебя: в недрах этого чистилища чувствовал ли ты, что Бог слушает тебя, слышал ли слова Бога, обращенные к тебе?
В глубине вопроса пробивалась тяжкая злоба, словно мука и печаль могли быть счастливы, только оповещая о себе всех вокруг.
— Если бы не мой грех, то, возможно, Бог и прислушался бы ко мне или заговорил бы со мной. Я верю в это.
— Будь на свете Бог, неужели ты думаешь, что все мы — а нас тут легионы — не слышали или не знали бы о нем? Оглянись по сторонам. Здесь нет ничего, только обсидиан. Бог есть величайшая ложь человечества — громоотвод, предназначенный для того, чтобы не рухнули великие истины мира.
Душе Лутерина показалось, что вокруг возникло ровное, но сильное течение, несущее ее к определенному, но неизвестному пока месту; ощущение, близкое к удушью.
— Отец, я должен оставить тебя.
— Подойди ближе, чтобы я мог обнять тебя.
Привыкший к послушанию Лутерин двинулся к прозрачному остову. Душа уже готова была протянуть вперед руки в привычном жесте благорасположения, но тут навстречу ей из очертаний духа вылетел поток частиц, мгновенно объявший ее, словно вихрь огня. Душа в испуге отпрянула. Сияние по сторонам от нее угасло. Лутерин вспомнил рассказы о том, что, прикрепляясь к душам живых, духи умерших и пресытившихся своей смертью могли менять свое местоположение, если это было им угодно.
Он пробормотал извинения и протест против сближения и медленно принялся подниматься сквозь обсидиан, и постепенно скопища духов и останков внизу превратились в угасающее звездное поле. Он вернулся в свое тело, без чувств раскинувшееся на койке в камере, и с некоторой неловкостью ощутил свое живое тепло.
Почти восемь лет отделяли его от того момента, когда его камера повернется дверью к выходному отверстию, еще целых три года — от той поры, когда камера достигнет отметки половины пути в самом сердце этой печальной горы.
Постепенно окружение изменилось. Отвращение Лутерина к себе мало-помалу ушло, ход мысли принял иное направление. Он обратился к расколу между церковью и государством. Предполагая, что этот раскол с давних пор усугублялся, можно было заключить, что по тем или иным причинам приток заключенных в Колесо сократился. Предположим дальше, что отбывшие десятилетний срок освобождались и выходили на волю, никем не замененные. Постепенно Колесо замедлялось. Во внутренностях Колеса оставалось все меньше людей, которые могли бы приводить его массу в движение. Несмотря на то, что мир все еще нужно толкать через пространство, Колесо в конце концов остановится. Он окажется замурованным внутри горы. Возможности вырваться на волю не будет.
Эта мысль преследовала его, словно желто-полосатая муха, даже в забытьи. Он не сомневался, что та же мысль преследовала и других заключенных. Но не стоило сомневаться и в том, что с той поры, как давным-давно Архитекторы сотворили Колесо, оно никогда не останавливалось; однако прошлое не было порукой надежности будущего. Он погрузился в некое промежуточное состояние, которое вряд ли можно было назвать жизнью, если вспомнить слова стариков: «В Сиборнале работают ради жизни, женятся ради жизни и живут ради жизни». Он готов был признать, что, исключая часть о женитьбе, поговорка родилась не где-нибудь, а внутри Колеса.
Он страдал без женщин и без мужской компании. Он пытался перестукиваться с соседями-страдальцами в камере впереди или сзади, но ему никто не ответил. После первого и единственного послания из наружного мира он больше не получил ни одной записки. Постепенно он перестал надеяться на то, что новая записка придет. О нем все забыли.
В завороженном однообразии молчания и работы его начала преследовать неотвязная мысль, связанная с некой загадкой. Из 1825 камер Колеса одновременно могли быть открыты для входа и выхода во внешний мир только две камеры, из одной преступник выходил, в другую входил. Каким образом Колесо загрузили пилигримами в самом начале его существования? Каким образом великаны, которые создали это устройство, привели его в движение?
Он пытался занять свой ум схемами из блоков, канатов, лебедок и подземной реки, поначалу превратившей Колесо в водяную мельницу. Но ни одна схема не давала ответ на загадку, который бы удовлетворил его.
Внутри горы даже сила воображения оказалась скованной пределами камеры.
Время от времени по полу камеры пробегал рикибак. Лутерин, довольный появлением гостя, ловил насекомое и осторожно держал его в руке, наблюдая за тем, как нежные лапки создания шевелятся в безуспешной попытке освободиться. Рикибак тоже отлично представлял себе свободу и определенно имел к этому предмету устойчивый интерес.
Гораздо более сложные существа, люди, выказывали гораздо большую неопределенность в этом вопросе.
Что за эфемерная боль заставляла человека заточить себя на огромный отрезок жизни внутри Великого Колеса? Действительно ли это был путь к самоосознанию?
Он задумался, сознает ли рикибак, что существует? Осознает ли самое себя? Попытки Лутерина понять крохотных существ, чтобы разделить с ними радость их крохотной частички свободы, привело к тому, что он почувствовал себя совершенно больным. Часами он лежал на полу камеры, глядя, как ползают крохотные создания, маленькие белые муравьи, микроскопические черви. «Если я умру, — думал он, — то только они будут тому свидетелями. Они ничего не поймут».
Наверняка много узников умерло за время пребывания внутри Колеса. Некоторые пожелали быть заточенными тут по своей воле, некоторых поместили сюда насильно. Возможно, часть заключенных вела, а после обманула мечта о бегстве от однообразия, мечта избавиться от суеты мира, которая — насколько Лутерин понимал астрономов — во многом определялась суетой Вселенной.
Что касается его самого, то для него однообразие камеры было равносильно смерти. Тут не существовало «вчера». «Завтра» — тоже. Его дух протестовал против такой изматывающей безысходности.
Днем вновь зазвучали трубы; он вскочил, бросился к внешней стене и схватился за ближайшую цепь. Продвижение Колеса сквозь скалу стало для него единственной осмысленной деятельностью. Каждый день машина продвигалась на 119 сантиметров, неся с собой своих обитателей сквозь тьму.
Больше он никогда не погружался в паук. Встреча с отцом в тихой обители тьмы сняла с его плеч груз вины. Через некоторое время он поймал себя на том, что больше не думает и не вспоминает об отце; или же если он и думал об отце, то вспоминал лишь искры, горящие в мире, расположенном за пределами досягаемости всех моральных законов.
Его отец, который всегда был для него настоящим героем, смелым охотником, вечно скитающимся со своими благородными друзьями в глуши лесов, исчез, словно никогда не существовал. Вместо отца — прежнего, ведущего свободную жизнь среди дикой природы, — появился другой человек, выбравший заточение на Ледяном Холме, в каменном суровом замке в Аскитоше.
Между жизнью убитого отца и собственной жизнью Лутерина существовала странная параллель. Лутерин тоже добровольно подверг себя заключению.
В третий раз за его жизнь время для него остановилось. Он провел год в неподвижности на пороге зрелости, потом в провале жирной смерти, после чего с ним случилась метаморфоза; теперь он угодил в безвременье Колеса. Понял ли он наконец, почему Харбин Фашналгид назвал его когда-то человеком системы? Какое последнее преображение поджидает его впереди?
Нужно еще узнать, сумеет ли он избавиться от влияния отца? Его отец, возглавлявший некогда систему, и сам пал ее жертвой, поскольку жертвой стала его семья. Лутерин вспомнил о матери, навсегда заключенной в родовом поместье: по сути дела с ней случилось то, что теперь с ним.
Годы шли, и образ Торес Лахл тускнел в его памяти. Свет ее присутствия становился все более слабым. Рабыня, она осталась для него только рабыней; как верно сказала его мать, преданность Торес была всего лишь преданностью рабыни, озабоченной только собой, берегущей только свою жизнь, ее верность — верностью, идущей не от сердца. Лишенная социального статуса — мертвая для общества, как говорят о рабах — она навсегда омертвела душой. Он понимал, что раб всегда хранит в душе ненависть к своему поработителю.
Теннеры и сантиметры уходили в прошлое, а образ Инсил Эсикананзи, напротив, рисовался в памяти все ярче. Узница в родном доме, пленница собственной семьи, она несла в себе искру неповиновения; под одеждами из бархата сердце билось удивительно сильно. Ее ответы всегда звучали насмешкой, мучая его и лишая покоя; и тем не менее в неравнодушии Инсил к его персоне и в ее неравнодушном понимании мира он находил утешение.
И едва начинали реветь трубы, он хватался за цепь.
Высоко в небе над Великим Колесом пролетала структура, отчасти схожая с ним. Земная станция наблюдения Аверн, чье существование также зависело от веры — от веры в точность настройки управляющих механизмов.
Но вера подвела. Общество матриархата, управляющее теперь немногочисленными уцелевшими людьми, полностью посвятило себя разыгрыванию сцен из жизни расщепленных личностей. Гигантские уродливые половые органы все до одного были изловлены и ритуально принесены в фатальную жертву — часто во имя не менее уродливых целей и замыслов. Однако стойкое отвращение ко всяким технологиям и механизмам привело к тому, что племена целиком посвятили себя поклонению духовному эвдемонизму, в котором доминировала сексуальная мотивация.
Понятие пола кануло в забвение без надежды на скорое воскрешение. В раннем детстве человек выбирал себе ряд мужских и женских личностей; иногда число их доходило до пяти. Все эти личности навсегда оставались совершенно чужими друг другу, говорили на разных диалектах, преследовали разные цели, вели различную жизнь. Случалось, что личности в одном человеке начинали враждовать или же совершенно безнадежно влюблялись друг в друга.
Некоторые личности умирали, а их физические носители продолжали жить.
Постепенно распад и разложение стали всеобщими, словно спутался и рухнул генетический код, определяющий наследование признаков.
Уменьшившееся население продолжало сложную игру. Но предчувствие конца уже витало в воздухе. Автоматические системы одна за другой выходили из строя. Дроны, запрограммированные на ремонт и восстановление разрушенных цепей, по большей части занимались собственным ремонтом и наладкой. Но тонкий ремонт и наладка требовали надзора человека, рассчитывать на что больше не приходилось.
Сигналы, отправленные к Земле, становились все более прерывистыми, менее упорядоченными. Очень скоро эти сигналы прекратятся полностью. Всего через несколько поколений.
Глава 16 Роковая невинность
В северном полушарии Земли стояло лето года, который мог бы именоваться 7583-м.
Компания любовников путешествовала в медленно движущемся домике с единственной комнатой. Рядом с ними так же медленно и лениво передвигались другие дома. Домики продвигались перед огромными геонавтами. Те держали путь к тропикам.
Иногда кто-нибудь из любовников перебирался из своей комнаты в другую. Всего перемещалось около дюжины домиков. Очень скоро геонавты должны были начать процесс размножения.
Мужчина по имени Трокерн говорил, то есть занимался тем, чем любил заняться во время послеполуденного отдыха, после окончания утренней сессии переосмысления. Как и другие присутствующие здесь мужчины и женщины, Трокерн был совершенно наг, если не считать легкой сетчатой повязки от солнца на голове.
Когда Трокерн — худощавый, с оливковой кожей — говорил, безразлично о чем, о серьезном или нет, на его губах то и дело возникала отстраненная улыбка.
— Если выводы, к которым я пришел во время утреннего переосмысления, верны, то странные люди, жившие в эпоху до ядерной войны, наверняка не понимали одного простого факта, который сейчас становится нам понятным. Они просто были недостаточно развиты, чтобы избавиться от того же типа территориального собственничества, что руководит сегодня птицами и животными.
Он обращался к двум сестрам, Шойшал и Эрмин, которые сейчас жили с ним в его домике. Сестры были очень похожи; но в Шойшал было больше ясности и целеустремленности, и она руководила сестрой.
— Но по крайней мере части старой расы удалось сбросить оковы ожесточенного стремления к землевладению, — сказала Эрмин.
— Но их считали чудаками, — ответил Трокерн. — Выслушайте мою теорию, благодаря которой, надеюсь, мы сможем понять, что обладание было для старой расы всем. Даже любовь — любовь — для них была политическим актом.
— Да, это было чрезвычайно распространено, — согласилась Шойшал. — На большей части земного шара один пол в ту пору доминировал над другим. Владел другим полом, как рабами.
— Не станем вдаваться в подробности, хотя вам хочется поспорить. Ведь были и общества, где секс превратился в чистое удовольствие, без духовного или личностного владения, где слово «свобода» было всем особенно дорого и где...
Трокерн покачал головой.
— Дорогая, ты лишь подтверждаешь мою точку зрения. Эти меньшинства восставали против доминирующих этносов, а в результате тоже полагали — поневоле — любовь политическим актом. «Освобождение» и «свободная любовь» были их лозунгами, что опять-таки давало им политическую окраску.
— Я не считаю, что они думали именно так.
— Им недоставало ясности сознания, чтобы вообще думать об этом. Отсюда их постоянное беспокойство. Мне кажется, даже войны они приветствовали как средство избежать личностной ограниченности...
Видя, что Шойшал готова возразить, он быстро продолжил:
— Да, я согласен, войны тоже связаны с территориальными спорами. Таким образом оспаривание владения распространялось на все, от земли до человеческой личности. Предполагалось, что вы должны гордиться своей родиной и сражаться за нее, так же как должны гордиться своей любовью и сражаться за нее. За свою жену, как они называли подруг. Можете себе представить, что я гордился бы вами или начал бы драться за вас?
— Это риторический вопрос? — отозвалась Эрмин, улыбаясь.
— Вот простой пример. Та одержимость, с которой старая раса относилась к праву собственности. Рабство было общим условием на Земле вплоть до периода Индустриальной Революции и в самом этом периоде. И много лет после Революции, в различных районах Земли. Практически то же самое мы видели на Гелликонии, где дела обстоят едва ли не хуже. Вам дается право власти над другим человеком — идея, практически находящаяся за пределами нашего понимания. Нам эти законы могут принести только несчастья. Но из этой истории хорошо видно, как хозяин раба сам попадает в рабство.
С этими словами Трокерн для пущей важности вскинул левую руку и повысил голос, отчего пожилой мужчина в соседней комнате, задремавший в жаркий полдень, проснулся, раздраженно пробормотал что-то, всхрапнул и перевернулся на другой бок.
— Но, милый, в мире было столько примеров общества без рабства, — возразила Шойшал. — И множество обществ, которые питали отвращение к этой идее.
— Они утверждали, что рабство им отвратительно — но при этом держали слуг, когда могли себе позволить, и поддерживали институт услужения столько, сколько могли. После люди заменили слуг андроидами. Официально нерабовладельческое общество изобретало сотни замен рабовладению... Чистое безумие.
— Они не были безумны, — ответила Шойшал. — Они просто были другие, не такие, как мы. В свою очередь, они бы нашли нас очень странными. Кроме того, то была заря человечества. Я уже довольно долго слушаю твои рассуждения, Трокерн, и не могу сказать, что нахожу их хоть сколько-нибудь интересными. Теперь послушай, что хочу сказать я.
Мы здесь благодаря невероятной удаче. Забудем про Руку Бога, о которой так любят вспоминать гелликонцы. Это просто везение. Я не говорю о той удаче, благодаря которой нескольким людям удалось пережить ядерную зиму — хотя и это счастье. Я имею в виду, что удачей можно назвать ряд космических превращений, через которые прошла Земля. Подумайте о маленьких заводах-растениях, которые наполнили кислородом атмосферу, прежде непригодную для дыхания. Вспомните случай, благодаря которому у рыбы возник позвоночник. Вспомните случай, позволивший млекопитающим сформировать плаценту — нечто, во много раз более удивительное, чем яйцо, хотя и яйцо для своего времени было великим достижением. Подумайте о бомбардировке Земли метеоритами, в результате чего климат изменился так резко, что динозавры погибли, а млекопитающие получили свой шанс. Я могла бы продолжать.
— Тебе всегда есть что сказать, — подала голос ее сестра, почти восхищенно.
— Наши старые юные предки ужасно боялись катастроф. Они боялись жить, полагаясь на удачу. Отсюда боги, и заборы, и супружество, и ядерное оружие, и все остальное. Не одержимость собственничеством, а обычный страх перед случаем. Постепенно охвативший всех. И они сами претворяют свои страхи в жизнь.
— Логично. Да. Я соглашусь, если только ты готова признать, что собственничество — один из симптомов этого страха перед случаем.
— Хорошо, Трокерн, раз ты так легко со всем соглашаешься, я скажу несколько слов и о сексе.
Они снова рассмеялись. За окном вперевалку, неуклюже продолжал свое странствие кочевой поселок, приводимый в движение потоками эгоства, излучаемого белыми многогранниками.
Эрмин положила руку на плечо сестры и погладила ее по волосам.
— Вот ты говорил, что один человек стремится обладать другим; как я догадываюсь, ты имеешь в виду прежний институт брака, который, возможно, был устроен подобным образом. И тем не менее супружество до сих пор кажется мне довольно романтичным.
— Романтичными кажутся многие убогие вещи, если смотреть на них через годы, — сказала Шойшал. — И когда глаза застилает дымка... Но супружество — отличный пример любви как политического акта. Здесь любовь просто притворство или в лучшем случае иллюзия.
— Я не понимаю, о чем ты. Ведь мужчины и женщины не обязательно должны были вступать в брак, верно?
— В основном браки заключали на добровольной основе, но существовало и давление общества, принуждающее вступать в брак. Иногда моральное давление, иногда экономическое. Мужчине нужен был кто-то, кто делал бы для него домашнюю работу и с кем можно было бы заниматься сексом. Женщинам нужен был кто-то, кто зарабатывал бы для нее деньги. Таким образом они объединяли свои способности.
— Какой ужас!
— Прочее же — романтические позы, — продолжала Шойшал, явно наслаждаясь собой.
— А как же страсть, как же любовные песни, сладкая музыка, литература, которую так чтили, самоубийства, слезы, клятвы — все публичное действо ухаживания, все приманки для ловушек, которые люди сами расставляли и в которые сами же попадались?
— Как ужасно это у тебя звучит!
— Ох, Эрмин, на самом деле все обстояло гораздо хуже, уверяю тебя. Не удивительно, что столько женщин выбирали удел проститутки... я хочу сказать, что брак был просто еще одной формой борьбы за власть: жена и муж сражались за превосходство в семье. В руках мужчины находились кнут и пряник материальных благ, а сила женщины, ее тайное оружие, скрывалась у нее между ног.
Они не выдержали и рассмеялись. Немолодой человек в соседней комнате, которого, кстати, звали СарториИрвраш, громко захрапел — скорее всего специально, из самозащиты.
— Твое оружие давным-давно перестало быть тайным, — заметил Трокерн.
Когда кочевой поселок оказывался слишком перенаселенным на чей-нибудь вкус, ему было нетрудно сменить геонавта и отправиться в другую сторону. Вокруг дрейфовало множество подобных городков, выбор был огромен. Некоторые предпочитали путешествовать долгим световым днем; другие отдавали предпочтение странствованиям по красивейшим местам; некоторым нравились только виды моря или пустыни. Везде на земном шаре были свои удовольствия.
Новый образ жизни этих людей и то, что доставляло им удовольствие, во многом отличало их от людей прежних. Новые земляне больше не были подвержены роковым страстям. Их гибкое и живое сознание подсказывало им, что правильно следовать скромным запросам, подчиняться без уступок Гайе, духу Земли, но не подчинять Гайю себе. Гайя тоже не желала властвовать над людьми, к чему некогда стремились их воображаемые боги. Люди стали частью этого земного духа. И еще приобрели способность к духовному прозрению.
Смерть перестала играть ведущую роль Инквизитора в людских делах, как это было когда-то. Теперь смерть стала лишь мелкой статьей в незначительной бухгалтерии, где стояло на балансе и человечество: Гайя была общей могилой, откуда регулярно вырастали новые всходы.
Было и измерение, где ощущалось влияние Гелликонии. Из зрителей мужчины и женщины постепенно превращались в участников. Картины чужой жизни поступали с Аверна все реже и гасли в похожих на воткнутые вертикально ракушки аудиториумах, а связи сопереживания крепли. В этом смысле человечество — человеческое сознание — преодолело пространство, чтобы стать глазами Всеобщей Прародительницы, позаимствовать силу у далеких собратьев на другой планете.
Что могло принести будущее этой форме духовного распространения человечеством своего сознания в космосе, трудно было предположить, оставалось только ждать.
Признав отведенную им роль удобной и достойной, земляне ступили в магический круг бытия. Они забыли свои старинные жадные желания. Весь мир принадлежал им, и они были частью этого мира.
Когда снаружи уже темнело, Эрмин сказала:
— Вот вы говорили о любви как о политическом акте. А ведь так мало нужно, чтобы привыкнуть к этому. Но было ли в укладе старого общества что-то, что страдало от разрушения брака? Кстати, как это называлось? ЯндолАнганол прошел через это? Ах да, развод. Такой удар по собственничеству, не правда ли?
— И по тем, кто считал себя обладателем детей, — прибавила Шойшал.
— Вот вам пример любви, заплутавшей в дебрях политики и экономики. Они просто не могли понять, что случайностей не избежать. Это был единственный каприз Гайи, в котором она решила проявить себя.
Трокерн выглянул к окошко и указал на геонавта.
— Я не удивлюсь, если Гайя прислала эти объекты для того, чтобы они завладели нами и вытеснили, сменив на лестнице эволюции, — сказал он с мрачной насмешкой. — В конце концов, эти существа много прекраснее и функциональнее нас — взять хотя бы их скорость размножения и невозмутимость.
На небе появились звезды, и троица выбралась из медленно движущегося домика и зашагала рядом. Эрмин взяла своих спутников за руки.
— Пример Гелликонии показывает нам, сколько жизней в прежние времена приносили в жертву жажде обладания территорией и собственничеству влюбленных. И никто не обращал внимания на то, что в конце концов это убивало любовь. Хватило одной-единственной ядерной зимы, чтобы раса людей избавилась от этого наваждения. Мы поднялись на высший уровень жизни.
— Интересно, что еще подстерегает нас впереди, о чем мы еще не знаем, какой наш недостаток? — спросил Трокерн и рассмеялся.
— Ну, с тобой все ясно, — язвительно сказала Эрмин. Мужчина куснул ее за ухо. В своей комнате заворочался СарториИрвраш и что-то проворчал, словно в знак одобрения, словно он и сам был не прочь отведать эту розовую мочку. Он проснулся час назад и уже почти решил выбраться наружу, чтобы насладиться тропическими сумерками.
— Вот о чем я подумала в этой связи, — сказала Шойшал, взглянув на звезды. — Если моя теория случайности хоть в чем-то верна, из нее можно понять, отчего в старые времена люди так и не сумели найти разумную жизнь нигде, кроме Гелликонии. Гелликония и Земля похожи, им просто повезло. Мы порождение цепочки случайностей. На других планетах все происходило на основе геофизического плана. В итоге ничего не случалось. Нет истории, рассказывать не о чем.
Они стояли, глядя вверх на бесконечность неба.
Сказанное Трокерн пропустил мимо ушей.
— Глядя на простор галактики, я всегда испытываю несказанное блаженство. Всегда. С другой стороны, звезды всегда напоминают мне о чудодейственной сложности и завершенности органического и неорганического миров, низводящихся к нескольким физическим законам, в своей благословенной простоте внушающим восторг...
— И тем более ты счастлив оттого, что звезды неизменно дают тему для рассуждения... — в тон подхватила одна из сестер.
— С другой стороны, дорогая... О, я счастлив оттого, что я сложнее червя или мухи и благодаря этому способен читать и видеть прекрасное в физических законах.
— Опять старая песенка о Боге, — подала голос Шойшал. — Ты все время пытаешься понять, есть ли хоть капля смысла в этих россказнях. Возможно, правда в том, что Бог просто старый ворчун и ты ждешь не дождешься известия о его смерти...
— ...или в том, что он удалился для размышлений на планету пустынь...
— ...или для того, чтобы пересчитать там все песчинки...
Рассмеявшись, они бегом бросились догонять свое жилище.
* * *
Шли годы. Все было просто. От заключенного требовалось одно: тянуть за цепь, и годы уходили один за другим. Колесо катилось сквозь полные звезд небеса.
Отчаяние сменилось смирением. Очень нескоро смирение сменила надежда, грянула, словно фанфары, словно рассвет.
Стиль и тон рисунков и надписей на направляющей внешней стене изменились. Появились рисунки обнаженных женщин, надписи, полные упований и хвастовства, — о внуках, страх за жен. Были календари отсчитывающие в обратном порядке годы; числа росли с каждым минувшим теннером.
А кроме того, оставались и надписи, связанные верой, повторявшиеся с одержимой настойчивостью на каждом метре стены до тех пор, пока через несколько теннеров автор наконец не выдохся. Одна из таких надписей произвела на Лутерина особое впечатление, заставив надолго задуматься: «ВСЯ МУДРОСТЬ МИРА СУЩЕСТВОВАЛА ВСЕГДА. ТОЛЬКО ИСПИВ МУДРОСТИ, ТЫ МОЖЕШЬ ЕЕ УВЕЛИЧИТЬ».
И снова он тянул за цепи вместе с незримыми товарищами, над ним ревели трубы, и Колесо скрипело на своих зубцах и катках, пока наконец Лутерин не заметил, что его камера осветилась чуть ярче обычного. Он продолжал трудиться. С каждым часом Колесо продвигалось на добавочные 10 сантиметров вперед, и с каждым часом света прибавлялось. Мало-помалу в каменную келью входили желтые сумерки.
Ему показалось, что он попал в рай. Сбросив меха, он схватился за десятизвенную цепь и принялся тянуть с удвоенным рвением, криком призывая своих невидимых товарищей сделать то же самое. На исходе двенадцатичасового периода работы близ передней части стены появилась заметная освещенная щель. Камеру заполнила священная субстанция, мерцающая и переливающаяся в дальнем углу помещения. Лутерин упал на колени и закрыл глаза, рыдая и смеясь.
Когда период труда закончился, щель у передней стены осталась. Щель была шириной 240 миллиметров — пройдет половина малого года, и выход из камеры Лутерина снова окажется перед дверью из монастыря Бамбек. Он заметил соответственную надпись на граните, гласящую: «МИР ОТДЕЛЯЕТ ОТ ТЕБЯ ПОЛОВИНА ГОДА: ДУМАЙ, КАКУЮ ВЫГОДУ ТЫ МОЖЕШЬ ИЗВЛЕЧЬ ИЗ ЭТОГО».
В скале было вырублено глубокое окно. Далеко ли простиралось это окно, прежде чем превратится в окно во внешний мир, понять было трудно. Дальний конец окна был забран решеткой. За решетками виднелись деревья, каспиарны, клонящиеся под порывами ветра.
Лутерин бесконечно долго смотрел на эти деревья, потом пошел к койке и опустился на нее, переживая красоту зрелища. Окно было отчасти засыпано щебнем. Сквозь оставшуюся щель лился драгоценный свет, наполняющий дальний угол камеры чудесным сиянием и превращающий его в кусочек рая. Свет всего мира, казалось, благословенно вливался в голову Лутерина. Он создавал невероятно глубокие и разнообразные тени, придающие каждому углу более чем скромной камеры очертания полутонов такой степени, которые не только никогда раньше не были свойственны ей, но которых он никогда раньше не наблюдал в мире свободы. Он снова вкушал экстаз существования.
— Инсил! — выкрикнул он в сумерки. — Я возвращаюсь!
На следующий день он совсем не работал, но наблюдал за тем, как животворное окно движется вдоль внешней стены. На следующий день он снова отказался тянуть за цепи, и окно снова передвинулось и почти полностью исчезло. Но даже небольшого оставшегося зазора хватило для того, чтобы пропустить в его темницу достаточное количество благодатного света. Когда на четвертый рабочий день даже эта щель исчезла — разумеется, для того, чтобы очаровать узника следующей камеры, — Лутерин почувствовал себя несчастным.
Начался период сомнений. Страстное стремление оказаться на свободе сменил страх перед тем, что он там обнаружит. Что Инсил могла сделать с собой? Могла ли она навсегда покинуть столь ненавистное место?
А мать? Вдруг она уже умерла — ведь прошло столько времени. Он воспротивился порыву погрузиться в паук и узнать наверняка.
И Торес Лахл. Что ж, он успел ее освободить. Возможно, она просто вернулась в родной Борлдоран.
Какова теперь политическая ситуация? Кто занял пост олигарха, и как он проводит в жизнь указы прежнего олигарха? Убивают ли, как прежде, фагоров? Продолжается ли борьба между церковью и государством?
Он задумался о том, как к нему отнесутся, когда он выйдет наконец на волю. Возможно, его сразу схватят и все равно казнят. Вопрос был старый как мир: до сих пор, по прошествии десяти малых лет, не было известно, кто он на самом деле, святой или грешник. Герой или преступник? Само собой, путь к посту Хранителя Колеса ему теперь закрыт.
Он начал вести разговоры с воображаемой женщиной, достигая в этих монологах необыкновенного согласия, проявляя красноречие, которое никогда прежде не было ему свойственно, никогда — лицом к лицу с собеседником.
— Что за жизнь у людей, настоящий лабиринт! Гораздо проще быть фагором! Эти создания не знают мучений надежд. Когда ты молод и юн, то тешишь себя несбыточной надеждой на то, что рано или поздно обязательно произойдет что-то чудесное. Потом ты наследуешь ограниченные надежды своих родителей, встречаешь прекрасную женщину, стараешься стать прекрасным для нее.
В то же самое время.
В то же время ты чувствуешь, что во всей массе случайных возможностей, в чаще противоречивых мнений есть что-то живое, что возможно узнать — узнать и понять. И ты, вне всякого сомнения, со временем это узнаешь и преобразуешь тайну в связные понятия. И потому естественная жизнь человека — средоточие мира — возникает из дымки в сиянии чистого света, в картине полного понимания.
Но на самом деле не все так ясно. И коль скоро это не так, откуда возникает мысль, чтобы мучить и раздражать нас? Все годы, что я провел тут, все мысли, что пронеслись в моей голове, — все это ушло...
И он сильными руками хватался за конец короткой цепи, одной из бесчисленного ряда цепей. Отсчет дней по каменным календарям убыстрялся. Приближался прежде невообразимый день, когда он должен будет оказаться на свободе среди других человеческих существ. Что бы ни случилось, молился он богу Азоиаксику, пусть ему снова доведется вкусить любовь женщины. В его воображении Инсил больше не была далекой.
С севера дул ветер, принося с собой частицы вечной ледяной шапки. Мало что могло уцелеть на пути этого ледяного дыхания. Даже жесткие листья каспиарнов, когда дул ветер, заворачивались вокруг стволов наподобие парусов.
Долины были засыпаны снегом, росли высокие сугробы. Год за малым годом свет угасал.
К часовне короля ЯндолАнганола теперь был выстроен крытый проход. Проход был грубо укреплен упавшими сучьями и валежником, но свое назначение выполнял надежно, предохраняя тропу от снега до самой утонувшей в сугробах двери.
Впервые за много веков в этой часовне жили. В углу у небольшой печки сидели двое, женщина и мальчик. Женщина следила за тем, чтобы дверь всегда была заперта на засов, и закрывала ставни на окнах так, чтобы снаружи не было видно, что в печи горит огонь. У нее не было никакого права находиться здесь.
Вокруг часовни она расставляла капканы, которые нашла ржавеющими в одном из углов часовни. В ее ловушки попадались небольшие зверьки, и пищи хватало. Только в самых редких случаях она позволяла себе показаться в деревне Харнабхар, хотя там она уже давно сдружилась с хозяином лавочки, торгующим рыбой, которую везли издалека, от моря — проходимой для саней древней тропой через горы, по которой она когда-то приехала сюда сама.
Она научила своего сына читать. Она писала в пыли буквы, потом подводила сына в стенам, где мальчик мог увидеть начертанные буквы различных текстов. Она объясняла ему, что буквы и слова суть символы идеальных вещей, многих из которых не существует и не существовало никогда. Она хотела за чтением внушить мальчику мораль и выдумывала для него забавные истории, над которыми они смеялись вдвоем.
Когда ребенок засыпал, она сама читала надписи на стенах.
Она постоянно думала о том, что привело сюда первого хозяина этой часовни, жителя города Олдорандо. Их жизни пересеклись странным образом, через многие мили и века. Он удалился сюда в изгнание, чтобы понести наказание за свои грехи и преступления. Потом, в конце жизни, к нему присоединилась странная женщина из Димариама, далекой страны Геспагорат. Король и его спутница оставили документ, который Торес читала часами. Иногда ей казалось, что рядом с собой она ощущает беспокойный дух короля.
Шли годы, и вот уже она рассказывала эту историю подрастающему сыну:
— Проклятый король ЯндолАнганол принес много зла стране, где родилась твоя мать. Он был верующим человеком, но убил свою веру, и с этим ужасным противоречием не смог жить дальше. Поэтому он пришел в Харнабхар и служил здесь в Колесе десять лет, как теперь служит твой отец.
Прежде чем отправиться сюда, ЯндолАнганол оставил на родине двух королев. Наверное, он был очень злой, но здесь, в Сиборнале, его считают святым.
После того, как он вышел из Колеса, с ним поселилась женщина из Димариама, о которой я говорила тебе. Как и я, она была врачом. Но, как бы сказать, и не только: например, она занималась торговлей. Ее звали Иммия Мунтрас, и, услыхав зов веры, она отправилась на поиски короля. Возможно, она стала утешением старику. Она заботилась о нем. Она была хорошим человеком.
Мунтрас обладала знанием, которое считала драгоценным. Видишь, вот здесь она все записала, слово в слово, во времена Великого Лета, когда людям казалось, что грядет конец света, точно как теперь.
Эта госпожа Мунтрас что-то знала о человеке, который прибыл в Олдорандо из другого мира. Это кажется невозможным, но я видела в жизни столько удивительного, что теперь готова поверить всему. Останки дамы Мунтрас теперь лежат у входа в часовню рядом с останками короля. А вот ее записи.
Человек из другого мира рассказал ей о чуме. Чужеземец сказал, что жирная смерть — необходимая болезнь, что у тех, кто выжил, меняется обмен веществ, чтобы они могли пережить Зиму. Без подобных изменений метаболизма человечество не сможет пережить лютые холода Вейр-Зимы.
Переносчики чумы — вши, которые живут на фагорах и могут попадать с двурогих на людей. Укуса вши достаточно, чтобы заразить человека чумой. Но только от чумы происходит метаморфоза тела. Значит, без фагоров нам не пережить Вейр-Зиму.
Это знание дама Мунтрас несколько веков назад старалась распространить в Харнабхаре. И все равно тут убивают фагоров, и государство делает все, что только в его силах, чтобы сдержать чуму. Лучше было бы стараться расширить познания в медицине и изобрести новые лекарства, чтобы люди, заразившиеся чумой, могли бы выжить.
Так, бывало, говорила она, а сама рассматривала в полутьме лицо сына.
Мальчик слушал. Потом играл с драгоценностями, оставшимися в сундуках, ранее принадлежавших проклятому королю.
Однажды вечером, когда мальчик играл, а его мать читала, в дверь часовни постучали.
Подобно медленно текущим временам Года, Великое Колесо Харнабхара всегда завершало свой круг.
Для Лутерина Шокерандита это означало, что Колесо наконец совершило полный оборот. Его камера, его обитель наконец обратилась к выходу. Стена толщиной всего 0,64 метра отделяла его камеру от камеры впереди, куда только что вошел доброволец, решившийся обречь себя на 10 лет тьмы и однообразного плавания Гелликонии к свету.
Во тьме ожидали стражи. Они помогли Лутерину выбраться из места его заключения, но сразу не отпустили его, а осторожно повели вверх по винтовой лестнице. Свет постепенно разгорался; Лутерин задохнулся и зажмурился от яркого света.
Его поместили в небольшую комнату внутри монастыря Бамбек. На некоторое время он остался один.
Вошли две рабыни, осторожно, украдкой поглядывая на него. За рабынями вошли рабы, они принесли ванну для купания и горячую воду, а также серебряное зеркало, полотенце, бритвенные принадлежности и чистую одежду.
— Все это посылает вам в знак внимания Хранитель Колеса, — сказала одна из рабынь. — Не каждому гребцу перепадает такая милость, уж будьте уверены.
Когда запахи трав и притираний достигли ноздрей Лутерина, он наконец понял, как нестерпимо воняет его одежда, как глубоко впитался метановый дух Колеса в его тело. Он позволил женщинам снять с него истрепавшиеся меха. Рабыни отвели его в ванну. Он лежал в теплой воде и наслаждался, пока его тело омывали. Ему казалось, что он умер.
После его вытерли и напудрили, а затем облачили в чистую новую одежду из теплой плотной материи.
Потом Лутерина подвели к окну, чтобы он выглянул наружу, и свет едва не ослепил его.
Он смотрел на городок Харнабхар с огромной высоты и видел домики, по крыши засыпанные снегом. Единственным, что двигалось, были сани, влекомые тремя лойсями, да птицы, кружащие в небе над головой, словно решившие увековечить смысл Колеса.
На первый взгляд все выглядело благополучно. Снежная буря утихла, на юге ветер разогнал облака, открыв островки голубого неба. Было очень ясно. Слишком светло. Он отвернулся, прикрыв рукой глаза.
— Какое сегодня число? — спросил он женщин.
— Год на дворе 1319, а завтра наступит Мирквир. Теперь вам следует побриться, и тогда вы точно на тысячу лет помолодеете.
Его борода росла во тьме подобно плесени. Она была пронизана сединой и доходила до пояса.
— Сбрейте бороду, — велел он. — Мне нет и двадцати четырех. Я еще молод, ведь так?
— Я слышала о людях постарше вас, — ответила женщина, подходя к нему с ножницами.
После его отвели к Хранителю Колеса.
— Просто формальная аудиенция, — сказал Лутерину прислужник, провожая его по лабиринтам монастыря. Лутерину нечего было сказать на это. Количество накопленных им впечатлений превышало способность восприятия; он не мог не думать о том, что когда-то считал себя наследником звания Хранителя Колеса.
Он молчал и тогда, когда его ввели в помещение, которое показалось ему огромным залом. Хранитель сидел в деревянном кресле, по обе стороны стояла пара мальчиков в одеждах духовных лиц. Дигнитарий жестом приказал Лутерину приблизиться.
Щурясь от яркого света, тот осторожно пересек освещенное пространство, пораженный количеством шагов, которые пришлось сделать, чтобы оказаться перед Хранителем.
Хранитель оказался внушительным человеком в пурпурных одеждах. Его лицо, казалось, вот-вот лопнет. Как и одежды, оно, испещренное жилками, ползущими по щекам и носу, словно лозы винограда, было пурпурным. Глаза Хранителя слезились, в уголках рта собиралась слюна. Лутерин позабыл, что на свете бывают такие лица, и рассматривал его с любопытством, пока лицо изучало его самого.
— Поклонись, — прошипел один из мальчиков, и он поклонился.
Хранитель заговорил глухим клокочущим голосом:
— И вот ты снова среди нас, Лутерин Шокерандит. Прошло десять лет, и все это время церковь заботилась о тебе — иначе твои враги бросили бы тебя в тюрьму в наказание за отцеубийство.
— И кто же они, мои враги?
Слезящиеся глаза оказались зажатыми между складками век.
— О, у убийцы олигарха враги найдутся везде, явные и тайные. Но чаще всего эти враги оказываются и врагами церкви. Так что мы смогли сделать для тебя то, что сделали. Кроме того, у нас было чувство... что мы у тебя в долгу.
Хранитель усмехнулся.
— Мы поможем тебе уехать из Харнабхара.
— Но я не собираюсь уезжать из Харнабхара. Здесь мой дом.
Пока он говорил, слезящиеся глаза смотрели на губы Лутерина и ни разу не встретились с его глазами.
— Ты можешь и передумать. А теперь ты должен доложиться Владетелю Харнабхара. Когда-то — ты, верно, помнишь — Владетель и Хранитель Колеса располагались в одном месте. Теперь, после того как между церковью и государством произошел раскол, они расположены в разных местах.
— Владыка, могу я спросить?
— Спрашивай.
— Мне еще нужно многое понять... Кем считает меня церковь, святым или грешником?
Чтобы ответить, Хранителю пришлось откашляться.
— Церковь не может оправдать отцеубийство, поэтому я думаю, что ты признан грешником. Как же иначе? Возможно, за десять лет, проведенных в Колесе, ты искупил свой грех... В то же время лично я, говоря между нами... я хочу сказать, что ты избавил мир от величайшего злодея, поэтому сам я считаю тебя святым.
Хранитель рассмеялся.
«Значит, могут быть и тайные враги», — подумал Лутерин. Поклонившись, он повернулся и пошел прочь, но Хранитель окликнул его, приказывая вернуться.
Хранитель поднялся на ноги.
— Так ты не узнал меня? Я Хранитель Колеса Эбсток Эсикананзи. Эбсток — старый друг. Когда-то ты собирался жениться на моей дочери, Инсил. Как видишь, я занял довольно значительный пост.
— Если бы отец остался жив, ты никогда бы не занял пост Хранителя.
— Кого же мне винить? У нас с тобой одна причина чувствовать благодарность.
— Благодарю вас, владыка, — отозвался Лутерин и покинул августейшее общество, взволнованный замечанием по поводу Инсил и полный мыслей о ней.
Он понятия не имел, куда ему придется отправиться, чтобы доложиться Владетелю Харнабхара. Но Хранитель Эсикананзи уже все устроил. Лутерина ожидал ливрейный раб с санями, на которых меховой полог защищал седока от холода.
От скорости у него захватило дух, а от звона колокольчика на упряжи закружилась голова. Едва сани тронулись, он крепко зажмурил глаза и не открывал всю дорогу. По сторонам раздавались голоса, похожие на пение птиц, полозья скрипели по льду, навевая какие-то воспоминания — он не мог понять о чем.
Воздух пах горечью. Насколько он успел разглядеть Харнабхар, пилигримов тут больше не было. Дома стояли с закрытыми ставнями. Все, казалось, уменьшилось и сгорбилось по сравнению с тем, что он помнил. Кое-где в верхних окнах горел свет — в жилых домах и в лавках, которые еще работали. Его глаза болели от света. Он откинулся в санях, кутаясь в мех, вспоминая Эбстока Эсикананзи. Он знал этого ворчуна и отцовского приятеля с самого детства, но ему никогда не приходилось сталкиваться с ним близко, говорить по душам; Эбсток должен был пуще других печалиться о судьбе своей дочери Инсил.
Сани заскрипели и остановились, колокольчики весело звякнули. Их тонкие голоса тонули в звоне большего колокола.
Он заставил себя открыть глаза и оглядеться.
Они проехали сквозь огромные ворота. Он узнал и ворота, и домик сторожа у ворот. За этими воротами он родился. По обе стороны от дороги громоздились теперь трехметровые сугробы. Должно быть, теперь они проезжали — да, конечно — через Виноградник. Впереди уже показалась крыша знакомого дома. Колокол, голос которого невозможно было забыть, звенел неумолчно.
Шокерандит погрузился в теплые воспоминания о тех днях, когда, еще мальчик, волоча за собой небольшие санки, бежал к парадной лестнице. На вершине лестницы стоял отец, в ту пору остававшийся дома, и улыбался, протягивая к нему руки.
Сейчас у парадных дверей стоял вооруженный часовой. Саму дверь на треть закрывала небольшая будка, где часовой прятался от холода. Часовой стукнул кулаком к дверь, раб открыл двери и занялся Лутерином.
В прихожей без окон на стенах горели газовые рожки, создаваемые пламенем нимбы отражались в полированном мраморе. Он немедленно отметил, что огромное, вечно пустое кресло унесли.
— Мать здесь? — спросил он раба. Раб молча вскинул голову и повел Лутерина к лестнице. Стараясь подавить всякие чувства, тот сказал себе, что должен был стать Владетелем Харнабхара — и Хранителем.
В ответ на стук раба голос пригласил его войти. Лутерин вошел в старый кабинет отца. В прежние годы он постоянно был заперт, и входить туда воспрещалось.
При появлении Лутерина старая серая гончая, у камина, подняла голову и спросонья тявкнула. В камине за решеткой шипели и трещали смолистые поленья. В кабинете пахло дымом, собачьей мочой и чем-то вроде пудры. За толстым стеклом окна лежали сугробы и раскинулся бесконечный немой мир.
Навстречу вышел седой секретарь; его стан с годами утратил гибкость, что придавало старику сходство с жестким сучком, способным, однако, к ходьбе. Приветственно пожевав губами, секретарь без ненужных проявлений любезности предложил Лутерину стул.
Лутерин сел. Его взгляд медленно блуждал по комнате, где по-прежнему было полно отцовских вещей. Взять хотя бы старинное кремневое ружье или огниво, картины и подносы, карты, медную лампу, астрономические инструменты. Моль и древесный червь хорошо потрудились над мебелью в кабинете. На столе секретаря стояло блюдце с засохшим куском пирога, вероятно, принесенным сюда еще накануне.
Секретарь опустился за стол и поставил локоть рядом с тарелкой с пирогом.
— Сейчас хозяин занят — близится церемония Мирквира. Но он должен скоро прибыть, — сказал секретарь. Потом, помолчав, кивнул и добавил, внимательно присматриваясь к Лутерину:
— Кажется, вы не узнаете меня?
— Здесь слишком яркий свет.
— Я прежний секретарь вашего отца, Эванпорил. Теперь я служу новому Владетелю.
— Вы скучаете по моему отцу?
— Трудно сказать, наверно, нет. И тогда, и теперь я просто выполнял административные обязанности.
Секретарь принялся разбирать бумаги на столе.
— Моя мать по-прежнему здесь?
Секретарь быстро взглянул на него.
— Да, здесь.
— А Торес Лахл?
— Мне неизвестно это имя, сударь.
Тишину в комнате нарушал только сухой шелест бумаг. Лутерин задумался, потом, когда дверь внезапно открылась, поднялся. Позвякивая поясным колокольчиком, в кабинет вошел высокий худой человек с узким лицом и черными усами. Запахнутый в плотный черный с коричневым плащ, он остановился, глядя на Лутерина сверху вниз. Лутерин принялся рассматривать незнакомца в ответ, гадая, кто он — явный или неявный враг.
— Что ж... вот ты и вернулся в мир людей, где, уходя, успел устроить немалый переполох. Добро пожаловать. Олигархия назначила меня сюда Владетелем — на должность, далекую от моего прежнего церковного сана. Я — глас государства в Харнабхаре. Климат ухудшается, а с ним ухудшается сообщение с Аскитошем. Как ты, возможно, уже заметил, нам поставляют провиант из Ривеника, в остальном военные связи несколько... ослабли...
Человек продолжал говорить, поскольку Лутерин не отвечал, а явно имел намерение слушать.
— Мы позаботимся о тебе, хотя не думаю, что тебе будет удобно жить в этом доме.
— Это мой дом.
— Нет. У тебя больше нет дома. Это дом Владетеля и всегда им был.
— Но благодаря моему поступку вы заметно разбогатели.
— Если говорить об имуществе, то да, это правда.
Повисла тишина. Секретарь принес бокалы с йядахлом. Лутерин взял один из бокалов, поразился глубине розового свечения напитка, но пить не смог.
Владетель, продолжая неловко стоять, одним глотком осушил половину бокала, выдав свою нервозность. Потом проговорил:
— Да, конечно, ты долгое время был оторван от мира. Значит, ты не узнаешь меня; верно?
Лутерин не ответил.
Досадливо хмыкнув, Владетель продолжил:
— Прародительница, ты не очень-то разговорчив, верно? Когда-то давно я был твоим военачальником, архиепископом-военачальником. Мое имя — Аспераманка. Я полагал, солдаты не забывают своих боевых командиров!
Тогда Лутерин заговорил:
— Ах, Аспераманка... «Пусть потеряют немного крови!»... да, теперь я вас узнаю.
— Невозможно забыть, как твой отец, возглавлявший в ту пору олигархию, приказал уничтожить мою армию ради того, чтобы удержать чуму за границами Сиборнала. Мы с тобой среди тех немногих, кому удалось избежать смерти.
Аспераманка пригубил йядахл и прошелся по комнате. Теперь Лутерин узнал даже обычную гневную складку бровей военачальника.
Лутерин поднялся.
— Я хотел бы спросить. Кем считает меня государство, святым или грешником?
Ногти Владетеля забарабанили по стеклу.
— После того как твой отец... умер, последовал период смуты в различных частях Сиборнала, населенных разными народами. С тех пор законы ужесточились — появились новые, которые должны провести нас через Вейр-Зиму, — но в ту пору все обстояло немного иначе. Сказать по правде, в тут пору народы испытывали особое чувство к олигарху Торкерканзлагу Второму. Его законы не пользовались... особой популярностью.
Поэтому олигархия распустила слух — по моему наущению, — будто тебе было поручено убить отца, чьи действия начинали выходить из под контроля Совета. К этому также добавляли, что ты уцелел во время бойни у Кориантуры лишь потому, что с самого начала был агентом олигархии. Благодаря таким слухам твоя популярность существенно возросла, и мы смогли преодолеть разброд и шатания.
— Значит, вы окружили мое преступление ложью?
— Мы просто использовали твой бесполезный и отчаянный поступок. Одним из итогов было вот что: государство официально объявило тебя... можно сказать, что и «святым», почему нет? — но точно героем. Твое имя обросло легендами. Хотя сам я всегда считал тебя грешником чистой воды. Для таких случаев мне достаточно моих прежних религиозных убеждений.
— И благодаря своим религиозным убеждениям вы сумели найти себе теплое местечко в Харнабхаре?
Аспераманка улыбнулся и потянул себя за усы.
— Я очень скучаю по Аскитошу. Но открылась вакансия — место Владетеля в провинции — и я принял должность... Как человек-легенда, как герой исторических книг, ты должен принять мое гостеприимство на одну ночь. Как гость, не как узник.
— А моя мать?
— Она здесь. Она больна. Она вряд ли теперь узнает тебя, так же как ты не узнал меня. Поскольку в Харнабхаре ты в своем роде герой, я хотел бы, чтобы завтра ты посетил со мной церемонию Мирквира, где будет присутствовать и Хранитель. Люди должны видеть, что мы не причинили тебе вреда. Будет устроен пир.
— Вы хотите меня немного откормить...
— Не понимаю. После церемонии мы сделаем для тебя все, о чем ты попросишь. Советую тебе отправиться из Харнабхара в ближайшую к столице провинцию и поселиться там.
— Хранитель тоже мне это советовал.
Он пошел навестить мать. Лорна Шокерандит лежала в постели, худая и неподвижная. Как и предупреждал Аспераманка, она не узнала сына. В ту ночь Лутерину снилось, что он по-прежнему в Колесе.
Следующий день начался с большого переполоха и звона колоколов. Непривычный запах еды достиг комнаты, где спал Лутерин. Он узнал ароматы блюд, отведать которые когда-то мечтал. Теперь же он мечтал о той скромной трапезе, к которой привык, о той пище, которую спускали к нему по узкому колодцу в гранитной стене Колеса.
Пришли рабы, чтобы помочь ему умыться и одеться. Он послушно делал то, о чем они просили.
В большом зале собралось много незнакомых Лутерину людей. Глядя на собравшихся из-за флагов, он не мог заставить себя выйти к ним. В зале царило сильное возбуждение. Поднявшись к Лутерину по ступенькам, Владетель Аспераманка взял его за руку и проговорил:
— Ты, кажется, не рад. Что я могу сделать для тебя? Для всех нас важно, чтобы сегодня ты был доволен.
Собравшиеся в зале принялись один за другим выходить наружу, где звенели колокольчики саней. Лутерин не мог заставить себя говорить. Он слышал вой ветра, как когда-то в Колесе.
— Хорошо, по крайней мере мы можем поехать вместе, и люди увидят, что мы друзья. Мы поедем в монастырь, где встретимся с Хранителем и его женой, а также со многими влиятельными лицами Харнабхара.
Аспераманка говорил что-то еще, очень оживленно, но Лутерин не слушал, сосредоточившись на том, чтобы спуститься по ступеням в зал, что превратилось для него в сложную задачу. Только когда они оказались снаружи и к ним подкатили сани, Владетель вдруг быстро спросил:
— Надеюсь, у тебя нет при себе оружия?
Лутерин покачал головой, они забрались в сани, и рабы заботливо укутали их мехами. И сани понеслись вперед между возвышающимися утесами сугробов.
Потом они повернули на север, ветер дохнул им в лицо, и двадцатиградусный мороз словно ударил еще сильнее.
Но небеса оставались чистыми, и, когда Лутерин с Владетелем ехали через притихший городок, стала видна огромная несимметричная масса, нависшая над горой Харнабхар.
— Это Шивенинк, третий по высоте горный пик на планете, — сказал Аспераманка, указывая на гору. — Что за провинциальная дыра! — он с отвращением фыркнул.
На минуту стали видны огромные, изрезанные голые склоны горы; потом видение снова пропало, и мрачный призрак, нависший над городком, погрузился в тучи.
По извилистой тропе сани доставили пассажиров к воротам монастыря Бамбек. Слуги помогли седокам выбраться из мехов. Рабы отворили врата, и прибывшие оказались в просторном зале, где уже собралось немало людей солидного вида.
Под взглядами окружающих они поднялись на несколько пролетов лестницы. Лутерин не испытывал интереса к тому, куда они направляются. Он прислушивался к рокоту голосов внизу. Углубившись в свои мысли, он представлял себе свою камеру внутри Колеса, каждую царапину на ее глухих сомкнутых стенах.
Наконец они добрались до зала под самой крышей монастыря. Зал был круглый. Пол покрывали два ковра, один белый, другой черный. Ковры разделяла металлическая полоса, проходившая через середину комнаты и разделявшая комнату на две равные части. Рожки с биогазом давали тусклый свет. Единственное окно, выходившее на юг, сейчас было задернуто тяжелой шторой.
На шторе было вышито Великое Колесо, катящееся по небесам, с гребцами, сидящими в крошечных камерах по периметру Колеса — в лазурных одеждах, с блаженными улыбками на лицах.
«Наконец-то мне стали понятны эти блаженные улыбки», — подумал Лутерин.
Музыканты в глубине зала играли тягучую мрачную мелодию. Лакеи с подносами обносили всех напитками.
Появился Хранитель Колеса, Эбсток Эсикананзи, и грациозно поднял руку в приветствии. Улыбнувшись и отвесив всем полупоклон, Хранитель тяжелой походкой направился туда, где стояли Владетель и Лутерин.
Эсикананзи и Аспераманка приветствовали друг друга, и Эсикананзи спросил:
— Сегодня твой друг более общителен?
Получив отрицательный ответ, Хранитель обратился к Лутерину, пытаясь придать своим словам оттенок искренности:
— Что ж, то, что ты сейчас увидишь, может быть, разговорит тебя.
Очень быстро обе важные персоны оказались в кольце приглашенных, и Лутерин осторожно протиснулся из центра группы. Кто-то тронул его за рукав. Он повернулся и увидел пару широко раскрытых глаз. Перед ним стояла стройная женщина и смотрела на него с испугом, с потрясенным вниманием, но осторожно. На женщине было платье до пола из темно-багрового бархата, с воротником из тонких кружев. И хотя женщина была уже немолода и лицо ее осунулось по сравнению с былыми временами, Лутерин немедленно узнал ее.
Он тихо произнес ее имя.
Инсил кивнула, словно ее подозрения подтвердились, и прошептала:
— Говорят, будто ты передвигаешься с большим трудом и никого не узнаешь. Как всегда, сплошная ложь! Видишь, Лутерин, как тяжело воскреснуть из мертвых и оказаться в той же лицемерной толпе — только постаревшей, еще более жадной... испуганной. Как ты находишь меня, Лутерин?
Откровенно говоря, ее голос показался ему жестким, лицо мрачным, а обилие драгоценностей в ушах, на запястьях, на пальцах, удивило.
Но более всего Лутерина поразили глаза Инсил. Они изменились. Зрачки казались огромными — из-за того внимания, с которым она смотрела на него, решил он. Белков почти не было видно, и он восхищенно подумал: «В этих зрачках можно увидеть душу Инсил».
Но ей нежно сказал:
— Два профиля в поисках лица?
— Я уже об этом позабыла. Жизнь в Харнабхаре с каждым годом становится все скучнее — грязнее, мрачнее, лживее. Но этого следовало ожидать. Все оскудевает. И наши души тоже.
Она потерла руки — жест, которого он не мог припомнить.
— Но ты продолжаешь жить, Инсил. Ты самая красивая женщина из всех, кого я помню.
Это признание далось ему не без усилия, и он понял, сколько труда потребуется для того, чтобы снова научиться общению. Преодолевая трудности светской беседы, он чувствовал, как в нем просыпаются старые привычки — среди прочих и привычка неизменно быть вежливым с женщинами.
— Не лги, Лутерин. Колесо изготовлено для того, чтобы превращать мужчин в святых, не правда ли? Ты обратил внимание, что я не спрашиваю тебя о том, что ты чувствовал там?
— Ты вышла замуж, Сил?
Ее глаза стали огромными. Она прошептала чуть слышно — но ее слова так и сочились ядом:
— Конечно вышла, болван! Эсикананзи лучше обращаются с рабами, чем с членами своей семьи. И какая женщина сможет выжить в этой глуши, не продав себя предусмотрительно человеку с тугим кошельком?
Она пошатнулась.
— Мы уже всесторонне обсудили этот знаменательный вопрос, когда ты был одним из кандидатов.
Она говорила чересчур быстро для него.
— Так ты продалась, Сил? Что ты имеешь в виду?
— Ты полностью оторвался от жизни, после того как воткнул нож в своего столь горячо любимого папу. Не сказать, чтобы я очень уж сильно винила тебя в том, что ты прикончил человека, который убил того, кто забрал мою драгоценную невинность, — твоего брата Фавина.
Слова, произнесенные с наигранной бодростью, пока Инсил улыбалась проходящим мимо, мгновенно открыли в сердце Лутерина старую рану. Сколько раз внутри Колеса он вспоминал водопад и смерть брата. Вопрос, почему Фавин, многообещающий молодой офицер, решился на последний прыжок, остался; объяснения отцовского духа не дали ему нужного ответа. Возможно, он сам все время старался не замечать ответ.
Забыв о том, кто в этой толпе людей с бледными губами мог увидеть его, он схватил Инсил за руку.
— Что ты хочешь сказать о Фавине? Ведь он покончил с собой.
Она резко вырвалась, улыбаясь.
— Ради Азоиаксика, не трогай меня. Мой муж здесь, и он смотрит. С этих пор между нами ничего не должно быть, Лутерин. Ступай прочь! Мне больно на тебя смотреть.
Он оглянулся по сторонам, лихорадочно обшаривая взглядом толпу. С другого края зала на него с неприкрытой враждебностью глядела пара глаз на длинном лице.
Он уронил бокал на пол.
— О, Прародительница... только не Аспераманка, этот предатель!
Красное вино пропитало белый ковер.
Махнув рукой Аспераманке, Инсил проговорила:
— Мы хорошая пара, Владетель и я. Он хотел невесту из благородной семьи. Мне нужно было выжить. Мы умеем делать друг друга счастливыми.
Когда Аспераманка отвернулся к своим собеседникам, Инсил язвительно произнесла:
— Все эти мужчины в коже, отправляющиеся верхом в леса... почему они так любят вонь друг друга? Когда они съезжаются вместе, эти кровные братья, в лесной глуши, то творят там тайные дела. Твой отец, мой отец, Аспераманка... Фавин был не похож на них.
— Я рад, если ты любила его. Мы можем уйти отсюда и поговорить наедине?
Инсил с отвращением оглянулась на присутствующих.
— Что нам принесет этот краткий миг откровенности, сколько сложностей и бед? Столько же, сколько принесло мне мое недолгое счастье. Фавин был не из тех, кто так рвется в каспиарны со своими толстозадыми приятелями. Он ездил ко мне.
— Ты сказала, что мой отец убил его. Ты пьяна?
В том, как Инсил говорила и как держалась, сквозило безумие. Снова оказаться рядом с ней, ступить в круг старых мучений — время будто остановилось. Словно отворили старый пыльный шкаф; но привычные вещи приобрели от старости вид уродливый и обветшалый.
Инсил не удосужилась даже кивнуть головой.
— У Фавина было все, для чего стоило жить... например, я.
— Не так громко!
— Фавин! — закричала она, и все головы повернулись к ним. Инсил двинулась сквозь толпу, Лутерин шагнул за ней. — Фавин узнал, что «охота» твоего отца подразумевала поездки в Аскитош и что отец — олигарх. Фавин все понял. Он бросил вызов твоему отцу. Твой отец застрелил его и сбросил с края утеса.
Женщина, исполняющая роль хозяйки, прервала их разговор, и они отошли друг от друга. Лутерин взял новый бокал йядахла, но тут же поставил вино, так сильно тряслись руки. На миг ему снова удалось обратиться к Инсил, перебив церковника, который что-то втолковывал ей:
— Инсил — то, что ты сказала, ужасно! Откуда ты узнала, что отец убил Фавина? Ты была там? Или ты лжешь?
— Конечно нет. Я узнала потом — когда ты валялся без чувств — своим обычным способом, подслушала. Мой отец все знал. Он был доволен — смерть Фавина была мне наказанием... Я просто не могла поверить в то, что услышала. Когда он обо всем рассказал моей матери, та смеялась. Я не верила своим ушам. Но в отличие от тебя не упала в обморок длиной в год.
— Но я ничего не знал... я ни о чем не подозревал, даже вообразить не мог.
Она взглянула на него с презрением, зрачками в пол-лица.
— Ты и сейчас сама наивность. Роковая наивность. О, я могу все рассказать...
— Инсил, только не говори никому, иначе наживешь кучу врагов.
Но ее взгляд был тверд, и она снова рассмеялась.
— От тебя мне нет и никогда не было никакого толку. Я уверена в том, что дети интуитивно чувствуют настоящий нрав родителей, не тот, который родители показывают всему миру. И ты чуял норов отца, его истинную природу, и притворился мертвым, чтобы избежать его мести. Но умерла на самом деле только я.
К ним шел Аспераманка.
— Через пять минут встретимся в коридоре, — быстро сказала Инсил Лутерину и повернулась к мужу, приветливо протягивая к нему руки.
Лутерин отошел в сторону. Он прислонился к стене, стараясь успокоить бурю чувств.
— О, Прародительница... — простонал он.
— Могу представить, как толпа угнетает вас, привыкшего к одиночеству, — проговорил кто-то, проходя мимо.
Вся его жизнь перевернулась и продолжала переворачиваться. То, что происходило с ним прежде, было фальшиво, он был другой, всю свою жизнь он притворялся другим. Даже его отвага на поле битвы — там ему удалось дать выход скрываемой столько времени муке — значит, это была вовсе не отвага? Быть может, войны — это просто освобождение от мук, а не чистое насилие? Он понял, что не знал и не понимал ничего. Он цеплялся за свою невинность, боялся правды.
Теперь он вспомнил, что после смерти брата пережил момент истины. Они с Фавном были очень близки. В вечер смерти Фавина он пережил физическое потрясение, однако отец объявил о смерти сына только на следующий день, сказал, что Фавин умер на день позже. И это небольшое на первый взгляд несоответствие поразило его юное сознание, все отравило. Постепенно — он мог это предвидеть — с освобождением от яда к нему придет радость. Но освобождение от яда еще не закончилось.
У него дрожали ноги.
В путанице собственных мыслей он почти забыл об Инсил. Ее странное состояние вселяло тревогу. Он зашагал к коридору, где она просила ждать, — со страхом гадая, что же еще услышит от нее.
Путь ему преградили церковники, и Лутерина вовлекли в оживленную беседу, преимущественно о важности момента и о том, чего ждать теперь, когда природа ожесточится еще больше. За разговором церковники пожирали маленькие мясные пирожки в форме птичек, и Лутерин подумал, что ему нет дела до этой церемонии, свидетелем и участником которой он оказался.
Разговор прервался, и все взгляды обратились к дальней стороне зала.
Аспераманка и Эбсток Эсикананзи по винтовой лестнице поднимались из зала в верхнюю комнату.
Воспользовавшись паузой, Лутерин выскользнул в коридор. Через минуту рядом с ним оказалась Инсил, она так спешила, что на ходу всем сухопарым телом устремилась вперед. Бледной рукой она приподнимала юбку, драгоценности блестели, словно кусочки льда.
— Я вынуждена быть краткой, — заговорила она без предисловий. — За мной постоянно следят, за исключением тех моментов, когда подают вино или когда всем приходится принимать участие в дурацких церемониях — как теперь. Кому какое дело, что мир внезапно провалится во тьму? Послушай, когда отсюда можно будет уйти, отправляйся в городок к торговцу рыбой. Лавочка в конце улицы Святости. Запомнил? Никому ничего не говори. «Целомудрие для женщин, тайна для мужчин», как говорится. Держи язык за зубами и храни тайну.
— Но о чем ты, Инсил?
Снова он задавал ей вопрос.
— Мой дорогой муж и мой дорогой отец замышляют избавиться от тебя. Убивать тебя, как я понимаю, они не станут — это может выйти им боком, и кроме того, они перед тобой в долгу — ты ведь так вовремя помог им избавиться от прежнего олигарха. Но после окончания церемонии постарайся не попадаться им на глаза и сразу отправляйся на улицу Святости.
Он с нетерпением вгляделся в ее гипнотические зрачки.
— Но что за тайная встреча — зачем мне туда идти?
— Я просто передаю просьбу, Лутерин. Надеюсь, ты еще не забыл имя Торес Лахл?
Глава 17 Закат
Трокерн и Эрмин уснули. Шойшал куда-то ушла. Геонавты, вожатые домиков, остановились, и поселок терпеливо дожидался появления на свет их потомства, наслаждаясь вечерней свежестью.
СарториИрвраш проснулся и потянулся, позевывая. Он сел, прислонился спиной к стене, почесал седую голову. Он давно уже завел привычку спать во второй половине дня и просыпаться около полуночи, чтобы размышлять в тихие ночные часы, пока его дух общался со странницей-Землей, дожидаясь наступления юного и мудрого рассвета. Он был учителем Трокерна. Свое имя он выбрал в честь старого книжника с Гелликонии, прожившего опасную жизнь, с чьим духом он встречался в минуты общения состраданием.
Через некоторое время он поднялся и вышел наружу. Он постоял, дыша воздухом и глядя на звезды, наслаждаясь ощущением ночи. Потом прошел к соседнему домику и разбудил Трокерна.
— Я сплю, — пробормотал Трокерн.
— Мне бы не пришлось будить тебя, если бы ты бодрствовал.
— Ммм...
— Ты кое-что похитил у меня, Трокерн. Мое объяснение того, почему на Земле жизнь пошла установленным порядком. Похитил с тем, чтобы произвести впечатление на дам.
— Как видишь, мне удалось произвести впечатление только на половину дамского общества.
Трокерн указал на Эрмин: та мирно спала, чуть выпятив губки, словно в своем полночном сне ожидала поцелуя.
— К сожалению, ты неверно изложил мои доказательства. Собственничество, некогда неотъемлемая черта человечества, вовсе не продукт страха, как ты утверждал, — хотя сам я называл ее продуктом «постоянной тревоги». Это продукт внутренней агрессии. Древние расы не знали настоящего страха: в противном случае они никогда бы не решились создать оружие, способное, что легко было предвидеть, уничтожить их всех. В корне всего лежит агрессия.
— Но агрессивность порождена страхом?
— Не стоит усложнять. Прежде чем начать бегать, нужно научиться ходить. Если мы возьмем для примера Гелликонию, то увидим, как поколение за поколением превращали там свою агрессивность и желание убивать в ритуал. Но самые ранние поколения землян вовсе не стремились обладать территориями или друг другом, как ты заявил.
— По правде говоря, СарториИрвраш, я чувствую, что сегодня днем ты плохо выспался.
— По правде говоря, я выспался хорошо, а проснулся, чтобы сказать правду.
Он обнял молодого человека за плечи.
— Не стоит чересчур увлекаться спорами. А если уж увлекаться, то аргументируя до конца. Древние люди искали способ обладать Землей, для чего старались поработить ее, загнать в ярмо бетона. Но этим их амбиции не исчерпывались. Их политики старались приобрести для своих доминионов большие территории, в то время как обычные люди утешались фантазиями о завоеваниях Вселенной и управлении галактиками. И в корне этого лежала агрессия, не страх.
— Возможно, ты прав.
— Нет, не стоит отвергать свою точку зрения так легко. Если я могу быть прав, то с такой же легкостью я могу и ошибаться. Нужно помнить о своих предках, которые, при всей своей озлобленности и порочности, все же позволили нам появиться на сцене.
Трокерн выбрался из комнаты. Эрмин вздохнула и повернулась, но так и не проснулась.
— Ночь теплая — давай пройдемся, — предложил СарториИрвраш.
Они двинулись вперед под звездным куполом, и Трокерн спросил:
— Как ты думаешь, учитель, сессии переосмысления способствуют самосовершенствованию?
— С биологической точки зрения мы остаемся тем, чем были, но можем улучшить свою социальную структуру, если повезет. Под этим я подразумеваю то направление, которого мы теперь придерживаемся — совершенно новое революционное слияние важнейших теорем физической науки с науками гуманитарными, науками об обществе и бытии. Конечно, основная наша функция как биологического вида — быть частью биосферы, и в этой роли мы наиболее полезны неизменными; наша роль может измениться только после нового изменения биосферы.
— Но биосфера беспрестанно меняется. Лето отличается от зимы, даже здесь, вблизи тропиков.
СарториИрвраш взглянул на горизонт и в глубокой задумчивости проговорил:
— Зима и лето — функциональные особенности стабильной биосферы, знамения вдохов и выдохов Гайи, происходящих в размеренном ритме. Человечеству приходится существовать в рамках этой функциональности. С точки зрения агрессивности это положение унылое, безнадежное; и тем не менее именно это в порядке вещей, а фантазии остаются фантазиями. Обыденность перестает быть обыденностью только в том случае, если всю жизнь заключить в рамки веры, подчинить себя вере полностью, во-первых, поместив во главу угла человечество, Повелителей Созидания, а во-вторых, проникнувшись уверенностью, что люди способны изменить свою участь, пожертвовав чем-то еще.
Подобный взгляд на вещи приводит к печальным последствиям, что мы видим на примере нашей сестры-планеты. Стоит только принять высокомерную веру в то, что этот мир или будущее хоть в чем-то «наши», как немедленно цена жизни для всех и каждого неизмеримо возрастает.
— Думаю, каждый из нас должен решать за себя, — сказал на это Трокерн.
Он обнаружил, что ему нравится бродить после заката.
С неожиданным жаром СарториИрвраш заявил:
— Да, к несчастью, это именно так. Нам приходится учиться на горьком опыте, а не на благоразумных примерах. И это странно. Но не думай, будто я считаю такое положение вещей нормальным. Гайя совершенно простодушно готова уступить нам главенствующее положение. Но на Гелликонии существуют фагоры, которые не позволяют человечеству расслабиться!
СарториИрвраш рассмеялся, рассмеялся и Трокерн.
— Я знаю, ты считаешь, что я мот и напрасно трачу время, — сказал Трокерн, — но разве Гайя не такая же мотовка, которая хватается за все сразу?
Его учитель взглянул на него по-лисьи хитро.
— Все и вся следует бросить на произвол судьбы, чтобы все и вся могло пожрать друг друга. Возможно, это не лучший способ установить порядок — вываривать лучшие виды в случайной смеси химического супа, выжидая, кто кого утопит первым. Мы вполне можем взять на вооружение приемы Гайи и организовать собственный гомеостаз.
В небе светила луна в последней четверти. СарториИрвраш указал на красную звезду, горящую низко над горизонтом.
- Видишь Антарес? Севернее — созвездие Орфея, Змееносца. Орфей — это большое темное пылевое облако примерно за семь световых лет от нас, состоящее из относительно молодых звезд. Среди них и Фреир. Фреир мог бы быть одной из дюжины ярчайших звезд в небе, если бы не пылевое облако. Там обитают фагоры.
Мужчины мысленно оценили расстояние и некоторое время молчали. Потом заговорил Трокерн:
— Ты никогда не думал, учитель, до чего фагоры напоминают демонов и дьяволов, которыми прежде пугали христиан?
— Это не приходило мне в голову. Но я всегда думал о более ранних аллюзиях, о Минотавре из древнегреческого мифа, существе, промежуточном между человеком и быком, затерянном в лабиринте наедине с собственной похотью.
— Чувствую, ты полагаешь, что люди-гелликонцы должны позволить фагорам существовать рядом с собой, для того чтобы установить правильный баланс биосферы.
— Предположительно... мы слишком многое пытаемся вообразить.
Наступила продолжительная пауза.
После чего СарториИрвраш неохотно проговорил:
— Я глубоко уважаю Гайю и ее сестру из созвездия Змееносца. Они обе — старейшие игроки с давних времен. Человечество научилось агрессии еще в утробе. Пользуясь древними аналогиями, люди и фагоры — это Каин и Авель, разве не так? Один из них должен уйти...
Над головами собрания запели трубы приятными приглушенными голосами, ничем не напоминавшими трубы, подающие сигнал к началу работы, ревущие под ногами, — никому, кроме Лутерина Шокерандита.
Дигнитарии в огромном зале проглотили последние птички-пирожки и приняли подобающий вид. Лутерин пробирался среди них, чувствуя себя громоздким среди стольких тощих фигур. Он потерял Инсил из виду.
Хранитель и Владетель, отец Инсил и ее муж, вновь спустились по винтовой лестнице. Поверх обычной одежды они облачились в алые с голубым шелковые балахоны и водрузили на головы странные уборы. Их лица, казалось, были отлиты из сплава свинца и плоти.
Бок о бок они прошли к зашторенным окнам. Потом повернулись и поклонились собранию. Собравшиеся замолчали, музыканты на цыпочках удалились из зала, боясь скрипнуть половицами.
Первым заговорил Хранитель Эсикананзи.
— Вы знаете причины, по которым много веков назад был построен монастырь Бамбек. Монастырь выстроили для служения Колесу. Сейчас мы стоим в месте величайшего акта веры, на какой могло оказаться способно/окажется способно человечество. Но, возможно, нам позволительно/будет позволено напомнить, почему именно это место избрали наши добродетельные предки, место, которое кое-кто считает самой отдаленной частью континента Сиборнал.
Позвольте обратить ваше внимание на железную полосу у вас под ногами, разделяющую зал на две половины. Эта полоса символизирует широту, на которой было воздвигнуто упомянутое сооружение. Мы находимся на пятьдесят пятом градусе от экватора и фактически стоим на самой параллели. Вам вряд ли нужно напоминать, что пятьдесят пятая широта — это граница полярного круга.
Тут он подал знак слугам. Занавесь, скрывающую окно, отдернули в сторону.
За окном, выходящим на юг, виднелся городок. Прозрачный воздух позволял разглядеть каждую подробность, в том числе и далекий горизонт, чистый, за исключением деревьев дэнниса.
— Мы должны быть счастливы оттого, что нам выпала такая возможность. Облака разошлись. Мы удостоены чести стать свидетелями мрачного события, которое будет отмечать весь Сиборнал.
В этом месте Владетель Аспераманка вышел вперед и взял слово. Высокий слог придавал выразительность его речи:
— Позвольте мне поддержать моего доброго друга и коллегу и повторить слово «посчастливилось». Нам конечно же/наверняка посчастливилось. Церковь и государство всегда сохраняли/сохраняют/будут сохранять союз народов Сиборнала. Чума уже сейчас/будет уничтожена, мы истребили большую часть фагоров на нашем материке.
Вы знаете, что наши корабли властвуют в морях. Кроме того, мы строим/закончим строительство Великой Стены, что станет актом веры, созвучным постройке нашего знаменитого Великого Колеса.
Сегодняшний День — это символ/станет символом наступления новой Великой Эры. Великая Стена пройдет через северную часть Чалца. Через каждые два километра на стене будет устроена дозорная башня, сама стена достигнет в высоту семи метров. Эта Стена вместе с нашими кораблями должна будет удержать/удержит неприятеля вдали от нашей территории. День Мирквира — предвестник грядущей Вейр-Зимы, но мы должны пережить Зиму, и наши внуки переживут Зиму, и наши правнуки. И мы вступим в Весну, в следующую Великую Весну, готовые завоевать всю Гелликонию.
Во время речи из зала доносились приветственные выкрики и рукоплескание. Окончание речи потонуло в бурных аплодисментах. Аспераманка опустил глаза, чтобы скрыть довольный блеск.
Эбсток Эсикананзи поднял руку.
— Друзья, грядет пятый час великого мрачного дня. Сейчас малая зима, и Беталикс скрывается за горизонтом. Светило вновь поднимется через четыре теннера, чтобы озарить мир своим мглистым светом, однако...
Хранитель смолк: все отвернулись от него к окну.
Внизу в городе разожгли костер. Похожие на муравьев горожане, одетые в шерстяные куртки или меха, весело плясали вокруг огня, вскидывая вверх руки.
Зрителям в зале принесли новые напитки. Едва угощение появилось, бокалы стремительно опустели, и руки протянулись за новой порцией. Вельможная толпа заволновалась, бледные лица составляли мрачный контраст со счастливыми муравьями внизу.
Удары колокола возвестили о наступлении полудня. Словно в ответ на голос бронзы в южной части горизонта произошла перемена.
В этой части панорамы петляла, уходя прочь от городка, дорога. Кругом простиралась белоснежная равнина, деревья и дома стояли заиндевелые. Из-за жилищ время от времени вылетали снежные вихри, стелющиеся по ветру, словно усики дыма возле только что потушенной свечи. Сам горизонт был чист и светел в лучах зари — восхода одного из солнц.
Над скованным льдами горизонтом в небе появился багровый, цвета запекшейся крови, краешек — верхняя часть шара Фреира.
— Фреир! — вырвался у зрителей возглас, словно, произнеся имя светила, можно было получить власть над ним.
Поток света залил землю, отбросив тени, окрасив розовым гряду далеких холмов, и те засверкали на фоне стального неба. Лица собравшихся в зале заалели. Только городок внизу, где вокруг костра продолжали кружить муравьи, тонул в сумерках.
Избранные смотрели на ломтик светила. Ломтик завис над горизонтом, не увеличиваясь в размерах. И самый внимательный взгляд не смог уловить мгновение, когда, вместо того чтобы расти, диск Фреира начал уменьшаться. Восход мгновенно перешел в закат.
Свет исчез из мира. Гряда далеких холмов таяла, растворяясь в густеющем мраке.
Драгоценный осколок Фреира совсем уменьшился. К этому времени огромное светило уже давно закатилось: перед глазами оставался лишь мираж: преломленное сквозь толщу атмосферы изображение реальной звезды, скатившейся за горизонт. Но никто не мог отличить мираж от настоящей звезды. Мирквир уже начался, хотя никто об этом не знал.
Красное отражение уменьшилось.
Затем разделилось на осколки света. Затрепетало.
И исчезло.
На многие столетия Фреир превратился в мотылька, упорхнувшего за гору, в мотылька, который появится еще не скоро. В течение малого лета Беталикс будет светить в небесах как прежде; но малые зимы станут проходить во тьме Великой Зимы. Северные сияния будут развертывать свои громадные полотнища над горными грядами. В небесах будут время от времени сверкать метеориты. Иногда покажутся хвостатые кометы. На следующие девяносто поворотов Великого Колеса главный источник освещения, эта тяжеленная топка, породившая сынов Фреира, станет всего лишь легендой.
Для очевидцев Мирквир стал Последним Днем, концом света, не менее. Безликое божество, правящее биосферой, было бессильно вмешаться, надеясь разве что на близорукость людей, на их самостоятельность, на глубину физического потрясения. Божество неслось навстречу переменам вместе со своим миром. Видимый с большего расстояния Фреир продолжит сиять и будет сиять до тех пор, пока его относительно краткий жизненный цикл не завершится: посему тьма была лишь местным условием, явлением преходящим.
Но большей части мира природы приходилось покоряться судьбе. На суше растительный сок, семена, пыльца будут ждать, повсеместно погрузившись в долгую спячку. В море сложный механизм пищевых цепочек без помех продолжит свое существование. И только человечество поднимется над прямой необходимостью. У человечества есть неведомые людям резервы сил, резервы, пробуждающиеся к жизни лишь тогда, когда возникает потребность выжить.
Однако подобные понятия были очень далеки от сознания тех, кто наблюдал, как тают последние осколки света. Этих людей пронизывал страх. Они могли думать только о собственном выживании и о выживании своих семей. Они вплотную столкнулись с единственным главным вопросом существования: каким образом мне добыть себе еду и тепло?
Страх — сильнейшее чувство. И тем не менее страх легко заглушают ярость, надежда, отчаяние и целеустремленность. Страх не может существовать долго. Ход гелликонского Великого Года приближался к апоастру и зимнему солнцестоянию. До поворотного момента Года оставались еще многие поколения. К тому времени сумерки Вейр-Зимы превратятся в нечто, известное лишь в северном Сиборнале. С приходом Великой Весны Фреир волшебным образом снова поднимется над горизонтом, и его будут приветствовать с тем же благоговейным почтением, с каким провожали. Но до тех пор страх умрет — задолго до надежды.
Выживание человечества на протяжении веков Вейр-Зимы будет зависеть от ресурсов, скрытых в сознании и эмоциях. Цикл человеческой истории никогда не проходит бесследно. При такой целеустремленности хорошее всегда одержит верх над плохим; возможность грести в сторону света, пробираясь сквозь волны Мирквира, есть.
Хранитель Эсикананзи мрачно произнес:
— Долгая ночь не вселит страх в сердца тех, кто верит в Господа нашего, бога Азоиаксика, существовавшего прежде жизни, зеницы коловращения бытия. С его помощью мы пронесем этот драгоценный мир сквозь долгую ночь, дабы вновь воссияла его слава.
Владетель Аспераманка выкрикнул тост:
— За Сиборнал — объединенный перед приходом Вейр-Зимы!
Аудитория откликнулась с храбростью. Но каждому запала мысль: никогда больше не суждено им увидеть Фреир; ни им, ни их детям, ни детям их детей. Ярчайшее светило Фреир не покажется на широте Харнабхара в течение сорока двух поколений, которые родятся и умрут. Никто из присутствующих не мог более питать надежду снова увидеть этот свет.
Где-то в отдалении хор запел гимн: «О, мы все в конце увидим свет». В сердцах поселился мрак. Потеря была нестерпимой, как потеря ребенка.
Лакеи с торжественным и мрачным видом снова задвинули шторы, скрыв от глаз пейзаж.
Многие из собравшихся ненадолго задержались, чтобы выпить йядахла. Но им нечего было сказать друг другу. Музыканты играли, но разогнать тоску, возобладавшую после заката, было невозможно. По одному или группами гости начали расходиться, избегая смотреть друг другу в глаза.
Широкая лестница спиралью вела с верхних этажей храма к выходу. В честь торжественного дня ступени устилал ковер. Холодный ветер, дующий снизу, задирал края ковра. Когда Лутерин добрался к подножию лестницы, навстречу вышли двое и схватили его. Он принялся вырываться и закричал, но ему скрутили руки и затолкали в узкую комнату с каменными стенами. Там его уже дожидался Аспераманка. Церемониальные одежды он сменил на теплое пальто и кожаные перчатки. Двое его подручных были одеты в кожу, на поясах висели револьверы. Лутерин вспомнил слова Инсил: «Эти одетые в кожу люди... они творят тайные дела».
Аспераманка спокойно заговорил:
— Ничего не вышло, верно, Лутерин? Мы не можем позволить тебе бродить в одиночку в таком важном городе, как Харнабхар. Тебя слишком уважают и ты можешь смутить умы.
— Что вы стараетесь сохранить в Харнабхаре — кроме собственной жизни?
— Я стараюсь сохранить честь жены, в первую очередь. Похоже, ты считаешь, что тут у нас таится зло. Но дело в том, что мы тут сражаемся за выживание. И хорошее, и плохое в нас — выживут естественным путем. Большинству это понятно. Тебе — нет.
Ты склонен играть роль святой простоты, а это всегда чревато неприятностями. Поэтому мы дадим тебе шанс помочь нашей общине. Гелликонию нужно вытянуть обратно к свету. Ты пойдешь в Колесо еще на десять лет.
Лутерин вырвался и бросился к двери. Один из охотников успел дотянуться до него как раз вовремя, чтобы дать пощечину. Он ударил в ответ, попал в скулу, но его опять схватили.
— Свяжите его, — приказал Аспераманка. — И смотрите, чтобы он опять не вырвался.
У его подручных не оказалось веревки. Один из охотников неохотно расстался с широким кожаным поясом от куртки, и Лутерину связали руки за спиной.
Аспераманка открыл дверь, и они вышли на лестницу; Владетель шел совсем рядом с Лутерином. Казалось, он очень горд собой.
— Сегодня мы со всей возможной отвагой и церемонностью распрощались с Фреиром. Цени нашу силу, Лутерин. Я восхищался твоим отцом — меня восхищала безжалостность, с какой он отправлял обязанности олигарха. На долю нашего поколения выпало столько испытаний... Мы решаем будущее мира, и либо нас сотрут с лица Гелликонии, либо мы останемся жить...
— Либо ты подавишься рыбьей костью, — проговорил Лутерин.
Они спустились в зал перед выходом из храма. Через широкую дверь можно было увидеть огромный мир снаружи. В двери врывался холод и крики толпы у костра. Простые люди танцевали вокруг огня, который разожгли, их лица горели от жара пламени. В толпе сновали торговцы печеньем и копченой рыбой.
— Несмотря на веру, которую им прививали, они все еще надеются, что пламя костра поможет им вернуть Фреир, — сказал Аспераманка. Он задержался у выхода. — Все, чем они теперь заняты, это напрасная трата дров, которых может не хватить в разгар холодов... Что ж, пусть остаются при своей напрасной надежде. Пусть занимаются пауком... да чем угодно. Нашей элите предстоит выжить, обосновавшись на спинах этих крестьян на несколько столетий или даже более.
Где-то позади толпы раздались крики и началась возня. Появились солдаты, они расчистили себе в толпе дорогу. За собой солдаты тащили нечто упирающееся.
— Ого, поймали еще одного фагора. Отлично. Сейчас посмотрим, — проговорил Аспераманка, и в его глазах загорелась застарелая тайная злоба.
Фагор был привязан вверх ногами к колу. Создание продолжало отчаянно вырываться, пока его несли к одному из костров.
Позади шел мужчина, с криками воздевающий руки. Из-за общего ропота Лутерин не мог расслышать что говорит этот человек, но узнал его по длинной бороде. Это был старый начальник школы, учивший еще его, Лутерина, — давным-давно, в другой жизни, в которой он лежал, разбитый параличом, в постели. Старик держал фагора вместо раба, поскольку был так беден, что не мог позволить себе купить раба-человека. Солдаты схватили фагора школьного начальника.
Двурогого подтащили к костру. Толпа сомкнулась, крича и танцуя от возбуждения, женщины теснились за солдатами вместе со своими мужчинами.
— Сожгите его! — закричал Аспераманка, но его голос потонул в криках толпы.
— Это просто домашний фагор, — сказал Лутерин. — Он безобиден, как собака.
— Но он может разносить жирную смерть.
Несмотря на отчаянное сопротивление фагора, его отнесли и швырнули в самый большой из костров. Шкура фагора немедленно вспыхнула. Новый толчок — крики из толпы — еще толчок — и яростный крик атакующих позади толпы. Тотчас вдалеке послышались испуганные крики людей. На площадь верхом на кайдавах ворвались анципиталы.
На всех анципиталах были доспехи. На некоторых даже примитивные шлемы. Двурогие сидели позади небольших горбов кайдавов, ближе к крупу. Из этого положения фагоры могли ловко нанести удар копьем или орудовать другим оружием.
— Фреир умер! Смерть сынам Фреира! — хрипло кричали фагоры.
Толпа немедленно пришла в движение, спасались каждый сам по себе, не в едином порыве. На месте остались только солдаты. Пойманный фагор, брошенный на костре, в жарком пламени, внутри черепа которого кипела привязь, все же сумел подняться и даже двинулся в сторону от огня, воняя паленой шерстью и чадя.
Аспераманка бросился вперед: огонь! Лутерин, оставаясь наблюдателем, видел, что нападающих двурогих всего восемь голов. У некоторых шерсть была черная, что говорило о том, что этим двурогим уже немало лет. Рога у всех фагоров были спилены, и было ясно, что это не ужасная воображаемая угроза с горных склонов севера — угроза, которой бредил Харнабхар, — а просто несколько беглых фагоров, сбившихся в банду, возможно, только сегодня, в связи со знаменательным днем, которые только и ждали, когда условия в Сиборнале приблизятся к тем, что существовали много тысячелетий назад, пока в небеса планеты не вторгся Фреир.
На его глазах под ударами копий упали несколько человек в первых рядах толпы: торговец с подносом, женщина с ребенком на руках, калека, слепой. Несколько человек затоптала сама толпа. Ребенка подхватили со снега и бросили в костер.
Аспераманка и двое его подручных выхватили револьверы и открыли огонь. Услышав выстрелы, анципиталы развернули своих рыжих скакунов и бросились в атаку на Владетеля. Фагор мчался прямо на Аспераманку, низко пригнув голову к голове кайдава. Взгляд фагора не туманила горячка боя, это был спокойный взгляд карих глаз: двурогий творил то, что было заложено в его древнем, не подвластном времени сознании много веков назад.
Аспераманка нажал на курок. Пули одна за другой впивались в густую шерсть зверей, двурогого и скакуна. Кайдав остановился на половине шага. Двое охотников повернулись и в страхе бежали. Аспераманка не сходил с места, продолжая стрелять, крича. Внезапно кайдав упал на одно колено. Взметнулось копье. Копье ударило Аспераманку, когда тот повернулся. Наконечник вошел в голову через глазницу, и Владетель Харнабхара упал на пороге монастыря.
Лутерин бросился бежать, спасая свою жизнь. Он вывернул из ремня руки. Выскочил на улицу, на утоптанный снег, и бросился прочь. Вокруг бежали другие люди, слишком обеспокоенные собственным спасением, чтобы пытаться лишить жизни Лутерина. Он спрятался позади какого-то дома и, задыхаясь, наблюдал за тем, что происходит на улице.
На рыночной площади лежали синие тени и неподвижные тела. В темно-синем небе сверкала единственная звезда — Аганип. На юге еще теплился умирающий закат. Было очень холодно.
Толпа окружила кайдава и стянула всадника на снег. Другие фагоры уже ускакали, спасаясь, — новый признак того, что это не был регулярный отряд анципиталов: тот не покинул бы место боя так легко.
Лутерин без помех добрался до улицы Святости, чтобы встретиться с Торес Лахл.
Улица Святости оказалась узкой, стиснутой с обеих сторон высокими домами. Большая часть их строилась в лучшие времена, чтобы дать приют пилигримам, паломникам Колеса. Теперь все ставни были закрыты; многие двери забаррикадированны, на стенах намалеваны лозунги: «Господь храни Хранителя», «Мы следуем за олигархом» — скорее всего для того, чтобы продемонстрировать преданность. На задворках домов и постоялых дворов снега навалило по самые верхушки деревьев.
Лутерин, еще взбудораженный успехом своего побега, осторожно осмотрел улицу. Он вгляделся в конец улицы, где, как ему казалось, начиналась вечность. Там раскинулось бескрайнее снежное пространство, и редкие деревья лишь подчеркивали его безбрежность. Вдалеке, где Фреир еще светил из-за утесов южного плато северной полярной шапки, протянулись несколько полос розового света. От вида бескрайнего простора, от вида воли он еще больше взбодрился, гадая о бесконечных возможностях планеты, которые лежат вне пределов тщеты человеческих усилий. Вопреки переживаемым тяготам, великий мир оставался неисчерпаемым в своих проявлениях. Ему казалось, что он смотрит в лицо самой Прародительнице.
Он прошел мимо входа в дом, где мелькнула чья-то фигура. Его окликнули по имени. Он обернулся. Во мраке он заметил женщину, завернутую в меха.
— Ты уже почти пришел. Ты не рад? — спросила его она.
Он бросился к ней, схватил за плечи, почувствовал под мехами ее худое тело.
— Инсил! Ты ждала.
— Только отчасти — тебя. У этого торговца рыбой есть кое-что, что мне нужно. Меня тошнит от представления там, наверху, от этой безвкусной драмы с бесконечными пустыми речами. Они считают, что сумеют оказаться выше природы и опутать ее по рукам и ногам, если скажут ей несколько слов. Мой болван-муж произносил «Сиборнал» так, словно это какое-то полоскание для рта... меня тошнит, мне нужно отмыться от них, убраться от них подальше. Что это за грязное ругательство, которым пользуются простолюдины, имея в виду помочиться на оба солнца? Старое запрещенное ругательство? Напомни!
— Ты про о «Абро Хакмо Астаб»?
Она повторила ругательство с наслаждением. Потом выкрикнула еще раз.
Такие речи из ее уст развеселили Лутерина. Он крепко сжал Инсил в объятиях и потянулся губами к ее губам. И услышал собственный голос:
— Давай байвак прямо тут, Инсил, мне всегда этого хотелось. Ты ведь не совсем холодна. Я знаю это. В душе ты шлюха, просто шлюха, и я хочу тебя.
— Ты пьян, уходи прочь, убирайся. Торес Лахл ждет.
— Она мне безразлична. А мы с тобой созданы друг для друга. Это тянется у нас с самого детства. Давай же совершим предначертанное. Однажды ты обещала мне. Время настало, Инсил, наконец настало!
Ее огромные глаза были прямо перед ним.
— Ты пугаешь меня. Что на тебя нашло? Отпусти.
— Нет, нет, я не отпущу тебя. Инсил, Аспераманка мертв. Фагор убил его. Теперь мы сможем пожениться, все что угодно, только позволь мне обладать тобой, пожалуйста, прошу!
Она оттолкнула его.
— Он мертв? Мертв? Нет. Этого не может быть. О, черт!
Причитая, она бросилась бежать по улице, подобрав юбки, чтобы подол не цеплялся за снежные кочки.
В ужасе и полном недоумении Лутерин бежал следом.
Он пытался понять ее, но в ней было что-то, чего он постичь не мог. Инсил во весь голос просила трубку оччары.
Лавочка торговца рыбой стояла, как она и предупреждала, в конце улицы. В дверях лавочки был устроен тамбур с двойной дверью, благодаря чему внутреннее помещение сохраняло тепло, когда покупатели входили с холодной улицы. Над дверями висела вывеска: «ЛУЧШАЯ РЫБА ОДИМА».
Они оказались в прихожей, где уже собралось несколько мужчин в теплой зимней одежде, с телами, явно говорящими о зимних метаморфозах. На крюках висели тюлени и крупные морские рыбы. Малая рыба, крабы и угри лежали на льду на прилавке. Лутерин замечал мало что из творящегося вокруг, до того его внимание сосредоточилось на Инсил, которая была близка к истерике.
Но мужчины узнали ее.
— Мы знаем, что ей нужно, — сказал один их них с кривой улыбкой и провел Инсил в заднюю комнату.
Другой мужчина вышел вперед и проговорил:
— Я помню вас, сударь.
Он был еще молод, и в его облике было что-то иноземное.
— Меня зовут Кенигг Одим, — представился молодой человек. — Я плыл с вами на судне из Кориантуры в Ривеник. Тогда я был всего лишь мальчишкой, но вы, наверно, помните моего отца, Эедапа Одима.
— Конечно, конечно, — рассеянно ответил Лутерин. — Какой-то купец. Янтарь, кажется?
— Фарфор, сударь. Мой отец все еще живет в Ривенике и занялся там поставками отличной рыбы, сани с ней приходят сюда каждую неделю. Дело приносит хороший доход, а фарфор в эти времена не пользуется большим спросом.
— Да, не сомневаюсь.
— К тому же мы торгуем оччарой, сударь, и если хотите, могу угостить вас трубкой. Эта дама, ваш друг, наша постоянная клиентка.
— Да, дружище, благодарю, принеси мне трубку да скажи: ты не слышал о другой даме, по имени Торес Лахл? Она бывает здесь?
— Мы ждем ее с минуту на минуту.
— Прекрасно.
Лутерин прошел в дальнюю комнату. Там на широкой кушетке лежала Инсил Эсикананзи, уже совершенно спокойная, и курила трубку с длинным черенком. Вид у нее был равнодушный, она взглянула на Лутерина, не говоря ни слова.
Он молча присел рядом с ней, и вскоре молодой Одим принес ему раскуренную трубку. Лутерин с наслаждением затянулся, вдохнул дым и немедленно ощутил, как в его охваченном страхами и тревогой сознании разливаются покой и благополучие. Он почувствовал себя равным всему и вся. Теперь он понял, откуда у Инсил такие расширенные зрачки, и взял ее за руку.
— Мой муж умер, — проговорила она. — Тебе известно об этом? Я говорила тебе, что он сделал со мной в нашу первую брачную ночь?
— Инсил, на сегодня с меня хватит твоих откровений. Эта часть твоей жизни закончилась. Ты еще молода. Мы можем пожениться, можем еще сделать друг друга счастливыми или несчастными, как положит судьба.
Окутавшись дымом, она ответила из центра дымного облака:
— Ты теперь изгнанник и беглец. Мне же нужен дом. Нужна забота. А любовь мне ни к чему. Все, что мне теперь нужно, это оччара. И кто-то, кто мог бы защитить меня. Я хочу, чтобы ты вернул Аспераманку.
— Это невозможно. Он умер.
— Если ты считаешь, что это невозможно, Лутерин, тогда, пожалуйста, помолчи и оставь меня с моими мыслями. Я вдова. Зимой вдовы долго не живут...
Он сел рядом с ней, потягивая свою трубку с оччарой, чувствуя, как в нем умирают все мысли.
— Если бы ты мог убить и моего отца, Хранителя, то наша удаленная от центра власти община еще могла бы изменить свою природу. Колесо наверняка бы остановилось. Чума пришла бы и ушла. Выжившие смогли бы пережить Вейр-Зиму.
— Всегда кто-то выживет. Таков закон природы.
— Мой муж показал мне, что такое закон природы, так что благодарю покорно. Я больше не хочу замуж.
Они замолчали. Вошел молодой Одим и объявил, что Торес Лахл дожидается Лутерина наверху. Лутерин выругался и, спотыкаясь, двинулся по скрипучей лестнице следом за купцом, даже не оглянувшись на Инсил, уверенный в том, что та еще некоторое время никуда не денется.
Лутерина проводили в небольшой кабинет, где роль двери исполняла занавеска. Внутри единственным предметом обстановки была кровать. Возле кровати стояла Торес Лахл. Его поразило то, какой коренастой она стала, но потом он вспомнил, что и сам теперь выглядит так же.
Возраст Торес был заметен. Хотя она одевалась по-прежнему так, как в былые времена, в волосах появилась седина. Кожа на щеках загрубела и обветрилась от мороза. Глаза смотрели тяжело, хотя при виде Лутерина в них зажегся свет узнавания. Она ничем не походила на Инсил, в том числе спокойной выдержанностью, с которой позволила ему рассмотреть себя.
Торес была обута в сапоги. Ее платье было старым и заплатанным. Внезапно она сняла с головы меховую шапку — в знак приветствия или уважения, он не понял.
Он шагнул к ней навстречу. Торес немедленно шагнула к нему, обняла и расцеловала в обе щеки.
— С тобой все в порядке? — спросил он.
— Вчера я видела тебя. Я ждала снаружи Колеса, когда тебя выпустят. Я окликнула тебя, но ты не оглянулся.
— Снаружи было столько света, я ослеп.
В его голове было пусто от оччары, и он не мог придумать, что сказать. Ему бы хотелось, чтобы она шутила с ним, как Инсил. Увидев, что Торес не собирается улыбаться, он спросил:
— Ты знаешь Инсил Эсикананзи?
— Мы подружились и поддерживали друг друга в разные времена. Столько лет прошло, Лутерин... Что ты собираешься делать?
— Что делать? Солнце зашло.
— Но жить-то надо.
— Я искупил свою вину, но снова в бегах... Меня могут обвинить в чем угодно, даже в смерти Аспераманки.
Он тяжело опустился на кровать.
— Аспераманка умер? Вот уж, действительно, благая весть... — она рассмеялась, а потом сказала:
— Если ты доверяешь мне, Лутерин, я могу отвести тебя в свое убежище.
— Из-за меня тебе будет грозить опасность.
— Наши отношения должны быть другими. Я еще молода, Лутерин. Ты еще хочешь меня?
Видя, что он медлит в нерешительности, она умоляюще продолжила:
— Ты нужен мне, Лутерин. Когда-то ты любил меня, так мне казалось. Что тебе делать здесь, в городе, в окружении врагов?
— Можно сражаться, — ответил он. И рассмеялся.
Они начали осторожно спускаться по ступенькам, старясь не оступиться в темноте. В самом низу Лутерин оглянулся на дальнюю комнату. К его удивлению, на кушетке уже никого не было — Инсил ушла.
Они попрощались с молодым Одимом и вышли в ночь.
В сгущающейся тьме в небесах несся Аверн, продолжая свое стремительное странствие по орбите. Аверн превратился в глаз мертвеца.
Настал день, когда замечательные машины отслужили свое. Системы жизнеобеспечения и ремонта действовали лишь частично. Многие другие системы — но не самые жизненно важные — еще функционировали. Воздух поступал в помещения и очищался. Машины-мусорщики по-прежнему регулярно ползали по переходам. Компьютеры продолжали обмен информацией. Машины по приготовлению кофе исправно кипятили воду и готовили напиток. Стабилизаторы орбиты автоматически поддерживали движение Земной станции наблюдения вокруг Гелликонии. В отсеке космических челноков в туалете регулярно спускал воду писсуар, напоминая животное, не способное сдержать действие слезной железы.
Лишь отправка сигналов к Земле прекратилась.
Тем более, что Земля больше не нуждалась в них, хотя многие там сожалели о прекращении старинной и бесконечной истории другого мира. Земля уже прошла этап насилия, на котором цивилизованность измеряли объемом собственности, и вступила в новый этап, на котором ценилось только волшебство личного опыта, подлежащее равному разделению, а не накоплению; воздавание должного, а не запасание и припрятывание. Человеческие существа все больше уподоблялись Гайе, становясь постоянно изменчивыми, всепроникающими, всегда готовыми к свершениям нового дня.
Они шли в сгущающихся сумерках, и Торес Лахл старалась болтать о пустяках. Шел снег, приносимый с севера.
Лутерин помалкивал. Переждав его молчание, Торес сказала, что родила ему сына, которому теперь уже десять, и рассказала Лутерину несколько смешных историй о сыне.
— Интересно, вырастет ли он таким, чтобы убить своего отца, — сказал вдруг Лутерин.
— Он родился измененным, как мы с тобой. Он твой истинный сын, Лутерин. Он выживет и породит на свет тех, кто выживет после него, надеюсь, что так.
Он немного обогнал ее, все еще не зная, что сказать. Они миновали брошенную хижину и направились к опушке леса. Время от времени Лутерин оглядывался.
Торес продолжала говорить о своем.
— Ты по-прежнему ненавидишь олигархию за то, что они убивают фагоров. Если бы только они поняли, в чем суть жирной смерти, они бы знали, что, убивая фагоров, уничтожают и свой род.
— Они отлично понимают, что делают.
— Нет, Лутерин. Ты сделал мне щедрый подарок, дав ключ от часовни ЯндолАнганола, и с тех пор я там живу. Однажды вечером в дверь постучали, и за дверью стояла Инсил Эсикананзи.
Он заинтересовался.
— Откуда Инсил узнала, что ты там?
— Случайно. Она убежала от Аспераманки. Они только что поженились. Он грубо надругался над ней, жестокий содомит, и Инсил страдала от боли и отчаяния. Она вспомнила о часовне, куда твой брат Фавин приводил ее однажды в счастливые дни. Я позаботилась о ней, и с тех пор мы сблизились и подружились.
— Что ж... я рад, что вы познакомились.
— Я показала ей записи короля ЯндолАнганола и дамы Мунтрас, где объяснялось, что вши, передающиеся от фагоров к людям, необходимы для того, чтобы человечество выживало в суровые времена года. Инсил унесла с собой это знание, чтобы объяснить Владетелю и Хранителю, но они оставили ее слова без внимания.
Лутерин недобро усмехнулся.
— Они оставили ее слова без внимания потому, что все уже давно знали. Они вовсе не хотели, чтобы Инсил вмешивалась в их дела. Они управляли системой, разве не так? Они все знали. Мой отец тоже все знал. Неужели ты думаешь, что эти старые церковные записи могли быть для кого-то тайной? Об этом давно уже было известно.
Склон набирал крутизну. Они осторожно выбирали дорогу к опушке каспиарнового леса.
— Олигарх знал, что уничтожение всех фагоров неизбежно означает уничтожение всех людей — и все равно отдавал приказы? В это невозможно поверить.
— Я не стану оправдывать деяния отца, как и Аспераманку, но то, что они знали, не устраивало их. Только и всего. Они чувствовали, что должны двигаться в выбранном направлении, какова бы ни была истина.
Он уловил запах каспиарнов и глубоко вдохнул воздух, пропитанный чуть уксусным запахом листвы. Запах пришел к нему, словно воспоминание о другом мире. Лутерин с наслаждением вобрал воздух в легкие. В убежище среди листвы у Торес Лахл была привязана пара лойсей. Глядя, как она ласково гладит морды животных, он говорил:
— Мой отец плохо представлял себе, что случится, если Сиборнал избавится от всех своих фагоров. Но он верил, что убийство фагоров вещь необходимая, к чему бы это ни привело. Он не мог представить себе, что случится, если все фагоры исчезнут, что бы ни говорили древние письмена на стенах...
Обращаясь скорее к самому себе, он продолжил:
— Мне кажется, он был уверен, что Сиборналу необходимо порвать с прошлым самым решительным образом, любой ценой. Защититься от прошлого, можно назвать это так. Возможно, в будущем его правота подтвердится. Тогда отца сделают святым, как этого старого злодея ЯндолАнганола.
— Защититься от прошлого... это очень похоже на людей. Сидеть и курить оччару никуда не годится. Никакого прогресса это не сулит. Ключ к будущему лежит в самом будущем, но никак не в прошлом.
Снова поднимался ветер. Торес закрыла ладонями обветренное лицо.
— Ты стал таким черствым. Пойдешь со мной в часовню? — спросила она.
— Ты нужен мне, — сказала она, когда он не ответил.
Он вскочил в седло, наслаждаясь привычным движением и ответом животного, почуявшим умелого седока. Похлопал лойся по теплому боку.
Он оказался изгнанником в родной стране. Но не навсегда. Вероломного Эбстока Эсикананзи не стоило принимать во внимание. Ему не нужна была доля Эбстока Эсикананзи; ему нужна была справедливость. С мрачным видом он рассматривал гриву лойся.
— Лутерин, ты готов? Сын ждет нас в часовне.
Он поднял голову и, глядя сквозь застилающую глаза пелену, кивнул. На его ресницы садились снежинки. Торес и Лутерин ехали среди каспиарнов, а в спину им дул ветер, срывающийся со склонов горы Шивенинк и петляющий среди деревьев. С ветвей над их головами им на плечи обрушивались каскады снега. Склон спускался к невидимой часовне. Они обогнули то, что некогда было водопадом, а теперь превратилось в ледяную колонну.
В последний миг Лутерин обернулся, чтобы взглянуть на городок. Отблеск костров отражался в низких облаках, которые нес ветер.
Покрепче взявшись за поводья, он быстрее пустил лойся вниз по склону, навстречу сгущающемуся мраку. Женщина окликнула его с тревогой в голосе, но в крови Лутерина уже закипал восторг.
Он вскинул над головой кулак.
— Абро Хакмо Астаб! — выкрикнул он, устремив всю силу голоса в чащу леса.
Ветер подхватил его крик и заглушил стеной падающего снега.
Природа мира в целом меняется с течением времени. Все и вся должно пройти через последовательность фаз. Ничто не остается неизменным навсегда. Все и вся находится в движении. Все видоизменяется природой и переносится ею на новый путь. Что-то, истерзанное временем, распадается и исчезает в небытии. Другое возникает из небытия и наливается силой. Таким образом время меняет природу мира в целом. Земля проходит через последовательность фаз, и то, что раньше было ей по силам, она не может вынести сегодня, но — удивительно — способна сегодня вынести то, что не могла вынести раньше.
Тит Лукреций Кар. О природе вещей
55 г. до нашей эры


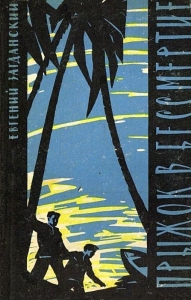

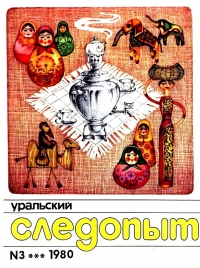
Комментарии к книге «Зима Геликонии», Брайан Уилсон Олдисс
Всего 0 комментариев