Юрий Астров Крылья
МАЛЕНЬКАЯ ПОВЕСТЬ
Брату моему с благодарностью за неоценимую помощь в подборе материала и за стихи.
Глава первая
Этот плащ определенно знал лучшие времена, а также видал виды.
Сшитый из рытого бархата темно-малинового цвета (в наше меркантильное время таким материалом разве что обивают очень дорогую мебель), плащ сей, однако, был вовсе не парадным. Неотстирываемые следы старой грязи (или крови?), потертости, а то и дырки свидетельствовали о том, что плащ надевали если не постоянно, то часто, и отнюдь не на официальные приемы. Хотя, воз, и туда тоже. Правда, настораживало полное отсутствие пыли…
Впрочем, надевали его давно. Очень давно. В позапрошлом веке. (Да нет, что это я… В поза-позапрошлом уже, конечно!) Плащ не видел улицы лет двести с хвостиком, пожалуй. Именно сейчас, кстати говоря, в этом плаще было бы появиться на людях: уж чем-чем, а необычной одеждой нынче никого не удивишь… Но Семен Орестович, конечно, никогда бы на это не решился.
Во-первых… но об этом позже. Во вторых же — не избежать было вопросов. На худой конец, и отшутиться, однако — кто его знает? Вдруг среди приятелей и знакомых окажутся эрудиты? Два разреза на спине плаща могли их просто удивить, а могли и навести на определенные мысли. Хотя об ордене Игроков мало кто знал, но исключить встречу со знатоком было нельзя. Тем более, когда на книжных развалах торгуют всякими «Тайнами черной и белой магии» и прочей белибердой. За всеми изданиями не уследишь, мог кто-то и докопаться, а потом выдать на-гора информацию. К которой никто бы серьезно не отнесся, наверное, но…
Но.
Слишком многим Семен Орестович рисковал. Лучше подождать, но потом надеть плащ уже не по праву наследника отца, вовсе нет — по праву рыцаря.
Семен Орестович вспомнил, как еще Семушкой (или — по уличному — Сенькой), мальчишкой не весьма великого возраста, впервые наткнулся на плащ.
На чердаке дома, построенного на месте старой саманки, было много барахла.
Там, увязанные в стопки бельевыми веревками, лежали книги и журналы. Семен просмотрел их почти все. Шеллеры-Михайловы, Боборыкины и Лейкины мало интересовали юнца, и он снова связал эти толстые томики — в переплетах и без оных — в стопки, пусть и не такие аккуратные, как раньше. А вот журналы — дело другое. Они открыли ему мир, давно канувший в небытие.
Там были толстые подшивки «Нивы» за конец 19-го и начало 20-го веков. С фотографиями императорской фамилии, с «оригинальными иллюстрациями» — как правило, совершенно бездарными художественно, но так не похожими на картинки в «Пионере» или «Костре». С корреспонденциями из Порт-Артура и Ханьчжоу — с русско-японской войны.
Там был «Вестник иностранной литературы» с игривыми повестушками Мирбо и занудными, на тогдашний вкус Сени, романами Пшибышевского и Гамсуна — но зато с Киплингом, а также неким коммунаром (чья фамилия к этому времени испарилась из памяти нашего героя), отбывшим каторгу во Французской Гвиане, а после каторги радикально изменившим взгляды и писавшим разоблачительные романы о мировом еврействе. Особенно поразила Сеню бочка радия, при помощи которой главный антигерой хотел избавиться от своей жены (видать, и тогда что-то о лучевой болезни уже знали), а также уверенность бывшего революционера в том, что если радиограмму перехватить, она до адресата не дойдет.
Там был «Всемирный следопыт» 20-х годов с «Островом гориллоидов». Автора Семен Орестович забыл, но прекрасно помнил тогдашнее впечатление: до этого он был знаком с нашей фантастикой лишь по Охотникову и Немцову.
Да мало ли чего там не было!
Например, шпага. Потом отец сказал Сене, что это артиллерийский палаш. Клинок был заржавлен, но на эфесе зато выжжено несколько точек. Семен уверил себя, что это, конечно же, количество убитых на дуэлях или в бою.
Или эсэсовский кинжал. Здоровенный, как гладиаторский меч, который Сеня видел на иллюстрациях к капитальному труду историка Мишулина «Спартак». Рукоять заканчивалась двуглавым орлом, а по желобку лезвия шла надпись: «Gott mit uns». Отец привез его с войны, а бабушка спрятала от греха подальше.
Нашел мальчишка там и телескоп. Впрочем, в том, что это именно телескоп, он был уверен лишь в детстве. Скорее всего это была труба от универсального инструмента астрономов-геодезистов. Потому что изображение в ней было перевернутым, а на окуляре — сетка. Труба потом куда-то затерялась, и проверить свое предположение Семен Орестович уже не мог.
А также стояли на чердаке два сундука. В одном хранилась старая обувь, в основном яловые сапоги и подшитые валенки. Никогда и никто их уже не обует, — но выкинуть у родителей рука не поднималась. А в другом — еще более старая одежда. Сундук с одеждой был громадным; Сеня не раз задавался вопросом: и как же его умудрились взгромоздить на чердак? Вот с этим сундуком у Семена сложились отношения вполне дружеские. Была в нем, как, впрочем, в любом мальчишке его возраста, некая актерская жилка. Либо — потребность в игре. Но не просто игре — в «штандер» или «кляк» (южно-русский городок, родина Семена Орестовича, с диким суржиком, который он, став взрослым, уже не понимал, и еще более дикими жителями — эти давние переселенцы с Полтавщины и Харьковщины, чтящие Шевченко, упорно именовали себя «русскими», а русских, которых тоже в городке хватало, «москалями» и «кацапами» — так вот, городок Кулич не знал «казаков-разбойников», городков и лапты; впрочем, детские игры везде одинаковы — с небольшими вариациями).
Нет, Сеня вкупе с приятелями разыгрывал целые истории, почти бесконечные. Во всяком случае — с многодневными продолжениями. Пока партнерам не надоедало. О пиратах, о «черной кошке» — и эта игра, право же, была куда как хитрее закручена, чем через двадцать лет у братьев Вайнеров! — о путешественниках в Африке либо, наоборот, в Арктике… Сейчас это назвали бы «ролевыми играми». Во всяком случае, палаш, кинжал и телескоп, игравший роль подзорной трубы, на чердаке не залеживались.
И одежда из сундука — тоже.
Сундук, как было уже сказано, отличался непомерными размерами и вместительностью, так что исчерпать его до дна было непросто. Но однажды потребовалось отыскать сразу пять тулупов — намечалось путешествие капитана Гаттераса. И Сеня добрался до донышка сундука, хотя уже понял, что двоим членам экспедиции придется мерзнуть в торосах.
На самом дне лежал сверток, упакованный в тонкую замшу, аккуратно перевязанный и пахнущий нафталином, столь знакомым Сене по двустворчатому шкафу в комнате родителей. Мальчишка развязал бечевку и достал этот самый плащ. В полутьме чердака он казался новехоньким и так отличался от всего, что было навалено поверх… Но не только это поразило Сеню.
Плащ был попросту несовместим с окружающей его жизнью.
Шпага — да, совместима. В отцовском роду были офицеры, пусть и в небольших чинах (выше штабс-капитана никто так и не поднялся). И сам отец был офицером, но уже Красной, а потом Советской армии. Отсюда и кинжал — военный трофей. (Отсюда, кстати, и парабеллум, который отец хранил, разумеется, не на чердаке и о котором сыну запрещено было не то что говорить — даже думать.) Все эти гимнастерки, галифе, нагольные тулупы, старые-престарые армяки и поддевки, военные и дворянские фуражки, а также картузы, шестиклинки и пилотки — это просто была та самая жизнь.
Но не этот плащ. Не эта крылатка рытого бархата с застежкой из уже покрывшейся патиной бронзы в виде крылатого льва с орлиной головой. Сеня знал, что это грифон. И что грифонов не существует. И что этот грифон делает в Куличе, на чердаке огромного старого дома, — было непонятно.
Все равно, что увидеть на соседском псе по кличке Лапко, то добродушном, то, с пеной у пасти, хрипящим и рвущемся с цепи, с бурой шерстью в репьях даже зимой — золотой ошейник, украшенный жемчугом.
Не бывает такого.
Сеня аккуратно упаковал плащ в ту же замшу, перевязал, уложил на прежнее место, навалил сверху старую одежку, захватил шубы и полез вниз, к приятелям. Но… игра не заладилась.
Он хотел было спросить вечером у отца о плаще, да так и не спросил, — что-то его удерживало.
И только через несколько лет, когда его снова занесло в тот самый сундук, он все же спросил у бати: что же это за плащ?
Отец внимательно посмотрел на Семена и ответил:
— Это — военный трофей. Пусть лежит.
Такие распоряжения обсуждению не подлежали. Отец, Орест Янович, был в семье патриархом, и все его приказы выполнялись без разговоров. И хотя Семен чувствовал себя тогда несколько умнее папаши (есть такой период в становлении юношей, все знают) — ссориться он с ним не собирался.
Вернее — не решался.
Так никогда и не решился.
Глава вторая
Надо заметить, что детство нашего героя пришлось как раз на те времена, когда, по меткому замечанию Андрея Битова (тем более метким оно стало лет через двадцать, — именно тогда стало ясно, что за одного Битова двух небитых дают), в фильмах стало распахивать окна. То ли когда больной, герой киноленты, после долгих страданий становится на ноги, то ли когда завод наконец запускает автоматическую линию, созданную по проекту сценариста (цитирую Битова почти дословно). Так что распахнутое окно повлияло и на характер Сени.
Впрочем, подозреваю, что Андрей Битов сам не знал, кого он называл сценаристом. И вот это невольное недосказание определило всю дальнейшую судьбу Семена.
В кино окна открывались, и в дом врывалась весна. Из окна обычно был виден ледоход. Эта метафора навязла в зубах у кинозрителей гораздо быстрее, чем режиссеры от нее отказались.
В доме Семушки, чтобы открыть окна, сперва следовало выставить первые рамы. Но и открыв затем створки окон, ничего, кроме кладбища, увидеть было нельзя.
Семен далеко не сразу оценил остроумие ремарковской героини, бравшей с постояльцев за номер с видом на кладбище на марку дороже. Немецкие кладбища, видимо, заслуживают такой наценки. А вот русские… А уж то, что стояло под боком у Семена…
Это было кладбище для бедных. Здесь хоронили безродных, здесь на целой трети территории двадцать лет не копали могил: на глубине не больше полуметра лежали скелеты военнопленных итальянцев, которые в 43-м вымерли от голода и холода всем лагерем. Сейчас, правда, там хоронят — старые кости сгнили…
Не надо, однако, преувеличивать влияние этой картины на неокрепшую психику ребенка (тем более, что ребятишек на Кладбищенской было изрядное количество, и рождались все новые). Картина была не очень траурной, а главное — привычной.
Сеня понял только одно: распахивать окна весной нужно, но не в Куличе. И в 17 лет покинул дом. Надолго. На тридцать без малого лет. Но он-то думал тогда, что навсегда…
Все эти тридцать лет он почти не бывал на родине. Он открывал свои окна в областных центрах и столицах, сменив их порядочно, — но всегда эти окна в конце концов открывались на кладбище. Пусть иной раз и на такое, что было даже марку доплатить — не жалко за такой вид; тем не менее убежать от кладбища так и не удалось. И весны были разные, иногда очень обещающие, — особенно последняя, — но все всегда заканчивалось привычным видом: могильные холмики, плиты, памятники, кипарисы, кусты сирени, отрытые могилы, готовые к приему очередного новосела.
Последние годы перед его возвращением с обломков второй семьи на родное пепелище дом стоял заколоченным. Но не разграбленным. Его сторожили соседи, за что по договоренности с наследником (таковым Семен Орестович и являлся) использовали в целях собственного пропитания земельный участок, попросту — огород. Так что Семену оставалось лишь, проветрив часть помещения и наглухо заперев другую, открыть заглушку, наполнить отопительную систему водой и затопить газовый котел. Сразу стало жить.
Немолодой, одинокий рантье с пестрой биографией, которая сейчас никого не интересовала, двумя высшими образованиями, двумя изданными, но давно забытыми книжками и неудавшейся жизнью… Впрочем, звериное здоровье быстро отвлекало Семена от таких — иногда все же закрадывающихся в голову — мыслей.
Начинать жизнь заново было нетрудно. Но — зачем? Ни о какой-то новой семье, ни о карьере (в Куличе-то? Боже мой…) Семен Орестович не думал.
Соседи ему не докучали, — на Кладбищенской знакомых почти не осталось. Да и в городке — тоже. Кто умер, кто уехал.
Изредка он приводил женщин. Иногда стучал по клавишам ноутбука, а потом отсылал рассказы и статьи в безгонорарные журналы. Порой листал книги, изданные в основном в 50-е и 60-е годы, — из отцовской библиотеки. Их дворянско-разночинная ветвь куличевской интеллигенции, столь резко обломанная революцией и гражданской войной (одного прадеда расстреляли — то ли белые, то ли красные, другой погиб на Гражданской — то ли у красных, то ли у белых) — все же не засохла. Орест Янович не испытал отцовского влияния из-за безвременной смерти отца, прапорщика военного времени, а потом учителя, и удивительно поэтому, что извечный бич русской интеллигенции — вина перед народом — хлестал его едва ли не до боли; он и сына назвал Семеном по этой причине. (Кстати, Семен такое влияние как раз испытал, но никакой вины ни перед кем не чувствовал. Если бы он над этим когда-нибудь задумался, то мог бы такие раздумья резюмировать словами Потока-богатыря: «Я ведь тоже народ, так за что ж для меня исключенье?»). Несмотря на некоторый даже — по куличевским меркам — аристократизм, батя мог по праву называться интеллигентом лишь в первом поколении, это повлияло и на его литературные вкусы: до смерти — достаточно безвременной — он с подозрением относился не только к Толстому и Достоевскому, но даже к Чехову, зато Сетона-Томпсона и Паустовского считал великими писателями. Новых книг Семен не покупал.
В середине весны он вскопал огород и посадил картошку. А потом, вспомнив вдруг о связках журналов и книг, нашел на задах лестницу (дробыну по-местному) и полез на чердак.
Лампочка не горела. С трудом различая при тусклом свете из открытой чердачной дверцы очертания предметов, Семен пошел вперед, туда, где должны были лежать книги. Но совершенно неожиданно и весьма чувствительно ударился коленной чашечкой о большущий сундук. Тихо выматерившись, он стал растирать больное место — и тут его осенило.
Открыть сундук, выбросить из него ворох старой одежды не составило труда и заняло пару минут. Необычно взволнованный, Семен быстро докопался до дна.
Замшевый сверток был на прежнем месте.
Семен спустился вниз со свертком под мышкой, свалил лестницу набок и пошел в дом.
Увидев себя в зеркале, висевшем в прихожей, наш герой невольно ухмыльнулся. Вид его, в паутине и пыли, был комичным и даже несколько страшноватым. Но нетерпение подстегивало. Не отряхнувшись, Семен зашел в кабинет, быстро развязал бечевку… Плащ был точно таким, каким запомнился ему тридцать лет назад. И — ни пылинки на нем почему-то. Удивившись и устыдившись, Семен разложил крылатку на диване, полюбовался ею, пошел в сени и долго обмахивал свою одежду новеньким веником, а потом чистился щеткой.
Вымыв руки и лицо, он снова посмотрелся в зеркало. «Не побриться ли?» — мелькнула мысль. Но это уже был явный перебор. Не на свиданье ведь торопишься…
Вернувшись в кабинет, Семен Орестович решительно надел плащ и застегнул пряжку — плащ сидел, как влитой. Он хотел посмотреться в зеркало, но вдруг заметил свое отражение в темнеющих стеклах окна. Необычное чувство охватило Семена Орестовича. Описать его он бы не смог, — сперва стоило проанализировать. Но эйфория мешала мысли.
Темный силуэт со смутно различимыми чертами в оконном стекле напомнил Семену статую Октавиана Августа с Капитолия. Он поднял руку в похожем жесте, набрал воздуху, произнес с выражением: «Римляне! Сограждане! Друзья!» — и неважно, что цитировал Семен Орестович, наверное, вовсе не первого императора, а его непримиримого врага Цицерона, да и обращался совсем не к свободным гражданам великого города, а к кладбищенским камням… Потом он плавно повел рукой (наверное, о таком жесте мечтал Остап Бендер, зачитывая Корейко его «Дело») в направлении самого большого памятника, который был виден из окна. Того самого, из цельного мрамора, с поэтичной на куличевский вкус эпитафией: «Как много взяла моего ты с собою, как много навеки оставила мне своего».
На глазах изумленного Семена памятник — коричневый обелиск — со скрипом вылез из земли и рухнул плашмя. А самого Семена внезапно подбросило в воздух, ударило о стену, а потом он оказался на полу в весьма неудобной и болезненной позе.
И почему-то — без плаща. Крылатка лежала на диване и даже была свернутой.
…Плащ был немедленно упакован в ту же замшу и надежно упрятан под диваном, на котором хозяин не спал.
Предчувствия не обманули Семена Орестовича. Крылатка была Силой. Силой не злой, не доброй — Cилой неприрученной.
«Ну, ладно, памятник… — подумал Семен Орестович. — Ну, взмыл — и упал. А ну, как полезут из земли скелеты?»? Он в это, в общем-то, не верил, но — вдруг?..
Жизнь била Семена безжалостно. Не сломала, отнюдь, но очертя голову браться за Силу — нет, этого делать он не собирался голову и потерять…
Семен Орестович впервые со своего появления в Куличе появился в книжном магазине. А потом зашел еще и на развал у рынка — там книг подобного рода было куда больше.
Плащ покоился в укромном уголке, а Семен Орестович лежал на полу, на старой медвежьей шкуре, и, изредка опасливо поглядывая под диван (там, правда, ничего не было видно), читал разнообразную белиберду. Во всяком случае, так он относился к книгам такого разбора раньше. Сейчас… сейчас в голову Семена Орестовича закралось сомнение.
Начал он с «Энциклопедии мистицизма», откуда узнал, что слово «абракадабра» было магическим заклинанием у василиан, что «абракас» является именем космологического существа у гностиков, что «зикр» в мусульманском мистицизме означает неустанное повторение имени Бога, а вот «зухр», напротив, предполагает благочестивое поведение правоверного мусульманина и отказ от мирских благ; что «йони» в индийской традиции является символом божественной производительной силы, а «ньингмапа» есть древнейшая тибетская буддийская школа, что «танас» в индийской мифологии — не что иное, как космический жар, лежащий в основе мироздания, а «юйцин», наоборот, — одна из сфер высшего мира в даосской традиции; однако про плащ в книге ничего не было. Тогда Семен Орестович взялся за «Словарь примет и знамений» Филиппа Уэринга, где скоро выяснил, что срывать анютины глазки в хорошую погоду считается в Британии дурной приметой, что если беременная шведка пьет из треснувшей чашки, то ее ребенок может родиться с заячьей губой, а валлийцы считают, что лук-порей, посаженный на крыше дома, защищает людей от болезней, что скаковая лошадь с «чулками» приносит удачу, что в Африке строго-настрого запрещено щелкать ножницами во время бракосочетания, поскольку это сделает жениха импотентом; что в Южной Англии, наоборот, верят, что спрятанный под окном нож не подпустит к окну дьявола, что ребенок, который много плачет — долго живет, что плющ на юге Европы является непременным атрибутом Диониса, — и только слова «плащ» в словаре не оказалось. После этого Семен обратился к «Энциклопедии примет и суеверий» Кристины Хоул и почерпнул оттуда массу полезных сведений, как, например: валуны в Корнуэлле являются излюбленным местом сборищ колдунов и ведьм; падучая звезда справа — добрый знак, а слева — наоборот, плохой; увидев впервые молодой месяц, следует его поприветствовать поклоном или реверансом; пион почитается магическим и лечебным растением, а подкова всегда приносит счастье нашедшему ее, — но о плаще в книге не было ни слова.
Почти отчаявшись, он принялся изучать «Энциклопедию знаков и символов», надеясь, что уж здесь-то наконец найдет хотя бы намек на ответ. Семен Орестович прочел статью про «мозаику алфавитов», из которых его больше всего заинтересовал батакский: читая о нем, он даже стал напевать себе под нос полузабытое «Раньше это делали верблюды, раньше так плясали батакуды…», порадовался за алфавит буги, используемый на Сулавеси, но вскоре понял, что нужно идти дальше. Он начал осваивать «разговор при помощи рук» и с удивлением узнал, что оттопыренный средний палец считают оскорбительным жестом не потому, что он выражает пренебрежение, а потому, что сие — не что иное, как древнейший фаллический символ. «Но это же просто какой-то раб-FAСK!», — в отчаянии подумал Семен — и стал читать дальше. Он прочел о «сигналах издалека», о «священных письменах», узнал, чем кельтский крест отличается от креста Голгофы, а тот, в свою очередь, от анха древних египтян, но все это было не то, не то, типичное не то. Затем он выяснил, что алебарда у католиков означает Иуду, а гусь символизирует совсем не гуситов, а вовсе даже Мартина, святого покровителя Франции. Кинжал символизировал покровителя Дании святого Канута, мешок с деньгами — бывшего мытаря Матфея, плеть — святого Бонифация, плуг — святого Ричарда, а вот плащ никого не символизировал.
Семен Орестович изучил геральдику и торговые знаки, флаги различных государств, сигналы морского языка флагов и даже — на всякий случай — азбуку Морзе… О плаще нигде не было ни слова. Тогда он собрался с духом и изучил язык знаков бродяг на дорогах Британии, Франции и Северной Америки, узнав при этом, что изображение кота на этом псевдоязыке означает: «в доме хорошая женщина», а тройной крест предупреждает о том, что в доме живет полицейский, — но изображения плаща не было и в языке бродяг. Было от чего растеряться…
Почти уже в прострации, Семен скрепя сердце взялся за капитальный труд поборников веры Якова Ширенгера и Генриха Инститориса «Молот ведьм», — а вдруг что-то да найдет… И уже к вечеру знал, что зло, совершаемое ведьмами, превосходит все зло, которое Бог допустил когда-либо, и что поджаривать ведьм на медленном огне, забивать им под ногти клинья, сжигать у них на голове пропитанную маслом паклю и окунать связанных в воду с целью убедиться, не ведьмы ли они (не ведьма тут же утонет — и, значит, на радость окружающих, будет спасена от адских мук) есть занятие богоугодное и исключительно прибыльное. Но и эти знания ни на йоту не приблизили его к разгадке тайны чудесного плаща.
Вот тебе и европейский трофей отца…
Поскольку никакая другая иностранная литература о «нездешнем» не была здесь для него доступной, Семен решил, учитывая международный характер потусторонних сил, черпать сведения в книгах отечественных по сути и интернациональных по содержанию. Он стал изучать тайные общества и культы. Союз дук-дук, союз ингнет, Тамате… Нет, не то… Однако что-то в этом есть, — думал он. Ведь Сила, страшная и привлекательная Сила, таинственная Сила, которую просто-таки излучал плащ с чердака отцовского дома, явно была происхождения не этого мира, не этого времени, может быть, и не этого пространства.
Так, дальше, дальше… Орден розенкрейцеров, орден золотых розенкрейцеров, тамплиеры, иллюминаты… Ближе, уже ближе… В средние века, куда корнями уходили все эти тайные ордена, имелась масса заветных, тайных знаний, которые исчезли вместе с их хозяевами… Алхимики… поиски философского камня… поиски панацеи… всеобщий раствор… И ведь находили же, находили… Альберт Великий! Роджер Бэкон! Раймонд Луллий! Парацельс! Какие имена! Какие успехи! И это — среди дикости, среди хижин из глины и хвороста, среди ужасающих эпидемий чумы и оспы!.. Что-то во всем этом есть такое, что некой незримой нитью связывает эти имена с найденным на чердаке плащом! Сила, та самая Сила, которую искали неутомимые исследователи Тайны и которая явно есть в этой вещи.
Так, тайные судебные общества, все эти Священные Фемы, Поцелуй Девы… Нет, это явно шаг в сторону…
Ага, масоны… Масоны. А что — масоны? Ну, ежели отбросить все эти климовские заклинания о том, что они правят миром? Да, конечно, об их деятельности известно много любопытного, но к данному плащу масоны явно не имеют отношения. Слишком темные у них цели, слишком земные у них средства, да и результаты — совершенно земные. Да и не верил наш герой, что масоны миром правят — уж очень бездарны климовские книги! Кроме того, плащ в их обрядах специально нигде не упоминается. Циркуль, кельма, фартук, каменюки там всякие, — ну, понятно, вольные каменщики же… Да, камзолы у них еще особые были. Но опять-таки — камзолы, а не плащи…
Значит, масонов — в сторону. Что еще осталось? Союз Двенадцати? Эк куда тебя занесло! Ну, хорошо, оставим свободный полет фантазии. Были ведь еще «филадельфы», «Арзамас», в конце концов! А что, и очень даже симпатичный был кружочек! Светлана, Чу, Сверчок, Две Огромные Руки… ну что за прелесть! Да… Но при чем тут плащ? Так, вот еще какие-то «зыряне» были… Филоматы и филареты… Плыне, Висла, плыне по родной краине, и допуки плыне, Польска не загине… Да, но это чистая политика. Не то, совсем не то…
А дальше и вообще уже сплошь секты! Ессеи, гностики, монтанисты, манихеи, катары, альбигойцы… Прыгуны, духоборы, адвентисты седьмого дня… Тюкальники… Вот еще, блин, религия! Антихрист на земле, поэтому каждому, чтобы не служить Антихристу — топором по затылку — тюк! Нет, наш плащ тут, конечно, не при чем. Марабуты, исмаилиты, езиды… Друзы какие-то!.. Черт-те-что, ей-богу! Эти-то тут при чем? Зачем я сюда полез? Плащ ведь явно европейский!
Нет, так дело не пойдет. Ничего я не найду.
А не пойти ли к сведущим людям?
Потолкавшись пару дней на рынке, купив несколько пучков совершенно не нужной ему травы, Семен обзавелся адресами знахарок — в Куличе и окрестностях. Вывел из сарая пожилую, едва ли не антикварную 21-ю «Волгу» с оленем на капоте, оставшуюся от отца, и стал кататься. Однако — без толку.
Семен Орестович мог разговорить кого угодно, — он умел слушать, сказывалось (в том числе и) журналистское прошлое. Его заинтересованность в собеседнике была совершенно искренней, и собеседники это понимали. Объездив десяток старушек и стариков, а также более молодых представителей почтенной профессии, выслушав кучу автобиографий, получив массу сведений о народных средствах (ну, там гнилая кровь, моча молодого поросенка, лягушки, вареные в собственном соку, и прочая колдовская гастрономия), о гаданиях — на картах, на кофейной гуще, на бобах, — он, однако, нимало не приблизился к цели. Все это — белиберда чистой воды…
Совсем было потеряв надежду, Семен Орестович решил махнуть вместе с плащом в столицу. Там у него оставались кое-какие знакомства, и было добраться как до сведущих историков, так и до адептов чистого знания. Хотя и опасное это дело… Но, не выяснив тайны плаща, Семен уже не мог жить спокойно. У него появилась цель!..
Вытащив плащ из-под дивана, он снова стал его внимательно разглядывать — и вдруг вспомнил, как еще ребенком лечился у старухи-соседки. Она высыпала ему пшеном «куриные гузки», — болезнь прошла в один день. Старуху на улице звали Салихвоновной, и жила она буквально в ста метрах от дома Семена. Бабке сейчас за девяносто, она слепа, глуха, как пень, но… чем черт не шутит!
Прихватив бутылку самогона (вся улица знала бабкины пристрастия) и плащ в свертке, Семен пошел к Салихвоновне.
Глава третья
— А что, бабуся, не худо бы вина выпить! — вспомнив бессмертные строки, начал разговор Семен.
— Эт точно! — мгновенно согласилась бабуля, доставая немытый стакан эпохи Никиты Сергеевича и сиреневую луковицу. — Так наливай, милок!
Хватили по стаканчику. Бабуся, прищурившись подслеповатыми глазками, заявила:
— Ну, чего у тебя? Не кобенься, просто так ты не пришел бы старуху проведать! Уж какой месяц, как вернулся, а зашел только сейчас!
Семен достал из пакета плащ:
— Потрогай, бабушка!
Бабка тронула бархат, неожиданно упала со стула и начала мелко-мелко креститься;
— Да ты что, озверел, что ли — такую вешш по улице таскать?!
— А что это? — допытывается Семен.
— Дак откуда же мне знать-то? — удивилась бабка. — Сам приволок, а сам спрашивает!
Посидели, помолчали.
— Ну-к, налей-ка мне еще чуток! — попросила старушка. Выпила.
— Чего это, не знаю, брехать не буду, да и грех брехать-то в таком поштенном возрасте, а только знаю, милок, что энта штука твово отца на хронте от смерти спасала. Ведь он у тебя герой был! Орел, чистый орел! Четыре танка под им сгорели-то! Все, кто в их были — в головешки, а ен-то — живой! Уж где ен эту штуку добыл, доподлинно не знаю, а только Хведоровна, бабка-то твоя, сказывала как-то, что как с-под городу Риги отступали в сорок первом, так в какую-то ихнюю церкву снаряд германский попал, пол-стены вывалилось, а там — шкилет, а на ем — вот энта вешш, и как новая, — ни пыли на ей, ни грязи, ни моли. А твой-то отец грамотный был! Он эту вешш и сохранил… Но мы тут про етто не болтали… Грех, да и власти прознать могли… Они в то время сурьезные были, власти-то… Товарищ Сталин — и-и-и! Не губошлеп, совсем не губошлеп! Так что спрятала Хведоровна этту вешш до луччих времен… А где они, луччие-то времена?! Ну-к, налей остаточек!
— А как узнать-то, что это за вещь? — дождавшись, когда бабка допьет остатки самогона, спросил Семен Орестович.
— Ну, ты герой! — восхитилась бабка. — И не боисси?
— Да как не бояться-то? — искренне удивился Семен. — Боюсь, конечно, ведь сила в ней страшная… Но если все время бояться, так и вся жизнь мимо пробежит…
— Эт точно! — радостно согласилась бабка. — Я, бывало, в молодые-то годы — ух-х! Ведьмой была!.. Да, чистая ведьма!.. Но, впрочем, не во мне дело. А про вешш ты у своего домового поспрашай! Он у вас со старинных времен обжился! В старые годы, еще при царском-то режиме, была тут конюшня поповская, а при ней сторожка. А в гражданскую конюшню Дунька-партизанка спалила! А коней увела, да!.. а в сторожке твой дед жить стал, — дом-то у него отобрали! А потом уж пристроил саманочку… А уж после-после отец твой, уже при Никите-кукурузнике, построился… А домовой-то все один остался… И вешш эту он принял! Ведь ни пожару у вас не было, ни потопу, ни мору какого… А что отец рано ушел — эт, конечно, от вешшы… Она же свою силу-то ему дала, а он-то, хоть и грамотнай, в этих делах темный был… А коли ты темный, то оно так: что взял, то верни! Да! Так что ты не игрался бы с вешшю-то, а то она потом с тебя спросит…
Семен, выкатив глаза, порывался было что-то сказать, да задумался. «Никак бабуся из ума выжила?», — подумал сначала он, но потом… Плащ-то — вот он! И Сила — тоже. Не может быть — а есть! Может, и домовой тоже… есть?
— А как с домовым связаться-то, — спросил он на всякий случай (забористым оказался самогон, аж язык заплетается), — Салихвоновна? Кстати, а почему Салихвоновна? Селифановна, что ли?
— Да нет. У меня родитель-то попом был, поп Ксенофонт Вознесенский. А это уж местные дуры-то — имени христианского не понимают, — Салихвоновна да Салихвоновна! А по поводу — как…
(«Ишь ты, как грамотно бабка заговорила!», — подумал вдруг Семен Орестович. «Видать, где-то все-таки успела поучиться…») — Так вот, — зорко глянула бабка, — я, кады в ведьмах-то была, травничек составила… — ну, там не только о травах, — она вздохнула, с сожалением поглядев на пустую бутылку. — Тока ты имей в виду: такие дела без магарычу не делаются…
Глава четвертая
И вот, наконец, заветный «травничек» бабка Салихвоновны — в руках у Семена Орестовича. Почерк вполне разборчивый, написано довольно грамотно… ох, не проста бабка, не проста!
Итак, читаем:
«Против княжьего и боярского гнева нужно при себе носить под левой мышкой правое око орла, завязав в ширинку. Этого орла нужно поймать непременно в Иванов день о вечерне, понести на распутье и заколоть острой тростью». Так…
«Траве ятрышник, иначе называемой „кукушкины слезы“, свойственно делать бег лошади быстрым и неутомимым. Для этого нужно к овсу подмешать горсть ятрышника, нарезанного в мелкие кусочки, а перед тем временем, как ей нужно бежать, смазать брюхо и ноги оленьим жиром, на шею повесить два волчьих зуба и накормить волшебной травой». Ага…
«Сава трава. Страшна та трава. Когда человек найдет на нее в поле или в лесу, то умом смятется. Ростом невелика, от земли чуть знать, на ней пестринки по всей, а в корени черви и на верху. Добра ловить зверей, аще кто украдет — трава сия повернется к нему, только положи ее на его след; если кто ставит поставухи, ты положи той травы подле дороги — удачи и пути ему не будет». Ну, мне не зверей ловить…
«Анис движет помысел постельный яко мужьям, тако и женам. Мужеску же полу от приятия семени в брашне спермы добавляет». Так, возьмем на заметку…
«— Коя трава всем травам мати? — спрашивает Володумир-царь Володумирович премудрого Давида Евсеевича. — Плакун-трава всем травам мати! — Почему плакун-трава всем травам мати? — Когда жидовия Христа распяли, святую кровь его пролили, Мать Пречистая Богородица по Исусу Христу сильно плакала, по своему сыну по возлюбленному, роняла слезы пречистыя на матушку на сыру землю. От тех слез, от пречистых, зарождалась плакун-трава. Потому плакун-трава — травам мати». А это еще что за антисемитизм?..
«А кто хочет увидеть домового (ага!), сделай так: в Пасхальную полночь, во время Страстной заутрени, в хлеву, подойди к заднему углу, скажи: „Хозяин, стань передо мной, как лист перед травой, не черен, не зелен, а таким, как я; а я принес тебе красненькое яичко!“, — и он явится. Или скатай такую свечу, чтобы с ней простоять в Страстную пятницу у Страстей, а в субботу и воскресенье у заутрени; когда между утреней и обедней в Светлое воскресенье зажечь ее в хлеву, то увидишь в углу домового деда, ждущего тебя». Вот черт, как просто-то! Только где я вам хлев возьму? У нас во дворе отродясь никаких хлевов не было… Поищем еще.
«Чтобы видеть всю нечистую силу, найди цветок Адамова голова, цветущий на Иоанна Крестителя, и положи его в церковь под престол, чтобы он пролежал 45 дней. Он получит от этого такие свойства, что, держа его в руках, видишь всю нечистую силу». И кто же это даст мне такую возсть — засунуть пучок травы под церковный престол аж на 45 дней?!
Так, дальше…
Ага, вот! «А кто хочет домового видеть без вреда себе, сорви симтарин-траву и девясил-траву, да колюку-траву, да прикрыш-траву, да смешай, да в полночь на ущербе луны, прочитав три раза „Отче наш“ наоборот, спустись в подвал, да сними шапку, да кинь ее под ноги, да поклонись, да повернись, да нагнись, да со словами: „Батанушко-батюшко, я, раб Божий, сам к тебе пришел!“ меж ног погляди — и увидишь домового».
Ну, подвал-то у меня есть! Что такое девясил, я, кажется, знаю! А вот симтарин-трава, колюка-трава, разрыв-трава… Проблема! Поищем еще в бабушкином травничке. Так… куколь, пятилистник, адамова голова, нечуй-ветер, одолень-трава, чистотел, петров крест, чертополох, разрыв-трава, ромашка, осот, симтарин-трава… Ну!.. «Одно из лучших приворотных зелий. Симтарин — четырехлистник. Первый лист желт, другой синь, третий червлен, а четвертый багров. Урочное время для сбора — Иванова ночь. А под корнем той травы — человек, и трава та выросла из его сердца. Возьми человека того, разрежь ему перси, вынь сердце. Если кому дать сердце того человека, исгаснет по тебе…». Вот тебе и не хрена себе! Сроду не видал четырехлистника с листами разных цветов, да еще чтобы в корне у него был человек! Опять загадка! Может, мандрагора?..
Ладно, пошли дальше. Улика-трава, васильки, ефилия, сорочий щавель, хмель, прострел-трава, песий язык, канупер, чеснок, ятрышник, колюка… Так! Колюка… «Траву колюку следует собирать только в Петровки, не иначе как по вечерней росе, а хранить в коровьих пузырях, не то потеряется добрая половина ее волшебной силы. Колюка придает необычайную меткость ружью. Если его окурить такой травой, ни одна птица не улетит из-под выстрела». Во, тля! А где мне коровьи пузыри брать? Елки-метелки!
Что еще? Прикрыш, черт бы его побрал! Так… Сон-трава, одурь, белена, дрема, мелисса, дягиль, репа… Репа?! Тоже, что ль, волшебная? Петунья, хеноник, блекота, барвинок, бузина, попутник, крапива, подсолнечник, прикрыш-трава… Вот! «Прикрыш-трава используется против злых наговоров на свадьбы. Когда невесту приведут от венца в женихов дом, знахарь забегает наперед и кладет эту траву под порог. Молодую заранее предупреждают, чтобы она при входе в свое новое жилище порог перепрыгнула. Если все обойдется честь честью, то жизнь молодухи в мужниной избе будет идти мирно и счастливо, и коли на чью голову и обрушится злое лихо, так это на тех, кто умышлял против счастья молодоженов. Собирают прикрыш-траву в осеннее время — с Успеньева дня до Покрова-зазимья, покрывшего землю снегом, а девичью красу — мужиком».
Да что за черт! Мне что, полгода только травку собирать? Мало того, что непонятно, что это за трава такая — прикрыш, так еще с июня до октября сенокосом занимайся!
Так… разберемся с девясилом. Петровы батоги, богатка, не тронь меня (во, а это еще что такое?), потогон, почечуйник, приворот, чернобыльник, парамон-трава, мудя-трава… Это, конечно, интересно… Овечий свороб… Колуй… Зяблица… Расперетьица… Марья-Магдалина… Обратим… Кукоос… Девясил. «Сорвать его надо на Аграфену-купальницу, высушить, истолочь и перемешать с росным ладаном, после сделать ладанку и носить вместе с крестом на гайтане девять дней, а после этого зашить в платье любимой особы, но так, чтобы ей было невдомек. Действие девясила оттого так велико, что он заключает в себе девять чародейских сил». Ну, хоть эту-то травку я знаю!
А как быть с остальными?
Тут без Салихвоновны не обойтись!..
Семен Орестович, уже по обычаю, взял литр, закусь (под луковицу пусть ее ведьмы пьют!) и пошел к бабульке…
Выпили, закусили, начали беседу.
— Когда я ишшо в ведьмах-то ходила, у меня энтих трав-то было видимо-невидимо… Да, небось, и сейчас-то полон чердак! Я кажную травку знала… В молодые годы-то… А сейчас… Ладно, нечего тебе цельных полгода ждать, дам я тебе травы, мешка два дам, там тебе и прикрыш, там тебе и колюка, и девясил и чего хошь… и симтарин энтот есть… как не быть-то… Только вот такая проблема… Я глазами слаба стала, да и траве этой лет шестьдесят… Ты не думай! Она силы-то не теряет… Только там все сено-сеном… Так что как ты из этого положения выходить-то станешь… Надо подумать… Погоди, ты пока не наливай, а то думать нечем будет… Так… полночь… месяц в ущербе… в подполе… не должно бы блокировать… Ты послушай, чего я надумала! Бери ты обы-два мешка, да и лезь в подпол-то! Там, в чувалах-то, твои травки ничего не блокирует, ну, не мешает их действию… Так что домовой, чай, и сам разберется, что к чему и зачем ты к нему припожаловал. Только вот что… Ты, окромя мешков-то кроповяных, возьми с собой кус хлеба с солью да пол-литра самогону. Он к этому весьма привержен… Не случайно ведь с некоторых пор из беса-доможителя ужасного стал домовым жителем… Суседком то есть! Водочкой его люди купили, водочкой… Это ведь только без ума водка — грех, а с умом — пригодится для всех… Ну, лезь на горище, а завтра к ночи готовься, месяц как раз на ущерб пошел… Да «Отче наш» задом наперед на бумажку напиши, а то небось забудешь с непривычки-то…
Глава пятая
Едва Семен произнес следующую абракадабру: «Оговакул то сан ивабзи он еинешукси ов сан идевв ен и мишан мокинжлод…» и стал переводить дыхание, чтобы продолжить заклинание, в углу подвала раздался осторожный кашель, а затем тихий шепелявый голосок: «Ну, и хватит, чего уж там, хватит болботеть-то! Вот он я!».
Семен Орестович резко обернулся, хотя ему страшно мешали чувалы с сенной трухой, в которую превратились бабкины травы за шестьдесят лет усушки и утруски на ее чердаке, — но никого не увидел.
— Кто тут? — бесстрашно крикнул он, клацая зубами.
— Не, ну ты вааще оборзел! — обиженно сообщил ему тот же голосок. — Враскоряку надо, и меж ног!
Семен стал враскоряку, нагнулся и посмотрел в угол промеж ног. В углу сидело нечто… кот — не кот, пес — не пес, а вроде бы маленький лохматый человечек смотрел на него из угла вприщур и чуть улыбаясь, — ну, прямо как Владимир Ильич на елке в Горках. Семен уронил мешки, сверток с плащом и сел на пол. Человечек исчез. Посидев так минуты две, наш герой осторожно спросил:
— Кина не будет?
В углу что-то заливисто расхохоталось:
— Молодец! Будет тебе кино!
— А что, мне теперь все время на тебя через Житомир смотреть? — поинтересовался Семен.
— Да нет, это не обязательно! — успокоил его знакомый голосок, и человечек снова появился. На этот раз — рядом с гостем. Сидя на корточках, домовой рылся в бабкиных мешках, перебирая сенную труху и комментируя обнаруженное, причем делал это с первомайским пафосом и неумеренной жестикуляцией. «Если бы он был лысый — вылитый бы Никита на трибуне ООН вышел!», — почему-то подумал Семен.
Между тем человечек не умолкал:
— Трава кавыка растет на пашнях и при полниках, собою в стрелу и выше, коловата, хохлата, по неи шляпы что шипьи, что иглы колется, не дастся простой рукою взять. Та трава угодна в дому держать и хоромы ставить на ней. А когда скотина вертится, положи с воском в шерсть и отыдет нечистый дух. И от черной болезни добра.
Затем, отшвырнув сухой прутик загадочной кавыки и взяв в руки листики неизвестного происхождения, человечек продолжал:
— Есть трава на земли именем иван, растет в стрелу, на неи два цвета: один синий, а другой красный, а листочки махинькие, как лепешки, по сторонам, и растет на старинных превеликих реках. Та трава всем травам царь: кто умом рушится, носи при себе, или кто издалека посекся; а корень — кто хощет избежать худым конем у доброго — тот корень держи при себе, и уедешь.
С этими словами он отряхнул шерстистые ладошки о шести пальцах, взял из мешка какую-то недлинную и тонкую травиночку и продолжил:
— Есть трава змеина, собою тонка, растет ничком по земли, цвет белой, мала, едва знать с землею. Хорошо с нею до чего коснется просить у людей, все сделается в твою пользу. Если будешь просить у мущины, то положь ту траву по правую пазуху, а если у женщины — то по левую.
Терпение Семена истощалось, и, наверное, домовой это заметил. Он разогнулся, бросил мешки в угол и спросил:
— И на кой ты сюда приволок это сено, человече? Я его не ем!
— Вас хотел вызвать, — пробормотал Семен.
— Ну, вызвал, и что дальше? — недовольным тоном произнес собеседник.
— Скажите, Вы и вправду домовой? — на всякий случай спросил Семен Орестович.
— А что, не похоже? — удивился тот. — Да домовой я, домовой, можешь не сомневаться. Сколько раз ты меня в детстве видел, а сейчас сомневаешься? Я ж к тебе и угомона приводил по вечерам, и дрему… Эх, люди, люди! Возишься с ними, возишься, так не то, чтобы «спасибо» сказать, они еще гадают — есть ли ты на самом деле…
— Но нас же учили, что Вас не существует! — начал торопливо объяснять Семен.
— А нас и не существует! — расхохотался домовой. — Не существует для тех, кто в наше существование не верит. Вот пока ты в меня не верил, меня для тебя и не существовало. А как только ты Салихвоновне поверил — я тут как тут!
— Вот оно что! — удивленно воскликнул Семен Орестович. — Так, может, и тот свет есть?
— А как же, есть, — успокоил его собеседник. — Для тех, кто в него верит.
— Это что же выходит, — воскликнул Семен, — все на свете происходит по вере людей?
— Совершенно верно, — заверил его домовой, — есть у людей такое свойство — творить мир этот по вере своей. Но, я так думаю, ты сюда совсем не за тем пришел, чтобы эти вопросы обсуждать. Вон как ты сильно меня вызвать хотел! Даже разрыв-траву у Салихвоновны выпросил! Страшна та трава… впрочем, это уже меня не туда занесло. Силу я у тебя вижу — не нашу Силу… Знаю, отец твой с фронта принес ее. Другие, ну, те, кто вообще пришел, аккордеоны тащили да иголки швейные, а то еще подметки на сапоги были в особой цене — а он вот Силу откуда-то приволок. Я поначалу чуть со двора вашего не сошел — слаб я против такой Силы. Но она спит, Сила-то! И лучше пусть себе спит. Не трогал бы ты ее.
— Ну, как — не трогал? — не удержался Семен. — Ведь Сила же существует! А раз существует — у нее должен быть хозяин.
— А может, он у нее и есть? — хитро прищурился домовой. — Сидит себе и ждет, когда какой-нибудь дурень начнет с этим плащом практиковаться. А потом — хапы! И — ай-ай-ай!
— Потому-то я к Вам и пришел! — заволновался человек. — Ведь должны же Вы знать, как подойти к этой Силе, чтобы — приняла, допустила, раскрылась… А может, Вам и хозяин этой Силы известен?
— Во-он ты куда замахнулся! — удивился домовой. — Да ты, паря, того… Ни инициации не прошел, ни искуса, ни посвящения, а туда же! Силу воевать удумал! Не знаю я хозяина Силы! Мало ли чего когда кто своей дурной башкой да немалым колдовским умением напридумал… Слыхал я от аеров, — а они спокон веку вихрями по свету гуляют, всю его подноготную знают, — был в давние времена в Прибалтике некий тайный Орден, «игроками» звались. Да!.. Серьезные дела значились за его членами!.. Только — это еще при матушке Екатерине Великой было — извели этот Орден под самый корень! Не любила матушка Екатерина всякие тайны, ежели они не ею устроены… Был у нее специальный пригодный для этого человечек — тайный советник Шекловатый Порфирий Порфирьевич, страшный человечек… Аеры говорили — он до того Ордена добрался… когда громил франкмасонов, Новикова со товарищи… Радищев еще много знал!.. Заткнули уста, заставили язычок прикусить… Да! Времена давние, времена страшные… Похоже, плащ твой — от них память!
О давно прошедших временах домовой говорил, как о вчерашнем дне, а о давно умерших людях — как о своих близких знакомых.
— А что это за «инициация», «искус», «посвящение»? — завороженно спросил Семен Орестович.
— У разного народа это по-разному бывает, — заговорил домовой, немного помолчав и отпив наконец из бутылки, которую таки извлек из мешка с сеном. — У туарегов вот, к примеру, нужно воду в пустыне найти, пешком из песков выйти да еще льва простым копьем убить. Ну, там у бушменов инициация предполагает татуировку и обрезание… Но у них-то вера простая, они в Силу природы верят. А у нас, у русаков, чтобы доступ к Силе получить, несколько способов бывало. Самый короткий — но он же и самый опасный — это украсть у баенника шапку-невидимку! Однако это мало кому вообще удавалось… Жуткое это дело! Ведь баенник — это тебе не я! Ему ведь, почитай, лет уже не одна тыща, да и Егибабе он прямой родственник. А та — хозяйка царства мертвых! Так что — не советую я тебе на шапку баенника замахиваться, а то закусят тобой на очередном шабаше на Лысой горе… Да и где ты подходящую байну-то найдешь? Старые погорели все, а новая — не годится… Ведь в ней тогда баенник проживать начинает, когда там баба дите родит. Да-а, чего ты удивляешься? Это же ясно, как дважды два: раз свет на землю пущен, то и тьму пусти! Для равновесия в природе, как сейчас выражаются. А кто сейчас в байнах-то рожает? Вот то-то же, не годится эта идея ни по замыслу, ни по исполнению.
— А тогда что же мне делать? — растерянно спросил Семен Орестович.
— Да уж ладно, дай только подумать денек! — попросил домовой. — В общем, так: завтра придешь в это же время, да не в погреб, а на чердак. Сыро тут, шерсть влагой набирается, мерзну я. И траву больше с собой не тащи, не надо. Ну, теперь выпроводи меня назад.
— А как?! — изумился собеседник.
— Ну, вот тебе! — возмущенно воскликнул домовой. — Ты что, зеркала с собой не прихватил?
— Да я понятия о зеркале не имел, — заверил домового Семен. — А зачем тебе зеркало?
— Ты меня видал? — зло спросил домовой.
— Конечно…
— Ну, и как?
— Ну, так… — неопределенно промямлил Семен Орестович. — В общем, домовой как домовой. Уж какой есть!
— А брехунов сроду не любил! — сердито сообщил ему домовой. — Между прочим, это вы, люди, нас такими выдумали! В зеркало на себя смотреть противно! Как гляну — так и вылетаю.
— Куда?
— Куда, куда… Куда надо.
— Нет у меня зеркала, — снова сообщил Семен печальную весть страдающему эстету. — А что, разве другого способа отправить тебя обратно нет?
— Тебя под зад коленом били? — печально полюбопытствовал домовой.
— А что, тебя надо… под зад коленом?
— Нет. Просто то, что ты вначале по-нашему читал, надо прочитать наоборот, по-вашему то есть, — расстроенно ответил суседка. — Но эффект примерно такой… Да нам-то еще ничего, а вот ведьмы — так те вообще обмирают… Ну, ладно, чего там — читай!
— А ты что — сам уйти не можешь? — озадаченно поинтересовался Семен.
— А я сам не выходил! — рассердился домовой. — Меня ты позвал! Ты хочешь, чтобы я сам, своими руками, один разрешенный выход спалил? Не так у меня их много за год-то набирается!.. Читай!
— Погоди, — задумчиво произнес наш герой. — Откуда ты слова-то эти знаешь — «инициация», «искус»?.. Небось, университет марксизма-ленинизма не посещал?
— Посещал, посещал, — хохотнул человечек. — Когда твой батя вынес на чердак ненужную литературу, я с безделья всю ее прочел. А что за литература — помнишь? Папаша-то лектором-атеистом был, не говоря уж, что историком… Там не только Емельян Ярославский, а и Липс, и Фрэзер… Ну, ладно, делай дело-то!
— Э-э, нет, — протянул наш герой, — ты вот что сначала скажи: затеялся я с этим делом, а даже не знаю, добрая Сила-то или злая?
— Ты дурочку не валяй! — рассердился домовой. — Не маленький, образованный небось! Должен понимать: Сила сама по себе ни злой, ни доброй не бывает! Твоя задача — чтоб она тебя признала, чтоб ты ею управлять смог. Так долго мне ждать еще?!
И Семен прочел (по бумажке, конечно): «Отче наш, иже еси на небесех! Да святится имя твое…», а когда повернулся к углу, домового уже не было.
Глава шестая
— Ну, милок, принес, что ли? — спросил домовой.
— Да вот, в мешке, — поспешно ответил Семен.
— Ну, дак доставай, да и с Богом! — потер ручки суседка.
Семен осторожно развязал мешок, засунул туда руку в перчатке. Из мешка раздался дикий мяв.
— Ты погоди, погоди с кошкой-то, — зачастил домовой. — Я ж тебя про что спрашиваю? А?
— Ну, понял, понял, — буркнул Семен, доставая из кармана серого макинтоша (добытого из того же сундука) бутылку, стопку и огурец.
— Да ты никак казенной седни принес? — восхитился домовой. — Ну, скажу тебе, хороший ты хозяин! Папашу твоего я шибко уважал, так ведь он в меня не верил! Только на девятое мая оставлял стаканчик с водочкой, хлебушком накрытый, на ночь — вот тогда я лишь и разговлялся. А ты… будет из тебя толк, будет.
Крякнув, он лихо опустошил стопочку, откусил кусок огурца и, не прожевав, приказал:
— Доставай кошку.
На чердаке было темновато, но домовому это помехи не составляло. Семен предъявил ему черную кошку — держал он ее за шиворот и на вытянутой руке.
— Ага, Маньки Селедчихи. Ну, хрен с ей, она скотина известная. Только вот… дай-ка, дай-ка разглядеть…
— Побойся бога, суседка, — взмолился Семен. — Третью ведь приношу! Сколько ты их браковать будешь? Легко, по-твоему, ночью черную кошку поймать?!
Он с ужасом вспомнил свои ночные бдения на пустырях и даже на крышах, удавки — нехитрое, но собственное изобретение (а сколько раз он не успевал затянуть петлю, и кошка убегала!), крики разъяренных хозяев, а главное — хозяек, — хорошо, хоть ни разу толком не разглядели! — наконец — исцарапанные руки…
— А сколько надо, столько и буду! Не хватало еще на белой шерстинке нагреться! — сварливо ответил домовой. — Ты, хозяин, слушай старого человека, я дурному не научу. А если делать — так делать, а не дурака валять! Впрочем… годится. Значит, котел чугунный у тебя есть…
— Есть, — подтвердил Семен Орестович.
— Ну, и ладненько. С завтрашней ночи и начнешь. Ровно в полночь опустишь ее в кипящий котел…
— Живую?! — ужаснулся Семен.
— Э-э, да ты, видать, слабоват, а туда же — Силу хочу! — издевательским тоном обрезал его домовой. Семен промолчал. Домовой после паузы продолжил:
— Значит, варить будешь двенадцать ночей. На исходе двенадцатой выплеснешь на костер весь этот… бульончик, костер погаснет, и ты найдешь в пепле одну-единственную косточку. Она и будет кость-невидимка. Возьмешь ее через тряпочку, положишь в полу кафтана, отнесешь в дом — и не трогай! А вечерком, в обычное время, принесешь на чердак, тоже в тряпице, я тебя ждать буду, объясню, что дальше делать. Как вести себя, пока кошку варишь, сейчас расскажу. Значит, так: котел вскипятить к полуночи и ровно в двенадцать бросить туда кошку. Это в первый день. А потом — уже с кошкой — котел ставить на огонь ровно в полночь. И не опаздывай ни на минуту. Ну, на минуту-то, наверное,… Варить до первых петухов, слава Богу, на улице еще остались, кричат. Закукарекают — снимай сразу. Но вот что нельзя точно: заснуть нельзя, днем отсыпайся. От котла не отходи — перевернут!
— Кто? — удивился Семен.
— Ну… есть кому. Ты их все равно не увидишь, и хорошо, что не увидишь. Но они там будут! О семье своей вспоминать нельзя, — хотя у тебя ее нет, а бывшая не считается. Это ладно. Наговоры я тебе продиктую — выучи наизусть, в темноте, при костре, можешь и не разобрать. На каждый новый день — новый наговор. И последнее: дело это долгое и нудное, можешь ругаться — тебе захочется, я знаю, — но только не вслух! Особенно упаси тебя нечистую силу упомянуть. Никшни! Иначе косточку-то-невидимку прямо из котла и украдут, ты и не заметишь.
— Эти?.. — спросил Семен Орестович.
— Эти… Ну, давай, клади кошку назад в мешок (тут только Семен сообразил, что в руке домового кошка ни разу даже не мяукнула), и давай, благословясь, допьем. Тебе сейчас полезно, а мне… тоже.
Благословясь — не благословясь, а выпили. Семен потуже затянул мешок, пока домовой занюхивал водку огурцом, а потом достал фонарик, ручку и блокнот.
— Диктуй, я готов…
Дикий, заброшенный сад густо зарос вишенником, особенно у забора в дальнем краю участка. Вполне выспавшийся Семен Орестович еще с вечера наготовил топлива. По счастью, за домом имелась поленница, — осталась с тех времен, когда по улице еще не провели газ. Поскольку дрова были в основном дубовые да вязовые (ох, и покарячился с ними батя, наверное!), они за десяток лет не сгнили, а даже подсохли, — лежали-то под навесом… Добрую треть поленницы перетаскал к вишеннику Семен, чтобы сразу хватило на все двенадцать ночей. Достал из сарая треножник с крюком, принес пару ведер воды — еще выкипит! — и круглый котел с крышкой. В таких чумаки когда-то варили кулеш, когда возили силь з Крыму, а сейчас эти котлы высоко ценятся рыбаками-любителями, каковым отец и был.
Если кто ночью и увидит огонь костерка — то только со стороны огородов, а кому там по ночам мотаться, кроме разве влюбленных парочек, — но им огонь ни к чему. Так что сплетен особых пойти не должно бы… Да и с двенадцати ночи до четырех утра (петухи должны запеть никак не позже, насколько он помнил) надо как-то время убить — захватил с собой Семен и «Спидолу». Оно и время точненько услышишь, удобно. Наконец, минут за пятнадцать до полуночи, с тяжелым сердцем открыл чулан и вынес оттуда мешок с кошкой. Та не ворочалась, не мяукала, но была явно живой: напряглась, ждала удобного случая, чтобы вырваться и сбежать.
Костерок горел несильно, вода пока не кипела, и Семен подбросил дровец — пару дубовых полешков, заранее наструганных на манер ежей. Включил приемник, настроился на «Маяк». Надел старые кожаные перчатки, непременный атрибут его ночных охот, за минуту перед сигналами точного времени стал осторожно развязывать мешок. Поднял крышку котла — вода кипела ключом. В самый раз… Приемник начал бибикать. Семен запустил в мешок руку и стал читать наговор, лежащий перед ним на земле в свете костерка. С двенадцатым сигналом он выдернул руку из мешка и разжал ее над котлом. Дикий кошачий визг тут же захлебнулся — Семен мгновенно водрузил крышку на место.
— Ну, смог, — промелькнуло в его мозгу.
Дочитав наговор, наш герой вытер со лба пот (почему-то холодный), уменьшил громкость приемника и стал ждать петушиного крика. Он должен был злиться на себя, на домового, на эту идиотскую ситуацию — но злости не было. Вообще не было никаких особых чувств.
Семен Орестович за свою довольно уже длинную жизнь видывал виды, порой и такие, какие среднестатистическому человеку вовек не увидать, да, пожалуй, и не услыхать; тем не менее убийство кошки, да еще таким невероятным способом, заставило его совесть заранее ныть. А вот убил — и нытье прекратилось. Не было ему жалко ни кошку, ни себя. Ругаться не хотелось, тем более нечистую силу вспоминать, что домовой как раз категорически запретил.
Ничего не хотелось.
Надо было просто отбыть ночное бдение, а затем — еще одиннадцать таких же. «Отнесемся к этому как к работе», — определил для себя Семен Орестович. «В экспедициях же дневальным приходилось бывать? Да еще всю ночь, да зимой! А тут — дома, в августе, благодать и растворение воздухов!».
Однако благорастворения особого — воздухов то есть — не было. Мясо варилось немытое, непотрошеное… Но и на блевоту не тянуло. Воняло, но терпимо.
Семен слушал радио, не вникая в болтовню дикторов и ди-джеев, подбрасывал в огонь полешки, пару раз подлил в котел воды… Думалось, наверное, но о чем — он понять не мог. Было не скучно, хотя и веселья не замечалось, никакой нечистой силы поблизости он не ощущал (и не рвался), — так и скоротал время, пока не услышал первый петушиный крик через три двора.
Снова надел перчатки, снял с таганка котел и отнес его в заранее приготовленную ямку. Накрыл досками, залил костер из припасенного ведра и пошел в дом.
Спать не хотелось. Хотелось помыться. Он включил колонку и стал набирать ванну.
Одиннадцать других ночей ничем не отличались от первой. Правда, на четвертый день он зверски напился, причем в одиночку, но — словно какой-то часовой механизм работал в его организме! — проснулся вовремя и с легкой головой, так что все успел, не опоздал. Нечистая сила не беспокоила, он отбыл все «собачьи вахты», как положено опытному матросу.
Когда на двенадцатую ночь запели петухи и Семен Орестович, надев перчатки, взялся за дужку котла, ему показалось, что кто-то разочарованно взвыл на разные голоса. Но обращать на это внимание он не стал, а сделал все, как суседка велел. Потом прутиком покопался в золе. Да, действительно, одна-единственная косточка. Взяв ее чистой ветошкой, в нее же косточку и завернул. Снова вымылся в ванне (теперь он делал это каждое утро), стал думать, как убить время — нетерпение его просто колотило! — и незаметно уснул в кресле.
В урочный час домовой ждал его на чердаке.
— Так, кость у тебя? Давай ее сюда.
Семен Орестович сунул тряпочку с костью в лохматую руку.
— Она! — повертев косточку перед глазами в свете луны, облегченно заявил домовой. — Ну, теперь и ко второму этапу переходить.
— А кость… что — у тебя останется?
— Конечно, — с нескрываемым удовольствием ответил суседка. — Она мне, собственно, ни к чему, но тебе — тоже, если ты Силы хочешь. Не понял? В том-то и смысл. Чтобы отказаться от маленькой Силы в пользу большой.
— А-а, — разочарованно протянул Семен.
— А что, хотелось небось невидимым пошляться? Хотелось, вижу… Да не придется пока. Теперь тебе надо неразменный рубль добывать. А как это делается — объясню, когда казенной угостишь. Что? Не принес?! Ну, тогда — до завтра, дорогой! — ехидно заявил домовой.
— Да принес, принес, — успокоил его Семен Орестович. — И даже селедку. Давно небось селедки не пробовал?
— Давно, — согласился собеседник. — Селедка — это славно. Наливай тады, чего сидишь?
После выпивки домовой, как всегда в таких случаях очень похожий на институтского доцента Корнева, рассказывающего, что по Гегелю во главе государства должен стоять монах (Корнев в своих юношеских конспектах пропустил в слове «монарх» букву «р»), стал объяснять:
— Вторая ступень — это искус. Будешь добывать неразменный рубль. Э, нет, рубль не годится, что на него сейчас купишь? Гусь-то рублей четыреста стоит, надуют тебя, как пить дать! Да и где они, серебряные-то рубли? Проси неразменный бакс!
— У кого его просить? В банке «Империал», что ли? — поинтересовался Семен.
Домовой хихикнул.
— У нечистой силы. В банке, наверное, такой доллар есть, да кто его тебе дасть? Ладно, хватит веселиться, слушай и запоминай…
Глава седьмая
Давненько Семен Орестович не бывал на куличевском базаре. (Именно так, а не рынком, называли его все.) Городской базар на церковной площади славился в давние времена на всю губернию. Это была не ярмарка, привязанная к какому-то празднику, — постоянно действующий рынок! Но съезжались на него со всех концов немалой округи, ехали, бывало, сутками: даже из Ростошей, даже из Рязанки, из казачьего края. Тут во времена оны торговали лошадьми, мясные ряды разве что верблюжатину не предлагали, — а медвежатина случалась.
Нет сейчас в этих местах медведей, повывели. И лошади спросом не пользуются, а если кому надо — езжай в Хреновское на конезавод, покупай выбраковку, в Куличе не купишь. Зато вещевой рынок тут огромный, не уступит иному областному центру. Продавцы с Украины, Молдавии, даже Казахстана, барахло китайское, тайваньское, турецкое, румынское… А дальше — большущий павильон: здесь торгуют съестным. И, конечно, одним лишь местным, своего производства.
Семен даже умилился, увидев горшки с варенцом (здесь его называли кислым молоком), покрытым коричневой пенкой: с детства не встречал. Да и в Куличе-то такого варенца не было всю эпоху развитого социализма, а сейчас — пожалуйста! Рука сама полезла в карман за кошельком, но вовремя остановилась на пол-дороге. Нельзя! Не за этим пришел!
— Сеня! — раздался радостный крик сзади. Семен не оглянулся. Это мог быть знакомый, — ничего, не обидится, а и обидится — невелика беда. А мог быть просто морок. Да, морок, потому что сейчас уж точно он: не может посреди павильона стоять голая девка! Она подмигнула Семену Орестовичу, но тот с каменным лицом прошел мимо. К девке разлетелся какой-то мужик, явно пьяный, попытался схватить ее за грудь — та вдруг исчезла, как не бывало. Мужик ошеломленно замер на месте, потом, пробормотав: «Домой, спать, спать…», развернулся и пошел к выходу. Значит, допился до белой горячки. Больше никто девку не видел…
Вдруг сбоку раздался грубый мат, затем звук крепкого удара, бабий крик… Через мгновение завязалась серьезная драка. Где-то уже свистел милиционер. Семен, не обращая внимания, не повернув даже головы, прошествовал дальше. Вот оно, искомое: живой гусак.
— Сколько, бабуся?
— Чего тебе, милок?
— Гусь сколько стоит?
— А триста, милок.
Цена была вполне сообразной. Странно…
Семен молча отсчитал три сотни, забрал гусака и пошел к выходу. Драки словно и не было. А может, действительно не было.
Вот теперь и со знакомыми поздороваться, и поболтать. Хотя не хочется. На счастье, и знакомых по дороге не попалось.
Печи в доме нет, тем более русской. Суседка сказал — в духовке. Духовка есть.
Гусь, смирно ведший себя всю дорогу до дома, вдруг загагакал, попытался вскочить на стол. Гуся надо задушить голыми руками. Неприятно, но… не кошка. Шея у гуся оказалась крепкой, дергался он минуты три. Семен разжег газ, вынул противень, положил на него мертвого гусака (хорошо, что ощипывать не надо, замучаешься!), убавил огонь до медленного, сунул противень внутрь духовки и закрыл ее. Ладно. Теперь до ночи ни о чем не беспокоиться.
Перекресток он выбрал давно. Туда надо было идти обязательно пешком, так что проще всего отправиться на кладбище, там есть пересечение дорожек, идущих к четырем условным выходам (забор-то давно сломали). А что дорога должна быть проезжей — так сейчас на похоронах машины доезжают, считай, до самой могилы. Домовой эту идею при обсуждении одобрил.
— Правильно, — сказал он, — голова у тебя варит. Нынче-то автомобили везде. Станешь где на перекрестке — а тут и едут, дивятся на дурака. Слухи еще пойдут! А ночью на кладбище — почти полная гарантия, что никого постороннего не будет.
— Слушай, суседка, а кого я там увижу?
— Гм… подумать надо. Ты в нечистую силу уже вроде веришь…
— Как не поверить, — ухмыльнулся Семен Орестович.
— И с детства Гоголя любил…
— Ага… — загрустил Семен, поняв, к чему ведет собеседник.
— Ну, вот их и увидишь… Да не бойся, им гусь вот так нужен! Ритуал это ихний, и зла они тебе не причинят, а вот надуть попытаются. Да ты же не дурак! Вот пономарь мой знакомый лет этак сто двадцать назад тоже неразменный рубль торговал, а соблазнился на три фунта брильянтов, идиот. Пришел домой, а в кармане галька речная!
Кладбище было рядом. Улица уже давно спала, когда Семен с жареным гусаком, завернутым в чистое полотенце, вышел на кладбищенский перекресток.
Было новолуние. Оно и к лучшему, — решил наш герой, — видеть эти рожи в подробностях — удовольствие маленькое.
Где-то далеко слышался гудок тепловоза. «Ночной на Облград, — сообразил Семен, — опаздывает…».
— Чем торгуете, почтенный? — раздался голос над ухом.
Семен Орестович вздрогнул, но тут же пришел в себя.
— Гуся продаю, уважаемый, гусака жареного. Не желаете ли? — ответил он невидимому собеседнику. Семен различал только нос, смахивающий на поросячий пятачок, да острые уши. («Ага, это из „Ночи перед Рождеством“», — решил он.)
— Желаю, желаю. Сколько просите?
— Один доллар, всего-то навсего, — нахально заявил наш герой.
— Ах ты… — дальнейшее слилось в неразборчивое бормотанье. Черт был определенно ошарашен. Он вдруг исчез, и в стороне, в нескольких метрах, раздались тихие, но возбужденные голоса. Семен осторожно повернул голову, но ничего существенного не разглядел. «Щас!», — услышал наконец он.
— Подождите, уважаемый, будет Вам доллар! — это голос погромче.
— Жду, жду, — намеренно равнодушно ответил продавец.
Минут через пять черт снова подошел к Семену.
— Давай гуся! — потребовал он.
— Бакс, — лаконично ответствовал Семен.
— Держи! — черт протянул зеленую бумажку.
— Серебряный, — так же лаконично заявил Семен.
В разговоре возникла напряженная пауза.
— А не один те хрен?! — возмущенно спросил черт.
— Стало быть, не один, — вежливым тоном ответил Семен Орестович.
— Ну, нет у меня неразменного бакса, нету! Хочешь миллион рублей?
— Я, дорогой мой, не на телеигре, — цедя слова сквозь зубы, заявил наш герой. (Домовой предупреждал: не хамить, но и не пресмыкаться, держаться на равных и слабину не показывать!). — Мне миллион не нужен. Мне нужен серебряный доллар.
— Кило топазов! — в отчаянии взвыл черт.
Семен молчал.
— Отдавай гуся, а то разорвем! Вон нас тут сколько!
— Доллар. Серебряный, — Семен Орестович был непреклонен.
Черт опять удалился на совещание. Вернулся минут через десять.
— Возьмешь контрольный пакет «Газпрома»?
— Уважаемый, ты же не хочешь торговаться до петухов? — возразил ему Семен.
— Резонно, — с большой долей уважения в голосе пробормотал покупатель. — Ладно, подожди пару минут, будет тебе серебряный бакс.
Черт засунул в рот пятерню (или «шестерню»? Количества пальцев было не видно, но если судить по суседке…) и лихо свиснул, как в «Пропавшей грамоте». Надгробная плита вблизи от Семена Орестовича поднялась, и из земли вылезло нечто громадное. («Черт, да это же натуральный козел! Тут не Гоголем, тут уже больше Гойей пахнет…» — пронеслось в башке продавца гусака. «За козла и ответить!» — послышался мысленный ответ. Семен поперхнулся.)
— Этот, что ли, такой упрямец? — зловеще проблеял козел.
— Этот, этот, — уныло ответил черт.
— Ну, ладно… Хотели мы тебя разорвать, да уж больно ты нам понравился, — заявил козел. — Держи, вот он, серебряный бакс. Неразменный! В Америку, что ли, намылился?
Семен молчал.
— Да-а, упрямый… Ладно, братаны, я вижу, вы не виноваты. На!
На ладонь нашего счастливца легла монета, блестевшая даже в темноте и показавшаяся ему неожиданно тяжелой.
— Давай гусака!
Семен протянул жареную птицу козлу. Тот схватил ее, лихо гикнул — и кладбище опустело.
«На обратном пути обычно искушения идут, — предупреждал Семена Орестовича домовой. — Там баба типа Прекрасной Елены, разбойники, грозящие голову отрезать, либо для мягкосердечных — нищенка маленькая. Если кому рубль отдашь — тут тебе и конец. Только думаю я, нечистая сила-то не дура. Откуда на кладбище Елене Прекрасной взяться либо нищенке? А разбойникам и тем более там делать нечего — они живых грабят. Так что, наверное, обойдется». Не обошлось…
Едва наш герой ступил за кладбищенскую ограду, как услышал тихое, задавленное, но такое отчаянное мычание, что сердце его сжало словно холодной рукой.
— Молчи, сука! — донесся до Семена злой мужской голос. В кустах мелькнуло что-то белое, затем мужчина взвыл, раздался звук затрещины. В голове Семена Орестовича еще не успело промелькнуть ни единой мысли, а в дело уже вступил «Отто», младший лейтенант резерва спецназа ГРУ. Зрачки расширились, включая никталопию — и черт с ней, с мигренью, неизбежно наступающей после таких фокусов с организмом! Дальше все шло на уровне рефлексов.
Мужик был один. Со щеки его капала кровь, в левой руке он зажал ладони молоденькой девчонки, а правой стаскивал с нее трусики.
Через мгновенье Семен был рядом. «Наваждение, наваждение!», — предупреждал воспаленный мозг, но руки делали свое. Необходимое и достаточное. Мужчина был подхвачен за шиворот, вздернут, потом последовал сильный удар ботинком в копчик. Дикий крик — и вот уже насильник удирает, нелепо припрыгивая, держась рукой за задницу и тихо вопя на одной ноте. «Идиот!», — подумал о себе наш герой, готовясь к самому худшему. Напрягая все мускулы, — при этом отлично понимая, что против чертей его мышцы и навыки никак не оружие, — Семен быстро осмотрелся — шало, но внимательно. Никого… Только у ног девчонка, всхлипывая и затравленно поглядывая на силуэт неожиданного спасителя (а что она еще могла увидеть?), пытается привести в порядок одежду.
«А бакс?» — ехидно прозвучало в мозгу. Семен Орестович, не попадая в карман рукой, стал себя ошлепывать. Ох… Здесь…
Огромное, почти невероятное облегчение…
— Как ты там?
— Ничего, — тихий ответ тоненьким голосом.
— Далеко живешь? Проводить?
— Не надо… — девица явно боялась и его.
— Ну, тогда до свиданья, — пробормотал наш герой и пошел домой.
Дальнейший путь — всего-то метров двести — прошел без приключений. Кляня себя идиотом и другими не слишком цензурными словами, Семен — не без некоторой дрожи в организме — тут же завалился спать, даже не раздеваясь. Утром, выпив сразу три таблетки анальгина, он вынул доллар из кармана. Бакс как бакс, вон и дата чеканки: 1898 год. Антиквариат!
А вечером состоялась уже привычная встреча с домовым.
Глава восьмая
Стоматологическая поликлиника находилась в пятнадцати минутах ходьбы от Кладбищенской. Так что связываться с капризной старушкой «Волгой» Семен не стал, пошел пешком. Он заранее узнал, что у главного врача сегодня приемный день, и записался не к участковому зубодралу, а к Паше Эмке. Этот немец, давным-давно растерявший свои германские корни, был одноклассником Семена Орестовича, пока после семилетки не подался в медицинское училище — аж на Урал куда-то. Когда Сеня закончил школу, Паша приехал домой уже зубным техником, а потом, сколотив на золотых зубах какую-то сумму и счастливо избежав внимания ОБХСС, закончил Московский стоматологический. Не виделись они лет двадцать пять и никогда особо не дружили, но Семен надеялся на память о школе. Есть люди, которых жизнь, в общем, даже балует, есть им и что вспомнить (в зависимости от вкусов), а вот поди ж ты, именно школьные воспоминания больше всего греют им душу! Семен к таким не относился, школу он забыл напрочь, но подобных типов встречал неоднократно. А вдруг и Павел такой?
В старом кирпичном доме, на котором красовалась доска «Памятник архитектуры ХIХ века. Охраняется государством», было, как всегда, холодно. Здесь было замерзнуть в любую жару. Очередь к Павлу Валерьевичу была скромной. Но ждать нашему герою не пришлось: лишь только что заведенную на него карточку медсестра занесла в кабинет, как тут же вышла и назвала его фамилию. Бабуси, из которых очередь и состояла, проглотили неожиданность молча, без обычного в таких случаях ворчания. Видать, главврача побаивались даже пациенты.
— Ну, что, Семен, узнаешь? — с порога спросил его сидящий за столом гигант в белом халате.
Семен не покривил душой: он действительно не узнал Пашу, такого когда-то стройного, хотя и не очень высокого, паренька — в этом лысом исполине. Тот захохотал:
— Да Павел я, Павел Эмке, учились мы вместе! — вот когда он встал, Семен наконец понял, в чем дело: роста у Паши не прибавилось, зато объема… Но не только брюхо, нет; плечи тоже больше бы подошли человеку даже и двухметрового роста. В общем, что-то вроде профессора Челленджера — сидящий он был выше, чем стоящий, — только вот лысый и безбородый.
— Я знал, знал, что ты вернулся, да вот встретиться никак не получалось, — продолжал Паша. — К тебе заявляться неудобно, а сам ты уж который месяц нелюдимом живешь. Как живешь-то, кстати? Чем заниматься собираешься?
— Живу… нормально живу, Паша. Нормально. А заниматься ничем и не собираюсь. Надоело. Пенсию я выработал, буду ждать возраста, а деньги… есть деньги, в банке лежат, живу на проценты.
— Хорошо устроился! — снова захохотал главврач. — Чего пришел-то? Зубы болят?
— Да не то, что болят… Я слышал, сейчас эмаль восстанавливают?
— Правильно слышал! Садись, пока буду смотреть, буду и рассказывать. Небось, не знаешь, кто из наших где и как?
… Через сорок минут Семен уже шагал домой, вооруженный не только белыми зубами, но и полной информацией о живых и мертвых одноклассниках (вторых оказалось куда как больше, — что ж поделать, такое поколение, — печально подумал Семен Орестович, — спились…), а также договоренностью о поездке в субботу на «ломовскую дачу» в компании Павла, заместителя начальника РОВД Николая Куняцкого из параллельного класса, Сашки Слободского, местного бизнесмена — этот действительно был одноклассником, вместе школу заканчивали, — и, главное, патологоанатома из райбольницы Олега Вартанова, — тот вообще в другой школе учился, но был их ровесником, и когда-то Семен очень хорошо его знал. Компанию мужикам должны были составить пять медсестричек. Семен заикнулся о машине, но Паша махнул рукой:
— Привезут и отвезут!
Тогда Семен пообещал взять на себя выпивку. Павел откровенно обиделся:
— Нынче мы тебя принимаем! Твоя очередь еще придет!
…И все-таки, когда Семен Орестович извлек из старого рюкзака бутылку «Арарата» и три банки крабов, восторгу собутыльников не было предела.
Пикник, прямо скажем, удался.
«Ломовская дача» когда-то была действительно дачей местного толстосума Ломова, после революции исчезнувшего, как тень зари — в никуда. Потом здесь располагался пионерский лагерь, пока не сгорел, а поскольку сгорел он в разгар перестройки, никто его не восстановил и уже не собирался. Прелестный же уголок на излучине почти заросшей речки стал излюбленным метом отдыха всех, кто имел автомобиль и желание прокатиться «на природу». Семен оказался на пикнике «столичной штучкой», о его скромных и давних успехах здесь помнили, всячески преувеличивая их, о его неудачах не говорили, а образ жизни, который он вел, вызывал у старых-новых приятелей просто-таки восхищение.
— Нет, брат, — обращаясь к майору милиции, в который раз заявлял Слободской, — вот это жизнь! Работать не надо, семьи нет, чем хочешь, тем и занимаешься! Я бы немедленно все бросил, если бы возсть была!
— Ну и бросай! — отвечал майор. — Что, у тебя денег мало, или как? Клади в банк, живи на проценты, жене в зубы хороший куш кинь — отстанет, дочка у тебя замужем… Вперед!
— Нет, нельзя… — печалился Александр. — Загрызут!
— Кто это тебя загрызет? — удивлялся стоматолог. — Жена, что ли?
— Нет, не жена… — грустил Сашка.
— А кто же?
— Он знает… — кивал бизнесмен в сторону мента. Но тут же развеселился:
— А помнишь, Сеня, Циклопа? Учителя астрономии? А свою коронку помнишь? На каждом уроке ты ее задавал: «Почему Луна имеет бледный вид?»
— За что и получил тройку в аттестат, — пробурчал Семен.
— Выпьем за астрономию! — закричал предприниматель, разливая по стаканам водку.
Вартанов тем временем, не обращая внимания на заигрывающих с ним медсестричек, пытал Семена:
— Не может быть, чтоб ты не писал! Ну, признайся! Твои книжки у меня до сих пор лежат! Как он начинал! — заорал Олег на весь пляж.
— За это и бибамус! — ответствовал ему коллега зубник.
— Пишешь? Ну скажи — пишешь?
— Пишу маленько, — якобы нехотя отвечал Семен Орестович.
— И что пишешь — снова фантастику?
— Ну, почти. Кстати, ты ведь патологоанатом?
— Так точно! — дурашливо заорал Вартанов. — Покажешь, что пишешь?
— Покажу, если ты мне покажешь кое-что по твоей части.
— Покажу! А что?
— Покойника.
— Мало ты их насмотрелся на своей Кладбищенской?
— Мало, — упрямо отвечал Семен.
— Зачем тебе покойник? Какой тебе покойник?
— Мне нужен самоубийца. Для повести. Описать надо, — заплетающимся языком заявил Семен Орестович. («Не переигрываю ли?» — пронеслась тревожная мысль, но он ее отбросил: все пьяны, игру никто не заметит.) — Самоуби-ийца? Ну, этого добра сейчас хватает. Я тебе позвоню, как будет. Приедешь, посмотришь.
— Ну, и вкусы у вас, товарищи! — с отвращением пробормотал бизнесмен. Он единственный проявил интерес к этому разговору. Мент уже лежал, в усмерть пьяный, а зубодрал уединился с двумя девицами. Три оставшиеся хихикали, о чем-то тихо переговариваясь…
— Так не забудь, сразу позвони, — вылезая из «Газели» (она же «Скорая помощь») возле своего дома, напомнил Семен Олегу.
— Ой, да не забуду, — бормотал тот, борясь со сном, — а и забуду — невелика беда. К нам в морг этих жмуриков со всего района возят. Одного не увидишь — другой не убежит…
Одна из девиц не снесла все-таки мужского пренебрежения и навязалась к Семену ночевать, упирая на то, что снимает комнату и так поздно хозяйка ее не пустит. «Действительно, не на улице же девчонку оставлять», — лицемерно подумал Семен… У девицы в сумке оказался греческий коньяк, и по этой причине хозяин не помнил, что у него было с гостьей и было ли что-нибудь. Как выяснилось утром, не помнила этого и медсестра. Он обнаружил ее у раковины — она поливала себе затылок холодной водой. Увидев Семена, медичка заявила:
— Жи-ва-плащ!
Семен глубоко задумался. «Видно, дает знать, что она жива — а я жив? — и что ей нужен плащ. Какой плащ?! А-ах, она же в пыльнике пришла…».
— А зачем тебе плащ?
— На работу. Оп-паздываю.
— Какая еще работа? Сегодня воскресенье.
— Да-а? — восхитилась девица. — Тогда дай опохмелиться!
Воскресенье они превзошли нечувствительно. К вечеру шалавка все же куда-то убралась, и Семен облегченно лег спать в одиночестве.
Через пару дней ему позвонил Олег.
— Ты все еще жаждешь полюбоваться на самоубийцу?
— Дак… надо!
— Ну, езжай. Сразу два свеженьких. Баба отравилась уксусной кислотой, молодая, да скотник с хутора повесился — жена опохмелиться не дала.
— Слушай, а где ты находишься?
— Ах, да… Ну, Красную больницу знаешь? Вот там и нахожусь. Спросишь любого медика.
Семен пошел было в сарай, где стояла «Волга», но вдруг резко остановился. Автомобиль играл в его планах существенную роль, и «засвечивать» его преждевременно не стоило. Чем черт не шутит? Вдруг хай поднимется!
Красная больница была районным стационаром. Одно- и двухэтажные дома и домики, разбросанные в парке на окраине городка, производили несколько даже идиллическое впечатление. Тишь, гладь и божья благодать! Другое дело, — как выяснилось из разговора с приятелем, — что вся сантехника сгнила, стены старых, еще дореволюционной в основном постройки, корпусов не поддавались уже никакому ремонту. И вообще — еще до перестройки затеяли было строительство новой больницы, да так и забросили — денег нет.
Морг, однако, находился в подземном бункере. Дверь была открыта, но на запоре болтался огромный амбарный замок. Дверная коробка — дуб, крепко строили при царе Николае. Значит, нужен ключ. На этот счет у Семена Орестовича был припасен воск — и даже за пару последних дней проведены некоторые опыты. Ключ, кстати, торчал в замке.
Спустились вниз.
— Добро пожаловать! — усмехаясь, произнес Олег. Семен быстро осмотрелся. Так, столы здесь… На этом — отравившаяся девица, а где удавленник? Ага. Он подошел к нему, считая шаги от двери и запоминая направление. Лицо повесившегося от безысходности похмелья скотника выражало не муку, не боль, а какое-то невероятное изумление. На правой руке не хватало пальца. Запомним… Остальные столы тоже были заняты, но их обитатели посетителя морга не интересовали.
Патологоанатом с любопытством следил за посетителем. Значит, надо и к девице подойти, а потом…
А вот девушка явно мучилась. Ну, понятно, кислота же… А жаль девку — молодая, красивая… Ну, пора.
Семен сморщился, схватился за рот и, пробормотав «Я сейчас», опрометью выскочил из морга. Прислушался. Нет, Олег следом не идет. Осмотрелся — никого кругом не видно, хорошо, что морг на отшибе. Достал ключ и крепко вдавил его в воск — правой и левой стороной. Сунул воск в карман сумки, висящей на плече, и крикнул вниз:
— Олег, пойдем, я уже насмотрелся!
Тот вышел из подвала.
— Ну, как, впечатлило? Блеванул?
— Впечатлило. Удержался, — коротко ответил Семен Орестович. — И долго они тут у тебя лежат?
— Да по-всякому. Этих двух — сегодня сделаю вскрытие, а завтра их родственники заберут.
— Не сделаешь, — уверенно заявил Семен, доставая из сумки бутылку коньяку.
— Эт хорошо! — оживился Олег. — Эт мы щас! Но имей в виду: вскрытие я сделаю. В любом виде сделаю, лишь бы на ногах стоял!
Положение осложнялось. Действовать нужно было этой ночью.
Быстро выпив бутылку коньяку под закусь вареными яйцами (обед, прихваченный Олегом из дому), приятели расстались.
Чуть на взводе, Семен дома переоделся и пошел в сарай, служивший гаражом и мастерской. Долго шаркал там напильником, пока вроде бы не добился нужного результата. А потом улегся вздремнуть перед новым подвигом.
М-да, подвиги… «Каким идиотизмом я занимаюсь!» — неожиданно прозвучало в голове у Семена. «Кошек варю, с чертями торгуюсь… Теперь еще это…» Но остановиться наш герой был уже не в силах. Слишком глубоко завяз.
И слишком обещающей была награда.
… «Волгу» он спрятал в лесополосе у грунтовой дороги, что проходила мимо больницы, но с противоположной от ворот стороны. Перелез через кирпичный забор, осмотрелся — нет, не ошибся, морг был рядом.
Подошел, пользуясь тенями деревьев как прикрытием (стояла полная луна) к бункеру… Черт! Дверь была открыта. Тихо спустился на несколько ступенек… Из морга доносилось какое-то пение.
Если бы не события последних месяцев, Семен Орестович, может быть, даже испугался. Но сейчас он понял, в чем дело, сразу же, как разобрал слова песни, простой, как мычание, и звучавшей примерно в той же тональности:
«Всем известно, что студенты Редко платят алименты, Всем известно, как они бедны. Но они не прочь порою Погулять с чужой женою, Взяв ее взаймы».Студенческая песня, модная в 60-е. Пел ее, разумеется, Олег. В каком уж состоянии он делал вскрытие — Семен не видел, но — делал.
Ох, и сволочь… Видно, после того, как Семен Орестович ушел, Олег взялся-таки за спирт, который так навязывал приятелю. И потом продрых до ночи, а теперь занимается работой. А то ведь завтра за трупами приедут…
Ладно, подождем. Семен поднялся по ступенькам вверх, осторожно выглянул наружу. Нет никого — и ладушки. Он осторожно обошел морг по периметру, всматриваясь в окрестности. Потом отошел к забору, сел так, чтобы виден был вход в бункер, и стал ждать. Ужасно хотелось курить — но нельзя…
Почти час пришлось ждать Семену, когда, наконец, он услышал голос Олега:
— Тот желтый цыпленок все звезды склева-а-ал!
«Эк его растащило на песни времена молодости!» — удивился злоумышленник. Патолог тем временем стал возиться с замком. Потом, покачиваясь, удалился.
Немного обождав, Семен подошел к моргу, достал из кармана ключ… Что такое? А замок-то не закрыт! Не справился врач с замком! Это тебе не трупы резать, тут голова нужна трезвая! Ну, прекрасно. Еще раз осмотревшись, Семен Орестович спустился по ступенькам, открыл дверь… Свет лучше не включать, мало ли… Он и так все запомнил. Считая шаги, подошел к нужному столу… Руку отрезать нужно левую, на правой одного пальца нет, вдруг да не подойдет… Он, конечно, не анатом, но отрезать кисть не так уж и трудно. Бросив ее в приготовленный пластиковый пакет, Семен вышел из морга, снова осмотрелся, перелез через забор, сел в автомобиль и мгновенно уехал.
Легче легкого.
По дороге он вспоминал последний разговор с домовым, предшествующий как раз этой акции Семена.
— Ай, какой хороший бакс! — восхищался суседка. — Ну прямо всем баксам бакс! Жаль, что не в Америке живем, я б на него пол-страны скупил!
— Скупить-то на баксы и пол-России, — возразил Семен.
— ! — неожиданно согласился домовой. — Но ты ж не за этим его добывал?
— Не за этим.
— Значит — отказываешься от неразменного доллара?
— Отказываюсь.
— Молодец. Слушай сюда! Две ступени ты прошел: инициацию — на терпение, искус — это, само собой, на преодоление искушения. Теперь тебе надо пройти посвящение. Значит, я тут вспомнил два варианта. Либо ты делаешь свечу из сала повешенного, либо отрезаешь у него руку, одну ладонь. Это штука — о-го-го! Как за ней когда-то воры гонялись, ты бы знал! Если свечу запалить и обнести ночью вокруг дома — смело залезай, спящих никакие собаки не разбудят! Рука — то же самое.
— Дедушка, сейчас людей не вешают, вроде бы даже не расстреливают — мораторий! — ответил готовый уже ко всему Семен.
— А то я не знаю, — обиделся собеседник. — И какой я тебе дедушка? Домовым зови. Или суседкой, — для разнообразия.
— Так что ж делать?
— Ну, что, сам не сообразишь разве?
— Самоубийца? — догадался Семен.
— Верно, верно, врубаешься. Но не всякий, а только такой, который повесился. А где его тебе найти — не скажу. То есть я могу, конечно, узнать у приятелей, кто из хозяев вешаться собирается, только ты ведь все равно не успеешь…
— Да ладно, — ответил Семен. В его голове уже сложился план, об успешном воплощении коего в жизнь мы рассказали выше.
… Спал Семен Орестович сном невинного младенца, а поскольку лег весьма поздно, то его разбудил часов уже в одиннадцать телефонный звонок.
Звонила шалавка.
— Сеня, у меня отгул, я подъеду?
«На хрен ты мне сдалась!», — подумал сердито Семен, но в трубку сказал:
— Подъезжай, только, кроме самогона, у меня ничего нету.
— У меня есть! — весело отпарировала медичка.
Шурочка (так звали медсестру), бесшабашное создание 27 лет, сразу же после того, как Семен нарезал ветчину и открыл консервы, стала посвящать его в подробности скандала, по причине которого и оказалась в отгуле.
— Олег-то Абрамыч объяснительную пишет! Там такое творится… Главврач обещал его выгнать, а менты — усадить года на три.
— За что? — искренне удивился собутыльник.
— Ты Усикова знал? Ну, начальник милиции? Вчера вечером он на машине перевернулся и — насмерть. Олега вызвали из дому вскрытие делать, а он пьян, как зюзя. Но ничего, поехал, уж очень родственники настаивали, а потом Олег ведь еще и судмедэксперт, приказал Куняцкий — он же сейчас за Усикова — иди и делай! Ну, он вскрытие-то сделал, да спьяну зачем-то кисть руки у него отрезал, а куда дел — не помнит! А я у Олега медсестрой же, ну, он и говорит — иди гуляй, не до тебя… Я сразу «Метаксу» у него из шкафчика взяла — он разрешил, не думай, когда узнал, что я к тебе, — и ку-ку! Чего это ты, Сеня?
Семен сидел ошеломленный, разочарованный и злой. Ну, что Усиков разбился — дело житейское, слышал Семен, что был начальник милиции большой свиньей. Но, выходит, он ошибся, — вскрытие трупов самоубийц Олег произвел еще днем, а на том столе лежало тело главного мента… У него Семен кисть и отрезал! Мало того, что кисть эта ему совершенно не нужна, и надо будет действовать еще раз, — а это куда сложнее, — так он еще и на Олега неприятности навлек! Да и родственникам подполковника не так уж лестно будет хоронить его без руки, это тебе не скотник…
Впрочем, разочаровывать Шурочку, настроившуюся на веселый денек, Семен не стал. Завел старую автоматическую радиолу на 10 пластинок, и времяпровождение получило то самое развитие, на которое медичка и рассчитывала. Между делом он выпытал у нее, что труп девицы родственники увезли, а вот скотник лежит в боксе N 2. Их всего-то четыре, оборудованных холодильными установками.
«Олега надо выручать!», — решил Семен. Посему, к вечеру упоив девку до положения риз и уложив спать, около полуночи снова сел в «Волгу», захватив с собой еще рюкзак и фонарик, и произвел те же действия.
На сей раз замок пришлось открывать, предварительно налив внутрь автола, — машинного масла в хозяйстве не нашлось. Тщательно прикрыв дверь, Семен включил фонарик и приступил к осуществлению задуманного. Итак, второй бокс. Открыв его, он выкатил каталку. Левая кисть… Ишь ты, как скверно режется — замерз, подлец!
Первый бокс был занят трупом, видимо, бомжа, который лежал уже несколько дней. Пилить пришлось еще дольше. Два последних бокса были пустыми, но четыре стола — занятыми. Семен не всматривался в лица, его и так подташнивало, — резал левые кисти и швырял их в рюкзак. Пару раз ему чудился шум снаружи. Он выключал фонарь и крался к ступенькам, — однако, к счастью, все было спокойно.
Кисть самоубийцы в пластиковом пакете лежала в кармане древнего макинтоша, а рюкзак с остальной добычей Семен нес в руках. Так… Запирать морг не надо, пусть видят, что кто-то побывал. Работал он в перчатках — их тоже надо будет выбросить. Семен Орестович уже подходил к забору, когда услышал крик:
— Эй!
Оглянулся. Сторож с ружьишком плелся метрах в пятидесяти и с интересом рассматривал посетителя. Очень хорошо, если только ружье не заряжено. Семен перебросил рюкзак за забор и подтянулся сам.
— Стой! — встревоженно заорал сторож. — Стрелять буду!
Между тем подходить ближе старикашка явно не собирался. Он поднял дуло к луне и выпалил. Семен перебрался через забор, — рюкзак лежал рядом, но он и не думал его подбирать, раз уж так удачно сложились обстоятельства, — и побежал в лесополосу. «Волга», как назло, завелась не сразу, а за забором уже раздавались крики и встревоженные голоса посылали кого-то звонить в милицию. Наконец мотор взревел, и Семен рванул на объездную дорогу, чтобы заехать в Кулич со стороны, противоположной больнице.
Когда он добрался домой, шалавка еще спала. Алиби Семен Орестович себе обеспечил, разбудив ее. И еще раз обеспечил. И еще. Прилив сил он объяснял сегодняшней удачей.
К домовому с кистью руки идти он, однако, не торопился. Стоило сперва дождаться развития событий.
Утром Шурочку не удалось даже накормить, — за своими предосудительными занятиями Семен и не заметил, что холодильник опустел. Ничего не поделаешь, надо на рынок, а по дороге — в сбербанк, снять проценты. Машину наш герой брать не стал, имея в виду на обратном пути заглянуть в «Последний шанс». (Так называли пивнушку, стоящую у рынка, когда-то действительно бывшую последним шансом выпить.) «Лютер Сбербанк», — так в свое время назвал это здание батя, — был заполнен очередью, однако скромной, человек в пятнадцать. Семен, занятый своими мыслями, не сразу начал прислушиваться к разговорам. Но вдруг услыхал:
— Ловють, ловють, только никого не поймають! Где ж это в Куличе такой маньяк нашелся, чтоб за ночь двадцать человек убить и руки им поотрезать? Это из Ростова, не иначе как сын Щикатилы!
Говорила старушка лет пятидесяти (в селе стареют рано), обращаясь к соседке, молодухе необъятных размеров. Сарафанное радио работало, как всегда, оперативно и, как всегда, неимоверно преувеличивало. Семен Орестович невольно усмехнулся — и вдруг услышал резкий, но при этом какой-то придушенный голос;
— Всем стоять на месте! Кассир — руки на стол! Это ограбление!
Говорил мужчина высокого роста в черном лыжном шлеме со щелями на месте губ и глаз, уставив в сторону очереди большой пистолет. Второй, в маске поросенка, двинул прикладом «калаша» не вовремя завопившую толстуху. Та свалилась на пол и, в ужасе пялясь на «Хрюшу», зажала рот рукой.
«Суки, насмотрелись американских боевиков», — подумал Семен Орестович, по команде длинного отступая к стене.
— Ты что, б…?! — заорал Хрюша на кассиршу, опустившую руку. — На стол! — И, примерившись, ударил ее стволом автомата по рту.
Семен снова не успел среагировать, — среагировало тело. Ребро правой ладони с треском врезалось длинному в кадык, а левая нога, продолжая поворот корпуса, ударила «Хрюшу» чуть выше уха. Рука длинного рефлекторно нажала на курок. Раздался грохот выстрела, такой громкий в небольшом помещении. Семен осмотрелся… слава богу, все целы. Схватив выпавшего из рук главаря «Стечкина», наш герой двинул ногой по упавшему автомату, загоняя его в угол, подальше от лежавших на полу тел, и рванулся к двери. Сообщников не было видно.
Помещение тем временем наполнилось воплями перепуганных баб и воем сирены. Через пару минут, взвизгнув тормозами, рядом со сбербанком остановился «УАЗ». Два милиционера, вбежав в помещение, в первую очередь направили свои «макары» на Семена.
— Оружие на пол! — заорал сержант с белым лицом и прыгающими губами.
«Ах, етит твою мать, умные не застрелили, так идиоты убьют!» — подумал наш герой, бросая пистолет. Болели связки в паху, ныла нога, — не двадцать лет, знаете ли…
— Да ты что, Сашка, о…ел? — закричала из-за своего прилавка кассирша, вытирая разбитый рот платком. — Это ж Семен Орестович, он их и повязал!
Недоразумение быстро рассеялось, и Семена с почетом доставили в милицию, которая, кстати говоря, располагалась метрах в трехстах. На что надеялись грабители? Впрочем, вопрос этот Семена не интересовал. Вскоре в кабинет вошел майор Куняцкий, на данный момент главный районный милиционер.
— Ну, Сеня, ты даешь! — заявил он еще с порога. — Недаром говорили, что ты в каких-то хитрых частях служил! Так, я его забираю, — заявил Николай дознавателю, — работай с другими, а протокол опроса привезешь ему домой, там и подпишет.
Новый начальник уже занял усиковский кабинет, метров в семьдесят величиной. Достав из сейфа коньяк, Куняцкий расплескал его по рюмкам.
— Извини, брат, работа, больше нельзя. За чудесное спасение народных денег! Но ты же и рисковал, скажу я тебе! Этих гастролеров три области ловят, за ними два трупа…
— Дурак, конечно, — согласился гость. — Вот что, Коля, пока погоды стоят летние, неплохо бы повторить вылазку? На этот раз угощаю я!
— Подожди, Сень, не до вылазок, — устало ответил Куняцкий. — Тут такое творится…
Семен Орестович сделал озабоченное лицо:
— Так что, слухи о маньяке верны?
— Слу-ухи… — протянул майор. — Ни хрена себе слухи! Да и никакой он не маньяк…
— А кто же?
— Если б знать, — вздохнул Николай. — Молчит ведь, все отрицает! И алиби есть — дома ночевал, и жена подтверждает…
— Да кто же? — не выдержал неизвестности Семен.
— Да Олег! — заорал майор. — Олег наш, патолог, хрен ему в глотку! Сейчас назначили психиатрическую экспертизу, повезем в Облград.
— Так вы что, его… арестовали? — изумился гость.
— А как не арестуешь? — устало вздохнул и.о. начальника районного отдела милиции. — И рад бы не арестовывать, друг все-таки. Но он рюкзак потерял с кистями рук — и все почему-то левые, блин! — а на пряжке рюкзака — его пальчики… Не только его, правда, но еще один палец нам неизвестен, да и всего-то он один. Может, когда поднимали, и оставили, а там столько народу было…
Семен вспомнил, что брал рюкзак с собою на пикник. «Опять все через жопу вышло», — мелькнула уже привычная мысль…
Глава девятая
Вернулся домой Семен Орестович в ужасном настроении. Дождавшись вечера, полез на чердак с пакетом в руке и уже привычно пробормотал «Отче наш» наоборот.
Домовой, лишь глянув в лицо Семену, тут же стал его утешать:
— Ну, ладно тебе, хозяин, перестань. Ты ж не виноват! Ты ж не хотел! Зато вон — что надо, то и добыл! Я вообще-то думал, ты сейчас на меня накинешься: мол, во что ты меня втянул, да на хрен мне это надо, — а ты ничего! Молодец! Характер выработался!
— Хорошо-хорошо, — прервал его монолог Семен Орестович. — Вот тебе рука висельника. Отказываюсь от нее. Дальше — что?
— Дальше — все, — веско ответил жилец. — Теперь иди и надевай плащ, все тебе ясно будет самому.
— И что — никаких условий придерживаться не надо? — не поверил Семен.
— Не надо, не надо, — успокоил его собутыльник. — Только что протрезвей. Это ж не только источник Силы, это еще и источник информации. Он тебя считывает, а ты — его. Не всякий считать сможет, но ты-то все для этого сделал! Об одном прошу: осторожнее ты… Сразу на большие-то дела не замахивайся. А лучше всего — восстановить бы тебе Орден. Станешь магистром — и самому приятно, и людям польза. Да и мне не помешает.
— Тебе-то зачем? — изумился Семен.
— Как это — зачем? У нас тоже, знаешь, многое зависит от репутации хозяина. Ты многое сможешь — и я, соответственно…
…Как полагается на море, перед штормом надо вымыться и надеть чистое белье. На флоте Семен Орестович не служил, но настроение было таким — хоть в воду. Вымылся, побрился, чистенько оделся. Креститься не стал, хотя его атеизм, воспитанный всей жизнью, здорово поколебался за эти месяцы.
«Да какое отношение имеет плащ к христианству?!» — разозлился Семен. Развернул замшу, надел крылатку, застегнул застежку в виде грифона. Как и в прошлый раз, плащ облег его по мерке, как на него был шит.
И тут Семену Орестовичу стало ясно все.
Он мог теперь многое. Почти все. И — не мог ничего.
Он добился того, чего так хотел. Но не таким способом, который был нужен.
Он прожил свою жизнь по возсти честно. Но не так, как необходимо было, чтобы стать повелителем плаща.
«Что же я сделал со своей жизнью? — в отчаянии думал Семен Орестович, — а может быть, плащ нашептывал ему эти мысли? — Скольким людям я сломал судьбы… Доверия скольких людей не оправдал… А как я добивался инициации, преодоления искуса, посвящения, наконец… Разве ж так?».
«Страна такая, это тебе не Прибалтика, — возражал он этим мыслям. — Время такое!».
«Время нынче — говно, — услужливо подсовывала память слова Михаила Светлова, — но если ты сам говно, не кивай на время!».
«Но я же сделал все, переступив через себя, — неужели это ничего не стоит?!».
«Почему же, стоит! Чего стоит, то и получил! Крылья — орган управления Силой плаща. Они у тебя выросли. Действуй, если решишься! Но потом пеняй только на самого себя».
Да, пенять было не на кого.
Каков рыцарь — таковы и крылья.
У Семена Орестовича выросли крылья.
На заднице.
И чего этими крыльями науправляешь, каковы будут результаты деятельности… гм… рыцаря — ай-яй-яй…
Все снова закончилось кладбищем.
Как всегда.
Глава десятая
Он на этом погосте не гость, Не случайный прохожий, на черта похожий, Не ночной вурдалак, приходящий сквозь мрак На манер нетопыря, руки словно крыла растопыря. Он просто живет по соседству, И погост этот — мир его детства, Плоть его существа, суть его естества… Он приходит сюда по утрам, Когда день освещает тот хлам, Что скопился по грязным углам У ограды, в обводной канаве. Эти хламом его доканали… Банки, тряпки, изломанный крест, Вонь от свалки разлилась окрест, А когда-то стоявший здесь храм Разобрали на камни канальи, И мостили камнями дорогу. Это очень не нравится Богу, И поэтому ласковый Бог К этим грязным безбожникам строг, И давно его нет на погосте. Под ногами валяются кости, Череп скалится, словно бульдог… Бедный Йорик… Он здесь бы не смог… Меж могилами по вечерам Рыщут злые худые собаки. Часть ограды давно разобрали И на топку тащат по дворам. Камни в землю вросли по макушку. Вечерами здесь слышно кукушку. Это так. Но не так по утрам… По утрам через дыры в ограде На погост входят мрачные дяди И бредут, себе под ноги глядя, Словно ищут здесь что-то такое, Что мешает их сну и покою. А когда это «что-то» находят, То, увы, никуда не уходят, А глава их — старшой — говорит: «Стой!» и «Рой!». Он стоит, как всегда, в отдаленьи, Все знакомо ему, все привычно: Грунт швыряя в остервененьи, Роют яму они, как обычно. Псы погостные лают и воют, А мужчины все роют и роют, Твердый грунт по-народному кроют, А потом, покурив и работу обмыв, Уходят. Вот тогда его время приходит! Он к отрытой могиле подходит, В куче грунта он камень находит, Вниз швырнув его вдруг, ловит звук: гук! тук! стук! А затем через грохот рвется ввысь его хохот: ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА! Так всегда он смеется тому, Что отрыта она — не ему![1]Примечания
1
Стихи Вл. Брехова.
(обратно)

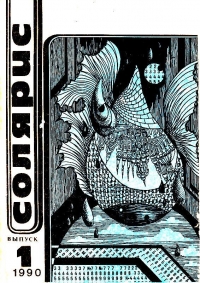

Комментарии к книге «Крылья», Юрий Астров
Всего 0 комментариев