Братья по разуму Сборник научно-фантастических произведений
Парадоксы фантазии
С конца 40-х годов земные радиостанции и особенно телестанции почти удвоили радиояркость Солнечной системы в метровом диапазоне волн. Кванты электромагнитных выплесков уже докатились до Веги и Фомальгаута. Многие из нас говаривали в микрофон; быть может, наши смятые, чудовищно ослабленные расстоянием голоса сейчас изучают где-нибудь в звездных далях? Вероятность этого ничтожна, но не равна нулю.
Над ее плоскостью взметнулись совсем головокружительные идеи теоретиков о вакууме как «океане энергии», о «черных» и «белых» дырах пространства как о возможных тоннелях в другие вселенные, о микрочастицах, в которых, быть может, замкнуты целые галактики.
Такова реальность современной науки.
Есть ли что-нибудь подобное в литературе? Расхожим стало выражение: «чудеса пауки». Кто слышал, однако, о «чудесах литературы»?
А они есть. Чью жизнь мы, читатели, знаем лучше, кого представляем себе отчетливей — Сервантеса или Дон-Кихота? Шекспира или Гамлета? Дефо или Робинзона Крузо?
Заострим вопрос. Кто для нас, читателей, реальнее — творец бессмертного образа или сам образ? Конечно, умом мы отчетливо постигаем разницу, но… Шерлоку Холмсу до сих пор шлют письма. Интересно, пишет ли кто-нибудь Конан Дойлю? О музеях Шерлока Холмса я читал. О музее Конан Дойля мне слышать не доводилось. Возможно, он есть, но — не доводилось. Говорит это о чем-нибудь или нет?
Купив хорошую книгу, мы приносим домой не вещь, не изделие типографии, а подлинный мир. Он замкнут переплетом, таится в значках, как по идее физиков в частицах, быть может, таится Вселенная. И в этот рожденный воображением мир каждый может войти.
Надеюсь, что такой книгой станет для читателей и этот сборник.
В нем представлены произведения известных американских писателей-фантастов. (А.Кларк, правда, англичанин, но он входит в Ассоциацию американских фантастов и как раз за повесть «Встреча с медузой», которая включена в сборник, удостоен премии Небьюла, присуждаемой лишь американским авторам) Пятеро писателей, пять коротких повестей, пять «передатчиков», работающих, однако, в одном и том же диапазоне космической фантастики. Еще уже: фантастики, трактующей тему иных цивилизаций, иного разума, контакта с ним. Разумеется, не всем эта волна созвучна, и если кто-то разочарованно отложит книгу, то это не его вина, но и не обязательно вина авторов.
Устранимей другая причина, которая может вызвать отталкивание. У фантастики массовая, многомиллионная аудитория, для которой этот сборник, уверен, будет подарком. Однако легко представить человека, который плохо знаком или совсем незнаком с современной фантастикой. Тут ничего нельзя предсказать заранее. Тут возможно и восхищение, и радость открытия прежде неведомой литературы и, наоборот, растерянность, недоумение, быть может, гнев: «Что за дикий разгул фантазии! И кому это нужно?!».
Что касается «разгула», могу уточнить: когда сугубо техническая, сугубо утилитарная задача не поддается решению, то для натиска на нее часто используют такие современные методы активизации творческого мышления, как «мозговой штурм» и синектика. Требуется — именно требуется! — генерация всевозможных «безумных идей», полная раскованность фантазии. И еще: у нас в стране изобретательскому творчеству сейчас начинают учить. И методологи установили, что при прочих равных условиях легче овладевают навыками творческого мышления и чаще изобретают те инженеры и рабочие, кто систематически читает фантастику. Поэтому ее настоятельно рекомендуют слушателям курсов.
Прежде чем вернуться к нашему сборнику, упомянем еще о двух психологических барьерах восприятия. Общеизвестно, что каждому виду искусства присущи свои особенности, своя условность и, если хотите, свои «правила игры». В театре нам не мешает фанерная условность декораций, мы к этому привыкли, воспринимаем как должное и не требуем стопроцентной иллюзии. Между тем в кино «фанера» режет глаз. Здесь мы куда придирчивей к достоверности реалий.
Различные виды литературы также обладают своей спецификой, и нелепо судить, скажем, о достоинствах или недостатках «Золотого теленка» исходя из критериев бытового или семейного романа. Другая область литературы, другая поэтика, другая система оценок.
То же следует сказать о научной фантастике. В центре внимания литературы всегда находился человек, его взаимоотношения с другими людьми, с обществом. Человек не ушел и из поля зрения фантастики. В произведениях представляемого сборника есть интересные, достоверные человеческие образы (чего стоит, например, Адам Хичкок из повести Дина Маклафлина «Братья по разуму»!). Но вместе с тем фантастика сосредоточила внимание на том, что в традиционных литературных жанрах часто оказывалось периферийным, подспудным. В центре ее внимания очутились такие проблемы, как «человек и человечество», «человек и будущее», «человек и природа», «человечество и будущее», «человечество и природа». Это положение несложно проверить. Попробуем произвести мысленный эксперимент. Проследим, как в выдающихся произведениях минувшего и даже начала текущего столетий отразился феномен научно-технического прогресса, насколько был замечен и предугадан литературой влекомый им вал перемен, какое место занял в книгах образ подлинного ученого — творца этих сдвигов. Обзор хрестоматийной классики окажется разочарующим: литература всего этого почти не заметила. Какой образ ученого возникает в нашей памяти при мысленном экскурсе от Стендаля до Голсуорси? Это либо рассеянный чудак, либо кабинетный затворник, либо надломленный старик-профессор из «Скучной истории» Чехова… Но как не похожи они на истинных ученых! Однако расхождение тотчас устраняется, едва мы вспомним о фантастике XIX-начала XX веков. Вот где художественный сейсмограф бил бурю! Вот где научно-технический прогресс врывался в судьбы людей! Вот где образ ученого выламывался из скорлупы чудаковатости и отрешенности от дел земных!
Иной круг проблем — иная поэтика. Тончайшая психология едва уловимых движений души вряд ли возможна в произведении о контакте человечества, предположим, с антаресцами, ибо главным героем здесь оказывается уже не личность, а весь человеческий род. Здесь нужны другие краски, другая кисть.
Перенос центра тяжести с личности на общность легко заметить и в произведениях сборника «Братья по разуму». Кто главный герой повести Джеймса Блиша «Поверхностное натяжение»? Отдельные космонавты, отдельные их потомки? Конечно, нет; главным для автора оказывается не судьба личности, а судьба рода. И по всех других повестях — где больше, где меньше — за событиями жизни тех или иных людей (или нелюдей), за их мыслями, переживаниями, поступками стоит жизнь, судьба, будущее всего рода. Без учета этой особенности подлинное художественное восприятие упомянутых произведений невозможно.
И еще один, уже более низкий барьер восприятия. Даже литература, трактующая как будто об общечеловеческом, не может выйти из русла национальных литературных традиций, отрешиться от конкретной социально-экономической действительности, совершенно покинуть духовную почву родины. Это полностью относится к нашему сборнику. Перед нами американская, и только американская, научная фантастика. Характерна в этом смысле повесть Клиффорда Саймака «Сила воображения». Писатель говорит о человечестве, фантазия уносит его в далекое будущее, но частная деталь — герои недоумевают, почему один из них запирается во время работы на ключ, — сразу выдает национальную принадлежность автора (поиск уединения во время работы американцы привыкли считать признаком душевного неблагополучия).
Но это, конечно, мелочь. Существенней в повести другое. Техника достигла невиданных высот, будничными стали межзвездные полеты, а люди… люди превратились в жалких поставщиков чтива всей Галактике! Казалось бы, грустная фантазия, пессимистическое отрицание лучших надежд человечества. Отрицание и в самом деле едкое, страстное, вопрос лишь — чего? Ответ повести настолько прозрачен, что для его видения не надо быть тонким знатоком пороков капитализма. Безразличие к человеческим судьбам, подчинение творчества бизнесу, жестокая борьба за существование — да разве это будущее? В повести не столько сгущены, сколько спроецированы на галактический фон реальные черты и тенденций современной капиталистической действительности.
Таков объект отрицания. Но есть в повести и утверждение. Упрямое, хотя, быть может, кое в чем и наивное утверждение человеческого достоинства, силы мечты, неистребимости творческого начала в бесчеловечных условиях существования. Гуманизм этой, как и других повестей сборника, несомненен. Всеми художественными средствами в них утверждается близкая нам мысль, что нигде не может быть рас «высших» и «низших», что иной разум не обязательно подобен нашему, все гораздо, гораздо сложней… Что именно?
Сама тема сборника — тема контакта с другими цивилизациями и даже простое допущение их существования — сейчас находится в центре научной полемики. Здесь исследовательская мысль мечется меж двумя полюсами. На первом начертан тезис: «Нет в космосе иной цивилизации, кроме нашей». На другом утверждена формула: «В одной нашей Галактике с ее 100 миллиардами звезд есть неисчислимое множество самых разных цивилизаций». Ни одно из этих утверждений сегодня нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Ибо перед нами уравнение из сплошных неизвестных. Все ли, многие ли или только единичные звезды имеют планетные системы? Этого мы толком не знаем. Какова возможная распространенность жизни? Об этом мы гадаем на основе изучения нашей, еще плохо исследованной Солнечной системы. Как часто жизнь порождает разум и какого типа? Ответа нет вовсе.
Но если так обстоит дело в науке, то литературные фантазии на эти темы с позиций здравого смысла и вовсе чистая спекуляция. Имеем ли мы тогда право говорить о произведениях сборника как о научной фантастике?
Обратим внимание на такую деталь. Законы современной науки запрещают движение тел со сверхсветовой скоростью. Писатели-фантасты с поразительным единодушием игнорируют этот запрет. Если художественный замысел того требует, звездолеты фантастики движутся с какими угодно скоростями. И редкий педант рискнет осуждать за это писателей. Задумаемся над причиной такой снисходительности к вольностям вымысла.
Простейший ответ очевиден. Он напрашивается сам собой, если вспомнить детскую загадку: «Что быстрее всего на свете? Мысль!». Звездолеты фантастики суть не физические тела; это мысленные субстанции, проекции нашего воображения. Потому-то они и могут перемещаться с какими угодно скоростями, не вызывая у нас протеста. Но, спрашивается, какое отношение это имеет к науке? К жизни?
Художественное познание мира находится в сложном, противоречивом, до конца не понятом зацеплении с познанием научным. Проиллюстрируем эту сложность на частном примере.
Из энциклопедии известно, что лазер появился в 1960 году одновременно в лабораториях СССР и США. Все правильно. И все-таки лазер впервые появился не в 1960 году и не в лаборатории; в 1897 году он возник на страницах романа Герберта Уэллса «Борьба миров». Ибо что такое, судя по описанию романиста, генератор теплового луча марсиан, как не мощный, работающий в инфракрасном диапазоне лазер?
Вторично, уже в 1925 году, яркая вспышка лазера озарила страницы романа Алексея Толстого «Гиперболоид инженера Гарина». Правда, в обоих произведениях лазер выступал под псевдонимом, так как авторы понятия не имели, как возникший в их воображении аппарат может работать в действительности (и вообще — может ли быть что-либо подобное). Но любопытно: в романе Уэллса лазер был изделием некой сверхцивилизации, и его устройство оказалось непостижимым для землян, даже когда аппарат попал к ним в руки. Гиперболоид же Толстого — чисто земное и даже не очень сложное изобретение. Параллель этим фантазиям в науке такова. В то время, когда создавалась «Борьба миров», не было не только основ теории лазерного излучения, но даже предпосылок к ее появлению. В период создания «Гиперболоида инженера Гарина» теория эта уже была, хотя, судя по всему, Толстой о ней и не слыхивал. Так в воображении писателей отразились движение научного познания и рост технических возможностей человечества. Между прочим, один из создателей лазера, Ч.Таунс, не без удивления заметил, что лазер мог появиться уже в конце 20-х годов — теоретические и технологические предпосылки тому были…
Удивляться нечему. «Способностью заглядывать в будущее обладает не только философия, — пишет советский философ А.Гулыга. — Искусство наделено подобной профитической функцией».
Конечно, можно было бы выяснить (частично такой анализ уже проведен в нашей стране), в каких случаях вольный поиск фантастики предугадал те или иные элементы действительности. В большинстве предугадал, хотя конкретное воплощение фантазии, как в истории с лазером, естественно, оказалось иным.
Правильной была лишь идея, сколь бы дикой в первый момент она ни казалась (в свое время идея того же гиперболоида но раз служила иллюстрацией невозможного в оптике). Конечно, принципиальное схождение фантазии с будущей реальностью роднит художественный и научный методы постижения мира. Однако и в прогнозировании и тем более в познании наука гораздо сильнее литературы. Достоинство воплощенного в фантастике художественного метода осознания мира в ином: он помогает духовно осваивать просторы будущего, готовит сознание к принятию качественно иных ситуаций и событий, чем ситуации и события сегодняшнего дня.
«Хотя я влюблен в науку, меня не покидает чувство, что ход развития естественных наук настолько противостоит всей истории и традициям человечества, что наша цивилизация просто не в состоянии сжиться с этим процессом», - потрясенно писал известный физик М.Бори. Как видно из этих слов (и не только слов), упомянутая проблема существует, и мы коснулись не пустяков.
Эта проблема переплетается с другой. В свое время Маркс высказал такую мысль: «Всякая мифология преодолевает, подчиняет и формирует силы природы в воображении и при помощи воображения; она исчезает, следовательно, вместе с наступлением действительного господства над этими силами природы… Здесь под природой понимается все предметное, следовательно, включая и общество».[1]
Фантастика отнюдь не мифология уже потому, что последняя в момент своего появления воспринималась всеми как нечто безусловное, как часть подлинных знаний. Людей, которые бы так воспринимали современную фантастику, найти нелегко. Однако функцию переработки неведомого в воображении она выполняет художественными средствами, опираясь на науку. Вся научно-техническая сторона романа Жюля Верна «80 000 километров под водой» безнадежно устарела. А мы роман читаем и перечитываем, потому, между прочим, что есть в нем немеркнущая романтика научного поиска и есть образ капитана Немо. Но существуют ли эта романтика, этот образ в отрыве от «Наутилуса»? Не думаю. В этом один из секретов фантастики и ответ на вопрос, какое начало в ней главенствует — научное или художественное.
Духовное освоение грядущего мира средствами фантастики — не пустой звук. К созданию стратостата и батискафа Пиккара подтолкнули фантазии Жюля Верна. Тот же писатель обратил взгляд Циолковского к звездам. Решая одни проблемы, мы переходим к другим, более сложным. Опираясь на науку, фантастика способствует общему движению от мечты к осуществлению, от познанного к еще неведомому.
В повестях сборника «Братья по разуму» аналогичный сплав проблем и методов. Какую ни с чем не сообразную картину «разума в луже» рисует нам Джеймс Блиш! Но если приглядеться внимательнее, то за всей головокружительной фабулой, за всеми отрешениями от «здравого смысла» — где больше, где меньше — проступает очень точная, скрупулезная, жесткая, я бы сказал, не только психологическая, но и научная разработка темы. Ответственно, со знанием дела построены размышления Блиша и Маклафлина о некоторых важных особенностях эволюции. Еще строже в своих построениях Артур Кларк. Всего один пример. Даже в научно-популярной периодике феномен светящихся в море «колес» часто связывают с таинственными исчезновениями судов, с загадкой неких особых «треугольников» земного шара, а то и с пришельцами. Казалось бы, фантасту тут и карты в руки. Что стоит ему разыграть необъясненные факты появления «световых колец» в духе сенсационности? Кларк же в своей повести «Встреча с медузой» дает феномену очень трезвое, построенное по всем правилам научного мышления истолкование.
И это не случайно. Выдам один «профессиональный секрет», который, возможно, кого-то и разочарует. Давая волю воображению, фантасты, однако, выверяют свои построения, следуя методам научного мышления, но подчиняя их в свою очередь законам литературы. Во имя наилучшего воплощения художественного замысла мы часто и вполне сознательно грешим против буквы, но не против духа науки. Разумеется, речь идет не о поставщиках «чтива». Лично для меня корреляция между талантом писателя-фантаста и его научной грамотностью, владением навыками научного мышления несомненна. Произведения чистой фантастики исключения не составляют, но там эта связь запрятана глубже. Кстати, говоря о сугубо научной деятельности, А.Эйнштейн поставил воображение выше знаний.
Одно без другого мертво. Если знание уподобить топливу, то логика — это движитель, а воображение — мотор. При этом возникает очередной парадокс. Воображение писателей, представленных в настоящем сборнике, уносит нас куда-то за тридевять земель. И все же оно не отрывается ни от Земли, ни от современности. Иные цивилизации, иной разум, контакт с ним… Однако переведем взгляд на ближний муравейник. Если проследить за деятельностью отдельного муравья, то в первый момент создастся впечатление, что перед нами примитивный живой механизм. Между тем сообщества муравьев — сложная организация: у них развито «скотоводство», их архитектура (с учетом размеров тела) грандиознее нашей, иные виды муравьев одолевают реки, которые для них то же, что для нас Амазонка. Наши знания о муравьях составляют тома, но мы еще крайне далеки от понимания того, что видим. Все куда сложнее, чем в повести Блиша!
А ведь понимание законов и свойств земной жизни уже не дань любознательности — жгучая необходимость. Ибо в теперешней экологической ситуации, хотим мы того или не хотим, человек обязан взять на себя управление биоценозами, биосферой в целом. Мы же к этому еще не готовы. И когда воображение писателя стремится хоть как-то высветить дали галактических миров, оно, рисуя панораму в ином ракурсе, готовит мысль к принятию необычного, работает и на сегодняшний день.
Разумеется, и на завтрашний тоже. Мы говорили о явно гуманистической направленности произведений сборника. Но гуманизм, как известно, гуманизму рознь. Острое столкновение различных точек зрения на этот счет заметно выделяет давшую название всему сборнику повесть Дина Маклафлина «Братья по разуму». Один из ее героев — Мюллер — настолько обеспокоен быстрой эволюцией разума инопланетян, такую видит в этом угрозу безопасности землян, что, идя на все тяжкие, стремится убить чужой разум в зародыше. Этот его антропоцентрический, как будто продиктованный заботой о человечестве гуманизм в действительности подозрительно смахивает на чистопородный, только уже «космический» расизм. Альтернативой этому принципу предстает, казалось бы, совсем иная, благородная точка зрения: долг человечества — заботиться о «братьях меньших», нянчить их, словно младенцев. Всегда, при любых обстоятельствах, не взирая на конкретные условия! Абстрактный, распространяющийся на всю Вселенную гуманизм в его чистейшем и благороднейшем выражении.
Что ж, возможно, абстрактный гуманизм и лучше «конкретного людоедства». Случайно ли, однако, проповедником этого абстрактного гуманизма в повести оказывается демагог и дремучий невежда Хичкок? Случайно ли Мюллер видит в нем естественного союзника? Случайно ли наши и автора симпатии на стороне того человека, который, болея за судьбу чужого разума, видит всю мучительную сложность проблемы, не обольщается звонкими абстракциями, а действует на благо инопланетян так, как того требует суровая реальность и научное понимание закономерностей эволюции?
Для материалиста и диалектика двух ответов здесь нет. «…Не природа, не человечество сообразуется с принципами, а, наоборот, принципы верны лишь постольку, поскольку они соответствуют природе и истории»,[2] — писал Ф.Энгельс. Мысль американского писателя, его художественная интуиция, когда он строго, по научному анализирует проблему «космического гуманизма», приводит его к тому же выводу. Такова особенность логики честного научно-художественного мышления, столь характерная для произведений сборника «Братья по разуму».
Это делает его особенно интересным.
И последнее. Говоря о произведениях сборника, я все же, как мог, воздерживался от тщательного их разбора, ибо такой анализ сопряжен с пересказом, с предуведомлением читателя, в чем же там «соль». А это уже некорректный поступок. И еще одна причина. Ландыш можно анализировать на морфологическом, клеточном, молекулярном уровне: куда при этом денется его красота, его аромат? Эту мою мысль пусть пояснит повесть Роберта Янга «У начала времен». Я же закончу словами М.Горького: «Наука и искусство так же тесно связаны между собой, как легкие и сердце…»
Лучше не скажешь.
Дмитрий Биленкин
Джеймс Блиш Поверхностное натяжение[3]
Пролог
Доктор Шавье надолго замер над микроскопом, оставив ла Вентуре одно занятие — созерцать безжизненные виды планеты Гидрот. «Уж точнее было бы сказать, — подумал пилот, — не виды, а воды…» Еще из космоса они заметили, что новый мир — это, по существу, малюсенький треугольный материк посреди бесконечного океана, да и материк, как выяснилось, представляет собой почти сплошное болото.
Остов разбитого корабля лежал поперек единственного скального выступа, какой нашелся на всей планете; вершина выступа вознеслась над уровнем моря на умопомрачительную высоту — двадцать один фут. С такой высоты ла Вентура мог окинуть взглядом плоскую чашу грязи, простирающуюся до самого горизонта на добрые сорок миль. Красноватый свет звезды Тау Кита, дробясь в тысячах озер, запруд, луж и лужиц, заставлял мокрую равнину искриться, словно ее сложили из драгоценных камней.
— Будь я религиозен, — заметил вдруг пилот, — я бы решил, что это божественное возмездие.
— Гм? — отозвался Шавье.
— Так и чудится, что нас покарали за… кажется, это называлось «гордыня»? За нашу спесь, амбицию, самонадеянность…
— Гордыня? — переспросил Шавье, наконец подняв голову. — Да ну? Что-то меня в данной момент отнюдь не распирает от гордости. А вас?
— Н-да, хвастаться своим искусством посадки я, пожалуй, не стану, — признал ла Вентура. — Но я, собственно, не то имел в виду. Зачем мы вообще полезли сюда? Разве не самонадеянность воображать, что можно расселить людей или существа, похожие на людей, по всей Галактике? Еще больше спеси надо, чтобы и впрямь взяться за подобное предприятие — двигаться от планеты к планете и создавать людей, создавать применительно к любому окружению, какое встретится…
— Может, это и спесь, — произнес Шавье. — Но ведь наш корабль — один из многих сотен в одном только секторе Галактики, так что сомнительно, чтобы именно за нами боги записали особые грехи. — Он улыбнулся. — А уж если записали, то могли хоть бы оставить нам ультрафон, чтобы Совет по освоению услышал о нашей судьбе. Кроме того, Пол, мы вовсе не создаем людей. Мы приспосабливаем их, притом исключительно к планетам земного типа. У нас хватает здравого смысла — смирения, если хотите, — понимать, что мы не в силах приспособить человека к планетам типа Юпитера или к жизни на поверхности звезд, например на самой Тау Кита…
— И тем не менее мы здесь, — перебил ла Вентура мрачно. — И никуда отсюда не денемся. Фил сказал мне, что в термокамерах не уцелело ни одного эмбриона, значит, создать здесь жизнь по обычной схеме мы и то не можем. Пас закинуло в мертвый мир, а мы еще тщимся к нему приспособиться. Интересно, что намерены пантропологи сотворить с нашими непокорными телесами — приспособить к ним плавники?
— Нет, — спокойно ответил Шавье. — Вам, Пол, и мне, и всем остальным предстоит умереть. Пантропология не в состоянии воздействовать на взрослый организм, он определен вам таким, какой он есть от рождения. Попытка переустроить его лишь искалечила бы вас. Пантропология имеет дело с генами, с механизмом передачи наследственности. Мы не можем придать вам плавники, как не можем предоставить вам запасной мозг. Вероятно, мы сумеем заселить этот мир людьми, только сами не доживем до того, чтобы убедиться в этом.
Пилот задумался, чувствуя, как под ложечкой медленно заворочалось что-то скользкое и холодное.
— И сколько вы нам еще отмерили? — осведомился он в конце концов.
— Как знать? Быть может, месяц…
Переборка, что отделяла их от других отсеков корабля, разомкнулась, впустив сырой соленый воздух, густой от углекислого газа. Пятная пол грязью, вошел Филип Штрасфогель, офицер связи. Как и ла Вентура, он остался сейчас не у дел, и это тяготило его. Природа не наградила Штрасфогеля склонностью к самоанализу, и теперь, когда его драгоценный ультрафон вышел из строя и не отвечал более на прикосновения его чутких рук, он оказался во власти собственных мыслей, а они не отличались разнообразием. Только поручения Шавье не давали связисту растечься студнем и впасть в окончательное уныние.
Он расстегнул и снял с себя матерчатый пояс, в кармашках которого, как патроны, торчали пластмассовые бутылочки.
— Вот вам новые пробы, док, — сказал он. — Все то же самое, вода да слякоть. В ботинках у меня настоящий плывун. Выяснили что-нибудь?
— Многое, Фил. Спасибо. Остальные далеко?
Штрасфогель высунул голову наружу и крикнул. Над морями грязи зазвенели другие голоса. Через несколько минут в пантропологическом отсеке собрались все уцелевшие после крушения: Солтонстол, старший помощник Шавье, румяный и моложавый, заведомо согласный на любой эксперимент, пусть даже со смертельным исходом; Юнис Вагнер — за ее невыразительной внешностью скрывались знания и опыт единственного в экипаже эколога; Элефтериос Венесуэлос, немногословный представитель Совета по освоению, и Джоан Хит, гардемарин — это звание было теперь таким же бессмысленным, как корабельные должности ла Вентуры и Штрасфогеля, по светлые волосы Джоан и ее стройная, обманчиво инфантильная фигурка в глазах пилота сверкали ярче, чем Тау Кита, а после катастрофы, пожалуй ярче самого земного Солнца.
Пять мужчин и две женщины — на всю планету, где и шагу не сделать иначе, чем по колено, если не по пояс в воде.
Они тихо вошли друг за другом и застыли, кто прислонившись к стенке в углу, кто присев на краю стола. Джоан Хит подошла к ла Вентуре и встала о ним рядом. Они не взглянули друг на друга, но ее плечо коснулось его плеча, и все сразу сделалось не так скверно, как только что казалось.
Молчание нарушил Венесуэлос:
— Каков же ваш приговор, доктор Шавье?
— Планета отнюдь не мертва, — ответил тот. — Жизнь есть и в морской и в пресной воде. Что касается животного царства, эволюция здесь, видимо, остановилась на ракообразных. Самый развитый вид, обнаруженный в одном из ручейков, напоминает крошечных лангустов, но этот вид как будто не слишком распространен. Зато в озерцах и лужах полным-полно других многоклеточных низших отрядов, вплоть до коловраток, включая один панцирный вид наподобие земных Floscularidae. Кроме того, здесь удивительное многообразие простейших — господствующий реснитчатый тип напоминает Paramoecium плюс различные корненожки, вполне естественные в такой обстановке жгутиковые и даже фосфоресцирующие виды, чего я никак не ожидал увидеть в несоленой воде. Что касается растений, то здесь распространены как простые сине-зеленые водоросли, так и намного более сложные таллофиты — но, конечно, ни один из местных видов не способен жить вне воды.
— В море почти то же самое, — добавила Юнис. — Я обнаружила там довольно крупных низших многоклеточных — медуз и так далее — и ракообразных величиной почти с омара. Вполне нормальное явление: виды, обитающие в соленой поде, достигают больших размеров, чем те, что водятся в пресной. Ну, и еще обычные колонии планктона и микропланктона…
— Короче говоря, — подвел итог Шавье, — если не бояться трудностей, то выжить здесь можно…
— Позвольте, — вмешался ла Вентура. — Вы же сами только что заявили мне, что мы не выживем ни при каких обстоятельствах. И вы имели в виду именно нас семерых, а не генетических потомков человечества — ведь термокамер и банка зародышевых клеток более не существует. Как прика…
— Да, разумеется, банка больше нет. Но, Пол, мы можем использовать свои собственные клетки. Сейчас я перейду к этому. — Шавье обернулся к своему помощнику. — Мартин, как вы думаете, не избрать ли нам море? Когда-то, давным-давно, мы вышли из моря на сушу. Быть может, здесь, на планете Гидрот, мы со временем дерзнем на это опять?…
— Не выйдет, — тотчас откликнулся Солтонстол. — Идея мне нравится, но если посмотреть на проблему объективно, словно бы мы лично тут вовсе не замешаны, то на возрождение из пены я не поставил бы и гроша. В море борьба за существование будет слишком остра, конкуренция со стороны других видов — слишком упорна. Сеять жизнь в море — самое последнее, за что стоило бы здесь браться. Колонисты и оглянуться не успеют, как их попросту сожрут…
— Как же так? — не унимался ла Вентура. Предчувствие смерти вновь шевельнулось где-то внутри, и с ним стало еще труднее справиться.
— Юнис, среди морских кишечнополостных есть хищники, вроде португальских корабликов?
Эколог молча кивнула.
— Вот вам и ответ, Пол, — сказал Солтонстол. — Море отпадает. Придется довольствоваться пресной водой, где нет столь грозных врагов, зато много больше всевозможных убежищ.
— Мы что, не в силах справиться с медузами? — спросил ла Вентура, судорожно сглотнув.
— Не в силах, Пол, — ответил Шавье. — Во всяком случае, не с такими опасными. Пантропологи — еще не боги. Они берут зародышевые клетки — в данном случае наши собственные, коль скоро банк но пережил катастрофы, — и видоизменяют их генетически с тем расчетом, чтобы существа, которые разовьются из них, приспособились к данному окружению. Существа эти будут человекоподобными и разумными. Как правило, они сохраняют и некоторые черты личности донора: ведь изменения касаются в основном строения тела, а не мозга — мозг у дочернего индивидуума развивается почти по исходной программе.
Но мы не можем передать колонистам свою память. Человек, возрожденный в новой среде, поначалу беспомощнее ребенка. Он не знает своей истории, не ведает техники, у него нет ни опыта, ни даже языка. В нормальных условиях, например при освоении Теллуры, группа сеятелей, прежде чем покинуть планету, дает своим питомцам хотя бы начальные знания, — но мы, увы, не доживем до поры, когда у наших питомцев возникнет потребность в знаниях. Мы должны создать их максимально защищенными, поместить в наиболее благоприятное окружение и надеяться, что по крайней мере некоторые из них выживут, учась на собственных ошибках.
Пилот задумался, но так и не нашел ничего в противовес мысли, что смерть надвигается все ближе и неотвратимее с каждой пролетевшей секундой. Джоан Хит придвинулась к нему чуть теснее.
— Стало быть, одно из созданных нами существ сохранит определенное сходство со мной, но обо мне помнить не будет, так?
— Именно так. В данной ситуации мы, вероятно, сделаем колонистов гаплоидными, так что некоторые из них, а быть может и многие, получат наследственность, восходящую лично к вам. Может статься, сохранятся даже остатки индивидуальности — пантропология дала нам кое-какие доводы в поддержку взглядов старика Юнга относительно наследственной памяти. Но как сознающие себя личности мы умрем, Пол. Этого не избежать. После нас останутся люди, которые будут вести себя, как мы, думать и чувствовать, как мы, но которые и понятия не будут иметь ни о ла Вентуре, ни о докторе Шавье, ни о Джоан Хит, ни о Земле…
Больше пилот ничего не сказал. Во рту у него словно бы застыл какой-то отвратительный привкус.
— Что вы порекомендуете нам, Мартин, в качестве модели?
Солтонстол в задумчивости потер переносицу.
— Конечности, я думаю, перепончатые. Большие пальцы на руках и ногах удлиненные, с когтями, чтобы успешнее обороняться от врагов на первых порах. Ушные раковины меньше, а барабанные перепонки толще, чем у нас, и ближе к отверстию наружного слухового прохода. Придется, видимо, изменить всю систему водно-солевого обмена: клубочковые почки смогут функционировать в пресной воде, однако жизнь в погруженном состоянии будет означать, что осмотическое давление внутри окажется выше, чем снаружи, и почкам придется постоянно выполнять роль насоса. При таких обстоятельствах антидиуретическую функцию гипофиза надо практически свести к нулю.
— А что с дыханием?
— Предлагаю легкие в виде книжки, как у пауков; можно снабдить их межреберными дыхальцами. Такие легкие способны перейти к атмосферному дыханию, если колонисты решат когда-нибудь выйти из воды. На этот случай, думаю, следует сохранить полость носа, отделив ее от гортани мембраной из клеток, которые снабжались бы кислородом преимущественно за счет прямого орошения, а не по сосудам. Достаточно будет нашим потомкам выйти из воды — хотя бы на время — и мембрана начнет атрофироваться. Два-три поколения колонисты проживут как земноводные, а потом в один прекрасный день обнаружат, что могут дышать через гортань, как мы.
— Остроумно, — заметил Шавье.
— Вношу также предложение, доктор Шавье, наделить их способностью к спорообразованию. Как все водные животные, наши наследники смогут жить очень долго, а новые поколения должны появляться не реже чем через шесть недель, чтобы их не успевали истреблять неопытными и неумелыми. Возникает противоречие, и чтобы преодолеть его, нужны ежегодные и довольно продолжительные разрывы жизненного цикла. Иначе колонисты столкнутся с проблемой перенаселения задолго до того, как накопят знания, достаточные, чтобы с ней справиться.
— И вообще лучше, чтобы они зимовали внутри добротной крепкой оболочки, — поддержала пантрополога Юнис Вагнер. — Спорообразование — решение вполне очевидное. Недаром этим свойством наделены многие другие микроскопические существа.
— Микроскопические? — переспросил Штрасфогель, не веря своим ушам.
— Конечно, — усмехнувшись, ответил Шавье. — Уж не прикажете ли уместить человека шести футов ростом в луже двух футов в поперечнике? Но тут встает вопрос. Наши потомки неизбежно вступят в упорную борьбу с коловратками, а иные представители этого племени не так уж и микроскопичны. Коль на то пошло, даже отдельные типы простейших видны невооруженным глазом, пусть смутно и только на темном фоне, но видны. Думаю, что колонист должен в среднем иметь рост не менее 250 микрон. Не лишайте их, Мартин, шансов выкарабкаться…
— Я полагал сделать их вдвое большими.
— Тогда они будут самыми крупными в окружающем животном мире, — указала Юнис Вагнер, — и никогда ничему не научатся. Кроме того, если они по росту окажутся близкими к коловраткам, у них появится стимул сразиться с панцирными видами за домики-панцири и приспособить эти домики под жилье.
— Ну что ж, приступим, — кивнул Шавье. — Пока мы колдуем над генами, остальные могут коллективно поразмыслить над посланием, которое мы оставим будущим людям. Можно прибегнуть к микрозаписи на нержавеющих металлических листочках такого размера, чтобы колонисты поднимали их без труда. Мы расскажем им в самых простых выражениях, что случилось, и намекнем, что вселенная отнюдь не исчерпывается одной-двумя лужами. Придет день, и они разгадают наш намек.
— Еще вопрос, — вмешалась Юнис. — Надо ли сообщить им, что они по сравнению с нами микроскопичны? Я бы этого делать не стала. Это навяжет им, по крайней мере в ранней их истории, легенды о богах и демонах, легенды, без которых можно и обойтись…
— Нет, Юнис, мы ничего не скроем, — сказал Шавье, и по тону его голоса ла Вентура понял, что доктор взял на себя обязанности начальника экспедиции. — Созданные нами существа по крови останутся людьми и рано или поздно завоюют право вернуться в сообщество человеческих цивилизаций. Они не игрушечные созданьица, которых надо навеки оградить от правды в пресноводной колыбельке.
— К тому же, — заметил Солтонстол, — они просто не сумеют расшифровать наши записи на заре своей истории. Сначала они должны будут разработать собственную письменность, и мы при всем желании не в силах оставить им никакого розеттского камня, никакого ключа к расшифровке. К тому времени, когда они прочитают правду, они окажутся подготовлены к ней.
— Одобряю ваше решение официально, — неожиданно вставил Венесуэлос. И дискуссия окончилась.
Да, по существу, и говорить было больше не о чем. Все они с готовностью отдали клетки, нужные пантропологам. Конфиденциально ла Вентура и Джоан Хит просили Шавье разрешить им внести свой вклад сообща; но ученый ответил, что микроскопические люди непременно должны быть гаплоидными, иначе нельзя построить миниатюрную клеточную структуру с ядрами столь же мелкими, как у земных риккетсий, и потому каждый донор должен отдать свои клетки индивидуально — зиготам на планете Гидрот места нет. Так что судьба лишила их даже последнего зыбкого утешения: детей у них не будет и после смерти.
Они помогли, как сумели, составить текст послания, которое предстояло перенести на металлические листки. Мало-помалу они начали ощущать голод — морские ракообразные, единственные па планете существа, достаточно крупные для того, чтобы служить людям пищей, водились в слишком глубоких и холодных водах и у берега попадались редко.
Ла Вентура навел порядок в рубке — занятие совершенно бессмысленное, однако многолетняя привычка требовала к себе уважения. В то же время уборка, неясно почему, слегка смягчала остроту раздумий о неизбежном. Но когда с уборкой было покончено, ему осталось лишь сидеть на краю скального выступа, наблюдая за красноватым диском Тау Кита, спускающимся к горизонту, и швыряя камушки в ближайшее озерцо.
Подошла Джоан Хит, молча села рядом. Он взял его за руку. Блеск красного солнца уже почти угас, и они вместе следили за тем, как оно исчезает из виду. И ла Вентура все-таки задал себе скорбный вопрос: которая же из безымянных луж станет его Летой?
Он, конечно, так и не узнал ответа на свой вопрос. Никто из них не узнал.
В дальнем углу Галактики горит пурпурная звездочка Тау Кита, и вокруг нее бесконечно вращается сырой мирок по имени Гидрот. Многие месяцы его единственный крошечный материк был укутан снегом, а усеявшие скудную сушу пруды и озера скованы ледовой броней. Но постепенно багровое солнце поднималось в небе планеты все выше и выше; снега сбежали потоками в океан, а лед на прудах и озерах отступил к берегам…
ЭТАП ПЕРВЫЙ
1
Первое, что проникло в сознание спящего Лавона, был тихий прерывистый скребущий звук. Затем по телу начало расползаться беспокойное ощущение, словно мир — и Лавон вместе с ним — закачался на качелях. Он пошевелился, не раскрывая глаз. За время сна обмен веществ замедлился настолько, что качели не могли победить апатию и оцепенение. Но стоило ему шевельнуться, как звук и покачивание стали еще настойчивее.
Прошли, казалось, многие дни, прежде чем туман, застилавший его мозг, рассеялся, но какая бы причина ни вызвала волнение, оно не прекращалось. Лавон со стоном приоткрыл веки и взмахнул перепончатой рукой. По фосфоресцирующему следу, который оставили пальцы при движении, он мог судить, что гладкая янтарного цвета сферическая оболочка его каморки пока не повреждена. Он попытался разглядеть хоть что-нибудь сквозь оболочку, но снаружи лежала тьма и только тьма. Так и следовало ожидать: обыкновенная вода — не то что жидкость внутри споры, в воде не вызовешь свечения, как упорно ее ни тряси.
Что- то извне покачнуло спору опять с тем же, что и прежде, шелестящим скрежетом. «Наверное, какая-нибудь упрямая диатомея, — лениво подумал Лавон, — старается, глупая, пролезть сквозь препятствие вместо того, чтобы обойти его». Или ранний хищник, который жаждет отведать плоти, прячущейся внутри споры. Ну и пусть, — Лавон не испытывал никакого желания расставаться с укрытием в такую пору. Жидкость, в которой он спал долгие месяцы, поддерживала физические потребности тела, замедляя умственные процессы. Вскроешь спору — и придется сразу же возобновить дыхание и поиски пищи, а судя по непроглядной тьме снаружи, там еще такая ранняя весна, что об этом страшно и подумать.
Он рефлекторно сжал и разжал пальцы и залюбовался зеленоватыми полукольцами, побежавшими к изогнутым стенкам споры и обратно. До чего же уютно здесь, в янтарном шарике, где можно выждать, пока глубины не озарятся теплом и светом! Сейчас на небе еще, наверное, держится лед, и нигде не найдешь еды. Не то чтобы ее когда-нибудь бывало вдоволь — с первыми же струйками теплой воды прожорливые коловратки проснутся тоже…
Коловратки! Вот оно что! Был разработан план, как выселить их из жилищ. Память вернулась вдруг в полном объеме. Словно пытаясь помочь ей, спора качнулась снова. Вероятно, кто-то из союзников старается до него добудиться; хищники никогда не спускаются на дно в такую рань. Он сам поручил побудку семейству Пара, — и вот, видно, время пришло: вокруг именно так темно и так холодно, как и намечалось по плану…
Поборов себя, Лавон распрямился и изо всех сил уперся ногами и спиной в стенки своей янтарной тюрьмы. С негромким, но отчетливым треском по прозрачной оболочке побежала сетка узких трещин.
Затем спора распалась на множество хрупких осколков, и он содрогнулся, окунувшись в ледяную воду. Более теплая жидкость, наполнявшая его зимнюю келью, растворилась в этой воде легким переливчатым облачком. Облачко успело высветить мглу недолгим блеском, и он заметил невдалеке знакомый контур — прозрачный бесцветный цилиндр, напоминающий туфельку, с множеством пузырьков и спиральных канавок внутри, а в длину почти равный росту самого Лавона. Поверхность цилиндра была опушена изящными, мягко вибрирующими волосками, утолщенными у основания.
Свет померк. Цилиндр оставался безмолвным: он выжидал, чтобы Лавон прокашлялся, очистил легкие от остатков споровой жидкости и заполнил их игристой студеной водой.
— Пара? — спросил Лавон наконец. — Что, уже время?
— Уже, — задрожали в ответ невидимые реснички ровным, лишенным выражения тоном. Каждый отдельно взятый волосок вибрировал независимо, с переменной скоростью; возникающие звуковые волны расходились в воде, накладываясь друг на друга и то усиливая звук, то гася его. Сложившиеся из колебаний слова к тому моменту, как достигали человеческого уха, звучали довольно странно — и все-таки их можно было распознать.
— Время, Лавон…
— Время, давно уже время, — добавил из темноты другой голос. — Если мы в самом деле хотим выгнать флосков из их крепостей…
— Кто это? — произнес Лавон, оборачиваясь на голос.
— Я тоже Пара, Лавон. С минуты пробуждения нас стало уже шестнадцать. Если бы вы могли размножаться с такой же скоростью…
— Воюют не числом, а умением, — отрезал Лавон. — И всеедам придется вскоре убедиться в этом.
— Что мы должны делать, Лавон?
Человек подтянул колени к груди и опустился на холодное илистое дно — размышлять. Что-то шевельнулось под самой его рукой, и крошечная спирилла, крутясь в иле, заторопилась прочь, различимая только на ощупь. Лавон не тронул ее — он пока не ощущал голода, и думать сейчас следовало о другом: о всеедах, то бишь коловратках. Еще день, и они ринутся в верхние поднебесные слои, пожирая все на своем пути — даже людей, если те не сумеют вовремя увернуться, а подчас и своих естественных врагов, сородичей семейства Пара. Удастся ли поднять всех этих сородичей на организованную борьбу с хищниками — вопрос, что называется, оставался открытым.
Воюют не числом, а умением; но даже это утверждение предстояло еще доказать. Сородичи Пара были разумными на свой манер, и они изучили окружающий мир так, как человеку и не снилось. Лавон не забыл, сколь тяжко дались ему знания обо всех разновидностях существ, населяющих этот мир, сколь мудрено оказалось вникнуть в смысл их запутанных имен; наставник Шар нещадно мучил его зубрежкой, пока знания накрепко не засели в памяти.
Когда вы произносите слово «люди», то подразумеваете существа, которые в общем и целом все похожи друг на друга. Бактерии распадаются на три вида — палочки, шарики и спиральки, — все они малы и съедобны, но различать их не составляет труда. А вот задача распознать сородичей Пара иной раз вырастает в серьезную проблему. Сам Пара и его потомки внешне резко отличаются от Стента с семейством, а семья Дидина ничем не напоминает ни тех ни других. Буквально любое создание, если оно не зеленого цвета и у него есть видимое ядро, может на поверку состоять в родстве с Пара, какую бы странную форму оно ни приобрело. Всееды тоже встречаются самые разные, иные из них красивы, как плодоносящие кроны растений, но и красивые смертельно опасны: вращающиеся венчики ресничек мгновенно перетрут ваше тело в порошок. Ну а тех, кто зелен и обитает в прозрачных резных скорлупках, Шар учил называть диатомеями — диковинное это словечко наставник выудил откуда-то из потаенных глубин мозга, откуда черпал и все остальные слова; только и сам он был порой не в состоянии объяснить, почему они звучали так, а не иначе.
Лавон стремительно поднялся.
— Нам нужен Шар, — сказал он. — Где его спора?
— На высоком кусте под самым небом.
Вот идиот! Старик никогда не подумает о собственной безопасности. Спать под самым небом, где человека, едва очнувшегося, вялого после долгого зимнего забытья, может сцапать и сожрать любой всеед, случайно проплывший мимо! Лишь мыслители способны на подобную глупость.
— Нам надо спешить. Покажи мне, где он.
— Сейчас покажу, подожди, — ответил один из Пара. — Ты сам его все равно не разглядишь. Где-то тут неподалеку рыскал Нок…
Темнота слегка шевельнулась — цилиндр унесся прочь.
— Зачем он нам нужен, этот Шар? — спросил другой Пара.
— Понимаешь, Пара, он очень умен. Он мудрец.
— Мысли у него пополам с водой. Научил нас языку человека, а о всеедах и думать забыл. Размышляет вечно об одном — откуда здесь взялись люди. Это действительно тайна — никто другой не похож на людей, даже всееды. Но разве разгадка поможет нам выжить?
Лавон повернулся к невидимому собеседнику.
— Пара, скажи мне, почему вы с нами? Почему вы приняли сторону людей? Зачем мы вам? Ведь всееды и так боятся вас…
Последовала пауза. Когда Пара заговорил снова, колебания, заменяющие ему голос, звучали еще невнятнее и глуше, чем прежде, были начисто лишены сколько-нибудь понятного чувства.
— Мы здесь живем, — отвечал Пара. — Мы часть этого мира. Мы повелеваем им. Мы заслужили это право задолго до прихода людей, после многих лет борьбы со всеедами. Но думаем мы почти так же, как всееды, — не планируем, а делимся тем, что знаем, и существуем. А люди планируют, люди руководят. Люди различаются друг от друга. Люди хотят переделать мир. И в то же время они ненавидят всеедов, как ненавидим их мы. Мы поможем людям.
— И передадите нам власть?
— И передадим, если человек докажет, что правит лучше. Разум диктует так. Но можно двигаться — Нок несет нам свет…
Лавон поднял глаза. И правда, высоко над головой мелькнула вспышка холодного света и следом еще одна. Мгновение спустя к ним присоединилось сферическое существо, по телу которого то и дело пробегали сине-зеленые сполохи. Рядом носился вихрем Пара-второй.
— У Нока новости, — сообщил этот второй Пара. — Теперь нас, носящих имя Пара, стало двадцать четыре.
— Спроси его, согласен ли он отвести нас к Шару, — нетерпеливо бросил Лавон.
Нок взмахнул своим единственным коротким и толстым щупальцем. Кто-то из Пара пояснил:
— Он для того сюда и явился.
— Тогда в путь!
— Нет, — отрезал Лавон. — Ни секунды дольше. Вставай, Шар!
— Ну, сейчас, сейчас, — раздраженно ответил старик, почесываясь и зевая. — Всегда тебе, Лавон, не терпится. Где Фил? Помнится, он закладывал спору рядом с моей… — Тут он заметил ненарушенную янтарную капсулу, приклеенную к листу той же водоросли, но на ярус ниже. — Столкните его, он будет в большей безопасности на дне.
— Он не достигнет дна, — вмешался Пара. — Помешает термораздел.
Шар прикинулся удивленным.
— Как, уже? Весна уже зашла так далеко? Тогда минутку, я только отыщу свои записи…
Он принялся разгребать осколки споры, усыпавшие поверхность листа. Лавон досадливо осмотрелся, нашел жесткую щепку — скол харовой водоросли и швырнул ее тупым концом вперед, угодив точно в центр споры Фила. Шарик раскололся, и из него выпал рослый молодой человек, посиневший от внезапного купания в холодной воде.
— Ух! — выдохнул он. — Ты что, Лавон, не можешь аккуратнее? — Он осмотрелся. — Старик уже проснулся. Это хорошо. А то настоял, что будет зимовать здесь, пришлось и мне оставаться тоже…
— Ага, — воскликнул Шар, приподнимая толстую металлическую пластину, в длину почти равную его предплечью. — Одна здесь. Куда же я дел вторую?
Фил отпихнул клубок бактерий.
— Да вот она. Лучше бы ты отдал их кому-то из Пара, чтобы не обременять себя такой ношей…
Внезапно, даже не приподняв головы, Лавон оттолкнулся от листа и кинулся вниз, обернувшись лишь тогда, когда уже плыл с максимальной скоростью, на какую только был способен. Шар и Фил, по-видимому, прыгнули одновременно с ним. Всего на ярус выше того листа, где Шар провел зиму, сидела, изготовясь к прыжку, панцирная конусообразная тварь, коловратка-дикран.
Невесть откуда в поле зрения возникли двое из племени Пара. В тот же миг склоненное тело дикрана согнулось в своей броне, распрямилось и бросилось вслед за ними. Раздался тихий всплеск, и Лавон ощутил, что со всех сторон опутан тончайшей сетью, бесчувственной и неумолимой, точно космы лишайника. Еще один всплеск, и Лавон расслышал сдавленные проклятья Фила. Сам он боролся что было сил, но гибкие прозрачные тенета сжимали грудь, не давая шевельнуться.
— Не двигайся, — послышалось за спиной, и Лавон узнал пульсирующий «голос» Пара. Он ухитрился повернуть голову — и тотчас мысленно упрекнул себя: как же он сразу не догадался! Пара разрядили свои трихоцисты, лежащие у них на брюшке под пленкой, точно патроны; каждый патрон выстреливал жидкостью, которая при соприкосновении с водой застывала длинными тонкими прядями. Для Пара это был обычный метод самозащиты.
Немного ниже, следом за вторым Пара, дрейфовали Шар с Филом; они плыли в середине белого облака, не то пены, не то плесени. Всееду удалось избегнуть сетей, но он был, наверное, просто не в силах отказаться от нападения и крутился вокруг, резко гудя венчиком. Сквозь прозрачную броню Лавон различал его исполинские челюсти, тупо перетирающие любые частички, какие заносило в ненасытную пасть.
В вышине нерешительно кружился Нок, освещая всю сцену быстрыми, беспокойными голубоватыми вспышками. Против коловраток живой факел был, в сущности, беззащитен, и Лавон сначала не мог взять в толк, зачем понадобилось Ноку привлекать к себе внимание. Но ответ не заставил себя ждать: из темноты выросло существо, смахивающее на бочонок, с двумя рядами ресничек и тараном спереди.
— Дидин! — позвал Лавон без особой надобности. — Сюда, сюда!
Пришелец грациозно подплыл ближе и замер, казалось, изучая происходящее; как это ему удавалось, понять никто не мог — глаз у Дидина не было. Всеед тоже заметил Дидина и попятился, гул венчика превратился в болезненное рычание. Лавону даже почудилось, что дикран вот-вот отступит, — но нет, судя по всему, для отступления тот был слишком глуп. Гибкое тело, припав к стеблю водоросли, вдруг снова устремилось в бой, на сей раз прямехонько на Дидина.
Лавон невнятно выкрикнул какое-то предостережение, но в этом не было нужды. Лениво движущийся бочонок чуть наклонился на бок и тут же бросился вперед — с ошеломляющей скоростью. Если Дидин сумеет нащупать своим ядовитым хватательным органом слабое место в броне всееда…
Нок поднялся еще выше, чтобы нечаянно не пострадать в драке, и свет настолько ослаб, что Лавон перестал видеть кого бы то ни было; но вода яростно бурлила и дикран жужжал по-прежнему.
Постепенно звуки смолкли. Лавон скорчился во тьме, покачиваясь в сети Пара и напряженно вслушиваясь в тишину.
— Что стряслось? Нок, куда они подевались?
Нок осторожно спустился и помахал щупальцем, обращаясь к Пара.
— Он говорит, — пояснил тот, — что тоже потерял их из виду. Подожди-ка, я слышу Дидина. — Лавон ничего не различал; то, что «слышал» Пара, были какие-то полутелепатические импульсы, составлявшие исконный язык аборигенов. — Дидин сообщает нам, что дикран мертв.
— Это хорошо! — произнес Лавон. — Теперь выпусти меня из сети, Пара.
Пара резко дернулся, поворачиваясь на несколько градусов вокруг продольной оси и обрывая пряди у самого основания; движение требовало величайшей точности, чтобы вместе с нитями не оборвалась и защитная пленка. Но все обошлось. Спутанную массу нитей приподняло течением и понесло над бездной.
2
Отряд численностью более двухсот бойцов, с Лавоном, Шаром и Пара во главе, быстро двигался в теплых, светлых водах поднебесья. Каждый сжимал в руке деревянную щепку или палицу — осколок известковой водоросли, и каждый то и дело внимательно осматривался по сторонам. Сверху их прикрывала эскадра из двадцати Дидинов, и встречные всееды лишь таращили на людей красные глазные пятна, не отваживаясь атаковать. Еще выше, у самого небесного свода, располагался пышный слой всевозможной живности, которая бесконечно боролась за существование, питалась и плодилась; ниже этого слоя все было окрашено в сочный зеленый цвет. Водоросли в этом насыщенном жизнью слое родились без счета, да и всееды беспрепятственно паслись здесь.
Весна уже полностью вступила в свои права. Лавон не пытался себя обмануть: двести человек — вот, видимо, и все, остальные не пережили зиму. По крайней мере обнаружить больше никого не удалось. То ли — этого теперь никогда не узнать — они проснулись слишком поздно, то ли укрепили свои споры на слишком приметных местах, и коловратки не заставили себя ждать. Не менее трети отряда составляли женщины. Значит, дней через сорок, если им ничто не помешает, армия удвоится.
Если им ничто не помешает… Лавон усмехнулся и оттолкнул с дороги клокочущую колонию эвдорин. Эта мысль поневоле напомнила ему о вычислениях, которые Шар проделал в прошлом году: если бы Пара и его сородичи не встречали помех, мир превратился бы в течение одного сезона в сплошную массу тел. Никто, разумеется, не застрахован от гибели в этом мире; и тем не менее Лавон твердо решил, что люди впредь должны гибнуть гораздо реже, чем до сих пор считалось неизбежным и естественным.
Он взмахнул рукой вверх-вниз. Стремительные ряды пловцов нырнули в глубину за ним следом. Свет, льющийся с неба, быстро угасал, и вскоре Лавон стал ощущать прохладу. Он подал новый сигнал. Двести человек, словно танцоры, выполняющие изящный прыжок, разом перевернулись и продолжали погружение ногами вперед. Преодолевать термораздел в таком положении было легче и выгоднее всего; каждый понимал настоятельную необходимость покинуть верхние слои, где опасность нарастала так бурно, что с ней не справился бы никакой конвой.
Подошвы Лавона коснулись упругой поверхности; всплеск — и он с головой окунулся в ледяную воду. Вновь подпрыгнул — ледяная разделительная черта шла теперь поперек груди. Всплески слышались со всех сторон — армия преодолевала термораздел, хотя, казалось бы, сталкиваться было просто не с чем: сверху вода, снизу тоже вода…
Теперь оставалось выждать, пока не замедлится ток крови. На этой разделительной линии, где кончалась теплая вода поднебесья и температура резко падала, жидкость внизу оказывалась много плотнее и без усилий поддерживала тела на плаву. Нижний, холодный слой простирался до самого дна — сюда коловратки, не отличающиеся особым умом, если и заглядывали, то редко.
Наконец, вода, окружающая нижнюю половину тела, стала для Лавона не ледяной, а, напротив, приятно прохладной в сравнении с той, удушливо теплой, которой приходилось дышать. Он еще подождал, пока не убедился, что армия пересекла термораздел без потерь и что долгие поиски переживших зиму в верхних слоях и вправду подошли к концу. Тогда он вновь перевернулся и устремился вглубь, в направлении дна, Фил и Пара рядом, задыхающийся от натуги Шар позади.
Внизу замаячил камень, и Лавон тщательно обследовал его в полумраке. И почти сразу же увидел то, на что втайне надеялся: прилипший к крутому скальному боку песчаный личиночий домик. Тогда он подозвал лучших своих бойцов и указал им цель.
Люди осторожно обложили камень вытянутым полукольцом с тем расчетом, чтобы разрыв полукольца был направлен в ту же сторону, что и выходное отверстие. Какой-то Нок повис сверху, словно осветительная ракета, а один из Пара приблизился к отверстию с вызывающим жужжанием. Сопровождаемые гулом, те, кто был в тыльной части полукольца, опустились на камень и поползли вперед. Дом вблизи оказался втрое выше самых высоких воинов, скользкие черные песчаные зерна, сложившие его стены, были каждое в полобхвата.
Внутри что-то шевельнулось, и спустя секунду из отверстия высунулась безобразная голова личинки. Высунулась, неуверенно качнулась в сторону нахального существа, осмелившегося ее потревожить. Пара отпрянул — личинка, повинуясь слепому охотничьему инстинкту, потянулась за ним, в одно движение вывалившись из домика почти наполовину.
Лавон издал боевой клич. И тут же личинку окружили улюлюкающие орды двуногих демонов, которые безжалостно колотили ее и тыкали кулаками и палицами. Она внезапно исторгла какой-то блеющий звук — столь же невероятный, как если бы рыба защебетала по-птичьи, — и принялась пятиться назад, но бойцы арьергарда уже проломили стену и ворвались в дом с тыла. Личинка рванулась вперед, словно ее подхлестнули кнутом. И вывалилась совсем, и стала опускаться на дно, тряся своей безмозглой головой и блея.
Лавон послал вдогонку пятерых потомков Дидина. Убить личинку они, конечно, не могли — та была слишком велика, чтобы погибнуть от яда, но жалили ее достаточно больно и заставляли двигаться дальше. Не то она почти наверняка вернулась бы к тому же камню и принялась бы строить новый дом.
Лавон спустился на опорную площадку и с удовлетворением обследовал добычу. В доме с избытком хватало места для всего человеческого племени: большой сводчатый зал, который легко обращался в неприступный бастион — достаточно заделать пролом в задней стенке. Чуть почистить внутри, выставить охранение, прорубить отдушины, чтобы бедная кислородом вода глубин стала проточной, — и живи в свое удовольствие.
Он произвел смотр войскам. Они стояли вокруг в благоговейном молчании, еще не веря в успех своего выступления против самого крупного зверя во всем известном им мире. Вряд ли они теперь когда-нибудь оробеют перед всеедами, как бывало. Лавон вскочил на ноги.
— Ну, что уставились? — крикнул он. — Все это теперь ваше. За работу!
Старый Шар удобно устроился на голыше, специально выщербленном под сиденье и устланном мягкими водорослями спирогиры. Лавон встал неподалеку в дверях, наблюдая за маневрами своих легионов. Их ряды, умножившиеся за месяц относительно спокойной жизни в большом зале, насчитывали сегодня более трех сотен бойцов, и они проводили день за днем в строевых учениях, программу которых разработал он сам. Они стремглав пикировали в глубину, поворачивались на полном ходу, выполняли перестроения, ведя воображаемую борьбу с противником, которого, впрочем, представляли себе достаточно хорошо.
— Нок утверждает, что всееды теперь непрерывно ссорятся друг с другом, — сказал Шар. — Никак не могут взять в толк, что мы действительно объединились с семейством Пара и его родней и совместными усилиями завоевали новый дом. Взаимопомощь — явление, неизвестное доселе в этом мире, Лавон. Ты, что называется, делаешь историю.
— Историю? — переспросил Лавон, провожая марширующих солдат придирчивым взглядом. — Что такое история?
— А вот она…
Старик перегнулся через спинку своего «кресла» и коснулся металлических пластин, с которыми никогда не расставался. Лавон следил за ним без особого любопытства. Он видел эти пластины не раз и не два — блестящие, не тронутые ржавчиной, покрытые с обеих сторон письменами, которые никто, даже Шар, не в силах прочесть. Пара как-то раз назвал таинственные пластины «ни то ни се» — ни живая материя, ни древесина, ни камень.
— Ну и что? Я же не могу их прочесть. И ты не можешь.
— Я пытаюсь, Лавон. Я уверен, что пластины написаны на понятном нам языке. Посмотри хотя бы на первое слово. По-моему, его надо читать — «история». Число букв в точности совпадает. А ниже строкой два слова подряд, мне кажется, читаются «нашим потомкам».
— Но что все это значит?
— Это начало, Лавон. Только начало. Дай срок, узнаем больше.
Лавон пожал плечами.
— Может быть. Когда добьемся большей безопасности, чем сейчас. Сегодня мы не вправе размениваться на такие вещи. У нас на них просто нет времени. И никогда не было — с самого Первого пробуждения…
Старик нахмурился. Водя палочкой по песку, он пытался срисовывать буквы с пластины.
— Первое пробуждение. Почему оно было первым, а до него не было ничего? Я помню в подробностях все, что случилось со мной с той поры. Но что было со мной в детстве, Лавон? Словно ни у кого, кто пережил Первое пробуждение, вообще не было детства. Кто наши родители? Почему мы все очнулись взрослыми мужчинами и женщинами, но не ведали ничего об окружающем мире?
— И ответ, по-твоему, записан на этих пластинах?
— Надеюсь. Точнее, верю. Хотя ручаться не могу. Пластины лежали внутри споры рядом со мной при Первом пробуждении. Вот, собственно, и все, что мне известно о них, и еще одно — подобных пластин больше нет нигде в мире. Остальное — домыслы, и, по правде сказать, я пока продвинулся со своими домыслами не слишком далеко. Но придет день… придет день…
— Я тоже надеюсь, что придет, — перебил Лавон. — Я вовсе не хочу передразнивать тебя, Шар, или проявлять излишнее нетерпение. И у меня есть сомнения, да и у многих других. Но на время придется их отложить. Ты не допускаешь, что мы при нашей жизни не сумеем найти на них ответа?
— Если мы не найдем, найдут наши дети.
— В том-то и соль, Шар: мы должны выжить сами и вырастить детей. И оставить им мир, в котором у них будет время на отвлеченные размышления. В противном случае…
Лавон запнулся — между часовыми у входа мелькнула стремительная тень, приблизилась, затормозила.
— Какие новости, Фил?
— Все то же, — отозвался Фил, выгибаясь всем телом, чтобы коснуться подошвами пола. — Крепости флосков поднимаются по всей отмели. Еще немного — и строительство будет завершено, и мы тогда не посмеем и близко подойти к ним. Вы по-прежнему уверены, что мы сумеем вышвырнуть флосков вон?
Лавон кивнул.
— Но зачем?
— Во-первых, чтобы произвести впечатление. До сих пор мы только защищались, хотя в последнее время и не без успеха. Но если мы собираемся внушить всеедам страх, то должны теперь сами напасть на них. Во-вторых, замки флосков с множеством галерей, входов и выходов будут нам служить много надежнее, чем нынешний дом. Кровь стынет от одной мысли: что если бы всееды додумались взять нас в осаду? И кроме того, Фил, нам нужен аванпост на вражеской территории, откуда можно постоянно нападать на них.
— Мы и сейчас на вражеской территории, — возразил Фил.
— Стефаносты, как известно, обитатели дна.
— Стефаносты — не настоящие охотники. Любого из них ты встретишь там же, где видел в последний раз, сколько бы воды ни утекло. Нет, сначала надо победить прыгунов, таких, как дикраны и нотолки, плывунов, таких, как ротары, и фортификаторов — флосков.
— Тогда лучше бы начать не откладывая, Лавон. Если крепости будут завершены…
— Ты прав, Фил. Поднимай свои войска. Шар, собирайся — мы покидаем этот дом.
— Чтобы завоевать крепость?
— Вот именно.
Шар подобрал свои пластины.
— А вот их как раз лучше оставить здесь — в сражении они будут только мешать…
— Ну уж нет, — заявил Шар решительно. — Ни за что не выпущу их из виду. Куда я, туда и они.
3
Смутные предчувствия, тем более тревожные, что ему никогда ранее не доводилось испытывать ничего похожего, поднимались в сознании словно легкие облачка ила. Насколько Лавон мог судить, все шло по плану: армия отчалила от придонного зала и всплывала к терморазделу. По мере движения она разрасталась за счет союзников, которые вливались в ее ряды со всех сторон. Порядок был образцовый; каждый солдат был вооружен длинной заостренной щепой, и с каждого пояса свисал ручной топорик, иначе говоря, скол харовой водоросли с дыркой — Шар научил их, как ее высверлить. Многие из них сегодня наверняка погибнут еще до прихода ночи, но в подводном мире смерть была не в диковинку в любой день, а сегодня она, может статься, послужит посрамлению всеедов…
Однако из глубин уже тянуло холодком, что отнюдь не нравилось Лавону, и в воде ощущался какой-то намек на течение, совершенно неуместное ниже термораздела. Слишком много дней ушло на формирование армии, пополнение ее за счет отставших одиночек и укрепление стен жилища. Затем начало появляться молодое поколение, его надо было учить, и это требовало новых и новых затрат времени — естественных, но необратимых. Если холодок и течение означают приближение осенних перемен…
Если да, то ничего не поделаешь. Перемены нельзя отсрочить, как нельзя отложить наступление дня или ночи. Лавон подал знак ближайшему из семьи Пара. Блестящая торпеда изменила курс и приблизилась. Он показал вверх.
— Впереди термораздел, Пара. Правильно ли мы идем?
— Да, Лавон. В этом месте дно поднимается к небу. Замки флосков на той стороне, и они нас не видят.
— Песчаная отмель, что берет начало на севере. Все точно. Вода теплеет. Ну что ж, плывем дальше…
Лавон почувствовал, что все движения вдруг ускорились, будто тело выстрелили из незримой пращи. Он оглянулся через плечо — посмотреть, как преодолевают температурный барьер остальные, — и то, что он увидел, взволновало его сильнее иного весеннего пробуждения. До сих пор у него как-то не складывалось цельного представления о масштабе собственных сил, объемной картины их решительного, прекрасного в своей неукротимости строя. Даже союзники и те вписались в этот строй, фаланга за фалангой всплывали вслед за Лавоном из глубин: сначала осветитель — Нок, словно факел, зовущий за собой других; затем передовой конус, составленный из Дидинов, в задачу которых входит устранять отдельных встречных всеедов, — иначе те, чего доброго, поднимут переполох; и, наконец, люди и потомки Пара — ядро армии, в тесных шеренгах, безупречных, точно геометрические теоремы в изложении Шара.
Отмель высилась впереди, огромная, как гора. Лавон круто взмыл вверх, и потревоженные песчаные зерна потекли под ним в обратном направлении широким ручьем. За гребнем отмели, поднимаясь к самому небу, сквозь мерцающую зеленую полутьму проглядывали переплетенные стебли водорослевых джунглей. Это и была их цель — расстояние еще не позволяло различить прилепившиеся к стеблям крепости флосков, однако большая часть пути осталась теперь позади, Свет в поднебесье казался слишком ярким; Лавон прищурился, но продолжал рассекать воду быстрыми сильными взмахами перепончатых рук и ног. Армия, не отставая, перевалила гребень все в том же четком строю.
Лавон описал рукой полукруг. Отряды бесшумно перестроились гигантским параболоидом, ось которого нацелилась в самое сердце джунглей. Стали видны и крепости — до создания армии Лавона они были, пожалуй, единственным примером сотрудничества, с каким когда-либо сталкивался этот мир. Крепости состояли из множества бурых трубок, суженных к основанию и примыкающих одна к другой под самыми причудливыми углами; получалась постройка, изящная, как ветвящийся коралл. И в устье каждой трубки сидела коловратка, флоск, отличающаяся от других всеедов четырехлепестковым, как у клевера венчиком, а также гибким отростком, который поднимается над серединой туловища и служит для скатывания шариков из слюны и аккуратного прилаживания их, едва они затвердеют, на место.
Как обычно, при виде крепостных построек в душу Лавона стали закрадываться сомнения. Постройки были само совершенство; и этот каменный цветок распускался здесь каждое лето задолго до Первого пробуждения, задолго до человека. Но что-то неладное происходило сегодня с водой поднебесья — она была слишком теплой, навевала сон. Флоски беспрестанно гудели, высунувшись из своих трубок. Все выглядело, как всегда, как повелось от века; их предприятие — бред, нашествие заведомо обречено на провал…
И тут их выследили.
Флоски мгновенно втянулись в устья трубок и исчезли. Ровное гудение, означавшее, что они без устали засасывают все проплывающее мимо, разом оборвалось; лишь пылинки танцевали над крепостью в лучах света.
Лавон против воли улыбнулся. Еще недавно флоски просто выждали бы, пока люди не подплывут достаточно близко, и засосали бы их, почти не встречая сопротивления и прерывая гул лишь затем, чтобы измельчить слишком крупную добычу. Теперь же они попрятались. Они испугались.
— На штурм! — крикнул он во весь голос. — Бейте их! Бейте, раз они затаились!
Армия позади Лавона развернулась в атаку, отдельные возгласы слились в единый оглушительный клич.
Миг — и все тактические замыслы спутались. Прямо перед Лавоном внезапно раскрылся клеверный венчик, и гулкий водоворот потянул его в черную утробу флоска. Он яростно замахнулся и ударил отточенным деревянным копьем. Острое лезвие глубоко вонзилось меж отороченных ресничками долей. Коловратка взвизгнула и вжалась поглубже в трубку, прикрывая рану. Лавон с мрачной решимостью рванулся за ней.
Крепостной ход оказался внутри темным, как могила; раненый флоск бешено мутил воду, и Лавона швыряло от одной неровной стенки к другой. Он стиснул зубы и снова ткнул копьем. Оно сразу же впилось во что-то упругое, и новый вскрик отозвался в ушах звоном. Лавон бил копьем до тех пор, пока крики не смолкли, и бил еще, пока не заглушил собственный страх.
Наконец, дрожа, он вернулся к устью трубки и, не раздумывая, оттолкнулся и выбросился на свободу, чтобы тут же наскочить на проплывающего мимо всееда. Это оказался дикран; при виде Лавона он злобно сжался, готовясь к прыжку. Даже всееды научились кое-чему за последнее время: дикраны, хорошо воюющие в открытой воде, были для флосков наилучшими естественными союзниками.
Броня дикрана легко отразила первый удар. Лавон лихорадочно тыкал копьем, пытаясь нащупать уязвимое место, но юркий враг не дал ему времени толком прицелиться. Всеед сам бросился в атаку, гудящий венчик обернулся вокруг головы, прижал руки к бокам…
И вдруг дикран содрогнулся и обессилел. Лавон кое-как выбрался наружу, не то разрубив лепестки, не то разорвав их, и увидел отплывающего Дидина. Мертвая коловратка тихо погружалась на дно.
— Благодарю, — выдохнул Лавон. Спаситель устремился прочь, не удостоив его ответом: у Дидина реснички были не такие длинные, как у Пара, и имитировать человеческую речь он не мог. Да по всей вероятности, и не хотел: это семейство не отличалось общительностью.
Не успел Лавон опомниться, как его вновь закрутило в бешеном омуте, и он вновь пустил в ход оружие. Следующие пять минут растянулись, как дурной сон, но в конце концов он понял, как лучше всего расправляться с неповоротливыми, жадными флосками. Вместо того, чтобы напрягать все силы, замахиваясь против течения, можно было отдаться на волю потока, зажав копье меж ступней острием вниз. Результаты достигались лучшие, чем он смел надеяться. Копье, которое сам же флоск засасывал во всю силу своей ловушки, пронзало прячущуюся в трубке червеобразную тварь, возжаждавшую человеческой плоти, почти навылет.
Наконец, выбравшись из очередной схватки, он обнаружил, что сражение переместилось куда-то в сторону. Он присел на край трубки и перевел дыхание, цепляясь за округлые, просвечивающие «кирпичики» стенок и наблюдая за полем боя. Разобраться в хаосе отдельных стычек было нелегко, но, насколько он мог судить, коловраткам приходилось туго. Они не сумели противостоять организованному нападению — ведь по существу они вообще не обладали разумом.
Дидин с собратьями рыскали от края до края битвы, захватывая и уничтожая свободно плавающих всеедов целыми стаями. На глазах Лавона полдесятка коловраток попалось в сети племени Пара, и их, запутавшихся в нитях трихоцист, безжалостно волокли на дно, где они неизбежно задохнутся. Не менее удивительно было видеть, что Нок — один из немногих сопровождавших армию — решил отхлестать извивающегося ротара своим в сущности безобидным щупальцем; всеед был настолько ошарашен, что и не подумал сопротивляться.
Какая-то фигура медленно и устало поднималась из глубин. Лавон узнал Шара, протянул руку и втащил запыхавшегося старика на край отвоеванной трубки. На лицо Шара было страшно взглянуть — такое на нем отражалось потрясение, такое горе.
— Погибло, Лавон. Все погибло. Все пропало.
— Что? Что погибло? В чем дело?
— Пластины. Ты был прав. Я зря тебя не послушал…
Шар судорожно всхлипнул.
— Пластины? Да успокойся ты! Что стряслось? Ты потерял одну из исторических пластин — или даже обе?
Мало- помалу наставник как будто восстанавливал контроль над своим дыханием.
— Одну, — ответил он с жалким видом. — Обронил в бою. Вторую я спрятал в опустевшей крепостной трубке. А первую обронил — ту самую, что едва начал расшифровывать. Она пошла на дно, а я не мог кинуться за ней вдогонку. Все, что я мог, — следить, как она, крутясь, падает во тьму. Цеди теперь ил хоть до скончания веков — все равно ее не найдешь.
Он спрятал лицо в ладонях. Балансируя на краю бурой трубки в зеленом отсвете вод, Шар выглядел одновременно трогательно и нелепо. Лавон не знал, что и сказать; даже он понимал, что потеря была большой, а может, и невосполнимой, что зияющий провал вместо воспоминаний о днях, предшествовавших Первому пробуждению, теперь, вероятно, никогда не будет заполнен. А уж какие чувства обуревали Шара — о том можно было только догадываться.
Снизу стремительно всплыла, направляясь к ним, еще одна фигура.
— Лавон! — раздался голос Фила. — Все идет как по маслу! Плывуны и прыгуны удирают — те, что остались в живых. Правда, в замке еще есть флоски, прячутся где-то во тьме. Вот если бы выманить их оттуда…
Возвращенный к действительности, Лавон прикинул шансы на выигрыш. Вся затея может еще провалиться, если флоски благополучно попрячутся в дальних норах. В конце концов, грандиозная бойня была сегодня отнюдь не главной задачей — люди задумали овладеть крепостью в целом.
— Шар, скажи, эти трубки сообщаются между собой?
— Да, — ответил старик без тени интереса. — Это единая система.
Лавон так и подпрыгнул, повиснув в чистой воде.
— Будем действовать, Фил. Нападем на них с тыла!
Резко повернувшись, он нырнул в устье трубки, Фил за ним. Давила темнота, в воде стоял зловонный запах флосков, но после секундного замешательства Лавон на ощупь отыскал проход в соседнюю трубку. Не составляло труда догадаться, куда двигаться дальше: стенки шли наклонно, все постройки флосков неизменно сходились на конус и отличались одна от другой только диаметром.
Лавон решительно держал путь к главному стволу — вниз и внутрь. Однако, заметив, что вода у очередного прохода бурлит, и услышав приглушенные возгласы и назойливый гул, он остановился и ударил в отверстие копьем. Коловратка издала пронзительный испуганный крик и дернулась всем телом, поневоле потеряв сцепление с трубкой — ведь захватный орган у флосков находится в нижней части тела. Лавон усмехнулся и поплыл дальше. Люди у устья трубки довершат остальное.
Достигнув, наконец, главного ствола, Фил с Лавоном методически обследовали ветвь за ветвью, нападая на пораженных всеедов сзади, принуждая их отпускать захват — чтобы воины наверху легко справились с ними, когда собственная тяга венчиков вытянет флосков наверх. Конусная форма трубок не давала всеедам развернуться для ответной атаки, тем более не позволяла им последовать за нападающими по лабиринтам крепости: каждый флоск от рождения до смерти занимал одну и ту же камору и никогда не покидал ее.
Завоевание всей крепости заняло каких-то пятнадцать минут. День едва начал клониться к закату, когда Лавон и Фил всплыли над самыми высокими башнями, чтобы окинуть гордым взглядом первый в истории Город Человека.
Он лежал во тьме, прижав лоб к коленям, недвижимый как мертвец. Вода была затхлой и холодной, темнота абсолютной. По сторонам смыкались стены бывшей крепости флосков, над головой один из Пара клал песчаные зерна в заново наведенную сводчатую крышу. Каждый из солдат армии нашел себе приют в других трубках, под новенькими их перекрытиями, — но где же шорох движений, где голоса? Кругом стояла нерушимая тишина, точно на кладбище.
Мысли Лавона текли медленно и вяло. Он тогда оказался прав — наступала осень. У него едва хватило времени на то, чтобы поднять всех людей со дна в крепость до прихода осенних перемен. Осенью воды вселенной меняются местами — придонные поднимаются к небу, поднебесные уходят на дно — и перемешиваются. Термораздел разрушается до следующего года, пока весенние течения не образуют его снова.
И неизбежно резкая смена температуры воды и кислородное голодание повлияли на деятельность спорообразующих желез. Вокруг Лавона уже смыкается янтарная сфера, и он не в силах этому помешать. Это непроизвольный процесс, не зависящий от его воли, как биение сердца. Скоро, скоро стылую грязную воду вытеснит и заменит фосфоресцирующая жидкость, и тогда придет сон…
Тишина и холод. Темнота и покой.
В дальнем углу Галактики горит пурпурная звездочка Тау Кита, а вокруг нее бесконечно вращается сырой мирок по имени Гидрот. Многие месяцы его озера и пруды кишели жизнью, но вот солнце ушло из зенита, выпал снег, и лед наполз на материк со стороны океана. И жизнь опять погрузилась в дрему, сравнимую только со смертью; битвы и вожделения, победы и поражения миллиардов микроскопических существ сменились забвением, когда все это не имеет ровно никакого значения.
Воистину всем страстям приходит конец, когда на планете Гидрот правит зима; но зима — властитель не вечный.
ЭТАП ВТОРОЙ
1
Старый Шар отложил наконец толстую, иззубренную по краям металлическую пластину и выглянул из окна крепости, очевидно, ища успокоения в сияющей зелено-золотой полутьме летних вод. В мягких отсветах, упавших на лицо мыслителя сверху — там, под сводчатым потолком, безмятежно дремал Нок, — Лавон увидел, что перед ним, по существу, совсем еще молодой человек. Черты лица Шара поражали хрупкостью, не оставляя сомнений: с тех пор, как он впервые вышел из споры, минуло не слишком много лет. В сущности, у Лавона и не было оснований думать, что Шар в самом деле окажется стариком. Любого Шара по традиции величали «старый Шар». Смысл такого обращения, как смысл многого вокруг, затерялся, привычка уцелела. По крайней мере она придавала вес и достоинство должности мыслителя — средоточия мудрости племени, — подобно тому, как должность каждого из Лавонов подразумевала средоточие власти.
Нынешний Шар принадлежал к поколению XVI и, следовательно, должен был быть по крайней мере на два года моложе, чем сам Лавон. Если он и мог считаться старым, то исключительно в смысле разума.
— Отвечу тебе честно, Лавон, — произнес Шар, по-прежнему глядя куда-то вдаль сквозь высокое неправильной формы окно. — Достигнув зрелости, ты пришел ко мне за секретами металлической пластины точно так же, как твои предшественники приходили к моим. Я могу сообщить тебе кое-что из этих секретов, но по большей части я и сам не ведаю, что они означают.
— После стольких-то поколений? — воскликнул изумленный Лавон. — Ведь еще Шар III сделал первый полный перевод, разве не так? Это случилось давным-давно…
Молодой человек обернулся и устремил взгляд на гостя. Его глаза, большие и темные, словно впитали в себя глубины, которые только что мерили.
— Я могу прочесть то, что написано на пластине, однако в большинстве своем фразы кажутся лишенными смысла. Хуже всего, что записи неполны. Ты этого не знал? Но это так. Одна из пластин была утеряна на поле боя во время первой войны со всеедами, когда замки еще находились в их руках.
— Тогда зачем же я здесь? — спросил Лавон. — А на той пластине, что сохранилась, есть там что-нибудь достойное внимания? Действительно ли она донесла до нас «мудрость создателей» или это просто-напросто миф?
— Нет, это правда, — медленно ответил Шар. — Пожалуй, правда…
Он осекся; собеседники разом повернулись и уставились на призрачное создание, внезапно возникшее за окном. Затем Шар многозначительно провозгласил:
— Входи, Пара.
Существо в форме туфельки, почти прозрачное, за исключением серебристых с чернью зернышек и искристых пузырьков, которые во множестве наполняли его нутро, проскользнуло в комнату и остановилось, тихо шевеля ресничками. Секунду-другую оно висело безмолвно, обмениваясь телепатическими приветствиями с Ноком, плавающим под сводом, в принятой между ними церемонной манере. Никто из людей никогда не слышал этих бесед, но сомневаться в их реальности не приходилось: для дальней связи человек использовал сородичей Пара уже на протяжении многих поколений. Потом реснички всколыхнулись сильнее:
— Мы явились к вам, Шар и Лавон, в согласии с обычаем…
— Добро пожаловать, — отозвался Шар. — Если не возражаешь, Лавон, давай отложим вопрос о пластинах и выслушаем, что нам скажет Пара. Это тоже часть знаний, которые каждый из Лавонов должен усвоить при вступлении в должность, и по своему характеру эти знания важнее, чем записи на пластинах. Я могу сообщить тебе, и то намеком, кто мы. Пара начнет с рассказа о том, как мы появились здесь.
Лавон с готовностью кивнул и стал заинтересованно следить за Пара, который плавно опустился на поверхность стола. Движения этого существа были столь грациозны и уверенны, столь экономны и точны, что поневоле заставляли Лавона усомниться в собственной едва-едва обретенной зрелости. В сравнении с Пара, как и с его разнообразными родственниками, Лавон ощущал себя не то чтобы убогим, но каким-то незавершенным.
— Нам известно, что по логике вещей человеку в этом мире места нет, — прожужжал поблескивающий цилиндр, замерший над столом. — В нашей общей памяти сохранилось представление о временах, когда здесь не было людей, не было никого хоть отдаленно на них похожего. Помним мы и день, когда люди вдруг явились к нам, и сразу в довольно большом числе. Их споры вдруг очутились на дне, и мы обнаружили эти споры вскоре после весеннего пробуждения, а внутри спор разглядели людей, погруженных в дремоту.
Потом люди разбили оболочки спор и вылупились. Поначалу они казались беспомощными, и всееды пожирали их десятками — в те времена всееды пожирали все, что движется. Но вскоре этому пришел конец. Люди были разумны и предприимчивы. А главное, наделены качествами, чертами, каких не было ни у кого в этом мире, в том числе и у свирепых всеедов. Люди подняли нас на истребление всеедов, они овладели инициативой. Теперь, когда вы дали нам это слово, мы помним и даже применяем его, но так и не поняли, что же это за штука…
— Вы сражались бок о бок с нами, — заметил Лавон.
— С радостью. Сами мы никогда не додумались бы начать такую войну, но все равно она была справедливой и закончилась справедливо. И тем не менее мы недоумевали. Мы видели, что люди плохо плавают, плохо ходят, плохо ползают, плохо лазают. Зато они способны изготовлять и использовать орудия — идея, которой мы так и не поняли, поскольку она совершенно чужда нашей жизни, а другой мы не знаем. Но нам сдается, что столь чудесная способность должна бы вести к гораздо более полному владычеству над миром, чем человек может осуществить здесь.
У Лавона голова пошла кругом.
— Слушай, Пара, я и в мыслях не держал, что вы такие завзятые философы.
— Пара — представитель древнего рода, — заявил Шар. Он опять отвернулся к окну, сцепив руки за спиной. — Однако они не философы, а беспощадные логики. Учти это, Лавон.
— Из наших рассуждений может быть только один вывод, — продолжал Пара. — Наши странные союзники, люди, не похожи ни на кого другого в этой вселенной. Они плохо приспособлены к ней. И все потому, что они не принадлежат к нашему миру, а лишь кое-как приноровились к нему. Из сказанного следует, что существуют иные вселенные помимо нашей, но где они расположены и какими свойствами обладают, невозможно даже вообразить. Мы ведь, как известно, лишены воображения…
Неужели цилиндр иронизирует? Лавон не знал, что и подумать. Он тихо переспросил:
— Иные вселенные? Как же это?
— Сами не представляем, — монотонно прожужжал Пара. Лавон еще подождал, но, очевидно, гостю больше нечего было сказать.
Шар снова уселся на подоконнике, обхватив колени и наблюдая за смутными образами, наплывающими из бездны и уплывающими обратно.
— Все верно, — произнес он. — Записи на пластине не оставляют в том сомнений. Разреши, теперь я перескажу тебе их смысл. Нас изготовили, Лавон. Нас изготовили люди, не похожие на нас, хотя они и стали нашими предками. С ними приключилась какая-то беда, и они изготовили нас и поместили в эту вселенную, чтобы, хотя им и суждено было умереть, раса людей все-таки уцелела…
Лавон так и подскочил с витого водорослевого коврика, на котором сидел.
— Не считай меня глупее, чем я есть, — сказал он резко.
— Я и не считаю. Ты наш Лавон, ты имеешь право знать истину. И поступай с ней как тебе заблагорассудится. Наша неприспособленность к этому миру самоочевидна. Вот лишь несколько примеров.
Четыре моих предшественника пришли к выводу, что наша наука не стронется с места, пока не научится контролировать теплоту. Нам известно, что с повышением — или понижением — температуры изменяется все, даже окружающая нас вода. Но как повысить температуру? Если делать это в открытой воде, тепло тут же уносит течением. Однажды мы попробовали добиться этого в замкнутом пространстве — и взорвали целое крыло замка, убив всех, кто очутился поблизости. Взрыв был страшен, мы измерили возникшие давления и установили, что ни одно известное вещество не способно противостоять им. Теория допускает существование более прочных веществ, но, чтобы получить их, нужна высокая температура!
А как быть с химией? Мы живем в воде. Вода в большей или меньшей степени растворяет все остальное. Как ограничить химический опыт одним тиглем, одной пробиркой? Понятия не имею. Любой путь заводит в один и тот же тупик. Мы мыслящие существа, но мыслим мы решительно не так — не так, как того требует вселенная, куда мы попали. Наше мышление не дает здесь должных результатов…
Лавон попытался поправить сбитые течением волосы — тщетно.
— А, может, ты и стремишься не к тем результатам? Мы уже давно не испытываем затруднений с оружием, с продовольствием, да и в практических делах преуспеваем. Если мы не можем контролировать теплоту, то, право, большинство из нас от этого ничуть не страдает: нам довольно и того тепла, какое есть. А на что похожа та иная вселенная, где жили наши предки? Она лучше нашей или хуже?
— Откуда мне знать, — вымолвил Шар. — Она настолько отлична от нашей, что их трудно сравнивать. Металлическая пластина повествует о людях, которые путешествуют с места на место в самодвижущемся сосуде. Единственная аналогия, какую я могу предложить, — это лодки из ракушек, те, что наши юнцы делают для катания с термораздела. Однако сосуды предков были во много раз больше.
Я представляю себе огромную лодку, закрытую со всех сторон, такую огромную, что в ней помещается человек двадцать или даже тридцать. В течение многих поколений она движется в среде, где нет воды для дыхания, и потому люди вынуждены везти воду с собой и постоянно ее обновлять. Там нет времен года, и на небе не образуется лед, потому что в закрытой лодке не может быть неба, и там нет спорообразования.
Но однажды лодка потерпела крушение. Люди в лодке понимали, что должны погибнуть. И они изготовили нас и поместили сюда, словно детей. И поскольку они должны были погибнуть, то записали свою историю на пластинах, чтобы мы узнали, что с ними произошло. Вероятно, мы разобрались бы во всем этом лучше, если бы сохранилась та пластина, которую Шар I потерял во время войны, но ее нет…
— Твой рассказ звучит как притча, — заявил Лавон, пожав плечами. — Или как баллада. Совершенно ясно, почему ты сам не понимаешь того, что рассказываешь. Неясно другое — зачем ты силишься понять?
— Из-за пластины, — ответил Шар. — Ты теперь сам держал ее в руках и видишь, что в нашем мире нет ничего подобного ей. Мы умеем ковать металлы — грубые, с примесями, подверженные быстрому износу. А пластина сохраняет свой блеск вот уже многие поколения. Она не меняется, наши молоты и резцы крошатся, едва коснувшись ее, и температурные перепады — те, какие мы в силах создать, — не причиняют ей вреда. Пластина изготовлена вне нашей вселенной — и уже один этот факт делает значимой каждую начертанную на ней букву. Кто-то приложил большие старания, чтобы пластины стали неразрушимыми и дошли до нас. Кто-то, кому слово «звезда» представлялось настолько важным, что он повторил его четырнадцать раз, а ведь это слово вроде бы ничего не значит. Совершенно уверен, что если наши создатели в записи, сделанной на века, повторили одно и тоже слово хотя бы дважды, для нас жизненно важно понять, что оно означает…
Лавон снова встал.
— Запредельные миры, исполинские лодки, слова, лишенные смысла, может, они и существуют, но нам-то что за печаль? Прошлые поколения Шаров посвящали свою жизнь тому, чтобы вывести культурные сорта водорослей и научить нас ухаживать за ними, избавив народ от превратностей охоты за бактериями. Еще раньше Шары строили военные машины, разрабатывали военные планы, и это тоже окупалось. Лавоны в те дни и думать не думали о металлических пластинах со всеми их загадками — и Шарам своим заказывали. Ты, конечно, можешь продолжать возиться с этой штукой, если это занятие прельщает тебя больше, чем выращивание водорослей, но мое личное мнение таково, что ее надо выбросить…
— Ну что ж, — Шар в свою очередь пожал плечами, — раз ты не хочешь вести беседу, тогда закончим ее. Пойдем каждый своей…
Со стола послышался нарастающий гул. Пара приподнялся, его реснички колыхались волнообразно, как колышутся созревающие грибки на придонных полях. В течение всей беседы цилиндр хранил такое глубокое молчание, что Лавон начисто забыл о нем, и Шар, судя по его испугу, тоже.
— Это великое решение, — затрепетали реснички. — Мы издавна опасались таинственной пластины, опасались, что люди разберутся в ее письменах и переселятся в иные миры, а нас покинут. Теперь мы больше ее не боимся.
— Вам и раньше нечего было бояться, — снисходительно бросил Лавон.
— Ни один Лавон до тебя не говорил нам так, — промолвил Пара. — Мы счастливы. Мы выбросим пластину, как повелел Лавон…
С этими словами искрящееся существо устремилось к выходу, унося с собой последнюю пластину. До того она покоилась на столе, теперь была бережно стиснута в гибких брюшных волосках. Внутри прозрачного тела вакуоли раздулись, увеличивая плавучесть и позволяя цилиндру нести значительный вес.
Шар с криком кинулся вплавь к окну.
— Пара, остановись!
Но тот уже исчез — исчез так стремительно, что и не слышал зова. Шар вернулся и застыл, опершись плечом о стену. Он молчал. Ему и не нужно было ничего говорить: лицо его выражало столько чувств, что Лавон не выдержал и отвел глаза.
Тени обоих людей вдруг снялись с мест и медленно тронулись по неровному полу. Шевеля щупальцем, из-под свода спускался Нок; испускаемый свет то вспыхивал, то гас. Он в свою очередь проплыл сквозь окно вслед за двоюродным братом и не спеша растворился в пучине.
2
В течение многих дней Лавон старался не вспоминать об утрате. Работы всегда хватало — только поддержание крепостных построек стоило бесконечных хлопот. Тысячи последовательно ветвящихся ходов со временем неизбежно осыпались, обламывались там, где примыкали друг к другу, и ни один Шар не придумал еще раствора, который заменил бы слюну коловраток, некогда связывавшую замки воедино. К тому же реконструкция помещений и разметка окон в прежние времена проводились наспех, а подчас и с грубыми ошибками. В конце концов, стихийная архитектура всеедов ни в коей мере не была рассчитана на удовлетворение потребностей человека.
Затем начались заботы об урожае. Пропитание племени не зависело более от случайно пойманных бактерий; теперь к услугам людей были дрейфующие плантации грибков и водорослей и посевы мицелия на дне — пища вкусная и сытная, бережно взращенная Шарами пяти поколений. Однако за посевами надо было следить, поддерживая чистоту штаммов и отваживая непрошенных лакомок, глупых и жадных. Пара и его родичи по мере сил помогали организовать охрану, но без надзора со стороны людей обойтись не могли.
И тем не менее, несмотря на всю свою занятость, Лавон не в силах был забыть момент, когда по собственной его опрометчивости последняя надежда разобраться в происхождении и предназначении человека оказалась утраченной навсегда.
Конечно, можно бы попросить Пара вернуть пластину, объяснить, что произошла ошибка. Неумолимая логика цилиндров не мешала им уважать людей и даже свыкнуться с человеческой непоследовательностью; под нажимом они могли бы пересмотреть свое решение…
«Очень сожалеем, но мы отнесли пластину на ту сторону отмели и сбросили в омут. Мы прикажем обыскать дно, однако…»
Лавон не мог совладать со щемящим чувством уверенности, что ответ будет именно таким или очень похожим. Если цилиндры пришли к выводу, что вещь больше не нужна, они не станут приберегать ее со старушечьей скаредностью где-нибудь в чулане. Они ее действительно выбросят — решительно и бесповоротно.
Да, наверное, это и к лучшему. Какую пользу принесла пластина человечеству — давала Шару повод для размышлений на склоне лет? Все, что сделали Шары для людей, здесь, в воде, в этой жизни, в этом мире, достигнуто путем прямого эксперимента. Пластины пока что не дали людям ни крупицы полезных знаний. По крайней мере вторая пластина толковала исключительно о проблемах, о которых резоннее вообще не задумываться. Пара абсолютно правы.
Лавон слегка передвинулся по поверхности листа, с которого надзирал за экспериментальным сбором сочных сине-зеленых водорослей, плавающих спутанной массой под самым небом, и осторожно почесался спиной о жесткий ствол. Пара, пожалуй, почти никогда не ошибались. Их неспособность к творчеству, к оригинальному мышлению на поверку оказывалась не только дефектом, но и ценным даром. Она позволяла им всегда видеть и воспринимать все именно таким, каким оно было на самом деле, а не таким, каким хотелось бы его воспринять, — в этом смысле они были словно лишены желаний.
— Лавон! Ла-а-во-он!..
Призывной клич поднялся из сонных глубин. Придерживаясь рукой за край листа, Лавон перегнулся и глянул вниз. Снизу вверх на него смотрел один из сборщиков — в пальцах у человека было тесло, с помощью которого клейкие пряди водорослей отделяли одну от другой.
— Я здесь. В чем дело?
— Мы обособили созревший сектор. Можно приступать к буксировке?
— Приступайте, — ответил Лавон, лениво поведя рукой, и вновь откинулся к стволу. В тот же миг у него над головой вспыхнуло ослепительное красноватое сияние, вспыхнуло и потекло в глубину, будто сеть из чистого золота.
Значит, там, высоко над небом, вновь ожил великий свет; он горит весь день, то усиливаясь, то тускнея, повинуясь законам, которых ни один Шар еще не сумел вывести. Немногие люди, кого обласкал этот теплый свет, сумели совладать с искушением и не взглянуть в его сторону — особенно когда, как сейчас, небо морщится и смеется в каких-нибудь двух-трех гребках. Но, как всегда, подняв глаза к небу, Лавон не разглядел ничего, кроме своего искаженного отражения да еще контуров водоросли, на которой сидел. Перед ним была верхняя грань, одна из трех основных поверхностей вселенной.
Первая поверхность — дно, где кончается вода.
Вторая поверхность — термораздел, легко различимый летом; с него хорошо кататься, но можно и пронзить его насквозь, если знаешь как.
Третья поверхность — небо. Попасть на ту сторону неба столь же немыслимо, как проникнуть сквозь дно, да в общем и нет нужды пытаться. Там конец вселенной. Свет, ежедневно вспыхивающий над небом, то прибывая, то убывая, — видимо, прямое тому доказательство.
К концу лета вода постепенно стынет, дышать становится все труднее — и одновременно тускнеет свет, короче становятся промежутки от темна до темна. Оживают неспешные течения. Вода в поднебесье охлаждается и опускается вниз. Донная грязь шевелится и дымками поднимается вверх, подхватывая споры с грибковых полей. Термораздел приходит в волнение, словно рябит, — и вдруг растворяется. На небе оседает туман из частичек ила, вынесенного со дна, со склонов, из дальних уголков вселенной. День, другой — и весь мир превращается в суровую негостеприимную пустыню, устланную желтеющими, умирающими водорослями. Еще день — и он замирает до той поры, пока первые неуверенные теплые ручейки не прорвут тишину зимы…
Вот что происходит, когда исчезает вторая поверхность. Что же случится, если растает небо?…
— Лаво-он!..
Будто специально дождавшись этого протяжного зова, из глубины всплыл блестящий пузырь. Лавон протянул руку и стукнул по нему когтем большого пальца, но пузырь отскочил в сторону. Газовые пузыри, поднимающиеся со дна в конце лета, были почти неуязвимы, а если даже особенно ловкий удар или острый предмет протыкал их поверхность, они просто дробились на более мелкие пузыри, оставляя в воде поразительный смрад.
Газ. Внутри пузырей нет воды. Человеку, проникшему в такой пузырь, стало бы нечем дышать.
Но, разумеется, проникнуть внутрь пузыря невозможно. Не позволит сила поверхностного натяжения. Сила таинственная, как металлическая пластина Шара. Неодолимая, как пелена неба.
Как пелена неба?! А что, если над этой пеленой мир, наполненный газом, а не водой? Быть может вселенная — лишь пузырь с водой, плавающий в океане газа?
Если так, то путешествие в иную вселенную попросту немыслимо, прежде всего потому, что не удастся пронзить небо. А уж про дно и говорить нечего. Но ведь есть существа, которые закапываются в донный ил, притом очень глубоко, и ищут там что-то недоступное человеку. В разгар лета тина кишмя кишит крошечными созданиями, для которых грязь — естественная среда обитания…
Однако если другие вселенные — не полный вздор и не выдумка Шара, искать их надо там, откуда исходит свет. В конце концов, кто сказал, что небо нельзя преодолеть? Раз удается иногда проткнуть пузыри, значит, поверхностная пленка все-таки проницаема. Пытался ли кто-нибудь одолеть небо?
Лавон был далек от мысли, что человеку по силам проломить небесный свод — с равным успехом можно пытаться прорыть себе нору сквозь дно, — но должны же обнаружиться какие-то окольные пути к цели. У него за спиной, например, высится куст, который, по всей видимости, продолжается и по ту сторону неба: верхние его листья словно переламываются, отражение срезает их точно ножом.
Всегда считалось, что растения, коснувшись неба, погибают. По большей части так оно и есть: удается, и нередко, различить полупогруженный в воду мертвый, изуродованный и пожухлый стебель. Однако, встречаются и другие растения, будто перерубленные небом пополам, как то, которое приютило Лавона сейчас. Что если это только иллюзия, а в действительности ствол уходит в какой-то иной мир — в мир, где люди были некогда рождены, а кто-то, возможно, живет и поныне?…
Обе пластины утрачены. Остается единственный способ выяснить, так ли это.
Решившись, Лавон начал взбираться вверх, к волнистому зеркалу неба. Ворта, дальние тюльпаноподобные родственники Пара, испуганно отползали прочь с дороги.
— Лавон! Куда ты? Лавон!..
Он свесился со ствола и посмотрел вниз. Человек с теслом, совершенно кукольная фигурка, подавал ему знаки, оседлав пучок сине-зеленых водорослей далеко-далеко в фиолетовой бездне. У Лавона закружилась голова, он прижался к стволу: никогда еще он не взбирался так высоко. Бояться падения ему, конечно, не приходилось; вероятно, сказался какой-то наследственный страх. Пересилив себя, он продолжил подъем.
Еще немного — и он, дотронувшись до неба рукой, остановился передохнуть. Любопытные бактерии собрались у основания его большого пальца — там обнаружился порез, из которого слегка сочилась кровь; он взмахнул рукой — они рассыпались, но тут же снова стали подкрадываться к расплывающемуся красному пятнышку…
Он перевел дух и полез еще выше. Небо навалилось ему на затылок, шею, плечи. Казалось, оно чуть-чуть подается, хотя и с трудом. Вода здесь была ослепительно прозрачной и совершенно бесцветной. Он поднялся еще на шаг, подставив под исполинский вес всю спину.
Бесполезно. С тем же успехом он мог бы пытаться пробить головой утес.
Пришлось снова остановиться. И тут-то, борясь с одышкой, он совершил удивительное открытие. Непосредственно вокруг водоросли стальная поверхность неба выгибалась, образуя своего рода колокол. Лавон нашел, что места там почти хватало на то, чтобы всунуть голову. Приникнув к стволу вплотную, он заглянул внутрь колокола, ощупывая его пальцами. Блеск воды был здесь совершенно невыносимым.
Раздался внезапный беззвучный взрыв. Что-то сжало запястье резкой мучительной хваткой, будто его перепиливали пополам. Не владея собой от изумления, Лавон рванулся вверх. Кольцо боли плавно распустилось по руке к предплечью и вдруг охватило шею и грудь. Еще рывок — в круговых тисках очутились колени. Еще…
Случилось нечто чудовищное. Он прижался к стволу и отчаянно пытался вздохнуть, но — дышать было нечем.
Вода лилась потоками изо рта и ноздрей, била струями из дыхальцев по бокам. Кожу жег огнем свирепый, безудержный зуд. Во внутренности впивались длинные ножи, и он словно издалека слышал, как хрипят легкие, отдавая последнюю воду безобразной пузыристой пеной. В глубине черепа, на дне носовой полости, словно пылал костер.
Лавон тонул — в безводье.
Последним судорожным усилием он оттолкнулся от колкого ствола и упал. Тело содрогнулось от удара; и тут вода, так не хотевшая отпускать его, когда он впервые попытался ее покинуть, с холодной жестокостью приняла беглеца в свои объятья.
То безвольно распрямляясь, то неуклюже кувыркаясь, Лавон опускался вниз, вниз, вниз, на дно.
3
Много-много дней Лавон провел, свернувшись в беспамятстве, будто впал в зимнюю спячку. Шок от холода, испытанный при возвращении в родную стихию, тело приняло за свидетельство прихода зимы, равно как кислородный голод в секунды пребывания за пределами неба. И спорообразующие железы тут же включились в работу.
Не случись этого, Лавон наверняка бы умер. Опасность утонуть, разумеется, исчезла, как только воздух из легких вытеснила животворная вода. Но медицина подводного мира не знала, как лечить ожоги третьей степени и острое иссушение тканей. Целебная жидкость, образующаяся внутри прозрачного янтарного шарика споры, — вот единственное лекарство, которое даровала Лавону природа.
На третьи сутки спора, замершая среди вечной придонной зимы, была обнаружена забравшейся сюда в поисках пропитания дальней родней Пара. Температура на дне в любое время года держалась одинаковая — плюс четыре градуса, но слыханное ли дело встретить здесь спору, когда поднебесье еще богато кислородом и напоено теплом!
Не прошло и часа, как на место происшествия опустилась сверху, из крепости, группа обеспокоенных людей. Откликнувшись на их просьбу, четверка Пара собралась вокруг янтарного шарика и дружно выстрелила трихоцистами. Как только нити сомкнулись, четверка разом пошла вверх. Спора чуть покачнулась в иле и стала тихо приподниматься, укутанная тонкой паутиной. Подоспевший Нок осветил всю сцену холодным пульсирующим светом, к вящему изумлению сбитых с толку людей. Внутри споры ясно виднелась фигура спящего Лавона — голова склонена, колени прижаты к груди; как только скорлупку сдвинули с места, фигура начала с нелепой торжественностью вращаться.
— Доставьте его к мыслителю, — прозвучал приказ.
Шар XVI, хоть и был молод, хорошо усвоил первое традиционное правило своего наследственного ремесла: если не знаешь, что делать, не делай ничего. Он сразу понял, что любое вмешательство лишь повредит Лавону, замкнувшемуся в янтарной оболочке, и поместил спору в одну из самых верхних комнат замка, где света было достаточно и вода хорошо прогрета, что для оцепеневшего организма могло бы знаменовать приближение весны. Не считая этого, он просто сидел рядом и смотрел — и держал свои умозаключения про себя.
Тело Лавона, замкнутое в спору, быстро меняло кожу, сбрасывая ее крупными лоскутками и полосами. Вначале тело казалось сморщенным, но это вскоре прошло. Скрюченные ручки и ножки, впалый живот приобрели обычный здоровый вид.
Дни шли за днями. В конце концов Шар при всем желании не мог обнаружить больше никаких перемен и по наитию переместил спору еще выше, выставив ее под прямой свет с неба.
И Лавон шевельнулся в своей янтарной тюрьме. Он повернул невидящие глаза к свету, попытался распрямиться и потянуться. Выражение лица у него при этом было такое, словно он еще не вполне освободился от какого-то жуткого кошмара. Тело Лавона сияло странной розовой новизной.
Шар тихо стукнул по поверхности споры. Лавон повернулся к источнику звука, глаза его приобрели осмысленное выражение. Он неуверенно улыбнулся, потом уперся руками и ногами в стенки своего убежища. С гулким треском шар распался на осколки. Целительная жидкость растворилась в толще воды, унося с собой последние воспоминания об отчаянной борьбе со смертью.
Лавон поднялся среди осколков и смерил Шара долгим взглядом. Наконец произнес:
— Шар, я был по ту сторону неба.
— Знаю, — ответил Шар негромко. Лавон еще помолчал. Шар предложил: — Не скромничай, Лавон. Ты совершил эпохальный подвиг, который едва не стоил тебе жизни. Теперь расскажи мне остальное — все, что сможешь.
— Остальное?…
— Ты многое открыл мне, когда спал. Или ты по-прежнему настроен против отвлеченных знаний?
Лавон не нашел ответа. Он уже не мог провести границу между тем, что знал, и тем, что хотел знать. Невыясненным остался, правда, только один вопрос, но такой, что его было страшно выговорить. Вождь сумел лишь взглянуть опять — и снова молча — на тонкое лицо мыслителя.
— Ты ответил мне, — сказал Шар еще мягче, чем прежде. — Пойдем со мной, друг, приглашаю тебя участвовать в наших ученых беседах. Будем думать, как добраться до звезд.
За большим столом в комнате Шара их собралось пятеро: сам Шар, Лавон и три помощника, которых по обычаю присылали Шарам семьи Фан, Танол и Стравол. Обязанности этих помощников — мужчин, а подчас и женщин — при многих прошлых Шарах были не столько сложны, сколько обременительны: добиваться в жизни, на полях, тех же изменений в свойствах пищевых культур, какие Шар получал в малых масштабах, в лабораторных пробирках и чашках. Если Шар интересовался не агротехникой, а металлургией или химией, они опять-таки выполняли всю грязную работу — были землекопами и каменотесами, литейщиками и мойщиками посуды.
Однако при Шаре XVI три помощника стали объектом всеобщей зависти: людям казалось, что они почти ничем не заняты. Ежедневно они проводили долгие часы, беседуя с Шаром в его покоях, колдуя над документами, царапая закорючки на грифельных досках, а то и разглядывая сосредоточенно самые обыкновенные вещи, не содержащие в себе ровным счетом ничего таинственного. Иногда, правда, они работали вместе с Шаром в лаборатории, но по большей части просто бездельничали.
По существу, Шар XVI открыл некоторые зачаточные правила научного исследования, и эти правила, по собственным его словам, представлялись ему орудием исключительной силы. Поэтому главной его заботой стало точно сформулировать их и передать грядущим поколениям, и он избегал соблазна любых конкретных экспериментов — за единственным исключением путешествия к звездам.
Фан, Танол и Стравол неизбежно оказались первыми, перед кем Шар выдвинул задачу сконструировать корабль для движения в безводном пространстве. Плоды их раздумий лежали на столе: три модели, собранные из панцирных чешуек диатомей, водорослевых волокон, гибких кусочков клетчатки, осколков хары, древесных щепочек, — и все это на органических клеях, полученных из выделений десятка различных растений и животных.
Лавон взял в руки ближайшую модель — хрупкую сферическую конструкцию, внутри которой темно-коричневые бусинки из слюны коловраток, с великим трудом отколотые в заброшенной крепости, перекатывались вереницей, словно в своеобразном подшипнике.
— Это чья? — спросил Лавон, с любопытством поворачивая сферу то одной, то другой стороной.
— Моя, — ответил Танол. — Признаться, я и сам понимаю, что она не удовлетворяет всем требованиям. Просто это единственная конструкция из пришедших мне на ум, осуществимая из имеющихся у нас материалов при нашем уровне знаний.
— Но как она действует?
— Подержи-ка ее минутку, Лавон. Вот этот пузырь, который виден в центре, с полыми волоконцами спирогиры, выведенными из корпуса наружу, называется резервуаром плавучести. Идея в том, чтобы поймать большой газовый пузырь, поднимающийся со дна, и поместить в такой резервуар. Возможно, сделать это удастся не сразу, а по частям. Так или иначе, корабль всплывет к небу благодаря подъемной силе резервуара. Далее, вот эти лопасти, расположенные в два ряда, придут в движение, когда экипаж — видишь бусины, что перекатываются друг за другом, — начнет переступать по педалям, установленным внутри корпуса. Так можно будет добраться до края неба. Этот прием я позаимствовал из наблюдений за нашим приятелем Дидином. Затем мы укоротим лопасти — они втягиваются в прорези, вот так, — и, по-прежнему нажимая на педали, выкатимся по склону в пространство. А когда мы достигнем другого мира и вновь попадем в воду, то постепенно выпустим газ из резервуара через трубы, роль которых здесь на модели исполняют эти волоконца, и опустимся к месту посадки, не утратив контроля за скоростью.
— Очень изобретательно, — задумчиво сказал Шар. — Однако я предвижу определенные трудности. Во-первых, конструкция лишена устойчивости.
— К сожалению, да, — согласился Танол. — И чтобы привести ее в движение, требуется масса мускульных усилий. Но если к центру тяжести корабля подвесить на шарнире какой-то значительный груз, судно можно будет стабилизировать хотя бы частично. А потом, самые серьезные затраты энергии за все путешествие связаны с первоначальным подъемом корабля к небу, в данном же случае проблема, считайте, решена, — более того, как только газ заполнит резервуар, корабль придется привязать к причалу и держать на привязи вплоть до старта.
— Меня смущает другое, — сказал Лавон. — Будет ли газ выходить через эти трубочки, когда возникнет необходимость? Не получится ли так, что пузырь просто прилипнет к стенкам? Пленку, разделяющую воду и газ, деформировать очень нелегко — могу засвидетельствовать по опыту…
Танол нахмурился.
— Чего не знаю, того не знаю. Но не надо забывать, что на настоящем корабле трубки будут куда толще, чем соломинки на модели.
— Сечением шире человеческих плеч? — осведомился Фан.
— Ну нет, едва ли. Голова, быть может, пройдет, но не больше.
— Ничего не выйдет, — сухо бросил Фан. — Я уже пробовал. Газовый пузырь сквозь такую трубку не пропихнешь. Лавон сказал точно: он прилипнет к стенкам и не шелохнется, пока на него не надавят изнутри — и сильно. Если мы построим подобный корабль, нам придется бросить его, едва мы дотащимся до границ нового мира…
— Что категорически исключается, — перебил его Лавон. — Не говоря уж о непозволительном расточительстве, а вдруг придется спешно поворачивать обратно? Кому из нас известно, на что похож этот новый мир? Нужно, чтобы мы сохранили способность выбраться оттуда, если окажется, что там жить нельзя.
— Какая из моделей твоя, Фан? — спросил Шар.
— Вот эта. Я предлагаю, правда, идти к цели тяжким путем — ползти по дну, пока оно не встретится с небом, потом ползти, пока мы не найдем иную вселенную, потом — пока не отыщем в ней то, что ищем. Никаких поблажек. Корабль приводится в движение мускульной силой, как и корабль Танола, но не обязательно силой мускулов человека. Я, признаться, подумывал, не использовать ли подвижные виды диатомей. Управлять кораблем можно, тормозя его движение то с одного борта, то с другого. Можно также прикрепить ремешки к противоположным концам задней оси и натягивать тот ремешок, какой потребуется…
Шар пристально осмотрел веретенообразную модель вблизи и опыта ради слегка подтолкнул ее вдоль стола.
— Мне нравится, — наконец произнес он. — Держится на курсе надежно. В сферическом корабле Танола мы зависели бы от любого шального течения, как дома, так и в новой вселенной — да и в пространстве между ними. Насколько я понимаю, там тоже могут быть течения — газовые, например. Ну, а твое мнение, Лавон?
— Как построить такой корабль? — спросил тот. — Корпус имеет круглую форму. Для модели очень хорошо, но как добиться, чтобы кольца нужного нам диаметра тут же не развалились?
— Загляни внутрь через переднее окно, — ответил Фан. — Ты увидишь балки, установленные под прямым углом к продольной оси и пересекающиеся в центре. Балки служат подпорами для стен…
— …и съедают уйму места, — возразил Стравол. Самый уравновешенный и вдумчивый из трех помощников, он с начала совещания не проронил ни слова. — Внутри корабля необходимо сохранить свободу передвижения. Как совладать с управлением, если придется то и дело протискиваться между балок?
— Предложи что-нибудь получше, — сказал Фан, пожимая плечами.
— Это несложно. Балки надо согнуть по дуге.
— По дуге? — воскликнул Танол. — При таких-то масштабах? Древесину надо год вымачивать, прежде, чем она станет достаточно гибкой, но тогда она утратит прочность.
— Не утратит, — усмехнулся Стравол. — Я не успел подготовить модель корабля, просто нарисовал, и мой проект намного уступает проекту Танола. Однако, поскольку я тоже выбрал трубчатую конструкцию, я построил модель машины для выгибания балок. Она перед вами на столе. Надо зажать один конец балки в тисках, а к другому привязать крепкий канат, пропущенный через этот желоб. Затем канат наматывается на лебедку, которую вращают пять-шесть человек, вот так. И свободный конец балки опускается вниз по дуге, пока желоб не сблизится с зарубкой, заранее сделанной на другом конце. Остается набросить на эту зарубку петлю, разжать тиски, и готово — для верности можно закрепить петлю костылем, чтобы дуга не вздумала вдруг распрямиться…
— А разве балка, согнувшись до определенного предела, не переломится? — поинтересовался Лавон.
— Строевой лес, конечно, переломится. Чтобы хитрость удалась, нужна не выдержанная, а живая древесина. Иначе и вправду, как говорит Танол, балку пришлось бы предварительно размягчать и от нее уже не было бы никакого проку. А из живого дерева, не утратившего гибкости, получатся отличные, крепкие, цельные ребра для корабля — или те операции с числами, которым ты учил нас, Шар, не имеют истинной ценности…
Шар улыбнулся.
— Оперируя с числами, так легко ошибиться…
— Я все проверил.
— Не сомневаюсь. И в любом случае попытка не пытка. Есть еще какие-нибудь предложения?
— Кажется, — сказал Стравол, — нам пригодится также придуманная мной вентиляционная система. Во всех других отношениях корабль Фана сразу показался мне почти совершенным. Мой собственный по сравнению с ним безнадежно неуклюж.
— Я вынужден согласиться, — произнес опечаленный Танол.
— Но все равно надеюсь когда-нибудь построить свой корабль легче воды, хотя бы для местных сообщений. Если новый мир окажется больше нашего, то добираться от места до места вплавь станет затруднительно…
— А ведь правда! — воскликнул Лавон. — Мне это, признаться, и в голову не приходило. Что, если новый мир вдвое, втрое, вдесятеро больше нашего? Скажи, Шар, существуют ли какие-то причины, по которым это невозможно?
— Если и существуют, то мне они неизвестны. Металлическая пластина упоминает самые невероятные расстояния как само собой разумеющиеся. Ну что ж, давайте разрабатывать модель, объединяющую достоинства всех предложенных. Танол, ты среди нас лучший чертежник — прошу подготовить схему. А как с рабочей силой, Лавон?
— Думаю, справимся, — отозвался Лавон. — Как я себе представляю, тех, кто занят на постройке корабля, придется освободить от других работ. За один-два дня и даже за одно лето такую задачу не решишь, так что на сезонников рассчитывать нельзя. Да и бессмысленно: кто же станет посылать человека, едва освоившего какую-то техническую операцию, обратно на грибковые плантации лишь потому, что где-то еще обнаружилась пара свободных рук?
Устанавливаю следующий порядок: у нас будет постоянная бригада, в которую войдут по два-три сметливых мастера от каждого ремесленного цеха. Они будут исполнять работу, требующую высокой квалификации, в течение всего строительства, а впоследствии, вероятно, войдут в состав экипажа. Для тяжелого, неквалифицированного труда мы сможем по временам привлекать отряды чернорабочих, не ущемляя наших повседневных запросов.
— Договорились, — сказал Шар, положив руки на край стола. — У кого есть еще предложения или вопросы?
— У меня, — спокойно ответил Стравол.
— Хорошо, слушаем.
— Куда мы намерены держать путь?
Воцарилась долгая тишина. Наконец Шар собрался с мыслями:
— Не могу дать тебе точного ответа, Стравол. Сказал бы, что мы направляемся к звездам, но ни ты, ни я понятия не имеем, что такое звезды, стало быть, такой ответ ничего тебе не даст. Мы выходим в путь потому, что выяснили: фантастические утверждения исторической пластины по меньшей мере частично правильны. Мы знаем теперь, что небо можно преодолеть, что по ту сторону неба лежат края, где нет воды и нечем дышать, края, которые наши предки называли «пространство». Оба эти утверждения, казалось бы, противоречат здравому смыслу, и тем не менее они полностью подтвердились.
Историческая пластина утверждает также, что помимо нашего существуют и другие миры, и, признаться, приняв предыдущие две гипотезы, в эту поверить гораздо легче. Ну, а звезды… Звезды — там, в пространстве, и когда мы попадем туда, то, надо думать, увидим их и поймем значение загадочного слова. Во всяком случае, можно рассчитывать на какой-то ключ к разгадке — вспомните, сколько ценной информации дали нам считанные секунды, проведенные Лавоном по ту сторону неба!
Нет резона гадать на кофейной гуще. Мы пришли к выводу, что существуют иные миры, мы разрабатываем средства для путешествия в пространстве. Другие вопросы можно на время и отложить. Настанет день — мы найдем ответ на все вопросы без исключения, в этом я не сомневаюсь. Хотя, быть может, настанет он еще не так скоро…
Стравол понимающе кивнул головой.
— Иного ответа я и не ожидал. Честно говоря, все ваше предприятие — совершенный бред. Но я все равно останусь с вами до конца.
Прошло два года, две долгие зимние спячки с того дня, как Лавон осмелился выбраться за пределы неба, — а готов был один только остов. Он лежал на платформе, на гребне отмели, что полого поднималась к границе вселенной. Исполинский корпус из тщательно пригнанных досок прорезали на равных расстояниях отверстия, сквозь которые виднелись необработанные балки каркаса.
Поначалу дело двигалось почти без задержек: представить себе машину, которая могла бы перемещаться в безводном пространстве, не теряя воды, оказалось не слишком сложно; Фан и его коллеги справились со своей задачей хорошо. Все понимали, что на создание машины таких размеров потребуется довольно много времени, пожалуй, несколько полных лет, — но ни Шар с помощниками, ни Лавон не предвидели серьезных препятствий.
В конце концов, незавершенность корабля была отчасти просто кажущейся. Примерно треть общей схемы состояла из живых организмов, а их, естественно, можно было «установить» на место лишь непосредственно перед стартом.
И все же раз за разом работы на корабле стали замирать на долгий срок. Случалось, целые секции приходилось вырезать и переделывать заново, и мало-помалу выяснилось, что традиционные, удобопонятные решения к проблеме путешествия в пространстве, как правило, неприложимы.
Мешало и отсутствие исторической пластины, которую Пара упорно отказывались возвратить. Буквально в день утраты, по свежим следам, Шар вознамерился восстановить текст по памяти; но не в пример своим более религиозным предшественникам он никогда не относился к нему как к священному писанию и не вызубривал слово в слово. Правда, он собирал варианты перевода тех отрывков, где говорилось об исследованиях и экспериментах, — эти варианты он вырезал на дереве и копил в личной библиотеке. Однако отрывки сплошь и рядом противоречили один другому и к тому же ни строкой не относились к конструированию звездных кораблей; на сей счет, как помнится, пластина вообще не сообщала ничего определенного.
Никто никогда не копировал и таинственные письмена пластины — по очень простой причине: в подводном мире никто не мог и представить себе, что существуют средства, способные уничтожить сверхпрочный оригинал, и что надо принимать меры к его увековечению. Шар сообразил — увы, слишком поздно, — что обыкновенной осторожности ради следовало делать копии, пусть недолговечные, на подручных материалах. Но многие, многие годы мирной жизни в зелени и золоте вод почти отучили людей от обыкновенной осторожности. А в результате несовершенство памяти Шара, не сохранившей дословного текста пластины, и постоянные его сомнения в точности перевода уцелевших отрывков стали худшей из помех на пути к успешному завершению проекта.
— Не научились грести, а вышли в плавание, — заметил запоздало Лавон, и Шар был вынужден с ним согласиться.
Круглолицый молодой человек, ворвавшийся в апартаменты Шара, назвался Филом XX, — следовательно, он был на два поколения моложе Шара и на четыре моложе Лавона. Но в уголках глаз у него прятались «гусиные лапки», и это делало его похожим на сварливого старика и на капризного младенца одновременно.
— Мы призываем прикрыть этот нелепый проект, — резко бросил он. — Мы, как рабы, отдали ему свою юность, но теперь мы сами себе хозяева, и довольно. Слышите? Довольно!
— Никто вас не принуждал, — ответил Лавон сердито.
— Как никто? А общество? А наши собственные родители? — поддержал Фила явившийся следом за ним долговязый приятель.
— Но отныне мы придерживаемся реальной действительности. Каждому в наши дни известно, что нет никакого другого мира, кроме того, в котором мы живем. Вы, старики, можете цепляться за свои суеверия, если хотите. Мы подражать вам не станем.
Лавон, озадаченный, бросил взгляд на Шара. Ученый улыбнулся:
— Отпусти их, Лавон. Малодушные нам ни к чему.
Круглолицый вспыхнул.
— Ваши оскорбления не заставят нас вновь выйти на работу. С нас довольно. Сами стройте свой корабль!
— Ладно, — сказал Лавон. — И можете убираться. Хватит разглагольствовать. Вы приняли решение, а выслушивать ваши грубости нам не интересно. Прощайте.
Круглолицый, очевидно, был не прочь еще и еще покрасоваться собственной решимостью, однако это «прощайте» пресекло его намерения в корне. Твердокаменное лицо Лавона не сулило других возможностей, и пришлось Филу вместе с приятелем бесславно убираться восвояси.
— Ну, что теперь? — спросил Лавон, как только они удалились. — Должен признаться, Шар, что я попытался бы уговорить их. В конце концов, нам очень нужны рабочие.
— А мы им нужны еще больше, — весело отозвался Шар. — Знаю я этих молодых задир. Ведь сами же удивятся, увидев, что за чахлая зелень вырастет у них на полях в первый же год, когда они попытаются обойтись без моих советов. А потом скажи мне — сколько добровольцев записалось кандидатами в состав экипажа?
— Несколько сотен. В том поколении, которое идет следом за этим Филом, желание отправиться с нами высказывает чуть не каждый. Обманывается наш оратор — по крайней мере в отношении части молодежи. Проект завладел воображением самых юных.
— Ты обещал им что-нибудь?
— Конечно. Я говорил каждому, что если мы остановимся на его кандидатуре, то ему сообщат. Но не принимай этого всерьез. Кто же станет менять признанных специалистов на юнцов, в багаже у которых голый энтузиазм и ничего больше?
— Я не то имел в виду, Лавон. Мне померещилось, или я на самом деле видел здесь Нока? А, вот он где, дрыхнет себе под потолком. Нок!
Существо лениво повело щупальцем.
— У меня поручение, Нок, — продолжал Шар. — Передай своим братьям, а те пусть сообщат всем людям, что желающие идти с кораблем в новые миры должны немедленно явиться на строительную площадку. Передай, что мы не обещаем взять всех до единого, но тех, кто не помогал нам в постройке корабля, мы вообще не будем принимать в расчет.
Нок опять пошевелил щупальцем и, казалось, тут же заснул.
4
Лавон на мгновение оторвался от шеренги переговорных мегафонов, заменившей ему пульт управления, и взглянул на Пара.
— Последний раз спрашиваю, — сказал он. — Отдадите вы нам историческую пластину или нет?
— Нет, Лавон. Мы никогда ни в чем тебе не отказывали. Но сейчас вынуждены.
— Ведь ты идешь с нами, Пара. Если ты не вернешь нам знания и мы погибнем, то погибнешь и ты…
— Много ли значит один Пара? Мы все одинаковы. Данная клетка погибнет — зато всем ее собратьям будет известно, преуспели ли вы в своем предприятии. Мы верим, что вы преуспеете и без пластины, у нас нет иного способа установить ее истинную ценность…
— Следовательно, ты признаешь, что она у вас. А что, если твоя связь с сородичами прекратится, едва мы выйдем в пространство? Что, если эта связь невозможна вне воды?
Пара промолчал. Лавон секунду-другую ел его глазами, потом подчеркнуто отвернулся к переговорным трубкам.
— Все по местам! — скомандовал он и ощутил озноб. — Мы отправляемся. Стравол, герметизирован ли корабль?
— Насколько могу судить, да, Лавон.
Лавон нагнулся к другому мегафону. Сделал глубокий вдох. Ему почудилось, что вода уже утратила свежесть, — а ведь корабль еще не трогался с места.
— Движение в четверть мощности. Раз, два, три, старт!.. Корабль качнулся вперед, затем назад. Диатомеи опустились в заготовленные для них под корпусом ниши и коснулись своими студенистыми телами широкой бесконечной ленты из грубой личиночьей кожи. Скрипнули деревянные шестерни, умножая крохотные силенки диатомей и передавая их на шестнадцать колесных осей.
Корабль дрогнул и медленно покатился по песку. Лавон напряженно всматривался в слюдяной иллюминатор. Мир проплывал мимо с мучительной неторопливостью. Корабль накренился и стал карабкаться вверх. Лавон спиной ощущал напряженное молчание Шара и двух сменных водителей, Фана и Стравола, — их взгляды жгли ему спину. Сейчас, когда они покидали привычный мир, все вокруг выглядело по-иному. Как же они раньше не замечали такой красоты?
Похлопыванье бесконечных лент, скрип и стон шестеренок и осей стали громче — крутизна склона нарастала. Корабль продолжал подниматься, слегка рыская по курсу. А кругом ныряли и кружились отряды людей и их союзников, провожая экспедицию навстречу небу.
Небо постепенно снижалось и наваливалось на корабль.
— А ну, Танол, — распорядился Лавон, — пусть-ка твои диатомеи немного поднажмут. Впереди камень… — Корабль неуклюже качнуло вверх. — Так, теперь тише ход. Чуть порезвее с твоей стороны, Тиол. Да нет, это уже слишком. Вот так. Тише, говорю тебе, нос разворачивает… Танол, подтолкни чуть-чуть, чтобы выровнять. Хорошо. Средний ход на всех постах. Осталось уже недолго…
— Как ты ухитряешься думать такими обрывками? — удивился Пара позади Лавона.
— Думаю, как умею. Все люди думают так же. Наблюдатели, прибавьте тягу — подъем становится круче…
Шестерни взвыли. Корабль задрал нос. Небо заискрилось Лавону прямо в лицо. Вопреки собственной воле он ощутил испуг. Легкие будто вновь обожгло, и в глубине души он опять пережил долгий полет сквозь пустоту навстречу холодному прикосновению воды, пережил остро, словно впервые. Кожа зудела, пылала огнем. Сможет ли он опять подняться туда? В опаляющий вакуум, в царство великой боли, где нет места жизни?
Отмель начала выравниваться, двигаться стало легче. Небо приблизилось настолько, что тяжеловесная громада корабля поневоле всколыхнула его. По песку побежали тени от мелких волн. Под длинной слюдяной панелью, протянувшейся по верху судна, в безмолвном танце извивались толстые жгуты сине-зеленых водорослей, поглощая свет и превращая его в кислород. А в каютах и коридорах, отделенные от людей вделанными в пол решетками, жужжали Ворта, пропуская через себя и перемешивая корабельную воду.
И вот фигуры, которые вились вокруг корабля одна за другой, отстали, помахав на прощанье руками или ресничками, соскользнули с отмели, уменьшились и исчезли. От неба осталась тоненькая, но поразительно прочная пленка воды, еле-еле покрывающая верхнюю палубу. Судно замедлило ход, когда Лавон приказал увеличить мощность, начало зарываться в песок и гальку.
— Так ничего не выйдет, — проговорил Шар. — Думаю, лучше снизить передаточное число, Лавон, чтобы усилие поступало к осям замедленным.
— Попробуем, — согласился Лавон. — Все посты, стоп. Шар, прошу тебя лично проследить за заменой шестерен…
Безумный блеск пустоты пылал — рукой подать — прямо за большим командирским иллюминатором. Сводила с ума необходимость мешкать здесь, на самом пороге бесконечности; мешкать было просто опасно. Лавон физически ощущал, как в душе воскресают прежние страхи перед внешним миром. Сердце сжало тисками, и он понимал: еще две-три минуты бездействия — и он окажется неспособным справиться с собой.
Должен же, наверное, существовать какой-то иной способ смены шестерен, не требующий почти полной разборки коробки передач! Разве нельзя расположить несколько шестерен на одной оси, вводя их в действие не одновременно, а поочередно — путем продольного перемещения самой оси? Допустим, такое решение — тоже не верх изящества, зато операцией можно будет управлять из рубки, не останавливая намертво всю машину и не подвергая пилотов длительному тяжкому испугу.
Из люка вынырнул Шар и подплыл к командиру.
— Все в порядке, — доложил он. — Хотя большие понижающие шестерни переносят нагрузку не лучшим образом.
— Расщепляются?
— Увы, да. Попробуй их сначала на малом ходу…
Лавон молча кивнул. И, не дав себе опомниться и взвесить последствия своих слов, скомандовал:
— Вперед! Половина мощности…
Корабль опять клюнул носом и начал двигаться, действительно очень медленно, но гораздо ровнее, чем раньше. Небо над головой истончилось до полной прозрачности. В рубку ворвался резкий свет.
За спиной у Лавона беспокойно зашевелились помощники. Носовые иллюминаторы залила ослепительная белизна.
Корабль еще замедлил ход, будто уперся в этот слепящий барьер. Лавон распорядился прибавить мощности. Корабль застонал, как в предсмертной агонии. Он теперь почти не шевелился.
— Полный вперед! — прохрипел Лавон.
И опять, с бесконечной медлительностью, судно пришло в движение. Нос приподнялся. Потом оно вдруг рванулось вперед, взвизгнув каждой своей балкой, каждой планкой.
— Лавон! Лавон!..
Лавон резко повернулся на крик. Голос шел из мегафона, связывающего трубку с наблюдателем у кормового иллюминатора.
— Лавон!
— В чем дело? Да прекрати орать, черт возьми!
— Я вижу небо! С другой стороны, с верхней! Оно похоже на огромный плоский металлический лист. Мы отдаляемся от него. Мы прорвали небо, Лавон, мы прорвали небо!..
Но тут новое потрясение заставило Лавона самого броситься к иллюминатору. С внешней поверхности слюды испарялась вода, испарялась с чудовищной быстротой, унося с собой странные в радужных оболочках размывы.
Лавон увидел пространство.
Сперва оно показалось ему пустынной и безжалостно сухой копией дна. Тут были огромные валуны, исполинские утесы, упавшие, растрескавшиеся, расколотые, иззубренные скалы, — и они уходили ввысь и вдаль во всех направлениях, словно некий великан расшвырял их здесь как попало.
А над ними высилось еще одно небо — темно-голубой купол, такой далекий, что расстояние до него представлялось невообразимым и тем более неизмеримым. И на этом куполе висел шар красновато-белого огня, испепеляющего зрение.
Скальная пустыня, впрочем, лежала тоже неблизко — между нею и кораблем простиралась гладкая, поблескивающая равнина. Под поверхностным глянцем равнина, казалось, была сложена из песка, самого обычного песка, такого же, как на отмели, по которой корабль взобрался сюда из знакомой вселенной. Но стеклянистая, многоцветная пленка поверх песка…
Закончить мысль ему помешали новые крики, грянувшие из мегафонов. Он сердито потряс головой и спросил:
— Ну, что еще?
— Говорит Тиол. Куда ты завел нас, Лавон? Ленты заклинило. Диатомеи не в силах стронуть нас с места. И они не притворяются — мы так стучали, будто решили прикончить их, но они все равно не могут тянуть сильнее…
— Оставьте их в покое, — разозлился Лавон. — Они не умеют притворяться — у них на это не хватит соображения. Раз они не могут тянуть сильнее, значит, не могут…
— Тогда выводи нас отсюда сам.
Подошел Шар и встал рядом с Лавоном.
— Мы сейчас на стыке пространства с водой, в области, где силы поверхностного натяжения очень велики, — тихо произнес он. — Если ты прикажешь поднять колеса, то, думаю, нам будет легче двигаться прямо на лентах-гусеницах…
— Попробуем, — у Лавона отлегло от сердца. — Эй, внизу, приподнять колеса!
— Признаться, я долго не мог понять, — сказал Шар, — одной фразы на пластине, где упоминается о «выдвижном посадочном шасси», но в конечном счете догадался, что натяжение на границе пространства способно удержать почти любой крупный предмет. Вот почему я настаивал, чтобы колеса нашего корабля были подъемными.
— Что ни говори, а древние, видимо, свое дело знали.
Через несколько минут — поскольку для движения на гусеницах потребовалась новая смена шестерен — судно уже карабкалось от береговой черты к нагромождению скал. Лавон тревожно всматривался в нависшую впереди зубчатую стену: есть ли там какой-нибудь проход? Слева, немного в стороне, виднелось что-то вроде ручейка, — возможно, там и лежит путь в иную вселенную. Не без колебаний Лавон отдал приказ повернуть налево.
— Может статься, эта штука на небе — «звезда»? — осведомился он у Шара. — Но предполагалось вроде бы, что «звезд» много. А тут только одна, хотя, на мой вкус, одной за глаза довольно…
— Чего не знаю, того не знаю, — отозвался мыслитель. — Однако, кажется, я начинаю постигать общую картину устройства вселенной. Совершенно ясно, что наш мир врезан наподобие чаши в дно этого, многократно большего. Над этим миром свое небо, и я не исключаю, что оно в свою очередь лишь чаша на дне следующего, еще большего мира, и так далее без конца. Не спорю, такую концепцию нелегко принять. Целесообразнее, видимо, предположить что все миры — чаши в единой плоскости и что этот великий светильник — один для всех.
— Тогда какой же смысл ему гаснуть каждую ночь и тускнеть зимой? — спросил Лавон.
— А может, он ходит кругами, сперва над одним миром, потом над другими? Откуда мне сейчас знать?
— Если ты прав, нам только и надо, что ползти до тех пор, пока не наткнемся на небесный купол другого мира, и поднырнуть под него. Не слишком ли просто, после стольких-то приготовлений?…
Шар хмыкнул; впрочем, это отнюдь не означало, что он веселится.
— Просто? А ты не обратил внимания на температуру?
Подсознательно Лавон давно уже замечал что-то неладное, а с подсказки Шара понял, что задыхается. Содержание кислорода в воде, к счастью, не снизилось, но вокруг стало тепло, словно на отмелях поздней осенью: с равным успехом можно бы попробовать дышать супом.
— Фан, пусть Ворта пошевеливаются живее, — распорядился Лавон. — Или циркуляция воды улучшится, или положение станет невыносимым…
Фан что-то ответил, но до Лавона ответ дошел лишь невнятным бормотаньем. Командир вновь сосредоточился на управлении кораблем.
Проход сквозь лабиринт скал, зачастую острых, как бритва, немного приблизился, и все равно казалось, что до него еще мили и мили. Двигался корабль теперь равномерно, но медленно до боли; он не зарывался и не дергался, но и не спешил. А из-под днища доносился оглушительный наждачный скрежет, словно жернова перемалывали глыбы размером с голову.
В конце концов Шар объявил:
— Придется останавливаться опять. На той высоте, куда мы поднялись, песок совершенно сухой, и гусеницы только переводят энергию.
— А ты уверен, что мы выдержим? — проговорил Лавон, ловя воду ртом. — Так мы по крайней мере движемся. А остановимся опускать колеса и менять шестерни, того и гляди, сваримся заживо.
— Вот если не остановимся, то сваримся наверняка, — хладнокровно ответил Шар. — Часть водорослей на судне уже погибла, да и остальные вот-вот завянут. Верный признак, что и нас ненадолго хватит. Не думаю, что мы вообще доберемся до тени, если не повысим передачу и не прибавим скорости…
— Поворачивать надо, вот что, — шумно сглотнув, заявил один из корабельных механиков. — А еще бы правильнее и вовсе сюда не соваться. Мы созданы для жизни в воде, а не для такого ада…
— Хорошо, мы остановимся, — решил Лавон, — но назад не повернем. Это мое последнее слово. — Он постарался придать своему тону мужественную окраску, но слова механика смутили его сильнее, чем он смел признаться даже самому себе. — Шар, только прошу тебя, поторопись…
Ученый кивнул и поспешил в машинное отделение.
Минуты тянулись, как часы. Исполинский пурпурно-золотой диск пылал и пылал в небе. Впрочем, он успел спуститься к горизонту, и теперь лучи, проникающие в иллюминатор, узкими полосами падали Лавону прямо в лицо, высвечивая каждую плавающую в рубке пылинку. Вода внутри корабля почти обжигала щеки.
Как дерзнули они по доброй воле влезть в это пекло? А ведь местность прямо по курсу — точно под «звездой», - вероятно, накалена еще сильнее.
— Лавон! Погляди на Пара!
Лавон заставил себя повернуться к союзнику. Тот приник к палубе и лежал, едва подрагивая ресничками. В глубине его тела вакуоли заметно набухли, превращаясь в крупные грушевидные пузыри, переполняя зернистую протоплазму и сдавливая темное ядро.
— Он что, умирает?
— Данная клетка гибнет, — вымолвил Пара безучастно, как всегда. — Но не смущайтесь, следуйте дальше. Многое еще предстоит узнать, и вы, возможно, выживете там, где мы выжить не в состоянии. Следуйте дальше.
— Вы… вы теперь за нас? — прошептал Лавон.
— Мы всегда были за вас. Доводите свое безрассудное предприятие до конца. В конечном счете мы выиграем, и человек тоже.
Шепот замер. Лавон вновь окликнул Пара, но тот не подавал признаков жизни.
Снизу донеслось постукивание дерева о дерево, потом в переговорной трубке прозвучал искаженный голос Шара:
— Можно трогаться. Но учти, Лавон, диатомеи тоже смертны, и вскоре мы останемся без мотора. Как можно скорее в тень, и самым коротким путем!
Лавон, помрачнев, нагнулся к мегафонам:
— Но ведь там, прямо над скалами, горит «звезда»…
— Ну и что? Она, быть может, спустится еще ниже, и тени удлинятся. Это, пожалуй, единственная наша надежда.
Такая мысль Лавону в голову не приходила. Трубки, задребезжав, подхватили его команду. Корабль снова пришел в движение; он громыхал на своих тридцати двух колесах чуть быстрее, чем раньше, и все-таки медленно, по-прежнему слишком медленно.
Жара нарастала.
«Звезда» неуклонно опускалась, заметно даже на глаз. Внезапно Лавоном овладели новые страхи. А если она опустится настолько, что скроется совсем? Сейчас она невыносимо горяча, и в то же время это единственный источник тепла. Предположим, он погаснет — не воцарится ли тогда в пространстве жестокий холод? И что станет с кораблем — неужели вода, превратившись в лед, расширится и взорвет его?
Тени угрожающе удлинялись, тянулись через пустыню к кораблю. Никто в рубке не произносил ни слова, тишину нарушало лишь хриплое дыхание людей да скрип механизмов.
И вдруг Лавону почудилось, что изломанный горизонт сам бросился им навстречу. Каменная пасть впилась в нижнюю кромку огненного диска и молниеносно поглотила его. Свет померк.
Они укрылись у подножья утесов. Лавон приказал развернуть судно параллельно скальной гряде; оно подчинилось тяжело и неохотно. Краски на небе постепенно сгущались, голубизна превращалась в темную синеву.
Шар выплыл из люка и встал рядом с Лавоном, наблюдая, как густеет небо, а тени бегут по песку в сторону покинутого ими мира. Ученый молчал, но Лавон и без слов догадывался, что Шара терзает та же леденящая мысль.
— Лавон!
Лавон так и подпрыгнул — в голосе мыслителя звучала сталь.
— Да?
— Надо продолжать движение. Нового мира, где бы он ни был, надо достичь не откладывая.
— Как же можно двигаться, когда в двух шагах ничего не видно? Почему бы не отдохнуть — если, конечно, позволит холод?
— Холод-то позволит, — отвечал Шар. — Холодов, опасных для нас, здесь сейчас быть не может. Иначе небо — то небо, которое мы привыкли называть так в нашем мире, — замерзало бы каждую ночь, даже летом. Меня беспокоит другое — вода. Растения вот-вот улягутся спать. В нашем мире это не играло бы роли; растворенного в воде кислорода там достаточно, чтобы пережить ночь. А в таком замкнутом пространстве да с таким большим экипажем мы без притока свежей воды тут же задохнемся.
Шар говорил бесстрастно, будто читал лекцию о неумолимых законах природы, которые лично его никак не касаются.
— Более того, — добавил он, неотрывно взирая на суровый пейзаж, — диатомеи, как известно, тоже растения. Другими словами, надо идти вперед, пока не иссякнут кислород и энергия, — и молиться, чтобы их хватило до цели.
— Слушай, Шар, мы ведь брали на борт нескольких сородичей Пара. Да и сам он еще не совсем умер. Если бы умер, мы просто не смогли бы здесь находиться. Правда, на судне почти нет бактерий — тот же Пара и ему подобные походя их сожрали, а новым взяться неоткуда. Но все равно мы почувствовали бы разложение.
Наклонившись, Шар осторожно потрогал неподвижное тело.
— Ты прав, он еще жив. Ну и что из того?
— Ворта живы тоже — я ощущаю циркуляцию воды. И это доказывает, что Пара пострадал вовсе не от жары, а от света. Вспомни, каково пришлось моей собственной коже, едва я на мгновение выкарабкался в пространство. Прямой звездный свет смертелен. Можешь дописать эту истину к тем, что я вычитал на пластине…
— Я по-прежнему не понимаю, к чему ты клонишь.
— А вот к чему. В составе трюмной команды у нас есть три или четыре Нока. Они были защищены от света, так что, по всей вероятности, живы и здоровы. Предлагаю переместить их поближе к диатомеям, тогда эти умницы вообразят, что еще день, и будут продолжать работать. Или можно собрать Ноков в верхней галерее, чтобы водоросли продолжали выделять кислород. Вопрос стоит, следовательно, так: что для нас важнее — кислород или энергия? Или мы поделим Ноков между двумя палубами поровну?
Шар усмехнулся.
— Превосходный образчик логического мышления. Дай срок, Лавон, и мы выдвинем тебя в Шары. Нет, поделить Ноков поровну, к сожалению, нельзя. Свет, который они дают, недостаточен для того, чтобы растения продолжали выделять кислород. Я это уже проверял когда-то — результат получился настолько мизерным, что и упоминать не стоит. Очевидно, для растений свет — источник энергии. Так что придется ограничиться подстегиванием диатомей.
— Хорошо. Отдай необходимые распоряжения.
Лавон отвел судно от ощерившихся скал на более гладкий песок. Последние отблески прямого света растворились в небе, оставив за собой мягкое рассеянное сияние.
— Что же теперь? — произнес Шар задумчиво. — По-моему, вон там, в ущелье, есть вода, хотя до нее, конечно, надо еще добраться. Спущусь-ка я снова вниз и примусь… — Его прервал сдавленный вскрик. — Что с тобой, Лавон?
Лавон безмолвно ткнул пальцем вверх. Сердце его готово было выскочить из груди.
На густо-синем куполе над ними высыпали крошечные, невыразимо яркие огоньки. Их были многие сотни, и, по мере того, как сгущалась тьма, появлялись все новые и новые. А далеко-далеко над краем утеса всходил тускло-красный шар, окантованный призрачным серебром. И вблизи зенита повисло второе такое же тело, много меньшее, но посеребренное от края до края…
Под двумя лунами планеты Гидрот, под вечными звездами двухдюймовый деревянный кораблик с микроскопическим грузом тяжело катился под уклон к узенькому, почти пересохшему ручейку.
5
На дне ущелья корабль провел остаток ночи. Сквозь большие квадратные двери, разгерметизированные и распахнутые настежь, по каютам и переходам растекалась прохладная, лучистая, животворная забортная вода — и с нею непоседы-бактерии, свежая пища.
У дверей Лавон на всякий случай поставил часовых, но за всю ночь никакие враги не приблизились к ним — ни любопытства ради, ни в надежде поохотиться. Очевидно, и здесь, на пороге пространства, высокоорганизованные существа в темное время суток предпочитали покой.
Однако с первыми лучами утренней зари, пронизавшими воду, начались неприятности.
Откуда ни возьмись, явилось пучеглазое чудище. Зеленое, с двумя клешнями, каждая из которых без труда перекусила бы судно пополам, как волоконце спирогиры. Его черные сферические глаза сидели на коротких стебельках, а длинные щупальца были толще, чем стволы самых старых растений. Чудище пробежало мимо, свирепо брыкаясь, и вовсе не удостоило корабль вниманием.
— Это что, образец местной фауны? — боязливым шепотом осведомился Лавон. — Они здесь все такие огромные?
Никто не ответил ему по той простой причине, что никто не знал ответа.
Спустя какое-то время Лавон рискнул повести корабль против течения, небыстрого, но упорного. И тут им встретились исполинские извивающиеся черви. Один из них ненароком нанес по корпусу тяжелый удар, а сам поплыл дальше как ни в чем не бывало.
— Они даже не замечают нас, — посетовал Шар. — Мы для них слишком малы, Лавон. Древние предупреждали нас, что пространство необъятно, но, даже увидев его воочию, этого не постигнешь. И все эти звезды — могут ли они означать то, что по-моему, означают? Немыслимо, невероятно!..
— Дно поднимается, — перебил Лавон, пристально глядя вперед. — Склоны ущелья раздвигаются, вода становится солоноватой. Придется звездам подождать, Шар. Мы подходим к вратам нашего нового мира…
Шар недовольно умолк. Представления о структуре пространства беспокоили его, и, кажется, серьезно. Он почти перестал обращать внимание на великие события, свершающиеся у него на глазах, и мучительно увяз в каких-то потаенных раздумьях. Лавон почти физически ощутил, как ширится между ними былая пропасть.
Поток заметно мелел. Лавону не доводилось слышать о законах дельтообразования — его родную вселенную не покидал ни один ручеек, — и непонятное явление вызывало у него тревогу. Но все тревоги отступили перед чувством радостного изумления, как только корабль перевалил за мель.
Впереди, насколько хватал глаз, дно понижалось и понижалось, скрываясь в блистающей глубине. Над головами вновь нависло настоящее небо, а сразу под ним Лавон различил мирно дрейфующие плотики планктона. Почти сразу же он опознал и некоторые мелкие виды простейших — иные из них уже набрались дерзости подплыть к кораблю вплотную…
И тут из полумрака глубин показалась женщина. Лицо ее было искажено расстоянием и страхом, и поначалу она словно и не замечала корабля. Она стремительно рассекала воду, то и дело оборачиваясь, и думала, видимо, только об одном: как можно скорее перебросить тело через наносы в дельте и отдаться на волю дикого потока.
Лавон был озадачен. Нет, не тем, что здесь жили люди — на это он искренне надеялся, даже, по правде сказать, был внутренне уверен в том, что люди живут повсюду во вселенной, — а тем, что женщина столь целеустремленно ищет гибели.
— Что за черт!..
Потом до его слуха донеслось смутное жужжание, и он все понял.
— Шар! Фан! Стравол! — закричал он. — Берите луки и копья! Вышибайте окна!
С силой занеся ногу, он пнул в иллюминатор перед собой. Кто-то сунул ему в руку самострел.
— Что такое? — опомнился Шар. — В чем дело? Что случилось?
— Всееды!
Боевой клич пронесся по всему кораблю подобно раскату грома. В родном мире Лавона коловратки были практически истреблены, но каждый знал на память трудную историю долгой борьбы, которую вели с ними люди и их союзники.
Внезапно женщина увидела корабль и замерла, объятая отчаянием при виде нового чудовища. По инерции ее занесло и перевернуло, а она то не сводила глаз с корабля, то оборачивалась через плечо во тьму. Жужжание, доносившееся оттуда, становилось громче и громче.
— Не мешкай! — звал Лавон. — Сюда, сюда! Мы друзья! Мы поможем тебе!..
Три полупрозрачных раструба хищной плоти приподнялись над склоном, густая поросль ресничек на их венцах издавала жадный гул. Дикраны — забрались в свои гибкие кольчуги и уверены в собственной неуязвимости… Лавон старательно взвел самострел, поднял его к плечу и выстрелил. Стрела, пропев, вонзилась в воду, но быстро потеряла силу, и случайное течение отнесло ее гораздо ближе к женщине, чем к всееду, в которого целился Лавон.
Незадачливый стрелок прикусил губу, опустил оружие, снова взвел его. Он явно недооценил расстояние, придется повременить. Еще одна стрела рассекла воду, — по-видимому, из бортового иллюминатора; тогда Лавон отдал приказ прекратить пальбу — «пока, — добавил он, — не станут различимы их глазные пятна».
Появление коловраток вблизи заставило женщину решиться. Неподвижное деревянное чудовище, пусть невиданное, по крайней мере ничем ей не угрожало, а что такое три дикрана, следующие по пятам и пекущиеся лишь о том, чтобы вырвать друг у друга самый крупный кусок добычи, она знала слишком хорошо. Мгновение — и она устремилась к иллюминатору. Три всееда взревели от бешенства и алчности и бросились вдогонку.
Вероятно, она все же не сумела бы оторваться от них, если бы в последний момент притупленное зрение плывущего впереди дикрана не уловило контуров деревянного судна. Дикран затормозил, жужжа, два остальных кинулись в стороны, чтобы избежать столкновения. И Лавон, воспользовавшись замешательством, проткнул ближайшего всееда стрелой навылет. Уцелевшие тут же схватились не на жизнь, а на смерть за право пожрать своего сородича.
— Фан, возьми отряд и заколи обоих, покуда они поглощены дракой, — распорядился Лавон. — Похоже, что этот мир нуждается в небольшом переустройстве…
Женщина проскользнула в иллюминатор и распласталась у дальней стены, трясясь от страха. Лавон попытался подойти к ней, но она молниеносно выхватила откуда-то осколок хары, заостренный как игла. Одежды на ней не было никакой, и оставалось неясным, где же она прятала оружие, — однако вид у нее был решительный и действовать кинжалом она, без сомнения, умела. Лавон отступил и сел на табурет возле пульта, дав ей время свыкнуться с рубкой, Шаром, другими пилотами, бесчувственным Пара — и с собой.
Наконец она выговорила:
— Вы… боги… пришедшие из-за неба?…
— Мы пришли из-за неба, это верно, — ответил Лавон. — Но мы не боги. Мы люди, такие же, как и ты. Много ли вас здесь?
Женщина, хоть и дикарка, освоилась на удивление быстро. У Лавона возникло странное, немыслимое подозрение, что он уже когда-то встречался с ней — не то чтобы с ней именно, но с такой же высокой, обманчиво беспечной рыжеватой блондинкой; разумеется, то была женщина из другого мира, и все же…
Она засунула нож обратно в глубь своих светлых спутанных волос — ага, отметил Лавон не без смущения, вот трюк, про который не стоит забывать, — и покачала головой:
— Нас мало. Всееды повсюду. Скоро они прикончат последних из нас…
Ее фатализм был столь непоколебимым, что казалось — подобная судьба ее вовсе не заботит.
— И вы не пробовали объединиться против них? Не искали союзников?
— Союзников? — Она пожала плечами. — Все вокруг беззащитны против всеедов. У нас нет оружия, убивающего на расстоянии, как ваше. И даже оно уже не спасет нас. Нас слишком мало, всеедов слишком много.
Лавон выразительно покачал головой.
— У вас есть оружие. Единственно ценное оружие. И всегда было. Против этого оружия бессильны легионы всеедов. Мы покажем вам, как им пользоваться, и, может статься, у вас это получится еще лучше, чем у нас. Только попробуйте…
Женщина опять пожала плечами.
— Мы всегда мечтали о подобном оружии, но так и не нашли его. А вы не обманываете? Что это за оружие?
— Разум, конечно, — ответил Лавон. — Не один отдельно взятый ум, а коллективный разум. Много умов вместе. Умы во взаимодействии.
— Лавон говорит правду, — вдруг донесся голос с палубы.
Пара чуть-чуть шевельнулся. Женщина уставилась на него широко раскрытыми глазами. Тот факт, что Пара заговорил человеческим языком, произвел на нее впечатление куда больше, чем корабль со всем экипажем.
— Всеедов можно победить, — продолжал слабенький, слегка картавый голос. — Наши сородичи в этом мире помогут вам, как мы помогли людям там, откуда прибыл наш корабль. Мы выступали против путешествия в пространство, мы отобрали у людей важные записи, но люди совершили это путешествие и без записей. Больше мы никогда не станем возражать людям. Мы уже побеседовали со своими близкими в этом мире и сообщили им главное: что бы ни задумали люди, они добьются своего независимо от нашей воли.
Шар, твои металлические записи здесь. Они спрятаны в самом корабле. Мои братья покажут тебе где.
Данный организм умирает. Он умирает во всеоружии знаний, как и подобает разумному существу. Этому тоже научили нас люди. Нет ничего… неподвластного знаниям. С их помощью… люди пересекли… пересекли пространство…
Голос угас. Поблескивающая туфелька внешне не изменилась, однако что-то внутри нее потухло безвозвратно. Лавон посмотрел на женщину, их взгляды встретились. Он ощутил непривычную, необъяснимую теплоту.
— Мы пересекли пространство, — тихо повторил он.
Шар произнес шепотом, слова пришли к Лавону будто издалека:
— Неужели правда?
Лавон все глядел на женщину. Шару он не ответил. Вопрос мудреца, казалось, утратил всякий смысл.
Дин Маклафлин Братья по разуму
Пролог
Холодный ветер выл и загонял острые кристаллики все глубже в шерсть Чир-куалы.
Чир- куала упрямо карабкался на холм. Идти было трудно. Ходильные ласты не находили опоры в мягком белом порошке, который покрыл всю землю, а склон был крутым. Его короткие неуклюжие ноги ныли от усталости. Он проваливался в белый порошок, барахтался в нем. Порошок был холодным.
Другого такого холодного времени Чир-куала не помнил. Никогда еще ветер не дул так свирепо, так непрерывно. Чир-куала уже много раз засыпал и просыпался, а он все дул и дул. И никогда еще земля не пряталась под таким глубоким слоем странного белого порошка.
Чир- куала ничего не понимал.
Холодные твердые кристаллики прилипали к его шерсти. Он стряхивал их, а ветер обсыпал его все новыми и новыми. Ветер пробирался сквозь густую шерсть, и его сотрясала дрожь. Ходильные ласты болели, и Чир-куала тихонько поскуливал.
И все-таки он упрямо лез на холм. Он хотел есть. Его терзал голод. Только эти муки были способны выгнать его на холод и ветер. Прежде, когда наступало холодное время, он лежал, уютно свернувшись в своем логове, пока небо снова не становилось синим, а воздух — теплым, и белый порошок на земле не растекался водой.
Но на этот раз холод никак не уходил, ветер выл, не стихая, а небо оставалось серым. Он ничего не ел уже… уже…
Ему вспомнилась его последняя добыча — маленький неповоротливый зверек, которого он изловил в глубине логова. Совсем крошечный. Он на него и не посмотрел бы, если бы голод не раздирал его внутренности.
А когда он его проглотил, то заснул и проспал все темное время, а потом пришло светлое время, и он ничего не ел, потому что есть было нечего, и в следующее темное время он спал беспокойно: ему мерещились всякие съедобные зверьки.
И вот теперь голод выгнал его из логова и заставляет лезть на холм. Новые звери на вершине холма иногда давали ему еду — если он, разобравшись, чего они от него хотят, делал это. Иногда бывало очень трудно и всегда непонятно, но когда у него получалось то, что им было нужно, новые звери давали ему вкусные вещи.
Склон был засыпан холодным белым порошком. Из него торчали сломанные стволы бывшего леса и длинные сухие стебли. Обломки, укрытые белым порошком, ранили ходильные ласты Чир-куалы, и позади него уже тянулась цепочка голубых пятен.
На обрыве Чир-куала ухватился цепкими веслообразными лапами за торчащие стебли, чтобы легче было лезть. Стебли обломились. Он упал и покатился вниз по склону в вихрях белого порошка. Порошок забился ему в шерсть — мокрый и холодный порошок.
Потом он долго лежал, жалобно поскуливая. У него не было сил шевелиться. Но он все-таки заставил себя встать и снова начал карабкаться. За стебли он больше не хватался.
В конце концов он добрался до вершины. Ветер там дул еще более свирепо. Он ерошил шерсть Чир-куалы, отнимал тепло у его тела. Чир-куала заплакал тоненько и жалобно. Его ходильные ласты сначала жгла боль, а теперь они почти ничего не чувствовали. Голубых пятен в отпечатках становилось все больше. Спотыкаясь, он брел к логову новых зверей, поселившихся на вершине.
Он шлепнул лапой по плоской штуке, которая загораживала вход. Она не шелохнулась. Он шлепнул еще раз, и еще, и еще — все сильнее и настойчивее. У него вырвался надрывный вопль. Он не понимал, почему новые звери не убирают штуку, которая загораживает вход, и не дают ему еды.
Ему нужна еда. Он голоден.
Холодный ветер выл и выл.
Чир- куала бил по двери лапой и всхлипывал.
1
Напиток этот именовался кофе, хотя варили его из стеблей растения, родина которого находилась в сорока световых годах от Земли. Он был горьким, как хина с примесью цедры, но если пить его горячим и подслащенным, он вполне мог заменить кофе.
Некоторые даже предпочитали его настоящему. Время завтрака уже кончилось, обеденное еще не наступило, и в столовой, кроме Сигурда Мюллера и стажера Лорена Эстансио, не было никого. Мюллер поднес чашку к губам и снова поставил — пусть еще немножко остынет.
— Ну, и что вы об этом думаете? — спросил он молодого человека.
Эстансио пожал плечами — неловко и неубедительно.
— Мне что-то страшно становится, — признался он.
— Да неужто? — Мюллер всей грудью налег на столик. — Почему бы это?
Молодой стажер смутился.
— Ну… — начал он. — Помните, год назад, когда я только приехал сюда, вы дали мне решать задачи — те же, которые даете шаркунам?
Мюллер улыбнулся.
— Я даю их всем вам, желторотым зазнайкам. Вы же — патентованные умники, иначе вас сюда не прислали бы. Это обеспечивает мне хороший контрольный стандарт.
Эстансио кивнул.
— Мне явно не удалось блеснуть, — сказал он.
— Вы показали средний результат, — припомнил Мюллер так, словно это не имело большого значения. Он постучал ногтем по столику. — Вся соль проверок на интеллект заключается в том, чтобы задачи были не по зубам даже самому умному, иначе от них нет никакого толку. — Мюллер откинулся и сощурил глаза. — За семь лет, которые я провел здесь, средний интеллектуальный уровень наших стажеров не повысился ни на йоту. Видимо, вы, ребята, достигли эволюционного плато.
— Это-то меня и пугает, — пробормотал Эстансио. — Ведь мне ни лабиринты, ни другие задачи не в новинку, но на вашей серии я споткнулся. И когда я увидел, как шаркун справился с двойным системным лабиринтом, хотя он понятия не имел о самой идее лабиринта… — Он замялся и повторил растерянно: — Мне страшно.
— Да, смышленый был экземпляр, — заметил Мюллер.
С этим Эстансио согласиться все-таки не мог.
— Простая случайность, — возразил он.
Мюллер покачал головой.
— Нет, не случайность. — Он придвинулся ближе. — А что если сегодняшний был не первым?
Эстансио сдвинул брови.
— О других таких я не слышал, — произнес он с сомнением в голосе. — И уж, во всяком случае, за время, пока я тут, такие нам не попадались.
— Но вы приехали всего год назад, — напомнил Мюллер, — а я как раз перед этим обследовал двух таких. Оба экземпляра из одной местности — из той самой, где поймали сегодняшнего.
— С горы Зиккурат?
— Вот именно, Популяция, изолированная в горном районе, численностью около семи с половиной тысяч. А не так давно их там было шесть тысяч. За последние десять лет они заметно размножились.
Эстансио задумался, машинально поворачивая свою чашку то в одну, то в другую сторону.
— Местность, пожалуй, вполне подходящая, — сказал он наконец.
Мюллер с усмешкой кивнул, а затем попросил:
— Ну-ка, объясните мне почему.
— Небольшая популяция в изолированном районе, где естественный отбор особенно жесток. При таком положении вещей почти неизбежно должны проявиться эволюционные тенденции.
— У Хотермена вычитали? — спросил Мюллер.
Эстансио покраснел.
— Совершенно верно. Но ведь он прав?
Мюллер пожал плечами.
— В принципе — конечно, — согласился он. — Однако Хотермен рассматривал совсем иную ситуацию. Он имел в виду развитие определенных генетических тенденций, то есть такое положение, когда данные гены уже существуют. А тут происходит совсем другое.
— Вы уверены? — нерешительно спросил Эстансио.
— Абсолютно, — заявил Мюллер. — Наша станция была создана здесь, когда планета перешла от Альфы к Бете, то есть почти тысячу лет назад. Мы исследовали шаркунов на протяжении всего этого срока. Если бы интересующие нас гены существовали и тогда, они выявились бы в первые же двести лет. Но чего не было, того не было. Первый достаточно сметливый шаркун, хотя и вдвое уступавший нынешним по смышлености… Не морщитесь, не морщитесь, я проверял в архиве… Первый такой шаркун был обнаружен сорок лет назад. Ну-ка, угадайте, откуда он был родом?
— С горы Зиккурат?
Мюллер ударил кулаком по столу.
— Совершенно верно, — процедил он сквозь зубы. — Произошла мутация. Другого объяснения нет. И произошла она в изолированной популяции.
Эстансио долго молчал.
— Почему вы его забили? — спросил он наконец.
— Потому же, почему я забил первых двух, — ответил Мюллер. — Хочу взглянуть на его мозг. Первые два… я думал, это случайность. Теперь я изменил свое мнение и полагаю, что клетки мозга этого последнего экземпляра подтвердят закономерность.
— Но как же правила? — с недоумением спросил Эстансио.
— Ведь шаркун, демонстрирующий исключительные качества…
Мюллер подергал свою мефистофельскую бородку.
— Правила, правила! — бросил он пренебрежительно. — Я должен знать точно, а другого способа нет. — Внезапно он резко переменил тему. Во всяком случае, так могло показаться на первый взгляд.
— Вы ведь возвращаетесь с этим рейсом грузового космолета?
Вопрос был чисто риторический. Стажера приглашали остаться на станции еще на год лишь в исключительных случаях. Эстансио кивнул.
Мюллер удовлетворенно улыбнулся.
— Очень хорошо, — сказал он. — Когда уедете, можете говорить об этом сколько хотите. Но пока вы еще тут… Этого не было. Просто не было. Вы поняли?
— Кажется, да… — протянул Эстансио. — Но… почему?
— А потому, что они умнеют, — ответил Мюллер. — Если не принять мер, они все станут умными — куда умнее нас. И они свирепы — вы же видели, как ведут себя дикие. Значит, этого нельзя допустить. Вот зачем мы из века в век сохраняем тут станцию. Чтобы наблюдать за ними. Потому что кто-то уже тогда сообразил, к чему идет дело. Чтобы вовремя осадить их. Но тут хватает идиотов, которые — представьте себе — хотят, чтобы шаркуны эволюционировали. Ну, так им незачем знать про мутацию. Да и остальным тоже.
— А-а… — сказал Эстансио, растерянно сдвинув брови. — Но что мы можем сделать? Как им помешать?
— Не спрашивайте, — хихикнул Мюллер. — Не то я объясню.
— Нет, все-таки… — не отступал Эстансио.
Мюллер налег грудью на столик и многозначительно забарабанил по нему пальцами.
— Вы слышали, кто прибудет с космолетом?
Эстансио задумался, припоминая.
— Ну, Блэкитт, еще Холмен и…
Мюллер жестом остановил его.
— Я говорю не о сотрудниках, а о тех, кому приспичило знакомиться с условиями жизни на планете.
— Хичкок? — Эстансио явно недоумевал. — Но ведь он… он же будет за них заступаться. Он всегда за кого-нибудь заступается.
— Оно так, — согласился Мюллер, — но только он редко бывает в курсе. И по большей части просто сует всем палки в колеса. То же будет и тут.
— Вы уверены?
— Да, уверен, — Мюллер улыбнулся. — Я ему поспособствую.
И он захохотал.
«Я содрогнулся, господа. Содрогнулся!»
Хичкок решил, что именно этой фразой он, когда вернется на Землю, начнет свою речь о том, что ему довелось увидеть на Одиннадцатой планете в системе Скорпиона. Так он начнет свою речь на заседании Общества защиты гуманности, учредителем которого был, и объявит очередную кампанию по помощи и спасению.
Институт Одиннадцатой Скорпиона, конечно, попробует протестовать. Эти ученые завизжат, будто он подтасовывает факты. Пусть их! Те, чьи гнусности он вытаскивал на свет в прошлом, всегда прибегали к подобным уверткам, но тщетно. Широкая публика знала, на чьей стороне правда.
Хичкок составил свое мнение, едва прибыл на Одиннадцатую Скорпиона, а точнее говоря, в ту минуту, когда начал спускаться по трапу, притулившемуся под бортом «Странника». Он был далеко не в лучшем расположении духа — поездка оказалась сопряженной с массой неудобств. «Странник» был грузовым космолетом, а не комфортабельным пассажирским лайнером. Его сунули в одну каюту с молодым стажером, который был так увлечен мутационными возможностями, заложенными в генетических процессах, что только о них и говорил. Духовное убожество ученых просто поразительно!
Держа в руках по чемодану, Хичкок опасливо спускался со ступеньки на ступеньку. Трап был длинный и казался очень ненадежным. Он дрожал и поскрипывал под ударами ветра.
В любом цивилизованном месте к космолету подали бы лифт.
Ветер был ледяной. Он завывал вокруг Хичкока. Он морозил ему горло. Он пронизывал его легкое пальто — на любой цивилизованной планете этого пальто было бы более чем достаточно. Его пепельные посеребренные сединой волосы взлохматились, кончики ушей ныли, отвислые щеки онемели. У него ломило в висках, а на носу повисла капля. Ужасная, ужасная планета!
Хичкок остановился и, опустив чемоданы на ступеньку, попробовал стянуть воротник потуже. Это не помогло — ветер пробрался и сквозь воротник. Хичкок угрюмо посмотрел вниз. Перекинутая через плечо камера больно била его по боку.
Космодром, расстилавшийся у подножья трапа, не украсил бы и временный разведывательный лагерь. Выровненное поле посреди каменистой равнины — и даже без покрытия! Да какое там поле — жалкая площадка! На краю поля, в той стороне, где виднелся черный купол станции, приютилось несколько аэромашин. С другой стороны поле уходило к холодному морю, смыкавшемуся на горизонте с небом. Волны, лениво ворочая ледяное крошево, били в скалы, одевали их кружевом причудливых сосулек.
Хичкок возмущенно взглянул на яркое солнце. Оно пылало в чистом синем небе, но не грело! А уж второе солнце системы и вовсе было жалкой блесткой, еле мерцавшей почти у самых волн.
Совершенно ясно, что эта планета не подходит для обитания. Она не подходит не только людям, но и любым другим живым существам.
Спускаясь, он заметил, что космолет уже разгружается. Кран опускал контейнеры и ящики на сани, которые тут же отъезжали и поворачивали к куполу. В сани были впряжены мохнатые грязно-белые коротконогие создания величиной с хорошего дога. Пока сани грузились, они сидели на задних конечностях, а передние, словно вовсе лишенные костей, складывали почти вдвое, прижимая к телу широкие лапы, похожие на меховые рукавицы. Никто не отдавал им никаких команд. По-видимому, они сами знали, что им следует делать.
На полпути вниз Хичкок остановился еще раз и, обернувшись к человеку, который спускался за ним, указал на упряжки.
— Это что, туземцы? — спросил он. Ему пришлось крикнуть, чтобы перекрыть свист ветра.
Человек — еще один щенок-стажер, не признающий ничего, кроме своей науки, — словно бы не сразу понял его вопрос.
— Шаркуны? — спросил он с недоумением. Потом кивнул. Хичкок снял с плеча камеру и запечатлел сцену погрузки на пленку. Возмутительно! Бедняги превращены в рабов!
У подножья трапа ждали сани, снабженные съемными скамьями. Возле саней стоял человек в длинном теплом одеянии с капюшоном, а восемь запряженных в них шаркунов сидели скорчившись и поеживались от ветра. Человек протянул руку к чемоданам Хичкока.
— Садитесь! — крикнул он. — Мы тронемся, как только спустятся остальные.
Хичкок не выпустил чемоданы. Он поглядел на шаркунов в упряжке.
— Благодарю вас, — сухо произнес он и лязгнул зубами от холода. — Я предпочту пойти пешком.
Человек пожал плечами, но все-таки начал его уговаривать.
— На таком ветру это непросто, — он махнул рукой в сторону черного купола, до которого было не меньше полумили. — Не успеете и двух шагов пройти, как нахватаетесь холодного воздуха и застудите легкие. Поезжайте-ка лучше с нами, простыми смертными.
— Если меня повезут они, я не поеду, — с гордым достоинством ответил Хичкок.
— Кто? Шаркуны? — Человек как будто не сразу его понял.
— Но они же родились и выросли в здешнем климате. Он им нипочем.
— Но они родились и выросли не для того, чтобы быть рабами, — возразил Хичкок.
Сотрудник станции посмотрел на него со странным выражением.
— А, так вы, значит, тот самый Хичкок! Послушайте, уважаемый, вы напрасно воображаете, будто шаркуны — люди. Ничего подобного. Это просто очень смышленые животные.
— Никто во вселенной не рожден для того, чтобы быть рабом, — привычно продекламировал Хичкок.
Его невольный собеседник досадливо хмыкнул.
— Еще раз предупреждаю: пойдете пешком — пожалеете. А теперь садитесь. Мы сейчас трогаемся.
Он ткнул пальцем в сторону саней. Хичкок несколько секунд молча смотрел на него в упор.
Но холод и ветер были убедительнее всяких слов: Хичкок подошел к багажнику саней и поставил на него чемоданы, притопывая, чтобы хоть немного согреть коченеющие ноги. Его онемевшие руки посинели. Тщетно стараясь унять озноб, он сказал себе, что эти существа привычны к здешнему климату, а сани они все равно потащат, поедет он или не поедет. И лишний пассажир в конечном счете никакой разницы не составит.
Однако про свою миссию он не забыл: подняв камеру, он запечатлел и эту сцену — сначала сани и пассажиров, жмущихся друг к другу от холода, а потом спанорамировал на шаркунов, которые покорно ждали в постромках. Вид у них был жалкий и подавленный. Хичкок подольше задержал на них объектив.
К несчастью, они оказались на редкость безобразными.
Он потребовал, чтобы его поселили отдельно, холодно отверг попытку передать его чемоданы шаркуну и, неодобрительно хмурясь, величественно прошествовал по коридору к своей комнате.
Открыв дверь, он прямо перед собой увидел шаркуна, который подметал пол. Хичкок положил чемоданы на кровать, а шаркун продолжал сосредоточенно орудовать щеткой, словно вообще не заметил, что в комнату кто-то вошел.
Он был бы одного роста с Хичкоком, если бы не короткие ноги. Его серая шерсть отливала серебром, но голова внушала омерзение — бесформенный обрубок, горизонтально посаженный на туловище, лишенное плеч и почти без шеи. Большие выпученные глаза были широко расставлены — настолько широко, что между ними умещался безгубый рот с огромными полукружиями костяных челюстей. На голове, точно нелепый колпачок, торчало единственное ухо.
Тело его казалось не менее омерзительным — руки, совершенно бескостные на вид, точно куски пожарного шланга, плоские широкие ступни, шаркающие при каждом шаге. Отвислая сумка на животе (они же сумчатые, вспомнил Хичкок) подергивалась, точно в ней пряталось что-то живое, однако существо это несомненно принадлежало к мужскому полу. От него исходил душный мускусный запах. Хичкок глядел на уборщика, испытывая чувство тошноты. А тот с тупым усердием уже водил щеткой по полу у самых его ног, словно Хичкок был столом или шкафом.
— Немедленно прекрати! — распорядился Хичкок, чувствуя себя оскорбленным.
Шаркун остановился и бессмысленно уставил на него выпученные шоколадного цвета глаза.
— Убирайся отсюда! — приказал Хичкок.
Но шаркун по-прежнему смотрел на него бессмысленно и робко. Потом нерешительно снова задвигал щеткой.
— Не смей! Вон! — завопил Хичкок.
Шаркун отчаянно замахал щеткой. Он попытался мести быстрее, но щетка вырвалась из его ластообразных лап и стукнула Хичкока по колену. Хичкок взвыл от боли и ярости.
Шаркун упал на четвереньки и кинулся наутек. Хичкок схватил щетку и выскочил вслед за ним в коридор, но шаркун уже скрылся за углом.
Хичкок захлопнул дверь и уселся на кровать. Он спустил чулок и осмотрел ушибленное колено. Оно побагровело, но кость как будто осталась цела.
Глупая тварь!
В дверь постучали. Хичкок натянул чулок, пристегнул его к трусам, расправил полы туники и сказал:
— Можете войти.
В комнату вошел небрежно одетый человек — короткие носки, плохо сшитая юбочка и свитер. Черная буйная борода явно никогда не подстригалась.
— Что тут за тарарам? — спросил он.
— Тарарам? — повторил Хичкок, ничего не понимая. — Вы имеете в виду мою комнату?
— Вот именно! — буркнул бородач. — Один из моих уборщиков вылетел из этого коридора как ошпаренный и нырнул в свою конуру, словно за ним гнался сам сатана. Все комнаты с того конца уже подметены, и значит, он был тут. — Он поглядел на пол. — Да вот же его щетка!
Бородач нагнулся и поднял щетку.
— Я распорядился, чтобы он ушел, — сказал Хичкок. — Я отказываюсь быть сопричастным к какому бы то ни было использованию рабов.
— А что вы, собственно, ему сказали? — спросил бородач так, словно это имело какое то значение.
— Я попросил его сделать мне любезность и уйти, — сухо сообщил Хичкок. — Должен сказать, что существо это оказалось непростительно глупым. Мне пришлось дважды повторить свою просьбу.
Бородач поглядел на него с явным сомнением, но ничего не возразил, а, наоборот, счел нужным объяснить:
— Непривычных команд он не понимает. Конечно, вы приезжий, так откуда вам было знать. Но теперь, если захотите отослать шаркуна, скажите: «Это все», и он сразу уйдет. Вообще-то они очень послушные, если знать, как с ними обращаться. Только надо отдавать правильную команду.
— Я сам буду следить за чистотой в моей комнате, — объявил Хичкок ледяным током. — Последите, чтобы ваши рабы больше тут не появлялись.
— А вы запирайте дверь на задвижку, — посоветовал бородач. — Конечно, любое нарушение заведенного порядка действует на уборщика плохо, но уж лучше так, чем допустить, чтобы вся дрессировка пошла насмарку.
— Последите, чтобы они держались от меня подальше, — повторил Хичкок.
Бородач оглядел его с головы до ног критическим взглядом.
— Не думайте, будто они способны понять все, что вы им скажете, — заявил он наконец. — Слов они не понимают.
Он отступил за порог и притворил дверь.
Старательно оберегая ушибленное колено, Хичкок полез в чемодан за тюбиком с притиранием, который всегда возил с собой. Да, дверь он безусловно будет держать на запоре! При одной только мысли о том, что эта безмозглая тварь будет трогать его вещи, он пришел в бешенство.
Чего только не приходится переносить бескорыстному альтруисту — подумать страшно!
2
— Надеюсь, вас удобно устроили, — сказал Бен Рийз.
Он решил сам показать Хичкоку станцию. Бен Рийз был круглолицым толстячком, почти совершенно лысым, хотя ему еще не исполнилось и сорока. Хичкок вызывал у него самые тревожные опасения.
— Терпимо, — ответил Хичкок. — Комната обставлена несколько по-спартански, но терпимо.
У него была неприятная манера ходить, не глядя, куда он идет: он все время вертел головой то вправо, то влево.
— Да, — согласился Рийз, — особым комфортом мы похвастать не можем. Ведь мы располагаем только тем, что доставляют космолеты, а всегда есть гораздо более важные грузы.
— Гм-м-м… — протянул Хичкок. — А скажите, мистер Рийз, это очень приятно — ощущать себя самодержавным монархом целой солнечной системы?
Рийз онемел от неожиданности и, остановившись, недоуменно уставился на Хичкока.
— По-моему, вы не совсем понимаете… — пробормотал он в конце концов.
Хичкок гордо прошествовал дальше, и Рийз вынужден был догонять его бегом.
— Я же… я всего только координирую исследования, которые мы здесь ведем, — объяснил он, тяжело дыша. — И… и еще я составляю списки всего того, что станции нужно будет получить со следующим космолетом… ведь по расписанию они прибывают сюда раз в год… И… и кому-то надо же этим заниматься.
Но Хичкок как будто не обратил на его слова ни малейшего внимания. Или он глуховат? Можно было подумать, что он просто ничего не слышал.
Они шли по центральному коридору станции. Мягкие подошвы их теплых сапог скользили по плиткам пола с легким шорохом. Им встретились всего два-три человека. Тусклый свет, тишина… можно было вообразить, будто они очутились в глубоких подвалах какого-нибудь средневекового замка. Мимо, словно трудолюбивые гномы, пробегали шаркуны, занятые своим делом.
В конце коридора, там, где он разветвлялся на два полукружия, огибавшие купол станции по внешней стороне, Рийз остановился.
— С чего вы хотели бы начать? — спросил он. — С анатомической лаборатории или с биохимического отдела?
Хичкок продолжал хранить молчание. Неподалеку в боковом коридоре шаркун тем пол мокрой шваброй. Рядом в ведре плескалась грязная вода. С ликующим злорадством, от которого каменное выражение его лица почти не изменилось, Хичкок навел камеру на уборщика.
Шаркун продолжал водить шваброй, не обращая на них никакого внимания. Прошло чуть не полминуты, прежде чем Хичкок выключил камеру. Потом он бросил через плечо:
— Вы, кажется, что-то сказали?
— Я спросил, что вы хотели бы увидеть в первую очередь, — вежливо повторил Рийз.
Хичкок испепелил его презрительным взглядом, точно назойливое насекомое.
— Это не составит ни малейшей разницы. До отъезда я побываю везде, можете не сомневаться, — заверил он Рийза.
Они пошли дальше. Осмотр станции превратился для Рийза в настоящую пытку: Хичкок пропускал мимо ушей все его объяснения или истолковывал их по-своему и наводил камеру на каждого работающего шаркуна, мимо которого они проходили.
Рийз терпел, но с каждой минутой это становилось все труднее. Он прекрасно понимал, с какой целью Хичкок почтил своим присутствием Одиннадцатую Скорпиона: этот доморощенный политик вбил себе в голову, что сотрудники станции бессовестно эксплуатируют беспомощных шаркунов, и задался целью разоблачить новоявленных рабовладельцев. Хичкок и его Общество защиты гуманности уже разделались таким образом по меньшей мере с двумя десятками планет, всякий раз последовательно и упрямо игнорируя реальное положение вещей. Рийз все-таки лелеял робкую надежду, что ему удастся как-то переубедить Хичкока и тот оставит Одиннадцатую Скорпиона в покое, но совершенно не представлял себе, как взяться за выполнение подобной задачи.
Наконец, когда Хичкок поднял камеру при виде шаркуна, который мыл посуду в подсобном помещении станции, Рийз решил приступить к делу.
— Зачем вы все это снимаете? — спросил он.
— Собираю обвинительный материал, — ответил Хичкок, не прерывая съемки, и даже не посмотрел на Рийза. — По возвращении домой я приму все необходимые меры, чтобы с этим возмутительным безобразием было покончено раз и навсегда.
Рийз растерялся. Хотя намерения Хичкока не явились для него новостью, он все-таки не мог понять, о чем, собственно, тот говорит.
— Я не собираюсь сквозь пальцы смотреть на то, как туземцев обращают в рабство, где бы это ни происходило, — торжественно объявил Хичкок.
Ах, вот оно что!
— Но… но ведь они — животные, — недоумевающе возразил Рийз. — Мы дрессируем их и обучаем выполнять некоторые несложные операции, потому что у нас не хватает людей для обслуживания станции. Они… они же просто одомашненные животные.
Хичкок опустил камеру и обернулся.
— Вы, кажется, хотите, чтобы я не верил собственным глазам? — оскорблено спросил он. — Я вижу, что он моет посуду, а вы хотите, чтобы я поверил, будто передо мной — животное?
— Ну и что же? — Рийз все еще недоумевал. — Да, конечно, они очень сообразительны и по своему развитию стоят несколько выше земных шимпанзе. Но ведь это неизмеримо ниже того уровня, который принято считать начально человеческим. Или… или вы против того, чтобы животных использовали для облегчения человеческого труда?
— Продолжим осмотр, — отрезал Хичкок.
Он решительно пошел к двери, и Рийз со вздохом последовал за ним — ничего другого ему не оставалось. Уже в коридоре Хичкок сказал со жгучим пренебрежением:
— Меня поставили в известность, что интересами коренных жителей планеты здесь преступно пренебрегают, но чтобы…
— Кто вам это наговорил? — Рийз был совершенно ошеломлен.
Хичкок досадливо нахмурился,
— Об этом известно на всех цивилизованных планетах, — заявил он категорическим тоном.
— Но это же… это неправда! — возразил Рийз. — Хотя они и коренные обитатели планеты, нет никаких оснований считать их людьми. Они — всего лишь животные, и во многих отношениях довольно примитивные. Правда, мозг у них развит неплохо… то есть в том смысле, что нам удается обучать их довольно сложным действиям, и их поведение в довольно высокой степени определяется конкретными требованиями обстановки. Но они не обладают подлинным мышлением, способностью обобщать, рассуждать… осознавать себя как личность, у них нет даже начатков общества — ну, словом, ничего того, что делает разумное существо разумным.
— Я приехал сюда, — провозгласил Хичкок, — чтобы вынести собственное суждение по этому вопросу. Мне уже приходилось слышать оправдания и увертки вроде ваших на других планетах, которые я обследовал, — на планетах, где творились возмутительнейшие вещи. Нет, вы только представьте себе — на Эпсилоне Эридана их употребляли в пищу! И о положении здесь я буду судить сам.
Он замедлил шаг и повернулся к Рийзу.
— Ну, а теперь куда мы направимся?
Рийз намеревался провести его в справочную микрофильмотеку, которая находилась дальше по коридору, но тут ему в голову пришла новая мысль, и он указал на винтовую лестницу в нише напротив.
— Вот сюда, вниз, — сказал он.
Они начали осторожно спускаться по узким ступенькам, и Рийз, который теперь опережал Хичкока, объяснял на ходу:
— До сих пор вы видели только шаркунов, которые родились здесь… то есть я имею в виду — здесь на станции. Видите ли, пока все это строилось, — он обвел рукой вокруг, — сюда было доставлено несколько особей для предварительных исследований. Надо было установить стандарты для дальнейшей работы. Эти экземпляры так тут и остались. Они размножаются без какого-либо нашего вмешательства и в отличие от своих сородичей снаружи не подвергаются активному воздействию сил естественного отбора, а потому должны были во всех отношениях остаться практически такими же, как их предки. Поэтому они служат прекрасной контрольной группой для сравнения с дикими шаркунами.
Лестница вывела их в коридор, совершенно такой же, как верхний. Рийз свернул в узкий проход, который завершался тамбуром. Пройдя двойные двери, они оказались на галерее. Помещение внизу было разделено на небольшие загоны, и почти в каждом загоне находилось по шаркуну.
— Это дикие шаркуны, которых мы поймали для обследования, — объяснил Рийз.
Хичкок подошел к перилам и нацелил камеру вниз.
— Они ничем не отличаются от тех, которые живут на станции, — начал он воинственно. — Неужели их обязательно нужно держать в одиночном заключении? Это же бесчеловечно!
— Да ничего подобного! — попытался втолковать ему Рийз.
— Они поступают сюда из разных районов, и после того, как они пройдут проверки и анализы, мы отправляем их обратно. Нам приходится содержать их поодиночке, чтобы не допустить смешения популяций. А кроме того, они ведь могут убить друг друга.
При звуке человеческих голосов шаркуны задрали головы. Их безгубые костные челюсти жадно щелкали. Хичкок снял общую панораму этих запрокинутых кровожадных морд.
— Я хочу вам кое-что показать, — сказал Рийз.
Он подошел к вделанному в стену холодильнику и вынул оттуда большой окорок. Из сине-зеленого мяса торчала хрящеватая полупрозрачная кость.
— Вот поглядите, — Рийз подошел к перилам.
— Неужто вы собираетесь кормить их этим мясом! — ужаснулся Хичкок. — Оно же давно испортилось!
— Нет-нет, — заверил его Рийз, для пущей убедительности помотав головой. — Это его естественный цвет.
Он благоразумно не стал объяснять, что в холодильнике хранилась разделанная туша домашнего шаркуна, павшего от старости. Уж конечно Хичкок обвинил бы его в том, что он прививает несчастным туземцам каннибалистические привычки.
Рийз наклонился над перилами и бросил окорок в ближайший загон.
Запертый там шаркун схватил его еще на лету, зажал в гибких лапах, поднес к пасти и принялся перетирать мясо вместе с костью беззубыми полукружиями могучих челюстей. Окорок быстро превращался в сине-зеленое месиво, которое шаркун торопливо всасывал. Глотка его уродливо пульсировала.
Шаркуны в соседних загонах, увидев падающее мясо, рванулись к нему. Они прыгали, карабкались на перегородки, бросались на них всем телом, но перегородки были высокими, крепкими и совершенно гладкими, так что все усилия разъяренных зверей оказывались тщетными. Но они не оставляли своих попыток и в слепом бешенстве вновь и вновь бросались на перегородки, свирепо завывая. От грохота, визга и пронзительного рычания можно было оглохнуть.
А счастливчик, панически поглядывая по сторонам, продолжал разделываться с неожиданным подарком судьбы. Беззубые челюсти не останавливались ни на мгновение. По серебристой груди стекали струйки посиневшей слюны. Через несколько минут от окорока не осталось и следа.
Но остальные шаркуны продолжали рваться в тот загон, куда упало мясо. Да и сам счастливчик, все еще роняя капли слюны, уже пробовал выбраться наружу. Он прыгал и срывался, прыгал и срывался. Выпученные шоколадные глаза были устремлены на галерею. Казалось, окорок только раздразнил его аппетит. Хичкок невольно попятился, испуганный такой свирепостью, но тут же нагнулся над перилами и навел камеру на беснующегося шаркуна. Хриплые вопли обезумевшего зверя тонули в общем гуле.
Наконец Хичкок кончил снимать и обернулся. Он что-то кричал, но дикий концерт внизу заглушал его слова. Рийз кивнул в сторону тамбура и жестом пригласил Хичкока выйти.
Когда вторая дверь захлопнулась и вокруг сразу наступила блаженная тишина, Хичкок повернулся к Рийзу.
— Вы, по-видимому, вызываете у них ненависть, — заметил он. — Вы что, не кормите их?
— Их кормили час назад, — ответил Рийз, взглянув на часы. — Их поведение не свидетельствует об особом интеллекте, не правда ли?
— Гм-м-м-м, — пробурчал Хичкок. — Человек, которого систематически морили бы голодом, наверное, вел бы себя так же.
— Но этих… мы же голодом не морим, — возразил Рийз. — Конечно, на воле им нелегко добывать пищу, и, возможно, многие перед тем, как их поймали, ели очень давно. Однако у нас они получают корм регулярно, а большинство находится здесь уже несколько дней.
— Этому я поверить не могу, — отмахнулся Хичкок. — Они заморены голодом.
Рийз покачал головой.
— Привычная реакция на пищу, и больше ничего, — сказал он. — На воле они едят редко и далеко не всегда достаточно. С самых первых дней своего существования. Их… прожорливость для них естественна.
На лице Хичкока брезгливость сменилась злорадством, и он спросил многозначительно:
— Могу ли я осведомиться, почему вы позволяете, чтобы они голодали?
Рийз понял, что допустил оплошность: пытаясь переубедить Хичкока в вопросе, который не имел решающего значения, он дал ему в руки куда более серьезное и опасное оружие.
— Ну, видите ли… — он запнулся. — Мы — научные работники. Нас прислали сюда, чтобы… чтобы изучать шаркунов. В этом весь смысл нашего пребывания на этой планете. Дело в том… видите ли, мы полагаем, что шаркуны эволюционируют и что у них есть все шансы в конце концов достигнуть в своем развитии того уровня интеллекта, который соответствует человеческому. Мы наблюдаем ход этого процесса уже более тысячи лет. А если мы попытаемся облегчить им существование, не исключено, что их дальнейшее развитие прекратится.
— Ерунда! — презрительно фыркнул Хичкок.
— Нет, не ерунда, — Рийз все еще не терял надежды объяснить, растолковать, убедить. — Это логический вывод, он опирается на то, что нам известно о принципе действия естественного отбора. Если разрешите, я обрисую вам положение на этой планете.
— Мне это положение более чем ясно, — перебил его Хичкок. — И я нахожу его возмутительным.
Рийз скрипнул зубами.
— Это ведь особенная планета, — начал он снова (а вдруг Хичкок все-таки усомнится в своей правоте, попробует понять…). — То есть у нее особенная орбита.
— Само собой разумеется, — заявил Хичкок. — Орбита планеты в системе двойной звезды не может не быть прихотливой.
— Если бы так! — с кроткой настойчивостью сказал Рийз.
— Когда проводились первые исследования этой системы, планета, на которой мы находимся, обращалась вокруг Альфы. В справочниках она все еще значится как Альфа-II. Однако в настоящее время она обращается вокруг Беты.
— Что?! — глаза Хичкока полезли на лоб. — Какая нелепость!
— Но это же правда, — безнадежно вздохнул Рийз. — Более того, мы убеждены, что Альфа и Бета обмениваются ею с самого момента ее возникновения. Видите ли, они обращаются друг вокруг друга по очень неправильным орбитам, сближаясь каждые сорок пять лет. Если планета в период их максимального сближения окажется в соответствующей точке своей орбиты, ее захватывает другая звезда.
— И как часто происходит такой обмен? — саркастически осведомился Хичкок.
Рийз беспомощно пожал плечами.
— Эти периоды крайне неравномерны, — объяснил он. — Планета может оставаться с одной звездой сто тысяч лет или всего двести-триста. При каждом обмене она начинает обращаться по другой орбите, то есть другой по сравнению со всеми прежними. Следующий обмен должен произойти через три с половиной тысячи лет.
Хичкок презрительно фыркнул.
— Весьма любопытно, если только это соответствует действительности, — сказал он. — Но какое отношение все сказанное имеет к вашему возмутительному обращению к туземцам?
— Самое прямое, — ответил Рийз. — Видите ли, всякий раз, когда планета меняет орбиту, ее климат претерпевает колоссальные изменения. Геологические данные доказывают это неопровержимо. Хотя между Альфой и Бетой существует, пожалуй, большее сходство, чем обычно наблюдается у двойных звезд, тем не менее излучение их и количественно и качественно неодинаково. К тому же на каждой новой орбите планета оказывается то ближе к своему альтернативному солнцу, то дальше от него.
— Полагаю, это имеет какое-то отношение к делу? — с раздражением перебил Хичкок.
Рийз кивнул.
— Мы почти уверены, что живые существа, обитающие на планете, способны переносить очень резкие колебания климата — иначе они давно бы вымерли. Не исключено даже, что при некоторых изменениях жизнь на планете погибала… и это могло случаться сотни раз, прежде чем начался цикл, который мы наблюдаем сейчас. Думаю, что точно мы этого никогда не узнаем.
Хичкок смерил его взглядом, исполненным высокомерного недоумения.
— Ничего более нелепого я в жизни не слышал! — воскликнул он. — По-вашему, искру жизни можно то зажигать, то гасить, точно электрическую лампу!
Рийзу случалось слышать о людях, исповедующих подобные убеждения, но разговаривать с таким человеком ему до сих пор еще не доводилось. У него было такое ощущение, словно он ведет диспут со средневековым схоластом.
— Я только хотел подчеркнуть, насколько… насколько закаленными должны быть живые существа, обитающие на этой планете, — дипломатично начал он. — Насколько… насколько гибко вынуждены они приспосабливаться к различным условиям. Эволюция здесь, по всей вероятности, протекает в сотни раз быстрее обычного. Вы понимаете, какие это открывает возможности для наглядного изучения процесса эволюции. И…
— Вы еще не объяснили мне, — напомнил ему Хичкок, — почему вы игнорируете нужды здешних туземцев… Почему вы подвергаете их вивисекции и…
«Вот он и вернулся к тому, с чего начал, — уныло подумал Рийз. — Какой-то заколдованный круг».
— Мне казалось, что все это ясно и без объяснений, — все так же терпеливо начал он. — Шаркуны — пока еще животные, а не разумные существа. Но повторяю — пока. Они обладают большим интеллектуальным потенциалом и со временем могут стать разумными существами. Особенности планеты делают это почти неизбежным — другими словами, когда среда обитания резко и непредсказуемо меняется, рано или поздно должен развиться разум, так как разум — это единственное свойство, которое обеспечивает живому существу способность нормально существовать в самых разных условиях. Видите ли, мы не просто изучаем здесь процесс эволюции, но и… но и наблюдаем развитие разума. Рано или поздно где-то на этой планете шаркуны почти наверное обретут… обретут интеллект. Я хочу сказать — интеллект, соразмеримый с человеческим. И мы хотим присутствовать при этом. Мы хотим увидеть, как это произойдет. Нам еще ни разу не представлялась возможность наблюдать, как животное становится человеком.
Хичкок насупился.
— Вы говорите так, словно люди — это животные, — сказал он с упреком в голосе. — Так, словно животное может обладать разумом.
— Но ведь люди — это просто особый биологический вид в ряду остальных животных, — перебил Рийз.
— Я не желаю этого слушать, — рявкнул Хичкок и поправил ремень камеры. — Что же касается интеллекта, то у меня ведь нет никаких гарантий, будто они его пока еще лишены — никаких, кроме вашего слова. А мне нужны доказательства, мистер Рийз. Мне нужны весомые доказательства.
Бен Рийз сдался. Как можно доказать что-либо тому, кто отказывается верить самым очевидным истинам?
Интерлюдия
День был хорош для охоты. Ветер не дул и снежная пыль не засыпала следы визгуна, не заравнивала их. Туман не закрывал дали, и свет с неба падал на белую землю. Кве-орелли сдвигал веки, чтобы не слепнуть от белого блеска. След был свежий. Значит, зверь где-то недалеко. Кве-орелли бежал вдоль следа, но не приближался к нему — он боялся, что снег вдруг раскроется под ним, точно пасть, и съест его.
Один раз он видел, как случилось такое. Он и другие люди нашли след пушистохвостого бегуна, и один из людей пошел прямо по следу. Под ним открылась яма, и он пропал. Кве-орелли и другие люди сразу убежали. С тех пор Кве-орелли ни к одному следу не подходил ближе чем на три длины тела — даже к своему собственному.
Следы визгуна вели за гребень. Кве-орелли свернул в сторону, чтобы подняться на гребень подальше от того места, где через него перешел визгун. Подниматься по склону только на задних лапах было трудно. Он согнулся и пошел дальше, опираясь на одну из передних лап. В другой веслообразной лапе он сжимал свой камень.
Камень был его сокровищем, единственным предметом, который он ощущал своим. Камень понадобится ему, когда он догонит визгуна и нужно будет его убить. Камни такой формы и размеров, чтобы ими удобно было убивать, попадались очень редко, но ведь камень намного лучше кусков льда. Такие куски легко ломаются, они не сохраняют формы, да и бить ими приходится гораздо сильнее.
Он всегда носил камень с собой, а если приходилось класть его на землю, то все время на него поглядывал. Он прижимал его к груди, когда спал, а спал он только в своем тайном логове. Другие люди сразу бы его убили, лишь бы взять камень себе, только они боятся.
Вот и гребень. След визгуна уходил вниз в ложбину и поворачивал в сторону. Кве-орелли испустил высокий кашляющий звук, чтобы другие люди, которые пошли на охоту вместе с ним, узнали, что визгун снова повернул. По сторонам раздались резкие хриплые крики — другие люди услышали и повторили сигнал. Вскоре из дальнего конца ложбины донесся новый крик — те, кто был там, увидели визгуна.
Кве- орелли крепче прижал камень к груди и побежал вниз. Широкие ступни-ласты и короткие ноги были плохо приспособлены для быстрого спуска, он споткнулся, упал и покатился на дно ложбины, поднимая облака снежной пыли. Но камень он не выпустил. Что бы ни случилось, камня он не выпустит.
Он встал и встряхнулся, чтобы избавиться от снега, прилипшего к шерсти. В дальнем конце ложбины двое других людей бежали вприпрыжку вниз по склону на всех четырех лапах — у них не было своих камней. Не останавливаясь, они пересекли ложбину и полезли на противоположный склон. Наверху они повернули туда, где был замечен визгун. Кве-орелли остался внизу и вновь пошел по следу визгуна. Здесь ложбина изгибалась. Кве-орелли обошел подножье крутого холма и далеко впереди увидел визгуна. Еще дальше на гребне виднелось трое других людей, которые успели опередить зверя. Один из них уже бежал вниз, чтобы погнать его назад. Те двое, которые поднялись на противоположный склон, теперь тоже повернули вниз. Они бежали очень быстро, потому что бежали на всех четырех лапах. Кве-орелли оказался далеко позади. А потому он кинулся вперед со всей быстротой, на которую были способны его короткие ноги и широкие ступни.
Другие люди спускались в ложбину, двигаясь навстречу визгуну широким полукольцом. Теперь они держали в лапах куски льда и ледяные остроконечники. Они шли прямо на зверя.
Визгун остановился. Он присел, словно готовясь к прыжку. Другие люди шли на него, размахивая ледяным оружием. Визгун застыл на месте, потом зарычал, повернулся и побежал назад по ложбине прямо на Кве-орелли.
Кве- орелли бежал ему навстречу. Увидев его, визгун повернул и начал взбираться на склон, но один из других людей успел отрезать ему путь. Визгун снова повернул в ложбину. Он был уже совсем близко от Кве-орелли. Кве-орелли остановился, выпрямился и поднял камень высоко над головой, держа его обеими лапами.
Визгун перешел в нападение. Его мышцы ритмично напрягались и расслаблялись. Он свирепо и оглушительно визжал. Кве-орелли остался стоять на месте. Он только весь напрягся, готовясь опустить свой камень на голову зверя. Он смотрел, как зверь, визжа, мчится прямо на него.
И бесстрашно ждал.
3
Впереди в холодной дымке показалась земля — огромный сгусток тьмы, встающий из мглисто-серого моря. Хичкок съежился: так стремительно надвигалась на него грозная каменная стена. Но тут планелет взмыл вверх. Хичкок, борясь с тошнотой, поглядывал на обледенелый, изрезанный глубокими трещинами обрыв. Легкая машина содрогалась под резкими ударами ветра. Она вдруг запрыгала на воздушных ухабах, накренилась, и пилот выровнял ее с явным трудом. Мотор взревел.
И вот они летят уже над сушей. Ветер немного присмирел. Хичкок увидел внизу унылую, скованную льдом каменистую равнину. На горизонте уходили в небо белые горы.
И нигде ничего живого.
Пилот обернулся к Мюллеру, сидевшему позади него.
— Будем проверять ловушки? — спросил он.
Капюшон его меховой куртки был откинут, на шее, точно детский слюнявчик, болталась ветрозащитная маска.
— Угу, — буркнул Мюллер. Он не говорил, а огрызался. — Валяйте. Он — подразумевался Хичкок — хочет посмотреть, как мы работаем. Но, конечно, в них ничего не будет.
Пилот кивнул, пожал плечами и повернулся к рычагам. Планелет прибавил скорости.
Хичкок поднял камеру. Безжизненность этих каменных россыпей производила самое гнетущее впечатление. Пусть широкая публика увидит их собственными глазами. Такое зрелище лучше любых слов способно убедить всякого порядочного человека, насколько ужасна Одиннадцатая планета системы Скорпиона.
Мюллер обернулся, и Хичкок, с неудовольствием опустив камеру, приготовился его слушать.
— Сначала мы проверим ловушки. Если в них ничего не окажется, нам придется самим изловить необходимый экземпляр.
— Что?! Вы на них охотитесь? — воскликнул Хичкок. — Какой ужас!
— Нам надо как-то добывать материал для работы, — объяснил Мюллер.
Планелет снизился и несся теперь через равнину почти у самой земли. Перед его носом то и дело возникали исхлестанные ветром скалы, грозя разбить его, и тотчас оказывались далеко позади. На горизонте вершины скованных ледниками гор вонзались в легкие перистые облака.
— Ну, что скажете? — спросил Мюллер. — Немножко голо, как по-вашему? — Он усмехнулся. — А вы погодите месяц-другой. Сейчас ведь, что ни говори, еще лето, хотя оно и подходит к концу.
— Как лето? — недоверчиво переспросил Хичкок.
Там и сям в расселинах неприхотливые растения вели упорную борьбу за жизнь. От постоянного воздействия холода сегментированные стебли и ветки были все в трещинках, их покрывал толстый слой липкого сока. Веера мясистых, серо-зеленых игл робко и жалобно тянулись к далекому солнцу.
Поколебавшись, Хичкок снова поднял камеру.
— Вот именно — лето, — повторил Мюллер. — У нас тут лето круглый год — один из четырех. В этот год мы все время остаемся ближе к солнцу, чем в остальные три. Здесь, в тропиках, температура порой поднимается до пятнадцати градусов и неделями не снижается.
— Всего только до пятнадцати? — Хичкок указал на голую каменистую равнину. — Так почему же тут нет снега? Ведь он начинает таять только при тридцати двух градусах.
— По шкале Фаренгейта, — нетерпеливо объяснил Мюллер, — а мы пользуемся стоградусной. Но, во всяком случае, полностью снег сходит только на морском берегу. По ту сторону гор его хватает. Ну, сами увидите.
Горы надвигались на них и, казалось, становились все выше. Покрытые снегами склоны и голые отвесные скалы уходили вверх, словно стена, воздвигнутая сказочными великанами. Несколько минут планелет летел вдоль стены, а затем повернул к ней — там, где по узкому ущелью на равнину сползал ледник. Этот почти вертикальный поток льда, весь в темных пятнах камней, был похож на грозный крутой утес. Равнину внизу устилали отколовшиеся от него гигантские глыбы. Мотор взревел, и планелет устремился вверх.
Едва он поднялся над гребнем, как в него ударил ветер. Рев мотора перешел в пронзительный вой — маленькая машина с трудом пробивалась вперед сквозь массы холодного воздуха, стекающего с гор. Внизу зияли трещины, мелькали темные полосы камней, вмерзших в лед.
Хичкок опять поднял камеру — кадры этого мрачного ледника тоже сыграют свою роль.
— Куда мы летим? — спросил он.
— На плато по ту сторону гор, — ответил Мюллер. — Туда, где водятся шаркуны.
Хичкок задрал голову и посмотрел на зубчатый хребет. Ущелье тут поворачивало, равнина скрылась из вида, и повсюду вокруг в небо уходили могучие пики.
— Но разве шаркуны… (фу, до чего же неприятно произносить это дурацкое название!)… разве шаркуны не обитают по эту сторону гор?
— На побережье их почти нет, — ответил Мюллер. — Здесь оно полностью отрезано от внутренних областей и зимой им тут нечего есть. Нет, в основном они предпочитают снежный край.
— Снежный край? (До чего зловеще это звучит!) Но как же они поддерживают там свое существование?
— Ничего, живут, — сказал Мюллер.
Ледник вновь стал почти отвесным — тут он был зажат между двумя отрогами главного хребта. Планелет плавно взмыл над краем ущелья. Теперь они летели над самым сердцем гор.
— Но как живут? — Хичкок желал получить точный ответ. — Чем они поддерживают свое существование?
— Стирают друг другу белье, — заявил Мюллер, не моргнув и глазом.
— Не понимаю, — протянул Хичкок с недоумением.
— Обгладывают друг другу кости, если вам так больше нравится.
Далеко внизу под ними теперь распростерлось холмистое нагорье, утопающее в снегу. Небо было безоблачно синим, и безжизненная белая поверхность ослепительно сверкала. Хичкок поспешно изменил настройку камеры, снизив чувствительность, чтобы ввести поправку на этот блеск.
— Вот он, — сказал Мюллер. — Край шаркунов.
«Словно какой-нибудь средневековый барон, который показывает свои владения с главной башни замка», - решил Хичкок, а вслух спросил:
— Так где же они?
Мюллер досадливо хмыкнул.
— Тут где-нибудь. Но это довольно-таки большая территория, а численность шаркунов невелика. По нашей последней переписи один шаркун приходится на двадцать квадратных миль. К тому же в пяти случаях из десяти их удается обнаружить только с помощью прибора, фиксирующего излучение животного тепла.
Он замолчал, достал солнцезащитные очки и протянул их Хичкоку.
Хотя планелет летел уже над плато, они сохраняли прежнюю высоту.
— Ловушки не сигналят, — сообщил пилот. — Будем все-таки проверять?
— Ладно, обойдемся, — буркнул Мюллер. — Только зря время потеряем. — Он обернулся к Хичкоку. — Ловушки теперь почти всегда остаются пустыми. Шаркуны разобрались, что к чему, и обходят их стороной.
— Неужели? — Хичкок явно заинтересовался.
— Мы используем ямы-ловушки, — объяснил Мюллер. — От других в здешних местах толку нет никакого. Двести лет назад их только-только успевали проверять, а теперь попавший в ловушку шаркун — редкость.
— Понимаю, — протянул Хичкок.
Превосходно, нет, право же, превосходно! Во всяком случае, коренным обитателям планеты удается как-то защищаться от произвола этих людей!
— А знаете, что я думаю? — доверительно сказал Мюллер.
— Я думаю, что мы с самого начала ловили только тех, кто плохо соображал. Умные быстро поняли, в чем тут штука, и уже больше не попадались. Ну, а теперь все те, кто не умел соображать, вымерли, и остались одни умники. Вот нам и не удается их поймать. Во всяком случае, с помощью ловушек.
— Ах, так, значит, вы их все равно ловите? — сделал вывод Хичкок.
— Да, ловим, только редко, — ответил Мюллер и наклонился к пилоту. — Поверните-ка туда, где мы на прошлой неделе видели много следов. Может, они все еще там шляются.
— Но как? — не отступал Хичкок. — Как вы их ловите?
— Погодите, сами увидите.
С этими словами Мюллер поднял крышку ящика у своих ног и вытащил свернутую и сложенную пополам сеть. Он аккуратно уложил длинный плотный рулон на узкую полку у нижнего края прозрачного колпака, тянувшуюся между ним и Хичкоком, и закрепил торчащие из уголков шнуры в специальных кольцах под полкой.
— Доктор Мюллер, — чуть ли не умоляющим тоном начал Хичкок, — неужели вы никак не пробовали помочь эти беднягам? Совсем ничего для них не делали? Равнодушно оставляли их на произвол судьбы в этих жутких краях? Чтобы они голодали? Мерзли? Умирали?
— Ну и что — удивленно сказал Мюллер. — Это же самые обыкновенные животные.
— Но… но ваш долг, долг гуманного человека требует оказать им помощь, — возразил Хичкок, весь содрогаясь.
— Послушайте, — сказал Мюллер твердо, равнодушно и терпеливо. — Мы — ученые. Мы присланы сюда изучать этих зверюг — наблюдать за ними, смотреть, не эволюционируют ли они. Если мы примемся их опекать, то все испортим. Тогда уже невозможно будет разобрать, что произошло само собой, а что мы вызвали своим вмешательством. Да и в любом случае им живется ничуть не хуже, чем жилось бы, если бы мы вообще не открыли этой планеты.
— Доктор Мюллер, в вас нет и следа гуманности! — провозгласил Хичкок голосом, исполненным беспощадного осуждения.
Мюллер расхохотался.
— И очень хорошо, что нет. А то мне тут нечего было бы делать, — сказал он. — Послушайте, уважаемый, этим зверюгам приходится нелегко, но если они не будут приноравливаться к условиям жизни на своей планете, им останется одно — сдохнуть. Раз они живут, значит, сумели приспособиться. А раз сумели приспособиться, значит, они эволюционируют. Вы что же, хотите помешать эволюции? Вам это нужно?
— Возмутительно! — брызгал слюной Хичкок. — Более того, преступно! Вы смотрите, как эти бедные создания умирают и… и мучаются, а сами палец о палец не ударите, чтобы облегчить их страдания. Они имеют такое же право на жизнь, как и вы, и я позабочусь, чтобы это право было им даровано!
— Давайте-давайте! — насмешливо буркнул Мюллер. — Только не вмешивайтесь в наши дела. Программы важнее нет ни у одной научной станции во всей галактике.
— Вижу следы! — сообщил пилот.
Хичкок повернул голову. Далеко внизу по гребню невысокого холма тянулась узкая тропка и исчезала под обрывом. Планелет замер, а потом резко пошел на снижение. Тропка превратилась в неровную цепочку следов какого-то неуклюжего зверя — широкие плоские отпечатки почти накладывались друг на друга, края их были нечеткими, словно зверь почти не поднимал лап над снегом.
— Да, это шаркун, — без колебаний определил Мюллер. — Сделаем круг, посмотрим, нет ли еще следов.
Теперь пилот вел машину на малой высоте. Они летели вдоль гряды и пересекли еще несколько цепочек таких же следов — все следы вели в одном направлении.
— Я бы сказал, что это охотничья стая, — вынес свое заключение пилот.
— Вот именно, — согласился Мюллер и обернулся к Хичкоку. — Они начали охотиться таким манером всего лет сорок назад, и большинство все еще гоняется за добычей в одиночку, но время от времени мы обнаруживаем признаки того, что они объединяются для общей охоты — вот как сейчас.
Хичкок поспешно навел камеру на снег и снял общую панораму следов.
— А это имеет какое-нибудь значение? — спросил он.
— Еще бы! — буркнул Мюллер. — Вообще-то они предпочитают держаться особняком и охотятся, как я вам уже говорил, в одиночку. Но это первое указание на то, что они научились хоть в чем-то сотрудничать, что у них начинает развиваться чувство общности.
— То есть цивилизация? — задумчиво и торжественно спросил Хичкок.
— Ее зародыш, — ответил Мюллер. — Вот тут, теперь.
Пилот повернул машину в том направлении, куда вели следы. Мюллер показал еще одну цепочку отпечатков в снегу.
— А вот и следы их добычи.
Следы эти почти не отличались от остальных, но были еще менее четкими и накладывались один на другой, образуя довольно сложный узор. Хичкок сосредоточенно водил своей камерой, а планелет скользнул над склоном и за гребнем устремился вниз, в глубокую лощину.
— Еще один признак того, какими смышлеными они становятся, — сказал Мюллер. — Вернее те, которые охотятся стаей. Это естественный ход эволюции. Чтобы выжить в таких условиях, требуются хорошие мозги.
— Правильно ли я понял, — с недоумением спросил Хичкок, — что вы отказываетесь облегчить их жребий только по этой причине? Потому что хотите наблюдать, какую дорогую цену они платят за право жить? Вы просто… стремитесь удовлетворить свое любопытство?
— Конечно, — отрезал Мюллер. Он как будто был очень доволен собой. — А вы можете назвать более достойную причину? И кроме того, не исключено, что нам когда-нибудь придется с ними столкнуться. Ну, а на этот случай полезно узнать о них как можно больше.
Хичкок поверил ему, и у него по спине побежали мурашки. Он вдруг понял, что сочувствует точке зрения Мюллера. И испугался. Он знал, что думать так недостойно. Конечно, конечно, недостойно!
Но он разделял страх Мюллера.
След добычи свернул на дно лощины. Пилот сделал крутой вираж и полетел прямо над ней.
— Отпечатки совсем свежие, — заметил он.
— Он прошел здесь часа два назад или даже меньше, — согласился Мюллер.
Планелет точно следовал всем изгибам лощины. Хичкок держал камеру наготове и внимательно вглядывался в белую снежную пелену, расстилавшуюся впереди.
— Они намного нас опережают? — поинтересовался он.
— Трудно сказать, — ответил Мюллер. — Когда им нужно, они способны передвигаться довольно-таки быстро.
Он указал на новые следы, протянувшиеся параллельно первым.
— Этот бежал на трех лапах — как шимпанзе или горилла. Шаркуны всегда опираются на переднюю лапу, когда торопятся, а то и вовсе становятся на четвереньки.
— Они что же, бегают наподобие животных? — властно спросил Хичкок. Перед его мысленным взором возникли нескладные существа, которые неуклюже бежали вперевалку на всех четырех конечностях. Он ужаснулся.
Планелет обогнул выступ крутого высокого холма.
Вон они! До них было еще далеко, слепящий свет мешал рассмотреть их как следует, и тем не менее ошибки быть не могло. Шаркуны! Восемь… а то и десять шаркунов.
— Ну, теперь смотрите, как мы их ловим, — сказал Мюллер, обернувшись к Хичкоку. — Да вы бы застегнулись. Снаружи порядочный мороз.
Он помог Хичкоку справиться с непривычными пряжками ветрозащитной маски и проверил, хорошо ли застегнута его меховая куртка.
Потом Мюллер отвернулся, и Хичкок вытянул шею и заглянул через спинку его сиденья, стараясь рассмотреть, чем он занят. Мюллер, в свою очередь надев маску и застегнув куртку, приоткрыл колпак как раз над рулоном сети. В кабину ворвался ледяной ветер. Хичкок съежился. Холод пробрался даже сквозь толстую куртку, просочился под маску, защипал лоб там, где к нему прилегла оправа очков, и обжег ноздри при первом же вдохе.
Мюллер указал на шнур сети, привязанный к кольцу возле колен Хичкока.
— Узел не ослаб? — глухо прозвучал из-под маски его голос. Хичкок равнодушно покосился на кольцо и кивнул.
Его совершенно не интересовало, ослаб узел или не ослаб. Возмутительно уже то, что для поимки шаркуна они пускают в ход сеть! Это противоречит самым элементарным представлениям о порядочности и честной игре!
Однако Мюллера его ответ удовлетворил.
— Валяйте! — скомандовал он.
Пилот передвинул ручку в крайнее положение. Машина клюнула носом, пение мотора стало пронзительным.
Они по крутой дуге обогнули холм и вышли на прямую. Морозный воздух хлестал Хичкока, жгучий холод пробирался под одежду. Вокруг гремел ветер. Хичкок поднял камеру и навел ее на то место, где собрались шаркуны. Планелет мчался к ним, точно лодка на гребне волны.
Мюллер прижал к очкам бинокль.
— Они окружили эту тварь, — сообщил он. — У одного из них в лапах… — Он вдруг осекся. — Этого! — торопливо скомандовал он. — Самого ближнего к нам. Его нельзя упустить!
Хичкок уже ясно различал все подробности сцены, развертывавшейся впереди. Шаркуны, выстроившись шеренгой, гнали гибкого коротконогого зверя еще на одного шаркуна, который стоял неподвижно спиной к планелету. Обеими веслообразными лапами он поднимал над головой какой-то предмет. Зверь бежал на него, извиваясь, словно змея.
— Этого! Этого! — кричал Мюллер, перекрывая рев ветра.
Он столкнул рулон с полки. Сеть развернулась, заколыхалась. Планелет затрясло.
Они были уже совсем близко от шаркунов, и расстояние продолжало стремительно сокращаться. Позади планелета вздымались вихри снега. Хичкок целился объективом в спину шаркуна. Они были уже почти над ним.
В последнюю секунду пилот развернул машину так, чтобы сеть накрыла шаркуна сбоку и подхватила его. Но тут Хичкок в мгновение ока сорвал шнур с кольца возле своего колена.
Для этого ему пришлось нагнуться, и его камера не запечатлела того, что произошло дальше. Сеть, повисшая на одном шнуре, свернулась жгутом, хлестнула по шаркуну сбоку и опрокинула его в снег. Из его лап вырвался большой зазубренный камень в форме сердца.
Планелет, увлекаемый инерцией, промчался дальше. Бешено работая рычагами, пилот сбросил скорость. Хичкок снова поднял камеру.
И он успел снять то, что случилось потом — кошачий прыжок зверя, отчаянное сопротивление шаркуна… и внезапный поток бирюзовой крови на белом снегу.
— Видите? — торжествующе вскричал Хичкок. — Видите? Вот на какую жизнь вы их обрекаете! Убийцы!
4
Через неделю Хичкок потребовал, чтобы Мюллер показал ему, как он измеряет степень умственного развития шаркунов.
Все эти дни, пока он вел свое расследование, его то и дело пытались убедить, что они еще далеко не достигли того уровня, когда вообще можно говорить об умственном развитии. Ложь, конечно. Все они тут стакнулись. Тем не менее ему мало-помалу пришлось смириться с мыслью, что вопрос о том, завершится его миссия успехом или провалом, в конечном счете зависит от того, сумеет ли он добыть доказательства этого самого «умственного развития» шаркунов.
В ответ на его требование Мюллер улыбнулся и пригласил его к себе в лабораторию.
Вначале Хичкок был разочарован и встревожен: задачи, предлагавшиеся испытуемым, были предельно простыми. Сам он увидел решение с первого же взгляда. Однако ему удалось вырвать у Мюллера признание, что шаркуны с этими задачами тоже справляются.
— Ну да, справляются, — насмешливо сказал Мюллер. — Они их решают почти с такой же легкостью, как и вы.
Потом Хичкок ознакомился с более сложными задачами. Например, «огненный ров». Тут шаркуну, чтобы завладеть соблазнительным куском мяса, нужно было каким-то образом перебраться через широкую полосу раскаленных углей.
Хичкок в недоумении расхаживал перед рвом. Жар, поднимавшийся от углей, обжигал его худые обвислые щеки, и они побагровели. Нет, способа перебраться на ту сторону явно не существует. Да, безусловно, мясо недостижимо. В конце концов он сдался.
— Это невозможно, — категорически заявил он.
— Да неужели? — Мюллер улыбнулся. Он направился к углям, поднял с пола коврик и бросил на них.
— Откуда я мог знать, что коврик сразу же не вспыхнет? — возмутился Хичкок. Он уже схватил камеру, чтобы снять задачу и ее решение.
— А откуда вы знали, что он обязательно должен вспыхнуть? — возразил Мюллер. — Надо было проверить на опыте.
— Но уж, во всяком случае, нельзя ожидать, чтобы невыдрес… необученный дикарь сообразил, как надо поступить, — обиженно настаивал Хичкок.
Мюллер пожал плечами.
— Да, задача не из легких, — признал он. — Однако кое-какие шаркуны ее решали.
— Не может быть! — злобно возразил Хичкок.
— Конечно, не эти, — пренебрежительно фыркнул Мюллер. — А по-настоящему смышленые.
— Что-что? — переспросил Хичкок. Ему показалось, что он ослышался. — Как так — смышленые?
Мюллер опять пожал плечами и улыбнулся.
— Нам раза два-три попадались очень смышленые, — признался он.
Хичкок промолчал. Душа его ликовала, но он сделал вид, будто слова Мюллера не произвели на него особого впечатления. Точно охотник, наконец то завидевший добычу, по следу которой шел, он решил выждать. Не надо торопиться и опережать события — Мюллер, ничего не подозревая, наверное, снова проговорится. Мюллер располагает доказательствами, которые необходимы ему, Хичкоку. Этого достаточно.
Он ознакомился еще с несколькими задачами. В большинстве они были даже труднее «огненного рва». И Хичкок не сумел решить почти ни одной, хотя теперь, как ему казалось, он не упускал из виду ни одного из подручных средств. А Мюллер и не думал объяснять, как, по его мнению, их могли бы решить шаркуны, если даже человек оказывается бессильным! Мюллер только загадочно улыбался.
Хичкок отснял все задачи, поставившие его в тупик. Если шаркунов считают безмозглыми на основании подобных проверок, это само по себе уже может служить доказательством их высокого умственного развития.
Затем Хичкок начал знакомиться с лабиринтами. Первые, попроще, он кое-как одолел и выбрался наружу очень довольный собой, хотя и раздосадованный тем, что в качестве искомого доказательства они явно не годились.
— Ну, во всяком случае, эти ваши лабиринты несложны! — буркнул он сердито.
— Они служат только для того, чтобы зверюги могли ознакомиться с идеей лабиринта, — объяснил Мюллер и провел Хичкока в соседнее помещение, где целую стену занимала панель с множеством сигнальных лампочек. Мюллер открыл дверь сбоку от нее и жестом пригласил Хичкока войти. Хичкок ничтоже сумняшеся вошел.
Позади него раздался легкий щелчок. Он обернулся и увидел перед собой только глухую стену. Двери как не бывало.
Хичкока охватил панический страх. Он принялся колотить кулаками по стене и кричать. Никто не отозвался. Расходящиеся во все стороны коридоры гасили все звуки.
Хичкок побежал.
Через полминуты он совсем выбился из сил и, задыхаясь, остановился.
Этот лабиринт был непохож на прежние. Этот лабиринт был сложным.
Хичкок огляделся. Все вокруг казалось чужим и незнакомым. Он даже не мог сообразить, по какому коридору вышел сюда. Сомнений не оставалось: он заблудился.
В полном ужасе он попробовал начать систематические поиски выхода. Бесполезно! Коридоры то и дело разветвлялись, за каждым поворотом открывались все новые и новые проходы. Они петляли, соединялись в запутанные зигзаги, описывали замкнутые круги. Хичкок утратил всякое чувство направления и не мог бы сказать, долго ли он бродит по лабиринту и какое расстояние успел пройти. Ему пришло в голову, что лучше будет вернуться назад, но он ошибся поворотом и очутился в глухом каменном мешке. Спиральный спуск привел его к провалу, в котором чернела неподвижная стылая вода. Изнемогая от усталости, Хичкок побрел обратно.
Наконец он выбрался на ровное место и прислонился к стене, с трудом переводя дух. Коридор впереди раздваивался, дальше виднелись узкие проемы поперечных проходов. Любой из них мог вести к выходу. А может быть, все до единого заканчивались тупиками. Хичкок машинально поднял камеру и медленно повернулся на месте, держа ее перед собой.
Пусть широкая публика посмотрит все это, думал он. Пусть увидит бесконечные перекрестки и повороты — бессистемность и бесформенность этого так называемого лабиринта. Пусть сама судит, насколько подобный критерий подходит для измерения человеческого интеллекта.
И с помощью таких вот ухищрений они добывают свидетельства животной тупости шаркунов! Нелепо и смешно! Даже человек с таким развитым интеллектом, как у него, неспособен отыскать выход. Это не по силам никакому гению.
— Ну как, хватит с вас, Хичкок? — голос Мюллера раздался совсем рядом.
Хичкок вздрогнул, стремительно обернулся и никого не увидел.
— Где вы? — крикнул он. — Выходите!
— Ну как, хватит с вас? — повторил Мюллер с явной издевкой в голосе.
Хичкок представил себе сумасшедшую путаницу коридоров. Только дурак способен поверить, будто в них можно обнаружить какую-то систему. Не бродить же ему тут целые сутки! Он ведь с голоду умрет.
— Да! Хватит! — крикнул Хичкок. — Где вы?
— Стойте на месте, — распорядился Мюллер. — Я сейчас за вами приду.
У Хичкока от усталости подламывались ноги, и он бессильно привалился к гладкой стене. Просто возмутительно. В этих дурацких кротовых норах даже не позаботились хотя бы устроить сиденья!
Минуты через две из бокового коридора неторопливо вышел Сигурд Мюллер.
— Ну, что скажете? — осведомился он со злокозненной усмешкой.
Хичкок выпрямился.
— Неужели вы в самом деле верите, что с помощью этой… этой глупой игры можно выявить степень человеческого интеллекта? Какая чепуха!
Мюллер хихикнул.
— Ну, не знаю, — сказал он весело. — Во всяком случае, о вашем интеллекте она дала мне достаточное представление.
— Молодой человек! — вскипел Хичкок. — Найти отсюда выход не сумеет никто!
— Да неужто? — промурлыкал Мюллер. — Идите за мной! — Он указал большим пальцем через плечо, повернулся и зашагал по коридору.
— Но вы-то знаете, где выход, — заспорил Хичкок. Ему пришлось припустить легкой рысцой, чтобы не отстать от своего проводника.
Мюллер даже не обернулся.
— Да, лабиринт не из простых, — признал он. — Однако некоторые люди находят выход с первого раза. Даже несколько шаркунов сумели его решить.
— Случайность! — пропыхтел Хичкок. — Чистейшей воды случайность!
Мюллер покачал головой.
— Ну нет, — сказал он категорически: — Такой сложный лабиринт случайно решить нельзя. Тем более за короткое время. Вы либо просто ищите, пока не наткнетесь на выход, либо придумываете какой-то метод. Те, кто просто ищет, выбираются отсюда очень нескоро. Но если у вас хватает сообразительности, вы нащупываете верный метод. У тех шаркунов, про которых я говорил, сообразительности хватило.
— А меня уверяли, — многозначительно произнес Хичкок, — что коренные жители планеты не обладают разумом в истинном смысле этого слова.
— Вот как! — буркнул Миллер, пожимая плечами. — Вероятно, речь шла о здешних — о тех, которые делают за нас всю черную работу. Они и правда безмозглые твари. Как и очень многие среди диких. Но между дикими попадаются и сообразительные экземпляры. Двое-трое оказались настолько сообразительными, что не споткнулись ни на одной из наших задач. А для этого требуется настоящая сообразительность. При одной только мысли о них у меня по спине мурашки бегают.
Внезапно они вышли из лабиринта. Хичкок встал как вкопанный и поглядел по сторонам. Они находились в той же комнате, откуда он вошел в лабиринт. Дверь, через которую он вошел, была в стене напротив.
— Хотите попробовать еще раз? — спросил Мюллер.
— Благодарю вас, нет! — отрезал Хичкок. — С меня достаточно этих детских игр.
Мюллер улыбнулся — холодно и равнодушно.
— Может быть, вы хотите увидеть еще что-нибудь?
— Да, — решительно заявил Хичкок. — Я хочу, чтобы вы предъявили мне доказательства, что шаркуны действительно так разумны, как вы утверждаете.
Мюллер удовлетворенно кивнул.
— Я знал, что вам потребуется, — сказал он. — И все приготовил.
Они вышли из экспериментального отделения, и Мюллер повел Хичкока в свой кабинет — небольшую комнату внутри картотечного блока. До чего же примитивная система! Эти ученые, по-видимому, даже не слышали о запоминающих кристаллах!
Мюллер нагнулся над распределительной панелью и набрал комбинацию цифр. Из щели выдачи выскочила папка.
Мюллер вручил ее Хичкоку и махнул рукой в сторону стола. Хичкок сел и разложил перед собой содержимое папки. То, что он увидел, не произвело на него особого впечатления. Какие-то бессмысленные таблицы. Цветные фотографии, на которых нет ничего, кроме прихотливых узоров. Тем не менее Хичкок нацелился своей камерой и добросовестно снял их все — таблицу за таблицей, фотографию за фотографией.
Потом на стол упала тень Мюллера. Его палец уперся в пачку таблиц.
— Это результаты их проверки, — сказал он, развернул пачку веером, ловко извлек семь страниц и положил их сверху.
— А это результаты стажеров, — объяснил он. — Я даю им те же задачи для сравнения.
Хичкок взял четыре таблицы: одну — стажера и три — с очками, которые набрали шаркуны. Он попробовал их сравнивать, но все четыре, на его взгляд, были совершенно одинаковыми. Длинные колонки цифр, все эти плюсы и минусы ничего ему не говорили, а уж тем более ряды каких-то непонятных символов.
Мюллер грубовато отодвинул его руку и провел пальцем по столбцам очков, которые набрал стажер. Палец остановился в нижней трети колонки.
— До этого места, — объяснил он, — стажер шел вровень с ними. Они чего-то не решили, и он чего-то не решил, так что итог оставался равным. Но вот отсюда…
Его палец скользнул до конца колонки и перешел на соответствующий раздел в колонке одного из шаркунов. И тут Хичкок сразу заметил, насколько эти разделы непохожи друг на друга.
— Вот отсюда, — продолжал Мюллер, — они начали его обходить — решали быстрее и точнее. Почти ни одной неудачи. А задачи эти были по-настоящему трудными. Ну, чтобы вам было яснее, — его палец уперся в верхнюю половину колонки. — Вы срезались вот тут.
Хичкок в изумлении уставился на колонки. Этот стажер, по-видимому, настоящий гений, раз уж он сумел настолько его обойти! Ну, а шаркуны… непостижимо! Какой интеллект! Что за важность, если он не понимает ни самих символов, ни их значения. Теперь, когда Мюллер объяснил ему общий смысл таблиц, он прекрасно во всем разобрался.
Он поднял камеру и заново снял таблицы.
Мюллер бросил на них фотографии.
— Вот это, — объявил он, — это срезы головного мозга. — Он вытащил из пачки три листа с восемью фотографиями на каждом из них. — Тут срезы мозга шаркунов, сообразительных шаркунов. А тут, — он постучал пальцем еще по одному листу, — срезы человеческого мозга. Я подумал, что вам будет интересно их сравнить. Но только особенно не увлекайтесь: у шаркунов мозг устроен не совсем так, как наш. Ну, а это, — он пододвинул к Хичкоку пятый лист, — это мозг обычного шаркуна, одного из тех, кого мы используем на станции для черной работы.
Хичкок уставился на фотографии, пытаясь обнаружить, в чем они похожи и в чем различаются. Но он не обладал тренированным взглядом специалиста и не знал, что, собственно, нужно сравнивать. Фотографии казались ему такими же бессмысленными, как раньше таблицы. И вновь его просветил Сигурд Мюллер.
— Мы пользуемся красителем с переменной интенсивностью, — объяснил он. — Там, где его слой тонок, он дает красный цвет, а где он плотен — темно-синий. На каждой фотографии окрашена одна клетка.
Он постучал пальцем по фотографии — фотографии человеческого мозга. На бледном зелено-желтом фоне четко вырисовывалось синее пятно. Во все стороны от него, словно корешки, расходились отростки, которые разветвлялись снова и снова, в конце концов превращаясь в бесчисленные красные нити, тонкие, как волос, и даже тоньше.
— Это одна клетка головного мозга, — пояснил Мюллер. — А это — он показал на отростки и нити — то, чем она связана с другими клетками. Как вы понимаете, система связей большого количества таких клеток по необходимости должна быть невероятно сложной. Другие клетки не окрашены, но у всех у них есть похожие связи. Это и есть интеллект — вот такие связи.
Хичкок сдвинул брови. Какая-то абракадабра!
— Повторите еще раз, — распорядился он.
— Ну, скажем так, — начал Мюллер. — Интеллект зависит от большого числа отдельных клеток, объединяющихся в сложную коммуникационную сеть — огромное число связей и огромное число контактов. Чем вы сообразительнее, тем, значит, больше число взаимоперекрещивающихся связей, которыми вы обладаете, и наоборот. Другими словами, есть два способа обрести сообразительность — при условии, конечно, что вы уже обзавелись достаточно вместительной черепной коробкой. Или вы можете обходиться клетками нормальной величины и развить максимальное количество таких вот связующих нитей, или же число ваших клеток начнет возрастать за счет того, что они будут становиться мельче нормальных. Ну, а теперь взгляните на то, что мы имеем здесь.
Он положил палец на фотографию среза головного мозга человека.
— Клетки нормальной величины и целая паутина связей.
Он сдвинул палец на срезы мозга обыкновенного шаркуна.
— Эта зверюга умом не отличалась. Клетки имеют почти ту же величину — фотографии выполнены в одном масштабе, — а вот связей между ними заметно меньше.
Камера Хичкока неотступно следовала за пальцем Мюллера: Хичкок добросовестно убеждался, что все обстоит именно так, как говорит Мюллер. А тот уже взял фотографии мозга трех сообразительных шаркунов.
— Теперь поглядите на эти клетки, — сказал Мюллер.
Они были гораздо мельче, более чем вдвое мельче клеток мозга обычного шаркуна, но от них во все стороны тянулись связующие нити, бесконечно разветвляясь и истончаясь. Вот это действительно была паутина!
Хичкок даже ахнул. Ведь мозг, состоящий из подобных клеток, должен быть невиданно могучим.
Мюллер одобрительно улыбнулся.
— А вы быстро схватываете, что к чему, — заметил он.
— Так значит, они… Да это же великолепно! — ликующе воскликнул Хичкок.
Вот оно — искомое доказательство. Как он и предполагал, ему бессовестно лгали, уверяя, будто шаркуны — тупые животные, лишенные даже проблеска разума. И вот теперь у него есть неопровержимое доказательство, что шаркуны — разумные существа, а потому должны пользоваться всеми правами и привилегиями, какие положены разумным существам.
Внезапно ему в голову пришла тревожная мысль, пробудившая опасливые сомнения.
— Но каким образом… каким образом вы получили эти… эти замечательные образчики?
Мюллер хмыкнул.
— А вы как думаете? Или вы воображаете, что мы позволим им разгуливать на свободе, а?
Хичкок пришел в ужас.
— Вы их убили!
— Само собой, — ответил Мюллер. — Ну, и что тут такого? Они ведь животные, и ничего больше.
Интерлюдия
Кусок льда, обрушившийся на зверушку, совсем ее раздавил, однако едва Кош-коррозеск сдвинул его, упругие косточки почти вернулись в прежнее свое положение, и Кош-коррозеск увидел, как она выглядела, пока еще жила.
И Кош-коррозеск удивился. Ему еще никогда не попадались такие зверушки. Он оторвал заднюю ногу. Укрывшись от ветра в расселине под низко нависшим выступом скалы, он быстро съел ее вместе с костью. Потом оторвал и съел другую заднюю ногу.
Терзавший его голод немного утих, и вместо того, чтобы сунуть остальную тушку в рот, он принялся внимательно ее рассматривать. До сих пор он был уверен, что знает все живые существа, населяющие мир, — их вид, их повадки, их хитрости, их вкус. Но такую зверушку он видел впервые.
Кош- коррозеск начал думать.
В расселину ворвался ледяной ветер и взъерошил его шерсть. Но он ничего не заметил. Он думал, старался понять. Как случилось, что в мире жила зверушка, а он до сих пор ни разу ее не видел? Ему впервые попалось животное, которого он не знал, то есть впервые с того времени, когда он был детенышем и только-только покинул сумку своего родителя. Из расселины, которая узкой белой полоской уходила вверх, в горы, Кош-коррозеск оглядывал распростертый внизу мир. Белая одинаковая земля раскинулась на семь сторон, а горы, замыкавшие ее, были могучими, крутыми и черными там, где кончалась белая земля. А впереди, на середине земли, где не полагалось быть горам, поднимался к небу одинокий пик со срезанной плоской вершиной. Может быть, одно из чудовищ, притаившихся под землей, замерзло в ту минуту, когда уже почти вырвалось на свободу.
Кош- коррозеск знал все уголки мира, прошел его холодную белую землю вдоль и поперек, обследовал все полоски земли, которые уводили в горы, и побывал у самого их конца, где путь ему загородили обрывы. И он добрался почти до самой вершины одинокого пика на середине мира. Он соскребал чешуйки еды со скал на том склоне, на котором почти не бывало ветра.
Он узнал, где в мире есть пища и где ее нет. Он научился находить пищу, ловить ее ловушками, выслеживать, убивать. Он знал все, что нужно было знать о мире и о живущих в нем существах.
…Кроме вот этой зверушки — ее убил кусок льда, который он поставил на другой кусок. Кош-коррозеск оторвал заднюю половину тушки и медленно съел ее. Было приятно ощущать во рту пищу. Он чувствовал, что ему хорошо — что он ест. Лучше этого чувства — очень редкого чувства — не было ничего. Кош-коррозеск за всю жизнь ни разу полностью не утолил свой вечный голод.
Но и наслаждаясь пищей, он все-таки продолжал думать о том, что никогда прежде такие зверушки ему не попадались. Добыча была уже почти съедена, и только тут пришла догадка.
Догадка странная… странная и пугающая. Но Кош-коррозеск весь встрепенулся, и пока он доедал добычу, лапы его подрагивали от волнения. Он доедал не торопясь, смакуя удовольствие от еды, радуясь своей догадке, дивясь ей.
Может быть, за краем мира есть что то еще? Может быть, неизвестная зверушка пришла оттуда?
Здесь, в этом мире, жизнь была трудной. Все живые существа голодали и умирали от голода. Жизнь заключалась в том, чтобы разыскивать пищу, ставить ловушки, а голод грызет нутро и подгоняет, подгоняет, не зная утоления.
Кончив есть, Кош-коррозеск снова установил кусок льда так, чтобы он сразу упал, если кто-то схватит приманку — смешанную со снегом бирюзовую кровь, которая накапала из его пасти, пока он ел. Он не думал, что вернется на это место. Но если все-таки вернется, а кусок льда убьет какое-нибудь животное, быть может, эта добыча продлит ему жизнь.
Соорудив ловушку, он ушел. Но не вниз, а вверх, туда, куда вела белая полоска земли — в горы, к самому краю мира. Если зверушка пришла оттуда, то, может быть, ему удастся уйти за край мира.
Жизнь — это поиски пищи. Кош-коррозеск медленно карабкался все выше, туда, где вставал край мира.
5
Через тридцать два часа грузовой космолет покинет эту омерзительную планету и возьмет курс на Лямбду Змееносца — одной этой мысли было достаточно, чтобы Адам Хичкок пришел в самое приятное расположение духа.
Он думал об отъезде с радостью. Станция казалась ему тюрьмой. Снаружи завывает ледяной ветер, холодные волны с ревом накатываются на скалистые берега острова, а внутри некуда деваться от ручных шаркунов — безмозглые тупые твари! И сколько еще можно терпеть отсутствие даже элементарного комфорта? А кормят тут! Нет, эти примитивные первые и вторые блюда не для цивилизованного человека, постигшего все тонкости современной кухни.
Он мужественно выносил эти тяжкие испытания, но теперь настало время возвратиться к благам цивилизации.
Тем более что жертвовал он своими удобствами не зря: его миссия увенчалась успехом. Он ознакомился с фактами, он узнал правду. Теперь остается только вернуться домой и довести эту правду до сведения широкой публики. А уж тогда коренные жители планеты наконец-то получат необходимую помощь, в которой им так долго и бессердечно отказывали.
И его Общество защиты гуманности, история которого не знает ни единого поражения, пожнет очередные заслуженные лавры. Да, он имеет полное право гордиться собой.
Но до отъезда остается выполнить еще один долг. Пустяк, в сущности. Простая формальность. Тем не менее он нравственно обязан предоставить этим ученым возможность устранить те вопиющие нарушения законов гуманности, которые он разоблачил. Они, конечно, откажутся — ничего другого он от них и не ждет, — но этот отказ лишит их права протестовать, когда он возбудит против них общественное негодование.
И Хичкок отправился в кабинет Бена Рийза. Рийз, копавшийся в бумагах, не сразу заметил его присутствие.
— Я справедливый человек, — провозгласил Хичкок.
Бен Рийз вздрогнул от неожиданности и поднял голову. Документы, требовавшие резолюции, подписи или просто проверки, окружали его точно крепостной вал.
— А разве я когда-нибудь это отрицал? — спросил он с простодушным недоумением.
Однако Хичкок неумолимо продолжал заранее заготовленную речь.
— У меня есть доказательства, — заявил он, — неопровержимые доказательства, что коренных обитателей этой планеты подвергают поистине преступному обращению, что их ввергли в рабство, что они не получают никакой помощи для удовлетворения самых насущных своих нужд и потребностей и что ваши подчиненные доводят их до смерти в буквальном смысле слова. Тем не менее я обязан открыто предупредить вас, что считаю своим нравственным долгом предать все эти прискорбные факты гласности, если только вы не примете немедленных мер для исправления существующего положения. В случае вашего отказа я снимаю с себя всякую ответственность за последствия, которыми чреваты публичные разоблачения, на которые вы меня вынуждаете.
Рийз покорно выслушал его до конца.
— Мы ведь ведем тут научные исследования, — виновато объяснил он. — Вопросы материального обеспечения в нашу компетенцию не входят. Выполнение ваших требований означает… полный конец всего, ради чего мы работали, на что надеялись.
Уловки, уловки! Хичкок ничего другого и не ожидал. Он знал, что никакому ученому не удастся его провести.
— Все, ради чего вы работали! — повторил он со жгучей насмешкой в голосе. — Преднамеренное низведение до уровня рабов коренного населения планеты, которое заслуживает всех человеческих прав и привилегий не менее, чем вы или я! Моя совесть требует, чтобы я положил конец такому неслыханному произволу! И я…
Рийз умоляюще поднял руку.
— Но это же неправда, — возразил он, словно испытывая большую внутреннюю неловкость. — Вы забываете, мистер Хичкок… Они — животные, а не люди. Они не обладают сознанием. Способностью мыслить.
— Это ложь! — произнес Хичкок тоном прокурора. — У меня есть неопровержимые доказательства того, что их сознание развито даже более, чем у людей. У всех людей. Я утверждаю, что вы преднамеренно чините им всяческие помехи, потому что опасаетесь вершин, которых они могут достичь в своем развитии.
Рийз беспомощно пожал плечами.
— Я не понимаю, о каких доказательствах вы говорите.
— Новая ложь! — крикнул Хичкок, потрясая кулаками. — Неужели вы думаете, что я поверю, будто вы не осведомлены о доказательствах, которые собрал один из ваших же собственных подчиненных? Какая нелепость!
— Тем не менее я ничего об этом не знаю, — настаивал Рийз, и Хичкоку почудилось, что он говорит искренне. — Какие доказательства? Где вы их обнаружили?
— Ваш подчиненный — тот, который проводит проверки на интеллект, — продемонстрировал мне кое-какие свои результаты, — снизошел до объяснения Хичкок. — И фотографии клеток мозга. Все это неопровержимо доказывает, что шаркуны…что коренные обитатели планеты обладают сознанием, которое ничуть не уступает вашему или моему.
Бен Рийз был оглушен.
— Я впервые об этом слышу, — пробормотал он. — Вы… вы уверены, что ваши доказательства действительно что-то доказывают? То есть, я хочу сказать, может быть, вы не поняли…
— Да, я, безусловно, не понял бы, — ответил Хичкок, — если бы доктор Мюллер не объяснил мне, как следует истолковывать его таблицы и фотографии.
Рийз помотал головой.
— Просто не верится, — признался он. — А доктор Мюллер не сказал вам, почему он счел нужным ознакомить вас со своими выводами?
— Он ознакомил меня с ними потому, что я его об этом попросил, — объяснил Хичкок. — Он был очень предупредителен, несмотря на полное свое презрение к ним… которого даже не пытался скрывать. Он сказал, то есть совершенно недвусмысленно дал понять, что вы прилагаете все усилия, чтобы подавить их и уничтожить. Он говорил об этом с гордостью!
Рийз тревожно хмурился. Его пальцы нервно рвали на мелкие клочки плотный лист бумаги, и на столе перед ним, хотя он этого не замечал, уже выросла порядочная кучка крохотных обрывков.
Хичкок упивался своим торжеством. Он-таки загнал этого субъекта в угол!
Оставалось только встать, повторить ультиматум и выйти из кабинета победителем, но тут Рийз повернулся к телефону на столе со словами:
— Будьте добры, подождите минутку.
Не дожидаясь ответа, он набрал номер. Лампочка на аппарате замигала, и раздался резкий голос:
— Отделение мозга. Мюллер у телефона.
— Сигурд? — спросил Рийз. — Это Бен. Зайдите ко мне, пожалуйста. Случилось нечто непредвиденное.
— Вот как? Что именно?
— Мне не хотелось бы объяснять по телефону, — мягко сказал Рийз. — Вопрос довольно сложный.
Мюллер раздраженно хмыкнул, но сказал:
— Сейчас приду.
Лампочка погасла.
Рийз снова повернулся к Хичкоку.
— Подождем его, — попросил он. — Хорошо?
Хичкок неохотно опустился в кресло и скрестил руки на груди. Он ждал, сердито насупив брови.
К этому он не был готов.
А впрочем, какая разница? Рийз попал в безвыходное положение. Ему остается только одно — подыскивать себе оправдания и извинения.
Хичкок небрежно откинулся на спинку кресла. Он был тверд и спокоен. Пусть-ка попробует найти хоть одно смягчающее обстоятельство. Пусть попробует!
Нет у него никаких оправданий и быть не может.
6
Бен Рийз был очень встревожен. Адам Хичкок — донкихотствующий дурак и неспособен разобраться в самых простых еещах. Но одно ясно — Сигурд что-то ему показал. Как бы это ни произошло, какими бы объяснениями ни сопровождалось, Хичкок действительно что-то видел. Но что же, что? Бен Рийз тщетно искал ответа на свой вопрос. Делать нечего, надо ждать, пока не придет Сигурд Мюллер.
Он нагнулся над бумагами, делая вид, будто просматривает их. Ему не хотелось разговаривать с Хичкоком до прихода Мюллера. Но он был не в состоянии сосредоточиться. До того, как «Скиталец» отправится к Лямбде Змееносца, оставалось сделать еще очень много, но мысли его были заняты только Мюллером — пока недоразумение не разъяснится, он не мог думать ни о чем другом.
Наконец в кабинет, воинственно выставив вперед мефистофельскую бородку, вошел Мюллер. Он стрельнул взглядом по сторонам, увидел Хичкока, но и бровью не повел.
— Ну, так что же? — спросил он небрежно, схватил стул, повернул его спинкой вперед и уселся на него верхом.
Рийз отложил бумаги.
— Мистер Хичкок сообщил мне, что шаркуны обладают разумом, — сказал он. — И сослался на вас.
Мюллер посмотрел на Хичкока, затем снова перевел взгляд на Рийза.
— А, вон оно что! — протянул он неопределенно.
— Я впервые слышу об этом, — жестко сказал Рийз.
Мюллер пожал плечами.
— Ну, а я тут при чем? — огрызнулся он. — Если бы вы заглядывали в мои отчеты… — он указал на бумаги, загромождавшие стол.
— Я читал ваши отчеты, — сказал Рийз. — Внимательно и не один раз. Ни о чем подобном вы в них не сообщали.
— Да? — вызывающе бросил Мюллер. — Вы кому это говорите — мне или ему? — он ткнул пальцем в сторону Хичкока.
Рийз не позволил себе отклониться от темы.
— Так вы подтверждаете это? — спросил он.
Мюллер снова взглянул на Хичкока.
— Ну, подтверждаю, — буркнул он. — За последние два года попалось несколько смышленых.
Значит, это правда! Рийз готов был кричать от волнения.
— Сколько? — спросил он, с трудом сдерживаясь.
— Три экземпляра, — Мюллер поднял три пальца. — Три таких смышленых экземплярчика, что жутко становится. И все из одного места. Их там еще много таких бегает на свободе.
— Вы уверены? — Рийз боялся поверить собственным ушам.
— Уверен! — угрюмо сказал Мюллер. — Численность тамошней популяции резко возросла, хотя условия жизни остались прежними. Как еще вы это объясните?
Рийз наклонил голову и глубоко вздохнул. Да, безусловно, вывод напрашивается сам собой. Он поглядел на Хичкока.
— Это он вам и сказал?
— В общих чертах — да, — подтвердил Хичкок.
Рийз снова повернулся к Мюллеру. В нем вдруг проснулось подозрение — мерзкое, страшное. Надо спросить, и оно рассеется… Или подтвердится.
— Он сказал, что вы показывали ему таблицы испытаний, — начал он осторожно. — И фотографии срезов мозга. Подлинные?
— Конечно, подлинные, а какие же еще? — окрысился Мюллер. — Или я, по-вашему, способен пойти на такую подделку? Ну, послушайте! Я ведь просто водил его по лабораториям, объяснял, как мы работаем, отвечал на вопросы и показывал все, что ему хотелось увидеть. У вас есть какие-нибудь возражения?
Рийз покачал головой.
— Против того, что вы перечислили? Никаких. Но эти срезы… Полагаю, вы брали их из разных отделов мозга?
— Меня не нужно учить, как полагается делать срезы! — вызывающе ответил Мюллер.
Рийз вдруг почувствовал себя старым и больным.
Он уже больше не сомневался.
— Вы их убили, — сказал он. — Всех трех.
— Да, — отрезал Мюллер. Он улыбнулся, не разжимая губ, полный высокомерной гордости.
— Сигурд, — тоскливо сказал Рийз. — Вы поступили чудовищно. — Он вновь повернулся к Хичкоку. — Не скрою, мне очень жаль, что это выяснилось во время вашего визита, — признался он. — Но могу лишь повторить, что я услышал про этих трех только теперь и что Сигурд убил их без моего ведома. Если бы я знал про них, то помешал бы ему. Он не посчитался ни с нашими правилами, ни с нашей основной целью. Я благодарен вам за то, что вы его разоблачили.
Мюллер вскочил как ужаленный, сжимая кулаки.
— Разоблачили! — крикнул он. — Ах ты, сморчок.
Рийз сказал, не повышая голоса (это стоило ему огромного усилия):
— Идите, Сигурд. Я… я рекомендую вам заняться приготовлениями к отъезду. В вашем распоряжении… — он поглядел на часы, — сутки с четвертью. Если кто-нибудь спросит, скажите, что вы подали заявление об уходе и что я его принял.
Мюллер побагровел от ярости. Он отшвырнул стул и угрожающе шагнул вперед. Его колено ударилось о письменный стол, но он словно не заметил этого и злобно процедил сквозь зубы:
— Хотите сделать из меня козла отпущения? Не выйдет! Есть еще вон этот, — он ткнул пальцем в сторону Хичкока. — Ему вы рта не зажмете. Или вы думаете, что достаточно будет погладить его по головке и попросить быть умницей?
Рийз посмотрел на Хичкока. Лицо с худыми обвислыми щеками выражало только твердую решимость, глаза горели фанатическим огнем. Заметив взгляд Рийза, Хичкок неторопливо поднялся на ноги — костлявая, облаченная в черное фигура, воплощение самодовольной важности.
— Вы очень хитры, мистер Рийз, — сказал он со злорадным торжеством. — Но никакая хитрость вам не поможет. Не будете же вы отрицать того, что я видел собственными глазами. И переложить ответственность на ваших подчиненных вам тоже не удастся. То, что сделал этот человек, — он указал на Мюллера, — не имеет никакого отношения к самому главному, к тому, что нужды коренных жителей этой планеты сознательно и преступно игнорировались, а вы не пожелали принять необходимые меры, чтобы исправить положение. Если эти меры не будут приняты немедленно, я обличу вас перед всем цивилизованным обществом галактики!
— Но вы же не понимаете… — попытался возразить Рийз.
— Я еще не кончил, — грозно оборвал его Хичкок. — Далее: если вы тем не менее откажетесь, мы — я и мое Общество защиты гуманности — займемся этим сами. Мы проведем благотворительную подписку. Мы пришлем сюда продовольствие, теплую одежду — ну, словом, все, в чем нуждаются эти бедняги. Столько тонн, сколько потребуется. И мы позаботимся, чтобы вас и этих ваших ученых убрали с планеты. Широкая публика не потерпит, чтобы вы оставались тут.
— А вы отдаете себе отчет, в какие суммы это обойдется? — растерянно спросил Рийз.
— Это не имеет ни малейшего значения, — отмахнулся Хичкок. — Кто же станет скупиться, когда речь идет о бескорыстной защите гуманности!
Рийз не нашел, что возразить. В нем крепло безнадежное сознание, что перед этим человеком он бессилен. Он чувствовал, как оно парализует его волю, и вдруг пожалел, что не может, точно слабонервная женщина или ребенок, найти облегчение в слезах.
— Вы ведь уже проводили такие кампании, — сказал он с горечью, припомнив все, что ему было известно о деятельности Хичкока на других планетах.
— Да, проводил! — провозгласил Хичкок. — И с неизменным успехом, — он сделал паузу, ожидая возражений, но Рийз молчал. — Ну, если вам нечего больше сказать…
С этими словами Хичкок направился к двери.
Рийз в полном отчаянии сказал ему вслед:
— Только одно! — В голосе его была твердость, которой он вовсе не чувствовал. Хичкок обернулся к нему, и он продолжал, постукивая пальцем по столу. — Из слов Сигурда следует, что у некоторых шаркунов началось развитие сознания, — он говорил медленно и внятно. — Но лишь у некоторых, а не у всех. Собственно говоря, если взять всю популяцию планеты в целом, таких наберется сейчас лишь доля процента, остальные же по-прежнему остаются животными.
На Хичкока это не произвело ни малейшего впечатления.
— В нашей помощи они нуждаются все, — заявил он. — Мы не можем и не станем оказывать ее одним и отказывать в ней остальным, какие бы критерии вы нам ни предлагали. Это немыслимо, немыслимо!
— Я имел в виду совсем другое, — с неистощимым терпением втолковывал Рийз. — Дело в том, что… что шаркуны сейчас достигли стадии перехода. Пока скачок в развитии сознания произошел лишь у некоторых, у ничтожной горсточки. Но со временем все они должны стать разумными существами, потому что… потому что они живут в тяжелейших условиях, а разум обеспечивает больше возможностей для выживания… об этом как раз и свидетельствует рост популяции, про который говорил Сигурд. В результате среди особей, достигших зрелости, доля обладающих разумом всегда будет относительно больше. И жить они будут дольше, чем… чем обычные особи, а значит, и давать больше потомства. Таков механизм естественного отбора, и тут он предстает перед нами почти в чистом виде. Но если мы примемся их опекать, ничего этого не произойдет.
— Что? — возмутился Хичкок. Какая глупость!
— Нет, это… это правда, — заверил его Рийз. — Видите ли, если мы обеспечим их всем необходимым, у особей с развивающимся сознанием не будет никаких преимуществ перед обычными. Их шансы во всех отношениях уравняются. А обычных настолько больше, что через несколько поколений разумные растворятся в них, даже если комбинация генов, которая определяет развитие интеллекта, является доминантной. Дальнейшей их эволюции будет положен конец.
Хичкок, казалось, задумался, но его лицо по-прежнему выражало только самодовольное упрямство.
Рийз уныло пришел к выводу, что этот человек так ничего и не понял.
Наконец Хичкок прервал молчание.
— Неужели я не ошибаюсь и вы действительно хотите, чтобы коренные обитатели этой планеты страдали? Постоянно голодали? Погибали? Дрались друг с другом из-за жалких объедков? Вам это нужно? Так или не так?
Нет, кое-что он все-таки понял, тоскливо подумал Рийз. Темную сторону, присущую эволюционному процессу. Темную, но неизбежную.
— Да, я считаю, что все это необходимо, — вынужден был он признать. — Я убежден, что иначе шаркуны остановятся в своем развитии. Ведь и нашим собственным предкам пришлось пройти через нечто подобное, в противном случае мы до сих пор оставались бы лишенными разума животными.
— Чепуха! — крикнул Хичкок. — Тот факт, что нашим предкам никто не помогал, не имеет никакого отношения к сути дела. Они в любом случае стали бы людьми. Таково было их предназначение — стать людьми. Таково же предназначение и здешних несчастных обитателей. И помешать им невозможно. У человека нет власти изменить предначертание судеб. Эти существа страдают и гибнут, потому что вы сознательно игнорируете их нужды. В вашем распоряжении есть все средства, чтобы оградить их от страданий, и этого требует ваш нравственный долг. Презреть его, значит растоптать идею гуманности.
Рийз сидел неподвижно. Его давило безнадежное ощущение собственной беспомощности.
— Мне кажется… — сказал он глухо. — Мне кажется, я понимаю, почему Сигурд с такой охотой сообщил вам результаты своих исследований. Он хочет положить конец их развитию. Я не ошибся, Сигурд?
— Да, хочу! — буркнул Мюллер. — Нам бы не миндальничать нужно, а принять меры, пока еще не поздно. Вы же наблюдали, как ведут себя дикие — кровожадное зверье. Только и ждут случая разорвать человека в клочки и сожрать.
— С другой стороны, — задумчиво перебил его Рийз, — ручные, которые живут на станции, смирны и послушны.
Мюллер только презрительно махнул рукой.
— Эти не в счет, — заявил он. — Эволюционный тупик, и больше ничего. Опасны те, которые живут на материке. Если мы допустим, чтобы они поумнели, то их уже не остановить. Они нас истребят. Это мы окажемся на положении животных. Если мы не остановим их теперь, они вышвырнут нас из галактики. Пока еще у нас есть возможность их остановить, но потом будет поздно. Значит, надо браться за дело, не откладывая. Сейчас.
Он же действительно верит в то, что говорит, с изумлением подумал Рийз.
— Нет, Сигурд, я не согласен с вами, — сказал он, отчетливо произнося каждое слово и стараясь, чтобы голос его звучал спокойно и убедительно. — Вспомните хотя бы эксперимент, который мы провели лет двадцать назад, когда несколько детенышей диких шаркунов были помещены на станции к ручным и выросли среди них. Ни у одного в поведении не проявилось то… та черта их родителей, которую вы называете кровожадностью. Вот почему я убежден, что эта… эта свирепость — вовсе не наследственное свойство, а порождается только воздействием внешних условий жизни.
— Да неужели? — насмешливо бросил Мюллер. — Но ведь те, кто уже научился думать, растут не на станции. Они растут там — на материке.
Рийз кивнул.
— Совершенно справедливо, — сказал он. — Но прежде, чем они смогут стать опасными для нас, им еще надо будет создать цивилизацию, техническую культуру. А высокоразвитая цивилизация по самой своей сути подразумевает способность ее создателей воздействовать на среду обитания. Устранив же причины, порождающие свирепость, они устранят и биологическую потребность в свирепости. Заметьте, кроме того, что прежде их свирепость была обращена и на себе подобных — вплоть до каннибализма. Но в последнее время, насколько мне известно, некоторые из них начали охотиться группами. Они обнаружили преимущества, заложенные в сотрудничестве. Не кажется ли вам, Сигурд, что это путь развития, который… который в конечном счете исключает врожденную свирепость? Неужели вы будете спорить?
— И вы считаете, что такой риск оправдан? — вызывающе спросил Мюллер в свою очередь.
— Иного выхода, совместимого с требованиями элементарной этики, у нас нет, — твердо сказал Рийз.
— Пф! — фыркнул Мюллер. — А как, по-вашему, они будут относиться к нам, когда поумнеют и сообразят, что мы посиживаем тут сложа руки и не желаем палец о палец ударить, чтобы им помочь? Да они нас возненавидят. И как еще возненавидят!
Рийз покачал головой, но ответил не сразу.
— Нет, Сигурд, — сказал он наконец. — Переход будет очень медленным и постепенным. С какого-то момента им уже можно будет оказывать помощь… причем задолго до того, как их развитие достигнет той ступени, на которой они могли бы представлять опасность для нас. Да и вообще, если их интеллект действительно станет таким могучим, как вы предсказываете, они, несомненно, поймут, что так и остались бы животными, если бы мы поторопились со своей помощью.
Мюллер злобно крякнул.
— Это все умствования, — сказал он. — Ну, а предположим, что вы ошибаетесь? Ведь вы же говорите сейчас о будущем всего человечества. Поймите, речь идет о нас с вами!
Рийз кивнул.
— Я знаю, — сказал он невозмутимо. — И отдаю себе отчет в том, что последствия наших нынешних действий и решений станут явными лишь через несколько тысячелетий. А тогда, полагаю, мы с вами будем основательно забыты. Вот почему так тяжела лежащая на нас ответственность. Мы обязаны выбрать правильный путь.
— И на таком-то основании вы отказываете им в помощи? — саркастически осведомился Хичкок. — Мистер Рийз, ни разу в жизни мне не доводилось слышать ничего более…
Итак, все его доводы, все попытки объяснить, убедить оказались тщетными. Рийз съежился в кресле, крепко вцепившись в подлокотники. Что делать? Что делать? Точно рассчитанная мюллеровская полуправда, тупое упрямство Хичкока — против такого сочетания он бессилен. Он исчерпал все средства, которые были в его распоряжении. И потерпел неудачу. Его душила горечь поражения. Ему было невыносимо жаль всех тех разумных шаркунов, которые теперь уже никогда не появятся на свет.
Это несправедливо. Несправедливо!
Однако вслух он ничего не сказал. Что толку говорить о справедливости с этой парой? И более того: абстрактная справедливость — это идеал, и он не имеет права требовать ее от реального мира.
Да, конечно, это несправедливо. Но ведь в реальном мире справедливости в чистом виде и не может быть, ибо реальный мир подчиняется физическим законам, а не понятиям о порядочности и честной игре. Смириться с этой мыслью было нелегко, но Бен Рийз смирился. Как ученый он не мог не признать очевидности, хотя все его чувства восставали против нее.
А признав, вдруг понял, что нашел выход — нашел средство оградить шаркунов и от Хичкока и от Мюллера.
Он повернулся к телефону.
— Вы мне позволите? — спросил он вежливо и начал набирать номер прежде, чем Хичкок и Мюллер успели утвердительно кивнуть. Его пальцы дрожали.
— Клиника слушает, — произнес голос в трубке.
— Ник? — вопросительно сказал Рийз. — Говорит Бен. Вы не пришлете ко мне парочку ваших ребят?
— Пожалуйста, — ответил невидимый Ник. — Но для…
— Неважно, — быстро перебил Рийз. — Только поскорее! — и он отключил телефон.
— В чем дело? — спросил Мюллер. — Вам нехорошо?
Рийз пропустил его вопрос мимо ушей.
— Я передумал, Сигурд, — сказал он. — Можете остаться на станции.
Мюллер даже попятился.
— Не знаю, стоит ли, — сказал он, настороженно теребя бородку. — Я ведь пробыл тут много дольше обычного срока…
— Но, Сигурд, вы нужны нам, — настаивал Рийз. — Останьтесь хотя бы еще на год. Те сведения, которые вы скрывали…
— Все материалы у меня в полном порядке, — перебил Мюллер. — Если вам так нужна эта информация, вы найдете ее там, а мне уже пора укладываться, — и мгновение спустя он исчез за дверью.
Рийз улыбнулся безмятежной улыбкой.
— На космолете для него не найдется места, — сообщил он в пространство, затем переменил тон и добавил: — Что же касается вас, мистер Хичкок… Может быть, вы сядете? Мне надо сказать вам еще кое-что.
Хичкок, поколебавшись, опустился в кресло.
— Пусть ни у кого не будет права утверждать, что я отказался выслушать хотя бы один довод, — торжественно объявил он.
Рийз удовлетворенно кивнул. Все еще можно поправить, только бы задержать Хичкока здесь, пока не явятся помощники Ника.
— Мистер Хичкок, — начал он, — в определенном смысле я очень рад, что вы нас посетили.
Хичкок сдвинул брови.
— Ну, хотя бы то, что без вас… мы бы, возможно, еще долго не знали о появлении разумных шаркунов. Если бы вы не приехали, Сигурд мог бы держать свои результаты в тайне еще многие годы. Ну, конечно, Сигурд рассчитывал, что вы поможете ему… покончить с разумными особями, но дело не в этом.
— Мистер Рийз, — строго сказал Хичкок, — вам никогда не удастся убедить меня, что черное — это белое.
— Ну, разумеется, — охотно согласился Рийз. — Но ведь существуют сотни серых оттенков. Однако я рад вашему приезду и по другой причине… — он говорил искренне. — Вы принудили меня критически оценить нашу деятельность тут… усомниться, правильно ли мы поступаем, ничем не облегчая условий, в которых живут шаркуны. Ведь очень нелегко определить, что оправданно, а что нет.
— А, так вы признаете это! — торжествующа вскричал Хичкок. — Вы признаете…
Рийз жестом прервал его.
— Нет, — сказал он твердо. — Я этого не признаю. Я сохраняю свою прежнюю точку зрения. Но теперь… благодаря вам… я понял, почему мы поступаем правильно.
— Чепуха! — возразил Хичкок. — То, что негуманно, не может быть правильным.
Бен Рийз вновь приступил к терпеливым объяснениям. У него были все основания сохранять терпение — это помогало тянуть время.
— Ваши нравственные принципы выше всяких похвал, мистер Хичкок, — сказал он. — Я первый готов признать это. Но к несчастью… одних нравственных принципов тут мало. Видите ли, природа не признает нравственных категорий, она не подчиняется нашим понятиям о правильном и неправильном, справедливом и несправедливом и не исчерпывается ситуациями, когда можно мгновенно решить, что хорошо, а что дурно. Бывают ситуации, когда поступок, казалось бы, продиктованный самыми нравственными соображениями, может привести к… к самым ужасным последствиям. Нельзя судить о том, что с нравственной точки зрения хорошо, а что дурно, если при этом не учитывать всей совокупности факторов и обстоятельств. И вот тут-то, мистер Хичкок, ваше нравственное чувство вас подводит.
— Мне не требуется помощь ученого, чтобы определить, что хорошо, а что дурно, — отрезал Хичкок.
Рийз вежливо кивнул.
— Я ждал, что вы это скажете, — признался он. — Но вы ошибаетесь; до тех пор, пока вам не известно, к чему в конечном счете приведет данный поступок, вы не можете решать, хорош он или дурен. В определенных же ситуациях, например в такой, какая сложилась здесь, человек без специальной подготовки вроде вас попросту не способен понять суть происходящего. А раз так, то вы неспособны и предсказать последствия тех или иных действий, и значит, у вас нет возможности определить, правильны они или неправильны.
— Вы ошибаетесь, — упрямо сказал Хичкок. — Цель никогда не оправдывает средства. Ни-ког-да!
Рийз не стал возражать. Он продолжал, словно рассуждая вслух:
— С другой стороны, порой это остается единственным критерием — когда любая система действий кажется равно неправильной. Но даже в тех случаях, когда то, что вы намерены сделать, выглядит безупречным с нравственной точки зрения, все же необходимо взвесить все последствия. Если результат поступка будет плох, значит, и сам поступок нельзя считать хорошим. Или, предположим… имеется конечная цель — безусловно нравственная, но осуществить ее можно только с помощью средств, которые как будто идут в разрез с требованиями этики.
Хичкок смотрел на него в полном недоумении.
— Подобная ситуация вообще невозможна, — возразил он.
— Я говорю о совершенно конкретной ситуации, — твердо сказал Рийз. — О той, которая существует здесь. С самого начала работы станции мы стояли перед дилеммой: помочь ли шаркунам… обеспечить ли им сытую и спокойную жизнь и тем самым навсегда уничтожить надежду, что когда-нибудь они перестанут быть животными… или же предоставить природе делать свое дело, не препятствовать тому, чтобы многие погибали и все страдали, но не препятствовать в расчете на то, что со временем их потомки станут разумными существами, как мы.
Он выразительно пожал плечами.
— У нас есть только один выход: мы должны сопоставить то зло, которое причиняем своим бездействием, с целью, к которой нравственно обязаны стремиться. Мы должны делать свое дело и… не позволять, чтобы угрызения совести мешали нам.
— Действие, которое требует оправданий, — заявил Хичкок, — уже неверно. Добро не может порождаться злом.
Рийз развел руками.
— Мы должны делать то, что считаем правильным, — сказал он убежденно. — И если наши обдуманные оценки расходятся с чьими-то другими, нам остается только полагаться на собственное суждение. Ведь…
Он умолк, потому что дверь вдруг распахнулась.
В нее вошли два шаркуна с каталкой. У обоих на мохнатой груди был нарисован большой красный крест.
Рийз указал на Хичкока.
— Этот человек болен, — произнес он отчетливо.
Шаркуны двинулись к Хичкоку, шурша по полу широкими упругими ластами. Хичкок, ошеломленный неожиданным заявлением Рийза, ударил себя кулаком в грудь и крикнул:
— Я болен? Да ничего подо…
Шаркуны подошли к нему с двух сторон и ухватили за локти. Хичкок ойкнул, повернул голову и увидел прямо перед собой страшную морду с выпученными глазами, которые, казалось, смотрели на него с деловитой заботливостью.
Испустив придушенный вопль, он рванулся из кресла головой вперед, однако шаркуны не дали ему упасть. Хичкок отчаянно отбивался, но они продолжали держать его бережно, но крепко. Тогда он начал пинать их, а они приподняли его и повлекли к каталке спиной вперед. Он беспомощно взбрыкивал ногами.
— Прикажите им отпустить меня! — кричал он. — Прикажите этим мерзким тварям отпустить меня!
Рийз облегченно откинулся на спинку кресла. Ему было неприятно, что его вынудили прибегнуть к таким мерам, и тем не менее он испытывал что-то вроде злорадного удовольствия.
Конечно, будь Хичкок и правда хорошим человеком…
— Боюсь, от меня ничто не зависит, — извинился он. — Они выдрессированы доставлять больных в клинику. Я не мог бы остановить их теперь, даже если бы хотел, — он беспомощно развел руками. — Как я уже вам говорил, они не слишком сообразительны.
Один из шаркунов обхватил Хичкока сзади обеими лапами, прижав его руки к бокам. Второй достал ампулу из кармашка, пришитого к его сбруе. Хичкок вне себя от ужаса уставился на сверкающий шприц.
— Не позволяйте ему! — просипел он. — Не позволяйте! Это убийство…
Шаркун закатал его рукав и ловко вонзил иглу в мясистое предплечье. Хичкок затрясся всем телом и повис на лапах державшего его шаркуна.
— Это всего лишь легонький транквилизатор, — весело успокоил его Рийз. — Разумеется, ничего опасного мы бы им не дали. Но вы слишком уж бурно сопротивлялись.
Хичкок все так же висел в объятиях шаркуна. Глаза у него остекленели. Шаркуны принялись завертывать его в одеяло. Хичкок шевелил губами, словно пытаясь что-то сказать, но у него ничего не получалось.
— Космолет отправится без вас, — сказал Бен Рийз. — Я очень сожалею об этом, так как вам придется провести на станции еще целый год, а это не такая уж приятная перспектива для нас всех. Им мы скажем… да, пожалуй, мы скажем, что вы прихворнули. Заразились… э… местной болезнью, распространение которой на другие планеты было бы нежелательно. Таких болезней, конечно, не существует, но какое это имеет значение?
Тон у него был виноватый.
Хичкок испускал нечленораздельные вопли, однако отдельные слова можно было разобрать: «Неслыханно!.. Беззаконие!.. Я обращусь в полицию, в суд!», а также выражения, весьма неожиданные в устах такого поборника нравственности.
Бен Рийз пожал плечами с извиняющимся видом.
— Боюсь, у нас тут нет ни суда, ни полиции. До вашего появления нужды в них как-то не возникало. Я… Мне очень неприятно, что пришлось прибегнуть к подобным мерам, но… Видите ли, совершенно необходимо, чтобы вы пока остались здесь. Если вы вернетесь на Землю сейчас, вы поднимете шум, потребуете, чтобы нашу станцию закрыли, а главное… главное, вы организуете эту вашу межзвездную кампанию помощи шаркунам, и они навсегда останутся только животными. Мы… мы не можем этого допустить.
К этому времени Хичкок был запеленут в одеяло, как мумия. Шаркуны осторожно уложили его на каталку.
— Вы еще поплатитесь! — свирепо пригрозил он.
Шаркуны быстро и умело затянули ремни каталки — их бессуставные пальцы были очень ловкими.
Хичкок мог теперь шевелить только головой и губами.
— Ну, конечно, больше чем на год мы вас задержать не сможем, — сказал Рийз, но в голосе его не было ни малейшего огорчения. — Однако за год много воды утечет. У нас будет достаточно времени, чтобы подготовить общественное мнение. Если мы сейчас же опубликуем всю правду, думаю, ваша версия ни на кого впечатления не произведет. Я отошлю со «Скитальцем» все необходимые материалы и инструкции в наш центр на Лямбде. Для начала достаточно сообщить, что шаркуны вступили в переходный период, а потом…
Он улыбнулся. На душе у него было удивительно легко. Да, конечно, с Хичкоком он обошелся не слишком этично — удар в спину, что ни говори. И все же даже сам Хичкок не мог бы отрицать, что поступок этот, принимая во внимание все обстоятельства, весьма и весьма нравствен.
Шаркуны покатили Хичкока к дверям: Хичкок вопил как безумный:
— Вы не можете так со мной обойтись! Не можете!
— Неужели? — простодушно спросил Бен Рийз.
Он не устоял перед искушением, хотя и понимал, что это не великодушно.
— Неужели, мистер Хичкок? — сказал он. — Так докажите это.
Эпилог
Процессия медленно двигалась мимо носилок с Усопшим, который стал безымянным в смерти, а прежде был их старейшиной. Поравнявшись с носилками, каждый припадал к земле в прощальном поклоне и шел дальше. Позади носилок стоял шаман. Его шерсть была выкрашена зеленой краской в знак того, что сейчас он — воплощение Усопшего. В ответ на каждый поклон он воздевал руки к небу.
Шокк- элорриск стоял в ногах носилок и тоже отвечал на каждый поклон, потому что теперь он был старейшиной вместо Усопшего. Он уже держал в руке камень, творящий орудия, и повторял нараспев вновь и вновь:
— Мои глаза найдут путь для твоих ног. Моя рука будет питать тебя и моя шерсть будет греть тебя. Я — это ты. Я отдаю себя тебе.
Так он говорил каждому, кто отдавал ему поклон, и каждый отвечал:
— Покажи мне путь.
Те, кто уже склонился перед Усопшим, выстраивались позади носилок. Наконец был отдан последний поклон, и три первых отпрыска Усопшего вышли вперед. Они подняли сплетенное из стеблей ложе, на котором покоился Усопщий. Шаман и Шокк-элорриск встали по его бокам, и все запели:
— Ты — это мы. Твои глаза видели путь. Твоя рука питала нас, и твоя шерсть грела наши тела. Мы благодарим тебя. Мы чтим тебя. Мы храним память о тебе. Мы возвращаем тебя тебе!
Шагая в такт песнопению, они приблизились к краю берегового обрыва. Там они остановились, и размеренный речитатив завершился криком:
— Мы изгоняем тебя!
Ложе с телом Усопшего скрылось в кипящих волнах. Сыновья Усопшего и шаман повернулись к Шокк-элорриску. Они склонились перед ним и сказали:
— Покажи нам путь.
Но Шокк-элорриск словно бы не слышал их и ничего не ответил. Он стоял на краю обрыва, ветер теребил его шерсть, а далеко внизу о скалы разбивались волны. Повернувшись лицом к морю, Шокк-элорриск поклонился богам, которые обитают на круглой горе, венчающей остров вон там, на горизонте, — богам, которые никогда не кочуют с места на место в поисках дичи, которые смотрят на людей со скалы, плывущей по воздуху, точно облако. Смотрят, но никогда не вмешиваются в то, что видят.
И склоняясь перед ними, Шоки-элорриск размышлял о том, почему они никогда не спускаются на землю и в чем источник их силы, и спрашивал себя, не могут ли он и его люди обрести такую силу, стать равными этим чужим и непонятным существам.
И тут он подумал: а может быть, они научат его? Он доберется до их горы там, в море, и, может быть, они научат его своему колдовству, откроют ему источник своей силы.
И он начал думать о том, как одолеть косматые волны, как вскарабкаться на отвесные обрывы острова, как подняться на вершину горы.
И размышляя об этом, Шокк-элорриск понял, каким будет его путь. И путь его людей.
Путь к величию. Путь к покорению природы.
Путь к ослепительному будущему.
Роберт Ф. Янг У начала времен
1
Карпентер не удивился, увидев стегозавра, стоящего под высоким гинкго. Но он не поверил своим глазам, увидев, что на дереве сидят двое детей. Он знал, что со стегозавром рано или поздно повстречается, но встретить мальчишку и девчонку он никак не ожидал. Ну, скажите на милость, откуда они могли взяться в верхнемеловом периоде?
Подавшись вперед в водительском сиденье своего трицератанка с автономным питанием, он подумал — может быть, они как-то связаны с той непонятной ископаемой находкой из другого времени, ради которой он был послан в век динозавров, чтобы выяснить, в чем дело? Правда, мисс Сэндз, его главная помощница, которая устанавливала по времяскопу время и место, ни слова не сказала ему про детишек, но это еще ничего не значило. Времяскопы показывают только самые общие очертания местности — с их помощью можно еще увидеть средней величины холм, но никаких мелких подробностей не разглядишь.
Стегозавр слегка толкнул ствол гинкго своей гороподобной задней частью. Дерево судорожно дернулось, и двое детей, которые сидели на ветке, чуть не свалились прямо на зубчатый гребень, проходивший по спине чудовища. Лица у них были такие же белые, как цепочка утесов, что виднелись вдали, за разбросанными там и сям по доисторической равнине магнолиями, дубами, рощицами ив, лавров и веерных пальм.
Карпентер выпрямился в своем сиденье.
— Вперед, Сэм, — сказал он трицератанку. — Давай-ка ему покажем!
Покинув несколько часов назад точку входа, он до сих пор двигался не спеша, на первой передаче, чтобы не проглядеть каких-нибудь признаков, которые могли бы указать на ориентиры загадочной находки. С не поддающимися определению анахронизмами всегда так — палеонтологическое общество, где он работал, обычно гораздо точнее определяло их положение во времени, чем в пространстве. Но теперь он включил вторую передачу и навел все три рогопушки, торчавшие из лобовой части ящерохода, точно в крестцовый нервный центр нахального стегозавра. «Бах! Бах! Бах!» — прозвучали разрывы парализующих зарядов, и вся задняя половина стегозавра осела на землю. Передняя же его половина, получив от крохотного, величиной с горошину, мозга сообщение о том, что случилось нечто неладное, изогнулась назад, и маленький глаз, сидевший в голове размером с пивную кружку, заметил приближающийся трицератанк. Тут же короткие передние лапы чудовища усиленно заработали, пытаясь унести десятитонную горбатую тушу подальше от театра военных действий.
Карпентер ухмыльнулся.
— Легче, легче, толстобокий, — сказал он. — Клянусь тиранозавром, ты не успеешь опомниться, как будешь снова ковылять на всех четырех.
Остановив Сэма в десятке метров от гинкго, он посмотрел на перепуганных детей сквозь полупрозрачный лобовой колпак кабины ящерохода. Их лица стали, пожалуй, еще белее, чем раньше. Ничего удивительного — его ящероход был больше похож на трицератопса, чем многие настоящие динозавры.
Карпентер откинул колпак и отшатнулся — в лицо ему ударил влажный летний зной, непривычный после кондиционированной прохлады кабины. Он встал и высунулся наружу.
— Эй вы, слезайте, — крикнул он. — Никто вас не съест! На него уставились две пары самых широко открытых, самых голубых глаз, какие он в жизни видел. Но в них не было заметно ни малейшего проблеска понимания.
— Слезайте, говорю! — повторил он. — Бояться нечего. Мальчик повернулся к девочке, и они быстро заговорили между собой на каком-то певучем языке — он немного напоминал китайский, но не больше, чем туманная изморось напоминает дождь. А с современным американским у этого языка было не больше общего, чем у самих детей с окружавшим их мезозойским пейзажем. Ясно было, что они ни слова не поняли из того, что сказал Карпентер. Но столь же явно было, что они как будто бы успокоились, увидев его открытое, честное лицо или, быть может, услышав его добродушный голос. Переговорив между собой, они покинули свое воздушное убежище и спустились вниз — мальчик полез первым и в трудных местах помогал девочке. Ему можно было дать лет девять, а ей — лет одиннадцать.
Карпентер вылез из кабины, спрыгнул со стальной морды Сэма и подошел к детям, стоявшим у дерева. К этому времени стегозавр уже вновь обрел способность управлять своими задними конечностями и во всю прыть удирал прочь по равнине. Мальчик был одет в широкую блузу абрикосового света, сильно запачканную и помятую после лазания по дереву; его широкие брюки того же абрикосового цвета, такие же запачканные и помятые, доходили до середины худых икр, а на ногах были открытые сандалии. На девочке одежда была точно такая же, только лазурного цвета и не столь измятая и грязная. Девочка была сантиметра на два выше мальчика, но такая же худая. Оба отличались тонкими чертами лица и волосами цвета лютика, и физиономии у обоих были до смешного серьезные. Можно было не сомневаться, что это брат и сестра.
Серьезно глядя в серые глаза Карпентера, девочка произнесла несколько певучих фраз — судя по тому, как они звучали, все они были сказаны на разных языках. Когда она умолкла, Карпентер покачал головой:
— Нет, это я ни в зуб ногой, крошка.
На всякий случай он повторил те же слова на англосаксонском, греко-эолийском, нижнекроманьонском, верхнеашельском, среднеанглийском, ирокезском и хайянопортском — обрывки этих языков и диалектов он усвоил во время разных путешествий в прошлое. Но ничего не вышло: все, что он сказал, звучало для этих детей сущей тарабарщиной.
Вдруг у девочки загорелись глаза, она сунула руку в пластиковую сумочку, висевшую у нее на поясе, и достала что-то вроде трех пар сережек. Одну пару она протянула Карпентеру, другую — мальчику, а третью оставила себе. И девочка и мальчик быстро приспособили себе сережки на мочки ушей, знаками показав Карпентеру, чтобы он сделал то же. Он повиновался и обнаружил, что маленькие диски, которые он принял было за подвески, — это на самом деле не что иное, как крохотные мембраны. Достаточно было защелкнуть миниатюрные зажимы, как мембраны оказывались прочно прижатыми к отверстию уха. Девочка критически оглядела результаты его стараний, приподнялась на цыпочки и ловко поправила диски, а потом, удовлетворенная, отступила назад.
— Теперь, — сказала она на чистейшем английском языке, — мы будем понимать друг друга и сможем во всем разобраться.
Карпентер уставился на нее.
— Ну и ну! Быстро же вы научились говорить по-нашему!
— Да нет, не научились, — ответил мальчик. — Это сережки-говорешки — ну, микротрансляторы. Когда их наденешь, то все, что мы говорим, вы слышите так, как если бы вы сами это сказали. А все, что вы говорите, мы слышим так, как это сказали бы мы.
— Я совсем забыла, что они у меня с собой, — сказала девочка. — Их всегда берут с собой в путешествие. Мы-то, правда, не совсем обычные путешественники, и их бы у меня не было, но получилось так, что, когда меня похитили, я как раз шла с урока общения с иностранцами. Так вот, — продолжала она, снова серьезно заглянув в глаза Карпентеру, — я думаю, что если вы не возражаете, лучше всего сначала покончить с формальностями. Меня зовут Марси, это мой брат Скип, и мы из Большого Марса. А теперь, любезный сэр, скажите, как вас зовут и откуда вы?
Нелегко было Карпентеру, отвечая, не выдать своего волнения. Но нужно было сохранить спокойствие: ведь то, что он собирался сказать, было, пожалуй, еще невероятнее, чем то, что только что услышал он.
— Меня зовут Говард Карпентер, и я с Земли, из 2156 года. Это 79.062.156 лет спустя.
Он показал на трицератанк.
— А это Сэм, моя машина времени. Ну, и еще кое-что сверх того. Если его подключить к внешнему источнику питания, то его возможностям практически не будет предела.
Девочка только моргнула, мальчик тоже — и все.
— Ну что ж, — через некоторое время сказала она. — Значит, мы выяснили, что вы из будущего Земли, а я — из настоящего Марса.
Она умолкла, с любопытством глядя на Карпентера.
— Вы чего-то не понимаете, мистер Карпентер?
Карпентер сделал глубокий вдох, потом выдох.
— В общем, да. Во-первых, есть такой пустяк — разница в силе тяжести на наших планетах. Здесь, на Земле, вы весите в два с лишним раза больше, чем на Марсе, и мне не совсем понятно, как это вы умудряетесь здесь так свободно двигаться, а тем более лазить вон по тому дереву.
— А, понимаю, мистер Карпентер, — ответила Марси. — Это вполне справедливое замечание. Но вы, очевидно, судите по Марсу будущего, и столь же очевидно, что он сильно отличается от Марса настоящего. Я думаю… я думаю, за 79.062.156 лет многое могло измениться. Ну, ладно. В общем, мистер Карпентер, в наше со Скипом время на Марсе примерно такая же сила тяжести, как и на этой планете. Видите ли, много веков назад наши инженеры искусственно увеличили существовавшую тогда силу тяжести, чтобы наша атмосфера больше не рассеивалась в межпланетном пространстве. И последующие поколения приспособились к увеличенной силе тяжести. Это рассеяло ваше недоумение, мистер Карпентер?
Ему пришлось сознаться, что да.
— А фамилия у вас есть? — спросил он.
— Нет, мистер Карпентер. Когда-то у марсиан были фамилии, но с введением десентиментализации этот обычай вышел из употребления. Но прежде чем мы продолжим разговор, мистер Карпентер, я хотела бы поблагодарить вас за наше спасение. Это… это было очень благородно с вашей стороны.
— К вашим услугам, — ответил Карпентер, — боюсь только, что если мы и дальше будем так здесь стоять, мне придется опять вас от кого-нибудь спасать, да и себя заодно. Давайте-ка все трое залезем к Сэму в кабину — там безопасно. Договорились?
Он первым подошел к трицератанку, вскочил на его морду и протянул руку девочке. Когда она взобралась вслед за ним, он помог ей подняться в кабину водителя.
— Там, позади сиденья, небольшая дверца, — сказал он. — За ней каюта; лезь туда и устраивайся как дома. Там есть стол, стулья и койка и еще шкаф со всякими вкусными вещами. В общем все удобства.
Но не успела Марса подойти к дверце, как откуда-то сверху раздался странный свист. Она взглянула в небо, и ее лицо покрылось мертвенной бледностью.
— Это они, — прошептала она. — Они нас уже нашли!
И тут Карпентер увидел темные крылатые силуэты птеранодонов. Их было два, и они пикировали на трицератанк подобно звену доисторических бомбардировщиков.
Схватив Скипа за руку, он втащил его на морду Сэма, толкнул в кабину рядом с сестрой и приказал:
— Быстро в каюту!
Потом прыгнул в водительское сиденье и захлопнул колпак.
И как раз вовремя: первый птеранодон был уже так близко, что его правый элерон царапнул по гофрированному головному гребню Сэма, а второй своим фюзеляжем задел спину ящерохода. Две пары реактивных двигателей оставили за собой две пары выхлопных струй.
2
Карпентер так и подскочил в своем сиденье. Элероны? Фюзеляж? Реактивные двигатели?
Птеранодоны?
Он включил защитное поле ящерохода, установив его так, чтобы оно простиралось на полметра наружу от брони, потом включил первую передачу. Птеранодоны кружились высоко в небе.
— Марси, — позвал он, — подойди-ка сюда на минутку, пожалуйста.
Она наклонилась через его плечо, и ее ярко-желтые волосы защекотали ему щеку.
— Да, мистер Карпентер?
— Когда ты увидела птеранодонов, ты сказала: «Они нас уже нашли!» Что ты имела в виду?
— Это не птеранодоны, мистер Карпентер. Я, правда, не знаю, что такое птеранодоны, но это не они. Это те, кто нас похитил, на списанных военных самолетах. Может быть, эти самолеты и похожи на птеранодонов — я не знаю. Они похитили нас со Скипом из подготовительной школы Технологического канонизационного института Большого Марса и держат в ожидании выкупа. Земля — их убежище. Их трое: Роул, Фритад и Холмер. Один из них, наверное, остался на корабле.
Карпентер промолчал. Марс 2156 года представлял собой унылую, пустынную планету, где не было почти ничего, кроме камней, песка и ветра. Его население состояло из нескольких тысяч упрямых колонистов с Земли, не отступавших ни перед какими невзгодами, и нескольких сотен тысяч столь же упрямых марсиан. Первые жили в атмосферных куполах, вторые, если не считать тех немногих, кто женился или вышел замуж из одного из колонистов, — в глубоких пещерах, где еще можно было добыть кислород. Однако раскопки, которые в двадцать втором веке вело здесь Внеземное археологическое общество, действительно принесли несомненные доказательства того, что свыше семидесяти миллионов лет назад на планете существовала супертехнологическая цивилизация, подобная нынешней земной. И конечно, было естественно предположить, что такой цивилизации были доступны межпланетные полеты.
А раз так, то Земля, где в те времена завершалась мезозойская эра, должна была стать идеальным убежищем для марсианских преступников — в том числе и для похитителей детей. Такое объяснение, разумеется, могло пролить свет и на те анахронизмы, которые то и дело попадались в слоях мелового периода.
Правда, присутствие Макси и Скипа в веке динозавров можно было объяснить и иначе: они могли быть земными детьми 2156 года и попасть сюда с помощью машины времени — так же, как попал сюда он. Или, если уж на то пошло, их могли похитить и перебросить в прошлое современные бандиты. Но тогда зачем им было врать?
— Скажи мне, Марси, — начал Карпентер, — ты веришь, что я пришел из будущего?
— О конечно, мистер Карпентер. И Скип тоже, я уверена. В это немного… немного трудно поверить, но я знаю, что такой симпатичный человек, как вы, не станет говорить неправду, да еще такую неправду.
— Спасибо, — отозвался Карпентер. — А я верю, что вы — из Большого Марса, который, по-видимому, не что иное, как самая большая и могучая страна вашей планеты. Расскажи мне о вашей цивилизации.
— Это замечательная цивилизация, мистер Карпентер. Мы с каждым днем движемся вперед все быстрее и быстрее, а теперь, когда нам удалось преодолеть фактор нестабильности, наш прогресс еще ускорится.
— Фактор нестабильности?
— Да, человеческие эмоции. Много веков они мешали нам, но теперь этому положен конец. Теперь, как только мальчику исполняется тринадцать лет, а девочке пятнадцать, их десентиментализируют. И после этого они приобретают способность хладнокровно принимать разумные решения, руководствуясь исключительно строгой логикой. Это позволяет им действовать с наибольшей возможной эффективностью. В подготовительной школе Института мы со Скипом проходим так называемый додесентиментализационный курс. Еще четыре года, и нам начнут давать специальный препарат для десентиментализации. А потом…
— Скр-р-р-р-и-и-и-и-и!..
Со страшным скрежетом один из птеранодонов прочертил наискосок по поверхности защитного поля. Его отбросило в сторону, и прежде чем он вновь обрел равновесие и взвился в небо, Карпентер увидел в кабине человека. Он успел разглядеть лишь неподвижное, ничего не выражавшее лицо, но по его положению догадался, что пилот управляет самолетом, распластавшись между четырехметровыми крыльями.
Марси вся дрожала.
— Мне кажется… мне кажется, они решили нас убить, мистер Карпентер, — слабым голосом сказала она. — Они грозились это сделать, если мы попытаемся сбежать. А теперь они уже записали на пленку наши голоса с просьбой о выкупе и, наверное, сообразили, что мы им больше не нужны.
Карпентер потянулся назад и погладил ее руку, лежавшую у него на плече.
— Ничего, крошка. Ты под защитой старины Сэма, так что бояться нечего.
— А он… его, правда, так зовут?
— Точно. Достопочтенный Сэм Трицератопс. Познакомься, Сэм, — это Марси. Присматривай хорошенько за ней и за ее братом, слышишь?
Он обернулся и поглядел в широко раскрытые голубые глаза девочки.
— Говорит, будет присматривать. Готов спорить, что на Марсе ничего подобного не изобрели. Верно?
Она покачала головой — на Марсе это, по-видимому, был такой же обычный знак отрицания, как и на Земле, — и ему на мгновение показалось, что на губах у нее вот-вот появится робкая улыбка. Но ничего не произошло. Еще бы немного…
— Действительно, у нас такого нет, мистер Карпентер.
Он покосился сквозь колпак на кружащихся птеранодонов (он все еще про себя называл их птеранодонами, хотя теперь уже знал, что это такое).
— А где их межпланетный корабль, Марса? Где-нибудь поблизости?
Она ткнула пальцем влево.
— Вон там. Перейти реку, а потом болото. Мы со Скипом сбежали сегодня утром, когда Фритад заснул — он дежурил у люка. Они ужасные сони, всегда спят, когда подходит их очередь дежурить. Рано или поздно Космическая полиция Большого Марса разыщет корабль, и мы думали, что до тех пор сможем прятаться. Мы пробрались через болото и переплыли реку на бревне. Это было… это было просто ужасно — там такие большие змеи с ногами, они за нами гнались, и…
Он почувствовал плечом, что она снова вся дрожит.
— Ну вот что, крошка, — сказал он. — Лезь-ка назад в каюту и приготовь что-нибудь поесть себе и Скипу. Не знаю, чем вы привыкли питаться, но вряд ли это что-нибудь совсем непохожее на то, что есть у нас в запасе. В шкафу ты увидишь такие квадратные запаянные банки — в них бутерброды. Наверху, в холодильнике, высокие бутылки, на них нарисован круг из маленьких звездочек — там лимонад. Открывай и то, и другое и принимайся за дело. Кстати, раз уж ты этим займешься, сделай что-нибудь и мне — я тоже проголодался.
И снова улыбка чуть-чуть не показалась у нее на губах.
— Хорошо, мистер Карпентер. Я вам сейчас такое приготовлю!
Оставшись один в кабине, Карпентер оглядел расстилавшийся вокруг мезозойский пейзаж через переднее, боковые и хвостовое смотровые окна. Слева, на горизонте, возвышалась гряда молодых гор. Справа, вдали, тянулась цепочка утесов. В хвостовом смотровом окне были видны разбросанные по равнине рощицы ив, веерных пальм и карликовых магнолий, за которыми начинались поросшие лесом холмы — где-то там находилась его точка входа. Далеко впереди с чисто мезозойским спокойствием курились вулканы.
79.061.889 лет спустя это место станет частью штата Монтана. 79.062.156 лет спустя палеонтологическая экспедиция, которая будет вести раскопки где-то в этих местах, к тому времени изменившихся до неузнаваемости, наткнется на ископаемые останки современного человека, умершего 79.062.156 лет назад.
Может быть, это будут его собственные останки? Карпентер усмехнулся и взглянул в небо, где все еще кружили птеранодоны. Посмотрим — может случиться и так, что это будут останки марсианина.
Он развернул трицератанк и повел его обратно.
— Поехали, Сэм, — сказал он. — Поищем-ка здесь укромное местечко, где можно отсидеться до утра. А к тому времени я, быть может, соображу, что делать дальше. Вот уж не думал, что нам с тобой когда-нибудь придется заниматься спасением детишек!
Сэм басовито заурчал и двинулся в сторону лесистых холмов.
Когда отправляешься в прошлое, чтобы расследовать какой-нибудь анахронизм, всегда рискуешь сам оказаться его автором. Взять хотя бы классический пример с профессором Арчибальдом Куигли. Правда это или нет — никто толком не знал; но так или иначе эта история как нельзя лучше демонстрировала парадоксальность путешествия во времени.
А история гласила, что профессора Куигли, великого почитателя Колриджа, много лет мучило любопытство — кто был таинственный незнакомец, появившийся в 1797 году на ферме Недер Стоун в английском графстве Сомерсетшир и помешавший Колриджу записать до конца поэму, которую он только что сочинил во сне. Гость просидел целый час, и потом Колридж так и не смог припомнить остальную часть поэмы. В результате «Кубла Хан» остался незаконченным.
Со временем любопытство, мучившее профессора Куигли, стало невыносимым, он больше не мог оставаться в неизвестности и обратился в Бюро путешествий во времени с просьбой разрешить ему отправиться в то время и в то место, чтобы все выяснить.
Просьбу его удовлетворили, и он без колебаний выложил половину своих сбережений в уплату за путешествие в то утро. Очутившись поблизости от фермы, он притаился в кустах и начал наблюдать за входной дверью. Никто не шел; наконец он, сгорая от нетерпения, сам подошел к двери и постучался. Колридж открыл дверь и пригласил профессора войти, но брошенного им злобного взгляда профессор не мог забыть до конца своих дней.
Припомнив эту историю, Карпентер усмехнулся. Впрочем, особенно смеяться по этому поводу не приходилось: то, что произошло с профессором Куигли, вполне могло случиться и с ним. Нравилось ему это или нет, но было совершенно не исключено, что ископаемые останки, чьим происхождением он занялся по поручению Североамериканского палеонтологического общества (САПО) и с этой целью отправился в мезозойскую эру, окажутся его собственными.
Но он отогнал от себя эту мысль. Во-первых, как только придется туго, ему нужно будет всего лишь связаться со своими помощниками — мисс Сэндз и Питером Детрайтесом, и они тут же явятся к нему на помощь на тераподе Эдит или на каком-нибудь другом ящероходе из арсенала САПО. А во-вторых, ему уже известно, что в меловом периоде орудуют пришельцы. Значит, он не единственный, кому грозит опасность превратиться в те самые останки.
И в любом случае ломать голову над всем этим бессмысленно: ведь то, чему суждено было случиться, случилось, и тут уж ничего не поделаешь…
Скип выбрался из каюты и перегнулся через спинку водительского сиденья.
— Марси просила передать вам бутерброд и бутылку лимонада, мистер Карпентер, — сказал он, протягивая то и другое.
— Можно мне посидеть с вами, сэр?
— Конечно, — ответил Карпентер и подвинулся.
Мальчик перелез через спинку и соскользнул на сиденье. И тут же сзади просунулась еще одна голова цвета лютика.
— Простите, пожалуйста, мистер Карпентер, а нельзя ли…
— Подвинься, Скип, посадим ее в середину.
Голова Сэма была шириной в добрых полтора метра, и в кабине водителя места хватало. Но само сиденье было меньше метра шириной, и двум подросткам уместиться в нем рядом с Карпентером было не так уж просто, особенно если учесть, что все трое в этот момент уплетали бутерброды и запивали их лимонадом. Карпентер чувствовал себя добрым отцом семейства, отправившимся со своими отпрысками в зоопарк.
И в какой зоопарк! Они уже углубились в лес, и вокруг поднимались дубы и лавры мелового периода; среди них в изобилии попадались ивы, сосны и гинкго, а время от времени — нелепые на вид заросли веерных пальм. В густых кустах они заметили огромное неуклюжее существо, похожее спереди на лошадь, а сзади на кенгуру. Карпентер определил, что это анатозавр. На поляне они повстречали и до полусмерти перепугали струтиомимуса, чем-то напоминавшего страуса. Анкилозавр с утыканной шипами спиной сердито уставился на них из камышей, но благоразумно решил не становиться Сэму поперек дороги. Взглянув вверх, Карпентер впервые увидел на вершине дерева археоптерикса. А подняв глаза еще выше, он заметил кружащихся в небе птеранодонов.
Он надеялся, что под покровом леса сможет от них скрыться, и с этой целью вел Сэма зигзагами. Однако они, очевидно, были оснащены детекторами массы — следовало придумать что-нибудь похитрее. Можно было попытаться сбить их заградительным огнем парализующих зарядов из рогопушки, но надежда на успех была невелика, да и вообще он тут же отказался от этой идеи. Конечно, похитители вполне заслуживают смерти, но не ему их судить. Он расправится с ними, если другого выхода не будет, но не станет это делать до тех пор, пока не разыграет все свои козырные карты.
Он повернулся к детям и увидел, что они потеряли всякий интерес к еде и с опаской поглядывают вверх. Перехватив их взгляды, он подмигнул.
— Мне кажется, самое время от них улизнуть, как вы полагаете?
— Но как, мистер Карпентер? — спросил Скип. — Они запеленговали нас своими детекторами. Счастье еще, что это простые марсиане и у них нет самого главного марсианского оружия. Правда, у них есть распылители — это тоже что-то вроде радугометов, но, если бы у них были настоящие радугометы, нам бы всем несдобровать.
— Отделаться от них ничего не стоит — мы можем просто перескочить немного назад во времени. Так что кончайте со своими бутербродами и не бойтесь.
Опасения детей рассеялись, и они оживились.
— Давайте перескочим назад на шесть дней, — предложила Марси. — Тогда они нас ни за что не найдут, потому что в то время нас еще здесь не было.
— Ничего не выйдет, крошка, — Сэм не потянет. Прыжки во времени требуют ужасно много энергии Чтобы такая комбинированная машина времени, как Сэм, могла далеко прыгнуть, нужно к ее мощности добавить мощность стационарной машины. Она перебрасывает ящероход в нужную точку входа, водитель отправляется из этой точки и делает свое дело. А чтобы вернуться обратно, в свое время, у него есть только один способ: снова явиться в точку входа, связаться со стационарной машиной и к ней подключиться. Можно еще послать сигнал бедствия, чтобы кто-нибудь прибыл за ним на другом ящероходе. Собственной мощности Сэму хватит только на то, чтобы перескочить на четыре дня туда и обратно, но и от этого у него двигатель сгорит. А уж тогда никакая стационарная машина времени его не вытащит. Я думаю, нам лучше ограничиться одним часом.
Парадоксально, но факт: чем короче временной промежуток, с которым имеешь дело, тем больше приходится производить расчетов. С помощью управляющего перстня на своем указательном пальце Карпентер отдал Саму приказ продолжать движение зигзагами, а сам взялся за блокнот и карандаш. Через некоторое время он начал задавать арифметические головоломки компактному вычислителю, встроенному в панель управления. Марси, наклонившись вперед, внимательно следила за его работой.
— Если это ускорит дело, мистер Карпентер, — сказала она, — кое-какие действия попроще, вроде тех, что вы записываете, я могу производить в уме. Например, если 828.464.280 умножить на 4.692.438.921, то в итоге получим 3.887.518.032.130.241.880.
— Очень может быть, крошка, но я все-таки на всякий случай проверю, ладно?
Он ввел цифры в вычислитель и нажал кнопку умножения. В окошечке загорелись цифры: 3.887.518.032.130.241.880. Карпентер чуть не выронил карандаш.
— Она же у нас гений по части математики, — пояснил Скип. — А я по части техники. Потому-то нас и похитили. Наше правительство очень высоко ценит гениев. Оно не пожалеет денег, чтобы нас выкупить.
— Правительство? Я думал, что похитители требуют выкуп с родителей, а не с правительства.
— Нет, наши родители больше не несут за нас никакой ответственности, — объяснила Марси. — По правде говоря, они, наверное, про нас давно забыли. После шести лет дети переходят в собственность государства. Видите ли, сейчас все марсианские родители десентиментализированы и ничуть не возражают против того, чтобы избавиться от… ну в общем отдать своих детей государству.
Карпентер некоторое время смотрел на два серьезных детских лица.
— Вот оно что, — протянул он. — Ясно.
С помощью Марси он закончил расчеты и ввел окончательные цифры в передний нервный центр Сэма.
— Ну, поехали, ребятишки! — сказал он и включил рубильник временного скачка. На какое-то мгновение у них перед глазами что-то замерцало, и ящероход чуть тряхнуло. Впрочем, он даже не замедлил своего неторопливого движения — так гладко прошел скачок.
Карпентер перевел часы с 16:16 на 15:16.
— Ну-ка, ребята, взгляните наверх — есть там птеранодоны?
Они долго всматривались сквозь листву в небо.
— Ни одного, мистер Карпентер, — отозвалась Макси. Глаза ее горели восхищением. — Ни единого!
— Да, утерли вы нос нашим ученым! — восторженно заявил Скип. — Они считают себя очень умными, но им и в голову не приходило, что можно путешествовать во времени… А как далеко можно перескочить в будущее, мистер Карпентер, — я имею в виду, на настоящей машине времени?
— Если хватит энергии — хоть до конца времен, если он есть. Но путешествовать вперед из своего настоящего запрещено законом. Власти предержащие 2156 года считают — людям ни к чему раньше времени знать, что с ними будет. И тут я, в виде исключения, полагаю, что власти предержащие правы.
Он отключил автоматику, перевел Сама на ручное управление и повернул под прямым углом к прежнему курсу. Через некоторое время они выбрались из леса на равнину. Вдали, на фоне дымчато-голубого неба, вырисовывалась белой полоской цепочка утесов, которую он заприметил еще раньше.
— Ну, а что вы скажете насчет ночевки на открытом воздухе? — спросил он.
Глаза у Скипа стали совсем круглые.
— На открытом воздухе, мистер Карпентер?
— Конечно. Разведем костер, приготовим еду, расстелем на земле одеяла — совсем на индейский манер. Может быть, даже отыщем в скалах пещеру. Как, годится?
Теперь глаза округлились у обоих.
— А что такое «на индейский манер», мистер Карпентер? — спросила Марси.
Он рассказал им про индейцев арапахо, чейенов, кроу, апачей, и про буйволов, и про безбрежные прерии, и про последний бой Кестера, и про покорителей Дикого Запада, и про Сидящего Быка — и все время, пока он говорил, они не сводили с него глаз: как будто он ясное солнышко, которого они еще никогда в жизни не видали. Покончив с Диким Западом, он принялся рассказывать о гражданской войне и Аврааме Линкольне, о генерале Гранте и генерале Ли, о геттисбергском обращении, битве на реке Булл-Ран и поражении у Аппоматтокса.
Никогда еще он так много не говорил. Ему и самому это показалось странным: на него нашло что-то такое, отчего он вдруг почувствовал себя веселым и беззаботным, все ему стало нипочем, осталось только одно: вот этот день в меловом периоде, затянувшая горизонт послеполуденная дымка и двое детей с круглыми от удивления глазами, сидящие рядом с ним. Но он не стал долго об этом размышлять, а продолжал рассказывать про Декларацию независимости и американскую революцию, про Джорджа Вашингтона и Томаса Джефферсона, про Бенджамина Франклина и Джона Адамса, и про то, как смело мечтали о светлом будущем отцы-основатели, и насколько лучше было бы, если бы чересчур предприимчивые люди не воспользовались их мечтой в своих корыстных целях, и как настало время, когда эта мечта все-таки более или менее сбылась, сколько бы преступлений ни было совершено ее именем.
Когда он кончил, уже наступил вечер. Прямо впереди упирались в потемневшее небо белые скалы.
У подножья скал они нашли отличную, никем не занятую пещеру, где могли с удобствами устроиться все, включая Сэма, и оставалось еще место для костра. Карпентер загнал ящероход в пещеру и поставил его к задней стенке. Потом он выдвинул защитный экран, охватив им всю пещеру, нависавший над входом обрыв и полукруглую площадку подножья. Тщательно осмотрев получившийся палисадник и убедившись, что в нем нет рептилий, если не считать нескольких мелких и неопасных ящериц, он послал детей за хворостом. А сам тем временем наладил у входа в пещеру полупрозрачное поле, которое скрывало от взгляда все, что происходит внутри.
К этому времени дети утратили свою прежнюю сдержанность, во всяком случае Скип.
— Можно я разведу костер? — кричал он, прыгая на месте.
— Можно, мистер Карпентер? Можно?
— Скип! — укоризненно сказала Марси.
— Ничего, крошка, — успокоил ее Карпентер, — это можно. И ты тоже можешь помочь, если хочешь.
Маленький огонек вскоре разросся в большое пламя, окрасив стены пещеры сначала в багровый, а потом в ярко-красный цвет.
Карпентер откупорил три банки сосисок и три пакета булочек и показал своим подопечным, как нанизывают сосиски на заостренный прутик и жарят их на костре. Потом он продемонстрировал, как нужно класть поджаренную сосиску на булочку и приправлять ее горчицей, маринадом и нарезанным луком. Можно было подумать, что он настежь распахнул перед этими детьми волшебное окно в страну чудес, которая раньше им и не снилась. От их былой серьезности не осталось и следа, и в следующие полчаса они соорудили и истребили по шесть бутербродов на каждого. Скип так разбушевался, что чуть не свалился в костер, а на губах Марси расцвела, наконец, та самая улыбка, которая пробивалась весь день, и такой ослепительной оказалась она, что пламя костра по сравнению с ней поблекло.
Потом Карпентер приготовил какао в кухонном отсеке Сэма, и теперь для завершения пиршества не хватало только жареных каштанов. Он подумал: а что, если его деловая помощница уложила и этот деликатес в хвостовой отсек Сэма среди прочих запасов? Маловероятно, но он все же решил посмотреть — и, к своей великой радости, обнаружил целую коробку.
Он снова устроил небольшое представление, за которым дети следили, разинув рты. Когда первые каштаны подрумянились до золотисто-коричневого цвета, у Скипа глаза чуть не выскочили из орбит. А Марси просто стояла и глядела на Карпентера так, словно он только что сказал: «Да будет свет!», и наступил первый в мире день.
Смеясь, он вынул каштаны из огня и роздал детям.
— Скип! — возмущенно сказала Марси, когда тот засунул всю свою порцию в рот и проглотил единым махом. — Как ты себя ведешь?
Сама она ела со всем изяществом, какое предписывают правила хорошего тона.
Когда с каштанами было покончено, Карпентер вышел из пещеры и принес три больших охапки лавровых и кизиловых веток для подстилки. Он показал детям, как разостлать их на полу пещеры и как покрыть их одеялами, которые он достал из хвостового отсека Сама. Скипу дальнейших приглашений не потребовалось: после бурной деятельности и сытного ужина он свалился на одеяло, едва успев его расстелить. Карпентер достал еще три одеяла, накрыл одним из них Скипа и повернулся к Марси.
— Ты тоже выглядишь усталой, крошка.
— Нет, ничуть, мистер Карпентер. Ни капельки. Я же на два года старше Скипа. Он еще маленький.
Оставшиеся два одеяла он свернул в некое подобие подушек и пристроил их у огня. На одно уселся сам, на другое села Марси.
Весь вечер из-за защитного экрана то и дело доносились рев, рык и ворчание; теперь их сменили жуткие звуки — казалось, рядом громыхает гигантская асфальтодробилка. Пол пещеры дрогнул, и на стенах отчаянно заплясали отсветы костра.
— Похоже, что это тиранозавр, — сказал Карпентер. — Наверное, проголодался и решил закусить парочкой струтиомимусов.
— Тиранозавр, мистер Карпентер?
Он описал ей этого хищного ящера. Она кивнула и поежилась.
— Ну да, — сказала она. — Мы со Скипом одного такого видели. Это было после того, как мы переплыли реку. Мы… мы притаились в кустах, пока он не прошел мимо. Какие у вас, на Земле, есть ужасные создания, мистер Карпентер!
— В наше время их уже нет, — ответил Карпентер. — Теперь у нас совсем другие создания — от одного их вида тиранозавр пустился бы наутек, как перепуганный кролик. Впрочем, особенно жаловаться не приходится. Правда, наше техническое распутство обошлось нам не дешево, зато благодаря ему мы получили и кое-что полезное. Путешествия во времени, например. Или межпланетные полеты.
В этот момент асфальтодробилке, по-видимому, попался особенно-неподатливый кусок асфальта, и к тому же, судя по немыслимым звукам, которыми она разразилась, внутри у нее что то сломалось. Девочка придвинулась к Карпентеру.
— Не бойся, крошка. Здесь опасаться некого — через наше защитное поле не пробьется даже целая армия ящеров.
— А почему вы зовете меня крошкой, мистер Карпентер? У нас так называется сухой и жесткий маленький кусочек хлеба.
Он рассмеялся. Звуки, доносившиеся из-за защитного поля, стали слабее и утихли вдали — видимо, ящер направился в другую сторону.
— На Земле это тоже называется крошкой, но ничего обидного тут нет. Дело не в этом. Крошками у нас называют еще девушек, которые нам нравятся.
Наступило молчание. Потом Марси спросила:
— А у вас есть девушка, мистер Карпентер?
— Да в общем-то нет. Я бы так сказал: есть одна, но ее я, образно выражаясь, боготворю издали.
— Не похоже, чтобы вам от этого было много радости. А кто она такая?
— Моя главная помощница в Североамериканском палеонтологическом обществе, где я работаю, мисс Сэндз. Ее зовут Элейн, но я никогда не называю ее по имени. Она присматривает за тем, чтобы я ничего не забыл, когда отправляюсь в прошлое, и устанавливает перед стартом время и место по времяскопу. А потом она и еще один мой помощник, Питер Детрайтес, дежурят, готовые прийти мне на помощь, если я перешлю им банку консервированной зайчатины. Понимаешь, это наш сигнал бедствия. Банка как раз такого размера, что ее может перебросить во времени палеонтоход. А заяц в нашем языке ассоциируется со страхом.
— А почему вы боготворите ее издали, мистер Карпентер?
— Видишь ли, — задумчиво ответил Карпентер, — мисс Сэндз — это тебе не простая девушка, она не такая, как все. Она холодна, равнодушна — как богиня, понимаешь? Впрочем, вряд ли ты можешь это понять. В общем с такой богиней просто нельзя себя вести так же, как с обыкновенными девушками. С ней надо знать свое место — боготворить ее издали и смиренно ждать, когда ей вздумается над тобой смилостивиться. Я… я до того ее боготворю, что при ней совсем робею и теряю дар речи. Может быть, потом, когда я познакомлюсь с ней поближе, дело пойдет иначе. Пока что я знаком с ней три месяца.
Он умолк. Сережки-говорешки в ушах Марси блеснули в свете костра — она повернула голову и ласково взглянула на него.
— В чем дело, мистер Карпентер? Заснули?
— Просто задумался. Если уж на то пошло, три месяца — не так уж мало. За это время вполне можно понять, полюбит когда-нибудь тебя девушка или нет. Мисс Сэндз никогда меня не полюбит — теперь я точно знаю. Она даже не взглянет на меня лишний раз без особой надобности, двух слов со мной не скажет, разве что это позарез нужно. Так что если даже я решу, что хватит боготворить ее издали, соберусь с духом и признаюсь ей в любви, она, вероятно, только рассердится и прогонит меня прочь.
— Ну, не совсем же она сумасшедшая, мистер Карпентер! — возмутилась Марси. — Не может этого быть. Как ей не стыдно?
— Нет, Марси, ты ничего не понимаешь. Разве может такой красавице понравиться никому не нужный бродяга вроде меня?
— Ничего себе бродяга, и к тому же никому не нужный! Знаете, мистер Карпентер, по-моему, вы просто не разбираетесь в женщинах. Да если вы скажете ей, что ее любите, она бросится вам на шею вот увидите!
— Ты романтик, Марси. В настоящей жизни так не бывает.
Он встал.
— Ну ладно, мадемуазель, не знаю, как вы, а я устал. Кончим на этом?
— Если хотите, мистер Карпентер.
Она уже спала, когда он нагнулся, чтобы укрыть ее одеялом. Некоторое время он стоял, глядя на нее.
Она повернулась набок, и отсвет костра упал на коротко подстриженные ярко-желтые волосы у нее на шее, окрасив их в золотисто-красный цвет. Ему вспомнились весенние луга, усеянные лютиками, и теплое чистое солнце, возвещающее о том, что наступило росистое утро…
Взглянув, хорошо ли устроен Скип, он подошел к выходу из пещеры и выглянул наружу. Как только тиранозавр удалился, из своих укрытий показались попрятавшиеся было существа помельче. Карпентер разглядел причудливые контуры нескольких орнитоподов; у рощицы веерных пальм он заметил неподвижно стоящего анкилозавра; он слышал, как по обе стороны защитного поля шныряют ящерки. С доисторических небес светила луна, чем-то чуть-чуть непохожая на ту луну, к которой он привык. Разница была в числе метеоритных кратеров: 79.062.156 лет спустя их станет куда больше.
Вскоре он обнаружил, что хотя все еще смотрит на луну, но больше ее не видит. Вместо этого у него перед глазами стоял костер, а у костра — девочка и мальчик, которые с увлечением жарят каштаны. «И почему это я не женился и не завел себе детей? — вдруг подумал он. — Почему пренебрег всеми хорошенькими девушками, которые мне встречались, и все только ради того, чтобы в тридцать два года безнадежно влюбиться в красавицу-богиню, которой совершенно безразлично, существую я на свете или нет? Откуда это я взял, что острые ощущения, которые получаешь от всяких приключений, лучше спокойного довольства жизнью, когда ты кого-то любишь и кто-то любит тебя? Почему решил, что наводить порядок в исторических и доисторических временах важнее, чем навести порядок в собственной жизни? Почему думал, что одинокая меблированная комната — это и есть крепость, достойная настоящего мужчины, а выпивки в полутемных барах с развеселыми девицами, которых наутро уже не помнишь, — это и есть подлинная свобода? И какой это я могу найти в прошлом клад, чтобы он мог сравниться с сокровищами, от которых я отказался в будущем?…»
Стало прохладно. Перед тем как улечься, он подбросил хвороста в огонь. Он долго лежал, слушая, как трещит пламя, и глядя, как играют отблески на стенах пещеры. Из доисторической тьмы на него золотыми глазками посматривала ящерка. Вдали послышался вопль орнитопода. А рядом с ним, окруженные глубокой мезозойской ночью, ровно дышали на своих постелях из веток двое детей.
В конце концов он уснул.
3
На следующее утро Карпентер, не теряя времени даром, собрался в путь. Марси и Скип были готовы на все, лишь бы остаться в пещере подольше, но он объяснил им, что если они будут сидеть на месте, похитители в два счета их обнаружат, и поэтому лучше нигде надолго не останавливаться. До сих пор дети прекрасно понимали все, что он говорил, так же как он понимал все, что говорили они; но на этот раз что-то не ладилось — он никак не мог добиться, чтобы до них это дошло. Очень может быть, что они попросту не хотели покидать пещеру. Так или иначе, им пришлось это сделать — после того, как в крохотной туалетной комнатке Сэма были совершены утренние омовения, а в кухонном отсеке был приготовлен плотный завтрак из яичницы с беконом. Но для того, чтобы они послушались, Карпентеру пришлось дать им понять, что командует здесь он, а не кто другой.
Никакого определенного плана действий у него пока не было. Размышляя, что делать дальше, он предоставил трицератанку самостоятельно выбирать себе дорогу по равнине — сверхчувствительной навигационной аппаратуре ящерохода это было нипочем.
В общем-то у Карпентера были только две возможности. Во-первых, он мог и дальше опекать детей и прятаться вместе с ними от похитителей, пока тем не надоест за ними гоняться или пока не подоспеет подмога в лице Космической полиции Большого Марса. Во-вторых, он мог вернуться в точку входа и дать сигнал мисс Сэндз и Питеру Детрайтесу, чтобы те перебросили трицератанк обратно, в настоящее время. Второй путь был несравненно безопаснее. Он так бы и сделал без всяких колебаний, если бы не два обстоятельства. Первое: хотя Марси и Скип, несомненно, могут приспособиться к цивилизации, столь похожей на их собственную, как цивилизация Земли двадцать второго века, они вряд ли будут чувствовать себя в этих условиях как дома. И второе. Рано или поздно они осознают ужасную истину: их собственная цивилизация, оставшаяся в далеком прошлом, за 79.062.156 лет бесследно исчезла, и из технологических мечтаний, которые они привыкли чтить как святыню, ровно ничего не вышло…
Был, правда, еще и третий путь — взять детей с собой в настоящее время на Землю, переждать там, пока похитители не прекратят поиски и не улетят или же пока не появится Космическая полиция, а потом вернуть их обратно в прошлое Земли. Но для этого понадобилось бы совершить не один рейс в меловой период и обратно, а такие рейсы стоят сумасшедших денег, и Карпентер заранее знал, что даже один рейс, не имеющий отношения к палеонтологии, будет САПО не по карману, не говоря уже о нескольких.
Погруженный в размышления, он вдруг почувствовал, что кто-то тянет его за рукав. Это был Скип — он вошел в кабину и забрался на сиденье.
— А мне можно им подправлять, мистер Карпентер? Можно? Карпентер оглядел равнину через переднее, боковые и хвостовое смотровые окна, потом заставил Сэма задрать голову и сквозь колпак кабины внимательно осмотрел небо. Высоко над скалистой грядой, где они были меньше часа назад, кружила черная точка. И пока он смотрел, рядом с ней появились еще две.
— Немного погодя, Скип. Сейчас, по моему, мы тут не одни.
Скип тоже заметил в небе черные точки.
— Снова птеранодоны, мистер Карпентер?
— Боюсь, что да.
Точки, быстро увеличиваясь, превратились в крылатые силуэты с узкими, остроконечными головами. В кабину вошла Марси и тоже внимательно посмотрела на небо. На этот раз ни она, ни Скип не проявили ни малейших признаков испуга.
— Мы снова прыгнем назад, в прошлое, мистер Карпентер? — спросила Марси.
— Посмотрим, крошка, — ответил он.
Теперь птеранодоны были хорошо видны. Не было сомнения, что их интересует именно Сэм. Другое дело — решатся ли они снова на него напасть. Несмотря на то что трицератанк был укрыт защитным полем, Карпентер все же решил на всякий случай направиться к ближайшей роще. Это была пальметтовая заросль примерно в километре от них. Он прибавил скорость и взялся за ручки управления.
— Вперед, Сэм! — сказал он, чтобы ободрить детей. — Покажем Марси и Скипу, на что ты способен!
Сэм сорвался с места словно старинный паровоз двадцатого века. Его упругие стальные ноги ритмично двигались, копыта из твердого сплава отбивали такт, с громом ударяясь о землю. Однако в скорости Сэму было не сравниться с птеранодонами, и они легко его настигли. Передний круто спикировал в сотне метров впереди, сбросил что-то вроде большого металлического яйца и взмыл ввысь.
Металлическое яйцо оказалось не чем иным, как бомбой. Взрыв оставил такую огромную воронку, что Карпентер еле сумел ее объехать, не опрокинув ящероход. Он тут же прибавил оборотов и перешел на вторую скорость.
— Ну, этим они нас не возьмут, верно, старина? — сказал он.
— Рррррр! — заурчал в ответ Сэм.
Карпентер взглянул на небо. Теперь все птеранодоны кружились прямо у них над головой. Один, два, три — сосчитал он. Три? Вчера их было только два!
— Марси! — возбужденно сказал он. — Сколько всего, вы говорили, там похитителей?
— Трое, мистер Карпентер. Роул, Фритад и Холмер.
— Тогда они все тут. Значит, корабль никем не охраняется. Если только на нем нет экипажа.
— Нет, мистер Карпентер, экипажа нет. Они сами его вели.
Он оторвал взгляд от кружащихся вверху птеранодонов.
— А как вы думаете, ребята, смогли бы вы проникнуть внутрь?
— Запросто, — ответил Скип. — Это списанный военный авианосец со стандартными шлюзовыми камерами — всякому, кто хоть немного разбирается в технике, ничего не стоит открыть их. Поэтому мы с Марси и смогли тогда удрать. Будьте уверены, мистер Карпентер, я это сделаю.
— Хорошо, — сказал Карпентер. — Мы встретим их там, когда они вернутся.
С помощью Марси рассчитать координаты для скачка во времени было проще простого. Уже через несколько секунд Сэм был готов.
Когда они оказались в пальметтовой рощице, Карпентер включил рубильник. Снова что-то замерцало у них перед глазами. Сэма слегка тряхнуло, и дневной свет превратился в предрассветную тьму. Где-то позади, в пещере у подножья скал, стоял еще один трицератанк, а на подстилке из веток крепко спали еще один Карпентер, еще один Скип и еще одна Марси.
— А далеко назад мы сейчас перепрыгнули, мистер Карпентер? — поинтересовался Скип.
Карпентер включил фары и принялся выводить Сэма из рощицы.
— На четыре часа. Теперь у нас должно хватить времени, чтобы добраться до корабля и устроиться там до возвращения наших приятелей. Может быть, мы попадем туда еще до того, как они отправятся на поиски, если только они не разыскивают нас круглые сутки.
— А что если они найдут нас и в этом времени? — возразила Марси. — Ведь тогда мы снова попадем в такой же переплет?
— Не исключено, крошка. Но все шансы за то, что они нас не нашли. Иначе они бы не стали искать нас потом, верно?
Она с восхищением посмотрела на него.
— Знаете что, мистер Карпентер? Вы ужасно умный.
В устах девочки, которая могла в уме умножить 4.692.438.921 на 828.464.280, этот комплимент кое-чего стоил. Однако Карпентер и виду не показал, что он польщен.
— Надеюсь, ребята, что вы теперь найдете корабль? — сказал он.
— Мы уже на правильном курсе, — ответил Скип. — Я знаю, у меня врожденное чувство направления. Он замаскирован под большое дерево.
Взошло солнце — уже во второй раз в это утро. Как и вчера, размеры и внешний вид Сэма нагоняли страх на разнообразных животных мелового периода, попадавшихся им навстречу. Правда, если бы им повстречался тиранозавр, еще не известно, кто на кого нагнал бы страху. Но тиранозавра они не встретили. К восьми часам они уже были в тех местах, куда накануне попал Карпентер, покинув лесистые холмы.
— Смотрите! — вдруг воскликнула Марси. — Вот дерево, на которое мы залезли, когда удирали от того горбатого чудовища!
— Точно, — отозвался Скип. — Ну и струхнули же мы!
Карпентер усмехнулся.
— Оно, наверное, приняло вас за какое-нибудь новое растение, которого еще ни разу не пробовало. Хорошо, что я вовремя подвернулся, а то оно, пожалуй, расстроило бы себе желудок.
Сначала они уставились на него непонимающими глазами, и он подумал: слишком велика пропасть между двумя языками и двумя мирами, чтобы ее могла преодолеть эта немудреная шутка… Но он ошибся. Сначала расхохоталась Марси, а за ней и Скип.
— Ну, вы даете, мистер Карпентер! — заливалась Макси.
А Сэм тем временем двигался дальше. Местность становилась все более открытой — из крупных растений здесь попадались в основном лишь пальметтовые рощицы и кучки веерных пальм. Далеко справа над горизонтом, и без того затянутым дымкой, курились вулканы. Впереди виднелись горы, вершины которых прятались в мезозойском смоге. Воздух был такой влажный, что на колпаке кабины все время оседали капли воды и скатывались вниз, как в дождь. Вокруг кишели черепахи, ящерицы и змеи, а один раз над головами быстро пролетел настоящий птеранодон.
Наконец они добрались до реки, про которую рассказывала Марси и приближение которой уже давно предвещала все более сырая, топкая почва. Ниже по течению Карпентер впервые в жизни увидел бронтозавра.
Он показал на него детям, и они вытаращили глаза от изумления. Бронтозавр лежал посередине медленно текущей реки. Над водой виднелись только его крохотная голова, длинная шея и часть спины. Шея напоминала стройную, гибкую башню — всю картину портило только то, что она то и дело ныряла в папоротники и камыши, окаймлявшие берег. Несчастное животное было до того велико, что ему, чтобы не умереть с голоду, приходилось кормиться буквально день и ночь напролет.
Карпентер отыскал брод и повел Сэма через реку к противоположному берегу. Здесь земля казалась потверже, но это впечатление было обманчиво: навигационные приборы Сэма показывали, что трясины попадаются здесь еще чаще. («Боже правый, — подумал Карпентер. — Что если бы ребята забрели в такую трясину?») Вокруг в изобилии росли папоротники, под ногами расстилался толстый ковер из низкорослого лавра и осоки. Пальметт и веерных пальм по-прежнему было больше всего, но время от времени стали попадаться гинкго. Одно из них, настоящий гигант, возвышалось больше чем на полсотни метров над землей.
Карпентер в недоумении разглядывал это дерево. В меловой период гинкго росли обычно на высоких местах, а не в низинах. К тому же дереву таких размеров вообще нечего было делать в меловом периоде.
У гинкго-гиганта были и другие странности. Прежде всего у него был слишком толстый ствол. Кроме того, нижняя часть его, примерно до шестиметровой высоты, была разделена на три самостоятельных ствола — они образовывали нечто вроде треножника, на котором покоилось дерево.
И тут Карпентер увидел, что оба его подопечных взволнованно показывают пальцами на то дерево, которое он разглядывал.
— Оно самое! — вскричал Скип. — Это и есть корабль!
— Вот оно что! Не удивительно, что я обратил на него внимание, — сказал Карпентер. — Ну, не ахти как хорошо они его замаскировали. Я даже вижу гнездо для крепления самолета.
— А они не очень старались, чтобы его не было видно с земли, — объяснила Марси. — Главное — как он выглядит сверху. Конечно, если Космическая полиция подоспеет вовремя, она рано или поздно обнаружит его своими детекторами, но по крайней мере на некоторое время такой маскировки хватит.
— Ты как будто не рассчитываешь на то, что полиция подоспеет вовремя.
— Да нет, конечно. Со временем-то они сюда доберутся, но на это понадобится не одна неделя, а может быть, и не один месяц. Их радарной разведке нужно порядочно времени, чтобы выследить путь корабля, к тому же они почти наверняка еще даже не знают, что нас похитили. До сих пор в таких случаях, когда похищали детей из Института, правительство сначала платило выкуп, а уж потом сообщало в Космическую полицию. Конечно, даже после того, как уплачен выкуп и дети возвращены, Космическая полиция все равно приступает к поискам похитителей и рано или поздно находит, где они прятались, но к тому времени их обычно и след простыл.
— Ну что ж, — сказал Карпентер, — я думаю, давно пора кому-нибудь первому их поймать. Как, по-вашему?
Спрятав Сэма в ближайшей пальметтовой рощице и выключив защитное поле, Карпентер залез под сиденье водителя и вытащил оттуда единственное портативное оружие, которым был снабжен трицератанк, — легкую, но с сильным боем винтовку, которая стреляла парализующими зарядами. Такую винтовку САПО сконструировало специально для своих служащих, чья работа была связана с путешествиями во времени. Перекинув ремень через плечо, Карпентер откинул колпак, вылез на морду Сэма и помог детям спуститься на землю. Все трое подошли к кораблю.
Скип вскарабкался на посадочную стойку, взобрался немного выше по стволу, и через какие-нибудь несколько секунд шлюзовая камера открылась. Скип спустил вниз алюминиевую лестницу.
— Все готово, мистер Карпентер.
Марси оглянулась через плечо на пальметтовую рощицу.
— А Сэм — с ним ничего не случится, как вы думаете?
— Конечно, ничего, крошка, — успокоил ее Карпентер. — Ну, полезай.
Кондиционированный воздух внутри корабля имел примерно такую же температуру, как и в кабине Сэма; освещение было холодным и тусклым.
За внутренним люком шлюзовой камеры короткий коридор вел к стальной винтовой лестнице, которая шла вверх, к жилым палубам, и вниз, в машинное отделение. Карпентер взглянул на часы, которые раньше отвел на четыре часа назад, — было 8:24. Через несколько минут птеранодоны начнут атаковать Сэма, Карпентера, Марси и Скипа в «предыдущем» времени. Даже если тогда похитители сразу после этого направились к кораблю, времени еще достаточно — во всяком случае, хватит на то, чтобы послать радиограмму, а потом приготовить задуманную ловушку. Правда, радиограмму можно будет послать и тогда, когда Роул, Фритад и Холмер будут крепко заперты в своих каютах, но если что-нибудь сорвется, такая возможность может вообще не представиться, так что лучше сделать это сразу же.
— Ну вот что, ребята, — сказал Карпентер. — Закройте шлюз и ведите меня в радиорубку.
Первую часть приказания они исполнили с большой готовностью, но выполнять вторую почему-то не спешили. В коридоре Марси остановилась. Ее примеру последовал и Скип.
— Зачем вам радиорубка, мистер Карпентер? — спросила Марси.
— Чтобы вы могли сообщить наши координаты Космической полиции и сказать им, чтобы они спешили сюда. Надеюсь вы с этим справитесь?
Скип поглядел на Марси, Марси — на Скипа. Потом оба покачали головой.
— Погодите, — с досадой сказал Карпентер. — Ведь вы прекрасно знаете, как это делается. Почему вы делаете вид, что не умеете?
Скип уставился в пол.
— Мы… мы не хотим домой, мистер Карпентер.
Карпентер взглянул в их серьезные лица.
— Но вы должны вернуться домой! Куда же вы еще денетесь?
Они молчали, пряча от него глаза.
— В общем так, — продолжал он через некоторое время. — Если нам удастся поймать Роула, Фритада и Холмера, все прелестно. Мы продержимся здесь, пока не прибудет Космическая полиция, и сдадим их ей. Но если что-нибудь сорвется и мы их не поймаем, у нас по крайней мере останется еще один козырь — та самая радиограмма, которую вы сейчас пошлете. Теперь дальше. Я примерно представляю себе, сколько времени нужно космическому кораблю, чтобы добраться с Марса на Землю. Но я, конечно, не знаю, за сколько времени это могут сделать ваши корабли. Так что скажите-ка мне, через сколько дней Космическая полиция будет здесь, на Земле, после того как получит вашу радиограмму?
— При нынешнем расположении планет чуть больше чем через четверо суток, — сказала Макси. — Если хотите, мистер Карпентер, я могу рассчитать время в точностью до…
— Не надо, достаточно и этого, крошка. А теперь лезь наверх, и ты тоже, Скип. Нечего терять время!
Дети нехотя повиновались. Радиорубка находилась на второй палубе. Кое-какая аппаратура показалась Карпентеру знакомой но большая часть представляла для него совершенную загадку. За огромным, от пола до потолка, иллюминатором открывался вид на доисторическую равнину. Взглянув вниз сквозь фальшивую листву, Карпентер увидел пальметтовую рощицу, где был спрятан Сэм. Он внимательно оглядел горизонт — не возвращаются ли птеранодоны. Но в небе ничего не было видно. А отвернувшись от иллюминатора, он увидел, что в рубке появился кто-то четвертый. Карпентер сбросил с плеча винтовку и почти успел вскинуть ее, когда металлическая трубка в руке этого четвертого издала резкий скрежещущий звук, и винтовка исчезла.
Не веря своим глазам, Карпентер уставился на собственные руки.
4
Человек, появившийся в рубке, был высок и мускулист. Одет он был примерно так же, как Макси и Скип, но побогаче. На его узком лице было написано ровно столько же душевных переживаний, сколько на сушеной груше, а металлическая трубка в его руке была направлена Карпентеру точно между глаз. Не требовалось особых объяснений, чтобы понять: сдвинься Карпентер с места хоть на полшага, и с ним произойдет то же, что и с винтовкой. Впрочем, человек снизошел до того, что сообщил ему:
— Если двинешься — распылю.
— Нет, Холмер! — вскричала Макси. — Не смей его трогать! Он просто помог нам, потому что ему стало нас жалко!
— Постой, крошка, ты же как будто говорила, что их только трое? — сказал Карпентер, не сводя глаз с Холмера.
— Их на самом деле трое, мистер Карпентер. Честное слово! Наверное, третий птеранодон был беспилотный. Они нас перехитрили!
Холмер должен был бы ухмыльнуться, но он не ухмыльнулся. Он заговорил, и в его голосе должно было бы прозвучать торжество, но и этого не было.
— Мы так и думали, приятель, — ты из будущего, — сказал он. — Мы тут устроились довольно давно и знали, что ты не можешь быть из настоящего. А раз так, нетрудно было сообразить, что когда этот твой танк вчера исчез, ты прыгнул во времени или вперед, или назад, и два против одного, что назад. Мы решили рискнуть, предположили, что ты проделаешь то же еще раз, если тебя прижать к стене, и устроили для тебя небольшую ловушку. Мы рассудили, что у тебя хватит ума в нее попасть. И верно — хватило. Я не распыляю тебя прямо сейчас же только потому, что еще не вернулись Роул и Фритад. Я хочу, чтобы они сначала на тебя полюбовались. А потом я тебя распылю, будь уверен. И этих обоих тоже. Нам они больше не нужны.
У Карпентера мороз пробежал по спине. В этих чисто логических рассуждениях было слишком много от самой обыкновенной мстительности. Возможно, птеранодоны чуть ли не с самого начала пытались «распылить» Марси, Скипа, Сэма и его самого, и если бы не защитное поле Сэма, несомненно, так бы и сделали. «Ну ничего, — подумал Карпентер. — Логика — палка о двух концах, и не один ты умеешь ею пользоваться».
— А скоро вернутся твои дружки? — спросил он.
Холмер ответил непонимающим взглядом. И тут Карпентер заметил, что у Холмера в ушах нет сережек.
Карпентер повернулся к Марси:
— Скажи-ка мне, крошка, если этот корабль упадет на бок, не взорвется ли тут что-нибудь — от изменения положения, например, или от удара о землю? Ответь «да» или «нет», иначе наш приятель поймет, о чем мы говорим.
— Нет, мистер Карпентер.
— А конструкция корабля достаточно прочная? Переборки нас не раздавят?
— Нет, мистер Карпентер.
— А аппаратура в рубке? Она хорошо закреплена? Не упадет на нас?
— Нет, мистер Карпентер.
— Хорошо. Теперь постарайтесь вместе со Скипом как можно незаметнее подвинуться вон к той стальной колонне в центре. Когда корабль начнет валиться, хватайтесь за нее и держитесь изо всех сил.
— Что он тебе говорит, девчонка? — резко спросил Холмер.
Марси показала ему язык.
— Так я тебе и сказала!
Очевидно, способность принимать хладнокровно взвешенные решения, руководствуясь исключительно строгой логикой, отнюдь не сопровождалась способностью соображать быстро. Только в эту минуту десентиментализированный марсианин понял, что из всех присутствующих лишь у него одного нет сережек.
Он полез в небольшую сумку, висевшую у него на поясе, достал оттуда пару сережек и начал одной рукой надевать их, продолжая держать в другой распылитель, нацеленный Карпентеру в лоб. Карпентер нащупал большим пальцем правой руки крохотные выпуклости на управляющем перстне, надетом на его указательный палец, отыскал нужные и нажал на них в нужной последовательности. Внизу, на равнине, из пальметтовой рощицы показалась тупоносая морда Сэма.
Карпентер сосредоточился и начал мысленно передавать по телепатическому каналу, который теперь соединил его мозг с крестцовым нервным центром Сэма:
— Сэм, убери рогопушки и включи защитное поле вокруг колпака кабины.
Сэм выполнил приказ.
— Теперь отступи назад, разбегись как следует, упрись в посадочную стойку справа от тебя и вышиби ее. А потом удирай во все лопатки!
Сэм выполз из рощицы, развернулся и рысью пробежал сотню метров по равнине. Потом он снова развернулся, готовясь к предстоящей атаке, и медленно двинулся вперед, а затем переключился на вторую передачу. Его топот превратился в громовые раскаты, которые проникли сквозь переборки в радиорубку. Холмер, который наконец вставил в уши сережки, вздрогнул и шагнул к иллюминатору.
К этому времени Сэм уже несся к кораблю, как таран. Не нужно было иметь семи пядей во лбу, чтобы сообразить, что произойдет дальше.
Холмер имел не меньше семи пядей во лбу. Но иногда лишний ум не менее опасен, чем скудоумие. Так было и на этот раз. Позабыв о Карпентере, марсианин повернул рычажок справа от иллюминатора. Толстое небьющееся стекло скользнуло вбок, в стену. Марсианин высунулся наружу и направил свой распылитель вниз. В то же мгновение Сам врезался в посадочную стойку, и Холмер пулей вылетел в раскрытый иллюминатор.
Дети уже вцепились в колонну. Сделав отчаянный прыжок, Карпентер присоединился к ним.
— Держись, ребята! — крикнул он и повис на колонне. Сначала корабль кренился медленно, потом начал падать все быстрее. В такие моменты лесорубы обычно кричат: «Пошел!» На этот раз кричать было некому, что не помешало гинкго благополучно завершить падение. На многие километры вокруг попрятались ящерицы, зарылись в землю черепахи, застыли, разинув рот, зауроподы. «БУММММ!» Карпентера вместе с детьми оторвало от колонны, но он ухитрился обхватить их и смягчить их падение своим телом.
От удара о переборку спиной у него перехватило дыхание. И все погрузилось во тьму.
Через некоторое время у него в глазах посветлело. Он увидел лицо Марси, парящее над ним, наподобие маленькой бледной луны. Ее глаза были как осенние астры после первого заморозка.
Она расстегнула ему воротник и, плача, гладила его щеки. Он улыбнулся ей, с трудом поднялся на ноги и огляделся. В радиорубке ничего не изменилось, но выглядела она как-то странно. Потом он понял: это оттого, что он стоит не на палубе, а на переборке. К тому же он все еще был сильно оглушен.
— Я боялась, что вы умерли, мистер Карпентер! — сквозь слезы говорила Макси.
Он взъерошил ее лютиковые волосы.
— Что, здорово я тебя обманул?
Через дверь, теперь оказавшуюся в горизонтальном положении, в рубку вошел Скип, держа в руках небольшой контейнер. При виде Карпентера лицо его осветилось радостью.
— Я пошел за укрепляющим газом, но, похоже, он вам уже не понадобится. Ну и рад же я, что с вами ничего не случилось, мистер Карпентер!
— С вами, кажется, тоже? — спросил Карпентер и с облегчением услышал утвердительный ответ. Все еще немного оглушенный, он взобрался по плавно изогнутой переборке к иллюминатору и выглянул наружу. Сэма нигде не было видно. Вспомнив, что канал телепатической связи все еще включен, Карпентер приказал трицератанку вернуться, а потом вылез через иллюминатор, спустился на землю и отправился искать тело Холмера. Поиски оказались безуспешными. Карпентер решил было, что Холмер остался жив и скрылся в лесу. Но потом он наткнулся на одну из трясин, которыми изобиловала местность. При виде ее взбаламученной поверхности он содрогнулся. Ну ладно — во всяком случае, теперь он знает, чьи это останки. Вернее, чьи это были останки.
В это время показался Сэм. Он приблизился тяжелой рысью, обогнув трясину, вовремя замеченную его навигационными приборами. Карпентер похлопал ящероход по голове, на которой не осталось ни малейших следов от недавнего столкновения с посадочной стойкой, потом выключил телепатическую связь и вернулся в корабль. Марси и Скип стояли у иллюминатора и не сводили глаз с неба. Карпентер повернулся и тоже посмотрел вверх. Над горизонтом виднелись три темных пятнышка.
Тут в голове у него окончательно прояснилось, он схватил обоих детей в охапку и помог им спуститься на землю.
— Бегите к Сэму! — крикнул он. — Скорее!
Сам он бросился вслед, но, несмотря на свои длинные ноги, не мог за ними угнаться. Они успели добежать до ящерохода и карабкались в кабину, а он не пробежал еще и полпути. Птеранодоны были уже близко — он видел на земле их тени, быстро его настигавшие. Но он не заметил под ногами небольшую черепаху, которая изо всех сил старалась убраться у него с дороги. Он споткнулся об нее и растянулся на земле.
Подняв голову, он увидел, что Марси и Скип уже захлопнули колпак Сэма. А через секунду он оцепенел от ужаса: ящероход исчез!
И вдруг на землю легла еще одна тень — такая огромная, что она поглотила птеранодонов.
Карпентер повернулся на бок и увидел космический корабль — он опускался на равнину, словно какой-то внеземной небоскреб. В то же мгновение из его верхней части вылетели три радужных луча. «ПФФФТ! ПФФФТ! ПФФФТ!» И все три птеранодона исчезли.
Небоскреб грузно приземлился, открыл люки размером с парадный подъезд и выкинул трап шириной с тротуар Пятой авеню. Из люка по трапу двинулась Подмога. Карпентер взглянул в другую сторону и увидел, что Сэм снова появился на том самом месте, где исчез. Колпак откинулся, и из кабины показались Марси и Скип в клубах голубоватого дыма.
Карпентер понял, что произошло, и про себя навсегда распрощался с двадцать вторым веком.
Дети подбежали к нему в тот момент, когда командующий Подмогой выступил перед фронтом своего войска. Оно состояло из шести рослых марсиан в пурпурных тогах, с суровыми лицами и распылителями в руках. Командир был еще более рослым, в еще более пурпурной тоге, с еще более суровым лицом, а в руке у него было нечто вроде волшебной палочки, какие бывают у фей. Он окинул Карпентера недобрым взглядом, потом таким же недобрым взглядом окинул обоих детей.
Дети помогли Карпентеру подняться на ноги. Не то чтобы он физически нуждался в помощи — просто он был ошарашен стремительной сменой событий и слегка растерялся. Макси плакала.
— Мы не нарочно сломали Сэма, мистер Карпентер, — глотая слова от волнения, говорила она. — Но, чтобы спасти вам жизнь, оставалось только одно прыгнуть назад на четыре дня, два часа, шестнадцать минут и три и три четверти секунды, пробраться на борт корабля похитителей и дать радиограмму Космической полиции. Иначе они не поспели бы вовремя. Я сообщила им, что вы попали в беду и чтобы у них были наготове радугометы. А потом, как раз когда мы хотели вернуться в настоящее, у Сэма сломался временной двигатель, и Скипу пришлось его чинить, а потом Сэм все равно перегорел. Простите нас, пожалуйста, мистер Карпентер! Теперь вы больше никогда не сможете вернуться в 79.062.156 год, и увидеть мисс Сэндз, и…
Карпентер похлопал ее по плечу.
— Ничего, крошка. Все в порядке. Вы правильно сделали, и я вами горжусь.
Он восхищенно покрутил головой.
— Это же надо было все так точно рассчитать!
Улыбка пробилась сквозь слезы, и слезы высохли.
— Я… я же неплохо считаю, мистер Карпентер.
— А рубильник включил я! — вмешался Скип. — И временной двигатель починил тоже я, когда он сломался!
Карпентер усмехнулся.
— Знаю, Скип. Вы оба просто молодцы.
Он повернулся к рослому марсианину с волшебной палочкой в руках и заметил, что тот уже вдел в уши сережки.
— Я полагаю, что столь же обязан вам, как и Марси со Скипом, — сказал Карпентер. — И я весьма признателен. А теперь мне, боюсь, придется просить вас еще об одном одолжении — взять меня с собой на Марс. Мой ящероход перегорел, и отремонтировать его могут только специалисты, да и то лишь в сверхсовременной мастерской со всеми приспособлениями. Из этого следует, что я лишен всякой возможности связаться с временем, из которого сюда прибыл, или в него вернуться.
— Мое имя Гаутор, — сказал рослый марсианин и повернулся к Марси. — Изложи мне со всей краткостью, на какую ты способна, все, что произошло начиная с твоего прибытия на эту планету и до настоящего момента.
Марси повиновалась.
— Так что вы видите, сэр, — закончила она, — помогая Скипу и мне, мистер Карпентер оказался в очень тяжелом положении. Вернуться в свое время он не может, выжить в этом времени — тоже. Мы просто вынуждены взять его с собой на Марс, и все.
Гаутор ничего не ответил. Он небрежным жестом поднял свою волшебную палочку, направил ее на лежащий корабль похитителей и повернул рукоятку. Палочка загорелась яркими зелеными и синими огнями. Через несколько секунд из небоскреба вылетел радужный сноп огня, упал на корабль похитителей, и с кораблем произошло то же, что и с тремя птеранодонами. Гаутор повернулся к своим людям.
— Проводите детей на борт полицейского крейсера и обеспечьте им должный уход.
Потом он повернулся к Карпентеру.
— Правительство Большого Марса выражает вам признательность за оказанную услугу — спасение двух его будущих бесценных граждан. Я благодарю вас от его имени. А теперь, мистер Карпентер, прощайте.
Гаутор отвернулся. Макси и Скип бросились к нему.
— Вы не можете его здесь оставить! — вскричала Марси. — Он погибнет!
Гаутор дал знак двоим марсианам, к которым только что обращался. Они прыгнули вперед, схватили детей и поволокли их к кораблю-небоскребу.
— Погодите, — вмешался Карпентер, несколько озадаченный новым поворотом событий, но не потерявший присутствия духа.
— Я не умоляю о спасении моей жизни, но если вы примете меня в свое общество, я могу принести вам кое-какую пользу. Я могу, например, научить вас путешествовать во времени. Могу…
— Мистер Карпентер, если бы мы хотели путешествовать во времени, мы бы давным-давно этому научились. Путешествие во времени — занятие для глупцов. Прошлое уже случилось, и изменить его нельзя. Так стоит ли пытаться? Что же касается будущего — нужно быть идиотом, чтобы стремится узнать, что будет завтра.
— Ну ладно, — сказал Карпентер, — тогда я не буду изобретать путешествие во времени, буду держать язык за зубами, жить тихо-спокойно и стану примерным гражданином.
— Не станете, мистер Карпентер, и вы сами это прекрасно знаете. Для этого вас нужно десентиментализировать. А по выражению вашего лица я могу сказать, что вы никогда добровольно на это не согласитесь. Вы скорее останетесь здесь, в вашем доисторическом прошлом, и здесь погибнете.
— Раз уж на то пошло, пожалуй, я так и сделаю, — ответил Карпентер. — Даже тиранозавр в сравнении с вами — просто филантроп, а уж все остальные динозавры, и ящеротазовые, и птицетазовые, не в пример человечнее. Но, мне кажется, есть одна простая вещь, которую вы могли бы для меня сделать без особого ущерба для своего десентиментализированного душевного спокойствия. Вы могли бы дать мне какое-нибудь оружие взамен того, что уничтожил Холмер.
Гаутор покачал головой.
— Как раз этого я и не могу сделать, мистер Карпентер, потому что оружие легко может быть обнаружено вместе с вашими останками, и тем самым на меня ляжет ответственность за анахронизм. Один такой анахронизм уже отчасти на моей совести — труп Холмера, который мы не можем извлечь. Я не хочу рисковать и брать на себя новую ответственность. Как вы думаете, почему я уничтожил корабль похитителей?
— Мистер Карпентер! — крикнул Скип с трапа, по которому его с сестрой волокли двое марсиан. — Может быть, Сэм не совсем перегорел? Может быть, у него еще хватит сил хотя бы послать назад банку зайчатины?
— Боюсь, что нет, Скип, — крикнул в ответ Карпентер. — Но ничего страшного, ребята. Не беспокойтесь за меня — я перебьюсь. Животные всегда меня любили, а ведь ящеры — тоже животные. Может быть, и они меня полюбят?
— О, мистер Карпентер, — прокричала Марси, — мне ужасно жаль, что все так вышло. Почему вы не взяли нас с собой в ваш 79.062.156 год? Мы все время этого хотели, только боялись сказать.
— Да, надо бы мне так сделать, крошка, надо бы…
В глазах у него все вдруг расплылось, и он отвернулся. Когда же он снова взглянул в ту сторону, двое марсиан уводили Марси и Скипа в шлюзовую камеру. Он помахал рукой.
— Прощайте, ребята! — крикнул он. — Я никогда вас не забуду!
Марси сделала последнюю отчаянную попытку вырваться. Еще немного — и это бы ей удалось. В ее глазах, похожих на осенние астры, утренней росой блестели слезы.
— Я люблю вас, мистер Карпентер! — успела она прокричать перед тем, как скрылась из виду. — Я буду любить вас всю жизнь!
Двумя ловкими движениями Гаутор вырвал сережки из ушей Карпентера, потом вместе с остальными марсианами поднялся по трапу и вошел в корабль.
«Вот тебе и подмога», - подумал Карпентер. Парадный подъезд захлопнулся. Небоскреб дрогнул, величественно поднялся в воздух и некоторое время парил над Землей. Наконец, отбросив слепящий поток света, он устремился в небо, взвился к зениту и превратился в звездочку. Это не была падающая звезда и все-таки Карпентер загадал желание.
— Желаю вам обоим счастья, — сказал он. — И желаю, чтобы они не смогли отнять у вас сердце, потому что уж очень хорошие у вас сердца.
Звездочка поблекла, замерцала и исчезла. Он остался один на обширной равнине.
Земля дрогнула. Повернувшись, он увидел, что справа, рядом с тремя веерными пальмами, движется что-то большое и темное. Через мгновение он различил гигантскую голову и массивное, прямостоящее туловище. Два ряда саблевидных зубов сверкнули на солнце, и он невольно сделал шаг назад.
Это был тиранозавр.
5
Ящероход, даже если он сломан, — все же лучше, чем ничего. И Карпентер помчался к Сэму. Забравшись в кабину и захлопнув колпак, он смотрел, как приближается тиранозавр. Было ясно, что хищник заметил Карпентера и теперь направляется прямо к Сэму. Защитное поле кабины было выключено Марси со Скипом, и Карпентер представлял собой довольно-таки легкую добычу. Однако он не спешил убраться в каюту, потому что Марси и Скип оставили выдвинутыми рогопушки. Навести их теперь было невозможно, но стрелять они все еще могли. Если бы тиранозавр подошел на нужное расстояние, то его, может быть, удалось бы на некоторое время вывести из строя парализующими зарядами. Правда, пока что тиранозавр приближался под прямым углом к направлению, куда смотрели рогопушки, но все еще оставалась надежда на то, что прежде чем напасть, он окажется перед ними, и Карпентер решил выждать.
Он низко пригнулся на сиденье, готовый нажать на спуск. Кондиционер не работал, и в кабине было жарко и душно. К тому же в воздухе стоял едкий запах горелой изоляции. Карпентер заставил себя не обращать на это внимание и сосредоточился.
Тиранозавр был уже так близко, что можно было разглядеть его атрофированные передние ноги. Они свисали с узких плеч чудовища, словно высохшие лапки какого-то другого существа, раз в десять меньшего. Над ними, в добрых семи метрах от земли, на шее толщиной со ствол дерева возвышалась гигантская голова: под ними уродливый торс, расширяясь книзу, переходил в задние ноги. Мощный хвост волочился позади, и треск ломающихся под его тяжестью кустов сопровождал громовые удары, которые раздавались всякий раз, когда на землю ступала огромная лапа с птичьим когтем на конце. Карпентер должен был бы оцепенеть от ужаса — он никак не мог понять, почему ему не страшно.
В нескольких метрах от трицератанка тиранозавр остановился, и его приоткрытая пасть разинулась еще шире. Полуметровые зубы, торчавшие из челюстей, могли сокрушить лобовой колпак Сама как бумажный, и, по всей видимости, именно это чудовище и собиралось вот-вот сделать. Карпентер приготовился поспешно ретироваться в каюту, но в самый страшный момент тиранозавру как будто не понравилось выбранное им направление атаки, и он начал приближаться к ящероходу спереди, предоставляя Карпентеру долгожданную возможность. Его пальцы легли на первую из трех спусковых кнопок, но не нажали ее. «Почему же все-таки мне совсем не страшно?» — пронеслось в его голове.
Он взглянул сквозь колпак на чудовищную голову. Огромные челюсти продолжали раскрываться все шире. Вот уже вся верхняя часть черепа поднялась вертикально. Карпентер не поверил своим глазам — над нижним рядом зубов показалась еще одна голова, на этот раз отнюдь не чудовищная, и посмотрела на него ясными голубыми глазами.
— Мисс Сэндз! — выдохнул он и чуть не свалился с водительского сиденья.
Придя в себя, он откинул колпак, вышел на тупоносую морду Сэма и любовно похлопал тиранозавра по брюху.
— Эдит! — сказал он ласково. — Эдит, милочка, это ты!
— Вы целы, мистер Карпентер? — крикнула сверху мисс Сэндз.
— Вполне, — ответил Карпентер. — Ну и рад же я вас видеть, мисс Сэндз!
Рядом с ее головкой показалась еще одна — знакомая каштановая голова Питера Детрайтеса.
— А меня вы тоже рады видеть, мистер Карпентер?
— Еще бы, Пит, приятель!
Мисс Сэндз выдвинула из нижней губы Эдит трап, и оба спустились вниз. Питер Детрайтес тащил за собой буксирный трос, который тут же принялся прицеплять к морде Сэма и к хвосту Элит. Карпентер помогал ему.
— А откуда вы узнали, что мне пришлось туго? — спросил он. — Ведь я ничего не посылал.
— Сердце подсказало, — ответил Питер Детрайтес и повернулся к мисс Сэндз. — Ну, у нас все, Сэнди.
— Что ж, тогда поехали, — откликнулась мисс Сэндз. Она взглянула на Карпентера и быстро опустила глаза. — Если, конечно, вы уже покончили со своим заданием, мистер Карпентер.
Теперь, когда первое радостное возбуждение схлынуло, он почувствовал, что снова, как и прежде, совсем теряется в ее присутствии.
— Покончил, мисс Сэндз, — сказал он, обращаясь к левому карману ее куртки. — И вы не поверите, как все обернулось!
— Ну, не знаю. Бывает, самые невероятные вещи на поверку оказываются самыми правдоподобными. Я приготовлю вам что-нибудь поесть, мистер Карпентер.
Она легко поднялась по лестнице. Карпентер последовал за ней, а за ним — Питер Детрайтес.
— Я сяду за руль, мистер Карпентер, — сказал он. — Похоже, что вы порядком измотаны.
— Так оно и есть, — признался Карпентер.
Спустившись в каюту Эдит, он рухнул на койку. Мисс Сэндз зашла в кухонный отсек, поставила воду для кофе и достала из холодильника ветчину. Питер Детрайтес, оставшийся наверху, в кабине, захлопнул колпак, и Эдит тронулась.
Питер был прекрасным водителем и готов был сидеть за рулем день и ночь. И не только сидеть за рулем — он мог бы с закрытыми глазами разобрать и собрать любой ящероход. «Странно, почему они с мисс Сэндз не влюбились друг в друга? — подумал Карпентер. — Они оба такие милые, что им давно следовало бы это сделать». Конечно, Карпентер был рад, что этого не произошло, хотя ему-то от этого было не легче.
А почему они ни слова не сказали о корабле Космической полиции? Ведь не могли же они не видеть, как он взлетает…
Эдит не спеша двигалась по равнине в сторону холмов. Через иллюминатор было видно, как за ней ковыляет Сэм. В кухоньке мисс Сэндз резала ветчину. Карпентер засмотрелся на нее, пытаясь отогнать печаль, навеянную расставанием с Марси и Скипом. Его взгляд остановился на ее стройных ногах, тонкой талии, поднялся выше, к медно-красным волосам, задержавшись на мгновение на шелковистом пушке, который покрывал ее шею под короткой стрижкой. Странно, что с возрастом волосы всегда темнеют…
Карпентер неподвижно лежал на койке.
— Мисс Сэндз, — сказал он вдруг. — Сколько будет 499.999.991 умножить на 8.003.432.111?
— 400.171.598.369.111.001.
Мисс Сэндз вдруг вздрогнула. А потом продолжала резать ветчину.
Карпентер медленно сел и спустил ноги на пол. У него сжалось сердце и перехватило дыхание.
Возьмите двух одиноких детишек. Один из них гений по части математики, другой — по части техники. Двое одиноких детишек, которые за всю свою жизнь не знали, что такое быть любимыми. Перевезите их на другую планету и посадите в ящероход, который при всех своих достоинствах — всего лишь чудесная огромная игрушка. Устройте для них импровизированный пикник в меловом периоде и приласкайте их впервые в жизни. А потом отнимите у них все это и в то же время оставьте им сильнейший стимул к возвращению — необходимость спасти человека. И при этом сделайте так, чтобы спасая его жизнь, они могли — в ином, но не менее реальном смысле слова — спасти свою.
Но 79.062.156 лет! 75.000.000 километров! Это невозможно! А почему?
Они могли тайком построить машину времени в своей подготовительной школе, делая вид, что готовятся к десентиментализации; потом, как раз перед тем, как начать принимать десентиментализирующий препарат, они могли войти в машину и совершить скачок в далекое будущее.
Правда, такой скачок должен был бы потребовать огромного количества энергии. Правда, картина, которую они увидели бы на Марсе, прибыв в будущее, не могла не потрясти их до глубины души. Но это были предприимчивые дети — достаточно предприимчивые, чтобы использовать любой значительный источник энергии, оказавшийся под рукой, и чтобы выжить при нынешнем климате и в нынешней атмосфере Марса до тех пор, пока не отыщут одну из марсианских пещер с кислородом. А там о них должны были бы позаботиться марсиане, которые научили бы их всему, что нужно, чтобы они смогли сойти за уроженцев Земли в одном из куполов-колоний. Что же касается колонистов, то те вряд ли стали бы задавать лишние вопросы, потому что были бы счастливы увеличить свою скудную численность еще на двух человек. Дальше детям оставалось бы только терпеливо ждать, пока они вырастут и смогут заработать на поездку на Землю. А там им оставалось бы только получить нужное образование и стать палеонтологами.
Конечно, на все это понадобилось бы много лет. Но они должны были предвидеть это и рассчитать свой прыжок во времени так, чтобы прибыть заранее и к 2156 году все успеть. И этого запаса времени только-только хватило: мисс Сэндз работает в САПО всего три месяца, а Питер Детрайтес устроился туда месяцем позже. По ее рекомендации, разумеется.
Они просто шли кружным путем, вот и все. Сначала 75.000.000 километров до Марса в прошлом; потом 79.062.100 лет до нынешнего Марса; снова 75.000.000 километров до нынешней Земли — и наконец, 79.062.156 лет в прошлое Земли.
Карпентер сидел на койке, пытаясь собраться с мыслями. Знали ли они, что это они будут мисс Сэндз и Питер Детрайтес? — подумал он. Наверное, знали — во всяком случае, именно на это они рассчитывали, потому и взяли себе такие имена, когда присоединились к колонистам. Получается парадокс, но не очень страшный, так что и беспокоиться об этом нечего. Во всяком случае, новые имена им вполне подошли.
Но почему они вели себя так, как будто с ним незнакомы? Так ведь они и были незнакомы, разве нет? А если бы они рассказали ему всю правду, разве он бы им поверил?
Конечно, нет.
Впрочем, все это ничуть не объясняло, почему мисс Сэндз так его не любит.
А может быть, дело совсем не в этом? Может быть, она так держится с ним потому же, почему и он так с ней держится? Может быть, и она так же боготворит его, как он ее, и так же теряется при нем, как и он при ней? Может быть, она старается по возможности на него не смотреть, потому что боится выдать свои чувства, пока он не узнает, кто она такая?
Все расплылось у него перед глазами.
Каюту заполнял ровный гул моторов Эдит. И довольно долго ничто больше не нарушало тишины.
— В чем дело, мистер Карпентер? — неожиданно сказала мисс Сэндз. — Заснули?
И тогда он встал. Она повернулась к нему. В глазах ее стояли слезы, она смотрела на него с нежностью и обожанием — точно так же, как смотрела прошлой ночью, 79.062.156 лет назад, у мезозойского костра в верхнемеловой пещере. «Да если вы скажете ей, что ее любите, она бросится вам на шею — вот увидите!»
— Я люблю тебя, крошка, — сказал Карпентер.
И она бросилась ему на шею.
Артур Кларк Встреча с медузой
Глава 1
С умеренной скоростью, триста километров в час, «Куин Элизабет IV» плыла по воздуху в пяти километрах над Большим Каньоном, когда Говард Фолкен заметил приближающуюся справа платформу телевидения. Он ожидал этой встречи — для всех остальных эта высота была сейчас закрыта, — однако соседство другого летательного аппарата не очень его радовало. Как ни дорого внимание общественности, а простор в небе еще дороже. Что ни говори, ему первому из людей доверено вести корабль длиной в полкилометра…
До сих пор первый испытательный полет проходил гладко. Нелепо, но факт: единственное затруднение было связано с древним авианосцем, который одолжили в морском музее Сан-Диего. Из четырех реакторов авианосца действовал только один, и наибольшая скорость старой калоши составляла всего тридцать узлов. К счастью, скорость ветра на уровне моря не достигала и половины этой цифры, и добиться штиля на взлетной палубе оказалось не так уж трудно. Правда, сразу после того, как были отданы швартовы, экипаж пережил несколько тревожных секунд из-за порывов ветра, но огромный дирижабль благополучно вознесся в небо, словно на невидимом лифте. Если все будет хорошо, «Куин Элизабет IV» только через неделю вернется на авианосец.
Все было в полном порядке, испытательные приборы давали нормальные показания. Капитан Фолкен решил подняться наверх и последить за стыковкой. Передав командование помощнику, он вышел в прозрачный туннель, который пронизывал весь корабль. И, как всегда, дух захватило при виде самого большого объема, какой человек когда-либо замыкал в одну оболочку. Десять наполненных газом шаровидных мешков, каждый тридцати метров в поперечнике, вытянулись в ряд исполинскими мыльными пузырями. Прочный пластик был настолько прозрачным, что Фолкен отчетливо видел руль высоты на другом конце корабля, за добрых полкилометра. Кругом простирался трехмерный лабиринт каркаса: длинные балки от носа до кормы и пятнадцать кольцевых шпангоутов, ребра небесного гиганта (их диаметр к концам убывал, придавая силуэту корабля изящество и обтекаемость). На малой скорости звуков было немного, только мягко шелестел ветер вдоль оболочки да иногда от меняющейся нагрузки поскрипывал металл. Бестеневой свет укрепленных высоко над головой Фолкена ламп придавал окружающему странное сходство с подводным миром, и вид прозрачных мешков с газом только усиливал это впечатление. Однажды на мелководье над тропическим рифом ему встретилась целая эскадрилья больших, но совсем безопасных, безотчетно плывущих кудато медуз. Пластиковые мешки, в которых таилась подъемная сила «Куин Элизабет», нередко напоминали ему этих пульсирующих медуз, особенно когда менялось давление и они морщились, переливаясь бликами отраженного света.
Фолкен подошел к лифту в носовой части, между первым и вторым газовыми отсеками. Поднимаясь на прогулочную палубу, он заметил, что слишком уж жарко, и продиктовал об этом несколько слов в карманный самописец. Около четверти подъемной силы «Куин Элизабет» обеспечивалось за счет неограниченного количества отработанного тепла реакторов. В этом полете загрузка была небольшая, поэтому только шесть из десяти газовых мешков содержали гелий, в остальных был воздух. А ведь двести тонн воды взято для балласта. Все же высокие температуры для подогрева отсеков затрудняли охлаждение переходов. Тут явно есть над чем еще поразмыслить… Выйдя на прогулочную палубу под ослепительные лучи солнца, проникающие через плексигласовую крышу, Фолкен ощутил приятное дуновение более прохладного воздуха. Пять или шесть рабочих, которым помогали столько же симпов, как называли супершимпанзе, торопливо заканчивали настилать танцевальную площадку, другие монтировали электропроводку, закрепляли кресла. Глядя на эту упорядоченную суету, Фолкен подумал, что вряд ли все приготовления будут завершены за месяц, оставшийся до первого регулярного рейса. Впрочем, это, слава богу, не его забота. Капитан не отвечает за программу круиза.
Рабочие приветствовали его жестами, симпы скалили зубы в улыбке.
Фолкен проследовал мимо них в полностью оборудованный «Небесный салон». Это был его любимый уголок на корабле. Когда начнется эксплуатация, здесь уже не уединишься… А пока можно позволить себе отключиться на несколько минут.
Он вызвал мостик, убедился, что по-прежнему все в порядке, и удобно расположился во вращающемся кресле. Внизу, лаская глаз плавным изгибом, серебрилась оболочка корабля. Сидя в верхней точке дирижабля, Фолкен обозревал громаду самого большого транспортного средства, какое когда-либо создавалось руками людей. Насытившись этим зрелищем, он перевел взгляд вдаль — до самого горизонта простирался фантастический дикий ландшафт, изваянный за полмиллиарда лет рекой Колорадо. Если не считать платформу телевидения (она сейчас опустилась пониже и снимала среднюю часть корабля), дирижабль был один в небе, до самого горизонта — голубая пустота. Во времена его деда, подумал Фолкен, голубизна была бы расписана дорожками конденсационных следов и запятнана дымом. Теперь — ни того, ни другого; загрязнение воздуха исчезло вместе с примитивной технологией, а дальние перевозки вынесли за пределы стратосферы, с Земли не видно и не слышно. В нижней атмосфере опять парили только птицы и облака. Впрочем, теперь к ним прибавилась «Куин Элизабет IV»…
Верно говорили в начале двадцатого века пионеры воздухоплавания: только так и надо путешествовать — в тишине, со всеми удобствами, дыша окружающим воздухом, а не замыкаясь от него в скорлупу, и достаточно близко к Земле, чтобы любоваться переменчивыми красотами суши и моря. На дозвуковых реактивных самолетах 1980-х годов, где пассажиры сидели по десять в ряд, о таких удобствах, о таком просторе можно было только мечтать.
Конечно, «Куин» никогда себя не окупит, и, даже если появятся, как задумано, другие корабли того же типа, лишь малая часть миллиардного населения Земли сможет насладиться этим беззвучным парением в небе, но обеспеченное, процветающее всемирное общество вполне могло позволить себе такие причуды, более того, оно нуждалось в новых зрелищах и впечатлениях. На свете найдется не меньше миллиона людей с достаточно высоким доходом, так что «Куин» не останется без пассажиров.
Тихо пискнул карманный коммуникатор. С мостика вызывал второй пилот.
— Капитан, разрешите стыковку? Все данные по испытанию получены, а телевизионщики наседают.
Фолкен посмотрел на платформу, которая парила на одном с ним уровне примерно в полутораста метрах.
— Давайте, — сказал он. — Действуйте, как договорились. Я послежу отсюда.
Обходя хлопочущих рабочих, он направился в конец прогулочной палубы, чтобы лучше видеть среднюю часть корабля. На ходу ощутил ступнями, как меняется вибрация, и, когда миновал салон, корабль остановился. Пользуясь своим универсальным ключом, Фолкен вышел на маленькую наружную площадку, рассчитанную на пять-шесть человек. Лишь низкие поручни отделяли здесь человека от обширной выпуклости оболочки — и от Земли далеко внизу. Волнующее место. И вполне безопасное, даже на полном ходу, потому что площадку надежно заслонял огромный задний обтекатель прогулочной палубы. Тем не менее пассажирам сюда доступа не будет — очень уж вид головокружительный.
Крышки переднего грузового люка открылись, будто двери огромной западни, и телевизионная платформа парила над ними, готовясь спуститься. В будущем этим путем на корабль попадут тысячи пассажиров и тонны груза. Лишь изредка «Куин» будет снижаться до уровня моря и швартоваться к своей плавучей базе.
Неожиданный порыв бокового ветра хлестнул по лицу Фолкена, и он крепче ухватился за поручень. Большой Каньон славится воздушными вихрями, но на этой высоте они не очень опасны. И Фолкен без особой тревоги следил за снижающейся платформой, которую теперь отделяло от корабля около полусотни метров. Управляющий ею на расстоянии искусный оператор уже раз десять выполнял этот нехитрый маневр — какие тут могут быть затруднения! Но что-то сегодня у него реакция замедленная… Ветер отнес платформу чуть ли не к самому краю люка. Мог бы и раньше притормозить… Отказала система управления? Вряд ли. Каждое звено многократно резервировано, системы дублированы, страховка полная. Аварий почти не бывает. Опять понесло, теперь влево… Уж не пьян ли оператор? Немыслимо, конечно, и все же Фолкен задал себе такой вопрос. Потом взялся за микрофон.
Снова хлестнул по лицу внезапный порыв ветра. Но Фолкен его почти не ощутил, он с ужасом смотрел на телевизионную платформу. Оператор изо всех сил старался овладеть управлением, выровнять платформу реактивными струями, но только усугубил положение. Платформа качалась все сильнее. Двадцать градусов… сорок… шестьдесят… девяносто…
— Включи автоматику, болван! — в отчаянии прокричал Фолкен в микрофон. — Ручное управление не действует!
Платформа опрокинулась вверх дном. Теперь реактивные струи, вместо того чтобы поддерживать, толкали ее вниз, словно вдруг переметнулись на сторону сил тяготения, которым до сих пор противоборствовали. Фолкен не слышал удара, только ощутил его. Он был уже на прогулочной палубе — спешил к лифту, чтобы спуститься на мостик. Рабочие тревожно кричали ему вдогонку, допытываясь, что случилось. Пройдет не один месяц, прежде чем он узнает ответ…
У самого лифта он передумал. Вдруг будет перебой с электроэнергией? Лучше не рисковать, пусть даже он потеряет несколько важных минут. И Фолкен побежал вниз по обвивающей лифтовую шахту спиральной лестнице. На полпути он остановился, чтобы определить степень повреждения. Проклятая платформа прошла насквозь через корабль и пропорола два газовых мешка. Они все еще опадали огромными прозрачными полотнищами. Уменьшение подъемной силы не пугало Фолкена — восемь отсеков целы, значит, достаточно сбросить балласт. Гораздо хуже, если не устоят металлические конструкции. Могучий остов уже протестующе кряхтел от чрезмерной нагрузки… Мало сохранить подъемную силу: если она неравномерно распределена, корабль сломает себе хребет.
Не успел Фолкен шагнуть на следующую ступеньку, как вверху показался визжащий от страха шимпанзе. С невообразимой скоростью он спускался, перехватываясь руками, по решетке лифтовой шахты. Перепуганный насмерть бедняга сорвал с себя фирменный комбинезон — может быть, в этом выразилось подсознательное стремление обрести былую свободу обезьяньего племени. Спускаясь бегом по лестнице, Фолкен с беспокойством следил, как животное настигает его. Обезумевший симп достаточно силен и опасен, особенно если страх заглушит внушенные навыки. Догнав Фолкена, обезьяна что-то затараторила, но в беспорядочном нагромождении слов он с трудом разобрал то и дело повторяемое жалобное «шеф». Даже теперь ждет указания от человека… Как не посочувствовать животному, которое по вине людей ни за что ни про что топало в непостижимую для него беду. Шимпанзе остановился вровень с Фолкеном, на другой стороне шахты. Широкие отверстия решетки позволяли легко преодолеть это препятствие, было бы желание. Меньше полуметра разделяли два лица, и Фолкен глядел прямо в расширенные от ужаса глаза. Никогда еще ему не приходилось видеть симпа так близко. И созерцая в упор его черты, Фолкен поймал себя на знакомом каждому, кто таким вот образом смотрелся в зеркало времени, странном чувстве, сочетающем родственное узнавание и неловкость. Похоже было, что соседство человека помогло симпу успокоиться. Фолкен показал вверх, в сторону прогулочной палубы, и раздельно произнес:
— Шеф… шеф… иди!
И с облегчением увидел, что шимпанзе его понял. Изобразив подобие улыбки, животное ринулось вверх тем же путем, каким спускалось. Ничего лучшего Фолкен не мог посоветовать. Если сейчас на «Куин» и есть безопасное место, так это наверху. Но капитану надо быть внизу. До капитанского мостика оставалось несколько шагов, когда заскрежетал ломающийся металл и корабль резко клюнул носом. Лампы погасли, но Фолкен достаточно хорошо различал окружающее благодаря столбу солнечного света, который ворвался в распахнутый люк и огромную прореху в оболочке. Много лет назад, стоя в нефе величественного собора, он смотрел, как пронизывающий цветные стекла свет красочными бликами ложится на старые каменные плиты. Бьющий через рваное отверстие далеко вверху сноп ослепительных лучей напомнил ему те минуты. Как будто он в падающем с неба металлическом соборе…
Вбежав на мостик, откуда наконец-то можно было выглянуть наружу, Фолкен с ужасом увидел, что Земля совсем близко. Какая-нибудь тысяча метров отделяла дирижабль от изумительных — и смертоносных — каменных шпилей и от красных илистых струй, которые упорно продолжали вгрызаться в прошлое. И ни одного ровного клочка, где мог бы лечь во всю длину корабль такой величины, как «Куин».
Он взглянул на приборную доску. Весь балласт сброшен. Но и скорость падения снизилась до нескольких метров в секунду. Еще можно побороться. Фолкен молча занял место пилота и взял управление на себя — насколько корабль вообще поддавался еще управлению. Говорить было ни о чем, приборы сказали ему все, что нужно. Где-то за его спиной начальник связи докладывал по радио о происходящем. Конечно, все информационные каналы Земли уже начеку… Фолкен представлял себе отчаяние режиссеров телевизионных станций. В разгаре одно из самых эффектных в истории кораблекрушений — и ни одной камеры на месте, чтобы запечатлеть его! Последние минуты «Куин» не будут наполнять содроганием и ужасом души миллионов зрителей, как это было с «Гинденбургом» полтора столетия назад. До Земли оставалось всего около пятисот метров, и она продолжала медленно надвигаться. Хотя в распоряжении Фолкена была полная мощь движителей, он до сих пор не решался их использовать, боясь, что развалится поврежденный остов. Однако выбора не было. Ветер нес «Куин» к развилке, где реку рассекала надвое высокая скала, похожая на форштевень некоего древнего, окаменевшего корабля. Если курс останется прежним, «Куин» оседлает треугольную площадку и на треть своей длины повиснет над пустотой. И переломится, как гнилая палка.
Фолкен включил боковые стройные рули и сквозь металлический скрежет и шипение уходящего газа услышал далекий знакомый свист. Корабль помешкал, потом начал поворачиваться влево. Металл скрежетал почти непрерывно, и скорость падения зловеще возрастала. Контрольные приборы сообщали, что лопнул газовый мешок номер пять…
До Земли оставались считанные метры, а Фолкен все еще не мог решить, будет ли толк от его маневра. Он перевел вектор тяги на вертикаль, чтобы предельно увеличить подъемную силу и ослабить удар. Столкновение с Землей растянулось на целую вечность. Оно было не таким уж сильным, но достаточно долгим и сокрушительным. Будто рушилась вся вселенная. Звук ломаемого металла приближался, словно некий могучий зверь вгрызался в остов погибающего корабля.
А потом пол и потолок зажали Фолкена в тисках.
Глава 2
— Почему тебе так хочется лететь на Юпитер?
— Как сказал Шпрингер, когда отправился на Плутон: потому что он существует.
— Ясно. А теперь выкладывай настоящую причину.
Говард Фолкен улыбнулся, хотя лишь тот, кто близко знал его, назвал бы улыбкой эту напряженную гримаску. Вебстер знал его близко. Больше двадцати лет они работали вместе, разделяя успех и катастрофы, в том числе самую грандиозную.
— Что же, штамп Шпрингера остается в силе. Мы высаживались на всех планетах земного типа, но на газовых гигантах не бывали. Можно сказать, что они — единственный стоящий орешек солнечной системы, который мы еще не разгрызли.
— Дорогостоящий орешек. Ты не прикидывал расходы?
— Попытался, вот мои выкладки. Но учти, это ведь не одноразовое мероприятие. Речь идет о системе, которую можно использовать многократно, если она себя оправдает. И с ней не только Юпитер — все гиганты станут доступными.
Вебстер посмотрел на цифры и присвистнул.
— Почему бы не начать с какой-нибудь планеты полегче, скажем с Урана?
Сила тяготения — половина юпитеровой, и вторая космическая скорость наполовину меньше. Да и погода там потише, если можно так выразиться. Вебстер явно подготовился к разговору. На то он и руководитель перспективного планирования.
— Не так уж много на этом выиграешь, если учесть, что путь побольше и с материально-техническим обеспечением посложнее. На Юпитере нам Ганимед поможет. А за Сатурном придется создавать новую обеспечивающую базу.
Логично, отметил про себя Вебстер. И все-таки не это основная причина. Юпитер — властелин солнечной системы, а Фолкену, конечно, подавай самый крепкий орешек…
— Кроме того, — продолжал Фолкен, — Юпитер основательно морочит голову ученым. Больше ста лет как открыты его радиобури, а мы все не знаем, что их вызывает. И Большое Красное Пятно по-прежнему остается загадкой. Поэтому я рассчитываю еще и на средства Комитета астронавтики. Тебе известно, сколько зондов запущено в атмосферу Юпитера?
— Сотни две, должно быть.
— Триста двадцать шесть за последние полсотни лет. И каждый четвертый — впустую. Слов нет, собрана куча данных, но что это для такой планеты… Ты представляешь себе, насколько она велика?
— В десять с лишним раз больше Земли.
— Разумеется, но что это означает?
Фолкен показал на большой глобус в углу кабинета.
— Погляди на Индию — много места она занимает? Так вот, если поверхность земного шара распластать на поверхности Юпитера, соотношение будет примерно то же.
Они помолчали, Вебстер размышлял над уравнением: Юпитер относится к Земле, как Земля к Индии. Удачный пример, и, конечно, Фолкен не случайно его выбрал.
Неужели десять лет прошло? Да, не меньше… Авария произошла семь лет назад (эта дата врезалась в его память), а подготовительные испытания начались за три года до первого и последнего полета «Куин Элизабет». Десять лет назад капитан — нет, тогда лейтенант — Фолкен пригласил его, так сказать, на репетицию, в трехдневный полет над равнинами северной Индии, с видом на далекие Гималаи.
— Совершенно безопасно, — заверил он. — Отдохнешь от бумаг и представишь себе, о чем идет речь.
Вебстер не был разочарован. Если не считать первого посещения Луны, полет этот был самым ярким впечатлением в его жизни. Хотя, как и говорил Фолкен, обошлось без опасностей и даже без особых приключений. Они взлетели в Сринагаре на рассвете. Огромный серебристый шар озарили первые лучи солнца. Поднимались в полной тишине, никакого рева газовых горелок, на которых зиждилась подъемная сила старинных «монгольфьеров». Все необходимое тепло давал небольшой, весом около ста килограммов, импульсный реактор, подвешенный в горловине шара. Пока они набирали высоту, лазерная искра десять раз в секунду сжигала малую толику тяжелого водорода. В горизонтальном полете было достаточно нескольких импульсов в минуту, чтобы возмещать расход тепла в огромном газовом мешке. Даже в полутора километрах над Землей они слышали лай собак, людские голоса, звон колокольчиков. Все шире расстилался под ними залитый солнцем край ландшафта. Через два часа шар уравновесился на высоте пяти тысяч метров; здесь им то и дело приходилось пользоваться кислородной маской. Можно было с легким сердцем любоваться пейзажами: автоматика выполняла за них всю работу, в частности собирала данные для тех, кто проектировал тогда еще безымянный небесный лайнер.
День выдался отменный. До начала юго-западного муссона оставался целый месяц, в небе — ни облачка. Время будто остановилось, и только радиосводка погоды каждый час вторгалась в их грезы. Кругом, до горизонта и дальше, простирался древний, дышащий историей ландшафт, лоскутное одеяло из селений, полей, храмов, озер, оросительных каналов… Усилием воли Вебстер развеял чары воспоминаний. Тот полет десять лет назад сделал его поклонником аппаратов легче воздуха. И помог ему осознать, как огромна Индия, даже в мире, который можно облететь за девяносто минут. А Юпитер, повторил он про себя, относится к Земле, как Земля относится к Индии…
— Допустим, ты прав, — сказал он вслух, — и допустим, найдутся средства. Остается еще вопрос: почему ты думаешь, что справишься с задачей лучше, чем те — сколько ты говорил? — триста двадцать шесть автоматических станций, которые туда посылали?
— Я превосхожу автоматы и как наблюдатель, и как пилот. Особенно как пилот. Не забудь, у меня больше опыта с аппаратами легче воздуха, чем у кого-либо еще на свете.
— Ты можешь в полной безопасности управлять полетом из центра на Ганимеде.
— Но ведь в том-то и дело, что это уже было! Ты забыл, что погубило «Куин»?
Вебстер отлично знал причину, однако ответил:
— Запаздывание. Запаздывание! Этот болван оператор думал, что работает через местный передатчик, а его случайно подключили к спутнику. Не его вина, конечно, но должен был заметить! И пока сигнал проходил в оба конца, запаздывал на полсекунды. Но и то обошлось бы при спокойной атмосфере. Все испортила турбулентность над Большим Каньоном. Платформа накренилась, оператор дал команду на выравнивание, а она уже успела качнуться в другую сторону. Ты пробовал когда-нибудь вести по ухабам машину, которая слушается руля с опозданием на полсекунды?
— Не пробовал и не собираюсь. Но могу себе представить…
— Так вот, от Ганимеда до Юпитера миллион километров. Суммарное запаздывание сигнала составит шесть секунд. Нет, оператор должен находиться на месте, чтобы вовремя принимать срочные меры. Вот я сейчас покажу тебе одну штуку… Можно взять?
— Конечно, бери.
Фолкен взял с письменного стола открытку. На Земле они почти перевелись, но эта изображала объемный марсианский ландшафт и была обклеена редкими, дорогими марками. Он держал ее вертикально.
— Старый трюк, но годится как иллюстрация. Пропусти открытку между большим и указательным пальцами, но не касайся ее… Вот так.
Вебстер протянул руку и поднес пальцы вплотную к открытке.
— Теперь лови.
Фолкен выждал несколько секунд и вдруг выпустил открытку. Пальцы Вебстера схватили пустоту.
— Давай повторим, чтобы ты убедился, что нет никакого подвоха. Видишь?
Снова открытка проскользнула между пальцами Вебстера.
— А теперь испытай меня.
Взяв открытку, Вебстер тоже выпустил ее внезапно. Фолкен мгновенно схватил ее, реакция была настолько быстрой, что Вебстеру даже почудился щелчок.
— Когда хирурги меня собирали, — бесстрастно заметил Фолкен, — они внесли кое-какие усовершенствования. И это только одно из них. Хотелось бы найти им применение. Юпитер очень подходит для этого.
Несколько долгих секунд Вебстер смотрел на открытку, впитывая взглядом неправдоподобные краски на склонах Троепутья Харона. Потом произнес:
— Понятно. Сколько времени уйдет на подготовку?
— С твоей помощью да при поддержке Комитета и разных научных фондов, которые мы сможем привлечь, — ну, года три. Еще год на испытания, ведь придется запустить по меньшей мере две опытные модели. В целом, если все будет гладко, — пять лет.
— Примерно так я и думал. Что ж, желаю тебе успеха, ты его заслужил. Но в одном я тебе не союзник.
— Это в чем же?
— Когда в следующий раз полетишь на воздушном шаре, не зови меня в пассажиры.
Глава 3
Чтобы упасть с Юпитера Пять на планету Юпитер, достаточно трех с половиной часов. Мало кто сумел бы уснуть в таком волнующем путешествии. Говард Фолкен вообще считал потребность в сне слабостью, а если все же ненадолго засыпал, его преследовали кошмары, с которыми время до сих пор не совладало. Но в ближайшие три дня не приходилось рассчитывать на отдых — значит, надо использовать долгое падение, эти сто с лишним тысяч километров до океана облаков.
Как только «Кон-Тики» вышел на переходную орбиту и бортовая ЭВМ сообщила, что все в порядке, Фолкен приготовился ко сну, который для него мог оказаться последним. Как раз в это время Юпитер очень кстати заслонил сияющее Солнце — «Кон-Тики» нырнул в тень от огромной планеты. Несколько минут корабль окутывали какие-то необычные золотистые сумерки, потом четверть неба превратилась в сплошной черный провал, окруженный морем звезд. Сколько ни углубляйся в дали солнечной системы, звезды не меняются; те же созвездия сейчас видны на Земле, за миллионы километров от Юпитера. Нового здесь только маленькие бледные серпы Каллисто и Ганимеда. Конечно, где-то в небе находилось еще с десяток юпитерианских лун, но они были слишком малы и слишком удалены, чтобы различить их невооруженным глазом.
— Выключаюсь на два часа, — передал Фолкен на корабль-носитель, который висел в полутора тысячах километрах над пустынными скалами Юпитера Пять, заслоненный им от планетной радиации.
От этой крохотной луны хоть та польза, что она, словно космический бульдозер, сгребает почти все заряженные частицы, из-за которых человеку вредно задерживаться вблизи Юпитера. Под ее прикрытием можно спокойно останавливать корабль, не опасаясь незримой смертоносной мороси. Фолкен включил индуктор сна, и ласковые электрические импульсы быстро убаюкали его мозг. Пока «Кон-Тики» падал на Юпитер, с каждой секундой ускоряя ход в чудовищном поле тяготения, он спал без сновидений. Сны придут в момент пробуждения — придут земные кошмары… Правда, само крушение не снилось ему ни разу, хотя во сне он часто оказывался лицом к лицу с испуганным супершимпанзе на спиральной лестнице между опадающими газовыми мешками. Ни один из симпов не выжил. Те, кто не погиб сразу, получили настолько тяжелые ранения, что их подвергли безболезненной эвтаназии. Иногда Фолкен спрашивал себя, почему ему снится лишь это обреченное существо, с которым он впервые встретился за несколько минут до его смерти, а не друзья и коллеги, погибшие на «Куин». Больше всего боялся Фолкен снов, которые возвращали его к той минуте, когда он пришел в себя. Физической боли почти не было, поначалу он вообще ничего не чувствовал. Только мрак да тишина кругом, ему даже казалось, что он не дышит. И самое странное — потерялись конечности. Он не мог пошевельнуть руками и ногами, потому что не знал, где они. Первой отступила тишина. Через несколько часов — или дней — он уловил какой-то слабый пульсирующий звук. В конце концов, после долгого раздумья заключил, что это бьется его собственное сердце. Первая в ряду многих ошибка…
Дальше — слабые уколы, вспышки света, неуловимые прикосновения к попрежнему бездействующим конечностям. Один за другим оживали органы чувств. И с ними ожила боль. Ему пришлось учить все заново, пришлось повторить раннее детство. Память не пострадала, и Фолкен понимал все, что ему говорили, но несколько месяцев мог только мигать в ответ. Он помнил счастливые минуты, когда сумел вымолвить свое первое слово, перевернуть страницу книги — и когда наконец сам начал перемещаться по комнате. Немалое достижение, и готовился он к этому почти два года… Сотни раз Фолкен завидовал погибшему супершимпанзе, но ведь у него не было выбора, врачи решили все за него. И вот теперь, двадцать лет спустя, он там, где до него не бывал ни один человек, летит со скоростью, какой еще никто не выдерживал.
«Кон-Тики» уже выходил из тени, и юпитерианский рассвет перекрыл небо перед ним исполинской дугой, когда настойчивый голос зуммера вырвал Фолкена из объятий сна. Непременные кошмары (он как раз хотел вызвать медицинскую сестру, но не было сил даже нажать кнопку) быстро отступили. Величайшее — и, возможно, последнее — приключение в жизни ожидало его. Фолкен вызвал Центр управления — он должен был вот-вот скрыться за изгибом Юпитера — и доложил, что все идет нормально. Их разделяло почти сто тысяч километров, и скорость «Кон-Тики» уже перевалила за пятьдесят километров в секунду — это величина! Через полчаса он начнет входить в атмосферу, и это будет самый тяжелый маневр такого рода во всей солнечной системе. Правда, десятки зонтов благополучно прошли через огненное чистилище, но ведь то были особо прочные, компактно размещенные приборы, способные выдержать не одну сотню «g». Максимальные нагрузки на «Кон-Тики», пока он не уравновесится в верхних слоях атмосферы Юпитера, составят тридцать «g», средние — больше десяти. Тщательно, не торопясь, Фолкен стал пристегивать сложную систему захватов, соединенную со стенами кабины. Закончив эту процедуру, он сам стал как бы частью конструкции. Часы вели обратный отсчет: осталось сто секунд. Возврата нет, будь что будет… Через полторы минуты он войдет по касательной в атмосферу Юпитера и окажется всецело во власти исполина. Ошибка в отсчете составила всего плюс три секунды — не так уж плохо, если учесть, сколько было неизвестных факторов. Сквозь стены кабины доносились жуткие вздохи, они переросли в высокий, пронзительный вой. Совсем другой звук, чем при подходе к Земле или к Марсу. Разреженная атмосфера из водорода и гелия переводила все звуки на две октавы выше. На Юпитере даже в раскатах грома будут звучать фальцетные обертоны. Вместе с нарастающим воем росла и нагрузка. Через несколько секунд Фолкена словно сковал паралич. Поле зрения уменьшилось настолько, что он видел лишь часы и акселерометр. Пятнадцать «g», и еще терпеть четыреста восемьдесят секунд…
Он не потерял сознания, да иначе и быть не могло. Фолкен представил себе, какой роскошный — на несколько тысяч километров! — хвост тянется за «Кон-Тики» в атмосфере Юпитера. Через пятьсот секунд после входа в атмосферу перегрузка пошла на убыль. Десять «g», пять, два… Потом тяжесть почти совсем исчезла. Огромная орбитальная скорость была погашена, началось свободное падение.
Внезапный толчок дал знать, что сброшены раскаленные остатки тепловой защиты. Она сделала свое дело и больше не понадобится, пусть достается Юпитеру. Отстегнув все захваты, кроме двух, Фолкен ждал, когда начнется следующая, самая ответственная последовательность автоматических операций. Он не видел, как раскрылся первый тормозной парашют, но ощутил легкий рывок, и падение сразу замедлилось. Горизонтальная составляющая скорости «Кон-Тики» была полностью погашена, теперь аппарат летел прямо вниз со скоростью полутора тысяч километров в час. Последующие шестьдесят секунд все решат…
Пошел второй парашют. Фолкен посмотрел в верхний иллюминатор и с великим облегчением увидел, как над падающим аппаратом колышутся облака сверкающей пленки. В небе огромным цветком раскрылась оболочка воздушного шара и стала надуваться, зачерпывая разреженный газ. Полный объем составлял не одну тысячу кубических метров, и скорость падения «Кон-Тики» уменьшилась до нескольких километров в час. На этом рубеже она стабилизировалась. Теперь у Фолкена было вдоволь времени — до поверхности планеты аппарату падать не один день.
Но в конце концов он ее все же достигнет, если не принимать никаких мер. Сейчас шар играл роль всего-навсего мощного парашюта. Он не обладал подъемной силой, да и откуда ей взяться, ведь внутри тот же газ, что и снаружи.
С характерным, слегка нервирующим потрескиванием заработал реактор, посылая в оболочку струи тепла. Через пять минут скорость падения снизилась до нуля, еще через минуту аппарат начал подниматься. Согласно радиовысотомеру, он уравновесился на высоте около четырехсот семнадцати километров над поверхностью Юпитера — или над тем, что принято было называть поверхностью.
Только один шар способен плавать в атмосфере самого легкого из газов — водорода: шар, наполненный горячим водородом. Пока тикал реактор, Фолкен мог, не снижаясь, парить над миром, где разместилась бы сотня Тихих океанов. Покрыв около шестисот миллионов километров, «Кон-Тики» наконец-то начал оправдывать свое название. Воздушный плот плыл по течению в атмосфере Юпитера…
Хотя кругом простирался новый мир, прошло больше часа, прежде чем Фолкен смог уделить внимание панораме. Сперва надо было проверить все устройства кабины, опробовать рукоятки управления. Определить, насколько увеличить подачу тепла, чтобы подниматься с нужной скоростью, сколько газа выпустить, чтобы снижаться. А главное — добиться стабильности. Отрегулировать длину тросов, соединяющих кабину с огромной грушей оболочки, чтобы погасить раскачивание и сделать полет возможно более плавным. До сих пор ему сопутствовала удача — ветер на этой высоте был устойчивым, и доплеровская локация показывала, что относительно невидимой поверхности он летит со скоростью трехсот пятидесяти километров в час. Очень скромная цифра для Юпитера, где отмечены скорости ветра до полутора тысяч километров в час. Но, конечно, не в скорости дело; турбулентность — вот что опасно. Если придется столкнуться с ней, Фолкена выручит только сноровка, опыт, быстрота реакций — все то, чего не заложишь в программу ЭВМ.
Лишь после того, как он наладил полный контакт со своим необычным аппаратом, Фолкен откликнулся на настойчивые просьбы Центра управления и выпустил штанги с измерительными приборами и устройствами для забора газов. И хотя кабина теперь напоминала неряшливо украшенную рождественскую елку, она все так же легко реяла над Юпитером, посылая непрерывный поток информации на самописцы далекого корабля-носителя. И наконец-то появилась возможность осмотреться…
Первое впечатление было неожиданным и в какой-то мере разочаровывающим. Если говорить о масштабах, то с таким же успехом он мог парить над земными облаками. Горизонт — там, где ему и положено быть, никакого ощущения, что летишь над планетой, поперечник которой в одиннадцать раз превосходит диаметр Земли. Но когда Фолкен посмотрел на инфракрасный локатор, зондирующий слой атмосферы внизу, сразу стало ясно, как сильно обмануло его зрение.
Облачный слой на самом деле был не в пяти, а в шестидесяти километрах под ним. И до горизонта не двести километров, как ему казалось, а почти три тысячи.
Кристальная прозрачность водородно-гелиевой атмосферы и пологие дуги поверхности планеты совершенно сбили его с толку. Судить на глаз о расстояниях здесь было еще труднее, чем на Луне. Видимую длину каждого отрезка надо умножать по меньшей мере на десять. Элементарно и в общем-то ничего неожиданного. Все же Фолкену почему-то стало не по себе. Такое чувство, словно не в Юпитере дело, а сам он уменьшился в десять раз. Возможно, со временем он привыкнет к чудовищным масштабам этого мира, но сейчас, как поглядишь на невообразимо далекий горизонт, так и чудится, что тебя пронизывает холодный — холоднее окружающей атмосферы — ветер. Что бы он ни говорил раньше, может статься, что эта планета совсем не для людей. И будет Фолкен первым и последним, кто проник в облачный покров Юпитера.
Небо было почти черным, если не считать нескольких перистых облаков из аммиака километрах в двадцати над аппаратом. Там царил космический холод, но с уменьшением высоты быстро росли температура и давление. В зоне, где сейчас парил «Кон-Тики», термометр показывал минус пятьдесят, давление равнялось пяти атмосферам. В ста километрах ниже будет жарко, как в экваториальном поясе Земли, а давление примерно такое, как на дне не очень глубокого моря. Идеальные условия для жизни… Уже минула четвертая часть короткого юпитерианского дня. Солнце прошло полпути до зенита, но облачную пелену внизу озарял удивительно мягкий свет. Лишних шестьсот миллионов километров заметно умерили яркость солнечных лучей. Несмотря на ясное небо, Фолкен не мог избавиться от ощущения, что выдался пасмурный день. Надо думать, ночь спустится очень быстро. Вот ведь еще утро, а будто сгустились осенние сумерки. С той поправкой, что на Юпитере не бывает осени, вообще нет никаких времен года. «Кон-Тики» вошел в атмосферу в центре экваториальной зоны — наименее красочной из широтных зон планеты. Море облаков лишь чуть-чуть было тронуто оранжевым оттенком, не то что желтые, розовые, даже красные кольца, опоясывающие Юпитер в более высоких широтах. Знаменитое Красное Пятно, самая броская примета Юпитера, находилось далеко на юге. Было очень соблазнительно спуститься там, но южное тропическое возмущение оказалось слишком велико, скорость течений достигала полутора тысяч километров в час. Нырять в чудовищный водоворот неведомых стихий значило напрашиваться на неприятности. Пусть будущие исследователи займутся Красным Пятном и его загадками.
Солнце перемещалось в небе вдвое быстрее, чем на Земле; оно уже приблизилось к зениту, и серебристая громада аэростата заслонила его. «Кон-Тики» по-прежнему шел на запад с неизменной скоростью трехсот пятидесяти километров в час, но отражалось это только на экране локатора. Может быть, здесь всегда так спокойно? Похоже все-таки, что ученые, которые авторитетно толковали о штилевых полосах Юпитера, называя экватор самой тихой зоной, не ошиблись. Фолкен крайне скептически относился к такого рода прогнозам, гораздо убедительнее прозвучали для него слова одного небывало скромного исследователя, который прямо заявил: «Никто не знает точно, что творится на Юпитере».
Что ж, под конец сегодняшнего дня появится, во всяком случае, один знаток.
Если Фолкен сумеет дожить до ночи.
Глава 4
В этот первый день фортуна ему улыбалась. На Юпитере было так же тихо и мирно, как много лет назад, когда он вместе с Вебстером парил над равнинами северной Индии. У Фолкена было время овладеть своими новыми талантами в такой мере, что он будто слился с «Кон-Тики». Он не рассчитывал на такую удачу и спрашивал себя, какой ценой придется за нее расплачиваться.
Пятичасовой день подходил к концу. Облачный полог внизу избороздили тени, и теперь он казался плотнее, массивнее, чем когда солнце стояло выше в небе. Краски быстро тускнели, только прямо на западе горизонт опоясывал жгут темнеющего пурпура. В кромешном мраке над ним бледным серпом светилась одна из ближних лун.
Простым глазом было видно, как солнце свалилось за край планеты в трех тысячах километров от «Кон-Тики». Вспыхнули мириады звезд, и среди них, на самом рубеже сумеречной зоны, прекрасная вечерняя звезда — Земля как напоминание о безбрежных далях, отделяющих его от родного дома. Следом за солнцем она зашла на западе. Началась первая ночь человека на Юпитере. С наступлением темноты «Кон-Тики» пошел вниз. Шар уже не нагревался слабыми солнечными лучами и потерял частицу своей подъемной силы. Фолкен не стал возмещать потерю, этот спуск входил в его планы. До незримой теперь пелены облаков оставалось около пятидесяти километров. К полуночи он достигнет ее. Облака четко рисовались на экране инфракрасного локатора; тот же прибор сообщал, что в них кроме обычных водорода, гелия и аммиака огромный набор сложных соединений углерода. Химики томились в ожидании проб этой розоватой ваты. Правда, атмосферные зонды уже доставили несколько граммов, но исследователей такая малость только раздразнила. Высоко над поверхностью Юпитера обнаружилась добрая половина молекул, необходимых для живого организма. Есть пища — так, может быть, и потребители существуют? Вопрос этот уже свыше ста лет оставался без ответа.
Инфракрасные лучи отражались облаками, но микроволновый радар пронизывал их, выявляя слой за слоем, вплоть до поверхности планеты в четырехстах километрах под «Кон-Тики». Путь к ней был прегражден Фолкену колоссальными давлениями и температурами; даже автоматы не могли пробиться туда невредимыми. Вот она — в нижней части радарного экрана, не совсем четкая и мучительно недостижимая… Аппаратура Фолкена не могла расшифровать ее своеобразную зернистую структуру. Через час после захода солнца он сбросил первый зонд. Автомат пролетел быстро первые сто километров, потом завис в более плотных слоях, посылая поток радиосигналов, которые Фолкен транслировал в Центр управления. Сверх того до самого восхода солнца ему оставалось только следить за скоростью снижения, передавать показания приборов да отвечать на отдельные запросы. Влекомый устойчивым течением, «Кон-Тики» не нуждался в присмотре.
Перед самой полуночью на дежурство в Центре заступила оператор-женщина. Она представилась Фолкену, сопроводив эту процедуру обычными шутками. А через десять минут он снова услышал ее голос, на этот раз серьезный и взволнованный.
— Говард! Послушай сорок шестой канал, не пожалеешь!
Сорок шестой? Телеметрических каналов было столько, что он помнил лишь самые важные. Но как только включил тумблер, сразу сообразил, что принимает сигнал от микрофона на зонде, который висел в ста тридцати километрах под ним, где плотность атмосферы приближалась к плотности воды. Сперва он услышал лишь шелест ветра, необычного ветра, дующего во мраке непостижимого мира. А затем на этом фоне исподволь родилась гулкая вибрация. Сильнее… сильнее… будто рокот исполинского барабана. Звук был такой низкий, что Фолкен не только слышал, но и осязал его, и частота ударов непрерывно возрастала, хотя высота тона не менялась. Вот уже какаято почти инфразвуковая пульсация… Внезапно звук оборвался — так внезапно, что мозг не сразу воспринял тишину, память продолжала творить неуловимое эхо где-то в глубинах сознания.
Фолкен в жизни не слышал ничего подобного, никакие земные звуки не шли тут в сравнение. Тщетно пытался он представить себе явление природы, способное породить такой рокот. И на голос животного непохоже, взять хоть больших китов…
Звучание повторилось, с тем же нарастанием силы и частоты. На этот раз Фолкен был начеку и засек продолжительность: от первых негромких биений до заключительного крещендо — чуть больше десяти секунд. А еще он услышал настоящее эхо, очень слабое и далекое. Возможно, звук отразился от какого-то еще более глубокого пограничного слоя многоярусной атмосферы, а может быть, исходил из совсем другого, далекого источника. Фолкен подождал, однако эхо не повторилось.
Центр управления не заставил себя ждать и попросил его тотчас сбросить второй зонд. Два микрофона позволят хотя бы приблизительно локализовать источники звука. Как ни странно, наружные микрофоны самого «Кон-Тики» воспринимали только шум ветра. Видимо, таинственный рокот в глубинах встретил вверху препятствие — отражающий слой — и растекся вдоль него.
Приборы быстро определили, что звучания исходят от источников примерно в двух тысячах километров от «Кон-Тики». Расстояние еще ничего не говорило об их мощи: в земных океанах довольно слабые звуки могут пройти такой же путь. Естественное предположение, что виновники — живые существа, было сразу отвергнуто главным экзобиологом.
— Я буду очень разочарован, — сказал доктор Бреннер, — если здесь не окажется ни растений, ни микроорганизмов. Но ничего похожего на живые существа не может быть там, где отсутствует свободный кислород. Все биохимические реакции на Юпитере должны протекать на низком энергетическом уровне. Активному существу попросту неоткуда почерпнуть силы для своих жизненных функций.
Так уж и неоткуда… Фолкен не первый раз слышал этот аргумент, и он его не убедил.
— Так или иначе, — продолжал экзобиолог, — длина звуковой волны порой достигала девяноста метров! Даже зверь величиной с кита неспособен производить такие звуки. Так что речь может идти только о каком-то природном явлении.
А вот это уже похоже на правду, и, наверное, физики сумеют найти объяснение. В самом деле, поставьте слепого пришельца на берег бушующего моря, рядом с гейзером, с вулканом, с водопадом — как он истолкует услышанные звуки? Может и приписать их огромному животному. Примерно за час до восхода голоса из пучины смолкли, и Фолкен стал готовиться к встрече своего второго дня на Юпитере. От ближайшего яруса облаков «Кон-Тики» теперь отделяло всего пять километров; наружное давление возросло до десяти атмосфер, температура была тропическая — тридцать градусов. Человек вполне мог бы находиться в такой среде без какого-либо снаряжения, кроме маски и баллона с подходящей смесью гелия и кислорода для дыхания.
— Приятные новости, — сообщил Центр управления, когда рассвело. — Облака кое-где расходятся. Через час увидишь частичный просвет. Но остерегайся турбулентности!
— Уже чувствую кое-что, — ответил Фолкен. — На какую глубину я буду видеть?
— Километров на двадцать по меньшей мере, до следующего термоклина.
Но уж та пелена поплотнее, просветов не бывает. И она для меня недоступна, сказал себе Фолкен. Температуры там превышают сто градусов. Впервые «потолок» воздухоплавателя находился не над головой, а под ногами!
Через десять минут и он обнаружил то, что увидел сверху Центр управления. Окраска облаков у горизонта изменилась, пелена стала косматой, бугристой, как будто ее что-то распороло. Он прибавил жару в своей маленькой атомной топке и набрал несколько километров высоты для лучшего обзора.
Внизу и в самом деле быстро ширился просвет, словно что-то растворяло плотный полог. Перед глазами Фолкена разверзлась бездна: «Кон-Тики» прошел над краем небесного каньона глубиной около двадцати и шириной около тысячи километров.
Под ним простирался совсем новый мир. Юпитер отдернул одну из своих многочисленных завес. Второй ярус облаков, дразнящий воображение своей недосягаемостью, был намного темнее первого. Цвет розоватый, с причудливыми островками кирпичного оттенка. Островки овальные, вытянутые в направлении господствующего ветра, с востока на запад, примерно одинаковой величины. Их были сотни, и они напоминали пухлые кочевые облака в земных небесах.
Он уменьшил подъемную силу, и «Кон-Тики» начал снижаться вдоль тающего обрыва. И тут Фолкен заметил снег.
Белые хлопья возникали в воздухе и медленно летели вниз. Но откуда в такой жаре снег? Не говоря уже о том, что на этой высоте не может быть водяных паров. К тому же низвергающийся в бездну каскад не сверкал и не переливался на солнце. Вскоре несколько хлопьев легли на приборную штангу перед главным иллюминатором, и он рассмотрел, что они мутно-белые, отнюдь не кристаллические — и довольно большие, сантиметров десять в поперечнике. Похоже на воск. Скорее всего, воск и есть… В атмосфере вокруг «Кон-Тики» шла какая-то химическая реакция, которая рождала реющие над Юпитером хлопья углеводородов.
Километрах в ста прямо по курсу что-то всколыхнуло вторую облачную пелену. Маленькие красноватые овалы заметались, потом начали выстраиваться по спирали. Знакомая схема циклона, столь обычная в земной метеорологии. Воронка формировалась с поразительной быстротой. Если там зарождается ураган, «Кон-Тики» ожидают большие неприятности. В следующий миг беспокойство в душе Фолкена сменилось удивлением — и страхом. Нет, это вовсе не ураган: нечто огромное, не один десяток километров в поперечнике, всплывало из толщи облаков на его пути. Несколько секунд он цеплялся за мысль, что это, наверно, тоже облако — грозовое облако, которое заварилось в нижних слоях атмосферы. Но нет, тут что-то плотное. Что-то плотное протискивалось сквозь розоватый покров, будто всплывающий из глубин айсберг.
Айсберг, плавающий в водороде? Что за вздор! Но как сравнение, пожалуй, годится. Наведя телескоп на загадочное образование, Фолкен увидел беловатую аморфную массу с красными и бурыми прожилками. Не иначе, как то самое вещество, из которого состоят «снежинки». Целая гора воска. Затем он разобрал, что она не такая уж компактная, как ему показалось сначала. Кромка таинственной громады непрерывно крошилась и возникала вновь.
— Я знаю, что это такое, — доложил он в Центр управления, который уже несколько минут тормошил его тревожными запросами. — Гора пузырьков, пена. Углеводородная пена. Скажите химикам, пусть… Нет, постойте!!!
— В чем дело? — заволновался Центр. — Что случилось? Пренебрегая отчаянными призывами из космоса, Фолкен сосредоточил все внимание на том, что показывал телескоп. Необходима полная уверенность… Ошибешься — станешь посмешищем для всей солнечной системы. Наконец он расслабился, поглядел на часы и отключил неотвязный голос Центра.
— Вызываю Центр управления, — произнес он в микрофон официальным тоном. — Говорит Говард Фолкен с борта «Кон-Тики». Эфемеридное время девятнадцать часов, двадцать одна минута, пятнадцать секунд. Широта ноль градусов, пять минут, северная. Долгота сто пять градусов, сорок две минуты, система один. Передайте доктору Бреннеру, что на Юпитере есть живые организмы. Да еще какие!..
Глава 5
— Рад признать свою неправоту, — донесло радио веселый голос доктора Бреннера. — У природы всегда припасен какой-нибудь сюрприз. Наведи получше телеобъектив и передай нам возможно более четкую картинку. До восковой горы было еще слишком далеко, чтобы Фолкен мог как следует рассмотреть то, что двигалось вверх-вниз по ее склонам. Во всяком случае, что-то очень большое, иначе он их вообще не увидел бы. Почти черные, формой напоминающие наконечник стрелы, они перемещались, плавно извиваясь. Будто исполинские манты плавали над тропическим рифом. Или это коровы небесные пасутся на облачных лугах Юпитера? Ведь эти существа явно обгладывали темные, буро-красные прожилки, избороздившие склоны, точно высохшие русла. Время от времени какая-нибудь из них ныряла в пенную громаду и пропадала из виду.
«Кон-Тики» летел очень медленно. Пройдет не меньше трех часов, прежде чем он окажется над рыхлыми холмами. А солнце не ждет… Успеть бы до темноты как следует рассмотреть здешних мант и зыбкий ландшафт, над которым они реют.
Как же долго тянулись эти часы… Наружные микрофоны Фолкен держал включенными на полную мощность: может быть, перед ним источник ночного рокота? Манты были достаточно велики, чтобы издавать такие звуки. Точное измерение показало, что размах крыльев у них почти девяносто метров. В три раза больше длины самого крупного кита, хотя вес от силы несколько тонн. За полчаса до заката «Кон-Тики» подошел к горе.
— Нет, — отвечал Фолкен на повторные запросы Центра управления, — они по-прежнему никак не реагируют на мое присутствие. Вряд ли это разумные создания. Они больше напоминают безобидных травоядных. Да если и захотят погоняться за мной, им не подняться на такую высоту. По чести говоря, Фолкен был слегка разочарован тем, что манты не проявили ни малейшего интереса к нему, когда он пролетал высоко над их пастбищем. Может быть, им просто нечем его обнаружить?… Рассматривая и фотографируя их через телескоп, он не заметил ничего, хотя бы отдаленно похожего на органы чувств. Казалось, огромные черные дельты из греческого алфавита сновали над откосами, которые плотностью немногим превосходили земные облака. На вид-то прочные, а наступи на белый склон — и провалишься, как сквозь папиросную бумагу.
Вблизи он рассмотрел слагающие гору многочисленные ячейки или пузыри. Иные достигали больше метра в поперечнике, и Фолкен спрашивал себя, в каком дьявольском котле варилось это углеводородное зелье. Похоже, в атмосфере Юпитера столько химических продуктов, что ими можно обеспечить Землю на миллионы лет.
Короткий день был на исходе, когда «Кон-Тики» прошел над гребнем восковой горы, и нижние склоны уже обволакивал сумрак. На западной стороне мант не было, и рельеф почему-то выглядел иначе. Вылепленные из пены длинные ровные террасы напоминали внутренность лунного кратера. Ни дать, ни взять исполинские ступени, ведущие вниз, к незримой поверхности планеты.
На нижней ступени, как раз над роем облаков, раздвинутых изверженной из пучины горой, прилепилась какая-то округлая масса шириной в два-три километра. Фолкен едва ее различил — она была лишь чуть темнее сероватой пены, на которой покоилась. В первую минуту ему почудилось, что перед ним лес из белесых грибов-исполинов, никогда не видевших солнечных лучей. В самом деле, лес… Из белой восковой пены торчали сотни тонких стволов, правда, они стояли очень уж густо, чуть ли не впритык. А может быть, не лес это, а одно огромное дерево? Что-нибудь вроде восточного баньяна с множеством дополнительных стволов. На Яве Фолкену однажды довелось видеть баньян, крона которого достигала шестисот метров в поперечнике. Но это чудовище раз в десять больше! Сгущалась темнота. Преломленный солнечный свет окрасил облачный ландшафт в пурпур. Еще несколько секунд, и все поглотит мрак. Но в свете угасающего дня, своего второго дня на Юпитере, Фолкен увидел — или ему почудилось? — нечто такое, что основательно поколебали его трактовку белесого овала.
Если только его не обмануло слабое освещение, все эти сотни тонких стволов качались в лад туда-обратно, будто водоросли на волне. И само дерево успело переместиться.
— Увы, похоже, что в ближайший час можно ждать извержения Беты, — сообщил Центр управления вскоре после захода солнца. — Вероятность семьдесят процентов.
Фолкен бросил взгляд на карту. Бета находилась на сто сороковом градусе юпитеровой широты, почти в тридцати тысячах километров от него, далеко за горизонтом. И хотя мощность извержений этого источника достигала десяти мегатонн, на таком расстоянии ударная волна не была ему опасна. Иное дело вызванная извержением радиобуря.
Всплески в декаметровом диапазоне, при которых Юпитер временами становился самым мощным источником радиоизлучения на всем звездном небе, были открыты еще в 1950-х годах и немало озадачили астрономов. И теперь, больше ста лет спустя, подлинная причина их оставалась загадкой. Признаки известны, а объяснения нет.
Самой живучей оказалась вулканическая гипотеза, хотя все понимали, что на Юпитере слово «вулкан» означает нечто совсем другое, чем на Земле. В нижних слоях юпитеровой атмосферы, может быть, даже на самой поверхности планеты то и дело — иногда по несколько раз в день — происходили титанические извержения. Огромный столб газа высотой больше тысячи километров устремлялся вверх так, словно вознамерился улететь в космос. Конечно, ему было не по силам одолеть поле тяготения величайшей из планет солнечной системы. Но часть столба — от силы несколько миллионов тонн — обычно достигала ионосферы. Тут-то и начиналось… Радиационные пояса Юпитера неизмеримо превосходят земные. И когда газовый столб устраивает короткое замыкание, рождается электрический разряд в миллионы раз мощнее любой земной молнии. Гром от этого разряда — в виде радиопомех — раскатывается по всей солнечной системе и за ее пределами.
На Юпитере было обнаружено четыре основных очага всплесков. Возможно, к этим местам приурочены разломы, позволяющие раскаленному веществу недр прорываться наружу. Ученые на Ганимеде, крупнейшем из многочисленных спутников Юпитера, теперь брались даже предсказывать декаметровые бури. Их прогнозы были примерно такими же надежными, как прогнозы погоды на Земле в начале двадцатого века.
Фолкен не знал, бояться радиобури или радоваться ей. Ведь он сможет собрать ценнейшие данные — если останется жив. Весь маршрут был рассчитан так, чтобы «Кон-Тики» находился возможно дальше от главных очагов возмущения, особенно самого беспокойного из них — центра Альфа. Но случаю было угодно, чтобы сейчас проявил свой нрав ближайший очаг — Бета. Оставалось надеяться, что расстояние, равное трем четвертям земной окружности, предохранит «Кон-Тики».
— Вероятность девяносто процентов, — прозвучал напряженный голос Центра. — И забудь слова «в ближайший час». Ганимед считает, извержения можно ждать с минуты на минуту.
Только оператор договорил, как стрелка измерителя магнитного поля полезла вверх. Не успев зашкалить, она так же быстро поехала вниз. Далеко-далеко и на огромной глубине какая-то чудовищная сила всколыхнула жидкое ядро планеты.
— Вижу фонтан! — крикнул дежурный.
— Спасибо, я уже заметил. Когда буря дойдет до меня?
— Первые признаки жди через пять минут. Пик — через десять.
Где- то за дугой горизонта Юпитера столб газа шириной с Тихий океан рвался в космос со скоростью многих тысяч километров в час. В нижних слоях атмосферы уже бушевали грозы, но это было ничто перед свистопляской, которая разразится, когда радиационный пояс обрушит на планету избыточные электроны. Фолкен принялся убирать штанги с приборами. Единственная доступная ему мера предосторожности… Ударная волна покатится по атмосфере лишь через четыре часа после разряда, но радиовсплеск, распространяясь со скоростью света, настигнет его через десятую долю секунды.
Радиоиндикатор прощупывал весь спектр частот, но Фолкен слышал только обычный фон атмосферных помех. Вскоре уровень шумов начал медленно возрастать. Мощь извержения увеличивалась.
Он не ожидал, что на таком расстоянии сумеет что-либо разглядеть. Однако внезапно над горизонтом на востоке заплясали отблески далеких сполохов. Одновременно отключилась половина автоматических предохранителей на распределительном щите, погас свет и умолкли все каналы связи. Фолкен хотел пошевельнуться — не мог. Это было не только психологическое оцепенение, конечности не слушались его, и больно кололо все тело. Хотя электрическое поле никак не могло проникнуть в экранированную кабину, приборная доска излучала призрачное сияние, и слух Фолкена уловил характерное потрескивание тлеющего разряда. Очередью резких щелчков сработала аварийная система. Снова включились предохранители, загорелся свет, и оцепенение прошло так же быстро, как возникло.
Удостоверившись, что все приборы работают нормально, Фолкен живо повернулся к иллюминатору.
Ему не надо было включать контрольные лампы — стропы, на которых висела кабина, словно горели. От стропового кольца и до пояса «Кон-Тики» протянулись во мраке яркие, голубые с металлическим отливом струи. И вдоль нескольких струй медленно катились ослепительные огненные шары. Картина была до того чарующей и необычной, что не хотелось думать об опасности. Мало кто наблюдал шаровые молнии так близко. И ни один из тех, кто встречался с ними в земной атмосфере, летя на водородном аэростате, не уцелел. Перед внутренним взором Фолкена в который раз пробежали страшные кадры старой кинохроники — аутодафе цеппелина «Гинденбург», подожженного случайной искрой при швартовке в Лейкхерсте в 1937 году. Но здесь такая катастрофа исключена, хотя в оболочке над головой Фолкена было больше водорода, чем в последнем цеппелине. Пройдет не один миллиард лет, прежде чем кто-нибудь сможет развести огонь в атмосфере Юпитера. Скворча, как сало на горячей сковороде, ожил канал микрофонной связи.
— Алло, «Кон-Тики», ты слышишь нас? «Кон-Тики» — ты слышишь?
Слова были сильно искажены и будто изрублены. Но понять можно. Фолкен повеселел. Контакт с миром людей восстановлен…
— Слышу, — ответил он. — Роскошный электрический спектакль — и никаких повреждений. Пока.
— Слава богу. Мы уже думали, что потеряли тебя. Будь другом, проверь телеметрические каналы третий, седьмой и двадцать шестой. И наведи получше вторую камеру. И нас что-то смущают показания наружных датчиков ионизации…
Фолкен неохотно оторвался от пленительного фейерверка вокруг «Кон-Тики». Все же изредка он поглядывал в иллюминаторы. Первыми пропали шаровые молнии — они медленно разбухали и, достигнув критической величины, беззвучно взрывались. Но еще и час спустя все металлические части на оболочке кабины окружало слабое сияние. А радио продолжало потрескивать половину ночи.
Оставшиеся до утра часы прошли без приключений. Только перед самым восходом на востоке появилось какое-то зарево, которое Фолкен сперва принял за утреннюю зарю. Но до рассвета оставалось еще минут двадцать, к тому же зарево на глазах приближалось. Отделившись от обрамляющей невидимый край планеты звездной дуги, оно превратилось в сравнительно узкую, четко ограниченную световую полосу. Казалось, под облаками шарит луч исполинского прожектора.
Километрах в ста за этой полосой возникла другая, она летела параллельно первой и с той же скоростью. А за ней — еще одна, и еще, и еще… И вот уже все небо переливается чередующимися полосами света и тьмы!
Фолкену казалось, что он уже привык ко всяким чудесам, и он не представлял себе, чтобы эти беззвучные переливы холодного света могли ему хоть как-то угрожать. Но зрелище было настолько поразительным и непостижимым, что в душу, подтачивая самообладание, проник леденящий страх. И какой человек не ощутил бы себя пигмеем перед лицом недоступных его пониманию сил… Может быть, на Юпитере все-таки есть не только жизнь, но и разум? И этот разум наконец-то начинает реагировать на вторжение постороннего?
— Да, видим. — В голосе из Центра звучал тот же трепет, который обуял Фолкена. — Никакого понятия, что это может быть. Следи, вызываем Ганимед.
Феерия медленно угасала. Выходящие из-за горизонта полосы стали намного бледнее, словно породившая их энергия иссякла. Через пять минут все было кончено. Последний тусклый световой импульс растаял в небе на западе. Фолкен почувствовал безграничное облегчение. Невозможно было долго созерцать такое завораживающее и тревожное зрелище без ущерба для душевного покоя.
Он гнал от себя саму мысль о том, как сильно потрясло его виденное. Электрическую бурю еще как-то можно было понять, но это… Это было нечто совершенно непостижимое.
Центр управления молчал. Фолкен знал, что сейчас на Ганимеде люди и электронные машины лихорадочно ищут ответ в информационных блоках. Не найдут — придется запросить Землю, это означает задержку почти на час. А если и Земля не сумеет помочь? Нет, о такой возможности лучше не думать. Голос из Центра управления обрадовал его, как никогда прежде. Говорил доктор Бреннер, говорил с явным облегчением, хотя и глуховато, как человек, переживший серьезную встряску.
— Алло, «Кон-Тики». Мы решили загадку, хотя до сих пор как-то не верится… То, что ты видел, биолюминесценция, очень похожая на свечение микроорганизмов в тропических морях Земли. Правда, здесь они находятся в атмосфере, но принцип один и тот же.
— Но рисунок! — возразил Фолкен. — Рисунок был такой правильный, совсем искусственный. И он простирался на сотни километров!
— Даже больше, чем ты можешь себе представить. Тебе была видна только малая часть. Вся эта штука достигала в ширину пять тысяч километров и напоминала вращающееся колесо. Ты видел спицы этого колеса, они проносились со скоростью около километра в секунду…
— В секунду! — невольно перебил Фолкен. — Никакой организм не может развить такую скорость!
— Конечно, не может. Я сейчас объясню. Полосы, которые ты наблюдал, были вызваны ударной волной от очага Бета, а она распространилась со скоростью звука.
— Но рисунок? — не унимался Фолкен.
— Вот именно. Речь идет о редчайшем явлении, но такие же световые колеса, только в тысячу раз меньше, наблюдались в Персидском заливе и в Индийском океане. Вот послушай, что увидели моряки британского торгового судна «Патна» майской ночью в 1880 году в Персидском заливе. «Огромное светящееся колесо вращалось так, что спицы его, казалось, задевали судно. Длина спиц составляла метров двести-триста… Всего в колесе было около шестнадцати спиц…» А вот сообщение от 23 мая 1906 года, дело происходило в Оманском заливе: «Ярчайшее свечение быстро приближалось к нам, один за другим направлялись на запад четко очерченные лучи, вроде луча из прожектора военного корабля… Слева от нас возникло огромное огненное колесо, его спицы терялись вдали. Колесо это продолжало вращаться две или три минуты…» ЭВМ на Ганимеде раскопала в архиве около пятисот случаев и принялась все выписывать, да мы ее вовремя остановили.
— Вы меня убедили. Хотя я все равно ничего не понимаю.
— Еще бы — полностью объяснить это явление удалось только в конце двадцатого века. Судя по всему, такое свечение возникает при землетрясениях на дне моря. И всегда на мелких местах, где отражаются ударные волны и возникает устойчивый волновой спектр. Иногда видны полосы, иногда вращающиеся колеса — их назвали колесами Посейдона. Гипотеза получила окончательное подтверждение, когда произвели взрывы под водой и сфотографировали результат со спутника. Да, недаром моряки были склонны к суеверию. Кто бы поверил, что такое возможно?!
Так вот в чем дело, сказал себе Фолкен. Когда центр Бета дал выход своей ярости, во все стороны пошли ударные волны — и через сжатый газ нижних слоев атмосферы, и через толщу самого Юпитера. Встречаясь и перекрещиваясь, волны эти где-то взаимно гасились, где-то усиливали друг друга. Наверное, вся планета вибрировала, точно колокол. Объяснение есть, но чувство благоговейного трепета осталось. Никогда ему не забыть этих мерцающих световых полос, которые пронизывали недосягаемые глубины атмосферы Юпитера. У Фолкена было такое ощущение, словно он очутился не просто на чужой планете, а в магическом царстве на грани мифа и действительности.
Поистине, в этом мире можно ожидать чего угодно, и нет никакой возможности угадать, что принесет завтрашний день. И ведь ему еще целые сутки тут находиться…
Глава 6
Когда наконец рассвело по-настоящему, погода внезапно переменилась. «Кон-Тики» летел сквозь буран. Восковые хлопья падали так густо, что видимость сократилась до нуля. Фолкен с тревогой думал о том, как оболочка выдержит возрастающий груз, пока не заметил, что ложащиеся на иллюминаторы хлопья быстро исчезают. Они тотчас таяли от выделяемого «Кон-Тики» тепла. На Земле в слепом полете пришлось бы еще считаться с опасностью столкновения. Здесь хоть эта угроза отпадала, горы Юпитера находились в сотнях километров под аппаратом. Что до плавучих островов из пены, то наскочить на них, должно быть, то же самое, что врезаться в слегка отвердевшие мыльные пузыри…
Тем не менее Фолкен включил горизонтальный радар, в котором прежде не было надобности; до сих пор он пользовался только вертикальным лучом, определяя расстояние до невидимой поверхности планеты. Его ожидал новый сюрприз.
Обширный сектор неба перед ним был насыщен отчетливыми эхо-сигналами. Фолкен припомнил, как первые авиаторы в ряду грозивших им опасностей называли «облака, начиненные камнями». Здесь это выражение было бы в самый раз.
Тревожная картина… Но Фолкен тут же сказал себе, что в атмосфере Юпитера не могут парить никакие твердые предметы. Скорее всего, это какое-то своеобразное метеорологическое явление. Так или иначе, до ближайшей цели было около двухсот километров. Он доложил в Центр управления, но на сей раз объяснения не получил. Зато Центр утешил его сообщением, что через полчаса аппарат выйдет из бурана.
Однако его не предупредили о сильном боковом ветре, который вдруг подхватил «Кон-Тики» и понес его почти под прямым углом к прежнему курсу. Возможности управлять воздушным шаром невелики, и понадобилось все умение Фолкена, чтобы не дать неуклюжему аппарату опрокинуться. Через несколько минут он уже мчался на север со скоростью больше пятисот километров в час. Потом турбулентность прекратилась так же внезапно, как родилась. Может, это был местный вариант струйного течения?
Тем временем буран угомонился, и Фолкен увидел, что для него припас Юпитер.
«Кон-Тики» очутился в огромной вращающейся воронке диаметром около тысячи километров. Шар несло вдоль наклонной мглистой стены. Над головой Фолкена в ясном небе светило солнце, но внизу воронка ввинчивалась в атмосферу до неизведанных мглистых глубин, где почти непрерывно сверкали молнии.
Хотя шар опускался так медленно, что никакой непосредственной угрозы не было, Фолкен увеличил подачу тепла в оболочку и уравновесил аппарат. Только после этого он оторвался от фантастических картин за иллюминатором и снова обратился к радару.
Теперь до ближайшей цели было километров сорок. Он быстро разобрал, что все цели привязаны к стенам воронки и вращаются вместе с ней — очевидно, их, как и «Кон-Тики», подхватило вихрем. Фолкен навел телескоп по радарному пеленгу, и взгляду его явилось странное крапчатое облако. Хотя оно заполнило почти все поле зрения, рассмотреть его было непросто — облако цветом лишь немногим отличалось от более светлого фона, образованного вращающейся стеной мглы. И прошло несколько минут, прежде чем Фолкен сообразил, что однажды уже видел такое облако. В тот раз оно ползло по склону плывущей пенной горы, и он принял его за исполинское дерево с множеством стволов. Теперь представилась возможность точнее определить его размеры и конфигурацию. А заодно подобрать название, лучше отвечающее его облику. И вовсе не на дерево оно похоже, а на медузу. Ну конечно, на медузу, из тех, что медленно плывут в теплых завихрениях Гольфстрима, волоча за собой длинные щупальца. Но эта медуза больше полутора километров в поперечнике… Десятки щупалец длиной в сотни метров качались взад-вперед. На каждый взмах уходила минута с лишком. Казалось, будто диковинное существо тяжело идет на веслах по небу.
Остальные, более удаленные цели тоже были медузами. Фолкен рассмотрел в телескоп с пяток — никакой разницы ни в форме, ни в размерах. Наверное, все представляли один вид. Но почему они так неспешно вращаются по тысячекилометровому кругу? Может быть, кормятся атмосферным планктоном, который засосало в воронку так же, как и «Кон-Тики»?
— А ты подумал, Говард, — заговорил доктор Бреннер, придя в себя от удивления, — что эти создания в сто тысяч раз больше самого крупного кита? Даже если это всего лишь мешок с газом, он весит около миллиона тонн! Как происходит у него обмен веществ — выше моего разумения. Ему ведь, чтобы парить, нужны мегаватты энергии.
— Но если это мешок с газом, почему он так хорошо лоцируется?
— Не имею ни малейшего представления. Ты можешь подойти ближе?
Вопрос не праздный. Изменяя высоту и используя разницу в скорости ветра, Фолкен мог приблизиться к медузе на любое расстояние. Однако пока что он предпочитал сохранять дистанцию сорок километров, о чем и заявил достаточно твердо.
— Я тебя понимаю, — неохотно согласился Бреннер. — Ладно, останемся на прежнем месте.
«Останемся»… Фолкен не без сарказма подумал, что разница в сто тысяч километров отражается на точке зрения.
Следующие два часа «Кон-Тики» продолжал спокойно вращаться вместе с могучей воронкой. Фолкен испытывал разные фильтры, изменял наводку, добиваясь возможно более четкого изображения. Быть может, эта тусклая окраска — камуфляж? Быть может, медуза, как это делают многие животные на Земле, старается слиться с фоном? К такому приему прибегают и преследователь, и преследуемый. К какой из двух категорий принадлежит медуза? Вряд ли он получит ответ за оставшееся короткое время. Однако около полудня неожиданно последовал ответ. Будто эскадрилья старинных реактивных истребителей, из мглы вынырнули пять мант. Они шли плугом прямо на белесое облако медузы, и Фолкен не сомневался, что они намерены атаковать. Он здорово ошибся, когда принял мант за безобидных травоядных.
Между тем действие развивалось так неспешно, словно он смотрел замедленное кино. Плавно извиваясь, манты летели со скоростью от силы пятьдесят километров в час. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем они настигли невозмутимо плывущую медузу. При всей своей огромной величине, они выглядели карликами перед чудищем, к которому приближались. И когда манты опустились на спину медузы, их можно было принять за птиц на спине кита.
Сумеет ли медуза оборониться? Кроме этих длинных неуклюжих щупалец, мантам вроде бы нечего опасаться. А может быть, медуза их даже и не замечает, для нее они всего лишь мелкие паразиты, как для собаки блохи? Но нет, ей явно приходится туго! Медуза начала крениться — медленно и неотвратимо, словно тонущий корабль. Через десять минут крен достиг сорока пяти градусов; при этом медуза быстро теряла высоту. Трудно было удержаться от сочувствия атакованному чудовищу, к тому же эта картина вызвала у Фолкена горькие воспоминания. Падение медузы странным образом напоминало последние минуты «Куин».
На самом-то деле он должен сочувствовать другой стороне. Высокий разум может развиться только у хищников, а не у тех, кто лениво пасется в морских или небесных угодьях. Манты намного ближе к нему, чем этот чудовищный мешок с газом. И вообще, можно ли по-настоящему симпатизировать существу, которое в сто тысяч раз больше кита? А тактика медузы, кажется, возымела действие… Возрастающий крен пришелся не по нраву мантам, и они тяжело взлетели, будто сытые стервятники, спугнутые в разгар пиршества. Правда, они не стали особенно удаляться, а повисли в нескольких метрах от чудовища, которое продолжало валиться на бок.
Вдруг Фолкен увидел ослепительную вспышку, одновременно послышался треск в приемнике. Одна из мант, медленно кувыркаясь, рухнула вниз. За ней тянулся шлейф черного дыма, и сходство с подбитым самолетом было так велико, что Фолкену стало не по себе.
В тот же миг остальные манты спикировали, уходя от медузы. Теряя высоту, они набрали скорость и быстро пропали в толще облаков, из которых явились. А медуза, прекратив падение, не спеша выровнялась и как ни в чем не бывало возобновила движение.
— Изумительно! — прервал напряженную тишину голос доктора Бреннера. — Электрическая защита, как у наших угрей и скатов. С той лишь разницей, что в этом разряде был миллион вольт! Тебе не удалось заметить, откуда вылетела искра? Что-нибудь вроде электродов?
— Нет, — ответил Фолкен, настроив телескоп на максимальное увеличение. — Постой, что-то тут не так… Видишь узор? Сравни-ка его с предыдущими снимками. Я уверен, раньше его не было.
На боку медузы появилась широкая пятнистая полоса. Поразительно похоже на клетки шахматной доски, но каждая клетка в свою очередь была расписана сложным узором из горизонтальных черточек. Они располагались на равном расстоянии друг от друга, образуя правильные колонки и ряды.
— Ты прав, — произнес доктор Бреннер с явным благоговением в голосе.
— Он только что появился. И я даже не решаюсь поделиться с тобой своей догадкой.
— Ничего, зато у меня нет такой славы, чтобы за нее опасаться. Во всяком случае, мне не страшен суд биологов. Сказать, что я думаю?
— Давай.
— Это антенная решетка для метровых волн. Вроде тех, какими пользовались в начале двадцатого века.
— Вот именно… Теперь ясно, откуда такое четкое эхо.
— Но почему решетка появилась только теперь?
— Наверное, это следствие разряда.
— Мне сейчас пришла в голову одна мысль, — медленно произнес Фолкен.
— Ты не допускаешь, что чудовище слушает наш разговор?
— На этой частоте? Вряд ли. Это же метровые нет, даже декаметровые антенны, судя по размерам. Гм-м… А что…
Доктор Бреннер умолк, его мысли явно приняли новое направление.
Наконец он опять заговорил:
— Бьюсь об заклад, они настроены на радиовсплески! На Земле природа до этого не дошла. У нас есть животные с системой эхолокации, даже с электрическими органами, но радиоволны никто не воспринимает. И к чему это, когда предостаточно света! Но здесь другое дело, Юпитер весь пропитан радиоизлучениями. Эту энергию можно использовать, даже запасать. Может быть, перед тобой плавучая электростанция!
В разговор вмешался новый голос:
— Говорит руководитель полета. Все это очень интересно, однако сперва надо решить гораздо более важный вопрос. Можно ли назвать это существо разумным? Если да, то нам не мешает вспомнить директивы о первом контакте.
— До полета сюда, — уныло отозвался доктор Бреннер, — я мог бы поклясться, что антенное устройство для коротких волн способно создать только разумное существо. Теперь я в этом не уверен. Возможно, это плод естественной эволюции. И ведь если на то пошло, такое устройство не удивительнее человеческого глаза.
— Ясно — на всякий случай согласимся считать это существо разумным. Следовательно, экспедиция должна придерживаться всех положений директивы.
Надолго воцарилась тишина, участники радиопереклички осмысливали, что из этого вытекает. Похоже, впервые в истории космонавтики пришла пора применить правила, разработанные в ходе столетней дискуссии. Человек извлек — должен был извлечь! — урок из ошибок, допущенных на Земле. Не только во имя морали, но и ради своих же собственных интересов нельзя повторять эти ошибки на других планетах. Слишком опасно обращаться с разумом так, как некогда американские поселенцы обращались с индейцами, а европейцы и другие обращались с коренным населением Африки… Первое правило гласило: сохраняй дистанцию. Не пытайся приблизиться или хотя бы налаживать общение, не дав «им» вдоволь времени как следует изучить тебя. Что означает «вдоволь времени», никто не брался определить. Решать этот вопрос предоставлялось самому участнику контакта. На плечи Говарда Фолкена легла ответственность, о какой он никогда не помышлял. В те немногие часы, что он еще проведет на Юпитере, ему, быть может, суждено стать первым полномочным представителем человечества. Какая изысканная ирония судьбы! Оставалось только пожалеть, что врачи не смогли вернуть ему способность смеяться.
Глава 7
Начинало темнеть, но Фолкену было не до этого, он все свое внимание сосредоточил на живом облаке в поле зрения телескопа. Ветер, упорно неся «Кон-Тики» по окружности исполинской воронки, сократил расстояние между ним и медузой до двадцати километров. Когда останется меньше десяти, придется совершать маневр уклонения. Хотя Фолкен был уверен, что электрическое оружие медузы поражает только вблизи, его не тянуло затевать проверку. Пусть этой проблемой займутся будущие исследователи, а он заранее желает им успеха.
В кабине стало совсем темно. Странно — до заката еще не один час. Что там на экране горизонтального локатора?… Он все время на него поглядывал, но, кроме изучаемой медузы, километров на сто не было никаких целей. Неожиданно с поразительной силой возник тот самый звук, который доносился до него из юпитеровой ночи. Гулкий рокот, чаще, чаще — вся кабина вибрировала, будто горошина в литаврах, — и вдруг оборвался… В томительной внезапной тишине две мысли почти одновременно пришли в голову Фолкена.
На этот раз звук долетел до него не за тысячи километров по радиоканалу — он пронизывал атмосферу вокруг «Кон-Тики». Вторая мысль была еще более тревожной. Фолкен совсем забыл — непростительно, но голова была занята другими вещами, которые казались важнее, забыл, что большая часть неба над ним закрыта газовой оболочкой «Кон-Тики». А посеребренный для теплоизоляции шар непроницаем не только для глаза, но и для радара.
Все это он, конечно, знал. Знал о небольшом изъяне конструкции, с которым мирились, не придавая ему значения. Но этот изъян показался Говарду Фолкену очень серьезным сейчас, когда он увидел, как сверху на кабину со всех сторон опускается частокол огромных, толще всякого дерева, щупалец…
Раздался возбужденный голос Бреннера:
— Не забывай о директиве! Не вспугни его!
Прежде чем Фолкен успел дать подобающий ответ, все прочие звуки опять потонули в могучей барабанной дроби.
Настоящего пилота-испытателя узнают по его реакциям не в таких аварийных ситуациях, которые можно предусмотреть, а в таких, возможность которых никому даже в голову не приходила. Не больше секунды понадобилось Фолкену на анализ ситуации, затем он молниеносно дернул разрывной клапан. Термин этот был пережитком поры водородных аэростатов — на самом деле оболочка «Кон-Тики» вовсе не разорвалась, просто открылись жалюзи, выше пояса. Тотчас нагретый газ устремился наружу, и «Кон-Тики», лишенный подъемной силы, начал быстро падать в поле тяготения, которое в два с половиной раза превосходило земное.
Чудовищные щупальца ушли вверх и пропали. Фолкен успел заметить, что они усеяны большими пузырями или мешками — очевидно, для плавучести, и заканчиваются множеством тонких усиков, напоминающих корешки растения. Он был готов к тому, что вот-вот сверкнет молния, но ничего, обошлось. Стремительное падение замедлилось в более плотных слоях атмосферы, где спущенный шар стал играть роль парашюта. Потеряв около трех километров высоты, Фолкен решил, что уже можно закрывать жалюзи. Пока он восстановил подъемную силу и уравновесил аппарат, было потеряно еще около полутора километров, и оставалось совсем немного до рубежа безопасности. Он посмотрел в верхний иллюминатор — не без тревоги, хотя был уверен, что увидит только округлость шара. Однако при падении «Кон-Тики» вильнул в сторону, и километрах в двух-трех над собой Фолкен увидел край медузы. Он никак не ожидал, что она так близко. Медуза продолжала опускаться с невероятной быстротой.
Радио донесло тревожный вызов Центра управления.
— У меня все в порядке, — прокричал в ответ Фолкен. — Но эта тварь продолжает меня преследовать, а мне больше некуда снижаться.
Не совсем точный ответ, он мог снижаться еще километров триста, но это было бы путешествием в один конец, и большая часть пути не принесла бы ему особого удовольствия.
В эту минуту Фолкен, к великому своему облегчению, обнаружил, что медуза выравнивается в полутора километрах над ним. То ли решила быть поосторожнее с чужим созданием, то ли ей тоже была не по нраву высокая температура нижних слоев. Наружный термометр показывал больше пятидесяти градусов, и Фолкен спросил себя, сколько еще сможет он полагаться на систему жизнеобеспечения.
Опять послышался голос Бреннера — его по-прежнему беспокоило соблюдение директивы.
— Учти, это может быть простое любопытство! — кричал экзобиолог, правда без особой уверенности. — Не вздумай ее пугать!
Фолкена уже начали раздражать все эти наставления, ему вспомнилась одна телевизионная дискуссия специалиста по космическому праву с космонавтом. Выслушав доскональный разбор всех следствий, вытекающих из директивы о первом контакте, космонавт недоверчиво воскликнул:
— Это что же, если не будет другого выхода, я должен тихохонько сидеть и ждать, когда меня сожрут?
На что юрист без тени улыбки ответил:
— Вы очень точно схватили суть дела.
Тогда это звучало потешно. Тогда — но не теперь. К тому же Фолкен увидел нечто такое, что еще больше омрачило его настроение. Медуза попрежнему парила в полутора километрах над ним, но одно ее щупальце невероятно удлинилось и, утончаясь на глазах, тянулось к «Кон-Тики». Мальчишкой Фолкен однажды видел смерч над Канзасской равниной. Нынешнее зрелище живо напомнило ему ту извивающуюся черную змею, которая достала землю с облаков.
— У меня скоро не будет выбора, — доложил он Центру управления. — Остается одно из двух: либо напугать эту тварь, либо вызвать у нее желудочные колики. Подозреваю, ей будет нелегко переварить «Кон-Тики», если она замыслила им закусить.
Он ждал, что скажет на это Бреннер, но биолог молчал.
— Ну, что ж… До запланированного срока еще двадцать семь минут, но я включаю программу зажигания. Надеюсь, горючего хватит, чтобы потом исправить движение по орбите.
Медуза пропала из поля зрения, она опять была точно над аппаратом. Но Фолкен знал, что щупальце вот-вот дотянется до шара. А на то, чтобы реактор смог развить полную тягу, уйдет около пяти минут. Запал заправлен. Вычислитель орбиты не отверг намеченный вариант как совершенно неосуществимый. Воздухозаборники открыты и готовы по команде заглатывать тонны окружающей водородно-гелиевой смеси. Скоро наступит момент, который даже в оптимальной ситуации можно было бы назвать моментом истины, — до сих пор не было никакой возможности проверить, как на самом деле будет работать ядерный воздушно-реактивный двигатель в чужеродной атмосфере Юпитера.
Что- то легонько толкнуло «Кон-Тики». Лучше не обращать внимания… Механизм воспламенения рассчитан на другую высоту, километров на десять повыше, где на тридцать градусов холоднее и плотность атмосферы в четыре раза меньше. Н-да…
При каком минимальном угле пикирования будут работать воздухозаборники? И сумеет ли он вовремя выйти из пике, если учесть, что сверх двигателя его будут увлекать к поверхности Юпитера два с половиной «g»?
Большая тяжелая рука погладила шар. Весь аппарат закачался вверх-вниз, будто мячик на резинке — игрушка, которая только что вошла в моду на Земле.
Конечно, не исключено, что Бреннер прав и это существо таким способом демонстрирует дружелюбие. Обратиться к нему по радио? Что ему сказать? «Кисонька хорошенькая»? «На место, Трезор»? Или: «Проводите меня к вашему вождю»?
Соотношение тритий-дейтерий в норме… Можно поджигать спичкой, дающей тепло в сто миллионов градусов. Тонкий конец щупальца обогнул шар метрах в пятидесяти от иллюминатора. Величиной с хобот слона — и почти столь же чувствительный, судя по тому, как осторожно он скользил по оболочке. На самом конце — щупики, словно вопрошающие рты. Доктор Бреннер был бы в восторге от этого зрелища. Ну что ж, самое время. Фолкен быстро обвел взглядом пульт управления, начал отсчет последних четырех секунд до пуска двигателя, разбил предохранительную крышку и нажал кнопку «СБРОС».
Резкий взрыв… Внезапная потеря веса… «Кон-Тики» падал носом вниз. Над ним отброшенная оболочка устремилась вверх, увлекая за собой пытливое щупальце. Фолкен не успел проследить, столкнулся ли газовый мешок с медузой, потому что в мгновение ока двигатель пришел в движение и надо было думать о другом.
Ревущий столб горячей водородно-гелиевой смеси рвался из сопел реактора, быстро увеличивая тягу — в сторону Юпитера, а не от него. Фолкен не мог сразу выровнять аппарат, курсовые рули еще плохо слушались. Но если в ближайшие секунды он не подчинит себе «Кон-Тики» и не выйдет из пике, кабина слишком углубится в нижние слои атмосферы и будет разрушена. Мучительно медленно — секунды показались Фолкену годами — вывел он аппарат на горизонталь, потом стал набирать высоту. Только раз оглянулся он назад и увидел далеко внизу медузу. Отброшенного шара не было видно — должно быть, выскользнул из щупалец.
Теперь Фолкен снова был сам себе хозяин, он больше не дрейфовал по воле ветров Юпитера, а возвращался в космос, оседлав атомное пламя. Воздушно-реактивный двигатель обеспечит нужную высоту и скорость, которая на рубеже атмосферы приблизится к орбитальной. А затем ракетная тяга выведет его на космические просторы.
На полпути к орбите Фолкен посмотрел на юг. Там из-за горизонта появилась исполинская загадка — Красное Пятно, плавучий остров вдвое больше земного шара. Он любовался его таинственным великолепием до тех пор, пока ЭВМ не предупредила, что до перехода на ракетную тягу осталось всего шестьдесят секунд. Фолкен неохотно оторвался от иллюминатора.
— Как-нибудь в другой раз, — пробормотал он.
— Что-что? — встрепенулся Центр управления. — Ты что-то сказал?
— Да нет, ничего, — отозвался Фолкен.
Глава 8
— Ты у нас теперь герой, Говард, а не просто знаменитость, — сказал Вебстер. — Дал людям пищу для размышлений, обогатил их жизнь. Хорошо если один из миллионов сам побывает на внешних гигантах, но мысленно все человечество их посетит. А это чего-то стоит.
— Я рад, что хоть немного тебя выручил.
Старые друзья могут позволить себе не обижаться на иронический тон. И все-таки он поразил Вебстера. К тому же это была не первая новая черточка в поведении Говарда после его возвращения с Юпитера. Вебстер показал на знаменитую дощечку на своем письменном столе, с призывом, заимствованным у одного импресарио прошлого века: «Удивите меня!».
— Я не стыжусь своей работы, Говард. Новое знание, новые ресурсы — все это необходимо. Но человек, кроме того, нуждается в свежих и волнующих впечатлениях. Космические полеты успели стать чем-то обычным. Благодаря тебе они снова окружены ореолом большой романтики. Юпитер еще не скоро разложат по полочкам. Не говоря уже об этих медузах. Я вот почему-то уверен, что твоя медуза сознавала, где у тебя слепое пятно. Кстати, ты уже решил, куда полетишь в следующий раз? Сатурн, Уран, Нептун — выбирай!
— Не знаю. Я подумывал о Сатурне, но ведь там и без меня можно обойтись. Всего один «g», а не два с половиной, как на Юпитере. С этим и человек справится.
Человек, сказал себе Вебстер. Он говорит, человек. А ведь раньше не отделял себя от людей. И «мы» давно перестал говорить. Изменяется, отходит от нас…
— Ладно, — произнес он вслух и встал, чтобы скрыть свое замешательство. — Пора начинать пресс-конференцию. Камеры установлены, все ждут. Ты увидишь множество старых друзей.
Он сделал ударение на последних словах, но не заметил никакой реакции. Эту кожаную маску — лицо Говарда — становится все труднее выносить.
Фолкен отъехал назад от стола, разомкнул лафет, игравший роль сиденья, и выпрямился во весь рост на гидравлических опорах. Два метра десять — хирурги знали, что делали, прибавив ему тридцать сантиметров. Небольшая компенсация за все то, что он потерял при аварии «Куин»… Подождав, когда Вебстер откроет дверь, Фолкен четко повернулся кругом на пневматических шинах и бесшумно заскользил к выходу со скоростью тридцати километров в час. В его движениях не было ни вызова, ни рисовки, он вовсе не щеголял быстротой и точностью, у него это получалось бессознательно.
Говард Фолкен, который когда-то был человеком и который по телефону или по радио по-прежнему мог сойти за человека, был доволен своим успехом. И впервые за много лет он обрел что-то вроде душевного покоя. После возвращения с Юпитера кошмары прекратились. Наконец он нашел себя. Теперь он знал, почему во сне ему являлся супершимпанзе с погибающей «Куин Элизабет». Ни человек, ни зверь, существо на грани двух миров… Как и Фолкен.
Только он может без скафандра передвигаться но поверхности Луны. Система жизнеобеспечения в металлическом кожухе, заменившем ему бренное тело, одинаково хорошо работает в космосе и под водой. В поле тяготения, в десять раз превосходящем силой земное, он чувствует себя несколько скованно, — но и только. А лучше всего — невесомость… Он все больше отдалялся от человечества, все слабей ощущал узы родства. Эти комья неустойчивых углеводородных соединений, которые дышат воздухом, плохо переносят радиацию, — куда уж им соваться за пределы своей атмосферы, пусть сидят там, где им на роду написано — на Земле. Ну, еще на Луне и на Марсе.
Настанет день, когда подлинными владыками космоса будут не люди, а машины. А он, Говард Фолкен, — ни то, ни другое. Вполне осмыслив свое предназначение, он ощущал мрачную гордость от сознания своей уникальной исключительности — первый бессмертный, мостик между органическим и неорганическим мирами.
Да, он будет полномочным представителем, посредником между старым и новым, между углеродными существами и металлическими созданиями, которые когда-нибудь их вытеснят.
Обе стороны будут нуждаться в нем в предстоящие беспокойные столетия.
Клиффорд Саймак Сила воображения
Салон-магазин находился в самой фешенебельной части города, куда Кемп Харт попадал не часто. Она лежала в стороне от его обычных маршрутов, и он сам удивился, когда понял, что забрел в такую даль. По правде говоря, он вообще никуда бы не пошел, сохранись у него кредит в баре «Светлая звездочка», где обреталась вся его компания.
Как только Харт разобрался, где он, ему следовало бы развернуться на сто восемьдесят градусов и убраться восвояси: он и сам ощущал себя лишним здесь, среди роскошных издательств, раззолоченных притонов и знаменитых кабаков. Но салон заворожил его. Салон просто не дал ему уйти. Харт застыл перед витриной, забыв о своем стоптанном и заношенном убожестве, лишь рука, засунутая в карман, ненароком ощупала две мелкие монетки, которые там еще уцелели.
За стеклом стояли машины, блестящие, сногсшибательные, именно такие, каким и надлежало продаваться на этой изысканной, напудренной улице. Особенно одна машина, в углу, — она была еще больше и блестела еще ярче, чем остальные, и над ней словно витал ореол особой компетентности. Массивная клавиатура для набора исходных данных, сотня, а то и больше прорезей для ввода кинопленок и перфолент, нужных по ходу процесса. Судя по градуировке шкал, выбор настроений гораздо богаче, чем Харту когда-либо доводилось видеть, да, по всей вероятности, еще и множество других достоинств, не столь заметных с первого взгляда.
«С такой-то машиной, — сказал себе Харт, — человеку ничего не стоит прославиться практически за одну ночь. Он напишет все, что пожелает, и напишет хорошо, и перед ним распахнутся двери самых привередливых издателей…»
Но как бы ему того ни хотелось, заходить в салон и осматривать машину не имело смысла. Думать о ней и то было без толку. Оставалось лишь стоять и глазеть на нее через витринное стекло.
«И все-таки, — сказал он себе, — у меня есть полное право войти в салон и осмотреть ее со всех сторон. Кто и что может мне помешать?…» Никто и ничто — ну, если не считать усмешки на лице продавца, молчаливой, вежливой, точно отработанной гримасы презрения в ту секунду, когда он отвернется и поплетется к выходу…
Он украдкой бросил взгляд по сторонам — улица была пуста. Было еще слишком рано для того, чтобы эта надменная улица возродилась к жизни, и у него мелькнула надежда, что, если он все-таки войдет и попросит разрешения осмотреть машину, ничего страшного не случится. Может, он сумеет объяснить, что не собирается покупать машину, а только хочет поглядеть на нее. Может, они не станут над ним смеяться. Конечно же, нет, никто и слова против не скажет. Мало ли людей, в том числе богатых и известных людей, заходят в салон просто поглядеть…
Он крался вдоль витрины, не отрывая глаз от машин и подбираясь все ближе к двери, уговаривая себя, что ни за что не войдет, что входить — отъявленная глупость, но в глубине души сознавая, что искушение неодолимо.
Наконец он поравнялся с дверью, толкнул ее и шагнул внутрь. Продавец возник перед ним как по волшебству.
— Вон тот сочинитель в углу, — промямлил Харт. — Скажите, не могу ли я…
— Безусловно, безусловно, — подхватил продавец. — Соблаговолите следовать за мной.
В углу салона продавец с нежностью возложил руку на корпус машины.
— Это наша новейшая модель, — начал он. — Мы дали ей имя «Классик», поскольку она задумывалась и выпускалась с единственной целью — наладить производство классики. Мы полагаем, что она имеет значительные преимущества по сравнению с нашей предшествующей моделью «Бестселлер», перед которой в конечном счете не ставилось задач более сложных, чем производство бестселлеров, хотя время от времени ей и удавалось выдавать классику малых форм. Но если вы позволите говорить вполне откровенно, сэр, то я подозреваю, что почти во всех подобных случаях хозяева сами совершенствовали машину. Мне говорили, что кое-кто на таких делах прямо собаку съел…
Харт покачал головой.
— Уж только не я. Не знаю даже, с какого конца за паяльник берутся…
— В таком случае, — не смутился продавец, — лучшее, что вы можете сделать, это сразу приобрести сочинитель высшего класса. Если пользоваться им с умом, то разносторонность творчества окажется практически безграничной. А в данной модели, к тому же, предусмотрен коэффициент качества, много более высокий, чем в любой другой. Хотя, разумеется, для получения наилучших результатов необходимо проявлять осмотрительность при выборе типажных фильмов и сюжетно-проблемных лент. Но пусть это вас не тревожит. Запас фильмов и перфолент у нас огромен, а наши фиксаторы настроения и обстановки не имеют себе равных. Конечно, они обходятся недешево, однако…
— Между прочим, какова цена этой модели?
— Всего-навсего двадцать пять тысяч, — весело откликнулся продавец. — Вас не удивляет, сэр, что мы предлагаем ее за столь мизерную цену? Это замечательное достижение инженерной мысли. Мы работали над ним целых десять лет, прежде чем добились должного эффекта. И все эти десять лет отбрасывали устаревшие конструктивные решения и искали новые и новые, чтобы не отстать от достижений технического прогресса…
Он с торжествующим видом похлопал машину по ее блестящему боку.
— Заверяю вас, сэр, что вы нигде не найдете изделий лучшего качества. В этой машине предусмотрено все. В ней заложены миллионы вероятностных комбинаций, гарантирующих стопроцентную оригинальность продукции. Ни малейшей опасности сбиться на стереотип, что так характерно для многих более дешевых моделей. Сюжетный банк, взятый сам по себе, способен выдать почти бесконечное число коллизий на любую заданную тему, а смеситель характеров учитывает тысячи оттенков вместо ста или ста с небольшим, свойственных моделям низших классов. Семантический блок обладает высокой избирательностью и чувствительностью, и нельзя также не обратить вашего внимания…
— Хорошая машина, — прервал его излияния Харт. — Но, пожалуй, дороговата. Вот если бы у вас нашлось что-нибудь еще…
— Безусловно, сэр. У нас есть множество других моделей.
— А вы примете в обмен старую машину?
— Охотно. Какой марки ваша машина, сэр?
— «Автоавтор девяносто шесть».
Лицо у продавца вытянулось — чуть-чуть, едва заметно. Потом он покачал головой, не то грустно, не то смущенно.
— Видите ли, мы… Признаться, я не уверен, что мы сможем за нее много предложить. Это довольно старый тип машины. Почти вышедший из употребления.
— Но что-нибудь вы за нее все-таки дадите?
— Думаю, что да. Хотя и немного.
— И оплата в рассрочку?
— Да, конечно. Что-нибудь придумаем. Будьте добры сказать, как вас зовут.
Харт назвал свою фамилию. Продавец записал ее в блокнот и добавил:
— Извините, сэр, я вас на минутку покину.
Какое-то мгновение Харт смотрел ему вслед. Потом, как трусливый воришка, тихо попятился к двери и выскочил из салона. Оставаться не было смысла. Не было смысла ждать, пока продавец вернется, подаст на прощанье руку и скажет:
— Очень сожалеем, сэр…
Очень сожалеем, сэр, но мы проверили вашу кредитоспособность и убедились, что она равна нулю. Мы запросили сведения о ваших успехах и установили, что за последние полгода вы продали всего один короткий рассказ.
— И зачем я вообще затеял эту прогулку, — упрекнул себя Харт не без горечи.
На окраине, весьма и весьма отдаленной от блистательного салона, Харт вскарабкался на шестой этаж по лестнице, так как лифт опять не работал. За дверью, на которой красовалась табличка «Издательство Ирвинг», секретарша, полностью поглощенная шлифовкой ногтей, оторвалась от этого занятия ровно на столько, чтобы махнуть рукой в сторону смежной комнаты и предложить:
— Заходите прямо к нему.
Бен Ирвинг сидел за столом, погребенным под кучами рукописей, гранок и корректурных листов. Рукава у него была закатаны по локоть, а на лбу торчал козырек. Он носил козырек не снимая, а зачем — оставалось тайной для всех: за весь день не бывало и часа, когда в этой занюханной комнатенке набралось бы достаточно света, чтобы ослепить уважающую себя летучую мышь.
Бек поднял глаза и, моргая, уставился на Харта.
— Рад тебя видеть, Кемп, — сказал он. — Садись. С чем сегодня пожаловал?
Харт оседлал стул.
— Решил зайти спросить. О судьбе последнего рассказа, который я посылал тебе.
— Никак не доберусь до него. — В порядке самооправдания Ирвинг повел рукой, показав на кавардак на столе. — Мэри! — крикнул он. В дверь просунулась голова секретарши. — Возьмите рукопись Харта, и пусть Милли на нее глянет. — Он откинулся в кресле. — Долго это не займет, наша Милли читает быстро…
— Я подожду, — сказал Харт.
— А у меня есть для тебя новость, — объявил Ирвинг. — Мы открываем журнал, предназначенный для племен системы Алголь. Жизнь у них там довольно-таки примитивная, но читать они, да вознаградят их небеса, умеют. Хлебнули же мы хлопот, пока нашли кого-то, кто мог бы выполнить переводы текстов, да и набор обойдется куда дороже, чем хотелось бы. Они там такой алфавит выдумали, каверзнее я в жизни не видел. Но в конце концов мы отыскали типографа, у которого нашелся даже такой шрифт…
— Что от меня требуется? — осведомился Харт.
— Обычное гуманоидное чтиво, — ответил Ирвинг. — Побольше драк и крови и чтобы как можно красочнее. Живется им там не сладко, так что наш долг — предложить яркий колорит, но чтобы читать было просто. Никаких вывертов, заруби себе на носу…
— Звучит неплохо.
— Нужна добротная макулатура, — заявил Ирвинг. — Посмотрим, как пойдет дело. Если хорошо, тогда начнем переводить и для первобытных общин в районе Капеллы. Вероятно, потребуются кое-какие изменения в текстах, но не слишком серьезные. — Он прищурился, задумавшись. — Платить дорого не сможем. Зато, если дело пойдет, товару потребуется много.
— Хорошо, я подумаю, — сказал Харт. — Есть у них какие-нибудь табу? Чего надо избегать?
— Никакой религии, — ответил издатель. — Что-то похожее у них вроде бы есть, но лучше обойти эту скользкую тему стороной. Никаких сантиментов. Любовь у них не котируется. Женщин они себе покупают и с любовью не знаются. Сокровища, погони, муки алчности — вот это будет в самый раз. Любой стандартный справочник даст тебе необходимые сведения. Фантастические виды оружия — и чем ужаснее, тем лучше. И побольше кровопролития. Ненависть — вот что им подавай. Ненависть, месть и острые ощущения. Главная твоя задача — чтобы напряжение не спадало.
— Хорошо, я подумаю.
— Ты повторяешь эту фразу уже второй раз.
— У меня что-то не ладится, Бен. Раньше я мог бы сразу сказать тебе «да». Раньше я мог бы запросто выдавать такое варево тоннами.
— Потерял форму?
— Не в форме дело, а в машине. Мой сочинитель — сущее барахло. С тем же успехом я мог бы писать свои рассказы от руки.
При одной только мысли о подобной непристойности Ирвинга передернуло.
— Так почини его, — сказал он. — Повозись с ним, подлатай.
— Чего не умею, того не умею. И все равно модель слишком старая. Почти вышедшая из употребления.
— Ну в общем постарайся сделать, что сможешь. Я хотел бы сохранить тебя в числе своих поставщиков.
Вошла секретарша. Не глядя на Харта, она положила рукопись на стол. С того места, где он сидел, Харт без труда различил единственное слово, которое машина оттиснула на первой странице: «Отказать».
— Слишком вычурно, — объяснила девушка. — Милли чуть себе потроха не пережгла.
Ирвинг перебросил рукопись Харту.
— Извини, Кемп. Надеюсь, в следующий раз тебе повезет больше.
Харт поднялся, сжимая рукопись в кулаке.
— Я попробую взять твой новый заказ, — произнес он и направился к двери.
— Погоди-ка минутку, — окликнул его Бен сочувственным тоном.
Харт обернулся. Ирвинг вытащил бумажник и, выудив оттуда две десятки, протянул ему.
— Нет, — отказался Харт, пожирая деньги глазами.
— Это взаймы, — произнес издатель. — Черт тебя возьми, можешь ты взять у меня взаймы? Принесешь мне, что сочинишь…
— Спасибо, Бен. Я твоей доброты не забуду.
Он запихнул деньги в карман и поспешно ретировался. В горле стояла жгучая горечь, под сердцем застрял жесткий, холодный комок.
«У меня есть для тебя новость, — сказал Бен. — Нужна добротная макулатура».
Добротная макулатура.
До чего же он докатился!
Когда Харт наконец появился в баре «Светлая звездочка» с деньгами в кармане и со страстным желанием осушить стакан пива, из постоянных посетителей там была только Анджела Маре. Она пила какую-то дикую розовую смесь, которая определенно выглядела ядовитой. При этом Анджела нацепила очки, а волосы гладко зачесала назад и, очевидно, праздновала литературную удачу.
«Что за нелепость, — подумал Харт. — Ведь она могла бы быть привлекательной, но намеренно избегает этого…»
Едва Харт подсел к ней, как бармен Блейк выбрался из-за стойки и, упершись кулаками в бока, молча встал рядом.
— Стакан пива, — бросил Харт.
— В долг больше не верю, — отозвался бармен, сверля его прокурорским взглядом.
— Кто сказал, что в долг? Я заплачу.
Блейк нахмурился.
— Уж если вы при деньгах, так, может, и по счету заплатите?
— Настолько я еще не разбогател. Однако получу я свое пиво или нет?
Наблюдая за тем, как Блейк вперевалку возвращается к стойке, Харт порадовался собственной предусмотрительности: по дороге он специально купил пачку сигарет, чтобы разменять одну из десяток. Вытащи он купюру хоть на мгновение, Блейк тут же налетел бы на нее коршуном и отобрал бы в погашение долга.
— Подкинули? — приветливо осведомилась Анджела.
— Аванс, — соврал Харт, чтобы не уронить свое мужское достоинство. — Ирвинг поручил мне кое-что. Говорит, заказ будет крупным. Хотя гонорар, разумеется, не слишком…
Подошел Блейк с пивом, плюхнул его на стол и подчеркнуто подождал, пока Харт не сделает того, что от него требуется. Харт рассчитался, и бармен, шаркая, удалился.
— Слышали про Джаспера? — спросила Анджела.
Харт покачал головой.
— Да нет, в последнее время ничего не слышал. А что, он закончил книгу?
Анджела просияла.
— Он уезжает в отпуск. Можете себе представить? Он — и вдруг в отпуск!
— А что тут особенного? — возразил Харт. — Джаспер продает свои вещи безотказно. Он единственный среди нас, кто загружен работой из месяца в месяц!
— Да не в том дело, Кемп. Погодите, сейчас узнаете — это же умора! Джаспер считает, что если он съездит в отпуск, то станет лучше писать!
— А почему бы и нет? Ездил же Дон в прошлом году в летний лагерь. В один из тех, что рекламируются под девизом «Хлеб наш насущный»…
— Все, чем они там занимаются, — сказала Анджела, — это зубрят заново механику. Вроде повторительного курса по устройству сочинителей. Как переделать старую рухлядь, чтобы она сумела выдать что-нибудь свеженькое…
— И все-таки я не понимаю, почему бы Джасперу не съездить в отпуск, раз у него завелись деньги.
— Вы такой тугодум, — рассердилась Анджела. — Вы что, так и не поняли, в чем тут соль?
— Да понял я, все понял. Джаспер до сих пор не отказался от мысли, что в нашем деле присутствует фактор личности. Он не довольствуется сведениями, почерпнутыми из стандартного справочника или из энциклопедии. Он не согласен, чтобы сочинитель описывал чувства, каких он, Джаспер, никогда не испытывал, или краски заката, какого он никогда не видел. И мало того — он оказался столь безрассуден, чтобы проговориться об этом, и вы вместе с остальными подняли его на смех. Что ж удивляться, если парень стал эксцентричным. Что удивляться, если он запирает дверь на ключ…
— Запертая дверь, — зло сказала Анджела, — очень символичный поступок для такого психа, как он.
— Я бы тоже запер дверь, — ответил ей Харт. — Я бы стал эксцентричным, лишь бы печатать такие же рассказы, как Джаспер. Я бы ходил на руках. Я бы вырядился в саронг. Я бы даже выкрасил себе лоб и щеки в синий цвет…
— Вы словно верите, что Джаспер прав.
Он снова покачал головой.
— Нет, я не думаю, что он прав. Я думаю по-другому. Но если он хочет думать по-своему, пусть себе думает на здоровье.
— А вот и нет, — возликовала она. — Вы думаете, как он, это у вас на носу написано. Вы допускаете возможность творчества, независимого от машины.
— Нет, не допускаю. Я знаю, что творчество привилегия машин, а не наша. Мы с вами всего лишь лудильщики, поселившиеся в мансардах. Механики от литературы. И я полагаю, что так оно и должно быть. Конечно, в нас еще жива тоска по прошлому. Она существовала во все эпохи. Где вы, мол, старые добрые времена? Где вы, деньки, когда литературные произведения писали кровью сердца?…
— Что-что, а кровь мы проливаем по-прежнему…
— Джаспер — прирожденный механик, — заявил он. — Вот чего мне недостает. Я не способен даже починить свой мусорный ящик, а вы бы видели, как модернизировал Джаспер свой агрегат…
— Можно нанять кого-нибудь, чтобы произвести ремонт. Есть фирмы, которые прекрасно справляются с такой работой.
— На это у меня никогда нет денег. — Он допил свое пиво и поинтересовался: — А что такое у вас в бокале? Хотите повторить?
Она оттолкнула бокал от себя.
— Не нравится мне эта дрянь. Я лучше выпью с вами пива, если не возражаете.
Харт жестом приказал Блейку принести два пива.
— Что вы нынче поделываете, Анджела? — спросил он. — Все еще работаете над романом?
— Готовлю фильмы, — сказала она.
— Мне сегодня придется заняться тем же. Чтобы выполнить заказ Ирвинга, понадобится главный герой. Большой, сильный, темпераментный — но не слишком страшный. Поищу где-нибудь у реки…
— Теперь они в цене, Кемп, — сказала она. — Инопланетяне нынче поумнели. Даже самые дальние. Только вчера я заплатила одному двадцатку, а он в общем-то не представлял собой ничего особенного.
— Все равно это дешевле, чем покупать готовые фильмы.
— Тут я с вами согласна. Правда, и работы прибавляется. Блейк принес пиво, и Харт отсчитал ему мелочь в подставленную ладонь.
— Возьмите пленку нового типа, — посоветовала Анджела.
— Она куда лучше прежних по всем показателям. Резкость гораздо выше, а значит, улавливается больше побочных факторов. Характеры очерчиваются более плавно. Вы приобретаете способность видеть, так сказать, все оттенки исследуемой личности. И персонажи сразу становятся более достоверными. Я пользуюсь именно такой пленкой.
— За нее, должно быть, дерут втридорога, — заметил он.
— Да, довольно дорого, — согласилась она.
— У меня сохранилась еще парочка катушек старого образца. Придется обойтись тем, что есть.
— Могу ссудить вам полсотни, если позволите.
Он покачал головой еще решительнее, чем раньше.
— Спасибо, Анджела. Я могу клянчить на выпивку, обедать за чужой счет и стрелять сигареты, но я не могу взять у вас полсотни, которые вам самой нужны позарез. Среди нас просто нет богатеев, способных раздавать в долг по полсотни.
— Но я ссудила бы вам их с радостью. Если вы передумаете…
— Хотите еще пива? — спросил Харт, чтобы положить конец неприятной теме.
— Мне нужно работать.
— Мне тоже…
Он вскарабкался на седьмой этаж, прошел по коридору и постучался к Джасперу Хансену.
— Минуточку, — донесся голос из-за двери.
Но прошло минуты три, прежде чем ключ заскрежетал в замке и дверь распахнулась.
— Прости, что так долго, — извинился Джаспер. — Вводил в машину исходные данные и не мог оторваться.
Харт кивнул. Объяснение Джаспера было нетрудно принять. Прервать на середине набор исходных данных, на подготовку которых уходили многие часы, — дело почти немыслимое.
Комната у Джаспера была маленькая и захламленная. В углу красовался сочинитель, гордый и блестящий, хотя и не такой блестящий, как тот, которым Харт любовался утром в салоне в центре города. На столе, полуприкрытая разбросанными бумажками, стояла пишущая машинка. Длинная полка провисала под тяжестью потрепанных справочников. Книги в ярких обложках громоздились в беспорядке на полу. На неприбранной постели спала кошка. На шкафу виднелась бутылка вина и рядом с нею кусок хлеба. Раковина была завалена грязной посудой.
— Говорят, ты собираешься в отпуск, Джаспер, — начал Харт.
Джаспер ответил настороженно:
— Да, мне подумалось, что можно бы…
— Послушай, Джаспер, не окажешь ли ты мне одну услугу.
— Все, что только пожелаешь.
— Пока тебя не будет, разреши мне воспользоваться твоим сочинителем.
— Ну, в общем… Не знаю, Кемп. Видишь ли…
— Мой вышел из строя, а на ремонт у меня нет денег. И вдруг я, представь, получаю заказ. Если бы ты разрешил мне поработать на твоей машине, я бы за неделю-другую выдал достаточно, чтобы отремонтировать свою.
— Ну, в общем, — повторил Джаспер, — понимаешь, я для тебя готов на все. Проси, чего хочешь. Но сочинитель — извини, никак не могу разрешить тебе работать на нем. Я его полностью перепаял. Там нет ни одной цепи, которая осталась бы в своем первозданном виде. И никто во всем мире, кроме меня, не сумеет теперь с ним совладать. А если кто-нибудь и попробует, то или машину сожжет, или себя угробит, или не знаю что…
— Но разве ты не можешь меня проинструктировать?! — воскликнул Харт почти умоляюще.
— Слишком сложно. Я с ней возился годами, — ответил Джаспер.
Харт еще ухитрился выжать из себя улыбку.
— Прости, я думал…
Джаспер положил руку ему на плечо.
— Что-нибудь другое — пожалуйста. Что угодно другое.
— Спасибо, — бросил Харт, отворачиваясь.
— Выпить хочешь?
— Нет, спасибо, — ответил Харт и вышел.
Преодолев еще два лестничных марша, он поднялся на самый верхний этаж и ввалился к себе.
Его дверь никогда не запиралась. При всем желании никто не высмотрел бы у него ничего достойного кражи.
«И, коль на то пошло, — спросил он себя, — разве есть у Джаспера что-нибудь такое, что могло бы представить интерес для других?»
Он опустился на колченогий стул и уставился на сочинитель. Машина была старая и обшарпанная, она раздражала его, и он ее ненавидел. Она не стоила ни гроша, абсолютно ни гроша, и тем не менее придется на ней работать. Поскольку другой у него нет и не предвидится. Он может подчиняться ей, а может спорить с ней, может ее пинать, может бранить последними словами, а может проводить подле нее бессонные ночи. А она, урча и кудахча от признательности, будет самонадеянно выдавать необъятные груды посредственных строк, которые никто не купит.
Он встал и подошел к окну. Внизу блестела река, и с судов, пришвартованных у причалов, выгружали бумажные рулоны, чтобы прокормить ненасытные печатные станки, грохочущие день и ночь. За рекой из космопорта поднимался корабль, оставляя за кормой слабое голубое мерцание ионных потоков. Харт наблюдал за кораблем, пока тот не исчез из виду.
Там были и другие корабли, нацеленные в небо, ожидающие только сигнала — нажатия кнопки, щелчка переключателя, легкого движения ленты с навигационной программой, — сигнала, который сорвал бы их с места и направил домой. Сначала в черноту космоса, а затем в то таинственное ничто вне времени и пространства, где можно бросить вызов теоретическому пределу — скорости света. Корабли, прибывшие на Землю со многих звезд с одной-единственной целью, за одним-единственным товаром, какой предлагали им земляне.
Он не без труда стряхнул с себя чары космопорта и обвел взглядом раскинувшийся до горизонта город — скученные, отесанные до полного однообразия прямоугольники района, где жил он сам, а дальше к северу сияющие сказочной легкостью и тяжеловесным величием башни, построенные для знаменитых и мудрых.
«Фантастический мир, — подумал он. — Фантастический мир, где приходится жить. Вовсе не такой, каким рисовали его Герберт Уэллс и Стэплдон. Они воображали себе дальние странствия и галактические империи, гордость и славу человечества, — но когда двери в космическое пространство наконец отворились, Земле каким-то образом не досталось ни того, ни другого. Взамен грома ракет — грохот печатных машин. Взамен великих и возвышенных целей — тихий, вкрадчивый, упрямый голос сочинителя, зачитывающего очередной опус. Взамен нескончаемой череды новых планет — комнатка в мансарде и изматывающий страх, что машина подведет тебя, что исходные данные неверны, а пленки использовались слишком часто…»
Он подошел к столу и выдвинул все три ящика один за другим. Камеру он обнаружил в нижнем ящике под ворохом всякой дряни. Потом порыскал еще и в среднем ящике нашел пленку, завернутую в алюминиевую фольгу.
«Стало быть, большой и сильный, — подумал он. — Такого, наверное, нетрудно встретить в одном из подвальчиков у реки, где космические волки, получившие увольнительную в город, проматывают свои денежки…»
В первом подвальчике, куда он заглянул, было смрадно — там расположилась компания паукообразных существ из системы Спики, и он там не остался. Недовольно поморщившись, он выбрался на улицу со всей быстротой, на какую оказался способен. Соседний погребок облюбовали похожие на раскормленных котов обитатели Дагиба, и это тоже было совсем не то, что надо.
Зато в третьем заведении его ждала удача в образе гуманоидов со звезды Каф — созданий дородных и шумных, склонных к экстравагантной одежде, вызывающему поведению и вообще падких до роскошной жизни. Они сгрудились вокруг большого круглого стола в центре комнаты и увлеченно буянили — стучали по столу кружками, гонялись за удирающим от них хозяином, заводили песни, но тут же сами прерывали их выкриками и перебранкой.
Харт проскользнул в незанятую кабинку и стал присматриваться к загулявшим кафианам. На одном из них, самом крупном, самом громогласном и самом буйном, были красные штаны и рубаха цвета яркой зелени. Платиновые ожерелья и диковинные чужеземные украшения болтались у него на шее и сверкали на груди, а волосы он, похоже, не стриг месяцами. У него была и борода довольно сатанинского вида, а также — поразительная штука — чуть заостренные уши. Ссориться с ним, судя до всему, было весьма и весьма небезопасно.
«Вот он, — решил Харт, — вот типаж, который мне нужен».
Наконец к кабинке кое-как подобрался хозяин.
— Пива, — приказал Харт. — Большой стакан.
— Да вы что, — удивился хозяин, — кто же у нас пьет пиво!
— Ну, хорошо, а что у вас есть?
— Бокка, игно, хзбут, грено. Ну, и еще…
— Тогда бокка, — отрезал Харт. По крайней мере он представлял себе, что такое бокка, а об остальных напитках никогда и не слышал. Кто их знает, что они способны сотворить с человеком. Глоток бокка, во всяком случае, пережить можно.
Хозяин ушел и спустя какое-то время вернулся с кружкой бокка — зеленоватым, слегка обжигающим пойлом. Хуже всего, что по вкусу оно напоминало слабенький раствор серной кислоты.
Харт вжался поглубже в угол кабинки и открыл футляр камеры. Потом приподнял камеру над столом — не выше, чем понадобилось для того, чтобы захватить Зеленую Рубаху в поле зрения объектива. Наклонившись к видоискателю, он поймал кафианина в фокус и тут же нажал кнопку, приводящую аппарат в действие. И, покончив с этим, принялся прихлебывать бокка.
Высидеть вот так, давясь едким пойлом и орудуя камерой, предстояло четверть часа. Четверти часа хватит за глаза. Через четверть часа Зеленая Рубаха окажется на пленке. Может, и не столь исчерпывающе, как если бы Харт применял ту же новомодную пленку, что и Анджела, но своего героя он получит.
Камера крутилась, запечатлевая физические характеристики кафианина, его манеры, любимые обороты речи, мыслительные процессы (при наличии таковых), образ жизни, происхождение, его вероятные реакции перед лицом тех или иных обстоятельств.
«Пусть не в трех измерениях, — подумал Харт, — пусть без проникновения в душу героя и без развернутого ее анализа, но для той халтуры, что нужна Ирвингу, сойдет и так…»
Взять этого весельчака, окружить тремя-четырьмя головорезами, выбранными наудачу из досье. Можно использовать какую-нибудь из пленок серии «Рыцарь голубой тьмы». Ввернуть туда что-нибудь заковыристое про сокровища, добавить капельку насилия, притом на каком-нибудь жутком фоне, — и пожалуйста, готово, если, конечно, сочинитель не откажет…
Десять минут прошло. Осталось всего пять. Еще пять минут — и он остановит камеру, сунет ее обратно в футляр, а футляр в карман, и выберется отсюда как можно скорее. Разумеется, стараясь не привлечь ничьего внимания.
«А все получилось довольно просто, — подумал он, — много проще, чем я рассчитывал…»
Как это Анджела сказала? «Все нынче поумнели, даже инопланетяне…»
Осталось три минуты.
Неожиданно на стол опустилась рука и заграбастала камеру. Харт стремительно обернулся. У него за спиной, с камерой под мышкой, стоял хозяин.
«Ну и ну, — подумал Харт, — я так старательно следил за кафианами, что начисто забыл про этого типа!»
— Ах, так! — зарычал хозяин. — Пролез сюда обманом, а теперь фильм снимаешь! Хочешь, чтобы мое заведение приобрело дурную славу?…
Харт опрометью кинулся прочь из кабинки в отчаянной надежде прорваться к двери. У него еще оставался какой-то, пусть призрачный, шанс. Но хозяин ловко подставил ему ногу. Харт упал, перекувырнувшись через голову, проехал по полу, сшибая мебель, и очутился под столом.
Кафиане вскочили с мест и как по команде уставились на него. По ним было видно, что они не возражали бы, если бы он свернул себе шею.
Хозяин что было силы швырнул камеру себе пор ноги. С тяжким скрежещущим стоном она разлетелась на куски. Пленка выпала из кассеты и зазмеилась по полу. Откуда-то, дзенькнув, вывалилась пружина, впилась в пол торчком и задрожала.
Харт изловчился, напрягся и выскочил из-под стола. Кафиане двинулись на него — не бросились, на разразились угрозами, а размеренно двинулись на него, разворачиваясь в стороны, чтобы он не пробился к выходу.
Он отступал, осторожно, шаг за шагом, а кафиане все продолжали свое неспешное наступление. И тут он прыгнул прямо вперед, нацелившись в самую середину цепи. Издав боевой клич, он наклонил голову и боднул Зеленую Рубаху точнехонько в живот. Почувствовал, как кафианин качнулся и подался вбок, и на какую-то долю секунды решил, что вырвался на свободу.
Но чья-то волосатая, мускулистая рука дотянулась до него, сгребла и швырнула наземь. Кто-то лягнул его. Кто-то наступил ему на пальцы. А кто-то вновь поставил на ноги и метнул без промаха сквозь открытую дверь на мостовую.
Он упал на спину и проехался по мостовой, крутясь как на салазках и совершенно задохнувшись от побоев. Остановился он только тогда, когда врезался в бровку тротуара напротив забегаловки, откуда его выкинули.
Кафиане всей командой сгрудились в дверях, надрываясь от зычного хохота. Они хлопали себя по ляжкам, били друг друга по спине. Они чуть не складывались пополам. Они потешались и издевались над ним. Половины их жестов он не понимал, но и остальных было довольно, чтобы похолодеть от ужаса.
Он осторожно поднялся и ощупал себя. Потрепали его основательно, понаставили шишек, изорвали одежду. Но, кажется, ему удалось избежать переломов. Прихрамывая, он попробовал сделать шаг, другой. Потом попытался пуститься бегом и, к собственному удивлению, обнаружил, что может бежать.
За его спиной кафиане все еще гоготали. Но кто возьмется предугадать, когда происшедшее перестанет казаться им просто смешным и они помчатся вдогонку, возжаждав крови?
Пробежав немного, он нырнул в переулок, который вывел его на незнакомую площадь причудливой формы. Он пересек эту площадь и, не переводя дыхания, юркнул в проходной двор — по-прежнему бегом. В конце концов он поверил, что достиг безопасности, и в очередном переулке присел на ступеньки, чтобы отдышаться и обдумать свое положение.
Положение — в чем, в чем, а в этом сомневаться не приходилось — было хуже некуда. Он не только не заполучил нужного героя, но и потерял камеру, подвергся унижениям и едва не расстался с жизнью.
И он был бессилен что-либо изменить.
«В сущности, — сказал он себе, — мне еще крупно повезло. С юридической точки зрения у меня нет ни малейшего оправдания. И сам кругом виноват. Снимать героя без разрешения его прототипа значит грубо нарушить закон…»
А с другой стороны — какой же он преступник? Разве у него было сознательное намерение нарушить закон? Его к этому вынудили. Каждый, кого удалось бы уговорить позировать в качестве героя, потребовал бы платы за труды — платы куда большей, чем Харт был в состоянии наскрести.
И ведь он по-прежнему нуждался, отчаянно нуждался в герое! Или он найдет героя, или потерпит окончательный крах.
Он заметил, что солнце село и город погружается в сумерки.
«Вот и день прошел, — мелькнула мысль. — Прошел впустую, и некого винить, кроме себя самого».
Проходивший мимо полицейский приостановился и заглянул в переулок.
— Эй, ты, — обратился он к Харту, — ты чего здесь расселся?
— Отдыхаю, — ответил Харт.
— Прекрасно. Посидел, отдохнул. А теперь шагай дальше.
Пришлось встать и идти дальше.
Он уже почти добрался до своего пристанища, как вдруг услышал плач, доносящийся из тупичка между стенкой жилого дома и переплетной мастерской. Плач был странный, не вполне человеческий — пожалуй, и не плач даже, а просто выражение горя и одиночества.
Он придержал шаг и осмотрелся. Плач прекратился, но вскоре начался снова. Это был тихий плач, безнадежный и безадресный плач ради плача.
Он немного постоял в нерешительности и пошел своей дорогой. Но не прошел и трех шагов, как вернулся. Заглянул в тупичок — и почти сразу зацепился ногой за что-то лежащее на земле.
Присев на корточки, он присмотрелся к тому, что лежало в тупичке, заливаясь плачем. И увидел комок — точнее не опишешь, — мягкий, бесформенный, скорбный комок, издающий жалобные стоны.
Харт поддел комок рукой и приподнял, с удивлением обнаружив, что тот почти ничего не весит. Крепко придерживая находку одной рукой, он другой пошарил по карманам в поисках зажигалки. Отыскал, щелкнул крышкой — пламя еле светило, и все же он разглядел достаточно, чтобы испытать резкую дурноту. В руках у него оказалось старое одеяло с подобием лица — лицо начало было становиться гуманоидным, но затем по каким-то причинам передумало. Вот и все, что являло собой это удивительное создание — одеяло и лицо.
Поспешно сунув зажигалку в карман, он скорчился в темноте, ощущая, как при каждом вдохе воздух встает в горле колом. Создание было не просто инопланетным. Оно было прямо-таки немыслимым даже по инопланетным меркам. И каким, собственно, образом мог инопланетянин очутиться так далеко от космопорта? Инопланетяне редко бродят поодиночке. У них на это не остается времени корабли прибывают, загружаются чтивом и тут же, без задержки, идут на взлет. И экипажи стараются держаться поближе к ракетным причалам, чаще всего застревая в подвальчиках у реки.
Он поднялся на ноги, прижав существо к груди, словно ребенка, — ребенок, и тот оказался бы, наверное, тяжелее, — и ощущая телом тепло, которое существо излучало совершенно по-детски, а сердцем непривычное чувство товарищества. Секунду-другую Харт постоял в тупичке, мучительно роясь в памяти и пытаясь настичь какое-то ускользающее воспоминание. Где-то когда-то он как будто что-то слышал или читал о подобном инопланетянине. Но это, разумеется, чепуха — инопланетяне, даже самые фантастические из них, не являются в образе одеяла с подобием лица.
Выйдя из тупичка на улицу, Харт вновь бросил взгляд на одеяло, хотел рассмотреть его получше. Но часть одеяла-тела завернулась, прикрыв лицо, и разглядеть удалось лишь смутную рябь.
Через два квартала он дотащился до «Светлой звездочки», завернул за угол к боковому подъезду и стал взбираться по лестнице. Кто-то спускался сверху, и он прижался к перилам, уступая дорогу.
— Кемп, — позвала Анджела Маре. — Кемп, что у вас в руках?
— Вот, подобрал на улице, — объяснил Харт.
Он пошевелил рукой, и одеяло-тело соскользнуло с лица. Анджела отпрянула к перилам, одновременно поднося ладонь к губам, чтобы не закричать.
— Кемп! Какой ужас!
— Мне кажется, оно нездорово. Оно…
— Что вы намерены с ним делать?
— Не знаю, — ответил Харт. — Оно горько плакало. Прямо сердце разрывалось. Я не в силах был его бросить.
— Пойду позову доктора Жуйяра.
Харт покачал головой.
— А что толку? Он же ни черта не смыслит в инопланетянах. Кроме того, он наверняка пьян.
— Никто не смыслит в инопланетянах, — напомнила ему Анджела. — Может, в центре и нашелся бы специалист… — По ее лицу пробежало облачко. — Но ничего, наш док изобретателен. Он нам хотя бы скажет…
— Ладно, — согласился Харт. — Взгляните, может, вам и в самом деле удастся его откопать.
У себя в комнате он положил инопланетянина на кровать. Загадочное существо больше не хныкало, а закрыло глаза и, кажется, заснуло, хотя он и не мог бы поручиться за это. Он присел на край кровати и стал разглядывать своего незваного гостя — и чем дольше разглядывал, тем меньше логики усматривал в том, что видел. Только теперь он осознал, каким тонким было это одеяло, каким легким и хрупким. Удивительное дело, как нечто столь немощное вообще ухитряется выжить, как умещаются в столь неподходящем теле все необходимые для жизни органы. Может быть, оно голодно? Но если да, то какого рода пищу оно потребляет? А если оно и вправду нездорово, то разве мыслимо надеяться его вылечить, когда ничего, ровным счетом ничего о нем не знаешь?
Что если док?… Да нет, док знает тут не больше, чем он сам. Док Жуйяр ничем не лучше любого другого во всей округе — перебивается с хлеба на воду, обожает, коль подвернется случай, выпить на даровщинку да еще пытается лечить больных, не имея нужных инструментов и обходясь познаниями, не обновляемыми вот уже четыре десятка лет…
На лестнице послышались шаги — сперва легкие, а за ними тяжелые, шаркающие. Надо полагать, Анджела и Жуйяр. И уж если она разыскала его так быстро, то, может статься, он достаточно трезв и способен действовать и думать, не теряя координации.
Доктор вошел в комнату, сопровождаемый Анджелой. Поставил на пол свой саквояжик, удостоив существо на постели лишь беглым взглядом.
— Ну, так что у нас здесь? — произнес он, и это был, наверное, первый случай за всю его карьеру, когда затертая профессиональная фраза обрела известный смысл.
— Кемп подобрал его на улице, — торопливо ответила Анджела. — Оно плакало, а теперь перестало.
— Это что, шутка? — спросил Жуйяр, наливаясь гневом. — Если шутка, то, молодой человек, весьма и весьма неуместная.
Харт по своему обыкновению покачал головой.
— Это не шутка. Я думал, что вам известно…
— Нет, мне неизвестно, — перебил доктор неприязненно и горько.
Он взялся за краешек одеяла, затем разжал пальцы, и существо тут же вновь шлепнулось на кровать. Доктор прошелся по комнате взад-вперед, повторил свой маршрут, потом сердито обернулся к Анджеле и Харту:
— Вы, кажется, надеетесь, что я могу что-либо сделать, — заявил он. — Да, я мог бы притвориться, что произвожу осмотр. Я мог бы вести себя, как полагается врачу. Уверен, именно на это вы и рассчитывали. Что я пощупаю ему пульс, измерю температуру, взгляну на его язык и выслушаю сердце. Ну что ж, в таком случае не подскажете ли вы мне, каким образом это сделать? Где прикажете искать пульс? А если я найду пульс, то откуда мне знать, какова его нормальная частота? Допустим даже, я придумаю, как измерить температуру, но растолкуйте мне, какую температуру считать нормальной для этого страшилища? И не будете ли вы любезны сообщить мне, как, не прибегая к анатомированию, обнаружить, где у него сердце?
Подхватив саквояжик, он направился к двери.
— Но, может, кто-нибудь другой?… — спросил Харт самым необидным тоном. — Может, хоть кто-нибудь знает?…
— Сомневаюсь, — отрезал Жуйяр.
— Вы думаете, во всем городе нет никого, кто мог бы тут чем-нибудь помочь? Вы именно это пытаетесь мне внушить?
— Послушайте, дорогой мой. Медики-люди лечат людей, и точка. Да и зачем требовать от нас большего? Нас что, каждый день вызывают лечить инопланетян? Никто и не ждет от нас, чтобы мы их лечили. Ну, время от времени случается, что какой-нибудь узкий специалист или ученый поинтересуются инопланетной медициной, да и то по верхам. Только по верхам и не больше. Человек тратит годы жизни на то, чтобы кое-как овладеть нашей земной медициной. Сколько же жизней понадобится, по-вашему, чтобы научиться медицине инопланетной?
— Успокойтесь, док. Успокойтесь, вы правы.
— И откуда вы вообще взяли, что с этим вашим существом не все в порядке?
— Ну, как же, оно плакало, вот я и подумал…
— А может, оно плакало от одиночества, или от испуга, или от горя? Может, оно заблудилось?
Доктор снова направился к двери.
— Спасибо, док, — сказал Харт.
— Не за что. — Старик в нерешительности застыл на пороге. — У вас случаем не найдется доллара? Я как-то немного поиздержался…
— Пожалуйста, — сказал Харт, протягивая ему бумажку.
— Завтра верну, — пообещал Жуйяр.
И тяжело поплелся к лестнице. Анджела нахмурилась.
— Не следовало этого делать, Кемп. Теперь он напьется, и вам придется отвечать…
— Ну, не на доллар же, — авторитетно возразил Харт.
— Это по вашим понятиям. Та бурда, какую он пьет…
— Тогда пусть его пьет, Он заслужил хоть капельку счастья.
— Однако… — Анджела кивнула в сторону существа на кровати.
— Вы же слышали, что сказал док. Он не в силах ничего сделать. И никто не в силах ничего сделать. Когда оно очнется — если очнется — оно, быть может, само сумеет сообщить, что с ним. Но на такое я, признаться, не рассчитываю…
Он подошел к кровати и окинул распростертое на ней существо пристальным взглядом. Вид у существа был отталкивающий, даже отвратительный — и ни на йоту не гуманоидный. И в то же время от этого «одеяльца» веяло таким безотрадным одиночеством, такой беззащитностью, что у Харта перехватило дыхание.
— Наверное, следовало оставить его в тупичке, — проговорил он. — Я ведь совсем уже пошел дальше. Но когда оно опять ударилось в плач, я не выдержал. Наверное, вообще не стоило с ним связываться. Все равно я ему ничем не помог. Если бы я его там и оставил, дело могло бы повернуться к лучшему. Может, другие инопланетяне уже взялись его искать…
— Все вы сделали правильно, — перебила Анджела. — Что за манера воевать с ветряными мельницами? — Она пересекла комнату и села в кресло. Он передвинулся к окну и мрачно взирал на городские крыши, когда она спросила: — А с вами-то что случилось?
— Ничего.
— Но ваша одежда! Вы только посмотрите на свою одежду!..
— Вышвырнули из погребка. Пытался снять фильм.
— Не заплатив за него?
— У меня нет денег.
— Я же предлагала вам полсотни.
— Знаю, что предлагали. Только я не мог их взять. Неужели вы не понимаете, Анджела? Не мог, и все тут!
Она сказала мягко:
— Вы же так бедствуете, Кемп…
Он вскинулся, словно его ударили. Кто ее просил говорить об этом! Какое она имела право! Да она сама…
Он успел остановиться, прежде чем слова вылетели наружу.
Она имела право. Она предлагала ему полсотни — но дело не только в деньгах. Она имела право сказать об этом потому, что понимала — она заслужила такое право. Ведь никто в целом мире не относится к нему так искренне, как она…
— Я не в состоянии больше писать, Анджела, — пожаловался он. — Как ни стараюсь, у меня ничего не выходит. Машина — сущее барахло, пленки протерты до дыр, а иные даже залатаны…
— Что вы сегодня ели?
— Выпил с вами пива и еще кружку бокка.
— Это не называется есть. Вымойтесь и переоденьтесь, потом мы с вами спустимся вниз и купим вам еды.
— На еду у меня у самого хватит.
— Знаю. Вы говорили про аванс от Ирвинга.
— Это был не аванс.
— И об этом знаю, Кемп.
— А что будет с инопланетянином?
— Да ничего с ним не будет — по крайней мере за то время, какое понадобится, чтобы перекусить. Чем вы ему поможете, стоя рядом? Вы же понятия не имеете, как ему помочь.
— Пожалуй, вы правы.
— Разумеется, я права. А теперь ступайте и смойте грязь с лица. И не забудьте заодно вымыть уши.
В «Светлой звездочке» сидел один лишь Джаспер Хансен. Они подошли и сели за тот же столик. Джаспер приканчивал блюдо свиных ножек с кислой капустой, запивая их вином, что казалось уже форменным святотатством.
— А где остальные? — осведомилась Анджела.
— Тут по соседству вечеринка, — объяснил Джаспер. — Кто-то продал книгу.
— Кто-то, с кем мы знакомы?
— Да нет, черт возьми. Просто кто-то продал книгу. С каких это пор требуется официальное знакомство, чтобы прийти на вечеринку к человеку, когда тот продал книгу?
— Я ни о чем подобном давно не слышала.
— А кто слышал? Какой-то чудак заглянул в дверь, крикнул про вечеринку, и все сразу снялись и пошли. Все, кроме меня. Мне недосуг шляться по вечеринкам. Меня ждет работа.
— Что, и закуска бесплатная? — спросила Анджела.
— Ну да. Впрочем, дело не в этом. Пусть мы достойные, уважающие себя ремесленники, а все равно каждый готов шею себе свернуть, лишь бы урвать бесплатный сандвич и стопку.
— Времена тяжелые, — заметил Харт.
— Только не для меня, — откликнулся Джаспер. — Я завален заказами.
— Но заказы еще не решают главной проблемы.
Джаспер одарил его внимательным взглядом и подергал себя за подбородок.
— А что считать главным? — спросил он требовательно. — Вдохновение? Преданность делу? Талант? Попробуй-ка, ответь. Мы механики, и этим все сказано. Наш удел — машины и пленки. Мы должны поддерживать массовое производство, запущенное двести лет назад. Конечно, оно механизировано, иначе оно не стало бы массовым, иначе нельзя было бы производить рассказы и романы даже при полнейшем отсутствии таланта. Это наша работа — выдавать тонны хлама для всей распроклятой Галактики. Чтобы у них там дух захватывало от похождений щелеглазой Энни, королевы космических закоулков. И чтобы ее ненаглядный, вчера прошитый шестью очередями, сегодня был бы жив и здоров, а завтра снова прошит навылет, и вновь заштопан на скорую руку, и…
Джаспер достал вечернюю газету, раскрыл ее и саданул по странице кулаком.
— Видели? — спросил он. — Так прямо и назвали: «Классик». Гарантированно не сочиняет ничего, кроме классики…
Харт вырвал газету из рук Джаспера, и точно там была статья на целую полосу и в центре снимок, а на снимке — тот самый изумительный сочинитель, который он, Харт, разглядывал сегодня в салоне.
— В скором будущем, — заявил Джаспер, — единственным требованием в творчестве останется простейшее: имей кучу денег. Имеешь — тогда пойди и купи машину вроде этой и прикажи ей: «Сочини мне рассказ», потом нажми кнопку или поверни выключатель, а может, просто пни ее ногой, и она выплюнет твой рассказ готовеньким вплоть до последнего восклицательного знака.
Раньше еще изредка удавалось купить подержанную машину, скажем, за сотню долларов и вытрясти из нее какое-то число строк — пусть не первоклассных, но находящих спрос. Сегодня надо выложить бешеные деньги за машину да еще купить дорогую камеру и бездну специальных фильмов и перфолент. Придет день, — изрек он, — и человечество перехитрит само себя. Придет день, когда мы замеханизируемся до того, что на Земле не останется места людям, только машинам.
— Но у вас-то дела идут неплохо, — заметила Анджела.
— Это потому, что я вожусь со своей машиной с утра до ночи. Она не дает мне ни минуты покоя. Моя комната теперь не то кабинет, не то ремонтная мастерская, и я понимаю в электронике больше, чем в стилистике.
Подошел, волоча ноги, Блейк и рявкнул:
— Что прикажете?
— Я сыта, — ответила Анджела, — мне только стакан пива.
Блейк повернулся к Харту.
— А для вас?
— Дайте мне то же, что и Джасперу, но без вина.
— В долг не дам.
— Кто, черт побери, просит у вас что-нибудь в долг? Или вы надеетесь, что я заплачу вам раньше, чем вы принесете еду?
— Нет, — огрызнулся Блейк. — Но вы заплатите мне сразу же, как только я ее принесу.
Он отвернулся и зашаркал прочь.
— Придет день, — продолжал Джаспер, — когда этому наступит конец. Должен же когда-то наступить конец, и мы, по-моему, подошли к нему вплотную. Механизировать жизнь можно лишь до какого-то предела. Передать думающим машинам можно многие виды деятельности, но все-таки не все. Кто из наших предков мог бы предположить, что литературное творчество будет низведено к инженерным закономерностям?
— А кто из наших предков, — подхватил Харт, — мог бы догадаться, что земная культура трансформируется в чисто литературную? Но ведь сегодня именно так и произошло. Конечно, существуют заводы, где строят для нас машины, и лесосеки, где валят деревья, чтобы превратить их в бумагу, и фермы, где выращивают пищу, существуют и другие профессии и ремесла, нужные для поддержания цивилизации. Но если брать в общем и целом, то Земля сегодня сосредоточила свои усилия на производстве беспрерывного потока литературы для межзвездной торговли.
— А восходит все это, — сказал Джаспер, — к одной нашей занятной особенности. Казалось бы, невероятно, что подобная особенность послужит нам на пользу, но факт есть факт. На нашу долю выпало уродиться лжецами. Единственными на всю Галактику. На всех бесчисленных мирах правду почитают за универсальную постоянную, мы — единственное исключение.
— Вы судите чересчур сурово, — протестующе сказала Анджела.
— Пусть сурово, тут уж ничего не поделаешь. Мы могли бы стать величайшими торгашами и обобрали бы всех остальных до нитки, пока те только еще соображали бы, что к чему. Свой талант к неправде мы могли бы использовать тысячью разных способов и, не исключаю, даже сберегли бы в целости свои головы. Но мы нашли этому таланту уникальное, абсолютное по безопасности применение. Ложь стала нашей продажной добродетелью. Теперь нам дозволено лгать вволю, всласть — любую ложь съедят на корню. Никто, кроме нас, землян, нигде и никогда не пробовал сочинять литературу — ни ради развлечения, ни ради морали, ни во имя какой-либо другой цели. Не пробовал потому, что литература неизбежно означает ложь, а мы, оказывается, единственные лжецы на всю Вселенную…
Блейк принес пиво для Анджелы и свиные ножки для Харта. Пришлось рассчитаться с ним не откладывая.
— У меня остался еще четвертак, — удивился Харт. — Есть у вас какой-нибудь пирог?
— Яблочный.
— Тащите порцию, плачу авансом.
— Вначале, — не унимался Джаспер, — рассказы передавали из уст в уста. Потом записывали от руки, а теперь изготовляют на машинах. Но, разумеется, это тоже не вечно. Найдется еще какой-нибудь хитрый метод. Какой-нибудь иной, лучший путь. Какой-нибудь принципиально новый шаг.
— Я согласился бы на все, — объявил Харт. — На любой метод, на любой путь. Я бы даже стал писать от руки, если бы надеялся, что у меня купят написанное.
— Как вы можете! — вознегодовала Анджела. — По-моему, на эту тему шутить и то неприлично, С подобной шуткой можно еще смириться, пока мы втроем, но если я когда-нибудь услышу…
Харт замахал руками.
— Забудем об этом. Извините, сморозил глупость.
— Разумеется, литературный экспорт, — продолжал Джаспер, — серьезное доказательство ума человека, приспособляемости и находчивости человечества. Ну, не смешно ли: методы большого бизнеса применяются к профессии, которая от века считалась совершенно индивидуальной. Но ведь получается! Не сомневаюсь, что рано или поздно сочинительское дело будет и впрямь поставлено на конвейер и литературные фабрики станут дымить в две смены…
— Ну нет, — вмешалась Анджела. — Тут вы ошибаетесь, Джаспер. При всей механизации наша профессия требует одиночества, как никакая другая.
— Верно, — согласился Джаспер. — И, признаться, я лично от одиночества ничуть не страдаю. Наверное, должен бы страдать, но не страдаю.
— Что за гнусный способ зарабатывать себе на жизнь! — воскликнула вдруг Анджела с ноткой горечи в голосе. — Чего мы, в сущности, добиваемся?
— Делаем людей счастливыми — если, конечно, именовать всех наших читателей людьми. Обеспечиваем им развлечение.
— А заодно внушаем высокие идеалы?
— Бывает, что и идеалы тоже.
— Это еще не все, — сказал Харт. — Не только обеспечиваем, не только внушаем. Мы ведем самую невинную с виду и самую опасную по существу экспансию за всю историю человечества. Старые авторы, до первых космических полетов, славили дальние странствия и завоевание Галактики, и я лично думаю, что славили оправданно. Но главную возможность они проглядели начисто. Они, пожалуй, и не могли предвидеть, что нашим оружием в покорении иных миров станут не крейсеры, но книги. Мы подрываем галактические устои нескончаемым потоком человеческой мысли. Наши слова проникают в такие бездны Вселенной, куда никогда не добрались бы наши корабли.
— Вот именно, это я и хотел сказать! — торжествующе вскричал Джаспер. — Ты попал в самую точку. Но если уж рассказывать Галактике байки, пусть это будут наши, человеческие байки. Если навязывать инопланетянам билль о добродетелях, пусть это будут наши, человеческие добродетели. Как прикажете сохранить их человеческий смысл, если изложение мы перепоручаем машинам?
— Но ведь машины-то человеческие, — возразила Анджела.
— Машина не может быть полностью человеческой. По самой своей природе машина универсальна. Она с равным успехом может быть земной и кафианской, построенной на Альдебаране или в созвездии Дракона. И это бы еще полбеды. Мы позволяем машине устанавливать норму. С точки зрения механики достоинство заключается в том, чтобы ввести шаблон. А в литературных вопросах шаблон — требование убийственное. Шаблон не способен измениться. Одни и те же ветхие сюжеты используются под разными соусами снова и снова, до бесконечности. Может статься, в данный момент расы, которые нас читают, еще не видят в шаблоне греха, поскольку пока не развили в себе ничего даже отдаленно напоминающего критическую способность. Но мы-то должны видеть! Должны хотя бы ради простой профессиональной гордости, которую мы предположительно еще не утратили. В том-то и состоит беда машин, что они уничтожают в нас эту гордость. Некогда сочинительство было искусством. Теперь оно таковым не является. Книги выпускаются на машинах, как типовые стулья. Пусть даже неплохие стулья, вполне пригодные для того, чтобы на них сидеть, но не отличающиеся друг от друга ни красотой, ни мастерством сборки, ни…
Дверь с грохотом распахнулась, и по полу загремели тяжелые шаги. На пороге вырос Зеленая Рубаха, а за его плечами, дьявольски усмехаясь, сгрудилась вся команда кафиан.
Зеленая Рубаха придвинулся к столику, сияя радостью и приветственно раскинув руки. Остановившись подле Харта, пришелец похлопал его увесистой ладонью по плечу.
— Ты меня помнить, нет? — осведомился он, медленно и старательно подбирая слова.
— Конечно, — ответил Харт, поперхнувшись. — Конечно, я вас помню. Разрешите представить вам мисс Маре и мистера Хансена.
Зеленая Рубаха произнес с заученной правильностью:
— Счастлив быть знаком, уверяю вас.
— Присаживайтесь, — пригласил Джаспер.
— Очень рад, — сказал Зеленая Рубаха и сел, подтащив к себе стул. При этом ожерелья у него на шее мелодично звякнули.
Один из кафиан с пулеметной скоростью прострекотал что-то на своем языке. Зеленая Рубаха ответил отрывисто и махнул в сторону двери. Все кафиане, кроме него, вышли из бара.
— Он быть обеспокоен, — пояснил Зеленая Рубаха. — Мы замедлять — как это сказать — мы задерживать корабль. Они без нас улететь отнюдь не могут. Но я указал ему не беспокоиться. Капитан будет рад, что мы замедлять корабль, когда увидит, кого мы привели. — Он наклонился и похлопал Харта по колену. — Я тебя искать, — сообщил он. — Искать широко и долго.
— Это что еще за шут гороховый? — спросил Джаспер.
— Шут гороховый? — переспросил кафианин, насупившись.
— Титул, означающий крайнюю степень уважения, — поспешно заверил Харт.
— Ясно, — сказал Зеленая Рубаха. — Вы все писать истории?
— Да. Все трое.
— Но ты писать лучше всех?
— Ну, знаете, — пролепетал Харт, — я бы так не сказал. Видите ли…
— Ты писать выстрелы и погони? Бах-бах, тра-та-та-та?
— Н-да. Виноват, действительно приходится.
Зеленая Рубаха засмущался и произнес виновато:
— Знать я раньше, разве посметь бы мы выбросить тебя из таверны? Это было очень смешно. Мы же не знать, что ты пишешь истории. Когда узнать, кто ты, то побежать тебя ловить. Но ты убегать и прятаться.
— Что тут все-таки происходит? — поинтересовалась Анджела.
Кафианин зычно кликнул Блейка.
— Обслужить, — распорядился он. — Эти люди мои друзья. Подать им лучшее, что у вас есть.
— Лучшее, что у меня есть, — отозвался Блейк ледяным тоном, — это ирландский виски по доллару за стопку.
— Монет у меня много, — заверил Зеленая Рубаха. — Ты подать это, что я не могу повторить, и ты получить, что просишь. — Он обернулся к Харту. — Я приготовить тебе новость, мой друг. Мы очень любим писателей, которые умеют писать бах-бах. Мы читаем их всегда-всегда. Получаем большое возбуждение.
Джаспер захохотал. Зеленая Рубаха резко повернулся, удивленный, и его кустистые брови соприкоснулись.
— Это он от счастья, — поторопился разъяснить Харт. — Он обожает ирландский виски.
— Прекрасно, — заявил Зеленая Рубаха, просияв. — Вы пить, что пожелаете. Я платить монету. Это — как это сказать — за мной. — Когда Блейк принес виски, кафианин заплатил ему и добавил: — Подать сюда сосуд целиком.
— Сосуд?
— Он имеет в виду бутылку.
— Это же двадцать долларов! — воскликнул Блейк.
— Ясно, — сказал Зеленая Рубаха и заплатил.
Они выпили виски, и кафианин вновь повернулся к Харту:
— Моя новость, что тебе ехать с нами.
— Как ехать? Куда? На корабль?
— На нашей планете никогда нет настоящего живого писателя. Ты будешь очень доволен. Только оставаться с нами и писать для нас.
— Ну, — промямлил Харт, — я не вполне уверен…
— Ты пытаться снять фильм. Хозяин таверны объяснять нам про это. Объяснять, что это против закона. Сказать, что если я подать жалобу, получаются большие неприятности.
— Не ходите с ними, Кемп, — забеспокоилась Анджела. — Не позволяйте этому чудовищу запугать вас. Мы заплатим за вас штраф.
— Мы не подавать жалобу, — кротко вымолвил Зеленая Рубаха. — Мы просто вернуться туда с тобой вместе и разнести там все ко всем чертям.
Блейк притащил бутылку и с грохотом поставил ее в центр стола. Кафианин подхватил бутылку и наполнил стопки до краев.
— Выпить, — предложил он и первым подал пример.
Харт выпил следом за ним, и кафианин сразу же снова наполнил стопки. Харт приподнял свою и стал вертеть ее в пальцах.
«Должен же существовать выход даже из такого дурацкого положения, — уговаривал он себя. — Ну, не чепуха ли, что этот громогласный варвар с одного из самых дальних солнц является в бар, как к себе домой, и требует от тебя, чтобы ты отправился вместе с ним! Однако не затевать же драку — невелик расчет, когда на улице поджидает еще целая банда кафиан…»
— Я объяснять тебе все, — произнес Зеленая Рубаха. — Я очень постараюсь объяснять, чтобы ты… чтобы ты…
— Осмыслил, — подсказал Джаспер Хансен.
— Спасибо, человек по имени Хансен. Чтобы ты осмыслил. Мы покупать истории совсем недавно. Многие другие расы покупать их давно, но для нас это ново и очень удивительно. Это выводит нас — как это сказать — из самих себя. Мы покупать много вещей с разных звезд, полезных вещей, вещей подержать в руках, понять и применить. Но от вас мы покупать путешествия в дальние места, представления о великих подвигах, мысли о великих материях. — Он еще раз наполнил стопки по кругу и осведомился: — Все трое осмыслили? А теперь, — добавил он, когда они кивнули, — теперь давай идем…
Харт медленно встал.
— Кемп, не ходите! — вскрикнула Анджела.
— Ты закрой рот, — распорядился Зеленая Рубаха.
Харт переступил порог и очутился на улице. Остальное кафиане мгновенно высыпали из темных переулков и окружили его со всех сторон.
— Давай нажимать! — радостно поторапливал Зеленая Рубаха. — Наши соплеменники даже но догадываться, что их ждет!..
На полпути к реке Харт внезапно замер посреди улицы.
— Нет, не могу.
— Что не могу? — спросил кафианин, подталкивая его сзади.
— Я позволил нам думать, — сказал Харт, — что я тот самый, кто вам нужен. Позволил, потому что хотел увидеть вашу планету. Но это нечестно. Я не тот, кто вам нужен.
— Ты писать бах-бах или нет? Ты выдумывать погони и выстрелы?
— Конечно, да. Но мои погони — не самого высшего сорта. Не такие, от которых никак не оторваться. Есть человек, у которого это выходит лучше.
— Такого нам и надо, — ответил Зеленая Рубаха. — Можешь ты сказать, где его найти?
— Это просто. Он сидел с нами за одним столом.
— Тот, кто был так счастлив, когда вы заказали виски.
— Ты про человека по имени Хансен?
— Про него, именно про него.
— Он тоже писать бах-бах, тра-та-та?
— Много лучше, чем я. Он по этой части гений.
Зеленая Рубаха преисполнился благодарности. В знак чрезвычайного расположения он притянул Харта к себе.
— Ты честный, — говорил он. — Ты хороший. Ты такой молодец сказать нам.
В доме через улицу с шумом отворилось окно, и из окна высунулся мужчина.
— Если вы немедленно не разойдетесь по домам, — завопил он, — я позову полицию!
— Значит, мы нарушить мир, — вздохнул Зеленая Рубаха. — Что за странные у вас законы! — Окно с шумом затворилось. Кафианин дружелюбно возложил руку Харту на плечо. — Мы обожатели погонь и выстрелов, — торжественно произнес он. — Нам нужен высший сорт. Мы объявляем вам спасибо. Мы отыщем человека по имени Хансен.
Он повернулся и понесся обратно, а за ним вся его компания.
Харт стоял на углу и смотрел им вслед. Сделал глубокий вдох, а затем медленный выдох.
«В сущности, добиться своего оказалось совсем нетрудно, подумал он, — стоило лишь найти правильный подход. И любопытнее всего, что подход-то подсказал мне не кто иной, как Джаспер. Как это он утверждал недавно? Правду почитают за универсальную постоянную. Мы — единственные лжецы на всю Вселенную…»
Джасперу его откровения вышли боком. По правде говоря, Харт сыграл с ним довольно злую шутку. Но ведь он и сам хотел уехать в отпуск, не так ли? Ну, вот ему и вышла увеселительная прогулочка, какие, право же, предлагаются не каждый день. Он отказал собрату в разрешении воспользоваться машиной, он расхохотался оскорбительно, когда кафианин помянул про выстрелы и погони. Если уж кто и напрашивался на такую шутку, то именно Джаспер Хансен.
А превыше любых оскорблений то, что он постоянно держал свою дверь на замке и тем самым выказывал высокомерное недоверие по отношению к коллегам-писателям.
Харт в свою очередь повернулся и пошел скорым шагом в сторону, противоположную той, где скрылись кафиане. Со временем он, конечно, явится домой — но не теперь. Это не к спеху — пусть сначала шум, поднятый ими, хоть немного уляжется.
Наступил рассвет, когда Харт поднялся по лестнице на седьмой этаж и прошел коридором к двери Джаспера Хансена. Дверь, как водится, была заперта. Но Харт достал из кармана тонкую стальную пружинку, подобранную на свалке, и принялся осторожно орудовать ею. Не прошло и десяти секунд, как замок щелкнул и дверь открылась.
Сочинитель притаился в углу, блестящий и ухоженный. Полностью перепаянный, как подтвердил сам Джаспер. Если кто-нибудь другой попробует работать на нем, то либо машину сожжет, либо себя угробит. Но это, конечно, пустые разговоры, ширма для маскировки тупого, свинского эгоизма.
«Недели две, не меньше», - сказал себе Харт. — Если подойти к делу с умом, то машина будет в его распоряжении по крайней мере недели две. Трудностей не предвидится. Все, что потребуется от него, соврать, что Джаспер разрешил ему пользоваться машиной в любое время. А если он успел составить себе правильное мнение о кафианах, сам Джаспер вернется не скоро.
Однако так или иначе двух недель хватит за глаза. За две недели, работая день и ночь, он сумеет выдать достаточно страниц, чтобы купить себе новую машину.
Он не спеша пересек комнату и пододвинул к себе стул, стоящий перед сочинителем. Сел поудобнее, протянул руку и погладил инструмент по панели. Машина была хоть куда. Она выпекала кучу материала — добротного материала. Джаспер не знал отбоя от покупателей.
— Милый старик сочинитель, — произнес вслух Харт.
Он опустил палец на центральный выключатель и перекинул язычок. Ничего не случилось. Удивленный, он выключил машину, затем включил снова. Опять ничего. Тогда он торопливо вскочил на ноги — проверить, подключена ли машина к сети. Она не была подключена, ее нельзя было подключить к сети! От изумления Харт на мгновение словно прирос к полу.
«Машина полностью перепаяна», - утверждал Джаспер. Перепаяна так искусно, что обходится совсем без тока?
Но это же невозможно. Это попросту немыслимо! Непослушными руками он приподнял боковую панель и уставился внутрь машины.
Внутри царил совершенный хаос. Половина ламп отсутствовала вчистую, половина перегорела. Схема во многих местах распаялась и висела клочьями. Весь блок реле был густо присыпан пылью. Хваленая машина на деле представляла собой груду металлолома.
Харт поставил панель на место, ощущая внезапную дрожь в пальцах, попятился назад и натолкнулся на стол. Судорожно схватился за край стола и сжал доску что было сил, пытаясь утихомирить дрожащие руки, унять бешеный гул в висках.
Машина Джаспера вовсе не была перепаяна. На ней вообще нельзя было работать. Не удивительно, что он держал дверь на замке. Он жил в смертельном страхе, что кто-нибудь вызнает его жуткую тайну: Джаспер Хансен писал от руки!
И теперь, несмотря на злую шутку, сыгранную с достойным человеком, положение самого Харта оказывалось ничуть не веселее, чем прежде. Перед ним стояли те же старые проблемы, и не было никакой надежды их разрешить. В его распоряжении оставалась та же разбитая машина и ничего больше. Пожалуй, для него и впрямь было бы лучше улететь на звезду Каф.
Он подошел к двери, повременил минутку и обернулся. Со стола едва заметно выглядывала пишущая машинка, заботливо погребенная под кучей бумаг и бумажек, чтобы создавалось впечатление, что ее никогда и не трогали.
И тем не менее Джаспер печатался! Он продавал чуть ли не каждое написанное слово. Продавал! Горбился ли над столом с карандашом в руке, выстукивал ли букву за буквой на оснащенной глушителем пишущей машинке, но — продавал. Продавал, вообще не включая сочинитель. Наводил на панели глянец, чистил и полировал их, но под панелями-то было пусто! А он все равно продавал, прикрываясь машиной как щитом от насмешек и ненависти остальных, многоречивых и бездарных, слепо верующих в мощь металла и магию громоздких приспособлений.
«Вначале рассказы передавали из уст в уста, — говорил Джаспер накануне вечером. — Потом записывали от руки, а теперь изготовляют на машинах».
И задавал вопрос: что же завтра? Задавал с таким видом, словно не сомневался, что существует некое «завтра».
«Что же завтра?» — повторил Харт про себя. Разве это предел возможностей человеческих — движущиеся шестерни, умные стекло и металл, проворная электроника?
Ради собственного достоинства — просто ради сохранения рассудка — человек обязан отыскать какое-то «завтра». Механические решения по самой своей природе — решения тупиковые. Разрешается умнеть до определенной степени — и не больше. Разрешается добираться до заданной точки — и не дальше.
Джаспер понял это. Джаспер нашел выход. Разобрал механического помощника и вернулся вспять, к работе вручную.
Если только продукт мастерства приобрел экономическую ценность, человек непременно изыщет способ производить этот продукт в изобилии. Были времена, когда мебель изготовляли ремесленники, изготовляли с любовью, которая делала ее произведением искусства, горделиво не стареющим на протяжении многих поколений. Затем на смену мастерам пришли машины, и человек стал выпускать мебель чисто функциональную, не претендующую на длительный век, а уж о гордости что и говорить.
И литература последовала по тому же пути. В ней не сохранилось гордости. Она перестала быть искусством и превратилась в предмет потребления.
Что же делать человеку в такую эпоху? И что он может сделать? Закрыться на ключ, как Джаспер, и в одиночестве трудиться час за часом, остро и горько ощущая свое несоответствие эпохе и мучаясь этим несоответствием день и ночь?
Харт вышел из комнаты со страдальческим выражением на лице. Подождал секунду, пока язычок замка, щелкнув, не стал на место. Потом добрался до лестничной площадки и медленно поднялся к себе.
Инопланетянин — одеяло с лицом — по-прежнему лежал на кровати. Но глаза его были теперь открыты, и он уставился на Харта, как только тот вошел и затворил за собой дверь.
Харт застыл, едва переступив порог, и неприютная посредственность комнаты, откровенная ее бедность и убожество буквально ошеломили его. Он был голоден, томился тоской и одиночеством, а сочинитель в углу, казалось, потешался над ним.
Сквозь распахнутое окно до него донесся гром космического корабля, взлетающего за рекой, и гудок буксира, подводящего судно к причалу.
Он поплелся к кровати.
— Подвинься, ты, — бросил он инопланетянину, раскрывшему глаза еще шире, и упал рядом. Повернулся к одеялу-лицу спиной и скрючился, подтянув колени к груди.
Круг замкнулся: он вернулся к тому же, с чего начал вчера утром. У него по-прежнему не было пленок, чтобы выполнить заказ Ирвинга. В его распоряжении была все та же обшарпанная, поломанная машина. У него не осталось даже камеры, и он не представлял себе, у кого одолжить другую. Впрочем, что за резон одалживать, если нет денег заплатить герою? Один раз он уже пробовал снять фильм исподтишка, больше не станет. Не стоит дело того, чтобы рисковать тюрьмой на три, а то и на четыре года.
«Мы обожатели погонь и выстрелов, — так, помнится, выразился кафианин, которого он окрестил Зеленой Рубахой. — От вас мы покупать путешествия в дальние места».
Для Зеленой Рубахи искомое — бах-бах, тра-тата-та, выстрелы и погони; для жителей других планет это могут оказаться сочинения какого-то иного свойства — раса за расой присматривались к странному предмету экспорта с Земли и открывали в нем для себя неведомый ранее, зачарованный мир.
«Дальние места», скрытые возможности игры ума, а то и приливы чувств. Различия в облике, видимо, не играли здесь особой роли.
Анджела утверждает, что литература — гнусный способ зарабатывать себе на жизнь. Но это она сгоряча. Все писатели изредка провозглашают одно и то же. Испокон веков представители любых профессий, мужчины и женщины в равной мере, в недобрый час непременно заявляют, что их профессия — гнусный способ зарабатывать себе на жизнь. Они, конечно, искренне верят в то, что говорят, но во все другие часы и дни помнят, что вовсе она не гнусная, а, напротив, очень и очень важная.
И сочинительство тоже важно, более того — чрезвычайно важно. Не только потому, что дарит кому-то «путешествия в дальние места», но потому, что сеет семена Земли — семена земной мысли и земной логики — среди бесчисленных звезд.
«А они там ждут, — подумал Харт, — ждут рассказов, которые я теперь никогда не напишу…»
Он мог бы, конечно, попытаться писать, несмотря ни на что. Он мог бы даже поступить, как Джаспер, исступленно скрести пером, подавляя чувство стыда, ощущая собственный анахронизм и несовершенство, страшась того неотвратимого дня, когда кто-то выведает его секрет, догадается по известной эксцентричности стиля, что это создано не машиной.
И все же Джаспер, вне всякого сомнения, не прав. Беда не в сочинителях и даже не в принципе механического сочинительства как таковом. Беда в самом Джаспере, в глубокой извращенности его психики, которая и сделала его мятежником. Но мятежником боязливым, маскирующимся, запирающим дверь на ключ, полирующим свой сочинитель и усердно прикрывающим пишущую машинку на столе всяким хламом, чтобы никто — упаси бог — не додумался, что он ею пользуется…
Харт немного согрелся, голода он уже не испытывал, и перед его мысленным взором вдруг возникло одно из тех дальних мест, на какие, видимо, и намекал Зеленая Рубаха. Небольшая рощица, и под деревьями бежит ручей. Кругом мир и спокойствие, и, пожалуй, на всем лежит печать величия и вечности, Слышно пение птиц, и вода, бегущая в мшистых берегах, издает острый, пряный запах. Он шагает среди деревьев, их готические силуэты напоминают церковные шпили. И в его мозгу сами собой рождаются слова — слова, сцепленные так выразительно, так точно и тщательно, что никто и никогда не ошибется в их истинном значении. Слова, способные передать не только сам пейзаж, но и звуки, и запахи, и переполняющее все вокруг ощущение вечности…
Но при всей своей восхищенности он не забывает, что в этих готических силуэтах и в этом ощущении вечности таится угроза. Какая-то смутная интуиция подсказывает ему, что от рощицы надо держаться подальше. Мимолетно вспыхивает желание вспомнить, как он сюда попал, — но памяти нет. Словно он впервые встретился с рощицей секунду-другую назад, однако он твердо знает, что шагает под испещренной солнцем листвой многие часы, а может, и дни.
Внезапно он почувствовал, как что-то щекочет ему шею, и поднял руку — смахнуть непрошенное «что-то» прочь. Рука коснулась теплой маленькой шкурки, и он вскочил с постели, словно ужаленный. Пальцы сжались на горле инопланетянина… Он едва не сбросил эту тварь с груди, как вдруг припомнил — с полной отчетливостью — странное обстоятельство, которое никак не шло на ум накануне.
Пальцы расслабились сами собой, и он позволил руке опуститься. И замер подле кровати, а существо-одеяло так удобно устроилось у него на спине и плечах и обняло его за шею. Он больше не испытывал голода, не был изнурен, и томившая его тоска куда-то исчезла. Он даже не помнил своих забот, и это было самое удивительное: озабоченность давно вошла у него в привычку.
Двенадцать часов назад он стоял в тупичке с существом-одеялом на руках и силился выкопать из глубин заупрямившегося сознания объяснение внезапному и непонятному подозрению — подозрению, что он уже где-то что-то слышал или читал о таком вот плачущем создании, какое подобрал. Теперь, когда одеяло укутало ему спину и приникло к шее, загадка разрешилась.
Не расставаясь с приникшим к нему существом, Харт решительно пересек комнату, подошел к узкой и длинной полке и снял с нее книгу. Книга была старая и затрепанная, лоснящаяся от множества прикосновений, и едва не выскользнула у него из рук, когда он перевернул ее, чтобы прочитать на корешке заглавие: «Отрывки из забытых произведении».
Он раскрыл томик и принялся перелистывать страницы. Он знал теперь, где найти то, что нужно. Он вспомнил совершенно точно, где читал о создании, прилепившемся за спиной. И довольно быстро нашел искомое — несколько уцелевших абзацев из рассказа, написанного давным-давно и давным-давно позабытого. Самое начало он пропустил — то, что его интересовало, шло дальше:
«Живые одеяла были честолюбивыми. Существа растительного происхождения, они, вероятно, лишь смутно сознавали, чего ждут. Но когда пришли люди, бесконечно долгому ожиданию настал конец. Живые одеяла заключили с людьми сделку. И в последнем счете оказались самыми незаменимыми помощниками в исследовании Галактики из всех когда-либо обнаруженных».
«Вот еще когда, — подумал Харт, — укоренилось вековое, самонадеянное и счастливое убеждение, что человеку суждено выйти в Галактику, исследовать ее, вступить в контакт с ее обитателями и принести на каждую посещенную им планету ценности Земли…»
«Человеку с живым одеялом, накинутым на плечи наподобие короткополого плаща, уже не надо было заботиться о пропитании, поскольку живые одеяла обладали чудесной способностью накапливать энергию и преобразовывать ее в пищу, потребную для организма хозяина.
В сущности, одеяло становилось почти вторым телом — бдительным, неутомимым наблюдателем, наделенным своего рода родительским инстинктом, поддерживающим в организме хозяина нормальный обмен веществ в любой, даже самой враждебной среде, выкорчевывающим любые инфекции, исполняющим как бы три роли: матери, кухарки и домашнего врача одновременно.
Наряду с этим одеяло становилось как бы двойником хозяина. Сбросив с себя путы однообразного растительного существования, оно словно само превращалось в человека, разделяя чувства и знания хозяина, вкушая жизнь, какая и не снилась бы одеялу, оставайся оно независимым.
И словно мало было взаимных выгод, одеяла предложили людям еще и награду, своеобразное выражение признательности. Они оказались неуемными выдумщиками и рассказчиками. Они были способны вообразить себе все что угодно без всяких исключений. Ради развлечения своих хозяев они готовы были часами рассказывать затейливые небылицы, предоставляя людям защиту от скуки и одиночества…»
Там было и еще что-то, но Харт уже не стал читать дальше. Вернувшись к самому началу отрывка, он прочел: «Автор неизвестен. Примерно 1956 год».
1956- й? Так давно? Как же мог кто бы то ни было в 1956 году узнать об этом?
Ответ ясен как день: не ног.
Не мог никоим образом. Просто-напросто выдумал. И попал, что называется, в самую точку. Кто-то из ранних авторов научной фантастики обладал поистине вдохновенным воображением.
Под сенью рощицы движется нечто несказанной красоты. Не гуманоид, не чудовище — нечто, не виданное прежде никем из людей. И невзирая на всю его красоту, в нем таится грозная опасность, от него надо, не теряя ни секунды, спасаться бегством.
Харт чуть не кинулся спасаться бегством и… очнулся посреди собственной комнаты.
— Ладно, — сказал он одеялу. — Давай-ка на время выключим телевизор. К этому мы еще вернемся.
«Мы вернемся к этому, — добавил он про себя, — и напишем про это рассказ, и побываем в разных других местах, и тоже напишем про это рассказы. И мне не понадобится сочинитель для того, чтобы написать их, я смогу и сам воссоздать в словах испытанное волнение и пережитую красоту и связать их вместе лучше любого сочинителя. Я же был там собственной персоной, я сам пережил все это, и тут уж меня не собьешь!..»
Вот именно! Вот и ответ на вопрос, который Джаспер задал вечером, сидя за столиком в баре «Светлая звездочка».
«Что же завтра?» — спрашивал Джаспер.
А завтра — симбиоз между человеком и инопланетным существом, симбиоз, еще столетия назад придуманный писателем, само имя которого давно позабыто.
«Словно сама судьба, — размышлял Харт, — положила руку мне на плечо и мягко подтолкнула меня вперед. Ведь это же совершенно неправдоподобно найти ответ плачущим в тупичке между стенкой жилого дома и переплетной мастерской…»
Но какое это теперь имеет значение! Важно, что он нашел ответ и принес домой, в ту минуту не вполне понимая, зачем, да и позже недоуменно спрашивая себя, чего ради. Важно, что теперь его необъяснимый поступок оправдался стократ.
Он заслышал шаги на лестнице, потом в коридоре. Встревоженный их быстрым приближением, он торопливо потянулся и сдернул одеяло с плеч. В отчаянии огляделся по сторонам в поисках укрытия для инопланетянина. Ну, конечно же, — письменный стол! Он рывком выдвинул нижний ящик и — даром что оно слегка сопротивлялось — засунул одеяло туда.
И не успел даже толком прикрыть ящик, как в комнату ворвалась Анджела.
Сразу было видно, что она так и пышет негодованием.
— Что за грязные шутки! — воскликнула она. — Из-за вас у Джаспера куча неприятностей!
Харт установился на нее в оцепенении.
— Неприятностей? Вы хотите сказать, что он не улетел с кафианами?
— Он прячется в подвале. Блейк передал мне, что он там. Я спускалась и говорила с ним.
— Он сумел от них избавиться? — Харт был потрясен до глубины души.
— И еще как! Он убедил их, что им вовсе не нужен живой писатель. Он объяснил, что им нужна машина, и рассказал о сверкающем чуде — о том самом «Классике», что выставлен в салоне.
— И они отправились в центр и украли «Классик»?
— Увы, нет. Если бы украли, то и горя бы мало, Но они и тут наломали дров. Чтобы добраться до машины, они разбили витрину и подняли тревогу. Теперь вся полиции города гонится за ними по пятам.
— Но ведь Джаспер…
— Они брали его с собой, чтобы он показал им, куда идти.
Харт немного перевел дух.
— И теперь Джаспер прячется от слуг закона.
— В том-то и штука, что он не знает, прятаться ему или нет. С одной стороны, полиция его, наверное, вообще не видела. С другой — что если они сцапают кого-нибудь из кафиан и вытрясут из него всю правду? Тогда вам, Кемп Харт, придется держать ответ за многое…
— Мне? Я-то тут при чем?…
— А кто сказал им, что Джаспер — тот, кто им нужен? И как только вы ухитрились заставить их поверить в такую чушь?
— Без труда. Вспомните, что втолковывал нам Джаспер. Все, кроме нас, всегда говорят правду. Мы — единственные, кто умеет лгать. Пока они все не поумнеют, общаясь с нами, они будут верить каждому нашему слову. Поскольку все остальные всегда говорят правду и только правду…
— Да замолчите вы! — перебила его Анджела. Потом осмотрелась и спросила: — А где ваше милое одеяльце?
— Куда-то делось. Надо полагать, удрало. Когда я вернулся домой, его уже не было.
— Вы хоть разобрались, что это такое?
Харт покачал головой.
— Может, и к лучшему, что оно убежало, — сказал он. — Меня от него, признаться, мутило.
— Вы что док Жуйяр. Кстати, о нем. Весь наш квартал положительно сошел с ума. Док, вдребезги пьяный, валяется в парке под деревом, и его стережет пришелец. Никого даже близко не подпускает. Не то охраняет его, не то считает своей собственностью, не поймешь.
— А может, это один из его розовых слонов? Мерещились ему так часто, что в конце концов ожили?
— Оно не розовое, и это не слон. Ступни у него перепончатые, непропорционально крупные, и длиннющие паучьи ноги. И вообще оно похоже на паука, а кожа вся в бородавках. Треугольная голова с шестью ротами. Глянешь — и сразу мурашки по спине…
Харт пожал плечами. Обычных инопланетян переварить не так уж трудно, но, конечно, если такое пугало…
— Интересно, чего оно хочет от дока.
— Никто, по-видимому, не знает. А оно не рассказывает.
— А если не может?
— Все другие пришельцы могут. По крайней мере могут изъясняться настолько, чтобы их поняли. Иначе они вообще сюда не прилетали бы.
— Звучит логично, — согласился Харт. — А если оно решило нализаться задаром, сидя рядом с доком и вдыхая перегар?
— Знаете, Кемп, подчас ваши шуточки становятся совершенно непереносимыми, — заявила Анджела.
— Вроде намерения писать от руки.
— Вот именно, — подтвердила Анджела. — Вроде намерения писать от руки. Вам известно не хуже, чем мне, что в приличном обществе о таких вещах просто не говорят. Писать от руки — все равно что есть пальцами, или ковырять в носу, или выйти на улицу нагишом…
— Хорошо, — сдался Харт, — хорошо. Больше я никогда не заикнусь об этом.
Когда она ушла, Харт опустился на стул и принялся обдумывать создавшееся положение всерьез.
Во многих отношениях он будет теперь походить на Джаспера, но можно ли возражать против этого, если он начнет писать, как Джаспер!
Придется приучиться запирать дверь. Он стал ломать себе голову: где ключ? Он никогда не пользовался ключом; теперь при первом удобном случае надо будет переворошить все в столе — а вдруг отыщется? Если нет, придется заказать новый ключ: не хватало еще, чтобы кто-нибудь вперся в комнату без предупреждения и застал его с одеялом на плечах или с пером в руке.
«Пожалуй, — мелькнула мысль, — неплохо было бы переехать на новую квартиру. В самом деле, как прикажете объяснить людям, отчего я ни с того ни с сего стал запираться на ключ?»
Но даже подумать о переезде было и то нестерпимо. Пусть комнатка плохонькая, он к ней привык, и она подчас казалась ему почти родным домом. А что если, когда он успешно продаст первые две-три вещи, потолковать с Анджелой и выяснить, как она отнесется к предложению переехать вместе с ним?
Анджела — славная девочка, но можно ли просить девушку связать свою судьбу с человеком, который сам не ведает, на что в следующий раз купить себе хлеба? Однако теперь, даже если он не продаст ни строчки, заботиться о хлебе насущном ему больше не придется.
«Любопытно, — подумал он вскользь, — можно ли поделить одеяло как кормильца на двоих? И удастся ли в конце концов внятно объяснить все это Анджеле?…»
Но как, скажите на милость, ухитрился тот забытый автор в далеком 1956-м додуматься до такого? И сколько еще шальных идей, рожденных причудливой игрой ума и парами виски, могут на поверку оказаться правильными?
Мечта? Озарение? Проблеск грядущего? Не важно, что именно: просто человек подумал об этом, и оно сбылось. Сколько же других небылиц, о которых люди думали в прошлом и подумают в будущем, в свой срок тоже обернутся истиной?
Догадка даже испугала его.
Те самые «путешествия в дальние места». Полет воображения. Влияние печатного слова, сила мысли, определяющая это влияние. «Книги куда опаснее крейсеров», - сказал он вчера. Как он был прав, как бесконечно прав!..
Он поднялся, пересек комнату и встал перед сочинителем. Тот злобно оскалился. В ответ Харт показал машине язык и произнес:
— Вот тебе!
Тут он услышал за спиной легкий шелест и поспешно обернулся. Одеяло ухитрилось каким-то образом просочиться из ящика и устремилось к двери, опираясь на нижние складки своего хрупкого тельца. На ходу оно колыхалось и дергалось, словно раненый тюлень.
— Эй, ты! — завопил Харт и потянулся следом.
Но поздно. В дверях стояло чудище — другого слова не подберешь. Одеяло подскочило к нему, быстро скользнуло вверх и распласталось у него на спине.
Чудище, обращаясь к Харту, прошипело:
— Я потерял это. Вы были добры отыскать. Благодарю…
Харт утратил дар речи.
И было от чего. Ни дать ни взять — тот самый пришелец, которого Анджела видела рядом с доктором, только еще более страшный, чем по описанию.
Он стоял на перепончатых лапах втрое большего размера, чем нужно было по росту, — казалось, он надел снегоступы. И еще у него был хвост, неизящно загнутый до середины спины. И еще дынеобразная голова с треугольным лицом и шестью рогами, а на кончик каждого из шести рогов был насажен вращающийся глаз.
Чудище залезло в сумку, которая, видимо, являлась частью его тела, и вытащило пачку банкнот.
— Небольшая награда, — возвестило оно и кинуло банкноты Харту. Тот машинально протянул руку и подхватил их. — Мы уходим вдвоем, — добавило оно, помолчав. — Мы уносим в нашей памяти добрые мысли…
Оно совсем уже переступило порог, когда протестующий вопль Харта заставил его обернуться.
— Да, благородный сэр?
— Это — одеяло — эта шутка, которую я нашел… Что это?
— Мы ее сделали.
— Но она живая, и кроме того…
Чудище только усмехнулось в ответ.
— Вы такие умные люди. Вы сами ее придумали. Много времен назад.
— Неужели тот самый рассказ?
— Непременно. Мы про нее прочитали. Мы ее сделали. Очень умная мысль.
— Не хотите же вы сказать, что и в самом деле…
— Мы биологи. Как вы назвали бы такую науку — биологическая инженерия…
Чудище повернулось и двинулось прочь по коридору. Харт крикнул вдогонку:
— Эй, минуточку! Постойте! Одну мину…
Но оно удалялось очень ходко и не остановилось.
Харт, грохоча каблуками, припустил за ним. Добежав до площадки, глянул через перила, никого не увидел.
И все равно устремился вниз, перескакивая через три ступеньки и решительно пренебрегая всеми правилами безопасности.
Он не догнал пришельца. Выскочив из дома на улицу, он притормозил и осмотрелся по сторонам, но от незваного гостя не осталось и следа — исчез, как в воду канул.
Тогда Харт полез в карман и ощупал пачку банкнот, пойманных налету. Вытащил ее целиком — она оказалась толще, чем ему помнилось. Сорвав эластичную опояску, он взглянул на деньги повнимательнее. Достоинство верхней купюры, в галактических кредитах, оказалось таково, что Харт едва устоял на ногах. Он быстро перелистал всю пачку — другие купюры были вроде бы того же достоинства.
При одной мысли о подобном богатстве Харт задохнулся и перелистал пачку еще раз. Нет, он не ошибся — купюры действительно были одного достоинства. Проделал в уме беглый подсчет — результат получился прямо-таки ошеломляющим. Даже если считать в кредитах, а каждый кредит при обмене равнялся примерно пяти земным долларам.
Ему случалось видеть кредиты и раньше, но до сих пор не доводилось держать их в руках. Они служили основой галактической торговли и широко применялись в межзвездных банковских операциях, а в повседневное обращение если и попадали, то редко. Он взвесил их в руке и внимательно рассмотрел — да, они были прекрасны.
«Чудище, по-видимому, безмерно ценит свое одеяло, — подумал он, — если отвалило такую фантастическую сумму за то, что кто-то элементарно позаботился о нем». Хотя, если разобраться, это не единственно возможное объяснение. Уровень благосостояния от планеты к планете разнится чрезвычайно сильно, и богатство, которое он сейчас держал в руках, владелец одеяла, быть может, предназначал на мелкие расходы…
С удивлением Харт обнаружил, что не ощущает ни особого волнения, ни счастья, как по идее должно было бы быть. Единственное, о чем он, кажется, еще способен был думать, — что одеяло для него потеряно.
Он запихнул деньги в карман и перешел через улицу в маленький парк. Жуйяр уже проснулся и сидел на скамейке под деревом. Харт присел рядом.
— Как чувствуете себя, док? — спросил он.
— Превосходно, сынок, — отвечал старик.
— Видели вы пришельца, похожего на паука в снегоступах?
— Был тут один какой-то не так давно. Просыпаюсь я — а он меня ждет. Хотел узнать про ту штуку, что вы нашли.
— И вы сказали?
— Конечно. А почему бы и нет? Он объяснил, что разыскивает ее. Я подумал, что вы будете счастливы сбыть ее с рук.
Какое-то время оба сидели молча. Потом Харт спросил:
— Док, что бы вы сделали, если бы получили миллиард долларов?
— Я, — ответил доктор без малейшего колебания, — я бы упился до смерти. Да, сэр, я бы упился до смерти настоящим зельем, а не той бурдой, какой торгуют на этом конце города…
«И все покатилось бы, как заведено, — подумал Харт. — Док упился бы до смерти. Анджела принялась бы шляться по художественным салонам и домам моделей. Джаспер более чем вероятно купил бы себе домик в горах, где мог бы уединяться без помехи. А я? Что сделаю я сам с миллиардом долларов плюс минус миллион?…»
Еще вчера, сегодня ночью, каких-нибудь два часа назад он заложил бы душу за сочинитель модели «Классик».
Сейчас «Классик» казался форменным старьем и преснятиной.
Потому что открылся новый, лучший путь — путь симбиоза, путь сотрудничества человека с инопланетной биологической конструкцией.
Харт припомнил готическую рощу и господствующее над ней ощущение вечности и даже здесь, в ярком свете дня, вздрогнул при воспоминании о несказанной красоте, что возникла среди деревьев.
«Воистину, — сказал он себе, — такой способ сочинять куда лучше: познать явление самому и тогда уже описать его, пережить свой сюжет самому и тогда уже записать его…»
Но он утратил одеяло и не представлял себе, где взять другое. И даже если бы он узнал, откуда они берутся, он все равно бы не ведал, как приобрести хоть одно одеяльце в личную собственность.
Инопланетная, чуждая биологическая конструкция — и все же не до конца чужая: ведь впервые о ней подумал безвестный автор много лет назад. Человек, который писал, как Джаспер пишет еще и сегодня, — скорчившись над столом, лихорадочно перенося на бумагу слова, сплетающиеся в мозгу. И никаких тебе сочинителей, ни фильмов, ни перфолент, ни прочих механических приспособлений. Но сумел же этот не известный никому человек преодолеть мглу времени и пространства, коснуться мыслью иного безвестного разума, — и одеяло появилось на свет столь же неминуемо, как если бы человек изготовил его собственными руками!
Не в том ли и состоит подлинное величие человечества, что оно способно призвать себе на помощь воображение — и в один прекрасный день все воображаемое сбудется?
А если так, то вправе ли человек передоверить свое призвание поворотным рычагам, вращающимся колесикам, умным лампам и потрохам машин?…
— У вас при себе случаем не найдется доллара? — спросил Жуйяр.
— Нет, — ответил Харт. — Доллара у меня нет.
— Вы такой же, как все мы грешные, — сказал старик. — Мечтаете о миллиардах, а за душой ни цента…
«Джаспер — мятежник, — подумал Харт, — а это не окупается. На долю мятежников остаются лишь расквашенные носы да шишки на лбу».
— Доллар мне определенно пригодился бы, — сказал Джаспер.
«Не окупится мятеж Джасперу Хансену, — подумал Харт, — не окупится и другим, кто так же запирается на замок и так же полирует свои безграмотные машины с единственной целью: чтобы каждый, кто забредет к ним в гости, удостоверился, что машины в целости и в чести».
«Не окупился бы мятеж и мне, — сказал себе Кемп Харт. — Зачем мне мятеж, когда, подчинившись правилам, я прославлюсь практически за одну ночь?»
Опустив руку в карман, он ощупал пачку банкнот и бесповоротно решил, что чуть погодя отправится в центр и купит в салоне ту самую машину, удивительную и несравненную. Денег хватит на любую машину. Того, что есть в пачке, хватит на тысячи машин.
— Да, сэр, — сказал Жуйяр, мысленно возвращаясь к своему ответу на вопрос о миллиарде долларов. — Эта была приятная смерть. Не спорьте, очень приятная.
Когда Харт вновь появился в салоне-магазине, бригада рабочих как раз заменяла выбитое стекло, но он едва удостоил их взглядом и без колебаний проследовал внутрь.
Продавец, тот же самый, вырос перед ним как из под земли. Только сегодня продавец и не пытался разыграть радость, а придал своему лицу выражение суровое и даже слегка обиженное.
— Вы вернулись, несомненно, затем, чтобы подписать заказ на «Классик»? — произнес продавец.
— Совершенно верно, — ответил Харт и извлек из кармана деньги.
Продавец был отлично вышколен. Он опешил лишь на какую-то долю секунды, а затем вновь обрел самообладание со скоростью, которая могла бы претендовать на рекорд.
— Великолепно! — воскликнул продавец. — Я так и знал, что вы вернетесь. Не далее как сегодня утром я говорил кое-кому из наших, что вы непременно заглянете к нам опять.
«Ну да, ври больше», - подумал Харт.
— Полагаю, — сказал он, — что если я заплачу наличными, то вы согласитесь немедленно обеспечить меня в достаточном количестве пленками, перфолентами и аппаратурой по моему выбору?
— Разумеется, сэр. Я сделаю все возможное.
Харт снял сверху пачки одну купюру, а остальное сунул обратно в карман.
— Не изволите ли присесть, — извивался продавец. — Я тотчас же вернусь. Договорюсь о доставке и оформлю гарантию…
— Можете не спешить, — ответил Харт, наслаждаясь произведенным эффектом.
Он опустился в кресло и принялся строить дальнейшие планы.
Прежде всего необходимо найти квартиру получше, а потом закатить обед для всей компании и утереть нос Джасперу. Так они сделают, если Джаспера не упекли в тюрьму. Он даже хмыкнул, представив себе, как Джаспер ежится от страха в подвале бара «Светлая звездочка». И еще он сегодня же зайдет в контору к Ирвингу, отдаст ему двадцатку и объяснит, что к сожалению, не располагает временем на то, чтобы выполнить заказ. Не то чтобы ему не хотелось выручить Ирвинга. Но это же прямое кощунство писать ту чепуху, которая Ирвингу, на машине, наделенной такими талантами, как «Классик».
Заслышав у себя за спиной торопливую дробь шагов, он поднялся и с улыбкой повернулся навстречу продавцу. Однако тот и не думал отвечать на улыбку. Казалось, продавца вот-вот хватит удар.
— Вы!.. — задохнулся он, с трудом сохраняя способность к членораздельной речи. — Ваши деньги!.. Мы по горло сыты вашими фокусами, молодой человек!
— Деньги? — не понял Харт. — Что — деньги? Это галактические кредиты. Следовательно…
— Это игрушечные деньги! — взревел продавец. — Деньги для детишек! Игрушечные деньги, выпущенные в созвездии Дракона! Тут на лицевой стороне так прямо и напечатано. Вот, крупными буквами… — он отдал бумажку Харту. — А теперь выметайтесь вон!
— Позвольте, — взмолился Харт, — вы уверены? Это просто не может быть! Здесь какая-то ошибка…
Наш кассир утверждает, что это факт. Он эксперт по денежным знакам любого рода, и он утверждает, что деньги игрушечные.
— Но вы же их взяли! Вы не смогли отличить их от настоящих…
— Я не умею читать по-дракониански. А кассир умеет.
— Чертов пришелец! — крикнул Харт в припадке внезапной ярости. — Ну, если я до него доберусь!..
Продавец чуть-чуть смягчился.
— Этим пришельцам никак нельзя доверять, сэр. Они порядочные пройдохи.
— Прочь с дороги! — крикнул Харт. — Я должен разыскать этого негодяя!
Дежурный в Бюро по делам инопланетян не сумел оказать Харту особой помощи.
— У нас нет данных, — объявил дежурный, — о существе того типа, который вы описываете. Вы не располагаете хотя бы его фотографией?
— Нет, — ответил Харт, — фотографии у меня нет.
Перед тем дежурный просмотрел груду каталогов; теперь он принялся расставлять их по местам.
— Конечно, — рассуждал он, — то, что у нас нет данных, еще ничего не доказывает. К сожалению, мы просто-напросто не успеваем следить за всеми разновидностями мыслящих. Их так много, и беспрерывно появляются новые. Возможно, следовало бы навести справки в космопорте. А вдруг кто-нибудь обратил внимание на вашего пришельца?
— Я уже побывал там. И ничего. Совсем ничего. Он должен был прилететь сюда, а может, успел улететь обратно, — и никто его не помнит! А может, помнит, но не говорит.
— Инопланетяне покрывают друг друга, — поддакнул дежурный. Он продолжал складывать книги стопками. Близился конец рабочего дня, ему не терпелось уйти и он решил сострить:
— А почему бы вам не отправиться в космос и не поискать пришельца в его родной стихии?…
— Я, видимо, так и сделаю, — ответил Харт и вышел хлопнув дверью.
Ну, чем плоха шутка — предположить посетителю отправиться в космос и самому поискать своего пришельца? Почему бы, в самом деле, не выследить его среди миллионов звезд, не поохотиться за ним на расстоянии в десять тысяч световых лет? И почему бы потом, найдя его, не сказать: «А ну, отдавай одеяло», чтоб он тут же расхохотался тебе в лицо? Но ведь к тому времени, когда сумеешь выследить его среди миллионов звезд, на расстоянии в десять тысяч световых лет, одеяло тебе уже не понадобится: ты сам переживешь свои сюжеты, и увидишь воочию своих героев, и впитаешь в себя краски десяти тысяч планет и ароматы миллионов звезд. И сочинитель тебе тоже не понадобится, как не понадобятся ни фильмы, ни перфоленты, ибо нужные слова будут трепетать на кончиках твоих пальцев и стучать в висках, умоляя выпустить их наружу…
Чем плоха шутка — всучить простаку с отсталой планеты пригоршню игрушечных денег за нечто, стоящее миллионы? Дурачина и не заподозрит, что его провели, покуда не попытается эти деньги потратить. А обманщик, сорвав куш по дешевке, тихо отползет в сторонку и будет надрываться от смеха, упиваясь своим превосходством.
Кто это смел утверждать, что люди единственные лжецы на всю Вселенную?…
А чем плоха шутка — носить на плечах живое одеяло и посылать на Землю корабли за галиматьей, которую здесь пишут? Не сознавая, не догадываясь даже, что нарушить земную монополию на литературу проще простого и для этого нужно лишь одно: хорошенько прислушаться к существу у себя за спиной.
— И эта шутка значит, — произнес Харт вслух, — что в последнем счете ты остался в дураках. Если я когда-нибудь найду тебя, ты у меня проглотишь эту шутку натощак!
Анджела поднялась на верхний этаж с предложением мира. Она принесла и поставила на стол кастрюльку.
— Поешьте супу, — сказала она.
— Спасибо, Анджела, — ответил он. — Совсем сегодня забыл про еду.
— А рюкзак зачем, Кемп? Едете на экскурсию?
— Нет, в отпуск.
— И даже мне не обмолвились!
— Я едва-едва надумал, что еду. Вот только что.
— Извините, что я так рассердилась на вас. Все благополучно удрали.
— Так что, Джаспер может выйти из подвала?
— Уже вышел. Он сильно зол на вас.
— Уж как нибудь переживу. Он мне не родственник.
Она села на стул и стала наблюдать за тем, как он укладывается.
— Куда вы собираетесь, Кемп?
— Искать моего пришельца.
— Здесь в городе? Вы никогда его не найдете.
— Придется порасспрашивать дорогу.
— Какую дорогу? Где вы видели пришельца, кроме как?…
— Вы совершенно правы.
— Вы сумасшедший! — закричала она. — Не смейте этого делать, Кемп! Я вам не позволю! Как вы будете жить? Чем зарабатывать?
— Буду писать.
— Писать? Вы не сможете писать! Вы же останетесь без сочинителя…
— Буду писать от руки. Может, это и неприлично, но я сумею писать от руки, потому что буду знать то, о чем пишу. Мои сюжеты войдут мне вплоть и в кровь. Я буду чувствовать их вкус, цвет и запах…
Она вскочила со стула и замолотила кулачками по его груди:
— Это мерзко! Это недостойно цивилизованного человека! Это…
— Но именно так писали прежде. Все бесчисленные рассказы, все великие мысли, все изречения, которые вы любите цитировать, написаны именно так. Так оно и должно быть во веки веков. Мы сейчас забрели в тупик.
— Вы еще вернетесь, — предсказала она.
— Сами поймете, что заблуждаетесь, и вернетесь…
Он покачал головой, не сводя с нее глаз.
— Не раньше, чем найду своего пришельца.
— Вовсе вы не пришельца ищите! Что-то совсем другое. По глазам вижу — что-то другое…
Она круто повернулась и стремглав бросилась из комнаты по коридору и вниз по лестнице.
Он продолжал собирать рюкзак, а когда собрал, сел и съел суп. И подумал, что Анджела права. Ищет он отнюдь не пришельца. Не нужен ему пришелец. Нее нужно одеяло, не нужен сочинитель.
Он отнес кастрюльку в раковину и вымыл под краном, а потом старательно вытер. Затем поставил в центре стола, где Анджела наверняка ее увидит, как только войдет. Потом взял рюкзак и стал медленно спускаться по лестнице. Наконец он вышел на улицу — и тут услышал позади крик. Это была Анджела, она бежала за ним вдогонку. Он остановился и подождал ее.
— Я еду с вами, Кемп.
— Вы сами не знаете, что говорите. Путь будет далек и труден. Диковинные миры и странные нравы. И у нас нет денег.
— Нет, есть. У нас есть полсотни. Те, что я пыталась вам одолжить. Большего предложить не могу, да и этого надолго хватит. Но полсотни у нас есть.
— Но вам-то не нужен никакой пришелец!
— Нет, нужен. Я тоже ищу своего пришельца. Каждый из нас, по-моему, ищет своего пришельца.
Он решительно привлек ее к себе и крепко обнял.
— Спасибо, Анджела, — проговорил он.
Рука об руку они направились к космопорту, чтобы выбрать корабль, который помчит их к звездам.
Примечания
1
К.Маркс и Ф.Энгельс, Сочинения, т. 12, стр. 737, М., Госполитиздат, 1958.
(обратно)2
Ф.Энгельс. Анти-Дюринг, стр. 34, М., Госполитиздат, 1957.
(обратно)3
James Blish, Surface Tension, в кн. The Seedling Stars, 1969.
Джеймс Бенджамин Блиш (1921–1975) был по образованию биологом. И когда в середине 1940-х годов стал пробовать свои силы в литературе, то сосредоточил внимание прежде всего на темах, какие подсказывало ему развитие любимой науки.
Повесть «Поверхностное натяжение» считается в англо-американской фантастике классической. Она входит в цикл повестей о «пантропологии» — придуманной Блишем науке будущего, которая ставит перед собой задачу облегчить космическую экспансию человечества путем направленных воздействий на генетические механизмы наследственных клеток. И на самых дальних планетах, где условия жизни резко отличаются от земных, появляются «люди», выдерживающие стоградусные морозы, «люди», обитающие в листве на вершинах деревьев, «люди», по физическому облику почти не похожие на землян — своих прародителей.
Еще более оригинальную метаморфозу претерпевают по воле автора герои «Поверхностного натяжения» — потомки людей, поселенные в системе Тау Кита. Как пишет Айзек Азимов, включивший эту повесть в антологию «Куда мы идем?»: «Сделайте одно — только одно — фантастическое допущение, а затем стройте действие в строгом соответствии с логикой…».
На русский язык были также переведены рассказы Блиша «Король на горе», «Произведение искусства» и несколько других.
(обратно)
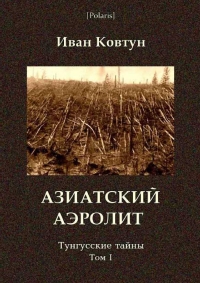


Комментарии к книге «Братья по разуму», Джеймс Блиш
Всего 0 комментариев