Томас
Первая часть, которую можно назвать:«Верхом на ослике под танцующими деревьями»
О, бездна богатства и премудростии ведения Божия!
Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!
(Рим.11:33). Послание к Римлянам святого апостола Павла
Нет, ребята, всё не так!
Всё не так, ребята!
В.С. Высоцкий. «Вариации на цыганские темы»
В нашем грешном мире нет ничего слаще приятных воспоминаний: они как бесконечная сосательная конфета — вкусная до одури. Но ещё, я скажу вам, слаще делиться ими. Одно плохо — не тот нынче пошел читатель! Хлопотливый, дерганный. На бегу, всухомятку, в перерывах... Да ладно бы читал, а то пролетит прыжками через страницу или по диагонали, как банка шпротов по льду. Всё ему надо разжевать. Поэтому сразу предупреждаю: не удивляйтесь рваному ритму, провисаниям и стилистическим огрехам. Просто у данной истории несколько рассказчиков. Кое-кто ещё может три слова в предложение связать, а у остальных с этим проблемы... Рассказчики не из столиц — наши, тутошние. Поэтому не ждите водопадов метафор и аллюзий, а откуда взяться в нашем Городке высокому слогу? Почти весь мат убран и то хорошо... Чтобы рукописи привести в нормальный вид, пришлось мне хорошо поработать. Все шероховатости, конечно, убрать не получилось. Хотя... Оно и к лучшему. Вижу — чем дольше вожусь, пропадает колорит, азарт, ощущение местечковости.
Ну что, начнём, помолясь...
1 Запевка или скучное начало
Если кто забыл, лето 1999 года на Донбассе было напрочь отравлено ожиданием конца света. Круглые цифры издавна пугают людей, а тут не просто нули, а перелом тысячелетий, перелом, требующий капитального гипса. Бо реально боялись... Жили тогда бедно, неустроенно. Дешевое шмотье, дорогие мобильники. Бензин куда-то пропал. Жара эта проклятущая... Дамы усмехнутся: «Девяносто девятый? Так это ещё при царе Горохе, когда тупоносые туфли были в моде!». И будут правы: для женщин полгода — срок, а тут целая вечность. Мужики промолчат, у них своих забот хватает, ведь попросту языком трепать нужно время, место, или хотя бы пол-литра. Вот кто попробует ответить, так это старики. Они, сколько не пытай, не вспомнят, что писали вчерашние газеты, какую кашку жевали на завтрак, но что им приходилось делать в среду утром 22 июля 1984 года — милости просим. Этому легко найти объяснение: всем известно, что стариковские мозги имеют левую резьбу. Вот только я вас удивлю. Наши старички, глупо помаргивая, покряхтывая, почесываясь в этот раз промолчат. Почему? Да потому, что у горожан в ящике памяти, где должны храниться воспоминания о конце августа и первых днях сентября последнего года двадцатого столетия черным колодцем зияет провал...
Но я-то всё хорошо помню и, если захочу забыть, не получится. Мне тогда было... было...
Впрочем, неважно.
Всё началось, когда в Городке-на-Суше появился Томас. Кажется, 4 августа. Приехал не на автобусе или поезде, а машине — старом горбатом пошарканном «запорожце». Где он достал сей реликт советского автопрома, есть большая тайна, как, впрочем, и всё, что тогда с ним было связано. Одно доподлинно известно: своего проржавевшего дружка Томас — ни без иронии — называл Осликом.
Вот таким остряком был наш Томас.
Въехал он...
Так и тянет написать «со стороны населенного пункта такого-то», но какая разница, откуда он, гад, заявился? Не было лет двести, все спокойно жили, а тут — на тебе, нарисовалось чудо! Стоило ему пересечь городскую границу, проходящую возле полутораметровых жестяных букв, составляющую надпись «Добро по аловать в Городок-на-Суше!» (букву «ж» Сашка с Иван Сергеичем накануне оттащили на пункт приема металлолома) — сразу же на нашу голову скатились приключения...
Невольным свидетелем явления Томаса стал Сергеич, который прятался от палящего солнца под козырьком автобусной остановки «Красный партизан».
Вот зараза — в двух соседних предложениях встретились два Сергеича! Но я должен уточнить, что это были разные люди. Один Сергеич — тот, что Иван — известен в наших краях, как человек озабоченный вечным вопросом «где б достать выпить?», а второй Сергеич — у «партизана» — это голова! Мелок, сух, усат, но с характером. В музыкальной школе когда-то служил, на фортепиано-аккордеоне играл. Так вот, стоит Сергеич-второй, попутку ловит. Автобусы-то редко ходили. Они и сейчас в тех краях не балуют, а тогда вообще худо. Стоит в теньке, на прыгающих в пыли воробьев посматривает. Пропустил уж с десяток машин, вдруг видит: «горбач» катит. Думает Сергеич: «Наверное, брат-пенсионер в город направился», — и поднял, горемыка, руку. Почему горемыка? Так я вам сразу и сказал...
Ослик остановился, и настала очередь Сергеичу в первый раз удивиться. Стекло в дверке опустилось, а за рулем, чуть сгорбившись, сидит не пенсионер совсем, а почти молодой даже симпатичный мужчина. Наш баянист и спрашивает:
— До центра довезете?
Томас отвечает:
— А почему бы и не повезти? Вам куда?
— Мне к базару. Сколько выйдет?
Водитель нагнулся, чтобы лучше рассмотреть старика. Окинул прищуром и предлагает:
— Есть два варианта. Первый — едем быстро и бесплатно, второй — медленно, но за деньги.
Сергеич усмехнулся в прокуренные усы, и выбрал первое. Томас кивнул, приулыбнулся — это когда тонкие губки чуть растянулись, а глазки все такие же хитрющие. Подождал, пока дед сядет в машину и нажал на педальку.
Поехали и взаправду быстро. Тут Сергеич второй раз удивился — откуда в «горбаче» столько прыти? Он уважительно посмотрел на водителя, которому машина была явно не по размеру, оглядел салон, обивку, стародавнюю торпеду, руль, отороченный бахромой по старой моде. И вот такая древняя машинка без видимых усилий шла под семьдесят и не жужжала. Поразительно!
Да, это завязка: ровная дорога, ясное позднее утро — самое время для второго завтрака — добрейшее настроение, ни к чему не обязывающий треп двух случайных людей... Наверное, всё было слишком гладко, хорошо, а в жизни так не бывает.
Как Ослик не кочевряжился, а его начали обгонять. Я несколько машинок пропущу, а вот белую иномарку с табличкой на бампере «С нами Иисус», упомню. Обогнала — только в окно ветерок подул. Томас неравнодушно провел взглядом наглеца, а Сергеич под руку его спрашивает:
— Это ваша цаца?
— Вы об Ослике? — Переспросил Томас и нежненько погладил руль. — Взял напрокат. У друзей.
— Странное имечко.
— Вот уж не думаю так, — говорит Томас. — Вы знаете, что в любой машине сидит какой-то зверь. Где-то кузнечик, у кого-то бык...
— А в этой — ослик?
— Ага, — улыбнулся Томас.
Сергеичу водитель понравился. Что-то в нем было такое, располагающее. Приятно худощавый, красивый профиль, прямой взгляд серых глаз. Волосы светлые, длинные, уложенные как-то по-ненашенски, по-современному. Вот только улыбка выходила не очень веселая. Кажется, всё как надо: губы растягиваются, на лице появляются в необходимых местах морщинки, и даже в глазах теплинка, но...
— Проездом? — спросил Сергеич.
— И да, и нет, — ответил Томас. — Вам до рынка?
— Не, чуть раньше. Я к своим еду. Огурчики хорошие уродились, — старик приподнял с колен тяжелую корзину.
— Это хорошо. Поливали, наверное? При таком солнцепеке-то.
— А как же без водицы? — усмехнулся старик. — С утра, и по вечеру. Я воды не жалею. У меня сроду горьких не было. И клубника два раза родит.
— Это как?
— Сначала один урожай. Потом кустики срезаю под корень, удобрением, и второй раз растет. Сорт такой. У других дождь-слякоть, а у меня красная ягода на столе. И картошка на загляденье.
— Секрет знаете?
— Главный секрет — не лениться. Кроме того, садить надо не мелочь, а только хорошую. Горох посадишь, такой же и возьмешь. Жуков собирай. Не отравой береги, а трудом своим.
Томас вдруг встрепенулся, словно что-то вспомнил.
— Кстати, про отраву. Совет нужен.
Если кого-то хотите купить с потрохами, спросите у него совета, и всё — он ваш на веки вечные. Согласитесь, когда кому-то ценно ваше мнение, и вы — умудренный жизнью мудрец снисходительно делитесь с несведущими своим жизненным опытом, своими знаниями, то невольно растёте в собственных глазах. Это не лесть, но действует безотказно.
— ...В моих местах пруссаков развелось — пропасть! Сладу нет. Опыт общения с усатым племенем богатый: от них бегал и за ними... Что думаете?
Сергеич усмехнулся. Все просто, говорит. Если зимой, то по морозу воду с батарей слить, квартиру с открытыми форточками на сутки оставить, и жилье выхолодить до инея. Ну а летом ещё проще. Надо сходить на рынок — это который базар — и купить в стеклянном пузырьке отраву для жука колорадского. Зелье развести в ведре воды, и полученной жидкостью помыть полы. Если сильно брезгуете, говорит, то на веник и по углам. Любая гадость ползучая из дома уйдет, и ключи выбросит — проверенное средство.
Томас покачал головой, мол, попробую...
Тут вторая приметная машинка наших героев обгоняет — светлая «бэха»-пятёрка. За рулем сидело почти криминальное светило Городка — Рома Смехов. Личность во всех смыслах колоритная, любопытная и для нашей истории почти знаковая, поэтому граммулечка информации не помешает.
Рома был плохим мальчиком. Родителей не слушал, сильных сторонился, а слабых задирал. Жил в центре на Банковой и, хотя в своей дворовой компании был «подай-принеси», но в бурсе царевал. Когда подрос, и его старшие дружки перебрались кто в Киев, кто в Москву, продолжал с ними дружить. За глаза все местные звали Рому Хлеборезкой или Хлеборезом. Прозвище свое он получил ещё в школе. Все забыли, откуда оно пошло, да я-то помню — это был третьеклассник Миша Соловьев, у которого Смехов однажды отжал рубль с полтиной. На вопрос друзей, почему не сопротивлялся, мальчик честно признался: «А попробуй не отдай. У него во какая хлеборезка!», — и растопырил пальцы, показывая какая.
С подачи двоюродного брата, который на Октябрьском и в Пятихатках держал пункты металлоприёма, Рома после бурсы осел на тёплом месте — в бюро ритуальных услуг. В армии не служил — откупился. Через несколько лет, после героической кончины брата, которого пристрелили в Питере во время командировки, Рома старшими товарищами был поставлен начальником этого самого «Бюро».
Бизнес шел успешно. Народ в те годы умирал исправно, как впрочем и сейчас, и у Ромы, наконец, завелись деньги. Копить он умел — с рождения был хорошо развит инстинкт самосохранения, который не позволял глупо прожигать честно, ну, почти честно, заработанное. Поэтому Рома большую часть пускал в дело. В день встречи с Томасом за ним, помимо «Бюро», также числились три АЗС, хлебопекарня, доля в оптово-торговой базе «Кассандра» и кое-что по мелочи. А «бумер» он прикупил накануне — это был подарок на Новый год.
Томас провел взглядом белого красавца, и продолжил ни к чему не обязывающий дорожный трёп:
— Как вас по имени отчеству?
— Леонид Сергеич. А вас?
— Томас.
— Очень приятно.
— И мне.
Водитель, заметив загоревшиеся стоп-сигналы у впереди едущей «пятерки», чуть сбавил скорость.
— Леонид Сергеич, а вы загадки любите?
— Смотря какие.
— Сложные. Вот пример: один африканский богатырь победил африканского беса, но загадка состоит в том, что бес-то был бессмертным! Задача, — водитель поднял указательный палец. — Как можно убить беса, если бес — бессмертный?
— И это всё?
— Всё!
Сергеич задумчиво двинул бровями и, приподняв верхнюю губу, потыкал острыми кончиками желтых от табака усов в перегородку носа. Это смотрящим на старика со стороны было неприятно, а его самого такая привычка успокаивала.
— Не, не знаю, — честно признался. — Никогда подобного не слышал. А вам отгадка известна?
— Нет! Поэтому и спрашиваю.
Томас вздохнул и мазнул взглядом по сторонам.
— А что это, отец, нас всякая мелочь обгоняет? Не притопить ли нам комаринского?
— Почему бы и нет? — заулыбался Сергеич. — Машинка выдержит?
Томас хмыкнул:
— Ослик-то? Может ему и пора на покой, но сегодня он своё не упустит.
И нажал на гашетку — только столбы замелькали.
— Вам где вставать, отец?
— Да тут скоро. За «Пирожковой» налево.
Эту столовую так прозвали из-за того, что в ней часто поминки стравляли. Здание стоит перед большой площадью. В Городке в те времена исправных светофоров было не более сотни, и три парочки как раз висели в этом самом месте. Если бы они не работали, и рассказывать в этой книжке было бы не о чем...
Хотя... Хорошенько поразмыслив... Нет, было бы о чем. Такие как Томас обязательно найдут себе приключения — факт!
2. Тигр и его усы
Помните машину, приметную такую, с надписью на бампере «Иисус с нами»? Подъезжает эта машинка — новенький «опель», между прочим — к перекрестку. Горит зеленый. Скорость приличная. То-о-о-лько она стала выезжать на площадь, как — бац! — и желтый. За рулем сидел человек явно не из наших. Они там в европах привыкли жить по закону, ездить по хорошим дорогам, с освещением, фотокамерами, выписывающими штраф по почте. В общем, водитель возьми, да и нажми на тормоза. Да так звонко, с заносиком.
Как там пишут в романах? «Мгновение растянулось в вечность». «Опель» уже начал останавливаться, как — хрясь! — что-то въехало ему в задок. Водитель — носом в руль! То-о-о-олько он голову поднял — хрясь второй раз! Бедолага оказался упорным. Ему бы полежать, оклематься, может, и ничего бы и не произошло, но он снова стал шевелиться. Оперся на панель, поднял голову... и тут контрольным добило — сработала подушка безопасности.
Где-то секунд десять несчастного с нами не было, а там или закваска западная сказалась, или ещё что — очнулся. Отсоединил стянувший грудь чёрный ремень, с треском отвел сиденье назад. Открыв дверь, он еле протиснулся мимо резинового шара. Одна ножка на землю, вторая. Поворот всем туловищем. Встал. Отойдя от машины на пару метров, развернулся и с тоской посмотрел на инсталляцию «день не задался».
Эх, какого бы художника вспомнить? Такая фигура намалевалась перед его глазами, что золото. Больше, наверное, подойдет Малевич. Да, Малевич. Не в смысле квадрат, а просто фамилия говорящая. «Опель» выбуцнуло на самую середку перекрестка, а сзади пристроилась потерявшая свой блеск «бэха». Бампер погнулся, фары спереди и стопари сзади — разбиты. Обновилась, так сказать... Но гвоздем представления был не бумер, а другие две машины. К «пятерке» прилип наш знакомый Ослик. Горбатенькое создание заимело морду английского бульдога, задок шарпея, а тело... Да не было никакого тела! После удара о наковальню рожица машины сразу перешла в филейную часть! В хвосте паровозика красовался молот — серебристая «хонда».
Водитель «опеля», обхватив ладонью свой крепкий подбородок, почувствовал, что по его лицу течет нечто вязкое. Вот тогда-то он и произнес воистину пророческие слова: «Всё не то, и всё ни так!». Выругавшись, он достал из кармана брюк платок, зажал им нос и перенес свое внимание с неодушевленных предметов на одушевленные.
Рядом с инсталляцией расположились актеры: крепкого вида молодой парень — это был Рома Смехов и водитель «запорожца». Томас. Левая рука Романа в воздухе производила кругообразные движения — со стороны невольно казалось, что он крутит мясорубку. А второй рукой он схватил Томаса за нос. Рядом с парочкой стоял серый, как больничная простыня, усатый старичок. Он бормотал: «Он н-н-н-не винн-н-новат, он н-н-н-не в-в-в-винн-н-новат».
В голове водителя «Опеля» что-то щелкнуло. Подойдя к крепышу, он положив ему руку на плечо и сказал: «Не надо». Хлеборез оглянулся. Если бы иностранец был невысоким, Рома продолжил бы свое занятие и дальше, но так как гостя нашего хлебосольного края родители сантиметрами не обидели, состоялся зрительный контакт.
Привожу диалог почти полностью, убрав самые забористые слова.
— Шо тебе?
— Ему больно.
— Шо?
— Ему больно, говорю, — иностранец говорил почти без акцента, только букву «р» смягчал. — Нос оторвете.
— Нет, паря. Ему сейчас щекотно, а больно будет очень скоро. Поверь.
— Я верю, но лучше отпустить. Милиция приедет... Зачем лишние проблемы?
Взгляд Ромы затуманился, внутри его головы явно начали шелестеть мысли. Мясорубка перестала вертеться. Все в мире застыло. Хватка ослабла.
Томас, освободившись от захвата, отшатнулся. Достав платок, он закрыл им покрасневший нос и вытер невольно брызнувшие слезы.
Рома кивнул иностранцу:
— Согласен. По горячке можно и дров наломать.
Повернувшись к водителю бульдога-шар-пея, он ласково продолжил:
— Мужик, ты попал.
— У меня дени есть, — ответил водитель Ослика, не отнимая платка от лица.
— Шо?
— Говою, дени есть, — повторил Томас, посматривая на Рому поверх батистовой ткани.
— Деньги есть? Ты, — дебил! Может у тебя второй бумер есть, и ты мне его дашь, пока я этот сделаю?
Томас промолчал, но тут вылез Сергеич и почти прокричал:
— Он н-н-н-не вин-н-новат.
Вот уж какие Рома не любил разговоры, так про то, кто виноват, а кто нет.
Смехов лет с четырнадцати мысленно всех окружающих называл уродами. Этот титул носили мама — медсестра в стоматологии, дед, как писали советские бюрократы «ветеран ВОВ», младшая сестренка. Это ещё не всё. Уродами были родственники, знакомые, однокашники, учителя... Да что мелочиться? Почти все жители нашего Городка-на-Суше! Когда Рома ходил по улицам, то каждому в лицо (опять же про себя) шипел: «Урод!». И ему было начхать, какая внешность у тех, кто шел навстречу. Дело в том, что жить проще, когда всех считаешь уродами. Пусть у тебя не хватает соображалки быстро решать задачи, грамотно писать или знать, в каком году Дантес заколол Мартынова. Можно не слыть умником — это не главное. Главное — не быть уродом. Надо быть таким, как старший брат, друзья по двору, как Шварц или Слай. Надо быть настоящим крутым мужиком. И скажите, пожалуйста, спрашивал себя Рома, причем здесь виновен или не виновен? Если родился уродом, то ты по жизни страдалец и терпила. Уроды, они всегда... Ну, вы поняли.
Возвращаемся на место аварии.
— А мне похер, кто в-в-вин-н-новат! — ответил Хлеборез Сергеичу. — Мне похер! Я сам решаю, кто виноват!
Кстати, у Ромы была не очень понятная привычка. Когда он «выяснял отношения», «вел базар», «перетирал» или просто поднимал на кого-то голос, то смотрел сопернику не в глаза. Он ухитрялся смотреть далеко в бок, так, что визави видел только вытаращенные белки глаз, краешек роговицы ну и мутный зрачок, нацеленный на Камчатку, но при том, все понимали, что Хлеборез смотрит как бы вперед. Зрелище было неприятное и из-за своей нелогичности жутковатое.
— Мне похер, урод! Слушай, терпила...
Указательный палец Смехова пытался продырявить Томасу плечо. Кстати, вы заметили, что Рома уже не стеснялся своей привычки и научился говорить людям всю правду в лицо?
— Из города ни ногой. Тебе повезло, что я спешу, но наш разговор ещё не закончился. Местный?
— Да, — ответил гость. — Раньше на Шанхае жил.
— Шо? На Шанхае? Ты откуда вылупился, огрызок? Шанхая нет уже лет двадцать. Как звать?
— Томас. Я давно здесь не был.
— Лучше бы ты, гад, и не появлялся. Мобила есть?
— Да.
Рома чуть помедлив, достал из кармана трубку.
— Диктуй.
Томас по памяти назвал номер. Смехов его набрал и дождался, пока в кармане брюк водителя «запорожца» не запиликала всем знакомая мелодия «нокии».
— Будь на трубе. Третий раз повторяю — из города ни ногой. Даже не представляешь, как ты меня расстроил. А кто меня...
Томас кивнул. Именно в этот миг глаза Хлебореза встали на место и Рома, наконец, смог внимательней рассмотрел того, кто смел его расстроить. Перед ним стоял высокий — ниже, чем он, но всё же... — худощавый, светловолосый мужчина за тридцать. Лица из-за платка не было видно — только блестели зеленые глаза. Рома мог поклясться, что Томас смотрел не испугано, а наоборот, почти весело, с любопытством.
Томас и Хлеборез могли ещё долго играть в гляделки, но тут отозвался водитель «Опеля».
— А нам с вами когда встретиться?
Роман нехотя повернулся, и все увидели, как изменилось его лицо. Выползла улыбочка, пухлые щечки округлились.
— Я, — Роман. Меня все тут знают, поэтому все решим полюбовно.
Смехов подал свою визитную карточку.
— Вот координаты. Позвоните в понедельник, я с ребятами договорюсь о ремонте. Все сделают на ять. Будет лучше, чем было. В конторе на телефоне сидит обезьянка. Если надо, ответит, где я, и что я.
Водитель «Опеля» принял визитку. Посмотрев на свою машину, он покачал головой: если сравнивать с Осликом, могло быть и хуже... Достав из кармана брюк портмоне, вытащил из него свою карточку. Подавая её, сказал:
— Тут мой телефон. Думаю, через неделю мы забудем об этом недоразумении.
— Это я гарантирую, — ответил Рома, пряча вздох облегчения. — Виноват, за рулем осторожней надо... — покосился на бумажку, где под именем был отпечатан крест. — ...Василий Краснофф... Батюшка что ли?
— Не батюшка — пастор.
Брови Ромы полезли вверх.
— Впервые вижу на улице попа, вот так без рясы, в джинсах и футболке.
Водитель «Опеля», сложив платок которым вытирал текущую из носа кровь, ответил с усмешкой:
— У нас другая вера, сын мой. Мы рясу не носим.
Рома спорить не стал.
— Ладно, потом поговорим, и за жисть, и за все дела...
Не поворачивая головы, обращаясь к водителю «запорожца», Смехов добавил:
— А тебе, худой, желаю до завтра не болеть. Я тебе, так сказать, подписку о невыезде вручил. Понял?
Что Томасу оставалось делать? Он потер припухший нос и ответил: «Поня».
3 Первая улыбка
Как видите, Томас явился в наш городок с шумом, треском и битьем посуды. Скоро на перекрестке зевак стало больше, а действующих лиц меньше. После минутной растерянности неизвестно откуда набежала публика, стала охать, ахать, цокая языками, рассматривать водителей, покореженный металл, рассыпанные осколки стекла, масляные кляксы на асфальте. Пастор, почему-то не стал ждать милицию. Посмотрев на часы, он присвистнул, сел в машину и шустро укатил. За ним тут же, пугнув народ сигналом, последовал Рома. На перекрестке остались: массовка, Томас, Сергеич и... никем не замеченная владелица «хонды», хорошо сохранившейся, только чуть примятой спереди.
— М-да, — сказал Сергеич. — Ну что, я пошел?
— Удачи, — ответил Томас старику и посмотрел на небо.
Над Донецким кряжем ещё висели, собравшиеся клином косматые накрахмаленные тучи, но с юга от Азова уже накатывала чернота. Поднялся сухой жесткий ветер-степняк и погнал пыль, песок, блестящую фольгу от конфет и смятые пачки из-под папирос. В это самое мгновение, не секундой раньше или позже, свершилось чудо. В гомоне и бесконечных вопросах: «Что случилось, а кто пострадал, а кого убило?», — заиграли небесные волшебные флейты и арфы, а им стали подпевать серены. Чудесные колебания воздуха сплелись в слова, а те, в свою очередь, в предложения. Именно так, в такой последовательности.
— Милые мальчики, я так поняла, ни вас, ни вашу машину уже не спасти. Может, разлетимся как птички?
Вот какие были предложения, вот какие были слова. Женский голосок искрился и сиял майской радугой, звенел весеннею капелью. Он как бы предлагал себя, открывался, обволакивал, очаровывал... Томил, щекотал, разгонял кровь. Сергеич, на что мхом был покрыт с юга и с севера, остановился, обернулся посмотреть, откуда раздалось столь сладкое щебетание.
Перед Томасом стояла девушка.
Я знаю о каждом жителе нашего Городка всё — даже то, что они давно забыли. Люди у нас живут разные — хорошие и плохие. Последних, конечно, больше — все мы ни без греха — однако среди людского серого месива изредка попадаются личности, не вписывающиеся в понятия «добрый — злой», «скупой — щедрый», «белое — чёрное».
Нашу новую знакомую звали Олесей. Леся была редкой загадкой, которую никому не суждено разгадать. Ведающая, а на самом деле не ведающая пределов своей силы, ловко балансирующая на грани греха и добродетели; мягкая, податливая, но когда ей надо, тверже титана. За такими девушками из Красной книги любопытно наблюдать. С виду не красавица, внешность — на любителя. Посмотришь — хороша, а потом, при другом свете, и под иным ракурсом — нет, не очень. Худенькая. Невысокая. Непослушные волосы скорее светлые. Нос вздернут, глаза сияют, как детский праздник; ресницы слишком длинные и острые, губы тонкие, насмешливые, это чувствуется. Что-то в облике Леси невольно вызывало неуютность. Это, как навязчивая мелодия — нравится, но в какой-то момент начинает раздражать... Олеся особенно хороша была по вечерам, когда её щеки целовали лучи умирающего солнца, а вьющиеся волосы гладил степной ветерок... Посмотришь — тю! — да вроде всё на месте! Так что же нас раздражало? — непонятно... Личико премилое, забавное, даже очаровательное. Мягкий излом губок волнует предвкушением поцелуя. Небольшой носик гармонирует с большими рысьими глазами, только цвет не золотистый, а ярко-ярко-голубой. Но главным козырем Леси была не внешность. Вот чем её наградила природа, так это голосом. Он у Леси-Олеси был волшебным. Стоило мужчинам услышать девушку на улице, тут же они бросали своих жен, беседы о политике, футболе и поворачивали голову на неземные, доносящиеся неизвестно откуда звуки. Им до рези в животе хотелось взглянуть на источник мироточащий вербальным блаженством. Олеся не просто произносила слова, она вокруг себя укрывала всё каким-то невидимым магическим туманом, наполняла эфир тревогой, томлением, даже пороком. Мужчинам вдруг казалось, что вот с ней-то, обладательницей этого голоса, у него обязательно всё получится. Вот уж кто-кто, а эта девушка любит пошалить, побаловаться, поиграть в школьницу-недотрогу. Ей-то, скорее всего, нравится когда её нежно шлепают по попке... И всем мужчинам вдруг хотелось подойти, расшаркаться ножкой, завести беседу о пустяках, спросить телефончик. Это желание возникало из ниоткуда и, как по мановению волшебной палочки, заставляло потеть ладони и наполняло чресла теплотой. Дыхание учащалось, железки сокращались. Даже если Олеся исчезала из вида, в головах мужчин ещё долго гуляло эхо её чарующе-капризного голосочка. Она, конечно, знала о влиянии на мужчин и неоднократно пользовалась этой силой, но чаще всего забывала о своём таланте — разве мы ценим то, что нам легко дается? Так и сейчас в её голосе не прозвучали расчетливые нотки девушки, желавшей отвязаться от владельца разбитой ею машины, а наоборот, было слышно участие, даже жалость. И эти краски сострадания, тревожные оттенки, разнесли радужную негу на пару десятков метров вокруг, заставив праздную публику на секунду замолчать.
— А в какую сторону вы прикажете мне лететь? — спросил Томас, вежливо улыбнувшись.
— В любую сторону, лишь бы подальше отсюда, — вздохнула девушка. — Могу подбросить, если по пути.
Странно, но машина Олеси если и требовала ремонта — то только косметического.
— По пути разберемся, — ответил Томас, и посмотрел на ещё теплую груду металла, бывшую когда-то «запорожцем». Подойдя к бедному Ослику, он с трудом вытащил из смятого салона старый ещё советских времен вылинявший на солнце рюкзак. Как только Томас сел в «хонду», Леся так резво взяла с места, что пассажира откинуло назад на спинку кресла. Не пришлось дверь закрывать — сама захлопнулась.
Поехали.
Когда пауза стала затягиваться, Томас спросил:
— Как вас звать?
— Леся. А вас?
— Томас.
— А по фамилии?
— Зачем официально?
— Привычка. Не доверяю именам. По жизни не встречала ни одного славного Славика и костяного Кости, а вот весёлую Хохотухину и врача Коновалова — бывало... И поверьте, гинеколог из него, мягко говоря, как из дерьма свая.
Томас поджал губки, чтобы не рассмеяться.
— Мягко говоря... — зачем-то повторил он.
Помолчали.
Олеся не сводила глаз с дороги даже не пытаясь рассмотреть своего пассажира, а Томас, наоборот, внимательно изучал её профиль.
— У меня фамилия хитрая, — сказал он, наконец. — Редкая. Рокоцей.
Олеся уважительно взглянула на пассажира и произнесла с расстановкой, словно пробовала буквы на вкус:
— То-мас Ро-ко-цей. Благородно. Граф Рокоцей или виконт. Карты, дуэли. Вы нерусский?
Благородный гость Городка ответил с усмешкой:
— По семейному приданию корни моей фамилии идут от князя Трансильвании Ракоци. Папа был поляком, что недалеко от тех мест. Дед, насколько мне известно — я могу ошибаться, так как с ним не виделся — носил фамилию то ли Ракоцюк, то ли Ракоцей. Вышло так, что папаня переехал под Псков и его там местные паспортисты переделали. «А» упало, «цюк» пропало. С этим и живу.
— У моей подруги схожая история была, — подхватила Олеся. — Фамилия её — Красноперова. Замуж выходила за Фурдыка, но в ЗАГСе перепутали паспорта и обженили её на дружке.
Олеся подняла руку, мол, рано смеяться.
— Это ещё не всё. Фамилия дружка — Лядский, а бабульке, которая заполняла бланки, что-то привиделось такое, что она впереди фамилии пристроила букву «Б».
После секундной паузы Томас расхохотался так, что затрепыхалась ароматная елочка на зеркале заднего вида.
— Правда-правда. Я не вру — так и было, — Олеся тоже смеялась, хоть эту историю рассказывала не первый раз. — Потом ей пришлось целый месяц быть замужем за незнакомым человеком, да ещё с такой вот интересной фамилией.
Добрый заразительный смех сближает. Только что не знали с чего начать, как себя вести, но стоило посмеяться, тут же появились темы для разговора.
— Жалко?
— Что?
— Говорю, машину жалко?
— Славный был Ослик, — кивнул Томас. — Успел привыкнуть.
— А почему «Ослик»?
Томас махнул рукой.
— Не берите в голову. Это моя давняя привычка. Привык путешествовать налегке, но если привязался к чему-то, то... Вот у меня в сумке лежит фляга. Старая, помятая, поцарапанная. Видела такое — на двадцать романов хватит. Я её называю Клавой. Она моя главная подруга во всех странствований. А раз так, то не может быть обычной тарой для воды или ещё чего-нибудь, компота там или кваса.
Услышав Лесин смешок, Томас обернулся.
— Что такого я сказал? Не шучу, просто... От спиртного не отказываюсь, но печень... Раньше выпивал, и много, потому как мне нравится состояние опьянения...
— А сейчас?
— Что?
— Бывает?
Томас правую ладонь положил себе на грудь, а левую, насколько позволила крыша машины, поднял вверх.
— Клянусь, последние пять лет — сухой.
— Это срок.
— Ну, а если вернуться к началу нашего разговора, отвечу: вот сейчас мне машину жалко — резвая была.
— Ага, — согласилась Леся. — Я почему за вами увязалась — обгонять не люблю, а тут, думаю, старичка обойти не грех. Но стоило прижать, так и вы тоже. Меня даже где-то задело.
Леся вдруг испуганно скосила глаза.
— Не стоило мне этого говорить...
— Почему?
— Ну, ведь я была последняя, значит, вся вина на мне. А тут... вас Рома схватил... Когда выходила, думала, начнут на меня все кричать, а вышло по-другому. Словно я пустое место.
— Можно подумать, вы расстроились, — усмехнулся Томас.
— Нет, но все это как-то ненормально, что ли... Вы не находите?
Томас решил сменить тему.
— Вы знаете этого здоровяка?
— Рому?
— Да.
— А кто его не знает? Важный бычок. Не повезло вам.
— Что, с заскоком?
— Не знаю. Связываться с ним охотников мало, но я не слышала, чтобы он занимался беспределом. Поговаривали всякое... Не думаю, что это правда. Откупные назначит и всё. Знаете закон дороги?
— Какой?
— Ну, если машина стоит десять штук баксов, то в заначке надо иметь ещё столько же. Если двадцать, то, значит двадцать.Об этом говорил мой... — тут Олеся сделала еле заметную паузу, — ...приятель.
— Первый раз о таком слышу.
— У вас деньги хоть есть?
— Деньги не проблема, — отмахнулся Томас, рассматривая пролетающие за окном витрины, пешеходов, стаи воркующих голубей. — Мне показалось, Роме надо что-то другое...
— Может быть.
Олеся посмотрела на Томаса. Она могла похвастаться, что сидящий рядом с ней мужчина меньше всего напоминал человека, который только что чуть не погиб. Ленивая полуулыбка, хитроватый прищур глаз. Да и развалился он в кресле, словно ехал на пикник. «Странный типчик», — подумала Леся. И тут же себя одернула: «А мне-то какая разница?».
4 R.I.P.
Да, а что же сталось с Осликом? Все-таки зря пастор беспокоился. Ребята в синем, конечно, прибыли, но минут через сорок посла аварии. Они бодро выскочили из «жигуленка». С любопытством осмотрев кучу битого железа и тормозные пути, заглянули под капот. «Запорожец», кстати, оказался без номеров. Кто-то искал свидетелей. Такая прыть да пораньше. С приездом милиции площадь, словно по команде, опустела.
Когда осмотр был завершен, гаишники пригнали кран, грузовик, и забросили железяку в кузов, чтобы отвезти в неизвестном направлении.
R.I.P. Ослик...
5 Хвост на бок
— ...и всё равно, так неудобно получилось. Виновата по уши, засмотрелась и чуть людей не покалечила. Я как увидела, что сталось с вашей машиной... Капец! Всё, амба, — убила! А тут двери отваливаются, и вы такие с дедом выскакиваете, как эти... Потом Рома с глазами бешенными. Я из огня да в полымя — ни слова сказать не могу. Думаю, сейчас бить будете...
Томасу было видно, что Лесе не по себе — шутила, поддерживая беседу, улыбалась, но как ни стремилась казаться веселой — не выходило. Разговор всё равно завершался паузой. После очередного молчания девушка вдохнула побольше воздуха и спросила:
— Я могу как-то компенсировать материальный ущерб?
Она вдруг улыбнулась так, как могут улыбаться только по-настоящему провинившиеся женщины.
Томас не стал отводить глаз. Тихо ответил:
— Я проголодался. Если накормите — претензии снимаю.
Девушка хмыкнула и кивнула, как бы говоря — я вижу, что эта просьба не так проста, как кажется, все понимаю, но вынуждена принять правила игры.
— Договорились. Какие заведения предпочитаете?
— Не знаю, я в Городке давно уже не был. А вам где нравится?
— Можно в «Чин-чин», я там часто обедаю, но раз такой случай, то поедем... — сделала паузу, — на площадь, в «Монако».
— Не слышал.
— Ресторанчик. Мой знакомый держит. У меня там кредит.
— Ну-у-у, раз так, то на площадь, — улыбнулся Томас.
Это правда, у Олеси в «Монако», как и во многих других местах, был неограниченный кредит. Все знали, что дама с деньгами: сегодня пусто — завтра обязательно густо.
Но причина не в этом. Лесю любили. И не только за её волшебный голос.
Ресторанчик, в который прибыла парочка, можно назвать семейным. Людей немного, тем более с утра. Полумрак, тихая музыка. Здесь всегда стоял запах «а-ля пятница вечер» — когда аромат кухни смешивается с дымом сигарет и тонкими сизыми нитками, струящимися вверх от китайских пахучих палочек. На правах хозяйки Олеся заказала себе мороженое и кофе, а пострадавшему первое, второе и компот в виде окрошки, пельменей с маслом, овощного салата и графинчика с томатным соком. Сделав заказ, девушка ушла в уборную, а Томас, дожидаясь официанта, стал разглядывать свое отражение в хромированной лампе. Лицо из комнаты смеха его особо не разочаровало — нос хоть и имел на кончике красную точку, но выглядел вполне прилично.
Олеся вернулась, и тут же принесли заказ. Томас принялся за его уничтожение. Резкими движениями ложки он зачерпывал окрошку и отправлял в рот, при этом, не забывая про чёрный хлеб. Жевал шумно и с такой силой, что на скулах ходили бугры и заметно двигались уши. Ел быстро и как-то небрежно, неряшливо — так едят старики, которые за всю свою долгую жизнь устали подстраиваться под других, и ни на кого уже не обращают внимания. Леся, забыв про мороженое, поставила локти на стол и по-бабьи вытаращилась на страдальца.
Думаю, сейчас необходима короткая ремарка.
В то утро наша барышня встала с правой ноги, приняла душ, выпила зеленого чаю — кофе и сигареты у неё вызывали жутчайшую психологическую аллергию — полила остатками заварки денежное дерево, помыла за собой чашку, погладила блузку, протерла туфли и прочее, и прочее. Когда вышла на улицу и попала в объятия жаркого марева — зажмурилась. Постояв на солнце с минуту чтобы привыкнуть к его горячим приставаниям, пошла к гаражу. Настроение было приподнятым. Оно таким осталось даже сейчас, после неприятностей на перекрестке, потому как приключение, а несчастье каким-то чудесным образом задело не её. Каждый раз, когда беда приходила к дальним родственникам, соседям, знакомым или коллегам, в голове Леси раздавался звоночек: «В этот раз не я, не я, не я!». И в данную минуту ей было приятно осознавать, что она жива-здорова, у неё ничего не украли, не угнали машину (чуть помятый бампер не в счет), а через час...
Не надо думать, что будет через час — всему свое время и своя беда.
Или счастье.
Уж лучше счастье!
— Слушай, ты как с голодного краю. Я даже, глядячи на тебя, проголодалась.
Томас улыбнулся.
— Помогите с пельменями, а то мне много будет. Я могу и одной окрошкой наесться.
— Нет, я себе закажу...
— Да бросьте. Или лучше на «ты»? — спросил Томас с набитым ртом.
— Давай на «ты».
— Тогда едим с одной тарелки.
— Лады.
— Хотя...
— Что?
— Говорят, если есть из одной тарелки, то можно прочитать мысли друг друга.
— А мне скрывать нечего, — ответила Леся.
— Это тебе. Хотя...
Томас посмотрел вверх на плафоны светильников и, вздохнув, закончил мысль:
— Иногда полезно довериться слепому случаю и вручить свою судьбу в чужие руки.
Я могу и дальше продолжать описание обеда Томаса и Леси, но боюсь, вам не всё будет понятно, и вы начнёте судить молодую девушку. Ведь наряду с читателями, которые любят «клубничку», — а такое в книжке будет обязательно, (кто ж купит рассказку без сцен с крепкими объятьями, страстным дыханием и нежными поцелуями?). Так вот. Наряду с нормальными людьми есть и святоши, и они начнут осуждать нашу героиню. Это ошибка! Хоть Леся, согласен, не ангел, но не тратьте в её сторону понапрасну злых слов, поберегите их для более достойных.
Несколько фактов из биографии Олеси Галаевой не помешают.
Знаете что такое матриархат? Если по-простому — это когда женщины всем заведуют, а мужики в ранге компоста. В семье Галаевых верховодила Бэла Григорьевна. С детства Бэлочка была худа как лихо. Росла длинноногой, длиннорукой, длинношеей, длинноносой, с породистой родинкой на щеке, глазами на выкате и черными усиками. Правда, наличие длиннот и неуместной для девушки растительности на верхней губе не помешало ей отхватить выгодного муженька. В свои осьмнадцать лет, с подачи маман, ей удалось выйти замуж за мужчину, который для середины 70-х имел неплохой набор качеств достойного мужа. Судите сами — ветеран войны, заведующий магазином, молчун, вдовец приятной внешности. Только возраст подкачал — супруг недавно отметил юбилей — 55 лет.
В замужествеБэла жила припеваючи и припиваючи. Пока супруг пропадал на работе и зарабатывал денюшку, молодая жена спала, ела, ела и спала. Она могла себе это позволить — на фигуре барский режим никак не сказывался.Если еда и сон были у Бэлы, как хобби, то главной страстью для неё считался обряд приобщения к возвышенному. Девочка, женщина, а потом и бабушка Бэла неоднократно повторяла: «Для меня в жизни есть только две святые вещи — кофе и сигареты!». Заваренный в турочке чернильный отвар был такой крепкий, что у всех, кто пробовал это ведьмино варево, глаза вылезали на макушку... Сигареты... Тут без особых предпочтений. Болгарские? Пусть будут болгарские. Папиросы? Без проблем — поиграем в комиссаров, покашляем.
Те, кто вспоминал Бэлу Григорьевну, сразу представлял вечно ворчащую, щурившуюся от дыма тощую бабенку, со вставленной в угол губ сигаретой, направленной в воздух так, словно это был ствол зенитки.
Вот такой легкий набросок одной стороны её портрета. А что же было в ней э-э-э... мажорного? Немногочисленные подруги главным достоинством Бэлы считали её непоседливость. Однажды ей надоело спать и есть, и тогда мама Леси решила пойти учиться. Муж устроил в институт на экономический, хоть девушка не проявляла большой любви к цифрам. Правда, у неё проснулось иное пристрастие, из-за которого после первого курса начал расти живот и пришлось брать академ. Муж, конечно, был удивлен, но после неоднократных поздравлений и похлопываний по плечу, поверил в свои способности и к большому удивлению супруги даже начал их демонстрировать. Хотя ранее за ним такого не водилось. Родив дочку — назвали её Люсей — Бэла вернулась в институт, где успешно сплетала кофе-сигареты, обязанности парторга группы, любовь к первокурсникам и ненависть к Гименею.
Прошли годы. С горем пополам Бэла доучилась до госов и, будучи на пятом месяце беременности, получила диплом. Кстати, в этот раз муж спокойно принимал похлопывания по плечу.
Вторую дочку назвали Лесей. Росла девочка весело. Мама все время на работе — устроилась бухгалтером в этом же институте — старшая сестра сама по себе и она сама по себе. Домохозяйкой, поваром, уборщицей, прачкой был папа, ушедший, к большому сожалению коллег, на пенсию. Обязанности отца ему так понравились и придали столько сил, что он надолго забыл о своем возрасте. Крутился папа словно центрифуга — дочери были накормлены, обстираны, обгуляны.
А что мама?
Бэла в редкие воскресные утра (с крепкого похмелья) или в пятничные вечера (в приличном подпитии) так поучала своих доцей:
— Мужик — это домашнее животное. Его можно погладить или позволить, что бы он гладил вас, но, девочки, запомните — мужик туп, как пробка. Главная задача умной женщины...
Бэла одновременно поднимала вверх кончик сигареты и указательным пальцем тыкала в потолок.
— ...Главная задача умной женщины использовать мужиков для своей выгоды. А вообще... Мужик нам нужен только для того, чтобы по ночам в спину не дуло!
Вот такие речи толкала мама Бэла. Лекции, в основном, проходили в тот момент, когда папа собирал девочек на улицу по утрам в выходной день или во время ужина (это уже пятница). Наставления маман Люся выслушивала в прихожей, когда её наряжал папа или лежа в постели — чистенькая, сытенькая. А Лесе чаще всего выпадала минута сидения на горшке. В будние дни по вечерам девочкам сложно было прислушиваться к маминым мантрам: Люся сидела за уроками, а Леся, после гуляний на улице с подругами, обняв Михаила Потапыча — огромного кучерявого медведя — слушала папины сказки о добрых зайчиках, коварных волках и хитрой Лисе Патрикеевне. Но когда маму вдруг прорывало, то папа во время внезапных педагогических приступов супруги помалкивал. Дождавшись окончания урока, он продолжал читать про Мойдодыра или Айболита.
Жил папа тихо, незаметно. Когда — никогда придут в гости его бывшие коллеги, поздравят с очередным юбилеем — и всё. Бэла любовно называла мужа: «Кощейчик ты мой». Если обобщить, то задача папы была простая — не воспитать, а вырастить, то бишь,оградить от болячек, а если они случались, скорее выходить; на свою пенсию одеть, обуть, купить игрушки и деликатесы из спецмагазина; дожидаться жену с работы, с бесконечных, заканчивающихся за полночь комсомольских, профсоюзных, партийных собраний (до девяностого года) или совещаний с заочниками (это уже после девяностого). Ему было запрещено лезть к девочкам со своими нравоучениями. Папа и не лез. В девяносто пятом его не стало. На похоронах плакали соседи, коллеги и Леся. Ей папу было так жалко... Она, наверное, выросла из его корня. Что же до остальных... Вдова горевала о потере ветеранской пенсии и подсчитывала расходы на похороны. Люся, которую можно смело назвать Бэла — два, про себя ругала отца за не снятые с книжки в девяносто первом и пропавшие навсегда деньги. Потом, когда с зеркал убрали черные покрывала, и боль утраты стала забываться, старшая сестра уехала в столицу, где удачно выскочила замуж. Леся после школы вдруг взбрыкнула и зачем-то поехала в Тулу (!!!) поступать в ПТУ на метеоролога (!!!) - было там такое училище, — но, прикинув размеры стипендии и отдаленность мест её будущей профессии от дома, все же вернулась, поступила в местный колледж, выучилась на экономиста и, получив диплом, пошла работать продавцом бытовой техники к однокашнику в магазин.
Жизнь от Леси требовала немного — исполнять свои должностные инструкции, пару раз в неделю обязанности любовницы, раз в два года отдавать гражданский долг на выборах и справно платить налоги. За это всё она получала хороший оклад, премию в виде подарков, двухкомнатную квартиру, подержанную машину и — что немаловажно — размеренную, почти супружескую, жизнь.
А от государства, как она думала, ничего не получила.
Леся была довольна собой. У её молодого человека, которого звали Валентином, хватало денег и ума не жадничать, у Леси хватало ума не тянуть лишнее и не приставать с расспросами, когда же он разведётся со своей женой. Мама считала, что младшенькая неплохо устроилась, старшая сестра быстро забыла о существовании Городка. Все — начальник-любовник, мама и даже государство, были довольны, чего Леся и добивалась...
Вообще-то у девушки хватало проблем. Много знакомых, но мало подруг, хулиганье в подъездах, постоянные страхи заболеть, чрезмерное внимание соседей и эти треклятые месячные...или их долгое отсутствие... Мысли, какими могут быть у них с Валентином дети... И вот ещё что. Лесю раздражали незнакомые мужчины. Она, при желании, могла пользоваться своим даром, но это было слишком легко. Если мама и сестра брали хитростью, наглостью и беспринципностью, и умудрялись с минимумом данных добиваться максимума — в этом состоял охотничий азарт львиц — то Леся побеждала тем, что ей досталось бесплатно — непонятной, меняющейся внешностью и порочным голосом. В магазине о ней ходили легенды. Онамогла любому мужчине втюхать залежавшийся или самый дорогой товар. Приходил такой за батарейками, а уходил — если у него, конечно, были деньги — с холодильником. Что тут скажешь, умничка, а не продавец. Но... к женщинам Лесю не подпускали.
Вот так и жила новая знакомая Томаса — ни клята, ни мята.
Сейчас она обедала с тем, кто якобы должен млеть от её присутствия, но вот что любопытно, этот... Как там его?.. Томас... Почему-то не тупил, услышав её голос.
Ещё одно обстоятельство заинтриговало девушку. Аппетитно жующий мужчина, имел ненашенскую внешность: был похож скорее на прибалта, чем русского. Спокойное открытое лицо, широкий лоб с залысинами, светлые длинные заправленные за уши и доходящие до плеч волосы. Странно, Лесе мужчины с подобной прической не нравились, но Томасу она очень даже шла. Русые пряди, темные брови и антрацитовые глаза с длинными ресницами, прямой чуть удлиненный нос и красивый подбородок с неглубокой ямочкой. Худощавый. Но в ансамбле, вот незадача, черты не складывались в гармонию, даже наоборот. Внешне Томас был прост как... как любимая пижама, кепи тракториста или деревенские сени. При этом, если он улыбался, то искренне, по-детски искристо; хмурился, и сразу было видно — ему плохо. Никакой рисовки, желания кому-то нравиться. Рядом с таким ухажером женщине сложно почувствовать себя королевой, если только, конечно, она не любит этого «непринца».
Вдруг Олеся поймала себя на мысли, что данная ситуация немного напоминает женский роман. Волею судьбы встретились девушка из диких прерий или из сердца каменных джунглей и попавший в беду эдакий ковбой Хантер, бард Полунин. Томас, как и подобает герою вестерна-истерна, вел себя просто и спокойно — вкусно ел, не мельтешил... А может, он музыкант? Такие прически у этой братии снова в моде.
Рассматривая Томаса, Олеся вдруг своим нутром, своей печенкой почувствовала, что эта встреча — неслучайна. Здесь и сейчас происходит нечто таинственно-нереальное, словно она в качестве приглашенной особы, явилась на церемонию подписания важного документа, а виновник торжества сейчас сидит перед ней. Всё это неспроста, и авария, и этот обед... От Томаса пахло... Чем-то непонятным, ускользающим, манящим. Пахло тайной. И ещё... Ему угрожала опасность. Леся-Олеся подумала, что не хватало влюбиться в этого человека с забавной фамилией. Она понимала — нарастающее внутри материнское чувство не жалости, но сострадания, желание защитить того, кто с виду в защите не нуждается, легко может вылиться в нечто серьезное. Но надо ли ей приключения именно в тот момент, когда жизнь налажена, спланирована и так безмятежна? Что ей принесет встреча с таким вот странным человеком, который не понимает, в какую историю успел попасть? Уж кто—кто, а Леся знала — у Томаса проблемы...
О Роме чего горожане за глаза только не говорили. Что он по молодости своих врагов закатывал в асфальт, что он садист и ему человека убить, что в урну плюнуть. Что на нём пробу ставить негде. Это была малая часть слухов. Лесин друг, Валя-Валентин, однажды сказал, что Хлеборез похож на носорога — сначала ударит, а потом думает.
Женщин щекотало ощущение опасности, и они Рому подавали под другим соусом. Независимый, молодой, достаточно по местным меркам богатый, симпатичный, не женатый. В ночных клубах часто появлялся в сопровождении одной или двух молоденьких девушек. Если хочешь почувствовать себя укротительницей тигра — милости просим, напрашивайся к Роме в гости. Теперь Томасу предстоит встретиться с этим рогатым зверюгой, а виновата, как не крути, она...
Леся впервые посмотрела прямо в глаза Томаса. Если до этого девушка действовала как бы в тумане своих личных переживаний, воспринимая события через свою позицию, то в один миг все для неё изменилось, словно она сняла шляпку с вуалью. Леся могла поклясться, что человек, который сидел напротив неё стал ей вдруг небезразличен. Поразила мысль, что Томас, скорее всего, и на сотую долю не осознает серьезности своего положения. Вот уселся тут, ест свои пельмени, и так спокойно смотрит на неё, не отводя своих угольных глаз.
— У тебя проблемы, — сказал Леся. — Понимаешь?
— А у кого их сейчас нет? — ответил Томас. — У всех проблемы. Вот, скажем, у тебя. Сидишь, гадаешь, как бы от меня отвязаться.
Леся хотела возразить, но подумала, а ведь правда, со стороны это может выглядеть именно так! Ей стало неудобно, что он мог подумать о ней плохо, и, главное, если она будет отрицать, то всё равно не сможет переубедить его, а молчать тоже нельзя! Из-за этой совершенно глупой ситуации Лесе стало не по себе.
Томас нагнулся и с удивлением сказал:
— Забираю свои слова назад — так реагировать могут только тургеневские барышни. Я удивлен. Нет, я поражен! Неужели дожил до знакомства с девушкой, которая умеет так очаровательно краснеть?
Олеся пожала плечами и ничего не ответила.
Если быть с вами полностью откровенным, должен заявить, что, несмотря на прожитые годы, я так и не научился понимать женщин — этих непредсказуемых, страшных в своей непоследовательности существ. Одно знаю — своего они никогда не упустят! Только женщины при знакомстве с мужчиной могут провернуть в голове сотни вариантов дальнейшего развития отношений, от белоснежно-стерильных, до таких, что покраснеет и портовая шлюха. Женщина быстрее любого самого мощного компьютера за доли секунды умудряется отбросить все крайности, все лишние тропинки, ложные цели и выбрать наивыгоднейший, самый удобный ей сценарий, — тот, который приведет её к удовольствию или хорошему отдыху, к услуге или, наконец, маршу Мендельсона. Мужчина не успел ещё и слова сказать, а уже обнаженный лежит на холодном столе, его кошелек препарирован, три колена родственников вычислены с погрешностью до пяти сотых процентов...
Вам интересно узнать, какой ворох мыслей завертелся в голове Леси? Она подумала так: «Приятный, улыбчивый, выглядит как иностранец, но говорит по-нашему без акцента. Опрятный, скорее всего не женат, но ходок. С такой улыбкой не гулять — грех. А почему не женат? С мамой живет? Одежда простая... Джинсы фирменные, футболка тоже. Крепкие плечи, руки... Старомодная прическа. Хиппи? Но волосы чистые и весь пахнет приятно... Дорого... Предплечья жилистые, запястья вон какие узкие... Без колец, браслетов, часов... Ладони широкие. Он может обнять, и если эти ладони лягут на её груди... Нет, дальше не думать. Странная машина. Скорее всего, не его. Взял у кого-то на прокат. Отпадает. Даже не обернулся. Угнал? Такой антиквариат? Загадочка... Может и вправду его машина? Не-е, просто мужик с причудами. Нормальный на такую и не посмотрит, а этот на инвалида не похож... И деньги для него не проблема. Так небрежно сказал, словно о пустяках. Он богат? Определенно. Без эмоций, без каких либо оттенков о деньгах могут говорить только состоятельные люди...».
Леся раньше не общалась с богачами, но ей вдруг показалось, что они должны выглядеть именно так. Богатеи хорошо одеты. Их расчесанные волосы приятно пахнут, красивые ногти отполированы до зеркального блеска. Им не зазорно ехать на ретро-машине, а в случае аварии бросить её на улице. Их тягают за нос, а им все равно... Ведь Томас даже не пытался освободиться, даже не схватил Рому за руку, смотрел на Хлебореза и всё! Если бы Рома не был так зол, то обязательно обратил внимание на столь необычную реакцию...
Так кто же сейчас сидит перед ней?
И вот настал торжественный момент. Шестеренки воображения замерли, песочек просыпался, маховик и колесики с циферками-буковками сложились в слово, наделенное определенным смыслом. Да, перед ней сидел капитальный мужчина. И пусть этот вывод больше похож на шутку (хотя, а вдруг?), Леся вдруг поняла, как себя вести. С таким стоит закрутить — Валя тут и рядом не валялся. Леся выбрала не марш, она выбрала разведку боем, и на это решение повлияло два факта. Первое: кроме Вали у неё мужчин не было, а попробовать с кем-нибудь ещё она была не прочь. Второе: об этом мало кто узнает, потому что парень, которого вдруг так захотелось пощупать за брюшко, если и выпутается из bad—story, то с большим трудом и, скорее всего, завтра к вечеру будет вне пределов Городка. Выходит, в её распоряжении есть одна ночь.
Вот так в момент, когда Томас отставил от себя пустую тарелку, решилась проблема с его ночевкой.
6 Я тута власть!
В эту самую минуту, когда наша пара заканчивала ранний обед, Рома Смехов курил сигарету, при этом рассматривая приваленную к стене новенькую ещё не подписанную могильную плиту из черного гранита. Он гадал, чтобы придумать такого-эдакого для шанхайца? Не буду томить — Хлеборез не собирался Томаса калечить или выставлять на деньги. Нет, в тот момент, когда в его машину въехали «горбач», Рома, конечно, расстроился. Но заметив, что стало с «запорожцем», он просто испугался за водителя. Однако так получилось, что после минутного замешательства Рома не стал помогать ему выйти из покореженной машины, а наоборот. Когда до Ромы дошло, что он может стать посмешищем, то набросился на бедолагу с кулаками. Ведь только представьте, — в его бэху въехало какое-то горбатое чудо! Тут просто сработала защитная реакция, и он перешел в нападение. Сейчас, когда нервы успокоились, и кровь перестала кипеть, Рома осознал, в каком он теперь положении. Чтобы никому и в голову не пришло рассказывать о нем анекдоты, ему надо добиться не наказания, но справедливости. Брат-покойник когда-то говорил: «Авторитет зарабатывается годами, но потерять его можно в один миг». Тут не поспоришь...
Хлеборез в принципе был малый не злой. В девяностые, напомню тем, кто подзабыл, хорошим тоном в определенных кругах считалось за малейшую обиду конкурентов, подельников, просто знакомых и незнакомых прилюдно стрелять. Но Рома руки кровью не пачкал — в его команде порядок царил и без глупого насилия. Те, кого он крышевал, ренту вносили регулярно. Если же случались сбои, то провинившиеся быстро теряли «лицо». Однажды Рома решил наказать очень уж упертого кредитора. Он и сотоварищи приехал как-то вечерком к должнику на автозаправку и провел эксперимент: выживет ли человек после бензиновой клизмы? Засунули в зад пистолет и прыснули чуть-чуть. Терпила отделался токсичным отравлением и ожогом прямой кишки. Деньги были получены, а заправка от греха подальше продана. Так что, когда Смехов разглядывал готовящийся к установке памятник и ряд новеньких венков, его терзал вопрос, какое бы придумать наказание, чтобы не он, а шанхаец стал посмешищем?
Пока оставим Хлебореза одного и вернемся к нашим героям. Что мы видим? Томас откушал, Леся уже расправилась с десертом и расплатилась. Хотела, было, встать, как вдруг в её сумочке запилинькало. Извинившись, девушка достала мобильный и вышла на улицу. Когда её догнал Томас, она спросила как можно ласковее:
— Можешь подождать минут двадцать? А то мне на работу надо заехать.
Томас молчал. Леся не выдержала, первая опустила глаза.
— Давай сделаем так, — предложил он. — Где находится магазин?
— Возле универсама.
— Вот и хорошо. Подвези меня к «белому дому» — я там выйду. Надо заглянуть на пол часика к старинному другу. А потом подожду на остановке. Идёт?
Леся улыбнулась.
— Идёт.
Когда «Хонда» подъехала к площади, которую охранял батюшка Ленин в гранитном пальто, девушку посетила мысль: «А вдруг Томас — военный? И может к Роме он приедет вместе с боевыми друзьями? Если Хлеборезу обломают зубы, вот будет праздник на деревне...».
«Военный» вышел из машины и, сложив ладонь козырьком, огляделся по сторонам. Томас улыбался так, словно наступил день его рождения. Леся даже на расстоянии чувствовала, как её нового знакомого распирает от счастья. Широко ступая по раскаленным бетонным плитам, он пошел к зданию городского Совета, а притихшая Олеся смотрела ему вслед. Нет, Томас — не военный и не бандит, он из тех, которые где-то далеко катаются на яхтах, водят на поводках свору личных адвокатов, а водку если и пьют, то маленькими глотками. Они едят полезно и вкусно, в выходные играют в поло или гольф... Олеся только сейчас обратила внимание на то, что лицо Томаса не имело одутловатости, какая бывает у мужчин за тридцать... Ей было приятно думать о чужом богатстве и так не хотелось разочароваться...
— А у нас день прожил — хоть орден получай... — прошептала Леся и, кивнув собачке на «торпеде», притопила газу.
Что девушка делала на работе, описывать не буду. Всё произошло довольно быстро. Валя остался доволен. Олеся тоже, потому как знала, что до конца недели её теперь не побеспокоят — она работала со вторника и, получается, что в запасе у неё было пять дней выходных...
Вернемся к Томасу. Взлетев по ступеням, он открыл тяжелую дверь и, пропустив вперед себя Светку из канцелярии, вошел в холл горсовета. Летом здесь всегда царила сама благодать — прохлада, полумрак, вечно бегающие с ведрами и швабрами бабушки, но Томас не обратил внимания на холодок, он его просто не заметил.
Подойдя к гардеробщице тете Алле, спросил:
— Петровна у себя?
Вот тут-то, в этот самый момент для меня всё встало на места! Я, наконец, понял, кто прибыл в местечко, построенное на берегах давно уже высохшей речки Суши! На пятом этаже -выше только чердак — в угловом кабинете вот уже много-много лет работала Антонина Петровна Унгерн. Вернее, фон Унгерн -это в советские времена в анкете не принято было упоминать сии три буквы, но в последние годы она уже не стеснялась представляться своим настоящим именем.
Сейчас Антонина Петровна занимала огромный кабинет, отделанный и обставленный в лучших традициях конца сороковых — начала пятидесятых. Когда человек первый раз входил в этот храм канцелярии, то понимал, что здесь можно снимать фильмы про далекие сталинские времена. Старомодные лепные потолки, чугунная люстра, дубовые мореные панели на стенах, ореховый паркет, красная дорожка, кожаные диван и кресло, столик на ровных ножках. Посредине кабинета возвышался настоящий аэродром — т-образный стол. Зеленое сукно, зеленая лампа на крепкой латунной ножке. Бронзовый украшенный звездокрылым самолетиком прибор с чернильницей, наполненной черной смолой. Перьевая малахитовая ручка. Тут же громоздилось несколько довоенных эбонитовых телефонов с толстыми, связанными резинкой, шнурами. Несколько серых папок с завязками и стопка чистой бумаги. Из пластикового стакана торчала дюжина остро заточенных красных карандашей.
В дальнем углу кабинета притаился огромный чёрный полированный шкаф — это напольные часы с сияющими внутри шишками, маятником, бронзовым циферблатом с позолоченными цифрами и стрелками. На стенах висели две картины — качественно сделанная копия «Алёнушки» Васнецова и подлинный шедевр соцреализма середины двадцатых — «Закладка паровоза» профессора Н. Заславского. О чем могла рассказать нам эта черная, пышущая белесым паром машина с трубой? О том, как почти сто лет назад она висела на втором этаже в угловом кабинете совершенно другого здания на Советской улице? О да, было и такое... Там обитали мужчины с маузерами. Когда времена изменились, власть стала ближе к народу. «Маузеры» сначала переселились на первый этаж, а потом им выделили отдельное помещение с глубокими подвалами. Опустевший кабинет заняла перешедшая на сторону большевиков баронесса... А я говорил, что Антонина Петровна у нас баронесса? Так вот, картина ей передалась по наследству. Скоро паровоз вслед за хозяйкой переехал во Дворец Труда. Это было перед войной, а после, когда в семидесятых построили «белый дом», Петровна со всем своим интерьером — мебелью, отделкой, техникой, старинными телефонами, картинами — перебралась в просторный угловой кабинет на последнем этаже новенького здания.
Незаменимых людей у нас нет — это правда. Так же правдой было и то, что баронессу никто не пытался заменить. В городской управе она работала вот уже... э... много лет. Чем же занималась эта необычная во всех смыслах женщина? Какая запись была занесена в её трудовой книжке? Сложно сказать. На протяжении двадцатого века её должность называлась по-разному, но суть от этого не менялась. Антонина Петровна фон Унгерн была главной по авралам. Неважно, чего и где не хватало, в каком количестве, и в каком ассортименте, разжалованная баронесса могла достать любую даже самую редкую вещь, любой дефицит. Если помните, было такое слово.
Контора МТО вообще-то находилась на первом этаже, но когда там не справлялись, то вспоминали про снабженца со специальными полномочиями.
Антонине Петровне при встрече ласково пожимали руки все бывшие хозяева Городка: горнорабочий, делегат первых съездов ДКСР Семен Евстафьевич Курибаба; глава гор. ЧК Петр Семеныч Кац; секретарь горкома в 20-е и 30-е Валериан Иванович Сосюшкин; первый человек в Городке 1941-1943 г.г. — полевой комендант полковник Иоганн Компфф; наводивший в Городке-на-Суше порядок после ухода Компфа и всей его своры полковник СМЕРША И.С. Волевой... И прочее, и прочее.
После 53-го власть менялась часто. Кто прыгал на повышение, кто на понижение — за всеми и не уследишь. Но всех «городничих» объединяла одна черта — они одинаково радушно принимали у себя ветерана снабжения. Уважали, поздравляли на Новый год, дарили подарки на день рождения. Одни в Антонине Петровне ценили ум, вторые верность партии, кто-то педантизм и пробивные способности. Герр Иоганн Компфф полюбил баронессу за её милый его сердцу швабский акцент и умение рассказывать пошлые анекдоты. А вот полковник И.С. Волевой подпольщицу Антонину Петровну даже представил к ордену Красной Звезды за успешно выполненную спецоперацию.
Баронесса могла всё. Однажды в Городок приехала делегация из Москвы. Как заранее предупредили старшие товарищи, у главы комиссии была аллергия на подсолнечное масло и плохой коньяк. Антонина Петровна вмиг достала ведерко оливкового первого отжима и произведение французских алхимиков — бутылку с непонятными буквами КВВК или ВККВ — боюсь напутать. Ещё запомнились две активистки от комсомола. Не мне, а проверяющему. Очень сознательные. Москвич уехал довольный. В отчете значилось: в Городке растет достойная смена.
А ещё был случай...
Ладно, в другой раз.
Хочу отметить, что никто не знал, какого баронесса была года рождения. Вообще, её возраст являлся загадкой для местных фольклористов. При взгляде вблизи баронессе больше семидесяти не дашь. Если разговаривать с ней по телефону, то подумаешь, женщине максимум полтинник. В момент, когда Антонина Петровна перемахивала лестничные пролеты, или когда своей крейсерской походкой с высоко поднятой головой шла по улице, невольно думалось, что этой женщине не больше сорока. Присовокупите сюда слухи о чудовищном темпераменте фон Унгерн. Существует масса задокументированных свидетельств тому, что во время авралов из её глаз сыпались искры и из ноздрей полыхал огонь... Да, истинно так! Но и это ещё не всё. Антонина так лихо гоняла по улицам в своей личной «победе» или служебной 21-ой «Волге», что можно было подумать за рулем сидит нахальная студенточка.
Столь загадочная женщина и выглядела необычно. Представьте пирамиду. Наверху находится высокая прическа черных с седой прядью волос и шиньоном в виде шара. Маленький узкий лоб, переходящий в широченные щеки, посередине которых застряли глазки, спрятанные за маленькими очками в круглой оправе. Нос картошкой в точечках. Ноздри как у двустволки. Когда очки спускались вниз по переносице, собеседники невольно гадали, что больше — калибр «стволов» или диаметр линз. Прибавлю к портрету крупные, всегда ярко накрашенные дорогой помадой большие пухлые губы. Представили? А теперь ещё добавим отсутствие шеи — всем казалось, что её голова срослась с покатыми полными плечами.
Одежда.
Черный пиджак. Белая мужского кроя рубашка. Красный значок члена когда-то гремящей на весть свет партии. Черная юбка.
Ткань пиджака изнутри распирают мощные руки, двухпудовая грудь и... А вот дальше шел стол, который, наверное, был поставлен для того, чтобы никто ни видел размеров живота главной авралистки Городка. Но я вам по секрету скажу, что живот и то, что у нас находиться сзади и чуть пониже, вместе составляло ансамбль под названием «подошва пирамиды».
Ноги, выглядывающие из-под юбки, были коротковаты и, когда баронесса сидела в кресле, не доставали до пола. Завершали экибану коричневые туфли со скошенными носками.Они были актуальны в далекие послевоенные годы, потом в конце семидесятых, и вот дура-мода, сделав заковыристое коленце по спирали, снова вернулась к тупости в обувке. Антонина Петровна, к её чести будь сказано, не меняла своих привычек и вкусов. Она, наверное, ещё в 50-х знала, что в конце тысячелетия завзятые модницы будут оглядываться на её шикарные, на массивном каблуке туфли с блестящими пиратскими пряжками.
Когда Антонина Петровна в кабинете оставалась одна, и пребывала в хорошем настроении, ей нравилось играть в «попади». О, это сложная забава. Баронесса отодвигала от стола сделанное по заказу кресло и давай примериваться куда, на какую паркетную панельку сигануть. Оттолкнувшись от подлокотников, она выбрасывала свое немалых размеров тело вверх и по дуге приземлялась на пол. Тело, подчиняющееся своим законам динамики, при соскоке чаще всего опускалось не туда, куда хотелось, а куда получалось. Прыжок, разглаживание ткани на животе, подбор юбки, наклон чтобы посмотреть, куда же попала. Возвращение на место. И так помногу раз, пока туфли не закрывали намеченные панели. Отличная зарядка я вам скажу. Соседи снизу, как бы часто они не менялись, отличались одним склочным качеством — они пытались бороться с громом над потолком. Якобы штукатурка осыпалась им на головы, лепка отскакивала, нанося помещению, работникам городских служб и посетителям невосполнимый моральный и физический урон. Кстати, однажды люстра, сорвавшись с крюка, упала на бюстик композитора Шопена (инв. № 36675) и плечо старшего экономиста Н.Ю. Сенкевича. Но все жалобы завершались одинаково — соседи получали новое помещение, а набившие руку мастера реставрировали потолок. Несмотря на нытье коллег, баронесса продолжала свои забавы. А почему? Да потому что Антонина Петровна у властей была одна, а экономистов Сенкевичей... хорошо, старших экономистов Сенкевичей, много. Жалобы прекратились в тот момент, когда было принято соломоново решение в помещение под кабинетом баронессы никого больше не вселять.
Вот такая была и есть Антонина Петровна фон Унгерн. Представили? Теперь вы поймете моё удивление, когда эта дама весом в полтора центнера при появлении Томаса бросила на стол веер, с помощью которого спасалась от жары (я уже говорил, что кондиционеров тогда в горсовете не было?), и козочкой спрыгнула на пол. Оп — ля! — попала в ранее намеченные панельки!
Антонина Петровна направилась к Томасу, закричав: «Тихо-о-о-о-о-о-оня-а!!!».
Состоялась встреча на Эльбе. Объятия, поцелуи, похлопывания по бокам, дружественные тычки, покачивания головами, прицокивания. Антонина Петровна сияла, как золотое солнышко на масленицу.
— Ах, гад, как сохранился... Красив, свеж. Чем вас только на пагорбах кормят?
В ответ гость сопел, улыбался и краснел словно мальчишка.
Баронесса всплеснула руками:
— Хоть убей, не верю — Тихоня снова в Городке!!! Сам Томас Чертыхальски спустился к нам, горемыкам. Это ж надо? — спросила сама себя, и тут же ответила: — Надо! Надо отметить! Твои ж роги-за-ноги!
И снова бросилась лобызаться.
Томас с трудом высвободился из объятий.
— Тоня, душенька, и я рад. Отпразднуем. И я соскучился! Очень! Но хочу предупредить...
Антонина Петровна вдруг сделал грозные глаза.
— С проверкой?
— Успокойся. — Томас, засунув руки в карманы брюк, вздохнул. — В отпуск. Вот, решил отдохнуть пару неделек. Расхолодить косточки, так сказать. Подышать свежим воздухом, повидаться со старыми друзьями, подругами. С тобой «скляночку» выпить.
Баронесса погрозила пальчиком, на котором плотно сидел перстень с огромным черным камнем.
— А, жук чухонский, всё помнит. Эх, Тихоня, для тебя хоть клад из-под земли.
Она огляделась по сторонам, словно только что проснулась.
— А что это мы у порога стоим? Проходи, гость дорогой, будет тебе и «скляночка», и твой любимый балычок, пойдем.
Проведя Томаса вглубь кабинета, она усадила гостя в кожаное кресло, а сама засеменила к сейфу. Ключи висели на кожаном шнурке. Шнурок на шее. Саму связку не было видно, потому как она покоилась далеко в декольте. Когда надо было отпереть сейф, Антонина Петровна — не знаю почему, может по старой привычке, которая осталась после работы в ЧК, может ещё что, — но баронесса становилась так, чтобы посторонним кроме её спины ничего не было видно. В этот раз — о, чудо! — она при Томасе достала ключи, выбрала нужный — гость видел какой! — и отперла сейф.
Вытащив оплетенную ивняком бутылку, Антонина Петровна поставила её на полированный столик. Поставила перед... Тихоней. Теперь его можно называть и так. Рядом с бутылкой скоро оказалась тарелочка с тонко нарезанной ветчиной, жемчужное пахнущее чесночком сало, бастурма с красным ободком, янтарные кусочки балыка, ломтики черного хлеба и две глиняные старинные рюмки.
Вытащив пробку, Антонина Петровна налила по марусин поясок и села на диван.
— Тост за тобой.
Томас, осторожно взяв рюмку, встал, приосанился и, отставив по-гренадерски локоть, отчеканил:
— За семь футов под килем!
— Вот это по-нашему!!! — взревела в ответ Антонина Петровна, чокнулась с гостем и махом, аж зубы клацнули о глину, отправила «скляночку» в широкий рот. Зажмурившись, покачала головой. Сначала вытерла рукавом пиджака выступившие слезы, затем взяла кружок рыбки, прикрыла им хлебушек и отправила это все вдогонку за выпитым.
Томас также с минуту восстанавливал дыхание и только потом просипел:
— Это ж страх, а не «скляночка». Как на кол посадили — до копчика продрало.
— Да, хороша. Я вот иногда позволяю себе рюмочку с утра. Но в одиночку никакого удовольствия.
Антонина Петровна закупорила бутылку, и поставила её назад в сейф.
— Итак, насколько приехал? Месяц, два?
Томас, собрав себе бутерброд, откинулся на спинку кресла.
— Ой, Тоня, не спрашивай, отдохнуть надо. Последние годы как крот закопался — столько работы, что голову не поднять. Устал как мельник.
— Что ж ты хочешь, двадцать первый век на носу, в третье тысячелетие входим, новые технологии, разработки. Стараемся. Это вы там бумаги перекладываете, а мы тут за вас пашем.
— И мы пашем. У каждого своя планида, свой тягар. Слышал, предлагали в Киев перевестись. Чего отказалась?
— А, стара я для переездов. Тут сколько лет сижу, все родным стало. Богатой не была — нечего и привыкать.
— Рано ты. Бери с меня пример. Видишь, каков фрукт, — Томас развел, было, руки в стороны, но пришлось ладонью прикрывать рот — отрыгнулось можжевельником. — Извини.
— Тебе легко, — отмахнулась баронесса. — Начальство бдит, защищает, как может. Ответственности никакой, вот и порхаешь. А на мне город висит.
— Допорхался. Выгляжу зайчиком, а внутри? -Томас постучал себя по груди. — Слышишь? Пусто. Рубцы с каньон. Потому и приехал.
Хозяйка с прищуром посмотрела на гостя.
— Я знаю, как тебя вылечить. У вас в Киеве нормальной бабы не сыщешь — все с коленкором. Вот что, я тебя с такой цыпой познакомлю — Софой зовут — век не забудешь!
Томас на эти слова только грустно усмехнулся.
— Шо? Не стОит, а то не стоИт? — удивилась Антонина Петровна.
— Та ото ж.
— Брось, у Софочки все встаёт. Даже солнце ночью.
Томас, не желая продолжать тему, посмотрел на часы в углу.
— Ладно, мать, погоди с девками. Я только приехал, а ты уже сватаешь. Дай осмотрюсь, обживусь, повожу жалом. Вокруг все какое-то новое, незнакомое, пестрое. А потом приду и мы поговорим серьезно, что, как и когда. По рукам?
— По зубам! Ты сейчас выйдешь, и тебя ищи-свищи. Давай так. — Антонина Петровна достала из ящика стола новую папку, развязала тесемочки, открыла — в ней лежала стопка чистых бланков — взяла один. Окунув перо в чернильницу, черканула вверху свои инициалы и, приговаривая под нос, начала писать:
— Томас Чертыхальски с сегодняшнего дня, четвертого августа 1999 года прибыл в Городок-на-Суше, о чем соизволил неукоснительно сообщить местным властям. Цель приезда — отдых, то есть — лодырничанье, раздел «праздность»... Хм, похвально... Дата отъезда — неизвестна...
Антонина Петровна подняла голову.
— Стоп! А ещё кто знает, что ты здесь?
— Для всех я в Ташкенте. В командировке.
— Молодца, а то вспомнила про твоих фрицев...
— А-а-а, когда это было.
— Не скажи, те твари злопамятные...
Баронесса заполнила бланк и подала гостю. Томас подошел к столу, взял ручку, обмакнул кончик перышка в черную смолу и, придерживая вверх листа, лихим росчерком поставил красивую подпись. Хозяйка кабинета подула на чернила, придирчиво осмотрела автограф и только потом сказала:
— Всё, можешь гулять. Вижу копытцами так и сучишь. Э? Столько лет не виделись, а ему со старой поговорить влом.
Томас окинул взглядом кабинет, и скривил такую рожу, что баронессе пришлось себя сдержать, чтобы не расхохотаться в голос. Кивнула, мол, понимаю, и продолжила:
— Если тут брезгуешь, милости прошу домой. На всё про всё тебе три дня, а потом, — баронесса поверх очков посмотрела на календарь. — В субботу ко мне на цыганский хутор. Помнишь где? Я туда переехала.
— Найду. С утра, вечером?
— Лучше с ранья. — И добавила с нажимом: — Там и поговорим. Никто не побеспокоит.
— Почему цыганский? Чем одиннадцатая линия плоха?
— Соседи донимали — шумные попались. А на новом месте вокруг меня тишина. Старички живут.
Томас встал, поправил джинсы. Хозяйка взяла его за локоть и повела к двери.
— Я рада, что ты приехал, потешил старую. До нового года огурец да кочерыжка. Думала, не увижу больше, а ты вот, — баронесса взяла Томаса за плечи, развернула к себе, посмотрела снизу вверх, — туточки.
Чертыхальски уже взялся за дверную ручку, но Антонина Петровна его задержала.
— Ты поосторожней. Времена такие — молодежь лютует. Твоих манер никто уже не поймет. Обещаешь поперед батьки не лезть?
— Тоня, ну, где я пропадал? Успокойся.
— Ладно, — баронесса тепло улыбнулась, наклонила Томаса и поцеловала его в макушку. — Через три дня, что б как штык. Соскучилась за тобой, оглоедом, а ты даже не звонил. Иди.
7 Виват!
Когда Томас вышел на улицу, то увидел Лесю — она его уже поджидала у машины.
Когда-то давно Рокоцей-Чертыхальски, или как там его ещё называют, рисовал. Получалось неплохо, даже кормился с потешных портретов. В те далекие времена у него была примета — если он умудрялся написать лицо или фигуру одной беспрерывной линией, то шарж обязательно продавался. Подходя к Лесе, Томас вдруг подумал, что её силуэт он сможет вывести одним росчерком. Да, сможет...
Забавно, но в одно и тоже время два героя моей рассказки занимались одним и тем же делом — мечтали. Но если Томас представлял, как соблазнительно будет смотреться на бумаге обнаженная фигура Леси, то у Смехова поток сознания имел иное направление: он до сих пор гадал, какое же испытание выбрать для своей новой жертвы. В этот день фантазия Ромы почему-то зациклилась на еде. Он мысленно уже накормил своего обидчика солидолом, пластилином, стекловатой, отрубями, напоил уксусом, джином, керосином, но... Всё это казалось каким-то несерьезным. Вот раньше были задания! Уринотерапия! Гость с Кавказа — Василий Жеребидзе осилил «малешку». А эксперимент под названием «может ли человек есть как лошадь?». Хозяин ларьков Коля Щур, доказал, что овес мужчине даже полезен — несколько жменей отборного фуража ушли за обе щеки. Как у хомячка. Но больше всего Хлеборезу понравился педагогический опыт. Один из кандидатов на пост мэра, отставной майор, во время предвыборной кампании грозно пообещал ради своих избирателей землю грызть, если конечно ему доверят столь высокий пост. Сладкое кресло уплыло под чужую задницу, а на пороге пенсионера в погонах появился Рома. Он хотел выяснить, а сколько несостоявшийся голова Городка сможет сгрызть родной землицы-матушки? Оказалось немного. Сквозь слезы и сопли «политиком» было употреблено четыре с половиной пригоршни на зависть иноземцам жирного, с хорошим содержанием гумуса, чернозема. Так вот, после того случая Рома понял, что, наказав таким образом баклана, он поднял планку своих требований до робингудской высоты, и теперь размениваться на какой-то солидол? А где гражданская позиция, где вызов обществу, поддержание реноме и торжество справедливости, наконец?
Вот такие думы роились в голове у Ромы Хлебореза. А пока Чертыхальски-Рокоцей Рокоцей-Чертыхальски ехал по когда-то родному ему городу, и с любопытством рассматривал мелькающие за окном рекламные щиты, витрины магазинов, деревья и прохожих. В сию минуту он не хотел думать о том, что будет завтра — внешне Тихоня был спокоен как Pacific Ocean.
Кстати, перед тем, как сесть в машину, Леся спросила, устал ли Томас с дороги, и где собирается остановиться. На слова, что, дескать, переночевать ему не у кого, и он собирался снять номер в гостинице, девушка улыбнулась и так, без эмоций, даже с холодком, сказала, что она свободна и может, конечно, не бесплатно, предоставить на несколько дней комнату. Томас-Тихоня воспринял предложение как должное, и сейчас Леся везла его к себе домой — жила она на Гагарина. В глазах Чертыхальски кроме рекламы, деревьев и прохожих, метались шальные мысли, шальные желания. Стоило нашим героям переступить порог, Леся тут же обняла Томаса и поцеловала. Тихоня ответил. Он совершенно не удивился, когда девушка, не отлипая от губ, начала снимать с него одежду и повела вглубь квартиры. До спальни они не дошли — свалились в зале на диван — и было всё — нефритовый стержень, трепещущие лепестки лона, крики, стоны, царапины на спине, жемчужинки пота на крепких ягодицах, пощекотунчики, смех — всё как в женских романах.
Виват!
8 Вензельки
Давно отбушевал в Городке полдень — летний день лениво подползал к своим поминкам. Солнце устало бить протуберанцами горожан по головам и спешило прыгнуть за терриконы. Народ тупо ждал ночной прохлады, когда можно выйти на балкон или во двор с бутыльком пива и семечками, покурить, поболтать с соседом, не опасаясь подзатыльника от румяного хулигана. Трамваи и троллейбусы вечером стали ходить реже. Голодные, прибежавшие с работы, горожане зажгли конфорки на кухнях. Пошла вторая волна выгула собак и пустыри, парки, скверики наполнились сиамскими близнецами. Где-то кто-то кого-то ругал — звуки семейного скандала разносились на весь мир. Из открытого балкона на четвертом этаже слышался хрипловатый баритон Круга и бренчание электрогитары. Вот только шансонье не мог тягаться с напором убористого мата, и всухую проиграл борьбу за интерес собравшейся на лавочках публики.
Через двор продефилировали местные разбышаки — Сашка с Иван Сергеичем. Высокий и низкий. Рыжий и белый. Пат и Паташон. Перепачканные, как кочегары. Вытирая своими натруженными грязными руками пот с висков, они толкали к ближайшему пункту металлоприема самодельные дрожки, на которых возвышалась небольшая ржавая ванная, какие ставят в малосемейках.
Антонина Петровна к этой минуте у себя дома изволила плотно отужинать, и готовилась через час отойти ко сну — летом она с солнцем ложилась и с ним же вставала.
Томас и Леся добрались-таки до спальни и отдыхали — им этой ночью ещё предстояло проверить на крепость мебель и нервы соседей. А вот Роме было не до сна — он сидел на кухне и смолил сигарету за сигаретой.
Все-таки творческий процесс — сложная и энергозатратная штука.
9 Алё, барышня?
Утро в Городок пришло с птичьим гомоном, уханьем голубок, слепящими лучами-зайчиками, ласкающими через занавеску обнаженные, сплетенные в нежном танце любви тела. Когда дело подходило к пику Коммунизма, вдруг зазвонил мобильник. Томас, пошарив рукой по ковру, нашел трубку и посмотрел на экран. Там высветился номер Романа Смехова. Нажав на зелененькую потертую скобочку, Томас прислушался. Голос, который скрывался внутри динамика, был весел, даже игрив.
— С добрым утром, шанхаец. Готов к труду и обороне?
Томас хотел ответить «Да», — но у него получилось очень уж бодрое: «ДА!».
Рома, не ожидая такой прыти, отстранил от уха трубу, посмотрел на неё, потом, вернув на место, переспросил:
— Эй, ты там здоров?
На проводе молчали. После шуршания и скрипа, раздался жестяной стук и бульканье, словно телефон затянуло в стиральную машину. Только после этого Рома услышал бодрый голос:
— Куда ехать и во сколько?
Сознаюсь, Хлеборез надеялся, что парнишка струсит и бросится в бега, но клиент на удивление попался не из боязливых. Рома прикинул — на сборы ему хватит часа, а там и напарники подтянутся...
— Так, сейчас восемь тридцать. В десять ноль-ноль ты должен быть на «могиле». Знаешь, где?
— Знаю.
— Вот и хорошо.
— Конец приема, — последовал ответ.
Услышав гудки, Роман бросил телефон на аккуратно заправленную постель и подумал, а все ли он правильно делает?
Смехов этим утром проснулся с тяжелой головой и, прошептав: «Куда ночь, туда и сон», — перекрестился. Ему снились кошмары. Какие-то собаки гнали его по полю, а он, абсолютно голый, убегая, думал во сне не о клыках, не о хриплом дыхании, раздававшемся сзади, а о своем молочно-белом теле, таком беззащитном, таком ярком на фоне зеленой травы. И ещё ему было нехорошо от мысли, что его наготу могут увидеть все, кто проезжает сейчас по дороге, разрезавшей это треклятое поле на две ровные части. Рома во сне видел, что по той трассе ехало много машин. Водители и пассажиры прильнули к стеклам, наблюдая, как Хлеборез бежит от собак, как мелькают его локти-колени, а сморщенное достоинство болтыхается туда-сюда, туда-сюда.
Поговорив с «шанхайцем», Рома посмотрел на свое отражение в зеркале, подмигнул ему, однако лучше не стало. Промелькнула мысль: что ж это за жизнь такая пошла паскудная? Сегодня его ждут пять граммов веселья, а на душе почему-то грустно, даже отвратительно. Стоп! Что это я про Рому, да про Рому, и как-то упустил из виду массовку? Конечно, Хлеборез работал не один — рядом с ним всегда были его приятели. Хотя нет, скорее они были не приятелями, а так — подмастерья. Алеша и Витя.Работодателем и генератором идей всегда был Хлеборез, а Витя и Алеша исполняли роль полезного фона.
Парочка познакомилась с Ромой в пионерлагере, когда им было лет по тринадцать. Оказалось, что жили они на соседней улице, но ходили в разные школы. Так распорядилась судьба, что встретились они не во время драки, не на футбольном побоище, а далеко от дома, где среди иногородних пионеров любой земляк невольно становится другом. То лето их связало навсегда. Так по жизни троица и прошла — не три богатыря а, скорее, как ледокол и две угольные баржи.
10 Ложка лжи
Леся откинулась на простыню и, стараясь унять разрывающееся сердце, закрыла глаза. Томас, накрыв широкой ладонью её левую грудь, спросил:
— Пустишь жить на недельку?
— Да, хоть на всю жизнь!
— Я запомню.
— Ты, это, — Лесе никак не удавалось отдышаться, — с Хлеборезкой осторожней. Кто знает, что там в его башке?
— Ничего, пропетляем. А где, кстати, находится «могила»?
— Такси надо брать. Скажешь, довезет. Там посадки и дорожка есть, — не заблудишься.
— Это за карьером?
— Ага. У тебя хоть оружие есть?
— Оно мне не надо.
— У них пистолеты.
— Хоть автоматы.
— Не кричи гоп.
Леся хотела добавить ещё что-то ободряющее, но Томас снова её стал щекотать. Перекатившись на бок, девушка не удержалась и упала с кровати на пол. На неё тут же свалился Тихоня. Визжа и отбиваясь из последних сил, Леся продолжала хохотать, как безумная. Сейчас она нисколечко не сомневалась в том, что с этим мужчиной, её мужчиной, сегодня ничего плохого не произойдет.
Томас скрутил ей руки, навис коршуном, и, приблизившись близко-близко, стал шептать на ухо:
— Хочешь хохму?
— Ну.
— У меня женщин не было двадцать три года и два месяца.
— Врешь!
— Хорошо... Раскусила... Вру.
11 Могила
За оставшееся время Томас-Тихоня успел принять душ, покушать, одеться и попрощаться с хозяйкой гостеприимной квартиры. Когда, подавая сумку, Леся сказала: «С ним или на нем», — он с каменным лицом ответил: «По тыкве надаем».
Томас вышел из подъезда. Окинул взглядом просторный почти пустой двор. Кроме трех старушек, стаи голубей и двух принюхивающихся к мусорным бакам бродячих собак никого не было. Поправив ремень сумки, Томас посмотрел вверх, зачем-то подмигнул прозрачному без единого облачка небу и широким шагом вышел со двора, где — на ловца и зверь бежит — поймал такси.
На вопрос — что такое «могила», отвечу так. Городок наш богат недрами — чего тут только не нашли. Угли коксующиеся, то есть спекающихся марок, угли жирные, угли газовые, угли отощенные и тощие; сурмяные и ртутные руды, железный купорос, кварциты, серный колчедан. Для строительства идеально подошел известняк, гипсовый камень, алебастр, доломиты. Строй — не хочу. Завертелось ещё при царях — артели, акционерные общества с иностранным капиталом, частные рудники — но особый размах пошел в советские пятилетки, когда плановики светлого будущего в дополнение к старым шахтам и заводам, понастроили ещё и ещё. Людей приехало много и чтобы трудоустроить излишки не только мужчин, но и женщин, в дополнение к возведенному, присоседили несколько обогатительных фабрик. Потом появились химические предприятия, фабрика трикотажного полотна. Сами понимаете, где строительство, там нужен песок. Здесь природа снова помогла — нашелся под самым боком. Когда-то добывали его лихо, но в один момент из-под земли начали бить ключи, и котлован быстро заполнился водой.
О его глубине в Городке слагали легенды. Поговаривали, что в нем могут поместиться два девятиэтажных дома, если их поставить друг на друга. Пара чудаков, это были те самые Сашка и Иван Сергеич, заплывала на резиновой лодке с грузилом, опускали-опускали, но до дна так и не достали — веревки не хватило. А вот местный поэт Иваша Миклухо-Маклай когда-то утверждал, что там вообще нет дна, а дырка ведет к самому центру земли.
В былые времена летом на карьере купались детишки, по выходным к ним присоединялись взрослые, а к взрослым пиво, водка и драки. Постепенно карьер приобрел худую славу. В конце семидесятых пошли слухи, что здесь утопили знаменитого картежного шулера. В начале восьмидесятых как прорвало — в Городке шептались, что список жертв ямы пополнился бригадой воров из Ростова, а ростовчане приехали и, якобы в отместку отправили туда, к своим землякам, трёх местных. Пацаны божились, что своими глазами видели утопленника, всплывшего как-то ночью и пытавшегося перекричать лягушек. Врали, конечно. За воров и картежников не скажу, а про один случай упомяну. Как-то отмечала одна компания юбилей местного работяги. С собой было два бутыля самогона и что-то из закуски. Упились. Когда стали трезветь, заметили, что юбиляр вроде как не дышит. Испугались. В угаре были и не разобрали, жив ли тот или нет. Недолго думая, сбросили работяги бесчувственное тело с обрыва, а потом друг друга спрашивали, так кто же первый сказал, что именинник не дышит? Такого не нашлось — никто не сознавался. Сошлись во мнении, что покойнику теперь все равно — если и был жив, теперь-то какая разница?
После таких событий, детишки и взрослые нашли ставок поприличнее — заполненную водой выработку, где раньше добывали ртуть. В восемьдесят шестом, когда рванул Чернобыль, карьеру вообще вынесли приговор — дескать, вода в нем плохая, мол, песок не такой — фонит.Может и фонит, рыбы и лягушек там сроду не было, но и бояться нечего — весь город построен на этом песке. Так что, бросить всё и бежать? В общем, карьер стал превращаться в мертвую зону, а тут Союз развалился, времена всеобщего усредненного счастья сменились приступами безнадеги и нищеты. Народ стал забывать, что такое своевременно полученная зарплата, испарились сбережения, пенсии и вера в будущее. Вместо УК СССР начали действовать законы джунглей. Скоро к карьеру потянулись караваны машин, за рулем которых сидели суровые мужчины. Их бы на войну, да в окопы, да в каждую руку по гранате — такими бы героями стали — цены б не было! А в почти мирное время парни с мутными глазами свою энергию тратили иначе. Им казалось, что на берегу карьера, вдали от чужих глаз и ушей, можно побыть не гражданином, воспитанным пионерией, комсомолом и партией, а героем книжек про индейцев. И покатились головы (некоторые без скальпов), и полетели с обрыва в черную воду первые машины с сюрпризами внутри. Вот тут-то к карьеру окончательно прилепилось его новое название.
Когда местные говорили «забить стрелку у могилы», все понимали, что разговор там будет серьезный.
12 Ихтиандр
Хлеборез прибыл на место ровно в десять ноль-ноль. С одной стороны карьера берег был пологим, — там раньше загорали и купались отдыхающие. А с другой возвышался обрыв метров на пятнадцать, откуда в давние времена в воду прыгали местные смельчаки. Вот туда на холмик и заехал Рома. Сначала из «бумера» вывалились Витя и Леша, а потом уж сам начальник. Троица заметила, как у чахлой березки стоит Томас. Высокий, худощавый, светловолосый. Белая футболка, джинсы, китайские кеды, в ногах — потертый рюкзак. Ни дать, ни взять — вечный студент. На его фоне Рома казался вдвое шире.
Смехов подошел к Томасу. По бокам встали жилистые, высокие братаны... А вокруг никого — только птицы поют, кузнечики стрекочут, стрекозы воздух режут...
— Ну, что, шанхаец, готов? — не подавая руки, спросил Роман. — Очко не жим-жим?
Томас улыбнулся.
— Я не понимаю, чего мне бояться. Деньги привез, на ремонт хватит.
Хлеборез прищурился.
— Э, нет. Не знаю, откуда ты прибыл, но здесь,— Смехов развел руки в стороны, — совсем другие законы. Не товарно-денежные отношения, а наши славянские, доверительные. Мы в Городке друг друга уважаем, относимся с любовью, заботимся. И заметь, совершенно бескорыстно. Деньги в нашем мире — это ещё не всё. Деньги — мусор, а вот уважение... К примеру, был у меня год назад «кадет». Так на том же перекрестке в меня въехал жигуль Кацурбатого. Ты думаешь, я обиделся, начал права качать? Нет. Вышли, спокойно поговорили, он согласился оплатить ремонт — и всё. Претензий не было, мы ж ведь не звери. Ворон ворону.
Роман обнял Томаса за плечо.
— А в твоем случае? Засандалил дважды, расстроил, а потом ещё и врать начал. Местный, мол, с «шанхая». Я понимаю, где-то услышал, что в Городке есть район такой, вернее был, но прокольчик образовался — там никто не живет.
— Что с ним? — спросил Томас.
— Снесли. Так что врешь, паря, не местный ты. Но если хочешь им стать, тогда по адресу. Так и быть, прощу. Видишь, — Рома показал на задок своей машины, — ремонт плевый, но нервов ты мне спалил достаточно. Приговор такой: выполняешь одно мое желание и свободен.
— То есть бабки не катят? И выбора нет? — спросил Томас.
— Приговор обжалованию не подлежит.
— Ты как прокурор, — Тихоня потер кончик носа. — Что ж, согласен. Какое желание?
— Простое, — оживился Роман. — Я в одном фильме видел, как герой в наручниках сиганул с корабля и доплыл до берега. Мы с ребятами, — Хлеборез кивнул налево-направо, — ещё поспорили, что это всё фигня, но Витя бакланит — в армии его и не такое заставляли делать. Но я сомневаюсь. Слишком все просто — кино, что с них взять? Витя прыгать отказался. Говорит, форму потерял и одежду жалко. А я вчера вечерком подумал, а что если на тебе проверить? Прыгнул, выплыл и мы с тобой квиты. Всем хорошо: ты получишь прописку, а у нас с парнями решится давний спор.
— Но если я не умею плавать и утону?
— Значит не судьба, — снова развел руки в стороны Хлеборез.
— Можно отказаться?
Вся троица заулыбалась.
— Тут уж нет, мужик сказал — мужик сделал.
Томас подошел к краю. Вот где было доказательство теории относительности — если смотреть с воды, то обрыв кажется невысоким, ну а сверху — о-го-го! Томас, покачав головой, усмехнулся.
— Ладно, но с одним условием. Когда я вылезу, то на правах местного, — а после прописки я буду местным — делаю тебе сливку также как ты мне на перекрестке.
Рома прищурил глазки. Если Томас хорошо плавает, то ничего сложного в задании нет, а если не умеет? Хлеборез посмотрел на братанов — было видно, что они согласны с таким требованием. В красном углу ринга прыжок с обрыва и почти двухсотметровый заплыв со скованными руками, а в синем — обыкновенная сливка.
Роман засомневался. В его голове вдруг проснулся липкий, противный голосок, который начал нашептывать совсем уж неприятные вещи, мол, обними парня, посмейтесь вместе. «Шанхаец» держится уверенно, с достоинством, и нечего с ним ссориться. Может он в будущем станет твоим другом? Ты ведь прекрасно знаешь, что этот парнишка с насмешливыми и при этом ледяными глазами выплывет, и что тогда? Терпеть унизительную сливку? Даже если он утонет, ты ничего не выиграешь — получается патовая ситуация. Вот что шептал голосок... А ночью все казалось таким веселым. Ведь думал солидолом накормить, нет же, захотелось перчика. Что выбрать? Мир или войну? Рома уже, было, потянулся обнять парня, но рука, как чужая, сама достала из кармана наручники.
— Согласен, — братья свидетели. Теперь твоя очередь, Ихтиандр.
— Может передумаешь?
Хлеборез загнал шепот в дальнюю штольню и ответил зло:
— Ты мне ещё поной.
Томас достал из кармана мобильный телефон и, не глядя, бросил одному из братанов.
— Дай хоть раздеться.
— Обойдешься. В кино прыгали в одежде и кроссовках.
Томас развернулся. Когда ему на запястьях застегнули браслеты и с силой надавили на рычаги обручей, он смотрел на братьев и гаденько улыбался. Роман, ещё раз проверив наручники, хлопнул Тихоню по спине.
— Давай, герой. Вперед.
Чертыхальски не ожидая толчка, покачнулся, но смог устоять на ногах. Обернувшись и не отрывая глаз от Ромы — у Хлебореза от этого взгляда почему-то похолодело за пупком — сделав два широких шага, махнул с обрыва. Секунда и Томас солдатиком вошел в воду. Не успели круги разойтись, как на поверхности показалась голова. «Ихтиандр» лег на спину и, лениво перебирая ногами, медленно поплыл к берегу. Рома с досадой подумал, что в кино актер плыл совершенно другим способом — стелился ужом под водой, выныривая на поверхность только чтобы вдохнуть воздуха.
Вот, зараза. Весь кайф обломал.
13 Кулики-Разбойники
Рома посмотрел по сторонам. Позднее утро буднего дня, вокруг — никого. Солнце приятно греет шею. Рядом сопят братаны. На поверхности воды отражается голубое небо, бегут тени от облаков. Воздух свеж, по-летнему вкусен. Жужжат шмели. Пищат трясогузки...
Вдруг за деревьями послышался знакомый гул. Роман с досадой подумал, что мерзкий шепоток оказался прав — что-то грядет, что-то случится. Из посадки выехали три джипа и прямиком на обрыв. Рома тут же забыл про Ихтиандра. Одну машину он узнал — «Нисан патруль». Дядин. Мужик крепкий, хоть внешностью больше похож не на бандита, а купца с лубочной картинки: румяный, щекастый, с маленькими, вечно прищуренными глазками и усами как у Буденного. Дядя часто был в хорошем настроении — хитрая улыбочка висела на его лице, словно прибитая гвоздями. Второй джип тоже из заметных. На черной «Тойоте» с фарами на крыше ездит Школьник -старший брат Кацурбатого. Жил в Донецке, а младший, совсем неудельный, шестерил в Городке. Школьником Кацурбатого звали из-за прически — он носил короткий ежик, оставляя небольшой чубчик над узким лбом.
Третья машина Роме была неизвестна.
Джипы взобрались на вершину обрыва и подкатили к троице. Одновременно, как на параде, открылись все двери и из машин стали выходить люди. Среди них были как вышеназванные, так и незнакомые Хлеборезу персонажи.
Чтобы ввести вас в курс дела, сообщаю, что за неделю до описываемых событий возле Донецка пропала машина. Последний раз водитель на связь выходил, когда проезжал Харьков. Направлялся в Ростов. Из Киева местным позвонили разобраться, вот в Городок и приехали дознаватели. Главным у них был Леший.
Вы уж простите за обилие всяких прозвищ, но это не специально. Просто в девяностые люди, прямо как собаки, на клички отзывались. Что поделаешь, время было такое. Так вот, Дядя привез Лешего к котловану, чтоб тот самолично удостоверился — машина и водила в надежном месте, а где находится груз, проверяющий знал лучше всех. После шума в Киеве надо было показать активность, а то, что не нашли, ну, бывает. Какая жалость... Пропал груз и человек пропал. Может, свалил куда? Будем искать. Вы там у себя, мы у себя. Такая наша работа: бороться, искать, найти и не сдаваться. Последнее самое важное.
К Хлеборезу подошел Дядя, протянул руку.
— Привет бродягам. Как жисть?
— Привет, нормально, — ответил Роман. -Вот решил с ребятами с утра размяться, подышать воздухом, чакры проветрить.
Дядя повернулся к Лешему.
— Смотри, Пал Сергеич, какие у меня орлы,прямо мысли читают. Только думал ему позвонить, а он туточки.
— Шо так? — протянул Леший руку для пожатия.
— Говорит, медитирует.
— Это уже интересно, — гость улыбнулся, блеснув золотом. — И кого медитируете?
Дядя сделал брови домиком. Кончики его усов дрогнули.
— Роман, может, я чего-то не знаю? — улыбка стала ещё шире.
В мхатовской паузе в голове Ромы раздался шепоток: «Я же тебя, дубина, предупреждал». То, что с утра казалось приключением, вдруг приобрело гнилой запашок. Отпираться было глупо.
— Да вот, к нам каскадер приехал. Говорит, мне карьер со связанными руками переплыть — плёвое дело. Думали, врет, а он, гад, как то дерьмо.
— Где?
Братаны одновременно вытянули руки:
— Во-о-он.
Вся компания заметила Томаса, плывущего на середине карьера. Леший присмотрелся.
— Чё он так?
— Наручники.
— Я бы тоже выплыл, — усмехнулся Школьник. -Шо сложного? Поспорили?
Тут настала очередь Дяди блеснуть осведомленностью.
— Не, тут не всё так просто. Да, Рома?
— Постой-постой, — повернулся Леший. — Ты — Хлеборез?
Что оставалось делать? Роман кивнул.
— Ну, да.
— С клизмой грубовато — больше так не делай, а с майором в самый раз. Голова варит. Падлюка он по жизни. Брал как не в себя. Взяточник.
— Стараюсь, — ответил Роман тихо.
— Стараться будешь на шалавах, — встрял Дядя. -Ты скажи, чем «сальников» провинился?
Шепоток внутри прямо разрывался от гогота.
— Да, вышло недоразумение. Мы уже уладили.
Уж лучше бы Рома сам всё рассказал, а то вышло ещё хуже. Братаны, перебивая друг друга, поведали, как Хлеборез на перекрестке встрял в «опеля», а в него самого «запор» и «хонда». Леший, заметив сникший вид героя всей этой истории, начал кое-что понимать. Взяв Витю за локоток, чтобы не пропустить ни слова, наклонился.
— А ну здесь подробнее.
Видя такое внимание, Витя продолжил:
— Врезался он, а тут его самого саданули. Два раза.
Леший переспросил:
— Не расслышал, и что за тачка была сзади?
До присутствующих наконец-то начало доходить, а Витя, не чувствуя подвоха, ответил:
— «Запорожец»!
Леший сделал испуганное лицо.
— Ты что? «Запорожец»! А у Хлебореза какая тачка? Вот эта?
Братаны кивнули.
— Ага.
— И ты хочешь сказать, вашу «бэху» никого не спросясь трахнул какой-то «запорожец»?
Все сделали глубокий вздох, а после слов Вити: «Да, горбач», — началась форменная истерика. Казалось, что толпа приехала на берег карьера только для того, чтобы посоревноваться, кто громче рассмеется. Леший, вытирая слезы, ещё смог из себя выдавить: «А что с запором?». Ничего не понимающий Витя ответил: «Всмятку». И новый приступ. Сквозь всхлипы и рыдания, было слышно: «Запор... Не просто, а горбач... И в боевую машину братвы... Как безжалостно... Мы же банда... Всмятку... Бля... От жисть».
Леший, вытирая глаза платком, смотрел на стоящего по стойке смирно виновника торжества.
— Ой, Рома, знал бы прикуп, подарил бы тебе шестисотый «мерин». Просто так, чтобы было, что потом рассказать. Вот уж где порадовал. Пойдем, посмотрим, что с твоей лялей.
Экскурсия направилась к главному экспонату выставки. Обступив «бумер», ребята начали комментировать работу трудившихся всю ночь автослесарей. Пришли к общему мнению, что мастера постарались на славу — последствий никаких, поэтому случай можно считать «исперченым».
Рома перевел дух, однако внутри вновь прорезался голос, который издевательски пропел: «То ли ещё будет?».
— Так, я вижу, история подходит к концу. — Леший успокоился, стал серьезным. — И на старуху бывает проруха. Перед нами, — он рукой указал на Рому, — счастливый обладатель обновленной движимости производства баварских инженеров, а на берег выползает, — рука по-ленински распростерлась над водной гладью, -второй участник событий. Я его не знаю, но уже заранее люблю. Не каждый день можно увидеть человека выжившего в «горбаче» всмятку, а потом достойно прошедшего экзамен Хлебореза. Я люблю жизнь хотя бы за то, что она нам подбрасывает вот такие истории. Порадовал, братан, молодца.
Так и тянет написать — «все засмеялись и пошли пить чай», но это было бы неправдой. В жизни так не бывает. Среди всей компании четыре человека делали вид, что смеются. Это Витя и Алеша — они просто не понимали, что тут смешного; сам Рома — здесь всё ясно — и Дядя. Ему от стыда хотелось плюнуть кому-нибудь в рожу.
14 Кудесник и будущее
Томас вышел на берег. Наклонив голову на бок, он попрыгал на одной ноге, отряхнулся как собака и, огибая карьер, пошел по бережку назад, к обрыву. Хлеборез исподлобья наблюдал, как он приближается. Откуда-то всплыло имя: «Томас Чертыхальски. Его зовут Томас Чертыхальски».
Тихоня шел с высоко поднятой головой, расправив плечи, и скованные за спиной руки только подчеркивали стройность его фигуры. Хлеборез осоловело смотрел, как к нему подползает беда, серьезная беда. Находясь среди гомонящей радостной толпы, Роман как никогда чувствовал свое одиночество. Он думал, что вот Дядя с его натянутой улыбкой, дебилы братья, гости, и все стоят, разглядывают эту мокрую курицу со связанными крылышками. А зачем курице крылья? Она и летать-то не умеет. Хотя этот, скорее всего, полетит, если пнуть хорошо. Так думал Рома. И вдруг он всё понял — не он здесь банкует, не он будет смеяться последним. Разве может жертва иметь такую хищную походку? Почему Ихтиандр разбегается, словно хочет быстрее подняться к нему? Откуда такая прыть? От чего? Зачем? И главное... Что дальше? А глаза? Почему никто не замечает, какие страшные у него глаза? Рома огляделся. Неужели никто из стоящих рядом не видит того, что видит он? Ведь к ним приближается... не человек!!! Посмотрите, какие у него не зеленые, а черные, злые, беспощадные глаза, и как пряди седых, развевающихся словно змеи, волос страшно обрамляют высокий бледный лоб. Какие у него узкие, презрительно сжатые губы. Трепещут, словно вынюхивают жертву, крылья длинного носа. Кожа на щеках сухая, как высохшее дно Аральского моря. Сколько ему лет? Пятьдесят? Сто? Двести? Посмотрите же, он и одет по-иному! Куда делась футбола? Где джинсы и кеды? Почему на нем красная как у палача рубаха, откуда взялись отражающая солнечные лучи пряжка ремня, серые брюки, сапоги? И, ох! — святые угодники! Почему никто не видит, как кожаные сапоги с серебряными шпорами безжалостно, по-коммандорски топчут песок? Как можно не разглядеть развивающийся за спиной этой твари серый плащ? Да им что, повылазило? Они все что, ослепли? «Может, это я схожу с ума?», — думал Рома. Или его разыгрывают? Это чьи-то глупые шутки?
Ужас происходящего заставил Хлебореза несколько раз зажмуриться. Вдруг его грудь стянуло так, что нечем стало дышать. В глазах поплыли белые точки, и на миг показалось, что его поместили в мутный кисель с летающими звездочками. Уши заложило. Кто-то Хлебореза тронул за плечо. Это был Леший. Что ему надо? Ключ от наручников... Вот держи. Только зачем? Этому нелюдю ключ не нужен! А он уже близко, и одет, ох, хитрец, как и раньше: грязные кеды,черные от воды джинсы, липкая футболка. Волосы откинуты назад. Лицо бесстрастно. Капли стекают по лбу, щекам, подбородку. Только подошел, как Томаса все обступили, стали похлопывать по мокрым плечам. Чертыхальски (что за дурацкая фамилия) не отрывая взгляда от Ромы, повернулся спиной к Лешему. Когда его руки получили свободу, протер запястья и, прошептав: «Ну, что? Мужик сказал, мужик — сделал?!», — в полной тишине, медленно подошел близко-близко...
Стариковская морщинистая рука потянулась к лицу Хлебореза...
Вдруг в памяти Ромы всплыла картина, как он, ещё второклассник, кричит на своих пожилых родителей: «Что за дурацкое имя — Ро-мо-чка? Только дураки могли так назвать своего сына!». Ему четыре года, он бьется головой о дверь и воет — что-то не получил, что-то ему не дали... Много чего не очень хорошего вспомнилось Роме перед тем, как коричневая жуткая лапа с длинными когтями схватила его за нос. А потом... Тело окоченело, как будто на темя вылили жидкий азот, и его, окаменевшего, заиндевевшего, сваями прибили к земле. Роман понял — вырываться бесполезно, он словно сросся с этими раскаленными, излучающими абсолютный холод, щупальцами, и услышал как далеко-далеко, в штольне, зашептали: «Приготовься, сейчас будет больно».
Тварь стиснула лапу.
Ресницы сомкнулись, и всё стало не так. Наверное, подобное бывает только в кошмарах. Вот только что небо было укрыто каракулем облаков, у ног трепетала пожухлая, пахнущая детством трава, рядом стояли смеющиеся люди, — и враз это все исчезло! Ни травы, ни людей, ни голубого теплого неба... А что осталось? Мрак, сырой холод, грязные липкие камни. Как такое может быть? Как можно одновременно находиться на берегу карьера и в этом странном месте? И одет Рома не в батник и серые брюки, а в драную вонючую рубаху и дырявые грязные, в пятнах от дегтя и машинного масла штаны...
Мысли крошились. Что это? Наверное, болевой шок. Хотя, нет. Роман ощущал, что нарастающее с каждым мигом жжение существовало отдельно от его разума и пока не собиралось овладевать им полностью. Боль, большая, переливающаяся алым багрянцем, стояла рядом и говорила, вот — смотри, какая я страшная, и скоро я очень крепко тебя обниму, и ты умрешь. Ты хочешь умереть? Роман понимал, что он, может и в состоянии вытерпеть эти объятия, но ситуацию, когда в его голове перемешалась реальность с кошмаром — не осилит. И как только он пришел к такому выводу, всё стало на место — пришла настоящая боль. Часть сознания видела себя в холодной сырой комнате с низким потолком, где он — чему уже удивляться, — стоял на коленях. Мокрый, заляпанный чем-то бурым и вонючим до спазмов в желудке пол выстуживал ноги, пронзая до самых костей. Роман поднял глаза. Над ним склонился не добрый и наивный Ихтиандр, а другой — длинноволосый с плащом, в сапогах и шпорах.
— Ты знаешь, кто я? — раздался голос.
— Нет.
— Тебе больно?
— Что?
Вдруг невидимые клещи сжали эту, иллюзорную — его и не его — голову, да так, что показалось, будто мозг закипел и стал растекаться в разные стороны, в поисках выхода из тесной черепной коробки.
— Больно...
— Что?
— Больно... Очень...
— Вот теперь слышу. Но, это ещё я слабенько, поверь, — успокоил голос.
В штольне подтвердили: «Это только начало». Роман хотел спросить, чем он так провинился? За что терпит адскую муку, и такой позор у всех на глазах? За что? Только об этом подумал, а голос гремит:
— Причем здесь остальные? Неужели это так важно? Почему тебя интересует мнения тех, кого земля еле носит? Или ты их боишься? Даже сейчас, после всего, что ты увидел и пережил? Кого ты боишься больше? Меня или их?
Тварь замолчала, но говорили её глаза. Они смотрели в самую душу, и выжигали все лишнее, напускное — гордыню, страх, стыд. Казалось, что сейчас, именно сейчас можно говорить и, главное, думать только то, что по-настоящему важно.
Это больше чем исповедь...
— Чего ты хочешь? Кем ты хочешь стать? Настало время выбора. Или ты встаешь с колен, чтобы достойно встретить отмеренную тебе кару, или ты встанешь, чтобы карать? Ты или тебя — что выберешь? Ты хочешь стать хозяином своей жизни? Понятно, кое-кто засиделся в князьках, делиться ни с кем не желает, а ты такой перспективный, ретивый, и не безпредельщик. У тебя прорисовывается большое будущее на этой земле. Вот только после сегодняшнего, какой тебе будет почет, какая дорога? Развели как телка, опустили на колени перед братвой. Думаешь, простят? Нет, конечно. Остается один путь — в оградку. Но скажу по секрету, оградки не будет. Через месяц тебя братаны ухайдокают за милое дело, даже не под хохлому, а под асфальт. И пойдут по Городку разговоры, вот, мол, какой пацан был, был, да пропал. Скажет маманя своему балбесу, брось водиться со всякой шпаной, а то кончишь, как Хлеборезка — могилы нормальной нет у человека. Ты этого хочешь? Если нет, то можно устроить другой вариант. Выходишь, как гусь из воды — сухой и с красным клювом. Заметь, не просто живой, а уважаемый. Займешься любимым делом, женишься, снова потянутся к тебе приятели и деньги. У тебя появится такое сладкое слово — «будущее». Поверь, человек живет не для того чтобы жрать, спать, испражняться. Он живет для этого святого слова. Ты только вслушайся в эту музыку — «бу-ду-ще-е». И я тебе его могу подарить. Ну, не молчи, что думаешь?
Роман заскрипел зубами, из последних сил терпя взгляд длинноволосой сапогатой твари.
— Если выберу первое, я умру?
— Мы все умрем, просто ты раньше, чем твои приятели.
— А если выберу второе, как долго проживу?
— О, нет. Я не могу дарить долголетие — фишки мелковаты. На кону позор-смерть и слава-жизнь. По-моему равноценный обмен.
— А если я выберу второе, чего ты потребуешь?
— Всё, что у тебя есть, — голос прогрохотал железом. — И с запасом.
— Душу?
— Ну, раз ты готов отдать душу, значит, так тому и быть.
— А что можно другое?
— Ты сам назвался — за язык никто не тянул. Получается, что у тебя ничего другого равноценного нет. Поэтому ставки сделаны.
Роман почувствовал, как внутри ослаб огонь, как холодные щупальца чуть отпустили его разум.
— Однако это не всё. Я милостив, но строг. Помимо главного вклада, ты в залог оставишь души своих друзей и, чтобы скрепить сделку, принесешь жертву.
— Какую жертву?
— Скоро поймешь, — улыбнулась тварь.
Роман хотел заплакать, даже приказал себе — плачь! — но всё впустую — ни слезинки. Даже в горле не запершило... И тогда он улыбнулся жалко, заискивающе.
— А если откажусь?
И Роман услышал громоподобный гогот, доносящийся не из пасти волосатого-сапогатого, нет, а из дальних-дальних штолен...
Тяжелая рука легла на плечо.
— Ты сделал всё, чтобы мы с тобой встретились, — голос сейчас был даже ласков. — Поэтому не тяни, времени мало. Или — или.
— Ты как прокурор, — заскулил Роман.
Хозяин каземата резко выпрямился — высокий, грозный. Полы плаща крыльями взметнулись и коконом облепили его фигуру, глаза блеснули алмазами.
— Я во сто крат хуже!!! — голос отдался эхом от стен и потолка каземата.
Роман Алексеевич Смехов протянул руку.
Сапогатый достал кинжал из висящих на поясе ножен и, полоснув лезвием по правой ладони человека, не дав крови упасть на землю, накрыл рану своей лапой.
Роман почувствовал иссушающее душу рукопожатие...
Когда из его легких ушел весь воздух, каземат исчез...
15 Жертва
Хлеборез очнулся. Он на вершине обрыва, в окружении людей. Под ногами растет зеленая, такая теперь родная трава. Вверху синеет доброе теплое небо. Напротив стоит человек с необычной фамилией — Чертыхальски. Вдруг до Романа дошло, что шанхаец-то не представлялся... А откуда он знает его фамилию и имя?...
— Ну, что, мужик сказал — мужик сделал. Молодец.
Томас дернул на себя руку, помогая Роману встать. Разорвав рукопожатие Смехов почувствовал,как у него болит распухший нос. «Гусь, точно гусь», — мелькнула мысль, а потом: «Что со мной произошло? Что это было? Почему так болит голова? Во рту как с похмелья... Почему так болит нос?». Память тут же подленько показала коротенькое кино: перекресток, авария, мясорубка, бессонная ночь, прыжок с обрыва, мокрые волосы и падение. А потом... Провал. Наверное, обморок от боли... Посмотрел на колени — так и есть, в траве. Да-а-а,прикололся, твою мать. Почти двухметровый дылда — и в ножки... Здравствуй, здравствуй, геморрой!
Рома растерянно оглядел свидетелей его позора. Все молчали. Не лица — маски. Все ждали первого слова. И оно пришло. Дядя сделал шаг вперед — глаза запрятаны в щелочки, усы раздвинулись, показывая желтые прокуренные зубы.
— Мужик сказал — мужик сделал? Будь ты в хате, я бы тебя и за мужика не посчитал. Под нарами бы протянул. Ты не мужик, ты — порося визгливое, вот ты кто.
Теперь все ждали второго слова. И оно пришло — отозвался Леший.
— Я понимаю, что в гостях. Свой монастырь, устав и всё такое, чужая семья — потемки. Разрешите встрять. В чем вина этого молодого человека? Обыкновенная авария. Я думаю: с кем не бывает? Мне тоже могут в зад заехать, мало ли идиотов на свете? — Леший положил Томасу руку на мокрое плечо и добавил: — Я не о присутствующих...
Продолжил, не убирая руки:
— Хлеборез проспорил, и я снова думаю: с кем не бывает? Конечно, Дядя расстроен — его парнишка проигрался, но я в который раз себя спрашиваю, а что тут такого?Я вот в казино вчера засадил двадцатник зелени и не плАчу, а здесь просто сливка. Нормальный спор бродяг. Я не знаю, почему, в чем причина такого платежа. Может, — Леший потрепал Томаса, -кое-кто ещё с детства не вышел, может, ещё что... Ну, не знаю я! Могу только догадываться. Но что-то мне подсказывает, Рома сделал нечто нехорошее, правда? И это нехорошее не тянуло на большую обиду. Так, на пакость. На ту же сливку? Верно?
— На перекрестке было маленькое недоразумение, — кивнул Томас. — Но, я так думаю, кто старое помянет — тому глаз вон.
— ...сказал Кутузов, — закончил мысль Леший.
Томас театрально поднял руки.
— Пусть будет так. У меня больше претензий нет.
Леший повернулся к Дяде.
— Вот видишь, у парня претензий нет.
Дядя в кои веки перестал улыбаться.
— А у меня есть. Хлеборез — сука. А что будет, если не нос, а его яйца в тиски зажмут? Да, он же всех сдаст.
Леший посмотрел на Дядю.
— Это уже серьезно, паря, — прищурился, сплюнул. — А ты выдержишь, Алибабаевич? Ты готов свой клюв подставить?
Дядя выпрямился, расправил плечи, даже широко открыл глаза.
— Когда под Ростовом инкассаторскую машину взяли, кого красноперые прессовали? Меня! Но я молчал.
— Да там и без тебя сук хватало, Дядя! Не надо из себя строить Зою Космодемьянскую. Если уж пошел такой расклад,вот что скажу. Голосок прорезался, глазки заблестели. Я впервые вижу твои глазки, Дядя, и они мне не нравятся. Мой сказ такой. Кто-то из вас двоих неправ. Докажи, что не просядешь, что сильнее, и тогда к тебе заяв нет. А пока...
Леший кивнул Томасу, мол, братан, не в западло.
Тихоня пожал плечами — какие проблемы?
Цирковой номер удался на славу. Когда Томас прихватил мясистый нос Дяди, бедняга не то, что упал на землю и завыл, а завизжал, стал хрюкать, блеять и, как младенец, пустил слюну. Среди всхлипов отчетливо слышалось: «Мамочка, мамочка...».
— Ну, разве, что ради мамочки, — прошептал Томас и отпустил.
Дядя кулем свалился на бок и начал рыдать, закрыв ладонями лицо.
История, начавшаяся как балаганное представление, завершилась греческой трагедией. Неизвестно откуда в руке у Романа появился нож. Братаны, Витя и Алеша, как оловянные солдатики встали по бокам завывающего дяди — теперь уже с маленькой буквы -подхватили, приподняли, и Рома доказал, что умеет резать не только хлеб.
Визг оборвался на фаринеллевой ноте. Братаны оттащили тело к обрыву, руки-ноги связали неизвестно откуда народившейся проволокой, затем прицепили её к валявшемуся здесь валуну и как полицейские-собаки из кино бросили дядю-буратино в пруд. Рома, подойдя к краю, заглянул вниз. Там не было никаких тортилл, золотых ключиков и квакушек. Зеленая вода рябью отражала солнечные лучи, бегущие тени туч. Он почувствовал, что его рубашка промокла от пота так, словно он, а не Томас сейчас нырял в карьер.
— Не всплывет?— в голосе Ромы было больше любопытства, чем опаски.
Школьник принял из его рук нож и передал назад.
— Брюхо же вспорол?
— Да.
— А чо спрашиваешь?
Леший с ухмылкой обратился к Томасу:
— Ну, что, брат. Добро пожаловать в наш уютный уголок. Откуда будешь?
— Оттуда.
— И что там?
— Также весело.
— А где щас грустно? — кругом шапито, — прошептал Леший и с досадой махнул рукой.
16 Тризна
Через полчаса после вышеописанных столь неожиданных событий вся компания сидела в ресторане на проспекте Пушкина и поминала Дядю. Школьник со свитой и Рома с братанами — за одним столом, Леший и Томас — чуть поодаль за другим.
— Ну, давай знакомиться. Пал Сергеич Крымский. Крымский — это фамилия.
— Давай. Томас Чертыхальски.
Рукопожатие было странным — одними пальчиками.
Выпили не чокаясь.
Леший отломил кусочек черного хлеба. Отправив в рот, пожевал.
— Надолго к нам?
— На месяц, может дольше.
— Издалека?
— Киев.
— Шедеврально. С Хлеборезом.
— Мелочи.
— Ты, это, извини, если что. Дядю давно надо было сковырнуть, а тут такой случай... Не удержался.
— Я понял.
— Не знаю, как объяснить. Я-то понял, что ты понял, просто...
— Нервничаешь...
— Ага, — признался Леший. — Не каждый день сидишь за столом ... э...
— Я не по рождению.
— Бывает такое?
— И не такое бывает. Ладно, — Тихоня, отодвинув стул, поднялся. — Меня ждут. Да, ещё... Не ищи меня.
— Нервничаешь? — настала очередь усмехнуться Лешему.
— Я с вашим племенем... Вы сами по себе, я сам по себе. Отдыхать приехал.
— Искать не буду, но, если понадоблюсь, вот, — Леший-Крымский положил на стол карточку.
Засовывая визитку в кармашек сумки, Томас сказал:
— Я пойду.
— Именинник не обидится? Может, мировую?
— Увидишь, он даже рад будет.
Кивнув второму столику, Томас Чертыхальски направился к выходу. Так и есть, — когда за его спиной закрылась дверь, Рома почти незаметно опустил плечи и осунулся, как будто из него вышел весь воздух.
17 Поросло всё лебедой
Поймав такси, Томас приказал отвести его к Шанхаю. Заметив в зеркале заднего вида удивленный взгляд водителя, добавил: «Или что там он него осталось».
Когда-то Шанхай осьминожными щупальцами растекался по склонам балок, стелящихся ниже террикона самого старого в Городке Первого рудника. С запада поселок обнимала Штеровка; на востоке и севере селились рабочие с артиллерийского машзавода; на юге, на высоком берегу зеленела Солидарка. Поселок рабочих коксохима и Шанхай разделяли мёртвые, наполненные шахтной водой пруды.
Томас закрыл глаза и перед его внутренним взором встали две размытые картины полузабытой древности и недавнего прошлого, как бы наложенные друг на друга. Неровные линии лачуг и мазанок, сараи для птицы и скота, свинарники, конюшни. Сбитые из почерневших досок бараки и казармы для неженатых горняков. Память, как чердак заброшенного дома загромождали стертые, не имеющие четких очертаний образы и яркие пятна: отрывные календари, желтые газеты, потрескавшиеся зеркала на стенах, красные платья в горошек, голые ляжки, тусклый свет лампочек без абажуров над потолками; тёмные, воняющие кошачьей мочой коридоры, где в клубах табачного дыма бродили люди-тени. Дышать там было невозможно от вони перекисшего творога, подгоревшего масла и карбида. Из глубины прожитых лет его звали лачуги, где тяжелый дух от сохнущей спецовки и жареной селедки перебивал кисло-сладкий аромат забродившей браги.
Сараи, землянки, бараки. Кашель и сморкания за стеной, скрип половиц. На общей кухне из черной радиоточки доносятся бодрые звонкие голоса дикторов, а по вечерам звучат бессмертные «Брызги шампанского», «Чардаш» и «Рио-рита». Там, в прошлом, лето крутило пыльные столбы суховеев, и песок скрипел на зубах; весной душе было тошно от грязи, жирной и липкой как рыбьи потроха, а зимой воротило от черного снега. Осенью здесь было хорошо только покойникам, а остальным, пока ещё живым, каждый день приходилось плыть по разливам вязкой жижи, в которой до ворота, самой макушечки тонул весь Городок... Томас здесь дышал, бедовал, тянул лямку вместе с работягами и их чахоточными женами, вкалывая до слепоты, ломоты в спине и пустоты в мозгах. По выходным пил как все — много и часто, не ел — больше закусывал...
Хорошее было время...
Таксист даже не стал съезжать с дороги — остановился на обочине перед поворотом на «шестнадцатую» линию. Томас вышел из машины. Взобравшись на поросший сухой травой бугор, осмотрелся.
Увиденное его обожгло.
Томас беззвучно стал пережевывать проклятия. Кулаки его то сжимались, то разжимались. В глазах Чертыхальски полыхала ненависть, но ни один звук не сорвался с его губ.
Глядя на раскинувшееся перед ним мёртвое поле, он вдруг вспомнил своих давних соседей и их соседей. Они все уже давно были мертвы, но даже когда ещё жили, то мало походили на обычных людей. Народ, селившийся в начале века в Городке, авансом становился призраком, ползающим по земле и под землей. Трудяги с подведенными угольным карандашом, как у девиц на выданье, глазами только у непосвященных глупцов вызывали улыбки. Эти «девицы» изо дня в день плевали судьбе в лицо, по своей воле отправляясь в пекло — не ведающую солнечного света чернильную тьму. В тесных клетушках они спускались в исторгающий метановое дыхание, наполненный скрежетом породы и шумом водяных насосов мрачный мир. Жизни приведений измерялись не днями, а сменами. Пока везло — рубилась полоска за полоской, конь за конём, текла тонна за тонной, но однажды — у кого раньше, у кого позже — везение заканчивалось, и работяг давили миллионно-тонные, не оставляющие даже мокрого места, каменные тиски или палило драконье дыхание — пламя, превращающее тела горняков в покрытый прокопчённой хрустящей корочкой кисель.
Томас помнил, что здесь было почти сто лет назад. В этом крае была вырыта бездонная яма, котел, в котором кисли заброшенные в этот проклятый край ошметки рода человеческого. В древней степи, исторгая чад и нечистоты, когда-то давно влачился мир вне времени и законов Божьих. О Донбассе — сердце большой страны, уже взволнованном от предчувствия своего величия — никто тогда даже и не помышлял слагать героические песни. Малярийный, чесоточный угол — нищее пристанище богатых духом людей — таким когда-то был Шанхай... И ничего этого не стало — ни домика, ни улочки! Томас видел, что всё сделанное его руками и руками его друзей-соседей уже разрушено. Вишни и абрикосы срублены, растущая на свалках конопля выкурена, и на том месте, где когда-то жил Томас, теперь зеленело огороженное бетонными плитами заросшее амброзией поле, с торчащими из земли ржавыми гигантскими скелетами так и не родившихся цехов. Крыша дырява, стен нет, лестницы с провалами. Сорняки и деревья корнями вгрызаются в плиты перекрытий этажей. Бетон обкрошился, вывалив наружу арматурные внутренности. Ржа, тлен, запустение. Только ветер гуляет меж рёбер недостроя, щекоча листья пепельных тополей, кучерявых акации, душистых лип, заросли чертополоха и дикого шиповника — хоть сейчас снимай кино о конце света.
— Все снесли, — сказал таксист равнодушно. — Бульдозерами. Народ в Калиновку переселили. Хотели построить троллейбусное депо, но стройка сдохла. Теперь вот, — стоит памятник зарытым миллионам...
18 И снова здравствуйте!
Томас шел по знакомым и незнакомым улицам. Когда-то давно это был его родной город, населенный родными для него людьми. Какое-то время он всматривался в лица прохожих, взрослых, детей и с удивлением почувствовал, что ему нравится то, что он видит. Постоял на остановке. Съел мороженое. Пробежал глазами доску объявлений «куплю, продам, отдам». Не удержался, оторвал листик с телефоном, сунул в карман. Потолкался в очереди за хлебом, купил мягкую булку. Разломав на две части, вдохнул теплый ванильный аромат свежего хлеба. Этот запах ему тоже понравился. Полюбовался девушкой в платье-ночнушке на голое тело — ниточки трусиков не в счет. Томас вспомнил, как однажды какой-то остряк назвал Городок Гёрловкой. Что ж, он был очень даже прав — девчата стали ещё красивее, хотя куда уж краше? Вообще, всё было хорошо — отличное настроение, почти нет забот, в данный момент он абсолютно здоров, за ним никто ни гонится и не надо убегать, ждать-догонять, завтра не надо ползти на проклятущую службу, но самое главное — сейчас он не один и ему есть куда идти. К очень даже симпатичной девушке.
Томас прошептал: «Хорошо дома».
Ласковая тихая радость кипяточком растеклась у него в груди, подстегнула фантазию, заиграла, заблестела, как оцинкованная крыша на солнце...
Сейчас настает момент, который так любят читательницы — возвращение героя домой. Его ждет желанная и жаждущая ласки женщина. Она вся в нетерпении. Мужчине угрожает опасность, а она в неведении. Забросила все домашние дела, сидит на диване, обхватив колени и, сгрызая лак с ногтей, переживает.
Так бывает в женских романах, но наша Леся-Олеся слеплена из другой закваски. После ухода Томаса она постояла с минуту у окна, а потом пошла на кухню, выпила крепчайшего чаю и... снова завалилась спать.
Засыпала наша героиня с мыслью — у него всё будет хорошо, он молодец, он справится, ведь правда? И сама себе ответила — правда. Если вчера она только надеялась на чудо, то после этой ночи поняла — чуда не будет. Будет всё просто. Мужчина, в зрачках которого во тьме пылает огонь, не может испугаться мелкого босяка.
Олеся проснулась с мыслью, что Томас должен прийти с минуту на минуту. Это предчувствие разбудило её окончательно, бесповоротно, и тогда в комнате всё начало летать: вещи, простынь, тапки, пылесос, веник, книжки, карты, старые, засохшие ещё при Керенском букеты цветов. Леся, набросив мужскую рубашку на голое тело, успевала одновременно смазывать соусом курицу (кстати, заготовленную для Вали), вытирать пыль с антресолей, менять из-под открытого холодильника поддон с талой водой и сметать мусор. Её голый белый зад успевал блеснуть в нескольких местах квартиры одновременно. Когда Томас подходил к дому, Леся почти справилась с уборкой-готовкой. Чертыхальски не спешил — покормил мякишем булки воробьев-синичек-голубей, полюбовался лучами солнца, пробивающимися через резные листья кленов. Посмотрел на лениво заваливающиеся за горизонт облака, на белый след самолета в небе. Достал из кармана зажигалку, клацнул пару раз, сунул её назад и только тогда вошел в сырой, как могила, подъезд. Только хотел взять дверную ручку, как дверь открылась. Тихоня не удивившись, переступил через порог, снял сумку с плеча и бросил её на подставку для обуви.
В квартире было чисто и светло, только редкая пыль летала в косых лучах света. Вкусно пахло. Леся вышла навстречу Томасу. Глаза её настороженно блестели. Обняв Тихоню, она прошептала: «Я тебя очень ждала». Когда она ладонями обхватила колючие щеки Томаса, он заметил, как подрагивают её длинные тонкие пальцы. Леся начала целовать его лоб, глаза, а потом сухие с улицы губы.
С трудом разомкнув объятия, Томас пошёл на кухню. Повел носом, прищурился, и невольно стал похож на хитрого лиса.
— Мадемуазель, нас ждет курочка?
— Только после того, как я узнаю, чем закончилась встреча в Давосе.
Он ответил:
— На щите... — пауза, — ...унесли моего противника. Теперь он забился в угол, скулит и зализывает раны. Мало того, я обошелся без выплаты контрибуции и с полным основанием могу потратить выделенные мной на сегодняшний форс-мажор деньги. Если не трудно, принеси, пожалуйста, мою сумку, а я пока приму душ и переоденусь.
Через несколько минут он вернулся с мокрыми взъерошенными волосами, в домашних шортах и майке. Леся терпеливо охраняла рюкзак. Когда Томас расстегнул ремни и широко его раскрыл, в этот миг в кухню вдруг пришла спасительная прохлада – откуда-то снизу подул холодный и сырой воздух. В другой раз Леся удивилась бы, но сейчас ей стало не до загадок. Как только из старого застиранного рюкзака на пол посыпались пачки в банковской упаковке, она тут же ушла из реальности. Встав над зеленой пирамидой, Леся спросила:
— Хм, и откуда у вас столько кирпичиков, милстарь? Так много.
Тихоня ответил:
— Думал откупиться, поэтому пришлось взять в долг у хороших людей. Но оказалось, что твои слова верны — Роман не падок на деньги. Но он падок на славу. Запомните, мадемуазель, слава — что тот деготь, замажешься — хрен соскоблишь. Захочешь чистеньким походить, а не получится.
— Хлеборезу славы хватает — зачем ему ещё?
— И я о том же. Кстати, хотел спросить, а почему тот, кто сзади неправ?
— Не поняла?
— Ну, я имею в виду, если машина сзади...
— У тебя вообще права есть? — спросила Леся.
— Какие?
— Водительские.
— Что-то дали.
— Ты с какой планеты свалился? Вина на том, кто не держит интервал.
— Но «Опель» ведь специально так затормозил!
— Да, но этот козел остановился на желтый, поэтому прав. Формально. А мы с тобой понадеялись на авось и теперь и ты, и я без машины. Хотя... — Олеся посмотрела на деньги, — можно отремонтировать, и ещё хватит тебе новую купить. Получше «запорожца». Здесь сколько?
— На бэху взял.
— Ого, — присвистнула Леся. Нагнулась, приблизила тугую пачку и понюхала.
Странно, со стороны деньги были совершенно новыми, словно только что вышли из типографии, но пахли не краской, а пылью и плесенью — такой запах бывает в погребах, где хранятся старинные никому не нужные газеты.
— И вот это всё нам надо потратить, — Томас вздохнул так тяжело, словно ему предстояла тяжелая работа.
— Ты же брал в долг. А отдавать?
— Не в этом случае. Поверь, в жизни бывают такие ситуации, когда выгодней избавиться от денег, чем их вернуть. В ближайший месяц я планирую осмотреться, повидать старых знакомых. Но перед этим хотел бы устроить большой кутеж. Ещё надо купить квартиру или на худой конец найти трактир с порядочной хозяйкой, чтобы разгоняла печаль-ипохондрию. А то у меня напасть: как не ладится в делах — грущу.
— И это всё?
— Нет. Ещё чтобы готовила домашние пирожки, жарила картошку — я обожаю картошку, такую, — Томас чмокнул губами, — чтобы чуть подгорела, а лучок был беленький и сверху яички разбить.
Леся усмехнулась.
— Хорошо, в следующий раз приготовлю, а пока вон, — курица с сыром, картошка пюре и салат. Ешь, а то остынет... И всё же, колись — что случилось?
— Не понял.
— Так не бывает.
— Что не бывает? Ты насчет чего?
— Насчет всего и денег тоже. Ты что, аферист?
Томас потянулся, зевнул и нехотя, с ленцой, словно Леся была маленькая девочка, объяснил:
— Деньги — это проблема, но не для меня. Руки не дрожат, ладони не мокреют. Есть — хорошо, нет — ещё лучше. На бутылку молока и батон хлеба всегда заработаю.
После этих слов Леся расхохоталась.
— Значит, ты не женат. Про батон и молоко может говорить только закоренелый холостяк.
Сев Томасу на колени, она продолжила:
— Сударь, у меня, как вы можете наблюдать своими красивыми глазами, образцовый постой. Загибаю мизинчик. Готовить умею? Загибаем безымянный — умею. В крайнем случае, магазин рядом. Что ещё? Вот средний пальчик, — хозяйка выставила его солдатиком. — А насчет умных веселых бесед, увы — на гейшу не училась. Это вы, мужики, посплетничать любите, а я — нет. Когда я вижу, что мужику плохо, то понимаю, — ему надо или напиться — ты, кстати, пьешь?
— Люблю, но печень... — поморщился Томас. — Не берет — только расход продукта. Давно не пью. Я же говорил.
— Так вот, или напиться или загулять.
— А если поговорить? Бывают минуты, когда мы все готовы отдать за простой разговор с обычным человеком. Так подожмет: до крика, до воя.
— Хорошо. Я готова выслушивать твои завывания и тогда мы загибаем ещё один палец. Что в итоге? А в итоге перед нами является прекрасная кандидатура на почетное звание хозяйки трактира. Тебя устраивает такой вариант?
— Дай подумать, — Томас понюхал пар, идущий от тарелки. — Из ста процентов я бы тебе дал все семьдесят.
— А чо так мало? Из-за Вали? Так он так, поросёнок с деньгами.
Томас усмехнулся, взял ложку и стал завтракать. Он ел шумно, быстро, как будто спешил.
— Твой Валя мне совершенно не мешает, — продолжил он с набитым ртом. — Я о работе. Мне нужна женщина постоянная, чтобы хозяйка корчмы всегда была при мне.
— Что и на улицу выходить нельзя?
— Можно, но она всё равно должна быть свободна. Если я плачу, то плачу только я.
— Странное желание. Но и стоит дорого.
— Во-о-о-т, — кивнул Томас. — Наконец, мы подходим к самой приятной части нашей беседы. Сколько хочет хозяйка корчмы за постой?
— Дай минуту... — Леся поморщила носик, нахмурилась. — Думаю, мадмуазель, учитывая далеко не бедственное положение постояльца, согласилась бы за пару штук баксов, — пауза, — в неделю.
— И я могу эту квартиру называть своим домом? — спросил Томас серьезно.
Леся ответила:
— Только плата вперед. За месяц.
— И по рукам?
— По рукам.
— Да хоть сейчас!
Томас нагнулся, схватил несколько пачек и бросил на стол.
— Тут больше, но сдачи не надо.
Леся загребла деньги и, сложив их перед собой башенкой, ответила с усмешкой:
— А я и не дам.
Встала, чтобы уйти в спальню, но Томас схватил её за руку.
— И ещё. При мне никогда не говорить так о бывших. Эта квартира его, он её оплачивает. Если так говоришь о Вале, я даже боюсь думать, что ты потом скажешь обо мне.
— С языка сорвалось, — ответила Леся тихо. Томас заметил, как она смутилась. — Ляпнула и тут же пожалела. Думала, не заметишь.
Томас потянул Лесю к себе и, крепко охватив её бедра. Бархатно промурчал:
— Мадмуазель ещё не разучилась краснеть? Последние лет сорок я с такими не встречался... У нас много работы.
— Я многое ещё не разучилась делать.
— То, после чего покраснею я?
Ощутив, как сильно её сжали руки, Леся невольно ахнула, вот только женскую логику не понять — вместо того, чтобы ответить поцелуем, она отстранилась и, не мигая уставилась на Томаса. Они смотрели друг на друга, словно виделись в первый раз. Леся подумала, почему она раньше не замечала, как блестят его угольно-черные глаза, какие у него длинные ресницы, и это при светлых волосах! Глаза Томаса были как две неосвещенные солнцем планеты на мертвом фарфоровом лице. Леся вдруг задалась вопросом: кто этот незнакомец? Чего от него ждать? Почему, несмотря на возраст, — а на вид ему было лет тридцать пять — он до сих пор одинок? И одинок ли он? Не гулена, не тупица, чувствуется мужской крепкий стержень, но при этом почему-то кажется, что в его душе когда-то давно поселились три проклятые ведьмы — Тоска, Боль и Отчаяние... Почему он их не гонит? Что скрывает? Чего боится? И боится ли он? Разве может испытывать страх тот, у кого в полночь в зеницах очей тлеют угольки таинственных неведомых костров?
Мама наделила Лесю звериной интуицией. Ей не надо было много времени, чтобы нутром просветить чужака и вынести приговор — хороший ли перед ней человек или плохой. Взгляд, слово, поступок, мысль, и всё — собеседник срисован, вывод сделан... Но сейчас эта задача ей оказалась не по плечу — перед ней сияла Тайна во всем своём великолепии.
Томас понимал, что происходит с Лесей и поэтому открылся насколько смог. Чертыхальски нечего было скрывать, поэтому он, не мигая, распахнул душу, желая только одного — чтобы она выдержала его взгляд. И Леся вынесла это испытание. Почти. Она не могла описать то чувство, которое ни с того, ни с сего захватило её. Только что она пыталась найти ответы на так и невысказанные вопросы, и вдруг в её голове что-то сухо, как бич пастуха, щелкнуло, она моргнула, и в голове всё стало ясно, понятно. Наверное, так себя чувствуют люди, очнувшиеся после гипноза. Конечно же, Леся не распутала весь клубок загадок, но максимально приблизилась к этому...
Томас ждал приговора.
«...наверное, можно прожить рядом с близким человеком много лет так и не познав подобной откровенности», — думала Леся. Ей почему-то стало стыдно и так неловко, словно она наблюдала за Томасом в тот момент, когда он обнажен и по-детски раним. Она моргнула второй раз и засмеялась, а когда ресницы дрогнули в третий раз, Леся крепко-крепко поцеловала Томаса. Он ответил, обняв её до хруста...
И вдруг всё ушло. Как вода в песок, как меч в ножны, как старый день уходит на запад. Страница перевернута, река течет дальше, чудо исчезло, но оно — чудо — не растаяло без следа. Жизнь человеческая — это хаос атомов, неисчислимое количество вариантов событий и ежесекундная пытка выбора куда идти, что сказать, сделать или, наоборот, не сделать и не сказать. Во всей череде фактов, событий, речей, снов, страданий, удовольствий, есть свой неуловимый, туманнообразный, вечно ускользающий смысл, но в тот момент, когда женщина смотрит в глаза мужчины, пелена вдруг спадает и наступает кристальная эфирная ясность бытия.
Олесина душа приняла истину: какие бы тайны Томас не скрывал, сейчас он ей не опасен. Тот, у кого плещется такая скорбь в глазах, не может ударить собаку или обидеть беззащитного человека — это главное.
А остальное можно простить.
21 Попробуй Солнце на вкус
Так, что у нас по календарю? Суббота! Выходной!
Антонина Петровна с утра в приподнятом настроении. Её ждут: первый скорый завтрак, полив огорода, второй завтрак — поплотнее. После пятой за утро сигареты — прополка, сбор огурцов, рассада клубники и прочие мелочи. Но самое главное — приём дорогого гостя.
Давайте я опущу подробное описание пасторальных будней и начну рассказ со скрипа калитки и лая собаки. Охранником у баронессы был ценный зверь. Приблудился год назад — прибежал на огород и стоит возле розария, увешенный репейником как орденами. Глазки строит. Видно, что голодный, но не клянчит. Антонине Петровне стало жалко беднягу. Накормила, выделила в сарае угол, и пёс остался жить. Отзывался на клички Васька, Шарик, Бобик. Особенно ему нравилось, когда новая хозяйка звала его Арчибальдом. Пса распирало от гордости, ходил по двору важный, даже хвостом вилял по-царски. Но аристократическим именем его звали редко, чаще просто — Джеки Член. Такую кличку пёс получил от домработницы Кати. Ещё она в сердцах добавляла: «Этот твой пёс-приблуда — ссущее наказание!». Кашу и хлеб Джеки Член ел не зря — исполнял роль звоночка исправно. Гавкал на прохожих как оглашенный, не любил велосипедистов, машины и, конечно же, кошек. Но чужих. Тех, которые харчевались у Антонины Петровны, благосклонно терпел.
Но в то душное субботнее утро, когда уже варенный от жары Томас вошел во двор, Бобик-Арчибальд-Джеки Член сфилонил. Поднял голову, гавкнул для порядка два раза и дальше спать. Томас прошел по асфальтовой залитой водой дорожке и присвистнул, рассматривая два этажа, гараж, пару кирпичных сараев, летнюю кухню, теплицы, клумбы. Раньше баронесса жила в скромной хатке, а тут такие хоромы.
Из тени виноградника вышла хозяйка. Волосы убраны платком, простое легкое платье облепило её могучую фигуру — хлопчатобумажная ткань натянулась на выпирающем животе и тяжелых, как ашхабадские дыни, грудях. Босые ноги грязные — от щиколоток и ниже заляпаны черноземом.
После приветствий, дежурных комплиментов и расспросов — как добрался, как спалось — Антонина Петровна повела гостя на огород: ей не терпелось похвастаться своими достижениями. Вообще Тоня на даче редко принимала гостей. Кроме знакомых, с которыми она изредка резалась в «козла», да домработницы, к ней никто не заходил. Петровна жила сиротой — подруг-друзей не имела, детей, насколько я знаю, не рожала.
Показав ухоженные рядки картошки, морковки, капусты, кусты смородины, малины, вишняк, клумбы с цветами и прочие красивости, хозяйка повела гостя в тенёк: заросшую виноградом арку напротив веранды, где влажная после полива зелень спасала от солнечной дури.
Столик, диванчик, вынесенный ещё весной старый кухонный шкаф — здесь Антонина Петровна обычно обедала.
Уселись в плетеные кресла.
Хозяйка, задрав голову, гаркнула:
— Катерина, сваргань кофейку! Гости у нас. С сушками.
— Хорошо у тебя, покойно... — сказал Томас, ещё раз оглядывая кущи. — Прохлада...
— Жаль, малина отошла. Могу только из холодильника. Со льда. Сама собирала. Люблю в самую гущу залезть. Сесть на землю, чтобы ягодки над головой висели. Как тот медведь.
Открылась дверь и на порог вышла Катя — крепкая баба лет пятидесяти. В дачном — широких застиранных шортах, линялой футболке с Мишкой и олимпийскими кольцами. Принесла разнос с дымящимися чашечками и тарелкой, на которой возвышалась горка бубликов.
— Сахар забыла. Принести?
Томас, взяв блюдце, ответил домработнице:
— Не, я кофе могу пить так. Спасибо.
Антонина Петровна схватила чашечку и разом отправила смоляной взвар в рот, словно пила водку. Проглотив, поморщилась.
— Кофе надо пить с сахаром. На вкус же, как деготь. Вот запах — это да... Бодрит.
Тут же без перехода:
— Ну, колись, чо приехал?
Томас сдул пенку на дальний край. Громко отхлебнув капельку, зажмурился.
— Добрый.
Устроился удобнее.
— Что рассказывать? Всё равно не поверишь.
— А ты попробуй.
Он поставил чашку на стол, разломал сушку в кулаке и высыпал кусочки на блюдце.
— Когда мы с тобой виделись последний раз?
— В семьдесят первом. Я на выставку приезжала, — без запинки ответила Тоня.
— Это когда на лодке по Днепру катались?
— Ну.
— Весело было...
Ресницы дрогнули. В глубине глаз Томаса блеснули звездочки.
— Я ещё за бутылкой потянулась, и мы чуть не грохнулись. Так бы всех жаб распугали.
— А! Пиратское письмо, пиратское письмо, — пропищал Чертыхальски, передразнивая хозяйку.
Вдруг Антонина Петровна словно изнутри озарилась радугой — появились ямочки на необъятных щеках. Обычно внимательные, настороженные глазки вдруг спрятались в щелочках, морщинках...
Тоня улыбалась — мечтательно, сладко... Добавила:
— Последний раз ты звонил десять лет назад. Сон приснился, спрашивал совета.
— Не помню.
— Зато я помню. Как жилось-то, бродяга?
Томас попытался улыбнуться, но на его лицо вдруг пали тени, огоньки потухли, и глаза превратились в бездонные карстовые провалы. Кожа словно потеряла всю влагу — приобрела цвет табачного пепла и покрылась сеточкой еле заметных морщин. Плечи опустились, он сгорбился, как будто месяц стоял по стойке «смирно» и вот, наконец, прозвучала команда «вольно» и ему разрешили расслабиться. Тихоня вдруг стал похож на древний диван из комиссионки — помятый, потертый, но при этом кем-то когда-то любимый. И выброшенный.
— Что жизнь? Как пень сидел на месте — служба-служба-служба. Редкие командировки выручали, а то хоть на стены лезь — бам, бам, бам! Чем только не маялся, и по бабам, и так... Лет двадцать провалом — вообще не помню, что делал, как жил. Потом надоело. До икоты. Бросил напрочь, отрезал по самому живому. Ничего, по-первой трудненько было, но очухался. Вавки зажили, голова от мусора очистилась. Потом даже нравилось монахом жить. Времени свободного столько появилось... Рисовал, лепил, пытался роман писать про молодость свою непутевую. Про тебя и своё ожидание. Отпросился на севера — облазил всю Камчатку, Сахалин. Волков стрелял. Медведи там потешные... Пронялся всем этим... Услышал настоящую тишину. Узнал, что такое зима, как приходит весна. Тундра в мае сказочная... Брусничка, как черная капелька запекшейся крови, а на вкус винная. Озера, ручьи, а над водой белые полые внутри горбы. Это такие корки — долго не тающий наст. Чо-то вспомнилось сейчас... Но... Поверь, как бы хорошо там ни было, всё равно... Жизнь — это рояль: белое-черное, педали, на которые вечно кто-то давит, три ноги и штырь для поддержки крышки. Если б не он...
Томас помассировал ладонью грудь.
— Вот пригрелся у костерка, в котелке уха из омуля кипит, ребята под боком сопят, гнус кормят. Поясницу ломит от усталости. Эх! Отдых же, сиди, наслаждайся, — а не могу! Перед глазами — часики тикают и вот тут, — он пальцем постучал себе по виску, — голос шепчет: «Осталось восемнадцать лет, шесть месяцев и столько-то дней, бам, бам, бам!». Так паскудненько шепчет. Сейчас вроде попустило. Уже недолго осталось ждать, а тогда... Кабы пил, было б проще. Потом бардак везде закуролесил, границ не стало, и пруссаки на севера повалили как на нерест — меня искать. Снова пришлось закрыться. Пень-пнём, крот в норе — и носа не покажешь. Уедешь, так не дольше недели, и не дальше Урала.
Томас сел прямо, сплел на животе пальцы в замок, и стал еле заметно раскачиваться. Антонина Петровна слушала его внимательно, не перебивая.
— Утром хоть не просыпайся, — продолжил Тихоня, смотря прямо перед собой и раскачиваясь ещё сильнее. — Хорошо, когда дождь или снег, а вот так — по жаре. Ненавижу! Если бы не служба... В шахматы начал играть, да поздно — раньше надо было — с малых лет, когда мозги ещё шевелились. Забавно, я такой весь из себя фигуры расставляю, а помазок — от пола вершок — садится и гоняет меня по всей доске. Ладно бы, какой дебют разыграл — я их хорошо запомнил, а он, падла, пешку открывает и ведет короля на фланг. Это когда ещё все его фигуры на месте. Знаешь как обидно?! Я ж всё равно продул. После того раза бросил нафиг эти шахматы. Лучше в терц резаться... У меня как-то был приятель. Говорил, что терц ему помог тянуть срок — он там постоянно шпилил. Ему пора с чистой совестью, а он в пять утра встает — за час до подъема — и до того как откинулся, успел ещё в двух местах сыграть. Вот что такое терц... Да...
Томас прикрыл глаза.
— Получается, и я как тот сиделец. Весна пришла — накатило по-взрослому. Думаю, хана мне — не выдержу. Тут год протерпеть, а у меня по утрам руки дрожат, в пот бросает. Колени щелкают, хрустят. Словно хворост кто-то ломает. Веточки. Одна, вторая, третья... Сны эти. Тянул, сколько мог... А наш, наверное, что-то зачуял. Позвал, поговорили. Предложил бросить эту лямку проклятую. Сказал, что прусакам теперь меня не то, что искать, наоборот, охранять надо. Поинтересовался, куда бы хотел поехать отдохнуть. Домой? Побоялся. Да и кому я там нужен? Куда ещё? На севера? — не хочу. Остается старый добрый Шанхай. Захотелось молодость вспомнить, тебя повидать. Вот и приехал. Да и некуда мне идти. Если прикинуть, вся жизнь без угла, а здесь я кис долго — у других за это время жизнь проходит — внуков нянчат.
Антонина Петровна отвернулась. Вздохнув, сказала тихо:
— Твою улицу на Шанхае снесли. Я с «одиннадцатой» линии, как видишь, сюда перебралась. Никого из тех, кого ты знал, почти не осталось — один Тарас о тебе вспоминает.
— Это какой?
— Которого ты откопал.
— На восьмом руднике?
— Не.
— В сороковом, на Ленина? — спросил Томас явно озадаченный.
— Да я что помню?
— А я? Столько их было...
Помолчали каждый о своем.
Тоня отозвалась:
— А я одна тут бедую. Городок давно не тот стал и люди не те. Мне бы радоваться, а не могу. Что меня может удивить на этом свете? Чего не видела? А тут такого насмотришься, что оторопь берет. Мы так не жили. У нас у всех цель была, какие-то правила. Большая идея. Это другие по мелочам курвились, а нам весь мир подавай! Целиком! После меченного всё пошло в труху. Людишки стали как мухи — мелочные, прилипчивые, назойливые, до дерьма падкие. Куда мы все катимся, а? Даже погода меняется. Раньше, помнишь, зимы какие стояли? Кошмар -снега наметет, по краям дороги сугробы на три метра. Красота! А щас? В болоньевом плащике Новый год встречаешь, с зонтиком над макушкой.
Хозяйка заметила, что Томас закрыл глаза и у него на скулах заиграли желваки, вздрогнула.
— Вот, дура! Missgeburt! Scheiße!
— Missgeburte Scheiße! — скаламбурил Тихоня. — Да, ладно. Мне в конторе на все праздники новогодние открытки дарят. Думают, что смешно. Привык. Я о другом. Ты извини, что писал редко, не звонил. Но такая уж я сволочь — кого люблю тех не балую.
Томас дернулся, словно очнулся от сна, протянул руку и пожал баронессе её мясистое мягкое колено.
— Я ничего не забыл, Тоня. Сколько мы вместе с тобой хлебнули хлебальцем...
— Да, родной, было...
Тоня усмехнулась:
— А помнишь свадьбу у Коли Золотаря? Наш баян?
— Спор, когда порвется?
— Ну.
— Помню, — чёрная тень с лица Томаса чуть отступила.
— Проиграл.
— Да.
— Ладно, хватит горевать... — Хозяйка подгребла к себе сушек и кулачищем раздавила целую жменю — только горка крошек осталась.
— Может, закутим? Как раньше...
Чертыхальски поднял голову, посмотрел на сторожащие небо тучи, прищурился.
— Я бы с радостью, но спирт не берет — наверное, что-то с печенью. Да я уже нашел, чем разговеться. Отмокаю.
Томас встал, прошелся под зеленой аркой. Походка выдает человека, его характер, темперамент, возраст. Тихоня поднимался с кресла по-стариковски тяжело, но вот сейчас, когда он вышагивал, касаясь кончиками пальцев зеленых зарослей и незрелых гроздей винограда, казалось, что он снова молод и полон сил. Солнечные лучи, пробивающиеся сквозь резные листья, пятнами набегали на его лицо, и из-за этого возникало ощущение, что Томас — это экран на котором демонстрируется какой-то странный бессмысленный фильм. Чертыхальски замер, когда косой луч вонзился в его левый прищуренный глаз. Томас стал медленно поворачивать голову, чтобы зайчик погладил его лоб, брови, нос, и дальше вниз — до подбородка с ямочкой. А потом снова вверх и так дальше — по кругу.
— Тоня, — сказал он, не разжимая век. — Мы ещё живы, а остальное... Все есть суета и глупые хлопоты.
— Банальности говоришь.
— Так наша жизнь во что превратилась? Калейдоскоп банальностей.
— Превратили! — зло поправила баронесса.
— Какая теперь разница? Может, это и к лучшему. Больше о себе будем думать. Пора уже. Мне вон, копеечный рюкзак подогнали — погуляем.
Хозяйка достала из кармана пачку сигарет, выбив одну, захватила губами фильтр. Коробок бабаевских лежал на кухонном шкафу. Поджигая табак и стараясь, чтобы дым не попал в глаз, сказала:
— Может, махнем на остров? Покупаемся, позагораем...
Томас ответил тихо, растягивая слова, словно находясь в трансе:
— Почему бы нет? Хорошая идея.
Луч гладил его лицо. Из открытого рта Томаса вдруг стал вырываться пар, как будто на улице резко похолодало. Вот солнечный зайчик остановился на кончике высунутого языка, словно Чертыхальски хотел попробовать солнечный свет на вкус.
Антонина Петровна настороженно наблюдала за его игрой и между её бровей залегли две морщины. Наконец баронесса сказала:
— Давно писано-переписано, что нельзя возвращаться в места своей молодости. Томас, мемуары читать надо. Мы всегда расстраиваемся, когда видим доказательства того, сколько времени ушло, и как мы повзрослели. Сколько могли сделать и не сделали, как бездарно потратили отведенные нам годы.
— Ты-то не такая, — пропел Томас, продолжая забаву с солнечным зайчиком и блаженно улыбаясь.
— А ты не завидуй — у завистников запоры. Меньше желаешь — мягче стул. Вот помру...
Томас резко обернулся.
Хозяйка взмахнула руками.
— Помру, помру, и не надо мне там рассказывать глупости. Понимаю, старческое, в моем возрасте все об этом только и говорят, поэтому терпи. Похоронят... Да хоть под терриконом — мне все равно. Я уже и завещание составила. Там тебя нет, но если до января дотянешь, перепишу. Кое-что оставлю.
— Бочонки?
Антонина Петровна улыбнулась, но в её глазах полыхнули такие яркие зарницы грусти, что у Томаса защемило сердце.
— Всё тебе оставлю, дурёха. Не пьет он...
Помолчали.
Чертыхальски, опустив голову, срывающимся голосом с большим трудом смог произнести:
— Я чувствовал тогда. Каждый раз. Каждую смерть. Я ведь один остался?
Над головой раздались хлопки крыльев, и в арку влетело несколько голубей. Антонина Петровна, насыпав птицам хлебных крошек, ответила:
— Все ушли. Но пока я землю топчу — ты не один. Понял?
Томас промолчал, только голову опустил ещё ниже.
Вдруг Антонина Петровна вспомнила:
— Слушай, ты же по святошам промышлял.
— Ты ещё детство вспомни.
— Какая разница?
— Да ну... Пустое... Я уже не служу.
— А Рома?
— Не считается — слишком просто. Сам тенета расставил, и в них угодил — я за пассажира, по инерции. Там вокруг него столько черного витало... Думаю, я кого-то опередил. И вообще, Алексеич запретил мне делом заниматься.
— Да хто узнает? Ты не в его волости — в Диком поле, в моем городе. Я тута власть! Помоги! У тебя хватка шальная. Пруха — твоя подруга. Всегда так было.
— Та ото ж...
Тоня встала и, смотря снизу вверх, продолжила уговоры:
— Выручи старую. Прямо беда. Статистику портят.
— Сколько?
Баронесса замялась.
— Есть маленько. Тут пока своих всех учтешь — ты в конторе служил, в курсе, какой вал идет — мозоли не сходят. Какие уж тут чистенькие? А ты их носом чуешь, — хозяйка указательным пальцем надавила на грудь Чертыхальски. — Или они тебя.
Томас усмехнулся, обнял Тоню, и положил голову на её необъятное мягкое плечо — для этого ему пришлось чуть-чуть согнуть ноги в коленях. Постояв так, понял, что неудобно, снова выпрямился.
— Бросил я то гиблое дело — слишком просто стало. Я-то теперь понимаю, — они же, как дети.
Теперь Тоня пухлыми огромными ручищами обняла Тихоню — так мамонтиха хоботом обвивает своего маленького мамонтенка. Поглаживая его голову короткими пальцами с алым лаком на горбатых ногтях, Тоня нараспев сказала:
— Те не такие. Не люди — кремни. С кондачка их не возьмешь — зубы сточишь. Это ж наша закваска, донбасская. Грешить — так грешить, ну а если нет, — так нет.
— Дразнишь?
— Дразнюсь... А откопал ты Тараса на Изотова... В сорок девятом, кажется...
Оставим на время наших героев. Много лет они друг друга не видели, а сейчас с горечью оба пришли к мысли, что ничего не делали для того, чтобы их встреча произошла скорее. Если Томаса и Тоню на следующий день спросить, о чем они говорили, что рассказывали друг другу, то боюсь, они так и не вспомнят. Обо всем и ни о чем, говорили-говорили и не могли наговориться. Сознаюсь, я всё же их подслушал, но рассказывать об этом не буду...
Ни в этот раз.
Вечером Катя поставила мангал, сделала шашлыки по-армянски, с зеленью, с большими кусками мяса на два шампура. Под бульончик, под помидорчики и огурчики с пупырышками вприкуску, под домашний коньячок, разливное пиво и квас со льда.
Домой Томас приехал за полночь, когда Леся уже спала...
22 Скрипит перо…
День прошел — и хорошо. Вот только вопрос: кому хорошо? Вам, читатель? Ну-ну...
Затхлая, темная, пыльная комнатушка тесно заставлена неподъемной древней мебелью — не протиснуться. Потрескавшийся на ножках, спинках, бортиках лак шелушится и, опадая, обнажает серое грязное нутро дерева, из которого соструганы, сбиты, склеены старые, заплесневелые столы, шкафы, кабинеты. Когда-то были сделаны «на века», но века прошли, и вот настал их бесславный конец: доживают последнее — тронь и рассыплются. Скрипят, крошатся, шатаются, но что-то их ещё держит.
Пахнет мышами. Мышиным дерьмом. Мышиной мочой. Пыль в воздухе, на стенах, почерневших от времени картинах и рамах, в которые эти картины вставлены. Пыль на потолке и люстре, столах, стульях, гороподобном ящике для архива. Пылью пропитаны черные бархатные портьеры — в комнатке нет окон, шторы просто закрывают самую холодную стену. Висящие в темных углах мухоловки облеплены высушенными до хруста трупиками черных мохнатых мух. Одна такая свернутая спиралью лента нависла над чугунным кубом сейфа. Она шевелится от сквозняка, дующего из-под портьеры через трещины в стене. Трупики мух осыпаются, падают на крышу сейфа, оставляя на вечное хранение в клее свои крылья.
Кипа папок на широком столе, как крепостная стена. Канделябр под шесть свечей, но горят только две — остальные изошли парафиновыми слезами и умерли, погасли. За канцелярскими башнями прячется старичок. Носик пипочкой, глазки бусинками, ротик точечкой. Пушок на темени и макушке колышется, когда ветерок проносится по комнате. Стул под тяжестью хозяина скрипит, кряхтит, но терпит. Старичок рассматривает свои копеечные очёчки. Сначала дышит на закоченевшие пальцы, а потом уже на стекла и потирает их тыльной стороной заляпанного парафином и лампадным маслом галстука. Присаживает очки на тонкую переносицу, дужки заправляет за уши. Они такие же пушистые эти уши, как и темечко, разве что волос поменьше.
Линзы на месте — перед глазами — резкость наведена. Свечки горят, освещая центр стола. Дальше мир затхл и тускл, пылен, не прибран.
— Пора за проверочку, — потирает ладошки старичок.
Перед ним только что заполненный им бланк. Бумага дорогущая, с водяными знаками, цветными вкрапинками, золотистой оторочкой. Красивейший почерк с финтифлюшками, веньзельками, петельками и загогулинами.
«Роман Смехов, сын Ильи Пырова, внук Ивана Пырова, правнук Семена Галушко, праправнук Ильи Галушко, прапраправнук Ивана Галушки, прапрапраправнук Тита Кривого.
5 августа 1999 года душу продал.
Залог: душа — 2 шт.
Жертва: жизнь — 1 шт.
Дано: спасение от позора.
Заверено: рукопожатием.
Заверитель: Тихоня Томас Чертыхальски».
Скрипит перо, шуршит бумага, выводится буковка за буковкой, значок за значочком. Пишется жизнь. Восклицательные знаки перемежаются с вопросительными, междометия, наречия, предлоги...
Глаголы удачные и не очень...
Числительные.
Что выходит в мокром прибытке? То пасквиль, то скабрезные частушки, а то глупый фельетон. А кто, милые вы мои господа, автор? Акакий Акакиевич? О, нет! Тогда кто?
Автора подавайте!
А вот он, голубчик — ваш прапраправнук, собственной жалкой душонкой...
Которой у него-то теперь-то и нет-с...
II часть, которую можно назвать: «Китобоец и терриконы» 1 Начало рассказки должно быть таким
«Блаженны чистые сердцем».
( Мф 5:8 ) От Матфея святое благовествование.
Довольно комедий, на горло песне наступает проза...
Я много думал, как лучше начать рассказку. Напустить туману или открыть все карты сразу? Кто такой Томас и с чем его едят? Мог пуститься в пляс от печки-анкеты и повести историю таким образом: Томас Чертыхальски как-то рассказывал, что родился он в январе 1899 года в семье пивовара Томаша, в столице Эстляндии Российской Империи. Отец нашего героя родом был из-под Варшавы. Фамилию носил такую, что язык сломать можно — Ченстоховски или Ченстохальски — что-то так. Томашу, от природы тугоумному и медлительному, часто доставалось от более резвых и наглых братьев, коих у него, благодаря темпераменту деда и терпению бабки, народилось двенадцать ртов. В десять лет отец Томаса попал в услужении к своему дяде, который в Варшаве имел пивоварню. Приехал на месяц, да так и остался. Сначала подайпринесивоттебелодыряга, а когда к четырнадцати годам вымахал до потолка и набрал невообразимую силищу, стал грузчиком. К двадцати в голове его завелся какой-никакой умишка, и Томашу пришлось не только тяжести носить, но и помогать в делах. К тридцати вся работа уже была на нем, а дядя, под старость узнавший, что такое ревматизм и трясучка в руках, отошел от дел. Отец Томаса благодаря своей прирожденной лени, старался все делать споро и добротно, чтобы скорее завалиться спать, а проснувшись не переделывать.
Казалось, всё — удалась у человека жизнь. Дядя, не имевший детей, готов был уже передать племяннику свое хозяйство, но... Не срослось! Неизвестно, что произошло, однако в тридцать два года отец Томаса из Варшавы перебрался в Ревель. Люди говорили, что тут не обошлось без разбитого сердца состоятельной панночки... Скорее всего врали — Томаш был слишком ленив для любовных утех. Поселился он в Ревеле без денег, родственников, без крыши над головой. Единственно, что у него было за душой — его таланты. Он умел варить пиво, таскать бочки с пивом и пить пиво. Однако давно люди говорят: что под звездами не происходит, все к лучшему. Через год Томаша Ченстоховски или Ченстохальски — кто этого пшека там разберет? — знал почти весь Ревель. Вернее не его, а кабачок «Тощую Эльзу», в котором хозяйничал старый еврей Дов-Бер, по прозвищу Соболь. С ним-то отец Томаса волею судьбы и сошелся. Получив любимую работу, а с ней крышу и стол, Томаш в благодарность придумал новый сорт пива — янтарного цвета, с карамельным привкусом. Вот этот пенный эль и свел с ума весь Ревель.
Заведение, где теперь обитал Томаш, было не из престижных. Близость порта не придавало кабачку респектабельности, но «Тощей Эльзе» прощалось всё: теснота, шум и ругань, низкие потолки в залах, клубы табачного дыма и не дающие себя лапать, тяжелые на руку разносчицы. Моряки и портовые грузчики, пролетарии и трубочисты, проститутки и купцы, врачи и солдаты, конторские и адвокаты, студенты — все сюда приходили, чтобы выпить кружку вторую-третью полутемного ароматного. Томаш варил зелье, Соболь его продавал, а публика не могла нахвалиться, требуя ещё и ещё. Каков был рецепт, что поляк подмешивал в сусло, никто не ведал, но эль был так хорош, что насытиться им было невозможно. Знать и дворяне, местные и приезжие офицеры, промышленники заказывали у Дов-Бера пиво бочками, маркированные печатью с изображением медведя и соболя. Скоро Ченстоховски-Ченстохальски, из-за ревельских острословов превратился в Чертыхальски. И я вам скажу по секрету, не зря: сколько идиотов, вытирая рукавом пенные усы, в липком пьяном угаре кричали: «Да за такое пиво не грех и душу продать!». И продавали — Дов-Бер времени зря не терял.
Несколько лет понадобилось отцу Томаса, чтобы почувствовать себя в Ревеле как дома. Когда уважение, набитый желудок, здоровый сон стали для него постоянными друзьями-спутниками, Томаш задумался о своем будущем. Что мужчине надо для полного счастья? Правильно — жена! И вот, наконец, у поляка появилась супружница. Родом из-под Староконстантинова. Звали её Альмой. Работала на Соболя. Давно вышла из поры цветения, красотой не отличалась. Метр от пола — дунь и упадет — но ве-е-едьма-а-а... Женщина злости необыкновенной.
Нескоро, точнее, в январе 1899 года, просто чудом родился Тихоня. Назвали его Тоомасом. Рождение сына Томаш почти не заметил — он уже давно жил в своем мирке. Вставал с третьими петухами, умывался, кушал, выпивал пивка, работал, выпивал пивка, кушал, и домой — слушать жужжание комара, летающего вокруг гиппопотама. Покивает, почешет пузо, покушает, выпьет пивка и на боковую. С годами Томаш ещё больше обленился. Заплыл жиром так, что брюхо и с пушки не пробьешь. Жена не могла мириться с тем, что муж её держит за ту собаку, что на цепи — тявкает, а укусить не может. Гордость и природная злость искала выход. Громоотводом стала родная кровинушка.
О матери Тихоня всегда вспоминал с неохотой. Говорил, что в младенчестве он по её воле должен был раз двадцать отправиться в мир иной. То покормить забудет, то уронит, то ошпарит во время купания. Нет, она не была зверем, просто... Как бы сказать подоходчивей... Между матерью и сыном происходила... война. Да, война. Тоомас рос не совсем нормальным. Вот, например, запеленает Альма сыночка потуже — тот был уж очень бойким — только отойдет от него, и вдруг или удариться об угол стола, или поскользнется, или нарвется на грубость посетителя кабачка — она снова подрабатывала в «Тощей Эльзе». Вначале не обращала на такую связь внимания, а когда шишки, ожоги, порезы, подзатыльники сложились в систему, Альме стало страшно. Как в такое не верить? Забудет покормить младенца и тут же расплата — порвется любимая выходная юбка. Накричит на сыночка — и в этот же день следует выволочка от Соболя. Стоило ей мальца чуть-чуть ударить — хоть на улицу не выходи — получит по зубам или под коня попадет, и хорошо, если отделается только ушибами и синяками.
Альма, надо признаться, от природы была упертой. Угроза получить по хребту её не останавливала. Очень скоро мать превратилась во врага плода чрева своего. Называла она сынка как угодно, но не по имени. Тоомас у нас часто бывал выблядком, уродом, сволочью, антихристом, сотоной и... Ах, да, чуть не забыл — чортовым отродьем или просто чортом.
Так и жили. Так и воевали. Когда Тоомас уползал-уходил-убегал от матери, она не ленилась его догонять, и тогда сыночку доставалось на два-три материнских перелома. Малец не мог похвастаться толстокожестью папаши, поэтому пока он жил с Альмой, всё время ходил синий. Такой вид воспитания заставлял мальчика ещё шустрее ползать, ходить и бегать.
Работать начал с четырех лет. Помогал на кухне, убирал, в семь уже принимал заказы. Когда подрос, сторожил по ночам склады, пивоварню. Матери тоже было несладко. Ожоги, порезы, ушибы сменились болячками, одна другой гаже. Тут тебе чирьи, лишай, опухоли, артрит, ревматизм и прочее, прочее...
Когда Тоомасу исполнилось восемь лет, он уже смахивал на ветерана-воина с внимательными, умными серыми глазами, дубильной кожей, жилистыми мышцами, привыкшим к любой еде желудком — жрал от каштанов до сырой картошки. А вот Альма, наоборот, сдала. Волосы поседели и начали выпадать клоками. Кожа на лице стала коричневой, покрылась глубокими морщинами, радикулит согнул спину почти до земли. От роду ей было лет тридцать, а по виду люди давали все сто — живая Баба Яга. В общем, с работы её попёрли, но после слёз, соплей и воплей, послали на кухню.
Вот так рос Тоомас. Скоро наш герой превратился в сущего звереныша — хитрого, ловкого, злого с родичами, но на удивление доброго с хозяином, посетителями кабачка и друзьями по улице. Корчмарь подружился с мальцом — Тоомас ему нравился. Мальчишка, несмотря на ранние годы, вел себя как взрослый. По внешности постреленка можно было легко предположить, каким он будет в двадцать, сорок лет, какие у него будут глаза, нос, как он будет улыбаться или грустить. Тоомас был копией взрослого человека, только очень маленькой копией. Наверное, он тогда мог бы сойти за взрослого карлика. Чертыхальски-младший понимал как вести себя с постоянными клиентами «Эльзы» — состоятельными посетителями и простыми работягами. Он знал больше похабных песенок, чем молитв. Умел — это семилетний-то! — так отбрить обнаглевшего клиента, что тот долго ещё не мог поставить на место отвалившуюся челюсть, а поставив, хохотал так, что этот хохот, наверное, был слышен русскому царю в Петербурге. Тоомас — спасибо Альме — обрел хорошую реакцию. По глазам научился предвидеть действия соперников в драке и благодаря этому часто уходил от неприятностей. В отличие от папаши, Тоомас не знал, что такое лень, работал быстро и с особым настроением. Никогда не унывал, вечно куда-то спешил, то на улицу к приятелям, то на пивоварню. Казалось, что внутри мальчишки живет ещё один ребенок, только ростом поменьше — и этот, второй, все время бегает под шкурой, между кишками, рёбрами, печенками и не дает первому сидеть на месте. В «Тощей Эльзе» любили Тоомаса за любопытство, непоседливость, умение самую безнадежную ситуацию перевести в шутку. У постоянных клиентов его нестриженая светлая шевелюра, хитрая симпатичная мордашка вызывала умиление. Тоомас всегда был готов сорваться с места, чтобы ни пропустить драку пьянчуг на улице или тарахтение проезжающей красивой кареты. На бегу перехватит горбушку хлеба с луковицей, увернется от грязной тряпки коршуна-матери, ущипнет девку, несущую восемь кружек с пивом — вот всем потеха! При всем при этом Тоомас рос почти сиротой — старик Соболь стал ему и отцом, и матерью: кормил, одевал, когда же Альма заставляла сына много работать, он, хозяин, наоборот давал мальчишке несложные поручения. Ещё что хочу сказать. Тоомас ничего страшнее Альмы в своей жизни не видел, поэтому ничего и никого не боялся. Мог ввязаться в драку с мальчишками на голову выше себя и бился до последнего, пока его не повалят на землю. Наверное, поэтому с Тоомасом из корчмы «Тощая Эльза» дружить было не зазорно и старшим ребятам. Его знали многие уличные мальчишки старого города, разносчики газет, помощники в лавках. Он легко сходился в дружбе, помнил всех, с кем хоть раз встречался, держал слово, никогда по пустякам не спорил, слабаком себя не показывал.
Если бы вы Тоомаса встретили в его детские годы, он бы вам понравился.
2 Учение – тьма
Вот вкратце о чем я хотел было рассказать в самом начале этой истории. Мог, но не стал. Почему? Потому, что сведений о тех годах у меня мало, а что касается дальнейшей судьбы Тихони — ещё меньше. Известно, что когда одногодки пошли в школу, Тоомас исчез. Дело было так. Дов-Бер однажды пригласил его к себе поговорить за жизнь — как мужчина с мужчиной. Хозяин сказал, что хочет отправить мальчика в школу — готов дать денег в долг на одежду, обувь и книги. Тоомас отказался. Если родные не желают, чтобы их сын учился, так зачем это лично ему? К тому же он не хотел принимать никакие подачки.
Соболь покачал головой, поплямкал губами и оставил, как он понял, пустой разговор. Всё шло, как и прежде: родители сами по себе, Тоомас себе на уме, но... Всё равно старик не мог успокоиться. Однажды, это были дни перед Рождеством, он завел мальчика в свой кабинет. Поставив Тоомаса перед собой, посмотрел на него слезящимися, черными, как шляпа трубочиста, глазами и сказал:
— Растешь. Какой вытянулся — сорняк, прямо. Не поливаешь, а он все лезет и лезет, — Дов-Бер погладил мальчика по голове, нагнулся так близко, что Тоомас смог рассмотреть каждую из миллиона морщинок на сухом пергаментном лице старика.
— И как это долго будет продолжаться, а? — спросил Соболь. — Думаешь всю жизнь побегушками себя кормить, а? Это сейчас наука не нужна, а потом без умения читать-писать не проживешь. Хочешь, чтобы тебя всю жизнь водили за нос? Хорошо, отлично! Не учись — будь босяком — в этом своя гордость имеется. Но! Я не настаиваю. Вот только вдруг у тебя когда-нибудь в будущем возникнет нескромное желание водить за нос других? Других. Босяков. Водить за нос босяков. Ты. Но не тебя. Что думаешь? Думать-то ты научился, я знаю. Так вот, послушай своими ушами, что тебе скажет Дов-Бер — Медведь, прозванный Соболем. Наука — это будущее. Будущее — это честь. Наукой не гнушайся — она кормит и поит того, кто её любит.
Хорошо и правильно говорил Соболь, но эти слова были для мальчика всего лишь словами... Тогда старик тяжело вздохнул и, скорее всего, самому себе сказал:
— Я знаю, что делать. Иногда, чтобы подняться высоко, надо упасть очень низко. Возьму грех на душу — определю тебя в Коллегию. Для такого, как ты — в самый раз. Образ и подобие в нашем мире — не самое главное...
Дов-Бер взял грех на душу, а наш герой пропал.
3 Возвращение
Весна в апреле 1913 года загуляла, заблудилась, надолго оставив Эстляндию в объятиях мачехи-зимы. В то утро мерзкая промозглая пелена накрыла весь город — туман окутал свинец моря, сталь кораблей, чугун порта. Старый Ревель с его громадами домов спрятался от солнца — только в молочной глубине тумана блестела жирная от грязи брусчатка, да виднелся шпиль ратуши. Слезинки с неба ледяными поцелуями щипали щеки портовых рабочих, моряков, строителей, прилипали к волосам и одежде редких прохожих. Проведешь рукой по ткани или коже, и останутся влажные полосы. Все природные стихии, повинуясь прописанным им свыше законам, казалось, жаждали только одного — отравить жизнь людям, вынужденным жить здесь и терпеть эту проклятую сырость и пронизывающий до костей холод.
Томас сошел со скрипящего трапа «Ясноокого» — старого ржавого китобоя. Холщовые зауженные парусиновые штаны, короткая, ладно скроенная куртка. На голове сдвинутый на левое ухо берет с синим шерстяным бубоном, а на спине рюкзак, какой обычно носят гимназисты. Из-под берета выбиваются длинные выгоревшие до белизны волосы. На ногах не ботинки, а сапоги со стоптанными каблуками, высокими скрученными голенищами. Лицо и руки почти чёрные — за время, пока судно шло домой, загар не успел сойти.
Вслед за Томасом по трапу шла высокая статная дама — цоканье подковок её туфелек из-за тумана и утренней тишины разносилось далеко-далеко — до пакгаузов и мастерских. Туалет по последней европейской моде — приталенное под корсет платье из темно-синей английской шерсти с закрытым высоким лифом и стоячим воротничком. На плечах накидка из шкурок бельков. Широкий черный пояс-кушак повязан на пояснице пышным бантом. На груди дамы брошь с тремя крупными жемчужинами правильной формы — ослепительная белизна перламутровых камней выгодно подчеркивала строгость её наряда. Пышную прическу смоляных с вороньим отливом волос венчала изящная шляпка с широкими полями и траурной, закрывающей лицо, вуалью. Украшенные алмазами заколки, удерживали шляпку от порывов ветра и неосторожных движений.
Не успела дама подойти к Томасу, как к ним, разрывая клубы тумана, подъехал ведомый парой гнедых жеребцов фаэтон с откидным верхом. Дама, подобрав тяжелые пышные юбки, первая заняла свое место, а Томас, прежде чем последовать за ней, обернулся и, засунув два пальца в рот, свистнул. Тут же появились четыре высоких жилистых китобойца, которые несли тяжелые сундуки. Когда они поставили багаж, рессоры жалобно заскрипели, фаэтон накренился назад, и жеребцы заржали и невольно попятились — сидящему на козлах кучеру пришлось успокоить их плеткой.
— Голубчик, к «Тощей Эльзе», — приказала дама.
С момента, когда Томас покинул свой дом, прошло пять лет, и вот настал миг, когда он толкнул тяжелую, окованную железными полосами дверь, переступил через порог и, наконец, вдохнул родной и знакомый ему воздух. Вдруг мир перед глазами Томаса двинулся в сторону, и в голове зашумело, как от бокала доброго рома.
Он осмотрелся. Теперь всё здесь было так и не так. Кажется, те же стены и мебель, как и прежде пол усыпан опилками и еловыми ветками; тот же запах хмеля, жареной рыбы, хлеба, сосисок и тушеной капусты, но... Все словно усохло, уменьшилось, как будто «Тощая Эльза» похудела ещё больше. Томаса встретили не такие, как представлялось во времена разлуки с домом высокие потолки и не столь широкие окна. Стены стали ближе, люстры висят ниже. За столами сидят незнакомые люди, а за стойкой, где раньше на высоком табурете когда-то восседала его мать, был новый управляющий. В свете газовых рожков сияло его чисто выбритое бледное лицо. Холодные глаза. Светлые волосы. Черная рубаха, синего бархата безрукавка с золотой цепочкой от часов.
Томас и дама подошли к стойке.
— До-о-оброе утро. Чем моху служить? — приятно растягивая «о» сказал новый управляющий. — Ви витно исдалека-а-а... И я таже тогадываюсь кто ви.
— Доброе утро, — кивнула дама. — Я возвращаю вам юнкера... Вернее, юнгу Томаса.
— Траствуйте, Тоомас.
— Здравствуйте, — сказал мальчик, вежливо улыбнувшись.
— Торогой труг, рад вас видеть тома.
Новый управляющий, казалось, не имел возраста. Почти белые, без седины, набриолиненные волосы прилизаны назад, высокий лоб с двумя глубокими морщинами между бровей, молочно-голубые глаза. Острый нос со сломанной переносицей. Ноздри такие узкие, что кажется, принадлежат змее. Тонкие губы приветливо изогнуты, но эта совершенно искренняя улыбка почему-то отталкивала.
— Если разрешите, я скажу о ваших ротных. Папы здесь нет — вернулся томой. Мама умерла от чахотки тва года назат. Хозяин... — управляющий замер на мгновение, словно к чему-то прислушался, — ждет наверху. Поспешите, он будет очень, очень рат. Он ждал. Ждет. А я, — Тарво,— управляющий чуть склонил голову. — Помогаю вашему детушке.
Томас хотел возразить — старик, который наверху, ему не дедушка, но... не стал спорить. Поправив лямки рюкзака, он улыбнулся Тарво и, обратившись к даме, сказал:
— Прощайте, м... — запнулся и, пересилив себя, закончил мысль: — Спасибо вам за всё, баронесса. Думаю, дальше мне следует идти одному.
Дама подошла к Томасу, наклонилась и, обняв его одной рукой за плечи, чмокнула в щеку.
— До свидания, Томас. Если понадобится помощь, ты знаешь, где меня найти. Буду ждать, буду ждать.
Когда баронесса вышла из корчмы, мальчик ещё постоял с минуту, вдыхая прокуренный воздух, осматривая знакомый-незнакомый зал, прислушиваясь к ощущениям. В тот миг он не мог описать словами свое состояние. Этим утром он ещё спал в своей кровати, а рядом храпели друзья и товарищи. В том мире все было расписано по минутам, всё понятно, ясно и просто. Учеба, экзамены, потом кругосветные путешествия на китобое. Он почти забыл родной город, и место, которое называл домом, и вот, оказывается, Ревель, громады кораблей в порту, «Тощая Эльза», — это не обрывки предрассветного сна или воображаемый образ, а скучная, обыденная, трезвая, живущая когда-то вне Томаса и без Томаса реальность. Прошлое должно уйти. Как это ни печально, но детские приключения закончились, и к старому, так полюбившемуся ему миру, дорогим его сердцу друзьям, теперь возврата нет.
Томас, тяжело переставляя ноги, направился к лестнице. Ему надо увидеть того, кто много лет назад вручил подорожную в край, где мальчики прощаются с детством. Узкая с крутыми ступенями лестница всё также скрипит. В коридоре второго этажа на полу постелена знакомая потертая дорожка, а на стенах висят те же старые гобелены. Вот и дверь с массивной ручкой — черной мордой льва. Томас в детстве боялся его оскала. Взяв торчащее из носа царя зверей тяжелое кольцо, мальчик потянул на себя — дверь открылась без скрипа. Вошел. В кабинете за «пюпитром» — столиком, стоящим как цапля на одной ноге, — работал, закутавшись в старый плед, хозяин. Клетчатая шерстяная ткань беспомощно висит на острых стариковских плечах, не доходя до пола и открывая стоптанные туфли и вязаные порченные молью чулки.
Дов-Бер обернулся, прищурил маленькие обрамленные красными воспаленными веками глаза. Болезненная худоба, неопрятное обезображенное слишком резкими и глубокими морщинами лицо, брови — мохнатая пакля, хищный нос с горбинкой, кривая, как сарматский лук, улыбка красных влажных губ. Именно таким Томас представлял Соболя в дальних краях. Вдруг в глазах старика радугой зажглись сначала любопытство, потом радость и, наконец, восторг. Он аккуратно опустил перо в чернильницу, развернулся и в два широких шага, с дрожащим подбородком, вытянув руки, подбежал к Томасу, обнял мальчика и заплакал. Слезы намочили серебряную щетину на дряблых щеках. Рыдания сотрясали тело старика, и было непонятно, это он от радости или оплакивает нечто навеки ушедшее, умершее в нём самом. А Томас, прижимаясь к Соболю, наконец, осознал, что он дома, его здесь ждали, и в отличие от «Тощей Эльзы», Дов-Бер не усох, не состарился, — объятия его сильны, он так же крепок и жилист, каким был пять лет назад.
Так я тоже мог начать свою рассказку...
4 Список жертв
Что-то отвлекся. Пока вспоминал о прошлом, чуть не пропустил интересное настоящее. Через пару дней от Антонины Петровны к Томасу приехала девочка-курьер. Дверь открыла хозяйка. Ничему не удивляясь, Леся взяла перевязанный суровой ниткой пакет и расписалась в бланке о получении бандероли.
Томас в это время сидел на балконе — развалился в кресле, задрав ноги вверх. Рядом кружка с квасом, на тарелке пара надкусанных яблок и жменя жареных семечек. В руках книжка в мягком переплете. Солнышко поджаривает пятки, воробьи орут, пчелы жужжат, но куда уж до них, когда графиня хочет отомстить своему фавориту, а маркиз Эдмонт — любовник её любовника — вот-вот должен разгадать коварные планы оскорбленной женщины...
— Томас, тебе тут бандеролька!
«...странный пузырек с необъяснимо тревожным содержимым он держал в своих тонких аристократических длинных пальцах. Неужели это яд? Надпись на флаконе — „каракурт“, свидетельствовала о том, что маркиз оказался прав в своих умозаключениях...»
— Что?
Леся бросила пакет Томасу на живот.
— Вот, тебе передали. Я расписалась.
Тихоня с сожалением отложил книжку, стряхнул прилипшую к голым бокам шелуху и взял бандероль. Она была без обратного адреса. Тяжелая. Когда Томас надорвал бумагу, из прорехи посыпались фотографии, справки, бланки, записки, докладные. На дне конверта лежал мобильный телефон с потертыми кнопками. Вспомнив разговор с Антониной Петровной, Томас про себя ругнулся и начал собирать листы. Разложив их по порядку — все документы были помечены разными цветами — Тихоня вернулся в зал, сел на диван и стал рассматривать, чем же его наградили.
— Тэ-э-эк-с. Номер первый — Алена Сак. Двадцать шесть лет, место работы — машзавод имени Кирова. Токарь пятого разряда. Ого! Адрес проживания: проспект Ленина, дом такой-то. Жизненный путь — детсад, школа восемнадцать. Восьмилетка. Список одноклассников... Ага. Профтехучилище, не замужем. Живет с родителями, подруг нет, друзей нет, девственность потеряла в семнадцать. Э-э-э-э... Ваня Скляр, сосед.
Томас посмотрел на фотографию счастливчика.
— Пацан совсем... Так, пишем стихи, прозу. Два сборника издала на свои — «Колоски под снегом» и «За Дунаем». Издательство «Горняк»... Хм, а это что?
Томас взвесил на ладони ещё один конверт, помеченный, как и все бумаги Алены, пурпурным стикером. Повертел в руках — и здесь ни марок, ни каких-либо надписей. Отбросил в сторону.
— Ладно, токарь-поэтесса, подождешь... Номер второй. Цвет желтый. Екатерина-Катя-Катюха Молода. А может Молодая? Хм, в паспорте написано «Молода». Ошибка? Тридцать один год, безработная. Адрес проживания: тупик Коминтерновский... Трам-парарам... Жизненный путь — прочерк, семейное положение — прочерк. Везде прочерк. Может стоит начать с этой дамочки-прочерка? И почему «Екатерина-Катя-Катюха»? Разберемся... Идем дальше... Номер три. Константин Иванов, тридцать два года. Красный маркер. Слесарь-ремонтник в типографии. Адрес, школа, техникум. Служба в армии, ВДВ... ВДВ? А! Каптерщик. Заочка в политехе. Второй курс... Женат, дочь, сын, дочь... Супруга с детьми у родителей. Цвет красный. Любопытненько... С чего бы это у каптерщика?
Томас, о чем-то вспомнив, хмыкнул, и покачал головой.
— Продолжим... Номер четвертый. Андрей Сермяга, тридцать четыре года, адрес проживания: проспект Ленина, номер... дробь... Ярлык желтый. Сын Сергея Сермяги. Биография отца... Фото картин...
В графе «профессия» у Андрея стояло художник, но фотокопий работ не было.
— Интересненько, очень даже интересненько... — пропел Тихоня. — И, наконец...
Томас прочитал имя, и даже не засмеялся, а заржал. Для пущей верности, пролистнул страницу, чтобы посмотреть на фото — никакой ошибки.
— Ну, Тоня, ну, глазастая!
На бланке с фиолетовой галочкой в верхнем правом углу, было напечатано: Олеся Галаева.
— Так, двадцать шесть лет, — читал Томас вслух, а в это время его подруга на кухне гремела посудой. — Адрес, одноклассники, одногруппники, друзья, подруги, приятельницы. Потеряла невинность... Ох, Валя... Любит отдыхать, работа...
В анкете была вся жизнь Леси, вплоть до мелочей. В самом конце последнего листа биографии Тоня дописала «Если справишься, дам шестого».
Засунув прочитанные бумаги обратно в конверт, Томас задумался. К чему эта приписка? Подзуживает? Значит Петровна не уверена, будет ли он заниматься чистенькими. Может и правда не забивать себе голову? Хотя... Столько лет бумаги перекладывал из папки в папку и вдруг выпал шанс похулиганить, вспомнить старое... Поэты, художники — самая вкусная «желтенькая» публика... К тому же последний номер почти в кармане...
Пока Томас размышлял, его пальцы машинально ощупывали запечатанный конверт поэтессы. Надорвав бумагу, он обнаружил внутри обычную школьную тетрадь, на титульном листе которой синими чернилами от руки было выведено «Рудаментарно, Ватсон».
Усевшись удобнее, Томас принялся за чтение.
«Столб света освещает на сцене пень. На нём — спина к спине — сидят два человека. Лица направлены в разные стороны, но когда мужчины говорят, то жестикулируют, словно видят собеседника напротив себя. Вокруг — чернильная тьма...».
Томас перечитал пьеску дважды. Она была короткой, всего несколько страниц, скорее, не пьеска, а интермеццо. Когда отбросил от себя тетрадь, лицо его словно окаменело, и было похоже на посмертную маску. В глазах мерцала могильная тоска. Томас до самого вечера ходил с отрешенной глупой улыбкой, и на вопросы Леси не отвечал, словно их не слышал. Лег рано и долго ворочался в кровати. Его все раздражало: простыня колола и прилипала к спине, было слишком жарко. Спящая рядом Леся громко сопела, а ближе к одиннадцати какие-то пьяные за окном стали орать под гитару, что они из Кронштадта. Когда ночная прохлада, наконец, убаюкала уставший город, и всё стихло, Томас осторожно, чтобы не разбудить Лесю, встал с кровати и пошел на кухню. Налив себе стакан воды и, не включая света, открыл окно.
Городок спал — машины в стойлах, люди в кроватях — ни одного огонька в пятиэтажках на противоположной стороне улицы, только три циклопа-фонаря перемигивались друг с другом, мертвенно-бледно освещали асфальт и кроны заснувших деревьев. Ветерок приятно холодил потную кожу. Далеко — в стороне Озеряновки — брехали собаки. Где-то на юге проехал поезд — днём их не слышно, а ночью перестук колес пробирался в форточки, напоминая, что где-то даже ночью существует какая-то жизнь, что-то куда-то движется, спешит, суетится, а здесь тишина, ночной покой, собаки лают, сверчки зудят...
Томас посмотрел на небо, где среди платиновых облаков звездными гвоздями прибили луну, и так тяжело вздохнул, как будто в этот миг решилась его судьба. Осушив стакан в три глотка, вернулся к постели. Леся, почувствовав рядом мужчину, улыбнулась во сне и, обняв Томаса, еле слышно прошептала: «Валик».
5 Витязь у камня
Во вторник Тихоня приступил к работе. В уме перебрал фотографии, вспомнил анкеты, характеристики, объяснительные знакомых и родственников своих будущих жертв, счета, записки реальных доходов и расходов. После этого составил план — согласитесь, в таком деле без плана никак нельзя. Первое, он должен зайти на почту и отправить денежный перевод на сумму 100 долларов по адресу: пр. Ленина дом такой-то, квартира семь. В местной валюте. Затем — это уже второе, — его ждал завтрак в кафе «Березка», которое славилось недорогой, по-домашнему приготовленной кухней, где работала бывшая подруга Молодой — Варя Лисицкая. Завершить день следовало бы в гостях у поэтессы-драматуржихи. Вот и всё, — неужели это сложный график для первого дня? Все на местах, неделя только началась, почта работает. Если повезет — за два часа можно управиться...
Не повезло...
Варя, как и весь поварской коллектив, с радостью согласилась позировать симпатичному корреспонденту местной микролитражки. Короткое интервью заведующего — низенького, постоянно озирающегося дядечки с потным лбом. Крупный план для фото ветерана общепита Зои Сахарович. Пара комплиментов всем остальным — контакт наведен — в Городке прессу любили. К Варе корреспондент подошел уже в последнюю очередь. Как бы собирался уходить, но вдруг вспомнил, хлопнул себя по лбу — получилось очень звонко. Повернувшись к Лисицкой, он с улыбочкой сказал:
— Варя, забыл как по-батюшки, а вам Катя привет передавала.
— Какая Катя? — девушке было лестно перед подругами, что её, оказывается, корреспондент знает по имени.
— Катя Молода.
Пару секунд Варя вспоминала-вспоминала и как захохочет!
— А! Катя — Катюха! — щеки поварихи налились яблочками. — Ну, надо же, сколько лет прошло, а помнит. Как она там?
Томас улыбнулся мягко.
— Это она рассказала, что вы здесь работаете. Говорит, драники хорошие тут у вас. Обещал ей попробовать.
Так получилось, что разговор «для всех» быстро превратился в диалог «для близких». Томас взял женщину под локоток, отвел в уголок, посадил напротив себя на табурет.
— Я драники страсть как люблю, уже и забыл, когда последний раз их кушал. Сам ведь с Белоруссии, из под Жодино... Жена, когда мы с ней ещё жили, ничего не готовила, для неё и яичница — беда, не говоря уж, о чем посложнее.
— Так вы с Катюхой того, встречаетесь? — спросила Валя, пряча улыбку, и было в этой улыбке что-то лукаво-непристойное.
Томас секунду похлопал ресницами, а потом, осторожно тронув Валю за плечико, ответил скромно:
— Нет, что вы! Моя профессия обязывает всех знать, но не со всеми встречаться, — улыбка Томаса в этот момент должна была выразить некую двусмысленность. — Я рядом с ней поселился — почти двоюродные соседи. В один магазин ходим. Познакомились в очереди. Странно так получилось, я общительный, Катя тоже. Слово за слово...
Валя встрепенулась, стала кивать.
— Это правда, Катюха — молодец.
— Я недавно на своё почти холостяцкое бытье жаловался, а она про «Березку» вспомнила, мол, тут еда вкусная, для меня в самый раз. А для журналиста что главное? — тема! В газетенке подвязался, можно сказать, испытательный срок. Ну, я и говорю: раз вы хвалите, надо рассказать о хороших людях, а она мне, мол, подруга там работает, по институту, передавайте привет. Вот так всё удачно сложилось. Краткое знакомство, хорошие пожелания, плюс репортаж, — Томас нагнулся к Варе поближе. — Шеф ваш такой колоритный — на первую полосу, думаю, пойдет. Прямо подарок, а не начальство. Первая полоса — это уже внимание. Ещё бы гонорар повыше дали...
Томас остановился, задумался, потер средним пальцем кончик носа.
— Хотя... А вы думаете с ней можно? Кольца на руке не заметил, или я не обратил внимания?
— Не, ну я не знаю, — Варя замялась, — мы с Катюхой виделись последний раз лет шесть назад. Она как со второго курса отчислилась и всё, след простыл — ни слуху, ни духу. Я-то тоже не досидела... Теперь вот — куховарю. Надо же, Катюха... — взгляд поварихи затуманился, — помнит. У неё фамилия необычная — Молодая. Хотела бы иметь такую. Вот доживешь до старости, а в паспорте — «Молодая»!
— Не, в старости плохо, — вздохнул Томас.
— Это почему же?
«Корреспондент» округлил глаза.
— Пенсию не дадут.
Варя рассмеялась: «Это верно», — и выжидающе посмотрела на Тихоню. Он открыл портфель, чтобы положить в него диктофон. Чувствуя на себе оценивающий взгляд, подождал немного и, не поднимая головы, спросил:
— Отчего такое странное прозвище — «Екатерина-Катя-Катюха»?
— А, это после стройотряда. Нас, как только поступивших, сразу в колхоз, на прополку. Это сейчас, — повариха показала крепкие, красные, натруженные ладони, — я могу сутки отмантулить и не поморщусь, а тогда, после школы жизнью не битая, за мамкой та за папкой. Да и не одна я такая была... А вот Катя, сразу видно, к крестьянскому труду привычная. Мы только к рядку приступили, а она уже на середке. По три нормы делала. Всё с огоньком, как играясь. Вот её ребята так и прозвали.
— Отчего же отчислили?
— Взяла академ, родила. Потом, говорят, развелась. Они не расписанные были — так жили. Слышала, недавно вторым Боженька наградил. В институт так и не вернулась. Что сказать? — жизнь.
— Это, так... Жизнь, — повторил Томас серьезно.
Всё, похоже, пора откланиваться... Он и откланялся, но сначала вернулся в зал, заказал себе те самые драники со сметаной, вермишель и стакан томатного сока — в жару самый раз. Покушал, расплатился.
Выйдя на улицу, Томас замер — его словно окатило кипятком из пожарного брандспойта — так было жарко. На небе ни самого захудалого облачка — синь да синь. Исподлобья посмотрел вокруг. Духота. Парилка. Полупустые улицы, раскаленные крыши, медленно едущие машины, бредущие, словно привидения, прохожие. Дворняги, валяющиеся в тени акаций, языки высунули. Яркие алые пятна невольно притягивают взгляд, но стоит внимательней к ним присмотреться, и тут же становятся видны черные влажные от собачьей слюны грязные желтые клыки.
Отвел глаза в сторону. Томас не любил собак...
Сейчас до двенадцати ещё два часа, а что будет твориться в полдень? Томас подумал, а не устроить ли ему перерыв? День только начался — куда спешить? Можно сходить домой, принять душ, попить чайку, посмотреть телевизор... Он, конечно, понимал, что просто ищет повод, чтобы не видеться с этой... Кто там у нас на сегодня... Стихоплетчицей. И от этого знания у него внутри, словно проснулся мерзкий гном, который стал бурчать, мол, зачем ты только взялся за этот цирк святош? Учебник по прикладной ангелологии собрался писать, что ли? Она же страшная, — шипел носатый карлик, — ты же знаешь, что все бабы-токари с прибабахом. Это насколько надо себя не любить, чтобы свою жизнь посвятить железякам? Они ненавидят своё ремесло так, что и золотари позавидуют тому запредельному градусу злобы и люти, клокочущей в их усохших душонках. Когда токари утром просыпаясь продирают глаза, их тут же начинает корежить от того, что придется тащиться на работу. В глазах этих бедняг по утрам отражается вся скорбь мира, и никакой художник не в силах выразить их беспримерную тоску. Вот хорошо быть, например, библиотекарем... Хотя... Если поразмыслить... Вот сидит такая вся серая чистенькая на берегу океана мудрости человечества, держа в своей памяти пуды прочитанных книг, при этом получая за свои знания медные гроши. Не в машинном масле, и стальная стружка не залетит за лиф; не надо точить столько-то деталей в смену, а потом ругаться с мастером, но счастлива ли она, довольна ли жизнью? Скорее всего, ей ежеминутно-ежедневно-ежегодично приходится отбиваться от отравляющего жизнь вопроса: «Если ты такая умная, почему до сих пор не заработала миллион долларов, не защитила диссертацию илине продала крутому издательству роман-бестселлер?». Токари — это скульпторы по металлу, но их профессиональным навыкам чуждо рождение штучных произведений искусства. Призвание токаря состоит в монотонном тиражировании однотипных болтов, гаек, всевозможных болванок. Где здесь, в грязном пропахшем машинным маслом цеху, скажите на милость, место для поэзии? Может ли одетая в спецовку муза расправить перепачканные мазутом крылья между грязных станков?
Томас про себя усмехнулся: «Но эта сука как-то же написала „Ватсона“!». Это какая же должна быть у этой твари ушлая подсказчица, сумевшая нашептать для обычного человека ничего не значащие, забавные и, на первый взгляд, пустые слова, но... Томаса те скупые строки ранили больнее точных, хлестких ударов плетью. Подобное случается, когда мы стараемся забыть нечто запретное, однажды окончательно перевернувшее судьбу и большими усилиями почти стертое из памяти, но вдруг чужая нелепая фраза, увиденный образ, прилетевший издалека еле ощутимый знакомый запах вдруг срывает с нашей души печати, и совесть береговым прожектором во всех деталях реанимирует воспоминание о былом грехопадении...
Одна часть Томаса сейчас жаждала встречи с автором проклятой пьески, но старик-гном упорно продолжал тащить его за шиворот прочь, и с этим ничего нельзя было поделать. Тихоня привык доверять своей интуиции, поэтому посещение Машзавода вычеркнул из своего графика.
Если не Алену, тогда кого окучивать? Выбор не велик — раз уж начал рыть носом вокруг Кати-Катерины, так может плюнуть на все политесы и рвануть к ней напрямую? Какой был первоначальный план? Поговорить с подругой, соседями, стариками на улице, которые возле гаражей по вечерам в «козла» играют: те всё знают. Выпить пивка с местными мужиками. Томас думал, что столь нехитрый подскок даст ему всю необходимую для такого дельца фору.
Кто был в нашем Городке, знает, что если от «Березки» пройти по проспекту Ленина мимо больницы и спуститься до «кольца», — места на бульваре Димитрова, где в давние времена трамвайные пути были уложены кругом, — то, повернув от него направо, вы попадете на улицу Индустриализации. К ней, как раз и примыкает Коминтерновский тупичок. Только Томас мысленно нарисовал маршрут, тут же у него зачесался кончик носа.
А вот это — хороший знак!
Что ж выход найден — нас ждет разведка боем.
Фотоаппарат в рюкзак, рюкзак за спину и в путь — под зелеными кронами акаций с приятной рябью в глазах: солнце — тень — солнце — тень. Машины, люди, детские коляски, голуби, витрины, собаки — всё отодвинулось на периферию сознания; есть только он, дело и город, в котором будет происходить это дело. Томас словно прогуливался по палубе океанского лайнера. Высотки-скворечники быстро остались за спиной. После магазина «Империя мебели» — когда-то, во времена давние, в этом здании был «канальский» гастроном — проспект продолжали сталинские двухэтажные дома. Там в квартирах высокие потолки и толстые кирпичные стены. В них сейчас, наверное, прохладно... Томас слушал город, как он дышит — шумит. Как по его улицам — венам и артериям — бежит кровь — машины и автобусы; гуляют дети, голуби хлопают крыльями, где-то завывает электродрель, чирикают воробьи. Разговоры-разговоры-разговоры, мысли-мысли-мысли. Разговоры без мыслей, мысли без разговоров. Решения. Сомнения. Каждую минуту, каждый час нескончаемое жужжание. Если прислушаться, то можно услышать или почувствовать стоны страдальцев, изнывающих от вечной пытки выбором. Чертыхальски, когда хотел, мог прильнуть к чужому беспокойству и боли, но редко это делал, потому как, в такие мгновения он поражался способность обычных людей совершать невозможные для его природы подвиги, и это Томаса не забавляло. Не зная, что ожидает их через минуту, час, день, часто не страшась будущего, людские души ползли по жизни, повинуясь своему личному моральному закону, словно саперы или слепцы. В поисках пути они втыкали щуп вокруг себя, стучали палочкой и, шажок за шажком двигались вперед. Нет бы остаться на месте, чтобы пустить корни в почву покоя и удовольствий, чтобы при свечах, укрывшись пледом, читать тяжелые толстые романы, слушать мессы Шуберта, пить по вечерам горячий чай с морошковым вареньем. Нет же, они, съедаемые суетностью и жаждой движения, которая требует от людей больших усилий — уж Томасу об этом было хорошо известно — тыкаясь в пустоте, как слепые котята, упорно ползли навстречу своей кончине. Каждый шаг их был мучителен: куда поставить ногу, на ступень ниже или выше? Вправо или влево? Как соизмерить усилия, чтобы сохранить силы и при этом выдержать боль? Многих на этом пути вел придуманный ими, часто ложный образ, но достигнув намеченного места и не получив желаемое, они, чаще всего, не разочаровывались, а, презрев плед и свечи, начинали искать новый маршрут, где их снова будет мучить пытка выбором. Ну как этих людей ещё назвать? Мазохисты!
Вот и «кольцо». Остановка, ларек и за ним круглая тумба для афиш, похожая на старуху в нищенских лохмотьях — вся такая в бумажных обрывках — не разобрать, что написано. Томас присмотрелся к объявлениям с неровными нижними краями. Продам-куплю-пропала кошка. На поблекшей, выгоревшей на солнце афише угадывалась картина витязя, стоящего перед камнем. Какая ирония. О да! Налево пойдешь — на бульвар попадешь. Там деревья, травка, в тени девушки на скамейках книжки читают, мороженое кушают. Направо пойдешь — ждёт тебя работа тяжкая, неблагодарная...
Куда: домой или на галеры?
Вдруг одинокой звездой загорелась мысль, а может не спешить? Это раньше в молодости, не страшась возможных неудач, он бросался в схватки с судьбой, но в его нынешние годы пора бы уже остепениться. Томас по прошлым своим делам знал, что чистенькие, как консервированные банки с грибами — никогда не знаешь, что тебя ждет после сытного обеда. Но в случае с Катей-Катериной, в этот самый миг он уже догадывался, что здесь не стоит копать глубоко. Лишние слова, поступки, движения будут только усложнять решение поставленной перед ним задачи. От него Тоня не ждет подвигов. Рядом постоять, за ручку подержаться — этого ей хватит с походом, само присутствие Томаса всё сделает за него.
Тихоня закрыл глаза, прислушался к шуму ветра в кронах, бегу ветров, течению подземных рек, скрежету мира в мертвой пустоте. Попросил, подождал, и прочерки через миг превратились в понятную только ему одному вереницу образов.
6 Образы
Росла Катя умной, сообразительной, в меру воспитанной девочкой. Папа, мама, деда, баба — как у всех. Всё как у всех. Брат младший и сестра. Старшая. По хозяйству с детства всё умела. Садик, школа, а потом институт. Пионерские лагеря летом. Новый год и апельсины. Черчение — хорошие оценки. Значит, усидчивая. Литература. Читать любила. Кино по выходным с подругами. Красивая жизнь на белой простыне. Льющийся из аппарата луч, воплощающий самые светлые мечты.
Таких девочек тысячи...
В четырнадцать расцвела. Пополнела. Грудь налилась, бедра округлились. Влюбчивая стала. Первый засмеял. Глупый мальчишка. Они в четырнадцать все тупые. Простила. Второй. Это уже в пятнадцать. Он был старше. Стеснительный, но целоваться после дискотеки любил. Больше — ни-ни. Да и она боялась. В шестнадцать страх прошел. В один день, она уже не помнит какой, всё изменилось. Струя воды. В душе. И мир стал иным — обрел ясность и смысл, при этом явив смирение перед неотвратимостью смерти, ведь узнав, ради чего рождены женщины, её детство умерло. С того дня предательское томление стало изматывать её тело. В глазах появился блеск. Мужчины с опытом его сразу замечают. Нюхом чуют. Стала податлива, как теплый воск — погладят по голове, готова в обморок упасть. В бригаде отца нашелся один. Выманил домой. В первый раз раззадорил, довел до беспамятства и остановился, — мол, не могу, нельзя, ещё маленькая. Три дня она с ума сходила — нервы выгорели до пепла; голова, как ватой была набита — ничего не соображала. Странно, но домашние не замечали, не догадывались, что с дочкой-внучкой-сестрой происходит. Когда все заняты собой, разве есть кому дело до отражающейся в девичьих зрачках битвы жизни со смертью? Победила Природа. Пришла сама. Отдалась. Сначала он обрадовался, что правильно всё рассчитал. Ему льстила девичья покорность, заискивающая нежность. Он упивался ощущением полной власти, но... Стоило ему войти — о, он был нежен, опытен и мастеровит в ласках, — как она начала кричать. Задыхаясь, закатывая глаза. До судорог, алых пятен на щеках и шее... Он испугался. Думал, что она сошла с ума. Хотел остановиться, но она не дала — обхватив руками и ногами, вцепилась клещом. Долго приходила в себя. Шла домой шатаясь. Он запаниковал. Стал её избегать, но она приходила по вечерам к его дому и застывала напротив ворот, чтобы он её увидел. Покорялся. Таясь от соседей, открывал ей калитку. Его только вначале пьянила девичья чистота и нежность, стыд и красота, но он уже знал, что за всем этим прячется звериный напор любовного безумия. Перемена не завораживала, а пугала. Он был слишком труслив, чтобы выдержать её страсть. Рассчитался и уехал на север. Она приняла его бегство. Смирилась. Нашла в себе силы укротить Природу, доведя пылающий в её чреве огонь до тлеющих углей. Закончила школу. Поступила в институт. В колхозе работала за троих. Как все первокурсницы с остервенением долбила латынь, английский, зарубежку... Спала мало, читала много, ела что придется, нервничала по пустякам, но на серьезное не обращала внимания... Однажды, во время репетиции концерта к Новому году, где она должна была петь под гитару что-то из Окуджавы, к ней подошел Он. Длинные ресницы. Черные усики. Лицо таинственное, изможденное, загадочное, с прозрачной кожей и угревой сыпью на висках. Арамис из «Трех мушкетеров». Взял её за руку и, ни слова не говоря, отвел к себе в общежитие. Уложил на постель, даже не поцеловав. Она не сопротивлялась — ей было самой любопытно, что случится? Раскрылась. Отдалась.
Какой-то гранью уже вспыхнувшего, ускользающего из реальности разума, заставила себя вцепиться зубами в кулак. Он не обращал внимания на её сдавленные стоны, всхлипы и подвывания: этот Арамис замечал только себя, любил себя и думал лишь о себе. Оказалось, такой ей был и нужен мужчина — близкий, но при этом чужой. Скоро общежитию, а значит, всему институту стало известно о темпераменте первокурсницы Кати-Катерины. Пришлось снимать частный дом. Забеременела. Узнав, он ушел — без объяснений, трусливых слов и скандалов, — она не удивилась. Приняла. Решила рожать. О «не рожать» не могло быть не только речи, но и мысли. Родные смирились. Летом взяла академ. Беременность проходила тяжело, пришлось ложиться на сохранение. Родила девочку. Жила в том самом доме — отец выкупил. К ней стали ходить мужчины. Разные, но в районе никто о ней не говорил плохого. Даже сплетники и сплетницы. Как-то жила. Помогали мама, папа, деда, баба. Мужчины, хоть раз побывавшие у неё в гостях, никогда никому не рассказывали об этом. Никто. Никогда. Но их близкие всё равно узнавали — слишком была заметна разница до и после. Её мужчины становились иными. Молчаливее. Терпеливее. Смиреннее. Строптивцы, ревнивцы, гневливые, молодые и постарше, поражаясь триумфу Природы и, утопая в извержениях Её плодородных соков, вдруг открывали для себя главную женскую тайну, и поэтому смирялись с собственной ничтожностью.
Забеременела. Родила второго ребенка. Сама. Дома. Мальчика. Произошло все очень быстро. Когда приехала скорая, она, безмерно счастливая, уже успела обмыть младенца и кормила грудью этот чистенький розовый комочек. Потом её долго преследовала фантомная смесь запахов из крови, слизи и дерьма, и каждый раз она невольно улыбалась. Через год, наконец, в её жизни появился Мужчина. Он принял детей как своих. Обуздал свою ярость. Рядом с ней стал трезв и спокоен. Каждый прожитый ими день был дольше года. Когда они разговаривали, произнесенные ими слова имели тысячи смыслов, а их общее молчание было мудрее всех написанных людьми книг. Они жили, не замечая, что творится за окнами их дома. Через девять месяцев ему пришлось уехать — кто-то позавидовал чужому счастью и сообщил про его старые дела. Сейчас он в бегах. Приезжает редко — на день-два и после мучительной ночи расставания снова исчезает. Она его ждет. Терпеливо и спокойно. Воспитывает детей. Чтобы прокормиться, шьет одеяла и восстанавливает старые подушки.
Больше к ней никто не ходит — мужчины знают, что она любит и теперь принадлежит другому. Вот такой Томас увидел Катю-Катюху-Катерину.
7 Alma mater
Я, не желая мириться с давно известной истиной, что есть сферы, о существовании которых лучше не знать, долго пытался выпытать, где, в каком краю учился Томас, но тайна сия так до конца мне и не открылась. Стоило мне по шажочку, сантиметру-миллиметру приблизиться к колодцу, чтобы заглянуть во тьму чужой памяти, и каждый раз меня ждала неудача — нужные мне воспоминания преграждали заполненные водой рвы и крепкие нерушимые ворота. Всё же я нашел узкую лазейку. Благодаря снам посвященных, пусть издалека, но мне удалось рассмотреть миражи городов-морей-океанов, где Томас прощался со своим детством. Первые годы он провел в Кракове, в обыкновенной школе при монастыре иезуитов, коих в то время по всей Европе было немало. По окончании учебы Тоомас — в книгах он был записан под фамилиейЧенстоховски — кое-как стал разбираться в богословских вопросах. Он исправно молился, исповедовался, причащался, наизусть цитировал места из Нового и Ветхого Завета, в церковном хоре тоненьким голосочком пел псалмы. В той школе он поднаторел в теологических спорах. Из него получился бы хороший миссионер, но последние два года обучения Томас — с одной буквой «о» в имени и теперь уже Чертыхальски — провел не в монастыре, а на китобое, скитавшемся в поисках добычи по всем известным океанам. На судне под парусом вместе с бывалыми китобойцами ходили когда-то юнкеры, но теперь юнги — весь класс, в котором учился Томас. Вот и весь секрет. Оказывается, если детишек накормить смесью теологии и животного натурализма, добавить в их неокрепшие души и неискушенные умы щепотку мистических наук, препарировать перед ними историю древних религий, астрологию, шаманизм, нумерологию, алхимию и заставить слушать лекции по химии, физике, математике, психологии, марксизму, анархизму, (-изму-изму-изму), то этот подход, с большой вероятностью, приведет к любопытному результату. А если вперемешку с теорией добавить практические занятия по убийству больших, умных, красивых, но при этом отвратительно пахнущих китов, о! Да чтобы финальный этап науки проходил в компании прожженных морских волков, посреди не имевшего начала и конца океана, в неустанной работе до кровавых мозолей, вывихов и обмороков. В голодухе, холоде, сырости, постоянном желании выспаться, терпя без причины побои, тычки, зуботычины, а с причиной — шомпола и вахты вне очереди. Вот так миру являлся человек новой формации — человек будущего, человек не только двадцатого, но и двадцать первого века. Подобное воспитание — не всем, были и исключения — но большинству из юнкеров прививало, помимо крепкого желудка и нервов толщиной с корабельные канаты, цинизм, здоровый эгоизм, и ещё несколько вредных, конечно же, с общественной точки зрения, «измов», которые должны были помочь в их долгом-долгом жизненном пути.
Во время похода у одного из юнг «Ясноокого» обнаружился любопытный талант. Если какой-нибудь китобоец хотел ночью пробраться к запасам рома, стянуть у приятеля лишние монеты или сжульничать в картах, то эта история тут же становилась известна постороннему. Да-да, нашему Томасу. Однажды открылось — это было на втором году странствий — что в насилии над заложницей, а команда «Ясноокого» помимо прочего промышляла и пиратством, принимали участие, как минимум два моряка. Капитан был в ярости — товар был испорчен. Насильников удалось найти благодаря помощи Томаса. Когда он сознался, что научился слышать чужие тайные греховные мысли, боцман вспомнил, что этот смышленый парнишка и ему недавно помог в одном тихом дельце. Лиха беда начало — стоило только тронуть, как под общий хохот, большая часть команды вспомнила, что в свое время они были вынуждены задабривать или делиться добычей с этим пронырой: малец необъяснимым образом узнавал о делах, которые другие хотели бы скрыть. Так Томас получил своё прозвище — Тихоня.
По возвращении в Ревель Томас поселился у Соболя. Присматривался к новой для него жизни, привыкал к безделью, удивлялся изменившемуся вокруг миру, — а что вы хотите? — ХХ век вступил в свои полные права! Никого уже не удивляли пришвартовавшиеся в Ревеле недавно построенные военные корабли. Среди конных экипажей все чаще стали попадаться рычащие и фыркающие диковинки — автомобили. Стали ходить слухи, что скоро начнется строительство нового порта, а значит в Эстляндию со всей Российской Империи должны были съехаться инженеры, военные, рабочие, торгаши. В предвкушении прибылей купцы, лавочники, корчмари и прочий заинтересованный народ потирал руки.
Томас, отдохнув несколько дней, стал помогать Дов-Беру. Недели не прошло, а посетители «Тощей Эльзы» перестали драться, клиенты начали вовремя закрывать выданные Соболем кредиты, поставщики привозили самое свежее мясо и овощи, а заказчики пива теперь рассчитывались до последней копейки. Хозяин приятные перемены приписывал своему новому помощнику, хотя с чего бы это? — ведь Томасу отроду было всего двенадцать с половиной лет! Мальчишка! Мальчишка? Ой, ли...
Томасу «Эльзы» было мало. Вытащить кошель с ассигнациями у зазевавшегося бобра, пролезть ночью в окно и умыкнуть золотишко у глупцов, не доверяющих банкам;постоять на углу, пока новые знакомые занимаются делом у портовых складов — везде поспевал. «Ветерок! На мягких лапах пролезет там, где и кошка застрянет», — нахваливали его мазурики со стажем. Скоро смышленого и отчаянного не по годам парня, стали звать... Да, вы правы. Прозвище Тихоня и здесь прицепилось, как репей к хвосту, но не потому, что он вел себя незаметно, наоборот — скоро о Томасе знали все ревельские деловые и бродяги. Старые друзья теперь его немного побаивались, а новые удивлялись. Во взгляде этого, не по годам высокого худощавого мальчишки, они замечали серьезность и прямоту, какую редко можно было встретить у взрослого мужчины.
Томас разговаривал тихо — после возвращения никто не слышал, чтобы он повышал голос — работал ловко, за долю не грызся. Прошло всего два месяца, а Тихоня не только отошел от дел в «Тощей Эльзе», но вообще в Ревеле стал появляться редко. Сколотившайку из десятилетних пацанов-сирот, он стал гастролировать по округе. Мальчишки промышлял в Риге, Вильно, Пскове, даже Санкт-Петербурге! Где «тише-тише» там и Тихоня.
Вот то немногое, что мне удалось узнать о Томасе Чертыхальски из его прошлой, давно забытой им жизни. Описать его молодые подвиги, я при всем желании не могу, а выдумывать... В моей рассказке и так достаточно вымысла, но одно скажу — думаю, если нашего героя хорошенько потрясти, то из него столько тайн посыплется, — что мама дорогая! — на двадцать романов хватит!
8 Змеи Горгоны
Томас от тумбы с афишами свернул направо. Открывшаяся перед ним широкая улица горбом спускалась вниз, упираясь в ряды гаражей — отсюда, издалека, были видны серые стены, разноцветные квадратики ворот и залитые битумом крыши. Дальше, за кооперативом, возвышался террикон, словно исполинских размеров животное растянулось по земле и заснуло. Вдруг раздался лязг и на залитую солнцем улицу вылез шумный, как астматик, красный трамвай. Завернул и поехал с горки, звеня и тарахтя и раскачиваясь на повороте. Богатое воображение Томаса вдруг показало, как у этого трамвая отказывают тормоза, и он разгоняется, несется вниз быстрее, быстрее. Сходит с рельсов и со всей силы пробивает бетонные плиты, врезается в гаражи и, не встречая сопротивления, гигантской торпедой несется к террикону. В горе с шипением открывается провал и когда-то красный, а сейчас почти белый от цементной крошки вагон ныряет в черную бездонную пещеру. Тихоня ясно видел сыплющиеся из-под колес искры, слышал скрежет гнущегося металла, хлопки разбивающегося стекла и вопли падающих в преисподнюю людей.
Моргнул и морок развеялся: трамвай мирно спустился вниз по улице и, повернув налево, скрылся за тополями.
Что случилось? Почему лоб укрылся испариной, и сердце колотится птичкой в тесной клетке груди. Воздуха не хватает. Если бы волосы были короче, наверное, встали б дыбом. Что же произошло? Мир, как прежде, сияет всеми красками, воздух наполнен ароматами лета, ветер гонит по асфальту пыль и обертки из-под мороженого — всё идет своим чередом! Но почему в глазах темно, и до сих пор в его голове слышно эхо воплей падающих в бездонную шахту людей?
Чтобы унять дрожь в теле, Томас до боли в костяшках сжал кулаки и приказал себе успокоиться. Первый шаг самый сложный, а потом второй, третий, четвертый... Всё -внимание переключилось. Пошел по тротуару, почти побежал. Там, где рюкзак — ткань на спине хоть выжимай. Да он сейчас весь в поту! На ходу достал флягу с квасом, выпил всё без остатка. Полегчало: голова стала соображать яснее.
Так, нужный поворот направо.
— Ничего не меняется, — прошептал Тихоня.
Старые покосившиеся заборы с зарослями амброзии, вросшие в землю древние дома, печные закопченные трубы на шиферных крышах. Во дворах виноградники, растущие груши, яблони, абрикосы. Томас вдохнул знакомый до боли запах, и пусть перед ним был Коминтерновский тупик, но по сути или «по духу» перед ним открылся тот самый, родной его сердцу старый Городок.
Однажды крапленая карта судьбы Томаса легла так, что он был вынужден приехать сюда, на самый край света — в Донецкую степь. Это не заезженная метафора, а трезвая реальность тех давних лет. В те времена Никитовка была конечной станцией железной дороги «Никитовка-Львов». Дальше, до места жительства, надо было ехать на телегах, тарантасах, кибитках по грунтовой дороге. Перебравшись сюда, Томас мог бы рискнуть, выбрав светлый дом с палисадником, гувернанткой, чтобы прибирала и готовила — Тоня позаботилась бы, но... Он тогда скрывался, и ему пришлось стать невидимым, незаметным, как придорожная пыль. Он испарился, сжался до атома. Тихоня влился в людской поток, прущий подобно паводку весной со всех сторон на Донбасс. Это был вопрос жизни и смерти. А где лучше всего спрятаться от всевидящих вражеских глаз? Правильно — под землей. Поселился на «восьмом» руднике. Там же, на «Альфреде», так называлась шахта, и работал. Сначала был выжигателем, сменным кочегаром, а затем лампоносом, осланцовщиком, помощником коногона. Было ему тогда четырнадцать лет. Забойщиком, проходчиком и горноспасателем Томас стал уже после Революции.
То были легендарные времена, достойные барона Мюнхгаузена, когда жители Городка подвиги совершали чаще, чем ходили в церковь. То была эпоха борьбы с закостеневшим капиталистическим прошлым, Собачовками, Шанхаями. В конце двадцатых на субботниках всем миром ломали бараки, землянки, сараи и шахтерские мазанки. Однажды сносили центральную конюшню. Стены покосились, крыша со скрипом и уханьем обрушилась и вдруг под ноги людям бросились тысячи крыс. Хвостатых тварей было так много, что на какой-то миг вся земля стала серой... То-то у девок была истерика...
Разобрав халупы и бараки по кирпичику, по досточке, горожане построили бульвары, кафе и танцплощадки. Несколько землянок оставили, накрыв их стеклянным куполом, — показывать пионерам. Думали, с прошлым покончили навсегда, но Шанхай оказался живуч. После войны вылез в другом месте, с этим же названием и духом. Его тоже перепахали и для верности, как осиновые колья, вогнали в его тело бетонные сваи... Но... Стоит отойти от бульвара и вот — стоишь на пороге своего умершего вчера. Ручьи шахтной воды, пробивающие себе русла в жужелке; в канавах ржавые консервные банки, разбитые бутылки, четвертованные тельца пупсиков, размокшие пачки сигарет, пыль, грязь, удушливый химический запах.
На календаре конец тысячелетия, а Шанхай, как тот аспид, переползает на новое место и скоро, Томас давал голову на отсечение, этот Коминтерновский тупик и все прилежащие улочки-переулочки возле гаражей, за гаражами поменяют свое название...
9 Горчишники
Тихоня вытер платком лоб, щеки и заметил, как из-за кустов сирени выкатилась ватага чумазых мальчишек. За ними брела маленькая чернявая девочка. Она медленно катила винтажную коляску, из которой торчала голова куклы.
Чертыхальски примостил на лице приветливую улыбку.
— Здравствуйте красавица. Как поживает...
— Элеонора. У неё болит животик, — насупилась девочка.
— А что так?
— Перепила.
— Водки?
— Не молока же.
— Вот незадача, — вздохнул Томас. — А как лечить будете?
— Идем в пивбар, там и полечим, — девочка показала на лежащую в коляске пустую банку из-под майонеза. — И не будет у нас болеть ни животик, ни головка. Правда, Элеонора?
Девочка, взяв куклу за шею, пропищала:
— Правда!
Томас присел на корточки.
— Красавица, а у меня тоже есть лекарство. Поделиться?
Девочка посмотрела на Томаса исподлобья и ответила тихо, чтобы не услышали бегающие неподалеку мальчишки:
— Какое?
Тихоня достал из кармана бумажник, расстегнул молнию, не спеша вытащил чистый лист бумаги, который обычно использовал для срочных записей.
— Держите. Это — горчишник.
Девочка двумя пальчиками взяла «лекарство» и приложила его ладошкой к животу куклы.
Томас продолжил:
— Если это не поможет, тогда я могу дать другое.
В этот раз ондостал две зеленоватые купюры.
— Ещё бумажки. Можно вырезать из них этого дядечку — это Франклин, — и наклеить на животик. Или на лоб Элеоноры. Поможет.
— Правда?
— Век воли не видать, — Томас клацнул ногтем по зубу и резким движением прочертил в воздухе букву «зорро».
— Красивые. Резать жалко, — сказала девчонка, разглядывая деньги.
Томас огляделся — на улице кроме детей и дворняги, пьющей воду из лужи возле колонки, никого не было.
— Можно вопрос, красавица? Вы не знаете, где живет Катя Молодая?
— Не.
— Или Екатерина — Катя — Катюха.
— Так это же тетя Катерина! Вы что, не знаете тёти Катерины?
— Почему не знаю? Знаю! Просто я забыл, где она живет. Был у неё в гостях поздно ночью, а вот днем потерялся.
Девочка развернула коляску и с недоверием посмотрела на смешного взрослого, который потерялся словно маленький.
— Давайте я вам покажу, тут недалеко.
Томас засомневался.
— К чему такие жертвы, вам ведь за лекарством надо?
Красавица улыбнулась.
— Я на пузико и на головку горчишник приклею и всё пройдет.
— Ну, разве так, тогда ведите, — сказал Томас и протянул руку.
10 Страшный дом
Девочка крепко схватила пальцы Чертыхальски и потянула за собой, решив устроить экскурсию. По дороге Томас узнал, что в сарае со скошенной крышей проживают дядя Леша и тетя Фая, а в хате с красной калиткой Славик, — мальчик из соседней группы в садике. Соседями у них совсем старенький дедушка Иван — он на войне ногу потерял. Ещё хозяйка куклы Элеоноры поделилась тайной: в страшный дом недавно вселилась семья. На вопрос, что это за такой «страшный дом», девочка показала пальцем: «А вот он».
На отшибе, между горой породы и свалкой в окружении зарослей стояла полуразрушенная халабуда. Видно в ней долго никто не жил: крыша напоминала щербатый рот, где вместо зубов торчали остатки плит шифера; стены подпирали толстые балки, но они помогали слабо — одна стена отошла и в любой момент могла завалиться; трещина змеилась по углу каменной кладки.
Томас удивился — интересно, за счет чего этот дом вообще держится? Казалось, дунь на него — и развалится. Нашлись же охотники на дармовую жилплощадь. Окна заколочены, во дворе бурьяны сорняков, наваленные гнилые доски, но видно, что дом занят: посередине двора расставлена мебель, тут же тюки с тряпьем, ящики, кухонный хлам, а рядом играют три мальца, из одежды только распятия на суровых нитках. Мальчишки с визгом гонялись по двору за мохнатыми щенками, а поймав, уже сами убегали от них.
На покосившееся крыльцо вышла высокая, худощавая девушка. Доски жалобно скрипнули. Черная юбка, темно-синяя в мелкий цветочек блуза с длинными рукавами. Черный платок и вороньи брови подчеркивали нездоровую бледность лица — в августе странно было наблюдать человека без загара.
Какое бы найти не банальное сравнение для её глаз? Колодцы? Два зеркала? Во! Нашел. Её цыганские глаза были как затухающие жерла вулканов. Они притягивали, манили, в них хотелось смотреть бесконечно. Когда Чертыхальски встретился с этой «попадьей» взглядом, ему стал понятен недавний приступ паники. Конечно же, он испугался не за пассажиров трамвая — это его подсознание подсказывало, что ненужно идти в этот тупик — здесь его подстерегает опасность! В ушах Тихони зазвенело, во рту пересохло — он даже пошатнулся. Но не это было самым странным! Томас вдруг почувствовал, что ему не хватает сил отвести свои глаза, и он не в состоянии разорвать невидимые щупальца, пытающиеся проникнуть в его нутро. Воля покинула его. Дальним громом послышалось приближение паники, как вдруг ему на выручку пришла девочка! Она начала дергать Тихоню за руку и громко шептать:
— Пойдемте, пойдемте!
Вздрогнул и невидимая связь разорвалась. Отшатнулся, попятился.
— Она калека. Только мычит и ничего не говорит. Ни «мама», ни «папа», — лепетала девочка, не замечая полуобморочного состояния Томаса.
— Они там все такие — нерусские.
Чертыхальски на полусогнутых ногах, ставших чужими и какими-то ватными, с трудом сделал несколько шагов прочь от страшного дома. Как только отвернулся, сразу же стало легче.
— Нерусские? — выдавил из себя охрипшим голосом, чтобы хоть что-то сказать.
— Ага. Чурки.
— Кто?
— Папа говорит — чурки.
Томас почувствовал во рту металлический привкус. Виски сдавило, накатила тошнота. Он опустил руку в карман брюк и скрутил кукиш. Как только он это сделал, в голове ясно раздался смех — похожий на старушечий — скрипучий, противный, торжествующий. С досадой подумал, вот оно — связывайся с чистенькими! Ещё и не приступил, а вороны уже вовсю кружатся!
11 Жерла зениток
Пройдя ещё метров сто, Чертыхальски оказался перед высокими железными воротами. С трудом поборов в себе желание оглянуться на страшный дом, он взялся за ручку калитки. Дверь была не заперта и легко открылась. Обернулся к девочке.
— Спасибо, красавица. Вот тебе ещё горчичников, — сунул в детскую ладошку пачку зеленых купюр, — отдашь маме. Папе не показывай. И никому не показывай. Это для мамы. Скажешь, дядя подарил на первое сентября. И попроси маму спрятать эти горчишники не в поваренную книгу — о ней папа знает — а положить в стеклянную банку с мятой. Это в кладовке. И это...
Томас засомневался... Он увидел, как мать девочки начинает приставать с вопросами, а почему, а зачем? А что ты такого сделала дяде, что он дал столько денег? А может этот дядя тебя трогал... Тихоня видел, как испуганная девочка, чувствуя мамин страх и не понимая сути вопросов, сбивчиво отвечает, а потом начинает плакать...
Но ничего, слезы высохнут, они всегда рано или поздно высыхают...
— ...Никому кроме мамы горчишники не давай. Запомнила?
Девочка кивнула. Томас подумал, что она сейчас невольно похожа на первоклашку, идущую в школу с такими вот необычными цветами.
— Положи в коляску, а то кто-нибудь увидит и заберет.
Подождав пока девочка спрячет деньги, Томас пожал ей руку, как взрослой.
— Спасибо.
— Пожалуйста.
— Разрешаешь к тёте Кате пойти в гости?
— Разрешаю, — ответила «красавица» важно и покатила коляску прочь.
Открыв калитку, Томас крикнул вглубь двора:
— Эй, хозяева, есть кто дома? Можно войти?
Послушал. Тишина. Никого.
— Молчание в данном случае можно расценивать как знак согласия, — прошептал Томас и вошел во двор.
Широкая заасфальтированная площадка. Заборчик, фруктовые деревья. Впереди низкий сарай с откидным окошком, куда засыпают уголь. Рядом с сараем ещё одна, ведущая вглубь двора, калитка. Прислушался — тихо. Сделал пару шагов к центру площадки, как вдруг из кустов коброй вылетела тень и ужалила. Тихоня, не от боли — от неожиданности — дернулся и заорал:
— От, бля!!! Твою мать за ногу!!! — Развернулся на каблуках. Мохнатый кобель, преграждая путь к отходу, скалил желтые клыки и утробно рычал. Его закисшие глаза блестели, как пуговицы на старом пальто — тускло и бессмысленно. Томас посмотрел вниз: кажется, ткань выдержала, пёс её не прокусил.
— Ну, ты и гад, я скажу — так напугать! — Тихоня, словно актер провинциального театра, двумя пальцами вытер лоб и стряхнул невидимые капли на землю. — Фух! Чего рычишь? От старости зубы растерял? Даже укусить нормально не смог. Полкан калечный...
Тут чуть второй раз за последнюю минуту у него не случился инфаркт — сзади раздался противный скрип. Чертыхальски снова развернуться, но уже в другую сторону.
Пред ним стояла Катя-Катерина-Катюха. Тетя Катя. Молода.
Томас приобнял её взглядом с ног до головы, особо не всматриваясь, но всё равно Томасу пришлось щуриться. Что поделаешь — сияние молодости. Чистое открытое лицо. Гладкие волосы, широкий лоб, глаза цвета морской воды на рассвете, — когда ветра нет, и волны стихли, — татарские скулы, красивые мягкие розовые с белесым пушком ушки. Губы тонкие, бледные — в них нет манящей сердце крови, но все равно такие губы хочется целовать. Белая шея. Покатые загорелые плечи. Просторное из дешевой ткани платье. Томас отметил, что под ним ничего больше не было — выделялись большие соски. На её левой руке лежит годовалый мальчик. Спит, приоткрыв рот. Светлые невесомые как туман волосы ребёнка взлохмачены. К виску прилипло арбузное семечко.
Хозяйка, придерживая калитку, шикнула на пса:
— Тихо, Барбос, дитя разбудишь.
Собака, перестав рычать, попятилась как-то боком, и скрылась под кустом, где, оказывается, стояла её будка — сразу и не заметишь.
— Испугались?
Улыбнулась.
Томасу пришлось на миг закрыть глаза.
Хотел ответить, но не смог — просто кивнул.
— Он уже старый, даже лаять разучился, скорее кашляет.
— Думаю, он всё правильно сделал, — Томас посмотрел на свою ногу. — Затаился, укусил, не дал сбежать. Напугал, наконец, — настоящий охранник.
— Поэтому нового и не берем.
Тихоня посмотрел на хозяйку и, сняв воображаемую шляпу, шепотом, чтобы не разбудить маленького, представился:
— Константин Петрович. Лисовский. Я...
Лисовского-Рокоцея-Чертыхальски прервало явление ещё одного персонажа — во дворик вышла девочка лет пяти-шести. Подойдя к маме, она что-то прошептала одними губами и тут же спряталась за её юбку. Тихоне показалось, что она сказала нечто похожее на"это не дикобраз и утопия". Дикобраз и утопия? Что значит дикобраз и при чем тут утопия?
Томас запнулся.
— Зачем же я пришел?
Он стоял с совершенно растерянным видом, не зная, куда деть руки. Был бы портфель, держать бы его впереди, как щит или, наоборот, завел за спину, чтобы видели — он ничего не боится. Рюкзак тут мало помогает. Пауза затянулась, и пора хоть что-то говорить, что-то делать. Томас поправил лямки, но все равно не смог выдавить из себя ни звука. В голове его вдруг зажглась вольтова дуга, соединяющая образы: падающий в преисподнюю трамвай и вопли несчастных, покосившийся старый дом; щенки, убегающие от голых мальчишек, и в самом конце — настороженный взгляд девочки, выглядывающий из-за юбки матери. Дикобраз. Утопия. А может, образ и подобие? Это не образ и не подобие? Она могла так сказать? Эта маленькая девочка? Что он, их гость, не есть образ и подобие. Конечно, нет! Наверное, они с мамой играли во что-то или смотрели мультфильм, где был дикобраз. Смешной с иголками. Но даже если и так, могла девочка предупредить маму, что дядя вовсе не дядя, а дикобраз? Кто поймет, как она его, Томаса Чертыхальски, видит?
— Вот что... Ах, да, — Тихоня покраснел от бессилия, понимая, что выглядит глупо, но ничего с собой поделать не мог. На выручку пришел старый проверенный приём — свел руки, соединив кончики пальцев.
Всё — можно говорить.
— Я в Городке недавно. Решил дом купить, осесть. А жена перебираться не спешит. Тут какое дело... Кто с тещей не жил — жизни не видел. Говорит, если переезжать, то всем миром. Я, Света и ещё два партизана... Им и трёх комнат будет мало, а тут ещё и теща, — пальцы разомкнулись и тут же слиплись, словно намагниченные. — Вот я и решил дом купить. Район у вас тихий, в центре. Удобно. Рядом с работой.
Катя перебила:
— Так чем могу помочь?
— Думал квартиру, — продолжал Томас, словно не слышал вопроса. — Присмотрел, договорился, цена божеская, но теща наотрез -она у меня из деревни. Говорит, в скворечнике жить не смогу. Фух, пока дошел, аж вспотел, — Томас, достав из кармана платок, промокнул лоб. — Жара стоит — мозги плавятся.
— Не понимаю. Я тут причем? — снова улыбнулась хозяйка.
Тихоня изобразил растерянность, вернее, ему казалось, что глупое выражение на его лице — это удачная актерская игра растерянности.
— Как причем? У вас самый приличный домик на улице. Я хочу поменяться... Или хотя бы посоветуйте, э... Где можно купить хороший дом.
Катя покачала головой и усмехнулась.
— Вы не по адресу. Мои знакомые и родственники не планируют отсюда уезжать. Мы тоже.
Голос её был низкий, густой, пробирающий до селезёнки. Томасу понравилось его звучание — так дикторы на радио звучат. Ему захотелось, чтобы Катя ещё что-нибудь сказала.
— Странно, а мне посоветовали к вам обратиться. Сказали, спросите Катерину из двадцать третьего. Как будто вы съезжаете.
Молода тихо засмеялась, прикрыв рот кулачком. Покачивая сына, ответила:
— Мечтать не вредно. Наверное, готовы сами мебель загрузить? Не дождутся. Так и передайте. А вам... Что сказать? Ищите в другом месте — здесь район для детей не подходит. У вас же, как я поняла...
— Хулиганы... Так и вы... У вас... Почему не съезжаете?
— В два слова не скажешь, — ответила Катерина.
Чертыхальски невольно признал, что когда она улыбалась, то словно исчезала в пространстве и на её месте возникала та самая точка, к которой стремятся все магнитные стрелки Земли. На эту женщину хотелось смотреть. Она была похожа на самый любимый сон или воспоминание об этом сне. Наделенная каким-то гипнотическим притяжением улыбка Кати вдруг сделала Томаса мягким, как ковыль, как мякоть спелого инжира, как девичий животик.
Если так дальше пойдет, то...
Пора с этим кончать.
Всё — слабость ушла.
Решимость.
Трезвость.
Воля.
Томас, уже не таясь и еле заметно дрожа — это от предвкушения, — посмотрел на чистенькую.
Что ему даст сие путешествие?
Приобретет ли он или потеряет?
Тоня всё верно рассчитала — слишком долго он мучал себя бесконечным ожиданием церемонии. Неотвратимость скорого финала вытеснила из его головы остальные мысли и желания, лишив удовольствий, а вместе с ними и самой жажды жизни. Ему нужна была хорошая встряска. Незачем врать себе — он же приехал за чем-то подобным! Окунуться в молодость, вернуть забытые запахи, снова ощутить вкус еды и... узреть краски чужих душ.
12 Сияние души Кати
Серое. Серое есть у всех. Здесь серость обыденна — как дождь за окном — лень перебирать. Праздность, лишний съеденный на ночь кусок булки, седьмая-восьмая, да кто там уже считает, выпитая рюмка...хлопок ладонью по спине дочки... Что притворяешься? А теперь поплачь по-настоящему! Снова алкоголь. Ей нельзя пить.
Серое — это жизнь.
Это сама жизнь.
Такая, как она есть.
Таким добром никого не удивишь.
Розовое...
Когда-то давно он любил препарировать именно розовое.
Никогда не понимал чужих пристрастий к серому и черному.
Но он не оригинален — не гурман. Розовое всем нравится.
Розовое — это Стыд...
Розовое — это смазка греха.
Стыд связывает крепче стали и давит тяжелее гранита. Кто не понял: сталь — это память, а гранит — кладбищенская плита, символ ожидания смерти.
Стыд — это одновременно и пряность: истинная приправа жизни.
У неё должно быть много розового, если верно то, что Томас о ней знает. Этой чистенькой есть что скрывать... Там есть, на что посмотреть.
Нашел...
Свежее...
Сияние этого заглушает все остальное...
Томас искал и увидел, как наяву.
...она никогда не трогала себя внизу, даже в девичестве — мешало строгое воспитание, — но после пробуждения плоти, ещё девочкой, она гладила свои груди и они у неё стали как... как... Её грудь отзывалась на любую ласку. Бьющие во все стороны молнии Теслы, наэлектризованный цеппелин «Гинденбург» перед взрывом... — это её груди.
Такого он никогда ещё не видел, но это было правдой.
Перед глазами Томаса поплыли карамельные разводы, небо стало багряным и по нему поплыли персиковые облака...
В голове зазвенело пронзительно, монотонно, потом начало гудеть, словно он попал в будку с генератором. Томас понял, что если последует вслед за конфетным, то придется снимать рюкзак...
Отвернулся и снова нашел. Вот оно, ослепительно-розовое, переливается, дурманит маковой пыльцой.
...она до сих пор кормит грудью. Сына. И ей приятно. Это не то чувство, когда мать отдает молоко, и освобождается от его бремени. Ей просто приятно. Очень. Она ничего не может с этим поделать. И из-за этого ей стыдно. Она думает, что это — ненормально. Поэтому розовое. Много розового. Карамельного. Сладкого. Вкусного. От такого сложно отказаться. Такое притягивает. Завораживает. Прилипает к пальцам. Въедается в кожу. Проникает в вены, отравляя тело и душу.
Чтобы выбраться из патоки удовольствия, необходима твердость и сила воли...
Раньше Томас не утруждал себя борьбой с милыми сердцу слабостями. Насыщался до изжоги, лакал чужой Стыд до беспамятства, но сейчас не пришлось прилагать много усилий, чтобы вынырнуть из розового. Как фермер выкорчевывает сорняки из пересохшей земли, так и он силой воли оторвал себя от поедания сахарной ваты.
Помогло разочарование.
Это и все? Это весь стыд?
А сотни мужчин? Её тело билось в конвульсиях, она сходила с ума, слепо покоряясь животной хищной страсти, и при этом не раскаивалась, не мучилась вопросом, за какие заслуги небеса или сама Природа одарили её таким счастьем.
Томас в глубине души признался себе, что когда понял, с кем придется работать, кого гладить за ушком, щекотать пяточки, то его уже тогда начало трясли от предвкушения. Ему не надо серого — оказывается, он только сейчас понял, как истосковался по розовому... Он хотел слиться с теми всеми её мужчинами, пережить нечто подобное... И вот такое разочарование — ведь её розовое слишком интимное, слишком женское, такое, что Томасу и за сто лет не понять, не принять. Это не его пастбище, это розовое даже и не розовое вообще...
Больше по инерции посмотрел в самую глубь и, уже ничему не удивляясь, понял — чёрного мало — здесь мрак надолго не задерживается. Поэтому чистенькая.
Чертыхальски-Рокоцей-Лисовский подумал, что пора уносить ноги. Поскорее. Здесь ему нечем лакомиться. Здесь ему не место. Всё что мог, уже сделал.
Пригладив волосы, Томас подмигнул девочке:
— Ну, я пойду? Извините за вторжение.
Было заметно, что Катерину что-то насторожило, но она продолжала улыбаться.
— Это вы извините. За Барбоса. Посмотрите, он не до крови?
— Нет, брюки целы. Не прокусил. Да и не хотел он кусать сильно, это он пугал.
— Может водички? Света, принеси дяде минералки.
— Нет, что вы, — замахал руками Томас.
— Не обижайте, спека така стоить.
Девочка убежала. Томас не успел ещё раз платком протереть лоб, как в его руке оказался высокий стакан с водой. Ощущая приятную прохладу стекла, Томас посмотрел на искрящиеся в солнечных лучах пузырьки. Наверное, когда минералку из бутылки наливали в стакан, она шипела.
Шипела...
Нехорошо, когда кто-то шипит.
Змеи тоже шипят.
Это всё ни к добру.
Валить надо.
Валить надо отсюда...
Выпил залпом.
Вытер губы тыльной стороной ладони.
— Спасибо, хозяйка. Пошел я хату дальше искать. Прощай.
— А вы не пробовали объявления читать? Газеты есть.
— У меня ещё несколько адресов припасено, вот, — Томас достал из кармана кусочек бумаги с телефоном. — Там, где я был в последний раз, послали сюда, но в любом случае, спасибо.
Чертыхалськи, переступив через порог, замер, обернулся:
— Вы бы калитку закрывали. А то мои знакомые вот так горя не знали, пока в один прекрасный день цыганский табор не заскочил. Пока выпроваживали, деньги и ордена дедушки стянули.
Сказал и вышел на улицу.
13 Противоположности притягиваются
В тот миг, когда Томас прикрыл за собой калитку, ему стало так легко, словно с его плеч свалился небесный свод. Он побрёл, куда глаза глядят, не обращая внимания на сидящего на заборе зло прищурившегося одноглазого кота, на расхаживающих по улице кур и петуха-красавца. Свадебный кортеж из дюжины разномастных породистых и не так чтобы очень собак промчался, чуть не сбив Томаса с ног, но он и этого не заметил. Не думая ни о чем, повинуясь внутреннему компасу, блукая, он снова вышел на развилку: свалка — старый террикон — дом с амброзией.
Чертыхальски сбился с шага.
— Что за херета? — спросил он себя, употребив не «шо», а «что» с мягким «ч».
Дом был пустым.
Если бы Томас не видел своими глазами, что в нем только что были люди, а во дворе навалены вещи и мебель, вон там, у зарослей рипея, играли дети, он бы подумал, что дом заброшен! Ни щенков, не «попадьи», ни белья на веревках. Даже этих самых веревок нет.
Томас подавил желание войти во двор, чтобы поискать следы. Подумал, что в другой раз обязательно — он любит загадки, — а вот сегодня, сейчас не надо. Куда угодно, но только не сюда. Но тут же выплыл встречный вопрос: а куда?
— Куда подальше, — ответил сам себе и пошагал прочь.
Он машинально переставлял ноги, не думая ни о чем. Это надо ещё уметь — оставлять свою голову абсолютно пустой. Почему он так разочарован? У эротомана забрали сладенькое, да? Да. Так и есть. Лишили. Отобрали розовое. А он, как тот мальчишка, уже таял в предвкушении.
Частные дома позади — начались хрущёвки. Томас шагал, так и не решив, о чем думать. О, все святые угодники на свете, почему его так плющит? Неужели эта черноглазая виной? От тварь паскудная... Сглазила. А дочка чистенькой добила своим дикобразом...
Когда Чертыхальски подошел к трамвайной остановке, он увидел нечто странное и при этом озадачивающее. На площадке между урной и скамейкой стоял мужчина годиков эдак за пятьдесят. Есть такое слово — «диссонанс». Это про него. По цветотеням, выпуклостям, по морщинам на лице было заметно, что перед Томасом стоял бывалый ветеран бесславных войн уничтожения декалитров. Наиболее выступающая часть лица вполне могла принадлежать Джузеппе, это который Сизый Нос. Лоб. И Сократу было бы не зазорно иметь такой лобище. А ещё Томас обратил внимание на уши — пухлые, с синими и красными ниточками, мясистые. Это было лицо. Одежда? Модные светлые шорты, явно дорогие сандалии на босу ногу и ослепительная по белизне и чистоте рубашка с короткими рукавами. Тонкий, темно-синий галстук (явно на резинке), подмышкой — коричневой кожи барсетка с кармашком для мобильного, из которого хвостиком торчала черная «нокиа». На запястье «омега». Томас подумал, неужели котлы настоящие?
Это оболочка и список актеров, принимающих участие в мизансцене, а теперь переходим к действию. Мужчина свистел. Стоял, прикрыв глаза, и не насвистывал, а именно — свистел. Звонко, ярко, явно наслаждаясь процессом. Дикое джазовое варево из Гершвина, Паульса, Шнитке и «Дип Пёрпл» подействовало на Томаса отрезвляюще.
Чертыхальски огляделся — вокруг, в эпицентре этого термоядерно-водородного музыкального взрыва — никого и ничего. Тишина. Город умер. Машин не видно и не слышно. Птицы перестали петь, ветер стих. Тихоню посетило счастливое ощущение, что мир в одночасье лишился самого недорогого: гудящих заводов, голубей, тарахтящих самосвалов, зануд людей, орущих магнитофонов, скворцов, дребезжащих трамваев. Здесь, на остановке, стояли только он и этот свистящий чудак.
Чтобы внести полную ясность и попытаться обрести ускользающий смысл настоящего, Томас посмотрел вниз — вдруг на земле лежит шляпа, или картонная коробка? Пусто...
Выпрямиться и поднять глаза Тихоню заставил вопрос свистуна:
— Уважаемый, а не выпить ли нам на брудершафт?
14 Только степь, только терриконы!
Если вы вернетесь на пару страниц назад, то легко найдете место, где я пишу о церемонии, и о том, что якобы Томас боится наступающих праздников. Сознаюсь, никудышный я мастер интриги — мне не хватает силы воли, чтобы особые истории припасти для финала или, наоборот, с них начать, тем самым придав рассказу особую многозначительность и таинственность. Наверное, если б я ставил себе цель родить бестселлер, то начал бы не с поездки Томаса на Ослике, а с событий, произошедших в декабре 1913 года далеко от Городка — в Бресте. Но, это было бы неправильно. Я не хочу подстраиваться под требования жадной до развлечений публики — у этой истории своя драматургия и нелогичный порядок сцен.
Сделайте героем романа пройдоху вора, ловкого сыщика, начинающего мага или командира звездолета и успех вам почти обеспечен. Хорошо писать об университетской профессуре, докторах, писателях и журналистах, спортсменах, художниках, охотниках и шпионах, гадалках и маньяках. Для полной верности поместите героя в какую-нибудь экзотическую страну эпохи перемен. Конечно, когда вы берете в руки книгу и с первых страниц переноситесь в венские салоны конца девятнадцатого века или солнечные пляжи Калифорнии тридцатых годов минувшего столетия, в этом есть свой шик. Викторианская Британия, пыльный Запад свободных американских государств эпохи переселения и войн с индейцами, пиратские кровавые будни, петербургские трущобы, дворцы аристократов, — да много ли существует времен, где нам бы хотелось пожить или скромно заглянуть за их тяжелые портьеры? Выпить рюмку кальвадоса в парижском кафе с эмигрантом, затянуться синим опиумным дымком с китайскими мудрецами, на утренней зорьке наловить форели или наточить гарпун, разобрать старинные рукописи в заброшенной библиотеке, трясущимися руками разорвать кружева, обнять пьяную проститутку, при этом нащупывая во внутреннем кармане пальто скальпель; опустить перископ, поднять швартовые, завести моторы, выучить заклинание, выкопать окопы — всё хорошо, всё интересно.
Но моя история не об этом.
Какая может быть прелесть в маленьком шахтерском городке? Улицы днем светлые — это так. Ночью темные — этого не отнять. Люди непростые. Запросы скромные. Кто вообще знает о существовании Городка-на-Суше, кроме его обитателей? Река и та уже давно высохла! Кому в голову придет идея снять здесь фильм или написать роман о нелегкой шахтерской судьбе? Такие истории и кинокартины в наше время не продашь, поэтому они неинтересны творцам. Но Томас жил здесь, здесь ему было хорошо, и в самый трудный час он приехал в Городок. Поэтому я не буду писать о его приключениях в Сибири и Дальнем Востоке, на югах, Кавказе и Средней Азии. Мне неинтересно монашеское житие Тихони в Киеве. Только степь, только терриконы! Бутылёк пива, игра в козла и подведенные углём глаза! И всё же без заморской экзотики не обойтись — скоро я буду вынужден рассказать вам о том, что должно случиться в Новогоднюю ночь с 1999 на 2000 годы, и как это событие связано с началом ХХ века.
Но пока...
15 Об выпить
— Уважаемый, а не выпить ли нам на брудершафт?
Радость от возникшего в свете последних событий желания была бы не полной без слов — Томас поднял вверх палец: «Только я угощаю!». На это предложение последовал нелепый по сути, но снайперски-точный в нынешней ситуации ответ: «No pasaran».
Зашли в магазин. Тихоня купил бутылку самого дорогого коньяку, охотничьих колбасок, плавленые сырки, пару «алтаек» и две минералки ноль-пять. Он хотел прихватить одноразовых стаканчиков, однако новый гость пропел: «Just a minute», — кивнул продавщице и, подняв загородку прилавка, исчез в подсобке. Через минуты три он вышел, держа в руке две мокрые рюмки.
Парочка быстро нашла место — рядом-то бульвар, а значит тень и скамейки. Присели. Томас раскрыл коробку, снял целлофан и откупорил бутылку, на этикетке которой было пять звезд. Налив по половинке, сказал торжественно:
— Я вас знаю. Вы, — Джузеппе.
Мужчина, смотря на кофейную приятно пахнущую влагу в рюмке, поплямкал губами.
— Даже так? It’s nonsense.
— А я — Дуремар.
— Why?
— Потому, что в этой жизни я ничего не понимаю.
Джузеппе поднял рюмку.
— За знакомство!
Выпили. Томас до дна, новый приятель только пригубил.
— Наверное, плохо быть Дуремаром, — сказал Джузеппе. — Папой Карло — куда ни шло, даже Буратино. Дерево, чего от него ждать? Ответственности никакой. Дуремаром — плохо.
— А Мальвиной?
— Мне уже поздно судить. Стар для этого.
— Арлекином?
— Посадят.
— Пьеро?
— С голоду сдохнуть можно. Или повеситься.
Томас вытряс капли из рюмки.
— Какой вы категоричный.
— Я правдивый, я правду люблю. Считаю, что быть Дуремаром это большая роскошь.
— Почему же?
— Это путь ленивых. У вас ведь мозги не заплыли этим, как его... слово, такое есть модное. О! Силиконом!
— Силиконом? Нет, — усмехнулся Томас.
— Значит, вы не Дуремар. Но и на философа-кокетку не похожи. Вы, наверное, погорячились.
— В смысле?
— Ищите что-то, а найти не можете. Это плохо, брести без толку. В жизни должна быть определенность, цель. Вот у вас...
— Томас.
— Очень приятно. Иван.
Привстали, пожали руки.
— Вот у вас, э-э-э, Томас, есть цель?
Тихоня налил по второй — себе половину, Ивану добавил пару капель.
— Есть.
Подняв рюмку повыше, новый знакомый произнес тост:
— Ну, тогда за наличие! Наличие цели в жизни! Вам ведома формула счастья? Я-то не знаю, но китайцы её вроде нашли. Счастье, когда есть кого любить, есть что делать и есть на что надеяться.
— Шикарный тост.
Выпили. Томас до дна, Иван пригубил.
Тихоня снял фольгу на сырке. Закусил.
— Потеплело... — прошептал он одними губами. — Жара, как в мартене. Это ж надо быть каким идиотом, чтобы пить в духоту...
— Коньяк — напиток благородный. Его можно пить всегда и везде. Этот вообще класс — «Ной», армянский. Закусывают такое персиком, вернее, нектарином. А колбаска и плавленый сырок гладко идут под портишок. Но сегодня мы не капризничаем, — сказал Иван, отправляя в рот половину сырка.
Томас заметил, что у соседа почти не было зубов, а оставшиеся готовились к скорой эвакуации.
— Вы коньяк предпочитаете другим напиткам или традиция? — продолжал Иван.
— Вообще-то уже не пью. Раньше — бывало, и даже более чем, а сейчас печень пошаливает. Последний раз по-настоящему правильно пил... Даже не помню, сколько лет назад. Не берет, зараза. Только перевод продукта. Хмеля нет — голова чистая словно линзочка...
Томасу вдруг захотелось объясниться:
— Наверное, всё свое уже выпил. Но вот дерябнул с вами и как-то в голове зашумело. Сразу. Непривычно...
— Это из-за компании. В хорошей компании даже вода превращается в вино, — ответил Иван. — А я люблю водку. Простую, по два семьдесят.
Томас забросил волосы назад, поморщился.
— Не, не моё. При позднем Брежневе уже почти не пил, а при Андропове и Черненке её, в основном, из картофельного спирта делали, а он, как известно, вызывает агрессию. Я же создание не злобное.
— Возражу. При Леонид Ильиче хороша была. Следили. Это потом испоганились. Но я и ту и другую кушал одинаково. Хоть попадалась иногда с таким ацетоновым послевкусием... Это как у чачи, если «голову» не выливать. Вы не задумывались, отчего у них так получалось? Где виноград, там понятно, но тут водка. Откуда там ацетон? Совершенно не по ГОСТу.
— Я в этом не разбираюсь, — вздохнул Томас.
— А мне приходится. Я вот на старости лет перебирать начал. То по нраву, это — нет.
— А что нет?
— Текилу, — лицо Ивана исказила гримаса отвращения.
— Какую?
— Ну, что апельсином закусывают. Думал, чего не идет, а потом прочитал — липа. Нет столько в природе этого дерева или кактуса, — что они там туда бросают, не знаю. Химичат. Для меня это — отрава, прямо как одеколон «Огуречный».
— «Огуречный»?
— Пробовали?
Томас отрицательно мотнул головой.
— Не. Только «Цитрусовый».
— «Цитрусовый» куда не шло, а вот «Огуречный» — первоклассная гадость. Давайте по третьей, — предложил Иван-Джузеппе.
— Давайте.
Тихоня себе налил половину, а собеседнику до краев.
— Тост.
— Валяйте, — кивнул Иван.
— Третий пьют за любовь. Так выпьем же за любовь. Во всех её проявлениях.
— Хорошие слова.
Выпили. Томас до дна, Иван пригубил.
Закусили сырком.
16 И закусить
Тихоня вдруг почувствовал, что с ним что-то стало происходить. Глаза слушаются, координация в норме, а вот с дикцией начались проблемы. Темп, интонация... Голова на месте, в настоящем, а язык как будто находится в прошлом и двигается медленней, чем обычно. Томас умел контролировать себя во время пития. Если хотел расслабиться, когда-то с бутылки косел, а так мог сутками пить, ведрами, по-русски, как геолог, нефтяник, охотник. Мог пить и оставаться при своей памяти, но в этот жаркий день, сидя на бульваре рядом с Иваном-Джузеппе, Чертыхальски вдруг захотелось напиться. Он начал загибать пальцы, считая годы, когда же последний раз позволял себе крепкое в нормальных количествах, но так и не вспомнил. Споткнувшись на цифре двадцать три, его мысли стали путаться. Только копнул могилу памяти, как оттуда повалили такие пугала и начали так верещать, что Тихоне сразу же пришлось закрыться. Зажмурил глаза, прижал ладони к ушам, дожидаясь, пока в голове стихнут крики и стоны. Когда настала долгожданная тишина, Томас с облегчение выдохнул и вытер пот со лба. Поставив на колени рюкзак, он вытащив из его внутреннего кармана кинжал с красивой ручкой, протер лезвие платочком.
— Старинный, — уважительно отозвался Иван.
— Целое состояние. Мой талисман, — ответил Томас.
— Что за зверь?
— Думал, слоновая кость, но мне объяснили — это бивень мамонта.
Оказалось, что талисман может служить и в практических целях. Тихоня ловко нашинковал колбаски, оставшийся сырок и алтайки. Покончив с готовкой, они, наконец, принялись закусывать по-настоящему. После драников, казалось, Томас должен быть сытым, но последние минуты ему дались очень тяжело, и проснулся дикий аппетит.
— А у вас есть цель в жизни? — спросил Чертыхальски с набитым ртом.
— Конечно! И очень простая. Моя цель — ощущение радости.
— Как это? — Томас даже перестал жевать.
Иван-Джузеппе откинулся на спинку скамейки.
— Ну, как? Вот я уже давно должен был умереть. Печень, почки и всё такое. При моих болячках люди долго не живут. Но пока меня не прибрали. А раз я там не нужен, — он показал пальцем на небо, — почему бы мне не порадоваться? Лето, скоро осень. Я радуюсь тому, что просыпаюсь в своей постели, смотрю в окно, завтракаю. Живу. Каждый день я достигаю своей цели, и кто знает, может, поэтому ещё топчу землю-матушку. В сей благословенный час я сижу в теньке, в руке у меня бокал с чудесным напитком, из-за которого меня ждет запор, но это завтра, а сегодня я купаюсь в радости! Передо мной сидит человек, с которым можно поговорить и, заметьте, — я не исключаю такой возможности — даже выпить на брудершафт.
Томас поставил рюкзак на землю. Решив внести ясность, спросил:
— Получается, у вас не глобальная, ну, там... Мир во всем мире, посадить дерево, построить дом, отлямурить диктора Центрального телевидения... А локальная цель?
— Получается, так.
— Но как можно соединить несоединимое?
— В смысле? — брови Ивана полезли вверх, образовав глубокие волнистые складки, отчего лоб стал похож на стиральную доску.
— Радость продлевает жизнь, водка — укорачивает. Вы, несмотря на болячки, пить не бросаете.
— А зачем? Когда-то я пил. Как надо пил. Не мог успокоиться, пока существовала любая спиртосодержащая жидкость в эпицентре пяти километров от меня. Но однажды я прозрел. Спросил себя, зачем я пью? Ответ был такой: «Чтобы мне было хорошо, чтобы мысли связно ложились на язык, и можно было поговорить по душам с хорошим человеком. Чтобы заботы, горести, страх и стыд не мешали дышать». Вот каким умным я тогда был. Список можно продолжать, не хочу рекламировать питие. Так вот, я себя спросил второй раз, а зависит ли удовольствие пития от объемов выпитого? Ответ — зависит. Прогрессия геометрическая, но, к сожалению, со знаком минус — чем больше пьешь, тем хужее. Это слово я употребил, как употребил — хужее. Тоска накатит так, что, извиняюсь, «блювати охота». Это слова не мои, а моего покойного деда Коли с Полтавы. По маминой линии. Вот тогда-то я и понял: чтобы получать радость, надо пить, но не литрами, а рюмками и не больше одной в день. Только с хорошим человеком. Не с утра, а то коровы ещё не пили, а мы уже... После десяти, но лучше после двенадцати. Заканчивать в шесть. Тогда голова утром не болит. Есть ещё одно обязательное правило — закуска! Закуска — всему голова.
— В один день? Вот так взяли и решили?
Иван похлопал себя по карманам шорт, словно искал сигареты.
— Если честно, то нет. Как-то я был в вынужденной завязке: аппендикс вырезали, с осложнениями, инфекцию занесли. Болел сильно, даже на том свете побывал, но вычухался. Потом жена оборону взяла — на порог больнички никого с гуманитарной помощью не пускала. Капельницы-капельницы... Так я не пил около месяца. Жонка, когда я оклемываться начал и своими ногами ходить, снова на измену. Давай, говорит бабку приведу, дедку, а я возьми, да и скажи, сама мол, поди и закодируйся.
— Пила?
— Не. С этим делом как все — по праздникам. Она у меня на диетах сидела. Лет под сраку, а туда же. Я говорю, ты пойди, пусть нашепчут от полноты, всё же не такие мучения, а если поможет, я поддержу.
— И?
Иван-Джузеппе, разломав мякиш алтайки, отправил небольшой кусочек в рот, пожевал.
— Нашла мужичка. Был у нас такой, в спортивном зале техникума принимал, на вас чем-то похожий. Высокий, худой. Руками водил. Приходит она, а у колдуна приём. Мужики и бабы стоят посреди зала и тоже руками машут. Как деревья. Жене говорит, подожди немного, сейчас закончу. Вот она и села в сторонке на лавку, таращится. Когда колдун тех распустил, принялся за жонку. Не дорого взял.
— И как?
— Не помогло — не похудела. Вот только с тех пор, что не съест, хоть на ночь, хоть за ночь, восемьдесят четыре с половиной, как часики. Но, главное — после той лавочки в рот ни капли, даже запаха не переносит. И это полбеды. Меня-то через жонку ведь тоже задело. Теперь, хоть разбейся, больше рюмки не лезет.
Томас с удовольствием посмеялся.
— Бывает. Надо запомнить эту историю. Как у вас складно получилось. Всегда бы так.
— А у вас нескладно?
— У меня нет, — вздохнул Тихоня.
— Чего же?
— Не знаю. Сегодня плохо, а завтра чую, будет ещё хуже.
— Это потому, что вы Артемон, — во взгляде Ивана не было и намека на шутку.
— В смысле?
— Я доказал, что вы не Дуремар? Вы с этим утверждением согласны?
— Допустим.
— Значит, вы — Артемон.
Иван внимательно посмотрел на Томаса, гадая, произвел ли его диагноз впечатление.
— Знаете, русские горки, американские горки, вверх-вниз. Вся эта бессмысленная беготня. Сегодня туда, — Иван поднял указательный палец вверх, — а завтра сюда, — теперь он показал древнеримский жест «а ля муэрте».
— Я думаю, Артемоном быть не так плохо как Дуремаром, но не намного лучше. Последний ничего не понимает и от этого несчастлив. Жизнь рядом протекает, а её не потрогать, не пощупать, так как хочется. Дуремар несчастлив. Оттого и пьет, бьет близких. Убивает себя и все, что любит. Все это от недостатка ума. Я знаю, сам был таким когда-то. А вот Артемон — это мастер перфоманса, но не созерцания. В душе он — старый лис. Многое знает, ощущает, образован, начитан, но ему не хватает... понимания. Вникнуть в суть вещей, событий... Он не может отличить сострадание от жалости. Он то радуется, то печалится, то важничает, то поучает дуремаров. Ему вроде и всё ясно, но только на расстоянии вытянутой руки. Перед ним всё красиво, все понятно, а дальше? А за горизонтом? Что там? А там — мрак, туман и страх. Сильный, уверенный в себе Артемон красив. На него можно положиться, его любят женщины, но он бежит, и не догадывается, вернее, догадывается, но боится себе признаться, что его дорога хоть вниз, хоть вверх, имеет одно направление.
— И куда?
— В ад.
— Куда? — Томас чуть не поперхнулся.
— Туда, — вздохнул Иван. — Какая разница, вверху ты или внизу, если конечная остановка известна?
— И все аретмоны попадут в ад? — усмехнулся Томас.
— Все.
— И если я, допустим, артемон, то мой удел — ад?
— Да!
— Сударь, вы безжалостный человек.
— Почему?
— Вы обо мне не очень-то хорошего мнения. — Томас ухмыльнулся. — Думаю, за полчаса нельзя человека узнать, чтобы получить право судить так строго. Я вам говорю, что имею цель, к ней стремлюсь. Но не собираюсь делиться, что это за альфа и омега, хорошая ли она или плохая. А вы так, ррраз! — Томас поставил скамейку на воображаемый ручной тормоз, — и меня в Кур отправляете. Это поверхностно, несерьезно.
— Не обижайтесь, — грустно улыбнулся Иван. -Мне хорошо с вами. Вы мне глубоко симпатичны. Я не имею ни малейшего желания вас обидеть. Но! Для начала с вашим, заметьте, не утверждением, а предположением, что нельзя судить человека по истечении тридцати минут, не соглашусь. Я не хочу спорить, просто прошу вспомнить, сколько раз в своей жизни, вы после первых пяти минут общения давали человеку оценку? Вот этот — идиот, тот — скупец, а третий — пройдоха. Бывало?
— Бывало.
— Мы говорим о пяти минутах! А за полчаса можно человека узнать, осудить, выкинуть и забыть о нем.
Томас помолчал.
— Вы знаете, — сказал он тихо. — Когда других касается, это легко, но если применить к себе... В этом что-то есть.
— Конечно! Давайте выпьем!
— Давайте.
Посмотрев на полную рюмку Ивана, Томас поставил почти пустую бутылку на лавочку. Посмотрев по сторонам, заметил проезжавшего на велосипеде мальчишку лет тринадцати.
— Эй, помазок, можно на секунду?
Велосипедист, лихо развернувшись, подъехал к скамейке.
— Дружище, — Тихоня достал из бумажника несколько купюр. — Не в службу, а за деньги, привези нам, пожалуйста, во-о-он из того магазина ещё одну бутылочку, во-о-о-от такого коньяку. Сдачу оставь себе. Хорошо?
Парень кивнул, взял бумажки и понесся дальше.
Томас посмотрел мальчишке вслед и с горечью сказал:
— Не пойду я сегодня ни к каким токарям-слесарям. Что я на Машзаводе не видел? Ну, сидит такая из себя девчушечка, то с пламенным взором, то негой тронутая. Ямбы да хореи. Оно мне надо? Оно мне всё это надо?!
Тихоня повернулся к Ивану и замер, как будто увидел его только что.
— На чем мы?
— Мы говорили о теории относительности. Время, грех, право судить и всё прочее.
— А вы думаете, что мы не имеем права судить? Я что, по вашему мнению, не имею права судить вот этих, — Томас неровно обвел руками вокруг, — людишек?
— Нет, — ответил Иван.
— Почему? — В голосе Томаса прозвучало раздражение, даже обида.
— Знать, кто куда попадет, и осуждать людей за это — разные вещи. И большая ответственность. Все мы грешники. Как я могу судить, к примеру, вон ту дамочку?
Томас развернулся.
— С шикарным декольте?
— Она большая затейница. Это страшно, но только для неё самой. Я не имею права бежать около неё и голосить: «Шлюха такая-то, растакая-то! Дёготь, перья, осиновый кол! Ты попадешь в преисподнюю, там тебе и место!». Я так не скажу. Думаю, это её проблемы, это её выбор. Её жизнь. Она идет к любовнику, и сегодня у них все получится,
Томас хмыкнул:
— Вы думаете? — он повернулся назад, ещё раз посмотрел женщине вслед. — Ты, смотри, получится.
— Но дамочка утром проснулась не зря, — Иван хитровато прищурил левый глаз. — Она узнает о своих близких некую тайну, и если будет вести себя правильно, то у неё сегодня может настать главный день в жизни. Сегодня, сейчас она на перепутье, и ближе, да-да, ближе к ясности, чем к греху. Я, знаете ли, оптимист. Думаю, у неё все будет хорошо. И у вас тоже всё будет хорошо. Я верю.
— О чем вы шепчите? У неё муж, дети, — усмехнулся Томас, отправляя добрый кусок алтайки в рот.
— Ну и что?
Тихоня потянулся — было слышно, как заскрипели его косточки — зевнул.
— Это грех. А где такой грех, там розовое.
— Радость, счастье — не грех, — отрезал Иван. — И вообще у нас, чтоб вы знали, нет гулящих. Уникальный город! Наши девочки, если и захотят найти жениха на ночь, сделают это так... красиво... Не допуская никаких грязных мыслей, что просто диву даешься. Умницы.
— А проститутки?
— Что проститутки? — переспросил Иван. — Проститутки — это пролетариат. Чем они отличаются от тех, кто ходит на работу за жалование? Процесс такой же. Кому мозги, кому тело, но хуже всего, когда совесть... Я на севере был на заработках. Автослесарем. На дворе полярная ночь, минус тридцать, а я в ванной с солярой запчасти от масла отмываю. Рук не чувствую. Когда после работы идешь к умывальнику, в голове одна мысль — устроиться актером в порнофильмах сниматься. Тепло, светло, никакой грязи под ногтями. Вокруг приятные лица. Ну, тут кто на что учился... Если же вернуться к обладательнице декольте, кому розовое, а кому и волшебный пинок для раскаяния. Пусть порадуется.
— Ми-ну-то-чку! — Указательный палец Тихони двигался подобно метроному. — Радость бывает...
— Чистая и черная, — не дал завершить мысль Иван. — Поэтому надо уметь, как наша дамочка, находить именно чистую радость.
Томас посмотрел недоверчиво.
— То есть, вы хотите сказать, знаете, где она зарыта?
— Чистая? Знаю.
— Ну и где же?
Иван ударил себя в грудь.
— Тут. Там, где, если верить анатомии, у людей расположено сердце.
Тихоня, пожав плечами, поднял рюмку.
— Что мне сказать по этому поводу, господа? Я хочу выпить за моего нового камрада, Кожаного Чулка. Поверьте моему богатому опыту, не каждый следопыт может найти путь к светлой радости. Салют, прозит, на здоровье! — отпил, оставив пару капель на донышке. — Кстати, хотел спросить, а почему вы свистели? Что это было?
— Ну, — Иван снова похлопал себя по карманам. — Да, точно нет... Я с недавних пор полюбил музыку. Инструментами не владею — на рояле играл, но только в преферанс... На крышке. В преферанс... Купил губную гармонь... Оказывается, на ней хорошо выходит и без специальной подготовки... А вот сегодня я её забыл дома. Вообще, у меня такое бывает. Как нахлынет! Душа поет. А тут стою, жду трамвая, и чувствую, вот оно — прилив. Ну, я и начал свистеть. Понимаю, со стороны выглядит дурацки, но это сильнее меня.
Томас вылил себе остатки коньяка и убрал бутылку — держать пустую тару рядом с полной рюмкой он считал плохой приметой.
Вдруг Тихоня сделал открытие:
— Надо же! Я чуток окосел. Забытое приятное ощущение.
— Это из-за приятной беседы, — кивнул Иван. — Хорошо сидим. Причащаемся к природе. Преломили хлеб, испили благородного нектара. Я ведь главного не сказал. Не могу больше рюмки выпить не потому, что не хочу. Просто мне для вхождения в нирвану надо всего-то сто грамм и всё. Вот такая экономия средств.
— Счастливый вы, как я погляжу, человек, Ваня. Довольствуетесь малым, на том свете побывали, бременская прописка...
— Не буду отрицать.
Томас, запустив пальцы в волосы, их взъерошил и стал похож на рок-музыканта из семидесятых.
— Вот скажите, почему так выходит? Посмотришь на весь народ — грешники такие, перо сотрется записывать эту серость. С каждым годом страшнее и страшнее. Средние века — ясли-сад по сравнению с этим кошмаром. А сейчас что? Попов и пасторов, конечно, снова развелось, да только молятся они, хе-хе, больше Онону, а не тому, кому следовало б! Люди забыли значение слова «прихожанин». Посмотрите: по стране бычьё, сволочи, ворюги. Не люди — черви! Через одного клятвопреступники, убийцы, насильники. Я уже не говорю про лень, глупость, зависть. Зависть — вот чума нашего времени. Не здесь, тут народ как-то попроще, а у себя дома, где жил последние годы, я такого насмотрелся, натерпелся... Поедом жрут-жрут друг дружку, а нажраться не могут. Столица! Вот взять бы всех скопом, и, не откладывая, к... — Томас запнулся, — ...Тоне на сверку, и дальше — в тартарары!
Вздохнул, растер ладонями лицо. Посмотрев на Ивана, хохотнул:
— Но стоит только выпить, закусить, поговорить с одним случайным человеком. Заглянешь в его музыкальную душу, и всё вдруг выходит совершенно под иным коленкором. Мерзость подноготная рассасывается, чернота растворяется, бытовуха опадает как кленовые листья в ноябре, и проступают ирония, юмор, простота и грусть человеческая. И думаешь, за что вас судить, убогих, юродивых? Вы так чисты в своем неведении... Мать честная... Святые угодники! А как же сияют ваши души, когда вы счастливы! О, какие цвета, какие переливы! Что там радуга, что там... Откуда вы, Ваня, взялись, такой, а?
— От мамы и папы.
— И что теперь прикажите делать мамин-папин? Жить ведь сейчас невозможно стало.
— C’est la vie.
— Bonne réponse Rien de significatif, et tout expliquer. Les Français ont ce dicton pour toutes les occasions, — сказал Томас . (Хороший ответ. Ничего не значащий, и объясняющий всё. У французов эта поговорка на все случаи жизни).
— «C’est juste que les Français font d’abord, et ensuite ils pensent.» S’ils ne trouvent rien, ils disent — - c’est la vie. (Просто французы сначала делают, а потом думают. Если ничего не придумают, говорят «се ля ви», — пояснил Иван.)
— А славяне? — спросил Томас.
— Это какие? Те, кто рядом с Аттилой воевал? Кто хотел Рим сковырнуть? Те говорили: «Иду на вы». Кто от монголов не обухом, так плетью отмахивался, говорил: «Чужого не имай!». А те, кто сейчас привык родину пропивать и просирать, говорят...
— Авось? — попытался угадать Томас.
— Нет. «Авось» у нас как аминь, как «утро вечера мудренее». У пропивак и просирак другой девиз. У них главное слово — «дай», не «заработаю», а «дай».
— И что, дают?
— Дают, куда же деваться? Только зря. И не по тому месту.
Томас увидел ещё одного парня на велосипеде. Повторив заказ, вздохнул.
— «Заработаю», «дай». Не люблю говорить о политике. Уж, поверьте мне на слово, там людей нет. Как мог бы сказать Николай Васильевич, там бес на бесе и бесом погоняет.
— А я не про политику — про нас с вами, — уточнил Иван. — Что для вас легче, дать самому или получить — не люблю этого слова — «халяву»?
— Ну-у-у... Я вот только что вручил двум мальчишкам деньги, — Томас почесал кончик носа. — Может кто-то из них и купит мне бутылку, а может и нет. Получается, я даю.
— Нет, это не так. Позвольте в данном случае с вами не согласиться. Вы не даете, вы спокушаете. Если бы вы...
Тут к скамейке подъехал велосипедист-второй с коньяком. Забрав себе честно заработанную сдачу, сказал спасибо и поехал дальше.
— ...если бы вы просто отдали деньги, это было бы честно, а так — грех.
— Нет, я с вами не согласен. Поверьте, ну одарил бы я первого мальчишку. Он что купил бы себе книжку? Нет. Он побежал бы за сигаретами, вином «777» и устроил пьянку с друзьями. Вот это искушение. А так я даю возможность заработать. Я предлагаю за услугу взять деньги и не виноват, что этот прохиндей стал вором.
Иван согласно покачал головой.
— Да, наш герой предпочел просто взять. Всё взять. Это яркая наглядная иллюстрация моей теории о пропиваках и просираках.
— Не так категорично, я бы добавил — подрастающая иллюстрация.
— Неужели?
Томас, сняв прозрачный колпачок, открыл бутылку. Доливая в свою рюмку, усмехнулся:
— Было пять звёзд, добавляем три — получается фирменный купаж. Называется — «восемь звездочек»... Так вот, вернемся к нашему предмету. Я не о парнишке, у которого с арифметикой всё в порядке — такая бутылка дешевле, а значит и сдачи больше... Я — взагали. У каждого человека в жизни есть отправная точка...
Томас, засунув нос в рюмку и, вдыхая спиртовые с ванильной ноткой пары, продолжил:
— Обычно это бывает в детстве. Вы так хорошо рассказывали про дуремаров и артемонов... Не буду анализировать данную шкалу ценностей. В ней что-то есть, пусть излишне категоричное, безысходное. Но это присуще всем людям — делить мир на черное и белое. Я, — Томас положил руку себе на грудь, — на человека смотрю под другим углом. Вы думаете, начинаете жить с того момента, когда из чрева выходите на свет? С первого крика? Ошибаетесь. Человек в детстве — это ангел, безгрешное создание, к нему не подступиться.
Томас медленно выпил «восемь звезд» и, занюхав булкой, продолжил:
— Но есть любители сочненького — я их про себя называю ловцами. Это высший пилотаж! С херувимчиками работают только мастера. Они выискивают, выжидают, вынюхивают ту отправную точку, когда дитятко стоит на перепутье. Оно ещё пахнет снегом и радугой, но уже понимает, что такое хорошо и плохо. И вот тут-то настает самое главное. Вокруг дитя начинают плестись сети. Цепочка простых событий приводит его к ситуации, где надо сделать самый главный в жизни выбор — согрешить или победить соблазн. Этот выбор и есть таинство рождения. Все слышат, как плачет только что появившийся на свет младенец, но никто не видит рождение Человека. Кроме, естественно, ловца, а может быть и ангела-хранителя... В коего я, сознаюсь, не очень-то и верю. В момент выбора происходит Большой Взрыв, Крик или Чих. От первого шага зависит, быть ли ребенку великим грешником, или попасть в миллиардное серое варево. Кстати, не обязательно тот, кого спокусил ловец, станет пропащим. Я даже могу открыть великую тайну. По статистике многие уступившие, в конце-концов, чаще всего ускользают от нашей отчетности. Воспоминание о первом осознанном грехе остается с человеком на всю жизнь. Вы, скорее всего, с возрастом забудете о первом сексуальном опыте — многие это хотят сделать специально — но будете помнить задушенного котенка или упущенную возможность украсть у соседа часы. Ну, что на это скажете, Ваня?
— Я скажу, что уже почти пьян, — последовал ответ.
Томас, посмотрев на его ополовиненную рюмку и почти полную бутылку, усмехнулся:
— А я ещё нет.
После этого он, откинув голову, из горла влил в себя весь коньяк. Без остатка. Иван уважительно кивнул и с серьезным выражением лица, каким славятся интеллигентно пьющие люди, крякнул:
— Догоняю!
Томас поставил пустую бутылку на асфальт, затем, откинув дирижерским жестом волосы со лба, нараспев сказал:
— Как дракончика в животик запустил. Надо водичкой залить, — открыл минералку. — Да, хорошо сидим.
Иван подсел ближе и положил руку Тихоне на плечо.
— Томас, я правильно вас назвал? А то у меня плохая память на имена. Только поздороваюсь, познакомлюсь, и тут же забываю. Но вас запомнил. Томас. Необычное имя. Красивое.
— Да, необычное. Это интересное имечко мне дали мои горячо любимые родители. В Эстляндии когда-то это имя обозначало смерть, чуму. Говорили, вот придет Черный Тоомас и заберет.
Иван поморщился, как от кружка лимона на языке.
— Не знаю я никаких ваших страшных эстонских сказок! Но про Тома Сойера читал. Кота, этого, ну, который с мышонком воевал... Да, мало ли ещё весёлых Томов и Томасов есть на свете? Ты, знаешь... — Иван протянул руку, — давай, если можно, на «ты»?
Тихоня кивнул и крепко ответил на рукопожатие. Одна из его граней разума сейчас захлебывалась от счастья: Томас понимал, что в этот день, в этот час, его, наконец, одолел спирт. В теле разлилось тепло, мысли путались, мир вокруг приятно покачивался. Вторая грань отвечала, что это достаточно странно. Раньше, сколько ни пытался, водка, коньяк и самогон шли, как водичка... а тут какой-то литр свет выключает. Что же произошло? В чем секрет? Опять чернявую винить? Третья грань возражала, что незачем изысканиями портить себе такой долгожданный праздник. Если начал пить, то продолжай!
— На «ты»? Давай, — сказал Томас и по-иному взглянул на нового камрада. Четвертая, пятая, седьмая и шестнадцатая грани разума с удивлением отметили, что опьянение мешает хорошенько рассмотреть собеседника, но ясно одно: «тише-тише» в нём нет. Ну, и ладно — отдыхать, так отдыхать! А Иван в это время продолжал:
— Ты, знаешь, я часто встречаюсь с людьми. Выпиваю, разговариваю. Меня не понимают. Го-ворят, издеваюсь. Как можно от рюмки окосеть? Ну, если мне и этого хватает? Говорят, ты, Иван, сволочь — чистеньким хочешь остаться. Всё о радости говоришь, а нет её, этой радости. Это они так говорили — не я. Они. Иногда били. Меня били! По лицу, по голове, по всему этому, — Иван по-медвежьи облапил свои бока. — Мне было больно. Тут ты прав. Злые, грубые, темные. Мне их так жалко!!! А вот с тобой хорошо. Томас, с тобой — хорошо! Говоришь ты непонятно, даже страшно, а хорошо! Я тоже страдаю, мне тоже больно. И хорошо.
Томас отодвинулся.
— Чистеньким назвали?
Вдруг его начало куда-то нести, а потом скрючило пополам, затрясло. Чертыхальски смеялся долго, страшно — невозможно было остановиться. Он просил прощение, но тут же начинал ржать с новой силой. Было видно, что смех ему дается с болью, что это скорее пытка, а не веселье...
Не буду подробно описывать то, как Томас сидел на скамейке в обнимку с Иваном-Джузеппе, и как они признавались друг другу в любви, пели дуэтом «Катюшу», «Подмосковные вечера», «Love story», «Солнечный круг», «My way» и «Hey Jude». Особенно прочувственно у них получилось спеть пахмутовские «Как молоды мы были». Во всю силу голосов вывели «первый та-А-А-айм мы уже отыгра-А-А-ли» и шепотом «ничто на земле не проходит бессле-е-е-е-едно»... Каждому досталась любимая строчка. Иван тянул «как искренне любили», а Томас завершал «как верили в себя».
Их завывания привлекли любопытную компанию. К лавочке подошли Ник Кейв и Пётр Налич, которые в этот день каким-то чудесным образом прогуливались по бульвару Димитрова, обсуждая запись новых альбомов. Так совпало, что у них была гитара. Дальше пели уже на четыре голоса. Необычно получился «Владимирский централ» — акцент Ника придавал песне особый шарм.
Потом Томас достал Клаву и они с Иваном пили квас на брудершафт и троекратно целовались.
Когда за Иваном приехал джип «чероки» с ребятами из Пятихаток, Томас не захотел отпускать своего нового друга. Без прелюдий сцепились, но узнав, кто чего стоит — парням крепко досталось — как-то все сразу успокоились. Поговорив по-хорошему, все-таки усадили Ивана-Джузеппе в машину, и он поехал домой. Ник и Пётр ушли, оставив Томаса в одиночестве. Он покрутил головой, но велосипедисты вокруг перестали ездить. Хотел сам пройтись до магазина и не смог — ноги почему-то не слушались. Тихоню захватило уже забытое ощущение какой-то детской неспособности делать элементарные вещи. Одна из граней его разума подсказывала, что происходит нечто странное, необъяснимое — он не мог так опьянеть с литры коньяку. Наверное, здесь вмешалась какая-то потусторонняя сила, иначе как объяснить почти мгновенное исполнение желаемого? Вот захотел опьянеть и на тебе — получайте!
Чтобы побороть слабость, он растер уши и, дожидаясь ясности в голове, посидел какое-то время, дыша полной грудью. Все грани разума одновременно разговаривали между собой и коллективом пришли к выводу, что, скорее всего, виной его слабости стал долгий перерыв в употреблении спирта. Да, именно так. Ну и жара конечно.
В момент краткого просветления разума Тихоня в рюкзаке нашел телефон. Это было маленькое чудо — Томас не помнил, когда его взял. Память в этот момент подсказала, что у него есть дом и пора искать ночлег, а то пруссаки не дремлют, и не поленятся воспользоваться шансом найти обидчика великой нации — самого Томаса Чертыхальски.
Включив мобильный, он нашел «входящие» и нажал на первый попавшийся номер. На той стороне тут же ответили.
— Да.
— Pronto. Это кто?
— Хлеборез.
— Ро-о-о-о-о-о-ма-а. Какими судьбами, Ро-о-о-ома-а? Как тебе после нашей встречи? Спишь хорошо? Эх, Ро-о-о-ома... дурак же ты. Аме-ё-о-о-ба.
В трубке зашелестело.
— Вы где, Томас?
— Хрен его знает.
— Посмотрите по сторонам, что видите?
Тихоня покрутил головой.
— Вижу, как всё летит в закуды... закудыкину гору.
— Томас, где вы стоите?
— Я, вообще-то сижу. Не надо передергивать!
— А где сидите?
— Ну, ты и тупой, Рома. На скамейке.
— Где скамейка стоит?
— О, понял, это — игра! Я люблю игры. Я на скамейке, скамейка на бульваре, бульвар в городе, город в стране, страна в яйце, яйцо в утке, утка у меня в руках... А я сижу на скамейке. И так до бесконечности, Рома. Всё в моих руках, наших руках, сволочь ты эдакая, конченная. Но ты же ничего не поймешь из того, что я говорю. Тебе не дано узнать, какая это ответственность, какой... ик. Вот что мне с вами всеми делать, а? На хера вы мне все сдались, а? Ракушки! Тут с собой бы разобраться... А то всё на потом, на потом...
В трубке снова что-то звякнуло и зашелестело.
— Я понял. Никуда не уходите. Сейчас вас заберу.
Через пять минут к бульвару подъехала машина. Из неё вышел Хлеборез, Витя и Алеша. Когда они нашли поверженного жарой, коньяком и недосыпанием Томаса, тот мирно сидел на лавочке, задремав. Но стоило им подойти к Чертыхальски, тут же мгновенно материализовались два крепеньких паренька. Поговорили. Когда точки над «ё» были расставлены, охранники от Крымского дали адрес, куда надо везти их клиента. Раскланялись почти приятелями.
Эту ночь Тихоня провел в своей постели.
17 В походе за фресками
Утром следующего дня Томас встал в шесть утра и, шатаясь на поворотах, прошел на кухню. Попив водички, он вернулся назад и снова лег. Леся проснулась. Встав с кровати, умылась, а потом стала убирать, при этом гремя кастрюлями, стаканами, тарелками. Скрипела дверками кухонных ящиков, гудела пылесосом. Не дождавшись нужной реакции, вернулась в спальню и, поняв, что Тихоню не разбудить, высказала ему всё, что о нём думала. Вот только трехэтажный мат, так и не поразив цель, бесполезно растворился в эфире.
Целый день Леся караулила, когда же Томас проснется, даже подходила к нему, послушать — живой, дышит ли? Тихоня дышал. Вечером этого же дня он открыл глаза. Пошел на кухню, попил водички, сходил в уборную, вернулся назад, спросил который час, узнав, что уже семь вечера, кивнул и... снова захрапел. Проснулся в пять утра, свежий, как ландыш на солнечной полянке. Вскочив на ноги, потянулся, сделал зарядку, принял душ, побрился, почистил зубы, вытащил из холодильника вчерашний борщ, разогрел кастрюлю и сел есть прямо из неё. Не дождавшись, пока проснется хозяйка, Томас оделся, выбрав всё новое, загодя приобретенное, и вышел из квартиры. Осторожно, чтобы щелчок замка не разбудил Лесю, он прикрыл за собой дверь. Осмотревшись, поморщился: на площадке, скорее всего, недавно сидели подростки. В подъезде было наплевано, разбросаны окурки и до сих пор воняло табаком.
Выйдя на улицу, он вдохнув свежего вкусного воздуха и опьянел от запахов акации, лип и тополей.Послушав уханье голубок и шум ветра в выси, Чертыхальски так сладко улыбнулся, что стал похож на ожившую рекламу антидепрессантов. После долгого сна, душа и завтрака, его словно подменили. Тихоня давно не ощущал такой гибкости в членах и силы в мышцах. Ему было приятно осознавать себя частью утреннего бардака, когда птицы орут словно оглашенные, водители, вырывая последние минуты пустынных дорог, спешат на работу; когда дворники орудуют возле мусорных баков и здороваются со знакомыми, пришедшими на первую трапезу бомжами; когда весь мир уже давно проснулся, а люди только начинают нажимать на кнопки будильников, чтобы снова заснуть, а через полчаса вскочить, и с бешеными глазами бегать по квартире, прекрасно понимая, что на работу они, скорее всего, опоздали. Вокруг включаются радиоприемники и телевизоры, хлопают крышки унитазов и дверки холодильников, шкворчит масло в ожидании яиц, начищаются туфли, гладятся юбки, завязываются галстуки. Окна открываются шире, и в атмосферу квартир врывается химический перегар — принесенные издалека резкие грубые запахи гудрона, выхлопных газов, асфальта, бензпирена, диоксида азота, формальдегида, аммиака и прочей гадости, в составе которой может разобраться разве что сам Менделеев. В Городке, помимо шахт, тогда ещё работали заводы, фабрики, предприятия малые и большие и все они пыхтели, дымили, коптели, отравляя мир вокруг себя. Местные давно привыкли дышать отравой и, оказавшись во враждебной им целебной среде, кстати, безмерно страдали от отсутствия в воздухе тяжелых металлов, фенолов, цианидов. Но Томас не обращал внимания на химию — в это утро ничто не могло ему испортить настроение, к тому же раньше в Городке, во времена молодости Тихони, с этим было ещё хуже.
Организовав доставку анонимного денежного перевода по адресу пр. Ленина дом такой-то на сумму сто долларов в местной валюте, Чертыхальски позвонил в свою контору и попросил представить его местному светиле искусства, «свидомому краезнавцю» Адаму Семеновичу Гараняну. Встречу назначил на одиннадцать ноль-ноль.
Когда все шахматные фигуры были расставлены, Чертыхальски изволил откушать в «Пельменной» вареников с капустой, запив их томатным соком со щепоткой соли. Купив по стародавней привычке «Кочегарку», пробежал её по диагонали и, прошипев: «Когда ж вы все повыздыхаете, сволочи?», — выбросил газету в урну.
Ровно в одиннадцать он стоял на пороге единственной в Городке художественной частной галереи «Каприс». Разрешите сказать пару слов о хозяине этого коммерческого заведения. Адам Семенович Гаранян родился в Ферганской долине. Учился в Ташкенте по художественной части. Колхозники на целине, космонавты с колосками в руках, портреты пионеров-героев. Получалось похоже. В далеком семьдесят пятом году приехал в Городок по распределению. Думал на пару лет, оказалось — почти на всю жизнь. Женился, сделал карьеру, выставлялся, оброс связями и знакомствами, как елка иголками. Вступил в партию.
Гаранян по своей природе походил на... Как бы подобрать такое сравнение... Поточнее... Походил на глиста. То есть, куда не влезет — везде приживется. Наверное, если бы его послали в Ленинград, было бы на одного маляра соцреализма больше; в Семипалатинск — не пропал бы и там. Приспособился б, обтерся, обкумился по первому разряду. Такие нигде не пропадают, но...
В августе 1999 года звезда Гараняна клонилось к закату — она уже почти пропала.
Думаю, здесь необходимо небольшое объяснение, кем был и кем стал Адам Семёныч. В начале своей карьеры он слыл ярым коммунистом, но когда начали дуть тревожные ветра — некоторые их называли «ветрами перемен» — Адам Семенович прозрел. Однажды утром во время бритья под горбачовские «бу-бу-бу» из брехунчика с ним случился удар. Не сердечный, а настоящий удар, по темени. Адам вдруг вознес бритвенный станок, как спортсмены поднимают олимпийский факел, и закричал: «Вот оно, вот пришло мое время! МОЁ!!!».
Гаранян превратился в руховца. Дело в том, что в Городке не наблюдалось ни одного мало-мальски сносного националиста. Причины были политические, но больше — географические. Вообще Донбасс, когда-то край пограничный, Диким полем крещенный, не жалующий любую власть, принимал без разбора всех, кто был согласен работать тяжко и много. Неоднократно судимые, политически неблагонадежные, западенцы, «пятая графа» — всем разрешалось здесь обживаться, найти работу, семью, зарабатывать деньги — и не малые. Когда-то давно этот свободолюбивый космополитический уклад прозвали Новой Америкой, и в этом был свой смысл и своя правда. Люди работали с охоткой, жадно, смело, требуя взамен к себе уважения, и они это уважение получали. Чистили — ни без этого: конец 30-х, конец 40-х, начало 50-х, конец 60-х, конец 70-х свели на нет в шахтерском крае любое свободолюбие и проявление украинства. Это в селах под Славянском и Артёмовском так певуче балакали, что любой полтавчанин заслушается, а галичанин-поляк и не поймет. В городах Донбасса украинский язык как бы существовал — в школах детей им мучали, в телевизоре отдельная киевская программа была, — но не более того. Кто виноват? Наверное, История, разместившая Городок около границы двух дружественных Советских республик. От запада далеко, к Ростову близко. Щирые националисты не приживались у Суши, а это непорядок. Если в стране замелькал желто-голубой флаг, то его надо было кому—то держать? Вот Гаранян и стал первым поборником украинской национальной «свидомости». Помогли ему в этом друзья — художники, тоже смекнувшие выгоду. Железный занавес-то рухнул, а тут Запад, который нам сирым и убогим поможет, диаспора, гуманитарная помощь конвейером, гранты. И понеслось — художественное объединение — кооператив — общественный некоммерческий центр «Мрія». Песня!
Во время первых демократических выборов в городской Совет уже руководитель художественного городского музея Адам Гаранян получил поддержку не столько горожан, сколько старых членов этого самого Совета. За Адама Семеновича проголосовало фактически человек двадцать, включая самого будущего депутата, его родственников, и членов «Мрії». Кстати, скажу по секрету, две любовницы нашего геройчика так и не отдали свои голоса, и если Оля Филиппова, шестнадцати лет от роду, не могла голосовать по возрасту, то Александра Ивановна Гипп, (тридцать семь в паспорте) поставила галочку напротив кандидата от КПСС. Однако низкий показатель электоральных предпочтений не смутил членов избирательной комиссии. На партсобрании было принято решение включить в список депутатов городского Совета «руховца» Адама Гараняна, дабы никто не подумал, что в Городке-на-Суше ущемляют права украинского населения. К двадцати пририсовали два нолика и вот он — новоиспеченный депутат, победитель первых истинно демократических перестроечных выборов.
Подобным образом с Адамом Семеновичем нянчились не один год. Открыть ещё пару кооперативов? — нет проблем. Родилась идея создать картинную частную галерею при муниципальном музее? Да пожалуйста — в духе времени! Наладить контакты с зарубежными партнерами? Со всем нашим радушием. Выставки в городе — побратимом? Всегда рады. А кто честнее и справедливее распорядится общественным добром — гуманитарной помощью из США, Канады и ФРГ — как не главный борец за национальные интересы? Включить его в попечительский совет!
Конечно, вечно такая халва продолжаться не могла. Скоро СССР растерял все свои великие буквы, и Гаранян из пионера превратился в третьего-десятого-сотого борца за самостийность. Он отошел от дел художественных, депутатских. Нельзя сказать, что Адама сильно взволновал развал Империи, и он радовался появлению на карте новой страны — Украины. Наш художник к этим революционным событиям уже не проявлял особого интереса, потому как его больше заботили бизнес и личный счет в банке, конечно, не в пределах родной страны. Словами «таможня», «пошлина», «откат», «черный нал» Адам также легко жонглировал, как в молодости оперировал терминами из красочного мира живописи. Нельзя отрицать факта, что на чужбине Гаранян высоко нес знамя украинского гражданства. Его высокий лоб, черные брови, усы, каким позавидовал бы любой казак, вышиванка — даже под пиджаком от «Ив сен Лоран» — знаменовали триумф неукротимого свободолюбивого украинского духа, коим когда-то так восхищалась канадская, американская, брюссельская интеллигенция.
Но в то утро Адам пред наши очи предстал блеклой звездочкой. Поговаривали, что он последние годы много болел и весь свой капитал спустил на докторов и лекарства. Более злые языки утверждали, что только — только заработав свои настоящие зеленые миллионы, Адам не рассчитал с силами, кому-то нагрубил, вовремя не отдал долг, а хуже всего — не захотел делиться со старыми приятелями, многие из которых с доски Почета успели переселиться на веб-странички Интерпола. На пороге галереи Томаса встречала малюсенькая копия былого матерого бизнесмена, потерявшего банковский счет, квартиру в Париже и всех разновозрастных любовниц.
Тихоня был во всеоружии — ни дать не взять, клерк из Сити: коричневые туфли, асфальтового цвета узкие брюки с плетеным рыжим ремнем в поясе, очень дорогая белая рубашка, небрежно повязанный галстук с большим узлом. Солнцезащитные очки-авиаторы на носу. В руках портфель из страусиной кожи... А хозяин художественной галереи выглядел, как хозяин художественной галереи.
— How are you?
— Fine, thanks
— I’m Reynard Tenet, the art adviser of eBay cite.
— It’s nice. My name is Adam Garanyan, the manager of this gallery. I had a call from the embassy.
На русском.
— Как поживаете?
— Спасибо, нормально.
— Я, — Рейнард Тенет, художественный консультант сайта eBay.
— Очень приятно. Я, — Адам Гаранян, управляющий этой скромной галереей. Мне уже звонили из посольства.
Адам Семенович чуть поклонился.
— Если вы не против, может мне лучше говорить на украинском или русском языке? — спросил Томас, выговаривая слова с легким оксфордским акцентом. — Последние три года живу в Санкт-Петербурге. В Киеве, наездом,
— Отлично, а то мой английский не так хорош как ваш русский. Я, к сожалению, нечасто бывал в Соединенном Королевстве, больше во Франции. Практики не хватает. А что это мы на пороге стоим? — спохватился Адам Семенович. — Это не по-нашему, не гостеприимно. Пойдемте в мой кабинет.
Стоило новоявленному Рейнарду Тенету, поправив брюки, усесться в кожаное кресло для гостей, а хозяину расположиться рядом на диванчике, тут же вошла секретарь с двумя дымящимися чашками кофе, круасанами и бутылкой коньяка, вокруг которой выстроился почетный караул пузатых рюмок.
Лицо Рейнарда свела судорога.
— Можно без спиртного?
— Это только к кофе. Пару капель не навредит.
— Ну разве так, — согласился гость.
— Или, может, вы предпочитаете чай? — участливо наклонился Адам Семенович.
— Нет, пусть будет кофе.
Томас оглядел хозяина кабинета. Перед ним сидел настоящий плейбой в отставке. Колоритный, переливающийся всеми красками донжуан. С запонками, заколкой галстука, блестящими дорогими пуговицами, побитый, но судя по ещё свежему виду, успевший смириться с потерей своего кровного. Наверное, вынашивает планы возврата на Олимп, подумал Рейнард.
— Если можно, я сразу приступлю к подсчету овец. Ведь так говорят в Британии? — начал Адам Семенович. — Мне любопытно, что может заинтересовать консультанта уважаемого мной интернет — аукциона в нашей глуши?
— Не скажите. Истинные произведения искусства рождаются вдали от столичной суеты и конъюнктуры. Самобытность — вот девиз провинции, — ответил Рейнард.
— А как же атмосфера Парижа, белые ночи Петербурга, наш Андреевский Спуск, наконец?
— Ну-у-у-у, — протянул британец, — на ваши примеры я могу привести массу других. Это спор без победителя. Понимаю преклонение перед метрополией, но, поверьте, вам тоже есть чем гордиться. К примеру, сейчас на Западе, как вам хорошо известно, не стихает мода не только на супрематистов, Кандинского и тарелки Родченко. Искусство времен соцреализма двадцатых-тридцатых в почете. Хорошую цену предлагают как раз за произведения провинциальных художников. Их при Советской власти особо не жаловали, но времена меняются. Манит инкогнито, тайна, экзотика. Индивидуальная история каждой работы становится основной изюминкой, заставляющей любителей искусства выкладывать фунты и доллары за полотна, которые когда-то украшали коридоры сельсоветов в Тамбовской области. Вы прекрасно знаете, что картины с изображением рабочих и крестьянок, ваша мебель, посуда расходятся как пирожки. У вас был отличный бренд — «перестройка». Он и сейчас известен. О чем речь? Бой Джордж привез из Москвы столовый сервиз с надписями на ободках тарелок «Общепит». Что для вас мусор, для наших антикваров доход. И с годами цена будет только расти.
Рейнард перевел дух и продолжил тоном ментора, ни первый раз читающего лекцию по данной теме:
— Публика уже давно наелась ширпотребом, ушанками, матрешками и самоварами. Сейчас ценители искусства требуют произведения художников, вынужденных творить в жестоких рамках тоталитарной советской системы, цензуры. Некоторые западные искусствоведы выискивают в многочисленных фигурах Ленина на броневике, рабочих у станков, красноармейцев в буденовках скрытые метания души, заретушированные кичевые позывы «а-ля-уорхолл». Это так интересно. Завораживает. Впрочем, зачем я вам это говорю. Вы прекрасно и без меня всё это знаете. Ведь, правда? — Улыбка Тенета была очаровательна. — Ваши люди сколачивают капиталы, и после Моне и Мане начнут собирать свое, — то, что им ближе. Шишкина, например, Айвазовского. Через некоторое время ваши буржуи будут формировать кассу, а моя задача состоит в том, чтобы предвосхитить спрос, наметить имена мастеров, которые скоро буду расти в цене. Мы друг друга понимаем?
Адам поправил манжеты и, не поднимая глаз на гостя, осторожно ответил:
— Я интересовался этим вопросом, но вынужден огорчить — не ценитель. Согласитесь, сложно любить фетиши столь ненавидимой мной эпохи. Да, я работал в этом направлении. У меня есть в Европе постоянные заказчики, и к тому же таможня свободно пропускает коммунистический отстой. Продавая на Запад, по большому счету, мазню, я не чувствую себя вором, грабящим культурное наследие собственной страны, — сказал Адам Семенович, стараясь, чтобы его слова звучали как можно небрежнее.
Тенет чуть изменил наклон головы.
— Вы сами ответили на незаданный мной вопрос. Пока таможня пропускает, но скоро ваши бюрократы поймут, что они теряют. Граница будет закрыта и цены, сейчас не такие уж маленькие, возрастут стократ. Поэтому я и сижу перед вами, Адам Семенович. Времени у меня не так уж и много. Я человек простой, иезуитской казуистике не обучен. У меня к вам деловоепредложение.
Рейнард сделал паузу.
— Могли бы вы ввести меня в курс дела? Кто? Что? Где? И главное, почем?
Тенет открыл портфель. Достав запечатанный конверт без марки, передал Адаму.
— Это маленький подарок в залог нашего будущего сотрудничества. Безвозмездный вклад в наши, я надеюсь, партнерские отношения. Благотворительность — вот главный успех современного бизнеса. Надо уметь не только брать, но и давать. В этом году в дар музеям и частным галереям мы, в общем, перечислили более десяти миллионов долларов...
Тенет замолчал. Выдержав паузу, добавил:
— Мне и моей компании хочется вам верить так, как в свое время вам верил Леопольд Кравец.
Адам Семенович взял пакет в руки и... заледенел. Он даже не успел испугаться, просто держал конверт в вытянутой руке и тупо смотрел на гостя.
Лет пять назад некая личность, иногда называющая себя «Леопольд Кравец» — о его существовании на планете Земля знало не больше десятка человек — был главным организатором дипломатических коридоров из России в Европу. Тогда на Запад, используя в основном диппочту, можно было вывезти весь Эрмитаж вместе с землей. Копии висели в музее, а оригиналы продавались. Адам находился внизу пищевой цепочки — он на территории Европы отвечал за доставку раритетов к частным коллекционерам. Взять футляр, перевезти его адресату вперемешку с полотнами работавших с ним в Париже украинских художников — вот и всё. Так Адам нашел главные в своей жизни деньги. Масть шла не долго. Лавочку прикрыли, когда Леопольда взорвали вместе с машиной. Сеть, лишившись главного паука, распалась.
Услышав давно подзабытое имя, у Адама Семеновича в голове начался сущий ералаш. Он гадал -откуда эта тварь знает про Лео? Выходит, он жив, а вместо Кравеца в Варшаве погиб кто-то другой? Или мертв, но оставил досье? Да какая разница? Что так милый Адамчик попадает, что эдак...
Гаранян встал, открыл сейф, осторожно надорвал бумагу и заглянул в пакет — там по минимальным прикидкам было не менее пяти тысяч долларов. Подсчитав примерные размеры подарка, он захлопнул дверцу. Затем, выйдя из кабинета, осмотрев пустую приемную, попросил секретаршу никого к нему не пускать — для посетителей его нет.
Вернувшись и сев на самый краешек дивана, Адам Семенович спросил:
— Рейнард, раз вы уж знаете о существовании Лео, царство ему небесное — хороший был бизнесмен — давайте по-простому. Что вас интересует?
— Сермяга.
— Сережа? — Адам не смог удержаться, нервно засмеялся. — Как я сразу не догадался, — это же дважды два.
Гость удивился искусству мимикрии Адама Семеновича. Встречал его Гаранян в роли подвыпившего тамады. Когда услышал про Лео, превратился вбойцовскую рыбку — за плечами расправились крылья, подбородок — на Москву, в глазах дерзкий пыл. Но, услышав про Сермягу, все его дутые роли куда-то улетучились. Хозяина галереи словно иголкой кто проткнул и из него стал выходить воздух. Лицо теперь напоминало тесто, которое подходило-подходило, да не дошло — скукожилось.
— За последние дни вы второй, кто интересуется наследием Сережи, — выдавил из себя Адам.
— И кто мой конкурент?
— А, — махнул рукой, — какой-то пастор. Спрашивал, где можно посмотреть работы Сергея, где они хранятся. Можно ли организовать выставку в Штатах.
— Откуда такой интерес?
— Удивляет что не вы первый? — усмехнулся Адам Семенович. — Вот вам мой ответ. Любую работу, любого художника советского периода, послевоенных лет — в пределах моего города, конечно — я вам хоть завтра принесу. Единственное, кого не могу касаться — Сережи Сермяги.
— Почему?
Адам вздохнул.
— Во-первых, неизвестно где он. А вдруг завтра приедет ко мне и спросит, ах ты, сукин сын, не с твоей ли помощью мои детки теперь красуются в интернете? Что я ему отвечу?
— Подождите, но ведь он, насколько я знаю, сейчас живет в США! — Рейнард переставил свой портфель с ковра на паркет, как бы желая поставить точку или подчеркнуть восклицательный знак.
— Тут не всё так просто, — Адама вдруг прошибла испарина. Пальчики задрожали. — Да, он женился на американке и уехал, — это правда. Говорят, перед иммиграцией ударился в религию, перестал работать. Когда он оформлял документы, я уже был во Франции. Несколько раз слышал о нем, в Америке он выставлялся пару раз, а потом пропал, — Гаранян замялся. — Я и сейчас переживаю. Не для хвастовства... Но когда здесь началась его травля, я был единственным, кто встал на защиту. Впрочем, — поморщился Адам Семенович, — это к делу не относится.
— А что с сыном? — спросил Рейнард.
— Сейчас, когда Сережа далеко, сыну я помогаю, подкидываю заказы. Без работы он не сидит. Андрюша неплохо пишет. Конечно, не так как отец, но для коридоров детских садиков много таланта и не надо.
Рейнард Тенет пододвинул свое кресло поближе к дивану, и пока он его тянул, ножки с визгом царапали паркет.
— Откровенность за откровенность. Как художника Сермягу я не знаю, но наши консультанты посчитали, что скоро его работы должны серьезно вырасти в цене. Вот я и решил навести справки, что это за человек, сохранились ли ранние работы, можно ли их приобрести. В моем интересе ни грамма криминала, поверьте.
— А ваши источники не сообщили о том, где Сермяга? Обычно цена растет после смерти художника. Неужели Сережа...
Рейнард ответил так:
— Не знаю как в эту минуту, но две недели назад он был жив. В больнице, но жив.
— А что случилось?
— Без понятия. — Рейнард положил руку себе на грудь. — Честно. В любом случае, прозондировать почву, на всякий случай, должен. Я ведь не мать Тереза, я — бизнесмен.
— Все мы понемногу пиявки.
— Ловко сказано, — усмехнулся гость. — А каким человеком Сергей был в молодости?
Адам Семенович улыбнулся в усы и, вспомнив про кофе, отхлебнул чуток. Повернувшись к окну, чтобы Тенету был виден его красивый казачий ферганский профиль, ответил:
— Сережа всегда отличался стилем, писал не для публики, а для себя. Самоучка. По ночам работал на шахте, днем отсыпался, а потом, по учебникам, книгам изучал ремесло. Талант у него был дан свыше, а вот техники не хватало. Масло не очень любил, в основном карандашом, пастелью. Вы видели его работы?
— Только графику: «В углу», «Каторга». По-моему, восемьдесят четвертый год.
— А, выставка в Нью-Йорке. Вы надолго приехали?
— На месяц.
— У нас при поддержке головы готовится манеж, где будут выставляться работы местных художников — открытие намечено на конец августа. Там будет организована экспозиция работ Сермяги-старшего, те, что он оставил на родине.
— Кто хозяин?
— Сын. У него хранятся. Но, предупреждаю. — Адам наклонился вперед. — Если с картинами или с Андреем что-нибудь произойдет, я сразу сообщу в Интерпол о вашем визите.
Тенет даже не обиделся.
— Спасибо за предупреждение, но будьте покойны, ничто с вашим мальчиком не случится. Неужели я похож на рэкетира?
— Да, нет, скорее на порядочного человека, Но я не доверяю тем, кто хочет быть похожим на порядочного человека.
— Поэтому продолжаете водиться с контрабандистами и прочим жульём? — улыбка Рейнарда была само очарование.
Не дождавшись ответа, мистер Тенет, подхватил портфель и встал.
— Разрешите откланяться. Хороший был кофе.
— Спасибо, — сказал Адам Семенович, про себя отметив, что гость так ни одного глотка и не сделал.
18 Мышка хвостиком махнула
Покинув частный храм Минервы, Томас вышел на свет. Стоя на крыльце, он подумал, что перед тем, как отдохнуть от трудов неправедных, надо бы окончательно разобраться с номером «четыре». К художникам он питал особую любовь. А тут ещё жара донимает, прибавляет злости.
Остановил такси. Сев в душную машину, буркнул адрес и прикрыл веки. Томас попытался выкинуть из памяти довольную рожу этого прощелыги Гараняна, но колючие глазки Адама, его мокрые губы, черепашьи морщины на щеках, словно выжгло на сетчатке — даже с закрытыми глазами видно. Хорошо, клин — клином! Придется опять вступать в бой с минимальной подготовкой. Она-то есть, деньги отправлял, кое-что заранее припас, но Тихоня знал, чувствовал — этого мало, надо бы лучше все продумать. И всё же решать проблему номера «четыре» надо сегодня, бесповоротно, окончательно.
Подъехав к дому Андрея Сермяги, Чертыхальски расплатился и вышел на тротуар. Огляделся. Солнце в зените, пекло мировое — только в Седово загорать, — а он стоит перед засаженным липами зеленым двориком с вкопанными окрашенными покрышками на детской площадке, лавочками, и малодушно думает: «Идти или нет?». Было бы неплохо развернуться, сесть назад в машину и махнуть на ставок — поплавать, попить пивка, поглазеть на девчат. Нет, хватит! Решился — в бой! Перед встречей с «красным» ярлыком, не хотелось бы отвлекаться на мелочи.
Не успел Тихоня сделать и пары шагов, как за его спиной раздался скрип тормозов.
К бордюру подъехала смутно знакомая белая иномарка. Из неё вышел...
У Томаса была плохая память на лица, но этого типчика — именно это слово наиболее подходило к облику водителя — он признал сразу. Краснофф. Пастор. Лицо неприятное, словно смазанное, размытое. Около тридцати. Рост баскетболиста, широкоплеч, крепок, мускулист, но уже стал терять форму — появился жирок на бедрах и животе.
— Слушайте, сударь, — сказал «размытый», — если вы направляетесь в гости к Сермяге, то у меня к вам убедительная просьба: разворачивайте ваши стопы и катитесь куда подальше.
Томас пару секунд ошалело моргал, а потом ответил:
— Голубчик, какое ваше собачье, куда я иду и к кому иду?
Краснофф усмехнулся.
— Дорогой, ты думаешь, я не знаю, кто ты? Не считай всех идиотами, а если считаешь, научись не показывать этого.
— Слушайте, Фф. Вы не мой исповедник, а я не ваша овца и не надо на меня тут хомут вешать, ибо ваша тропинка одно, а моя дорога — иное.
Чертыхальски сделал попытку обойти пастора, но Василий сделал шаг в сторону и остановил его плечом.
— А ты попробуй.
Томас окинул взглядом фигуру соперника: кровь с молоком, наверное, футболом занимался... Американским... Встретил на корпус плотно — чувствуется опыт. Короткая стрижка, нос боксера — с неоднократно сломанной переносицей, брови покаты, подбородок тяжелый, чисто выбрит. Посмотришь — и не за что пнуть, весь такой гладенький, розовенький, а глаза бесцветные, трезвые, холодные, как у коронера.
— С дороги, — прошептал Тихоня.
Он не любил драк, не умел драться, да специально этому и не учился, хоть возможностей было много.
— А ты попробуй, — Фф ещё шире улыбнулся.
Ох, как не хотелось разворачиваться и уходить, но что делать? Бросаться с кулаками? Начать толкаться? Он что похож на идиота? Томас чуть кивнул, как бы прощаясь, развернулся спиной к пастору и, сделав шаг, вдруг оступился и как-то неосторожно начал заваливаться вперед. Так получилось, что одна нога, просто механически дернулась вверх и, скорее всего, случайно, со всей силы въехала каблуком Фф в промежность.
Томас, взмахнув руками, хоть и с трудом, но сумел устоять на ногах. Обернулся посмотреть, что с пастором. Бедняга страдал. У Василия подкосились ноги, и он медленно стал опускаться на землю, поскуливая, наливаясь краской и хватая открытым ртом воздух. Ему было так больно, что не мог стоять на коленях, поэтому со стоном лег на землю.
Тихоня подошел, тронул несчастного за плечо.
— Что, совсем плохо? Ай-я-ай, как вышло неудобно. Мышка бежала, хвостиком махнула и разбила яичко. Если можете, то простите меня — как-то не нарочно получилось, — сказал Тихоня и, цаплей переступив через соперника, пошел к дому Сермяги-младшего.
Войдя в подъезд, он перевел дух. Нет, подобные встряски хороши, когда тебе лет двадцать-тридцать... Вообще, что он тут делает? Оно ему надо? Сидел бы тихо в Киеве, дожидаясь своего часа. Нет же, полез к чистеньким! Вот тебе, бабушка, и пенсия!
Ладно, пора за дело...
Подошел к двери. Пошарканная, коричневый дерматин в нескольких местах прожжен — из дырок торчит бурая, закопченная вата. Цифр не было, но Томас знал, что пришел туда куда надо. Нажал на звонок. Тишина. Ещё раз. Прислушался — нет, ни звука. Может не работает? Постучал в дверь. Тихо. Что-то не так. Чертыхальски знал, что Андрей редко выходит из дому, в магазин (раз в два дня), на почту (два раза в неделю), на работу (раз в неделю). Каждый месяц выбирается в городской музей. Два раза в год путешествует в Киев, Москву или Ленинград. Ни друзей, приятелей или подруг. Даже просто знакомых. Что сказать? Нормальная жизнь затворника. Тихоня чувствовал, что хозяин дома. Он ещё раз постучал, уже сильнее и, наконец, услышал звук, похожий на шелест. Отойдя на шаг, пригладил волосы, осмотрел себя и остался доволен.
Дверь распахнулась и перед Томасом предстал номер «четыре — Андрей Сермяга, он же увертюра и марш из «Щелкунчика» Чайковского, желтый ярлык. Ниже Чертыхальски на голову, уже в плечах, худоват, длинные темные волосы зачесаны за уши. Бледноту лица подчеркивают черные усы и аккуратно остриженная бородка. Длинная узкая серая рубаха до колен с вышивкой на манжетах и вороте, свободные брюки льняной ткани, плетенные из кожаных шнурков домашние сандалии.
Вдруг из-за спины хозяина вышла черная овчарка. Вот так сюрприз — в досье о домашних животных ничего сказано не было.
— Добрый день, — сказал Томас, стараясь не смотреть псу в глаза.
— Добрый день, — ответил хозяин.
— Вы Андрей Сергеевич Сермяга?
— Он самый.
— Я по очень важному делу.
— Важному для кого?
Тихоня кивнул, мол, рад, что у собеседника отличное чувство юмора, но он при исполнении и не склонен зря тратить время, поэтому спешит представиться:
— Я консультант художественного фонда Люксембурга. Моё имя — Лец, фамилия — Прандштеттер. Вот документы.
Вытащив из портмоне пластиковую карточку с гашеной фотографией, названием организации, голограммами и — не переступая через порог — Томас-Лец протянул её хозяину.
Андрей посмотрел на карточку, затем на собаку — та, не спуская глаз с гостя, вильнула хвостом. Сделав шаг в сторону, Сермяга сказал:
— Проходите. Пират, пропусти.
Томас вошел в квартиру. В узком коридоре было не прибрано, неряшливо, как бывает в домах, где много лет делают ремонт и никак не могут остановиться. Поблекшие от времени обои, потрескавшиеся пластиковые плитки на полу, давно беленый высокий потолок с висящей на черной проволоке присыпанной пылью лампочкой без абажура. По левую руку стояла старая высокая стенка, где на антресолях хранились большие картонные ящики. Хранящуюся в прихожей верхнюю одежду от пыли закрывала цветастая штора. Дальше к стене был приставлен дорогой спортивный велосипед. Справа дверные проемы — в зал и на кухню. В конце коридора ещё дверь, скорее всего в уборную, которая, Томас это видел точно, была объединена с ванной — когда-то давно Андрей с отцом вдвоем сломали стену. Тихоне не надо было напрягать воображение — он ясно, как съемку домашнего кино, сейчас наблюдал напряженные лица работников, как они грузили в ведра мусор, кирпичи и тащили на улицу. Один раз, второй, сотый. Могли растянуть работу на два дня, но решили уложиться в один. Им казалось, что быстро управятся и не рассчитали, а потом уже не хотели останавливаться. Понятно, оба — отец и сын — упертые. Устали, как рабы на постройке пирамиды, но закончили до темноты. Вот Андрей ещё школьник. Коричневая форма, пионерский галстук, в руках портфель. Обнимает маму и бежит к двери, прямо к Томасу, сквозь Томаса — на улицу. Лица. Добрые. Улыбаются. Теней становится все больше и больше, они скользят, машут руками, движения ускоряются и настает момент, когда они все сливаются в однообразном дымном мареве. Разговоры, крики, шепот, ругань, бессмысленные фразы все ещё живут в этом коридоре: «Молока купить не забудь! Поделом... Не реви так... Андрюша, пятачок приложи... Да она сама того... Го-о-о-ол... Её больше нет... Батареи красит... Га-а-ага... Слышь, шо говорю... А как правильно?..».
Странное место, подумал Томас. Так много воспоминаний теснилось только в коридорах его родного ДОПРа, где Томас служил... Когда это было? Когда... Так до войны ещё...
Чтобы с чего-то начать он сказал тихо:
— Спасибо за приглашение.
Томас замолчал, явно ожидая ответа хозяина, но Андрей и не думал поддерживать разговор.
— Я вот по какому поводу, — продолжил Тихоня канцелярским тоном. — Мне доверено представлять интересы художественного фонда Люксембурга. Наш фонд был создан восемь лет назад на деньги иммигрировавшего после революции ныне покойного князя Николая Ростоцкого, большого знатока и ценителя искусства. После смерти князь все свое имущество завещал фонду, в обязанность которого теперь вменяется налаживание связей с его бывшей родиной, поиск и возвращение в Россию предметов искусства, вывезенного в годы временной слабости вашего государства. Кроме того, мы оказываем помощь молодым художникам в России и других странах бывшей империи. Помогаем устраивать вернисажи, выставки, налаживаем деловые связи, советуем к кому обратиться при реализации картин. Наши сотрудники и адвокаты часто бывают посредниками между мастерами и руководителями многих музеев, галерей, художественных центров Европы. Мы консультируем и, так сказать, подставляем плечо. Задача нашего фонда — смотреть не только назад, но и вперед! Каждый год мы выпускаем альманах с работами молодых художников, которые, на наш взгляд могут достойно представлять русское современное искусство на западе.
Тихоня, посмотрев на пса, расстегнул портфель и достал большой альбом в суперобложке.
— Это вам от нас подарок.
Андрей какое-то время смотрел на яркую с качественной полиграфией большую толстую книгу. Он застыл, как бы размышляя, брать или не брать. Наконец, протянул руку, подхватил альбом. Он не стал листать книгу, просто зажал её подмышкой.
Томас подумал, что это ненормальная реакция. В чем подвох?
— Переживать не стоит — это совершенно бесплатно. Если вы на досуге ознакомитесь с этим альманахом, то заметите, что в нём есть репродукции работ, как признанных мэтров, так и молодых, на наш взгляд, перспективных художников. В современном мире, согласитесь, все непредсказуемо — сегодня ваше имя никому не известно, а завтра о вас все говорят...
Томас изобразил свою самую обаятельную улыбку, но заглянув Андрею в глаза, понял, — надо менять тему — хозяина что-то беспокоит. Что лучше, попытаться угадать или сказать напрямую?
— Я что-то не то говорю? — спросил Тихоня осторожно.
Андрей кашлянул в кулак.
— Это не смешно.
— Не понял?
Тихоня видел, что Сермяга был явно чем-то раздражен — от него исходила фиолетовая еле заметная дымка. Скорее всего, он вообще в ярости. Вот только в чем причина?
Андрей нервно дернул подбородком.
— Давайте пройдем в гостиную, и вы начнете сначала.
Томас кивнул, и пошел вслед за хозяином. Выйдя из темного коридора в большой высокий светлый зал, он даже растерялся, настолько был разителен контраст. Только что они стояли в коридоре обычной квартиры советских времен, и вдруг очутились в логове состоятельного человека.
Надо отметить, что дом Сермяги был старой постройки. Квартиры в нем продавались по хорошей цене и людей не смущали сырые стены и текущие потолки. Если вложить деньги в ремонт, поменять трубы, купить технику, кондиционер, то лачуга золушки быстро превращалась в апартаменты. Тихоня про себя свистнул — сын художника явно не экономил. На окнах не мертвый стеклопластик, а деревянные, сделанные на заказ неокрашенные рамы с сухим ягелем между стёкол. Стены покрыты не обоями, а какой-то современной краской. Дубовый паркет, потолок собран из деревянных панелей с россыпью лампочек. Между карнизами висел кондиционер. Из дорогих. Мебель «а-ля рюс»: старинный сервант, две черные лакированные тумбы, диван со стульями на гнутых ножках, оббитых тканью под палехскую роспись. Из современного -подставка для компакт-дисков, DVD-плеер и рядом, в дальнем углу, большой с виду тяжелый японский телевизор. У противоположной стены на дубовом столе сиял огромный аквариум с плавающими пёстрыми рыбами, каждая размером с тарелку. Полки со статуэтками, масками, декоративными бутылками, в которые были засыпаны кофейные зерна, какие-то ароматические семена — их запах сейчас витал в не по-летнему прохладном воздухе. На стенах в больших рамах висели антикварные афиши фильмов. Тут были пестрая «Энтузiязм. Симфонiя Донбасу автора и инженера Дзиги Вертова», сине-желтая «Ход конем» с Ивонной Сержи и Ромуальдом Жуа в главных ролях. На самом видном месте, возле часов с кукушкой красовалась афиша сказки «Новый Гулливер» Александра Пташко. Но больше всего Томаса сразила лежащая на полу шкура бурого медведя без головы! Мохнатая, мягкая, в хорошем состоянии.
Э, да здесь, оказывается, притаилось гнездышко маленького буржуина! Тихоня — сам любитель комфорта — оценил обстановочку на люкс.
Вот только...
Никаких теней и воспоминаний о былом в этой комнате Томас не ощущал. Какая бы древняя здесь не стояла мебель, она в себе ничего не хранила, не скрывала.
19 Лектор и Острополер
Андрей Сермяга указал гостю на диван. Тихоня, присаживаясь, подумал — сколько же он стоит? Удобный. Симпатичный. Красное на черном — стильно и очень дорого. Искренне восхищаясь, он сказал:
— Андрей Сергеевич, у вас тут уютно. Такая квартира! Я бы добавил — сказочная. Знаете, если надумаю купить в Городке угол, можно будет вас пригласить в качестве дизайнера?
Андрей не отвечал, стоял истуканом в центре комнаты и молчал.
Томас снял с лица приветливую улыбку.
— Андрей Сергеевич, даже не понимаю причину вашего недовольства. Может я не вовремя?
Молчание.
— Признаюсь, я в затруднении, а это бывает крайне редко! Меня везде, во всех городах России-матушки и Украины-матушки принимают за лучшего гостя. Я несу творческим людям надежду на признание, возможность достучаться до сердец людских... Материальное благополучие, наконец! Я не привык к таким приемам. Я представляю уважаемый среди специалистов фонд. Наша репутация безупречна! Объясните, что я сделал не так?
Андрей вдруг покраснел, он стал сжимать-разжимать кулаки. К фиолетовому добавились желтые лучи.
— Вы что сговорились? Один пришел, рассказывает, про какой-то центр развития, второй про фонд. Что вам всем от меня надо?
Томас прищурился и поцокал языком.
— Не убивайтесь вы так! Гнев выбрасывает в кровь адреналин, и человек, пусть и на краткое время, но становится невменяемым. Поберегите себя для потомков. К вам приходили из какого центра?
— Да откуда я знаю?
Андрей вышел из комнаты и вернулся с бумажкой в руках.
Томас взял визитку.
«Василий Краснофф, Христианский центр — «Благословенная весть»
Прочитав, Чертыхальски искренне засмеялся — ему вдруг вспомнилось выражение лица Фф, когда тот получил по хрупкому месту.
— И что вам предлагал этот... пастор? — спросил Томас.
— Какая разница?
— Ну, всё-таки? Вы ведь хотите узнать, совпадут у нас предложения или нет.
Было видно, что Андрею всё уже надоело, однако он стал успокаиваться.
— Предлагал устроить выставку в США.
И вдруг... Томаса как подбросило! В зал вошла большая сиамская кошка. Посмотрев на гостя, она понюхала воздух и медленно-медленно поплыла к хозяину, потерлась о его ногу, а потом, также плавно подошла к Тихоне. Чертыхальски нагнулся, чтобы красавица с ним познакомилась ближе. Кошка понюхала его пальцы, провела по ним длинными усами. Тихоне показалось, что они с Андреем просто пропали, испарились, вот были только что тут, и нет их. Даже сидящая в углу собака как будто стала невидимой. В окнах погас солнечный свет, аквариум улетел в небеса, стены схлопнулись, и осталось только одно создание на всем белом свете — эта голубоглазая царица Сиама.
Кошка прыгнула к Тихоне на колени. Он взъерошил мех на её спине, а потом пригладил назад. Положив руку ей на голову, Томас услышал, как внутри животного заработал моторчик и начал мурчать-мурчать.
— Как зовут красавицу? — прошептал он.
— Ронета.
— Подходящее имя.
Андрей взял табурет, и поставил его так, чтобы можно было протянуть руку и самому погладить кошку. Было видно, что он озадачен.
— Я думал, у меня два охранника — Пират и моя пантера. Вы, по-моему, первый, к кому она пошла на руки. Вообще-то она не выходит к гостям. Вы не смейтесь. Пришли как-то из ЖЕКа, начали права качать, а тут Ронета. Они: ой, кошечка, кис-кис-кис, руку потянули, а она — цап-царап! Вот уж где визгу было.
— И кто кричал, Ронета?
— Нет, женщина, — улыбнулся Андрей.
Чертыхальски засмеялся. Промелькнула мысль, наконец-то поезд тронулся: улыбка — это уже половина дела. Тихоне было приятно сидеть на мягком диване, держа на коленях мурчащее мягкое и теплое. Что ж, бой «Тихоня — Фф» пока идет со счетом два ноль, не в пользу нахала.
— А что обозначает имя?
Андрей погладил кошку.
— Её мне подарил один художник из Болгарии, приятель отца. Уже взрослой. Называл он её — Ронета-писана. Мы зовем кис-кис—кис, а у них пис-пис-пис. Вот видите, — Томас почувствовал, как животное напряглось, услышав знакомые звуки.
— Писа-а-а-ана, — ласково пропел Тихоня.
— По-русски не понимает, а родной язык как услышит, мурлычет. У меня есть пластинки на болгарском — ставлю иногда.
Тихоня кивнул, мол, надо же. Добавил:
— Когда-то в молодости я ходил по морям, так у нас на судне жили четыре кота и две кошки — крысобои. Были злые, но ко мне свободно шли на руки. Даже не знаю почему. Вроде хвостатое племя не так уж сильно и люблю...
— Чем меньше женщину мы любим...
— Тем легче нравимся мы ей, — подхвати Томас. — Когда-то знал Онегина наизусть. Специально русский язык выучил. Мог в лицах разыграть весь роман. В актеры метил, — усмехнулся Тихоня. — Это потом уже пошел по художественной линии. Тяга к прекрасному — самая прекрасная тяга на свете.
— Сказал пожарный, — завершил мысль Андрей.
Томас тут же пожалел о своей слабости — только что выражение лица хозяина было по-детски радостным, и вдруг всё резко изменилось: улыбка испарилась, и в голосе Сермяги снова зазвенел холодок.
— Вы ведь не за тем ко мне пришли, чтобы подарки раздавать?
— Конечно, нет, — ответил Томас.
Он хотел уже продолжить, но...
Одним из главных своих недостатков Тихоня считал неумение замолчать там, где надо, но в этот раз удержал паузу, и Андрею пришлось раскрыться.
— Я вам не поверил с самого начала. Казенные фразы коммивояжера, — сдрасьте, я из канадской оптовой художественной компании, вот вам якобы бесплатный подарок. И эта фамилия. Может вам на время работы в нашей стране лучше взять псевдоним?
— А чем вам она не нравится?
— Пран... Пран...шлеппер. Не настаиваю, но мне кажется, ваша фамилия не внушает доверия.
— Прандштеттер, — поправил Тихоня. — Пранд-штеттер. Нормальная фамилия.
— Язык сломаешь, пока выговоришь.
— А какой псевдоним вас бы устроил? Острополер?
— Вы еврей?
— Родом я из Чехии, — ответил Тихоня как можно достойнее.
Андрей Сермяга нахмурился.
— Отличный ответ. Всё объясняющий.
Тихоня всем своим видом старался показать, что не понимает всех этих намеков.
— Странно, я здесь с восемьдесят девятого года и никто не обращал внимания на фамилию. Вы первый. Русский язык — как родной. Мне кажется, говорю без акцента... Уже и думаю по-русски, сны вижу на русском. Я, знаете ли, не отношусь к тем своим землякам, которые считают всех русских врагами.
— Может быть. Но вы заметили, как русские преклоняются перед иностранцами из западной Европы и как недолюбливают славян? Поляков, болгар?
Томас пожал плечами.
— Теперь моя очередь сказать — может быть. Это вам бывший хозяин Ронеты рассказал?
— И он тоже, и собственные наблюдения.
— Так это вы недолюбливаете?
— Я? Мне все равно, — ответил Сермяга, пригладив бородку. — Но меня раздражает, когда к нам едут из-за границы якобы развивать нашу культуру.
— А что тут плохого? Если ваши власти не радуют сухарями, а только плеткой, надо же кому-то заботиться о русских художниках? Мы ведь не на разных планетах живем.
— Уважаемый, запомните, самое дорогое в наше время — это халява. Сегодня я получу пять копеек, а завтра буду обязан отдать миллион.
Томас, чуть не поперхнулся, услышав поговорку, которой приписывал свое авторство.
— Ну, вам пять копеек не нужны. Я бы не сказал, что вы в чем-то нуждаетесь.
— Конечно.
— Позвольте нескромные вопрос, вы настолько успешный творец?
— Творец надеюсь не от слова «тварь»? — спросил Андрей, без намека на улыбку.
— Хорошо, не творец — художник, — сказал Томас, поглаживая кошке живот. — Уж извините, если обижу, я не слышал об Андрее Сермяге. Знаю, что вы пишете, что у вас знаменитый отец, мастер, но я пока не имел чести быть знакомым с вашими работами.
Томас замолчал, но и Андрей сумел удержать паузу. Чертыхальски с видимым усилием продолжил:
— Хорошо, давайте начнем сначала. Я пришел познакомиться, чтобы спросить вашего разрешения посмотреть работы, а получается — как бы вступаю в спор. Я даже понимаю, почему так вышло, — Тихоня засмеялся. — Когда речь заходит о гонорарах, я всегда нервничаю. Но и вы меня поймите. Многие мои клиенты считают, что я им должен деньги. Они думают, что я пришел за бесценок скупить их гениальные шедевры, а потом отвезу их на запад и продам за миллионы. Был один такой кадр из Винницы, который удумал, что надо наваять картин побольше, а потом повеситься. Да-да, повеситься. Но не по правде, а понарошку. Недоповеситься, так сделать, чтобы из петли вовремя вынули. После смерти холсты художника подскакивают в цене, но если вы уже беседуете с предками, зачем вам слава и деньги? Мертвецу, даже мертвецу-художнику кредитные карточки с миллионами ни к чему. Поэтому тот хотел, чтобы я устроил скандал почти со смертельным исходом, и всё — слава на века! Это даже круче отрезанного уха. Мне предложили все поделить пополам, но с условием: он вешается — я вытаскиваю и устраиваю паблисити.
— И что?
Томас развел руки в стороны.
— Не получилось. Когда я сказал, что не буду спасать, а наоборот, придержу ноги, чтобы не трепыхались, непризнанный гений посмотрел на меня, как на сумасшедшего и отказал в дальнейшем общении. О чем я, признаюсь, нисколечко не жалею. По-моему, бездарю вешайся — не вешайся, картины лучше от этого не станут.
— И чем всё закончилось? — спросил Андрей.
— История имеет трагичный финал. Маляр во время очередного творческого заскока принял пару таблеток торена, а потом попил пивка. После такого коктейля ему показалось мало, и он заглотил ещё четыре таблеточки.
— Откачали?
— До сих пор в больничке смирительные рубашки рвет.
— Печальная история.
— Не стоит убиваться — всякое в жизни бывает.
Андрей, охватив пальцами бороду, оценивающе посмотрел на Томаса. Задумался. Тихоня терпеливо ждал, пока хозяин не заговорит первым. Наконец, Сермяга спросил:
— А кого вы ещё недоповесили?
— Агент, как лекарь — у него должна быть своя тайна. Но одно скажу — без нас вам будет худо.
— Это почему же?
— Потому что художники, в основном, не умеют торговаться, не знают, как правильно продать свои холсты. Там, где приходит очередь товарно-денежных отношений, работают не мастера, а бухгалтеры и адвокаты.
— Вроде вас?
— Да, вроде меня.
— И вы знаете, что сколько стоит?
— Мне за это платят, — Тихоня счел уместным в этом месте улыбнуться.
— Только за это?
— Нет. В мои задачи входит поиск новых имен. Сначала я отбираю тех, с кем можно работать, кто имеет, так сказать, перспективу, задатки таланта. Мы, наш фонд, помогаем немножечко деньгами, немножечко помещениями. Мы оплачиваем аренду, и не смейтесь, коммунальные счета. Публикуем репродукции в альманахе, приглашаем на конгрессы, организуем интервью — паблисити в нашем бизнесе немаловажная вещь. Когда имя становится узнаваемым, устраиваем выставки, аукционы по всему миру. Зарабатываем мы не так много, как хотелось бы, но и не бедствуем — князь оставил хорошее наследство. Главное, наши подопечные получают, извините за такое слово — промоушн, и в Европе начинают звучать не американские, английские, испанские или скандинавские, к примеру, имена, а наши — русские.
— И этим занимаетесь вы, — чех по паспорту и, скорее всего, еврей по происхождению.
— Именно так. Чех по паспорту и... если вам так удобно думать, то еврей по рождению.
Андрей положил прижатые ладони в ложбинку между колен.
— Знаете, Лец, в этом что-то есть. Наверное, я бы доверился не вам, а своему земляку, но по большому счету обокрасть меня, скорее всего, сможет именно он, рязанский парень с честными васильковыми глазами. А вы? Говорите как русский, но иностранец. Воспитаны по-другому. У вас мама и папа не были несунами на заводе...
— Не понял...
— Вот и отлично, что не поняли... Но я вам хочу задать один вопрос. Ваша с этого какая прибыль?
— Простая. Если нахожу художника, с которым будет подписан контракт, получаю премию и долю с будущих продаж.
— Значит, в корне стоят те же самые товарно-денежные отношения?
— Так точно, — вздохнул Чертыхальски. — Но они касаются меня и моих работодателей, но никак не художника. Мы создаем почти тепличные условия, а потом собираем цветы и дарим их людям. Честный, счастливый бизнес.
Андрей улыбнулся.
— Вот это мне и надо было услышать. Наверное, мне будет лучше работать с такими людьми. Вы не прикрываетесь красивыми словами, не говорите о благословении, христианской морали, праведном пути и долге перед человечеством.
— Спасибо.
— Пока не за что.
— Вы думали, что я шарлатан? И поэтому меня приняли на штыки?
— В штыки. Правильнее — «в штыки», — поправил Андрей. — Конечно, нет, но всё имеет объяснение. Вот смотрите, — он встал и подошел к серванту. Открыв один из книжных шкафов, достал обтянутый бархатом фолиант.
— Держите.
Томас взял альбом. «Next Art», Выставка современного искусства. Италия. 1998г.«.
— Это подборка работ. Та же обертка, как у вас, но всё приправлено церковным духом — никакой пошлости, кича, насилия, — искусство классической направленности. Возврат к старым добрым традициям Возрождения.
— Очень любопытно, — оживился Томас. — А вы что, против духа?
— Я? — нет. Но мне претят беседы о морали. Я предпочитаю не разговоры разговаривать, а просто жить по душе. Поэтому у меня нет особого желания принимать участие в христианских акциях. —Андрей сделал паузу. — Даже если при этом я поступаю не высокоморально.
Томас не смог скрыть охватившего его возбуждения.
Пальцы задрожали, его пробила испарина.
— Очень интересно. А что такое, на ваш взгляд, мораль?
Сермяга ответил:
— Мораль — это совесть. Если поступать по совести, значит поступать морально.
— А соус это не по совести?
— Я так не говорил.
— Прямо нет, — согласился Томас, — но косвенно.
Андрей чуть отстранился.
— У меня складывается такое впечатление, что вы агитируете за этого пастора и расстроены моим отказом.
— Что вы? Даже и не думайте!— воскликнул Тихоня со смехом. — Какая милая догадка! Наверное, должен объясниться... Вы недавно познакомились с нашими конкурентами. Не хочу хвастаться, но они пасут задник.
— Задних.
— Что?
— В конце буква «ха». Пасут зад-них. Находятся позади, — рассмеялся Андрей.
— Ах, да! — улыбнулся Томас, и его глаза вдруг стали такого же цвета, как у Ронеты — ярко-голубые. — Я так и хотел сказать — сзади. Только вот... Не знаю как коллеги, но я иногда испытываю угрызения совести. Ладно бы мы соревновались с простыми конкурентами, а тут...
— Церковники?
— Верно, церковники. Как-то не по себе становится. Я же из католической семьи. Строгое воспитание.
Андрей кивнул, добавив:
— Я вас понимаю. Не казнитесь. Полагаю там, где царят товарно-денежные отношения, не место церковникам.
— А где им место?
— В храмах, костелах, кирхах, соборах, монастырях, синагоге, мечети. Их призвание — делать мир лучше, отмаливать наши с вами грехи, но не плодить их.
— То есть?
— Думаю, не будете спорить с истиной, что деньги — это грех?
Томас задумался. Вертящийся на кончике языка ответ, что мол, бумага не может быть грехом, Тихоне показался пустым, не стоящим того, чтобы его произносить вслух, и вообще вокруг этой темы столько всего наворочено...
Хорошо, а что тогда не грех?
— А что тогда не грех? — спросил Томас вслух.
— Любовь. Счастье. Воля.
— И чистота?
— Не знаю... — теперь задумался Андрей. — Последнее время развелось столько клоунов, рядящихся в белое...
— Это плохо?
— Конечно. Как обывателю понять, где хороший человек, а где бес?
— Как это? При чем здесь бес?
— При том. От них всё зло. Они отравляют свободу, любовь и счастье. И они очень часто рядятся в белое.
— Подождите, — оторопел Томас, — вы о них говорите так, словно они существуют на самом деле.
— Да, существуют на самом деле. Реальные. Бесы и черти.
— Но это же сказочные персонажи. На самом деле их нет! — воскликнул Томас.
— Тут согласен, но только наполовину — чертей не бывает. А знаете почему?
— Нет, — ответил Тихоня затаив дыхание.
Андрей вздохнул. Когда он начал говорить, в этот момент Томаса не покидало ощущение, что он школьник, а Сермяга — учитель, рассказывающий о том, что Земля круглая и она вертится.
— Думаю, были когда-то черти, но... Как пошел народ к ним относится не со страхом, а с любовью, когда начал их дурить, на них кататься, да за бороду дергать, когда стали поминать со смыслом и без, с матерком, и просто так, для красоты, вот тут-то и не стало чертей.
— Почему?
— Наверное, пропали со стыда. Как раки поползли назад.
— Куда поползли?
— Назад, в бесы, — ответил Андрей.
— Постойте, я не могу так быстро следить за вашими выводами, — Томас заерзал на вдруг ставшем ему неудобном диване, проглотил комок в вмиг пересохшем горле. — Хорошо, предположим, вы правы, но тогда объясните, в чем отличие?
— Легко, — сказал Андрей и улыбнулся так, как могут улыбаться только маленькие дети и счастливые люди.
— Я изучал фольклор, мифологию. Если верить тем книгам, которые я читал, высшие силы наделили чертей душой. Черти были аристократами. Обладали большой силой, но при этом их обременяли ограничения — свое подобие чести, справедливости, обязанности. Их съедала нескончаемая суетность, неудовлетворенность окружаемым миром, но больше всего их разрушало осознание своей ущербности. Ограничения и так отравляли им жизнь, а тут ещё люди перестали их бояться, насмехались. Настали такие времена, когда большая часть аристократов отреклась от своего прошлого, своей силы, своей души. Они обабились — стали обычными бесами, а уж когда не стало чертей, бесы разрослись хуже плесени, разлетелись мухами, разбежались по всем уголкам нашей землицы. Вот уж засада — оказывается, не только свято место не может быть пустым. Но это ещё не всё — дело даже не в душе. Чорт, я говорю по-старинному, через «о»... Так вот, чорт — это древнее колдовство, а бес — современность, приспособляемость, приземленность. Одно слово — мелкота. Сейчас чорт это уже не та сила, которую надо бояться. Это, скорее, бренд, торговая и спортивная марка, комический персонаж, джокер, трикстер. А сколько пословиц, прибауток? Я могу, не сходя с этого места, назвать не менее десятка.
— Этому есть объяснение? — спросил Томас.
— Конечно. Народ не проведешь — он понимает, что чорт не опасен, он даже добр. Он простит. Недаром к нему все посылают. Зачем-то же посылают?! Может у него что-то есть? А вот к бесу нет желающих в гости сходить. Потому что бес — это, как я уже говорил, реальность, сидящая за соседним столом, идущая по улице, пьющая, жрущая, et cetera. Вы ведь не пошлете своего друга и недруга «на бухгалтера». Правильно? А почему? Потому что бухгалтер никаким символом стать не может по причине банальности и обычности своей профессии. Так и бес. Он рядом, он вокруг, он везде, как тот пруссак за половицей, как сверчок в подвале... Хотя... Я тут, скорее всего, ошибаюсь. Он уже не прячется. Вон, включите телевизор, посмотрите в окно, наконец. Оточили — не продохнуть. В политике, во власти, в форме и без, мелкие и крупные — везде бесы. Любое начинание или хорошее дело спешат возглавить, а потом испоганят, замажут дегтем, извратят до неузнаваемости. Все время рядом, с ножом и камнем за пазухой, серые, заметные, паскудные, крикливые — разные. Без устали локоточками работают, жрут-жрут, как не в себя, слюной своей земельку орошая. Беспринципные, всегда на высших постах, в мягких креслах. Царьки бюрократических горок.
— Андрей, — Тихоня подался вперед. — Мне кажется, тут попахивает паранойей.
Услышав диагноз, Сермяга криво усмехнулся.
— Вы не правы. Если бы я был болен, то боялся б выходить на улицу, обвешался чесноком, иконами или попытался уйти в монастырь. Как видите, я не впадаю в крайности. А знаете почему?
— Просветите.
— Просто я их не боюсь!
Сермяга резко ударил ладонью по острому колену. Этот громкий хлесткий звук вызвал разошедшуюся во все стороны воздушную волну. Томаса словно ударили бревном под дых, и ему пришлось сжать всю свою волю в кулак, чтобы не скривиться от боли и не показать слабости. Чертыхальски вдруг с ужасом понял, что ещё три-четыре таких хлопка и у него из ушей потечет кровь, а может и разорвется сердце. Надо выбирать, что делать — позорно бежать или попытаться выдержать пытку до конца. Ты же знал, на что шел, когда согласился поработать с чистенькими, правильно, Томас? Здесь поединок честный, ты — вольно и сознательно, а они — невольно и неосознанно, но не менее опасно и болезненно. Такие правила, брат... Такие правила...
— ...я принимаю мир таким, каков он есть. Они сами по себе, я сам по себе, — говорил Андрей, а Томас с ужасом следил за его отрытой ладонью — опуститься ли ещё раз на колено или нет. — Я не лезу в их дела, они не суются в мои. Живу отшельником. Стараюсь реже выходить из дому. Что могу то делаю. Вот Пирата на свалке подобрал. Старушкам бедным еду оставляю. Но...— Андрей погрозил Томасу указательным пальцем. — Я всё знаю. Знаю, что там за порогом царит кумир миллионов. Там за порогом люди молятся реже, чем поминают нечистого. Слово «чорт» нынче встречается чаще чем «спасибо». Вы замечали?
Побледневший Томас, не отводя глаз от пальца, сдавленно через силу прошептал:
— Замечал.
— Вот. В нашем мире многое, если не всё, зависит от веры. Кто-то верит в святость, а я наоборот верю, что рядом кишмя кишат нечистые. Мне не нужны многосложные доказательства — хватает одного вопроса. Я спрашиваю, вы, — Лец, как там по фамилии... уверены, что рядом с вами дома, на работе, на улице ходят нормальные люди?
Тихоня не выдержал и опустил глаза.
— Я не знаю. Просто не думал об этом. Живу и живу. Часы тикают, а я барахтаюсь. Работы много. Нет времени остановиться, подумать о вечном, или поговорить с умным человеком.
Андрей Сермяга растер пальцами виски, прикрыл глаза.
— Ладно, счастливым — счастье, а грешникам — грех... О чем мы там с вами говорили?
— О моем конкуренте, — улыбнулся Тихоня. Он чувствовал, что улыбка вышла жалкая... но другую изобразить не смог.
— Да, о пасторе. Что вас интересует?
— Андрей... — Тихоня набрал полную грудь воздуха, медленно выдохнул. — Если не хотите, не отвечайте... Этот пастор интересовался только вашими работами или пытался выйти на отца?
— Мне показалось, что его цель — картины папы, а не мои. Поэтому батюшку я быстро спровадил. Сказал, что скоро в городском музее будет выставка, там их и посмотрит.
— На день шахтера?
— Да. Последние субботу и воскресенье августа.
— Знаю, — сказал Томас, с облегчением замечая, что Сермяга расслабился и опустил свои руки. — Так ваш папа не всё забрал?
— Только ранние.
— Я видел его графику. С остальным, к сожалению, не знаком. Он в США? Возвращаться не планирует?
— Вроде нет. Я бы знал.
— Странно. Был человек и исчез.
— Почему же? Писем не пишет, не любитель он этого, но деньги присылает исправно. А последнее время даже по нескольку переводов в неделю. Наверное, дела пошли лучше.
Услышав про деньги, Томас про себя чертыхнулся — он понял, что в теме мнимой благотворительности пролетел мимо кассы. Впрочем, после всего услышанного, этот прокол теперь не имеет никакого значения — вместо одного козыря он приобрел другой, ещё старше.
Тихоня защелкнул свой портфель и демонстративно посмотрел на часы с кукушкой.
— Очень приятно было побеседовать. Думаю, для первого раза хватит — не хочется быть навязчивым. Как теперь мы поступим? Может встретимся через несколько дней и тогда поговорим более предметно?
Сермяга, поставив бархатный альбом на место, ответил:
— Ни мучайтесь. Не надо мне вашей славы. Материально обеспечен, а самовыражение... Вот приходите на выставку, там и посмотрите. Только вам вряд ли понравится — не думаю, что мои работы могут удивить хоть кого-то. Есть такой закон — художник должен быть голодным, но я под него не подхожу. Пишу, скорее в стол, для успокоения. Надо же чем-то душу занять.
— Зачем вы так?
— Я трезво смотрю на жизнь и знаю себе цену.
Томас с видимой неохотой снял с колен Ронету и встал.
— Как хотите, хозяин — барин. Мне ещё одна поговорка ваша нравится — насильно мил не будешь.
Выйдя в коридор, Томас ещё раз осмотрелся. Он так и не понял, почему Андрей не завершил ремонт во всей квартире. Скорее всего, это было сделано специально — старина бывает разная, и лубочная и вот такая, натуральная. В зале современность, комфорт, мещанство с фикусами, а в прихожей осталось то, с чего Андрей начинал — бедность, старые стены, неустроенный быт.
Чертыхальски протянул руку для прощания.
Андрей пожал её крепко, сильно.
Томас хотел разжать пальцы, но Сермяга задержал его ладонь.
— Хотите посмотреть?
— Что? — не понял Тихоня.
— Картины?
— Чьи?
— Папы.
— А! Я сначала и не понял...
...только не переиграть, только не переиграть!!!
— Решайте быстрее, а то передумаю.
— Конечно, хочу! — почему-то прошептал Томас. — Но раз я бесплатно получаю то, о чем так мечтает господин пастор, может не надо? А вдруг я специально засланный преступник и хочу выдурить у вас самое ценное? Или я тот, о ком вы мне рассказывали?
— Кто знает? — усмехнулся Андрей. — Мне трудно судить — я человек доверчивый. Поэтому, зная за собой такую слабость, часто становлюсь злым с людьми. Но сейчас я верю не себе, а Ронете. Я читал, что сиамские кошки чувствуют опасность, а она сама пошла к вам на руки. Ну что?
20 Что ты знаешь о Солнце?
Наконец Томас увидел, куда по-настоящему идут деньги Сермяги-старшего. Когда Чертыхальски подошел к дальней стене зала, Андрей отодвинул штору: там блестела стальная дверь, которую не стыдно было поставить и в казначействе. Рядом висел мигающий ящичек сигнализации с телефоном. Андрей позвонил на пост и попросил снять с замка блокировку, добавив, что у него в гостях находится искусствовед из Чехии (Тихоня подсказал свою фамилию) и через час можно будет поставить комнату опять на сигнализацию. После этого Сермяга, закрыв рукой панель, набрал код. Красный цвет сменился на зеленый. Три щелчка. Дверь открылась.
Переступив через порог, Томас попал в комнату без окон. Паркет, черные плинтуса, окрашенные в бледно-розовый цвет стены, подвесной белый потолок с лампами в матовых плафонах. Работы висели в два ряда на каждой стене, всего их было не более трех десятков, больших и маленьких. Внизу стояло несколько больших ящиков, в которых, возможно, хранились не выставленные здесь картины.
Томас посмотрел на Андрея и заметил, как тот изменился. Лицо Сермяги приобрело странное, можно сказать, отрешенное выражение. Как будто он глядел не вокруг, а внутрь себя.
— С чего вы советуете начать? — спросил Чертыхальски, — а то у меня глаза разбегаются.
Андрей встрепенулся, словно его разбудили, нахмурился.
— Вы, знаете, Лец, я плохой экскурсовод. Всё что находится здесь, для меня не просто картины... С чего начать? Наверное, с того, что к вам ближе.
Томас подошел к стене, на которой висел шарж, нет, скорее, портрет. На белом фоне ломаные карандашные штрихи сплетались в непонятный клубок. Первые секунды казалось, что изображен абстрактный образ, имеющий очертания лица, но когда Тихоня уловил границы и пригляделся, то заметил глаза, нос, плотно сжатые губы... и как вспышка молнии, перед ним встал усмехающийся человек — хитроватый, знающий себе цену. Внизу в левом углу стояли две буквы «К.С.» и дата — «1980 г.».
Странная техника. Тихоня удивился, как это художнику удалось наносить штрихи, чтобы с первого раза скрыть основной образ?
— Это дядя Коля. Работал с папой в бригаде, — сказал Андрей. — Однажды они поспорили, что лучше, фотография или рисованный портрет. Дядя Коля сказал, что никакой художник не сможет передать внешность человека лучше фотографа. Потом сфоткал его и подарил на память... Там, в спальне висит. А папа принес в бригаду вот этот рисунок. Все сказали, что выиграл дядя Коля, мол, ничего не понятно — белиберда какая-то, всматриваться надо.
Тихоня обернулся и сказал:
— Я нечто похожее видел на одной выставке. Там фотографию обработали через компьютер и вышло нечто похожее. Но это в наши дни — современные технологии, а тут... Да... Гармония в хаосе, когнитивный подход. Это как у Дали, вопрос в относительности точки зрения. С одной стороны — фаллосы, а под другим углом — женщина... А где ваш отец учился?
— Нигде. Он с детства писал, читал книги по истории живописи. Забросил, а в армии пришлось вспоминать — попросили разрисовать красный уголок, потом стенды на плацу. После таких подвигов сделали его полковым художником. Времени было много, вот и убивал, как мог: нужные книжки читал и много работал.
Андрей прошел дальше.
— Это — передовики. На шахте заказали галерею портретов стахановцев. Были ещё бригадир и парторг, но их забрали. Где хранятся и живы ли вообще, не знаю. Здесь, в основном, как они сказали, — выбраковка. Простые работяги. Папа их из принципа не стал отдавать.
Тихоня осмотрел полотна. Всё просто, никаких идеологических примесей, ничего напускного, только лица, фигуры, все выполнено как бы по-домашнему, естественно. Характеры переданы с такой любовью и теплотой, что щемило сердце. Особенно ему понравился улыбающийся белозубый горняк с самокруткой в черных пальцах. Прочитал подпись на паспарту — картонной рамке, в которую был вставлен рисунок — «Леха-коногон».
— Странно, — сказал Тихоня, — обычно самоучки скатываются до примитивизма, а здесь анатомические пропорции, линейная перспектива, хорошо передана игра света и тени, детали основные и второстепенные, фон — все на достойном уровне. Уверен, есть портретное сходство. Никакой детскости — это зрелые работы. Класс! Подходишь, и сразу улыбаться тянет. Такой оптимизм — на пол плещет.
— Это дядя Леша. В девяностом погиб. Весельчак был, взрывной. Ему не надо было что-то придумывать — с места бил. Вот один скажет и ничего не смешно, а дядя Леша — все покатываются со смеху. Потом думаешь, что тут такого, а хохочешь.
— Уголь?
— Да.
— Какая точность! Тени, четкость линий. Высветлял растушками или белым мелом?
— В основном обычная резинка. Только заостренная. Где-то растушки...
— Бумагу наждаком натирал?
— Тоже резинкой.
Тихоня нагнулся ближе. Он улыбался. Искренне. Не притворяясь.
— Ваш папа не искал простых дорог — уголь капризный, не всем покоряется.
— Шахтеров он хотел писать только углем, не маслом, — ответил Андрей. — Говорил, если бы работал на маслобойне, тогда другое дело. Брал с работы кусочки, вправлял в самодельную ручку и вот... Прессованный тоже использовал, но меньше, только для фона.
— Закреплял чем, молоком?
— Сначала лаком для волос, а потом подсказали. Да, разведенным. Рамки, кстати, сам делал.
— Тут, — Тихоня указал на портрет фотографа, -почти авангард, а горняки — это реализм. Как всё точно передано! Не в орденах и медалях, а в рабочем — все черные, только что из штрека. Вот он вышел из лавы, подмигнул долгожданному солнцу, зажег сигаретку, улыбается и готов сказать что-то смешное. А я уже жду, ну, когда же?
— Вы знаете, и у меня похожие ощущения. Вот скажет: «Лек-макалек, дуй за пивом!»
— Как вы сказали?
— Лек-макалек,— повторил Андрей. — А что?
— Да, ничего такого, — Тихоня сдержал улыбку. -Но почему не приняли? Это ведь талантливые работы, тут сразу видно, что не самодеятельность, не ремесло. Тут — жизнь! Ваш отец — мастер.
— Поэтому и не взяли. Как сказал их комсорг — слишком просто, нет вызова, нет утверждения победы героического труда.
— Слишком приземленными оказались небожители шахт?
— Ага. Не герои.
Тихоня покачал головой.
— Будь моя воля, я бы этого комсорга гнал в три шеи. Шахтеры — передовики, к тому же нарисованные углем! Да за такой креативный подход при нужной огласке он парторгом мог стать. А это что за серия? Тушь?
Подошел к работам в небольших рамках.
— Это одна из моих любимых, — прошептал Андрей.
Тихоня заметил, что Сермяга, глядя на эти работы, покраснел от смущения.
— Большинство мачеха увезла, но самое вкусное упустила. Говорит — шароварщина, а мне нравится. Казацкий ряд. Должен сказать, я хорошо отношусь к вашей родине — в Чехии красивейшие древние города, одна Прага чего стоит. Природа, богатая история, во многом схожая с нашей. Жажда свободы, многовековое противостояние германским племенам, сильнейшие в свое время наемные войска. А у нас вот — казаки... В Диком поле в семнадцатом веке уже селились. Получается, Городок — не только шахтерский край.
Чертыхальски нагнулся, навел резкость...
Это было потрясающе! Два казака шли на полусогнутых, поддерживая друг дружку. Пьяны в жупел, только привычка да плечо товарища держат их на ногах. Кажется, если кто из них оступится, то упадут оба. Может ещё песня помогает не потерять последние проблески ума и не свалиться в придорожную полынь. Лица напряжены, рты открыты, у одного даже слезы выступили от усердия. Меньше всего они напоминали воинов, которыми в Крыму и Польше пугали малых деток. Тут не головорезы, а два взрослых дитяти — беспомощные, смешные, совершенно не геройского вида — пьянчужки в разодранных рубахах, с голыми потными животами и деревянными крестиками на кожаных шнурках.
Чуть ниже ещё одна работа — казак на службе. Степь, залитые солнцем травы гладит полуденный ветерок. Серые кузнечики чистят лапки, наблюдая за тем, как по целине бредет конь и щиплет клевер. В седле примостился молоденький воин — сидит, склонив голову на грудь. Носки сапог — в стременах, одна рука воина держит повод, вторая на рукояти пистоля. Мятый полукафтан, черкеска заломлена на затылок. Притороченная к седлу пика отклонилась назад — ветерок колышет поникший прапорец. Всадник ранен? Нет — одежда-сбруя в порядке, не кровинки, ни тряпицы. Наверное, гонец, или просто умаялся, да и заснул в седле.
Вот что показалось Тихоне.
Рядом уже другая история.
Прямо на зрителя несется лава: лица бешеные, оскаленные, чубы реют, как те стяги, шабли до горы, морды у коней страшные, с выпученными глазами, раздутыми ноздрями, хлопьями пены вокруг ощерившихся зубастых пастей — куда там всадникам Апокалипсиса! Вот сейчас налетят ураганом, рубанут так, что голова до самой Колымы долетит... Дрожь по телу...
Много работ, смешных, грустных и просто красивых. Тушь, пастель, карандашные наброски, акварель, несколько работ маслом. На самом видном месте казак, пьющий пиво. Тихоня хотел бы иметь такую картину у себя дома. Во-первых, она была хороша, а во-вторых и в самых главных — этот казак напоминал ему отца в те редкие минуты, когда Томаш сидел дома и рассказывал байки. Тот же прищур глаз, те же красные полные щеки, висящие до подбородка усы, улыбка, огромные покатые плечи, необъятное брюхо...
Натюрморты — хорошо; портреты — талантливо; городские пейзажи — щемяще узнаваемые, и отдельно — просторы Дикого поля. Без терриконов, заводов и шахт: только степь — древняя, вечная, ко всему равнодушная и от этого особенно прекрасная. С нежным ковылем, ветрами, гоняющими перекати поле, косыми дождями, изливающимися из беременных туч...
— Здесь недалеко сохранилось место, нетронутое людьми. Ученые говорят — первобытный первозданный край. По этой земле ещё мамонты бродили. Это оттуда, — пояснил Андрей.
Томас ещё раз обошел комнату и, смущенно улыбнувшись, сказал:
— Ну, мне пора. Да и моё время уже заканчивается.
— Разве? Кажется, вошли только что.
Чертыхальски замялся.
— Извините, а тут ваших работ нет?
— Только папины. Мои в мастерской. На выставке будет несколько — их надо смотреть в соответствующей обстановке.
— А какие работы отца покажете?
— Из казацкого — это сейчас актуально и, наверное, шахтерские. Пейзажи, женские портреты... Но они в ящике спрятаны...
— Спасибо.
Тихоня и Андрей улыбались друг другу. Их глаза горели одинаковым светом.
— Думаю, эта комната для вас, как маленький храм, тропинка в прошлое. Так вышло, что и я увидел кое-что для себя интересное, напоминающее детство. Я давно не чувствовал себя так хорошо. Я... Не правильно часто говорить «я, я, я», но не обижайтесь. Такова наша природа, в первую очередь думать о себе, а потом уже о других. Наверное, после «я» пришла очередь «не я», то есть — «вы». Андрей, вы доверились мне и за это большое спасибо. Как давно у вас были гости?
Сермягу озадачил этот вопрос.
— Даже не знаю...
— Неужели и девушкам не показываете?
Томасу почему-то думалось, что Андрей покраснеет, засмущается, но художник рассмеялся.
— Я люблю собак и кошек, а значит и женщин люблю. Они живут инстинктами. В них переплетаются два начала: греховное и святое, причем, в отличие от нас, мужчин, это переплетение гармонично.
— Вы их пишете?
— Нет. Не хватает мастерства. Наверное, не дорос.
— А что или кого?
— Тех, кого бы я мог назвать другом. Но сейчас тяжелое для этого время. Вот у вас, Лец, есть друзья?
Тихоня поднял вверх глаза.
— Два. Подруга и есть друг. Зовут его — Томас Чертыхальски.
— Странная фамилия.
— Зато человек хороший. Никогда не предаст.
Когда они вышли в зал, Андрей запер дверь и поставил её на сигнализацию. Тихоня стоял рядом, всматриваясь в профиль художника, его фигуру, движения пальцев, нервное подергивание плеч. Он смотрел, как Андрей расставил ноги, держит спину. Томасу хотелось запомнить, как выглядит человек, у которого всё есть, который достиг того, чего желает и поэтому не мечтает о надуманных благах, а просто довольствуется тем, что имеет. Уважает прошлое, чтит отца, живет в ладу со своей совестью. Этот человек, если бы умел пользоваться своей силой, мог бы прибить его, Томаса, одним хлопком ладони, как надоедливого комара...
Чертыхальски вышел провожать не только хозяин — в коридоре появились Пират и Ронета. Овчарка улыбалась и виляла хвостом. Писана подошла, потерлась о ноги гостя и медленно направилась на кухню.
Томас усмехнулся. Посмотрев на Андрея, сказал:
— Странно, вы сидите взаперти в четырех стенах. По незнанию вас можно представить чудаком, но вы не такой. Вы наделены даром видеть то, что скрыто от глаз простых людей и даже не представляете как я рад, что с вами познакомился. Знаете... Раз вы оказали мне услугу, я хочу сделать небольшой подарок. Честно говоря, я не имею право расплескивать налево и направо свою силу, но сегодня исключительный случай. Вы мне понравились, а я подумал... Вдруг найдется такая женщина, которую, вы будете считать не зверем, но другом, а она окажется хитрее вас. Поэтому я хочу, чтобы с этой минуты, и секунды вы научились чувствовать мысли тех людей, которых считаете своими настоящими друзьями. Кто знает, может в будущем это позволит вам избежать неприятностей? А я не хочу, чтобы у вас были неприятности. Как с одной, так и другой стороны порога.
Томас подал руку для прощания.
Сермяга пожал её.
В это мгновение Андрею показалось, что в комнате потемнело, краски поблекли, очертания предметов стерлись. В его воображении родилась идея, захотелось тут же пойти и начать работать...
Туман... да, туман, но только не в поле, лесу, горах, а дома, в своей квартире.
Туман...
К Андрею пришло знание, как передать кутающую люстру дымку, капельки воды на стенах и мебели. Он увидел Ронету и Пирата, лежащих в молочное пелене...
Кончики пальцев зачесались...
Хотелось работать...
21 Накатило
Вот так шажок-шажок и день прошел. Удачный, если не сравнивать с вчерашним марафоном сна. Томас шел по улице, улыбаясь. Надо же, обрадовался из-за такой мелочи — знакомству с хорошим человеком... Пустяк, а все равно приятно...
Когда Тихоня вышел во двор, думал, что его там будет ждать раненый Краснофф, поэтому заранее стал подбирать слова, которые мог сказать наглецу, однако к своему разочарованию увидел, что Фф нигде не было. Посмотрел по сторонам — никого. Тихоня даже растерялся. Что теперь делать? Куда идти? День только начался, а фронт работ, не успев открыться, закончился, и эта для кого-то радостная новость, вдруг стала подтачивать его хорошее настроение. Тихоня чувствовал, что в данный миг ему весело, глаза горят, но колокола уже звенят и через пару минут ему станет плохо. Так волна подмывает песочный замок. Томасу не хотелось упускать из своей души тепло, лишаться ощущения покоя. Чертыхальски начал искать в своей памяти что-то радостное, пытался зацепиться за какое-нибудь безмятежное воспоминание, за ту расслабленность, которая недавно так приятно разлилась по телу...
Но всё впустую. Вдруг горным селем накатила болотная тоска. Промелькнула мысль, а что если вернуться и снова напроситься к Сермяге в гости? Невозможность исполнения своего желания Томаса расстроила ещё больше. Подумал: «Вот тебе раз — и гвоздь промеж глаз!». Что ж так тяжко и тошно, почему в груди сердце сжало? Только что веселился, и на тебе! Почему во рту появился горький привкус?
Томас посмотрел на укрытое белесыми перьями небо. Есть две еврейские истины. Первая — всё пройдет. Эти облака пройдут, эти деревья пройдут, и он пройдет. Мимо деревьев, мимо облаков. Вся его уникальность, нечеловеческое везение — всё пройдет. Но почему? Ведь такого второго как он уже не будет. Такого, который так смотрит на небо, и как он видит облака — никто не видит, даже если станет рядом с ним и также задерет голову вверх. Он уникальный... Впрочем, как и любое создание в этом мире, будь оно какого угодно цвета, вероисповедания и размера мешка за спиной, в котором хранятся нажитые ими грехи...
Все пройдут...
Вторая еврейская истина догоняет первую — всё относительно. Кому-то небо — вдохновение, кому-то — источник беды. Кому-то водка — лекарство, кому-то — отрава. Бесконечный список... Относительно Хлебореза Томас счастлив, относительно Андрея — нет. И это, как не хорохорься, есть мучительная горькая истинная правда.
В конце концов, относительно метронома вселенная мотыляется туда-сюда...
Нет, так дальше продолжаться не может — ему нужен отдых! Срочно надо понежиться на песочке, покупаться, смыть пот-грязь, отдохнуть от городского шума и хоть на час-день, забыться, заглушить тикающий в его голове часовой механизм. Да! Было бы неплохо сменить обстановку, а то что это такое — работа да работа? Он ведь приехал отдыхать! Он на пенсии в самом-то деле. А может... соединить первое со вторым? Пришедшая вдруг мысль заставила Томаса противненько захихикать: он понял, что должен сделать, чтобы забыть о своей минутной, вызванной Андреем Сермягой слабостью.
22 Цена слова
Прежде, чем пойти домой, Томас заглянул в «Пассаж» к бабушкам в цветочный ряд. Подготовился. У порога его никто не встречал — Леся сидела в зале на диванчике с книгой в руках, не замечая приход гостя. Томас нисколечко не удивился. Подойдя к Лесе он, как факир, вытащил из-за спины букет бархатных кроваво-алых роз. Хозяйка ахнула, приняла всю эту красоту и, не боясь оцарапаться, зарыться лицом в лепестках.
— Я получил прощение? — спросил Томас.
Вдыхая медовый запах праздника, Леся ответила:
— Вам, молодой человек, очень повезло, что хозяйка корчмы очень отходчивая особа. Но всё равно должна отметить — она не любит, когда с ней так поступают.
— Как?- спросил Томас и захлопал своими длинными ресницами.
— Как с мебелью!
Леся пошла искать вазу, но не нашла подходящего размера. Тогда просто взяла из кладовой трехлитровый бутыль, набрала в него из под крана воды и всё — готово. Томас подошел к Лесе сзади и, поцеловав за ушком, спросил:
— А скажи-ка мне, красавица, где бы тебе хотелось отдохнуть?
— Как это?
Угрем развернувшись в объятиях, Леся откинула корпус назад и посмотрела на Тихоню. В её взгляде притаилось осторожное любопытство.
— Ну, где бы желала провести выходные? В Крыму, Турции, на Карибах? Август за окном — лето скоро утечет.
Задав вопрос, Томас с невинным видом отвел глаза в сторону.
— Ты помечтать или есть вариант? — спросила Леся серьезно.
— Есть вариант.
— Насколько верный?
Томас сжал её ещё крепче.
— Вернее не бывает.
— Но у меня загранпаспорта нет.
Томаса передернуло.
— Причем тут это? Читай по губам: вы, Олеся Галаева, хотели бы отдохнуть... Ну, чтобы не мелочиться... На необитаемом острове?
— Хотела бы, — ответила Леся без раздумий.
Прищурив глаза и понизив голос, он спросил:
— А на какие жертвы вы готовы пойти ради такого праздника?
Леся попыталась вырваться, но объятия вдруг стали железными — она не смогла даже пошевелить руками.
— В смысле?
— Вопрос такой: чем вы готовы пожертвовать?
Она не стала отвечать — смотрела беспомощно, часто моргая, но скоро поняла, что все её девичьи хитрости сейчас не помогут. После долгой паузы, подумав, ответила:
— Ты меня разыгрываешь.
— Нет, милая моя девочка, всё серьезно.
Томас усмехнулся:
— Хорошо!
Объятия разомкнулись и, не ожидавшая этого Леся, сделав шаг назад, зацепилась ногой за ковер и — хлоп! — уже на кровати.
— Добавлю конкретики, — продолжил Тихоня, смотря на неё сверху вниз. — Условия такие. Если ты согласишься никогда не употреблять одно слово, я подарю тебе остров. На два дня. Мы вместе с тобой рванем в тропики, к пляжу, океанскому прибою, кокосовым пальмам, чайкам, неизвестным тебе созвездиям. Там сейчас прекрасно — зима. Ты видела когда-нибудь Рыбы, Треугольник, Гидру? Знаешь, как сияют звезды у Художника, Хамелеона, Тукана, Парусов?
— Ты это о чем?
Томас сплел руки на груди. Глаза — щелочки. Стены и потолок словно размыло, скрыло тенями — только он — высокий худощавый контур на фоне синих обоев. И улыбка.
— Это созвездия дальних морей, — говорил Томас и его волосы шевелились, словно на него дул «фримантлский доктор». — ...они сияют на другой стороне планеты — за экватором. Хочешь их увидеть? Миллиарды людей- богатых, знаменитых, отличающихся завидным здоровьем — ни разу так и не побывают в южных широтах. А тебе выпадает такой шанс... Подобное случается раз в жизни. Тук-тук! Кто там? Это я — Судьба. Что скажешь, согласна?
Томас наклонился и, не сводя с Леси своих черных глаз, повторил тихо:
— Согласна?
На секунду ей стало нечем дышать. В мире как будто началось солнечное затмение — краски потускли, исчезли все звуки — только звон в ушах. Такой звон и тишину Леся слышала, когда спускалась за вареньем в подвал на даче дедушки Саши — папиного друга. Тот же холод, та же дрожь по спине. Тот же страх, но если раньше она боялась заглянуть под лестницу, где в паутине большие пауки перебирали своими тонкими страшными лапками, то сейчас её до икоты ужасала невозможность отвести взгляд от Томаса... От его ярких, глубоких, словно измазанных сажей иссиня-черных глаз...
Глаз с вертикальными черточками зрачков...
— Какое слово? — спросила она одними губами.
— Любое, — Томас снова перешел на шепот, и из его рта вдруг вырвалось белесое облачко пара, словно комнату морозило. — На мой выбор.
— А зачем?
Утробный чужой голос убаюкивал:
— Так надо. Таково условие. Слово — это плата хозяину острова.
— Согласна, — прошептала Леся, хотя в душе до конца не понимала, что сейчас происходит, к чему этот допрос, откуда в летний день взялась такая тьма и холод.
— Не слышу, громче!
Над Олесей нависли две не серые или зеленые, не черные, а белые холодные жалящие точки-звезды. Из какого они созвездия? Мухи, Короны или Феникса?
Голос усилился, исчезла вкрадчивость:
— Громче... Громче. Громче!
Голос теперь выл, рокотал. Казалось, комнату наполнил железный лязг, как от звона корабельных цепей. Эта какофония, наверное, была слышна за многие километры от Городка. Вокруг кровати поднялся не «доктор», а коновал из Коммонвелса, завертелся, подхватил вещи, фотографии, бумаги, газеты, какие-то смешные фантики и почтовые марки, закружил и это было так красиво, так сказочно-необычно, словно за секунду Олеся перенеслась из бытия в сон...
И тогда она не со страха, а с какого-то мальчишеского озорства четко произнесла:
— Согласна.
...тень приблизилась и поцеловала её в лоб...
...стоило Лесе только моргнуть, как морочное наваждение исчезло. Рядом с диваном, мило улыбаясь, стоял её мужчина. Почему она раньше не замечала, как он красив? Простота и непоказная мужественность лица. Какие у Томаса добрые, серо-голубые глаза с кисточками морщинок по углам? Черные брови и ресницы. Как они ему, почти блондину, идут. А какие узкие запястья и при этом крепкие руки? У него широкие плечи, узкая талия.
Перезвон трамвая за окном напомнил, что жизнь течет, птицы поют, город жужжит-гудит-стонет, и всё, что произошло мгновение назад, не что иное, как мираж, сон, марево над асфальтом в жару, минутное помешательство. Ведь сейчас полдень — самое пекло... Город ревёт, машины снуют туда-сюда, люди строят, копают, считают, продают и покупают... Ну и пусть работают, значит, судьба их такая, а у неё другие заботы — отдых! Вперед! Нас ждут пампасы! На море, на юг, к пальмам, чайкам, под неизвестные звезды!
Леся нисколечко не удивилась, когда Томас открыл дверь в ванную и вывел её не на хирургически чистый прохладный кафель, а на ослепительно-солнечный обжигающий как пепел костра на Ивана Купала белый песок. Стоило ей переступить через порог и тут же ветер, заставляя зажмурить глаза, рванул ткань её юбки, раздул парусом футболку, отбросил назад волосы. Леся почувствовала, как по коже пробежал холодок и у неё затвердели соски, её всю затрясло от предвкушения необычного, необъяснимого. Она чувствовала — нет, она знала — что сейчас откроет глаза и увидит не зеркало и в нём своё приперченное веснушками отражение, а нечто иное... Она увидит бесконечное бирюзовое небо в разводах бело-прозрачных туч, океан, грозный вдали и такой ласковый в лагуне, голубую прозрачную воду, в которой мельтешат рыбешки. Перед ней откроется растянувшаяся, как улыбка Чеширского кота, длинная золотая подкова пляжа, а сзади будет возвышаться колоннада пальм. Там хорошо. Там воздух свеж и на лицо падают капельки соленой влаги; там слышен далекий рокот прибоя, крик чаек, шум ветра и прохладная волна целует ноги. Вчера уже не существует и так не хочется, чтобы наступило завтра. Она поняла, что сейчас, когда глаза её ещё закрыты, время исчезло, пропало, сжалось в точку, превратилось в небрежный хлопок по плечу, быстрый росчерк в чековой книжке, невысыхающие слезы на щеках и три тяжелые горсти земли...
Ты ещё так молода, у тебя всё впереди... Сейчас, в данный миг, ты находишься в самом прекрасном месте на земле, тебя за руку держит мужчина, с которым хочется жить долго и счастливо, и ты знаешь, что так оно и будет. Долго и счастливо... пока глаза закрыты тебе так хорошо... покойно, радостно... пока глаза закрыты...
23 Цепная реакция
Я, при всем своем желании, пока не могу вам рассказать, как Томас и Леся могли исчезнуть из своей квартиры. Они зашли в ванную и испарились. Наверное, это чудо. Да! Не каждый день подобное бывает в нашем мире. Это — чудо чудесное! Как его объяснить? Думаю, невозможно. Если знать в чем состоит трюк, то это уже не тайна, а жульничество, надувательство, то есть обман. Но я вам гарантирую, что тогда, в августе 1999 года, я стал свидетелем настоящего необычайнейшего потрясающего почки-печёнки события, которое только подстегнуло мое желание наблюдать, что же будет дальше и чем всё закончится. Я не смог подсмотреть, что они там делали, как им отдыхалось. А очень хотелось! Мне также неведомо, что это за остров, где он находится и остров ли это?! Одно ясно — они не были в Городке-на-Суше. Боюсь предположить... Понимаю: моя версия больше похожа на фольклорный юморок, но мне кажется, что они были...
Нет, не могу...
Вы будете смеяться...
Не хочу всё портить...
Лучше продолжу...
Не знаю, какое у нашей парочки было настроение во время отдыха, но мне точно известно, на кого они стали похожи по возвращении в Городок — на кочегаров.
Ровно через двое суток, в полдень, в ванной открылась дверь и из неё вышли Томас и Леся. И тут их поджидал... сюпра-а-а-айз!
Надо объяснить. В первую же ночь после исчезновения нашей парочки к дому Леси прибыли гости. Сначала сняли охрану. В буквальном смысле. Во дворе, когда оба охранника задремали в машине. Затем в открытую форточку квартиры Леси бросили бутылку с коктейлем Молотова. Это было несложно сделать — она жила на втором этаже. Пламя занялось хорошо. Дальше каждый делал то, что должен был делать. Неизвестные смылись. Пожарные приехали вовремя и успели потушить огонь, пока он не перебросился на соседние балконы. Милиция начала искать хозяина квартиры. Соседи на следующий день не побрезговали порыться в поисках чего-нибудь ценного, но мародеры ушли без награды — уж очень огонь был прожорливым.
Когда наши курортники вернулись, то перед ними предстали обугленные стены, закопченный потолок, залитый водой и пеной пол, черная мебель, вернее то, что от неё осталось. Там был диван с торчащими во все стороны пружинами, жалкие огрызки столика, пластиковые горшки для цветов, которые больше напоминали растаявшее мороженое, только не белого, а гудронного цвета; лопнувший бутыль и торчащие из него палки — тот самый букет. Леся, увидев всё это, и вдохнув отравленный полный гари воздух, оцепенела. Она силилась хоть что-то сказать, но не могла — всё, что ей было мило в этой жизни, и что она успела накопить — хранилось здесь, в этих тесных двух комнатах. Фотографии, посуда, постельное белье, одежда, обувь, украшения, милые безделушки. И вот теперь её, дорогое сердцу прошлое, вдруг превратилось в угли.
Томас, не раздумывая, взял Лесю в охапку и потащил во двор. Выйдя на улицу, он остановил такси и, посадивничего не соображавшую девушку на заднее сидение, приказал водителю, что бы гнал на цыганский посёлок.
Всю дорогу Леся молчала.
Женщины падки на истерики, но только если рядом есть тот, кто готов их выслушать. Томас подходил на эту роль, но водитель к такой категории не относился, поэтому за всю дорогу Леся не проронила ни слова. Стоило машине подъехать к воротам дома, калитка сразу открылась — их уже ждала помощница Антонины Петровны — Катерина. Расплатившись с таксистом, Томас провел Лесю на террасу. Усадил в кресло-качалку и приказал ждать. Зайдя в дом, он строго посмотрел на Катерину, которая перед приездом гостей закатывала банки с вареньем. Вытирая руки о передник, она кивнула в сторону двери и спросила:
— Успокоить?
— Да. И уложить спать.
Томас вернулся к Лесе, но не подошел к ней, не обнял, остановился в нескольких шагах от кресла.
Час назад они купались в океане. Тихоня ещё чувствовал на своей спине покалывание острых коготков. В его голове ещё не умерло эхо хриплого дыхания, обрывков слов и плеска волн. Он помнил пьянящую разницу между прохладой воды и обволакивающего чресла жара. В памяти сохранились её припухлые губы и наполненный любовным безумием шальной пьяный взгляд... И вот эти красивые нежные глаза сейчас полыхали такой ненавистью, что она, наверное, могла бы остановить метеорит.
— Ты отомстишь? — вопрос был задан без требовательных ноток — Леся не спрашивала, и не приказывала. Она знала.
Тихоня ухмыльнулся. Такая улыбка не сулила ничего хорошего тем, кто решил меряться силами с Томасом Чертыхальски.
24 Допрос
В тот самый момент, когда Томас обещал найти обидчиков, Антонина Петровна находилась на рабочем месте и безуспешно боролась с жарой. Баронесса холода не боялась — зимой открывала форточку, заставляя посетителей перед тем, как зайти к ней в кабинет, кутаться в шарфики, — а вот с летней парилкой отношения у неё не складывались. Когда на термометре красовалось более 25 со знаком "плюс«,баронесса болела. Её бросало то в жар, то в полымя, в голове темнело, в груди давило. Вентилятор над головой и веер в руках помогали, но не настолько, чтобы чувствовать себя в кабинете комфортно. И вы не забывайте, что Унгерн работала в здании, где стены зимой быстро прогревались, а летом хорошо сохраняли прохладу. Однако всё зря.
Душ, курительные палочки с благовониями (Таиланд, Китай, Турция), мороженое весовое порционное (по 1 кг), влажные салфетки (французские), детская присыпка (Джонсонс и Джонсонс — это не реклама), «Ессентуки» (это реклама), домашний квас литровыми кружками — вот не самый полный список способов борьбы с пеклом. В тот момент, когда позвонила Катерина, баронесса доедала второе за сегодняшний день корытце пломбира.
Заметив, как заплясал телефон, Антонина Петровна, не выпуская из коротких пухлых пальчиков чайной ложечки, свободной рукой взяла трубку.
— Шо надо?
Диафрагма проскрипела:
— У Томаса... — шипение, — приехал с девкой, тебя треб... — шипение.
Баронесса отрезала:
— Ничего, подождет... — и уже спокойнее: — Когда связь наладят?
Через полчаса к даче подъехала двадцать первая «волга». Дверь открылась, машина наклонилась на бок, хозяйка вышла, и «Волга», качнувшись, заняла горизонтальное положение. Не успела Антонина Петровна дойти до ворот — калитка распахнулась.
На пороге хозяйку встречали Катерина и Томас.
— Вы меня точно барыню... — пробурчала баронесса, размахивая веером. — Ну?
— Нас сожгли, — сказал Томас с легкой издёвкой в голосе.
— В смысле? — Антонина Петровна сложила веер и хлопнула им по ладони.
— Натуральном.
Тоня оглядела его с ног до головы. Веер отбил по ладони ритм «тук-тук-тук».
— Что-то не вижу волдырей и копоти. Разве что шлепки испачкал и, — потянула носом, — да сажей несёт.
Чертыхальски парировал:
— Ирония в данной ситуации неуместна. В то время, пока я отсутствовал, кто-то сжег мою квартиру.
— Квартиру, которую ты снимаешь?
— Да, которую снимаю.
Тоня прижала веер к сердцу.
— Девочка не пострадала?
— Она была со мной.
Подойдя к кустам, Тоня посмотрела через ветви на террасу, где в кресле уже спала Леся.
— Симпатичная. Нос длинноват, а так, сойдет.
Повернувшись к Томасу, Антонина Петровна взяла его за пуговицу на джинсах и подтянула к себе.
— Скажи-ка мне, котяра, а где ты шлялся эти два дня? А?
— На острове.
Баронесса улыбнулась сладко.
— На о-о-острове... А какое ты имеешь право на наш остров девок водить?
— Хочешь сказать, ты никого не катала, — усмехнулся Томас, но, встретившись с ледяным взглядом баронессы, смолк.
— Никогда. Никого.
Он не выдержал — опустил глаза, потупился.
Хозяйка вдруг встала на цыпочки, приблизилась к уху Тихони и прошептала:
— А хотелось...
Велев Катерине поставить машину в гараж, Антонина Петровна с Тихоней удалились на второй этаж — держать совет.
Поднявшись по скрипучей лестнице и осмотревшись, Чертыхальски не удержался от колкости:
— Ты бы мебель поменяла, что ли? Не дом, а музей имени Калинина.
Тихоня не преувеличивал. Личное царство Тони украшали: большой комод с ящичками, слоники, рюмочки, беседки с глазком — это такое пластмассовое чудо, смотришь в кружочек, а там — фотография, как живая; сервант с хрусталем, на стене над кроватью ковер с оленями, в углах под стеклом в старых рамах вышитые крестиком гобелены.
— Всё за барахлишко держишься? — не унимался Томас.
— Не учи ученую. Я по островам не шляюсь, дома ночую. Захочу — поменяю. Увянь!
Сели друг против друга за круглым укрытым бархатной скатертью столом. В центре блестел поднос, на котором стоял окруженный гранеными стаканами графин. Тут же рядом были навалены бумаги и серые папки. Тихоня, услышав, как жалобно заскрипел под Тоней стул, подумал, что не хватало ещё, чтобы она сейчас грохнулась на пол.
— Но стулья-то могла купить? Или с работы притащи — у тебя там этого добра.
— Куплю! Видишь, — хозяйка кивнула на накренившуюся на бок стопку папок, — полугодовой отчет сдавала. Тут нет времени задницу подтереть, а ты развопился.
— Ага, немытая ходишь.
Антонина Петровна так грохнула своим кулачищем по столу, что в серванте посуда звякнула.
— Да пошел ты. Я всё бросила, прилетела, а мне ни спасибо, ни пжалуста!
На такие речи Томас ответил очень спокойно:
— Так я на остров съездил за «спасибо».
— Это как? — баронесса замерла.
— Загадка номер один. Как я мог поехать на остров за «спасибо»? Туда запросто не пускают, а я побывал. За «спасибо».
Тихоня улыбнулся так, что засияли все его зубы, да ещё и бровями издевательски поиграл вверх-вниз.
— Не догадываешься? Тогда тебе для разогрева ещё одна загадочка. Как можно убить беса, если бес бессмертный?
Антонина Петровна положила локти на стол и подперла подбородок ладонью.
— Слушай, родной, тебе уже сколько лет, а все в детство играешь. Не надоело?
— Не, — ответил Томас. — Я всегда говорил, что лучше ходить в детский сад, чем в дом престарелых.
— Ой, ой, ой! Держите меня — пионэр!
— Давай ближе к делу, Тоня. Отгадочка готова?
— Не знаю, — хозяйка вздохнула, — На вторую — не знаю.
— А про «спасибо»?
— Что сложного? На «слове» зацепил. Трюк старый — не все помнят.
Заметив разочарование Томаса, она добавила:
— Но получилось весело — не спорю. Без каламбуров не можешь.
— Ладно, — Томас подобрел. — Давай лучше отчитаюсь по чистеньким. Номер «два» вычеркивай, у неё защита такая стоит — зенитная батарея. Зыркают, так и ждешь, что насквозь пробьют. Мне одно орудие даже в радость, но когда они пучками наседают...
— Детки?
— Их там вокруг ошивается — все мал-мала-меньше. Ну их! Подсунь Катю старичкам — пусть порадуются. Номер «один» тоже не по мне. Нечего поэтесс недотраханых подсовывать. Графоманок... Свистун, который мне попался, это номер «шесть»?
— Ваня? Не, это муж Леонеллы Францевны. Когда-то нормальным мужиком был, в отчетность по полгода не попадал... Когда у жены дела пошли в гору, спиваться начал. Сейчас вроде в завязке. А номер «шесть» — это Иваша Миклухо-Маклай. Наш, местный, без царя в голове. Поэт. В Городке лет пять не появлялся и вот, говорят, на рынке видели. Где носило — не знаю, и что он сейчас делает тоже. Такое странное ощущение — есть человек, а я его не чую, и получается — нет человека. Ты за него не переживай, теперь он моя забота. Сама найду.
— Не чуешь? Такой чистенький?
— Выходит, — сказала Тоня и замолчала, задумалась.
— Ладно, — махнул рукой Тихоня, — разберемся. Кстати, «пятый» уже покоцан.
— Разве?
— А прислушайся.
Баронесса прикрыла глаза. Расслабилась... Вдруг как подскочит:
— Так она же у меня гостит!
— Ага, — Томас сиял, как Архимед после бани. — Вот тебе и спасибо.
— Объединил, сволота. Окучил девку и на острове позагорал. Ну... жук...
Антонина Петровна вдруг насупилась, задышала сердито. До неё дошло.
— Слушай, не хотела. Так само получилось.
— Проехали. Наверное, просто совпадение.
Вот только ухмылка Томаса показывала, что он не верит в свои же слова. А Тоня не стала спорить, наоборот, она начала наступать:
— Какое уж тут совпадение? Ты и совпадение? Ищи дуру. Томас! Опять за старое взялся?! А? Ты зачем приехал?
— Отдохнуть.
— Ну, чтоб вас всех да через пердак... Пустила в курятник! Расслабилась. Пожалела, а он вот как отплатил. Лучше сразу скажи, что наклёвывается? Что удумал, гад?
Томас поморщился.
— Говорю, не в курсе. Лучше колись, что это за Сермяга такой? И почему вокруг него столько швали танцует?
— Андрей?
— Не, отец.
— О! Папаша... Пойдем, покажу.
Тоня отвела Томаса в свою спальню. Здесь обстановка тоже напоминала о давних десятилетиях уходящего века. На полу был расстелен бухарский ковер, ещё два висели на стенах. Между окон стоял большой черный шкаф довоенных времен. В углу купеческая кровать с блестящими шарами, пирамидой подушек и подушечек. На самом видном месте висела картина в богатой раме. Вернее, укрытый стеклом рисунок карандашом.
Томас подошел ближе, чтобы лучше рассмотреть. На большой охапке сена сидела женщина — маленькая голова с высокой прической, на породистом лице застыло самодовольное выражение; узкие плечи, массивные руки с маленькими кистями. В одной женщина игриво держала плетку, во второй — тортик. На лакомство устремились копошащиеся вокруг... Сперва Томасу показалось, что по земле рассыпались крысы, мыши и тараканы, а потом почудилась грязь, и только приглядевшись, он различил рожки, хвостики, пятачки. Когда подошел вплотную и прочел выдавленное на золотой дощечке название, начал смеяться. Там красовались два слова «Наша власть».
Чуть успокоившись, вытирая невольно выступившие слезы, Тихоня спросил:
— Он с тобой знаком?
— В том-то и дело, никогда не виделись, а схватил, гад, — Антонина Петровна хохотнула баском: — Вот какой у нас был Сережа.
— Где взяла?
— Где-где? Украла. Я почувствовала, когда он её ещё задумал. Следила не отрываясь. Когда закончил, увидела, что вышло, и тогда стибрила. Разве я могла такую улику оставить в чужих руках?
— Но тут никакого портретного сходства.
— Да, но попал! — Тоня хлопнула ладонью по столу. — А если кто из старших увидит? Тут большого ума не надо, догадаются. Попробуй потом докажи, что не с натуры...
— Бывает же такое, — покачал головой Томас.
Ему представилось, как темной ночью в полночь крадется баронесса Антонина. Ветер шумит в кронах тополей, тревожно кричит выпь, скрипят половицы крыльца, хлопают ставни, где-то далеко лают собаки, в руках у неё огромная фомка и мешок. На лице воровки черная маска, а на ногах белые кроссовки. Почему белые, и к чему тут ставни, половицы и вой собак, ведь художник жил в многоквартирном доме! Томас подумал, что вот такие обывательские мелочи и лишают удовольствия фантазировать.
— Какой он был человек? — спросил Томас, вернувшись на грешную землю.
— Веселый. Розыгрыши любил. Подарки друзьям всегда дарил с подвохом. Однажды пришел на день рождения к приятелю из бригады, большому любителю фантастики, и подарил ему труд под названием «Вперед к коммунизму». А Васе Любичу на день рождения преподнес пастуший бич. Говорит, ты ведь коногон, вот и будешь коней гонять.
Тихоня и хозяйка вернулись в гостиную.
— Жаль мужика — на бабе погорел. Приехала тут одна плюгавая, евреичка. Окрутила и увезла. Хотела её машиной, — не на смерть, а так, чтобы на колясочке покаталась, — но руки не дошли. Когда спохватилась, Сережи уже не было — уехал.
— А сын?
— Очкарик. Со странностями.
— Пишет хорошо?
— Не знаю. Я его, в отличие от Сережи, не слышу.
— Выходит, сынок не в папеньку?
— Выходит так.
— Пощупал я твоего Андрюшу за жабры. Толковый. Можешь его тоже вычеркивать — пусть живет.
Томас вдруг взял стул, поставил рядом с баронессой и спросил строго, резко, как хозяин:
— Кто нас сжег?
Антонина Петровна пожала плечами.
— Не знаю. Я бы почувствовала.
Чертыхальски поправил волосы, завел их за свои хрящеватые острые уши.
— Поджог — это грех?
— Грех.
— Так как же он мог пройти мимо отчетности?
— Не знаю, — покачала головой хозяйка. — Там кто-то сильнее меня работал.
— Что-то плохо верится. Сильней тебя? Ты же здесь хозяйка! Скорее сама подослала, а теперь юлишь.
Антонина Петровна снял с носа очки и, протирая стеклышки салфеткой, ответила:
— Какой резон? Оно мне надо? Как ты приехал, я вообще не напрягаюсь — всё за меня делаешь.
— Чужаков чула?
— Да их столько! За всеми не уследишь: туда-сюда шастают. Скорости — вон какие.
Томас не стерпел, взорвался:
— А ты, голуба моя, туточки на что поставлена? Не успеваешь — в три шеи! Или на курсы повышения квалификации отправить?
— Ага, во Фрунзенское!
— Дождешься. В Салехард! Скажи, из Пруссии был кто?
— Тихоня, тут боятся нечего. Два теннисиста на турнир приехали, но они кроме стадиона и гостиницы ничего не видят, завтра уезжают. Пара консультантов с коксохима второй месяц пьют, что-то там с нашими обмывают... и всё вроде.
— Есть ещё кто?
— Всех не перечислишь, много. Протестантов-сектантов, как саранчи. Учителя в инязе, инженеры — французы... Да что гадать? Приезжих среди них нет. Все здесь задолго до тебя. Пожар я прошляпила, каюсь, но ведь и ты хорош: не сказал, где остановился. Если б знала, где твоя нора, я бы на сигнализацию её поставила, а так — ищи свищи. Пожаров и без тебя хватает. К тому же всё сходится. Я твою кошечку раньше не чула.
Томас задумался.
— Блин, что же тогда делать?
Хозяйка прокашлялась.
— Подожди, это ещё не всё. Я чего задержалась. Только собралась к тебе, тут звонок от нашего знакомого. Пал Сергеича.
— Крымского?
— Его самого. Говорит, что двух его беркутов — того... Возле твоего дома паслись, как бы охраняли, а сегодня утром их нашли... В лесополосе.
— И что там?
— В сгоревшей машине.
— Ого! Это серьезно, — присвистнул Чертыхальски.
— Более чем.
Томас сжал пальцами виски.
— Странно. Никто не знает, что я здесь. Леся не такая уж и цаца, что бы ей вредить. Разве что, через любовницу хотели насолить этому... Валику...
— Вполне возможно, — баронесса замерла, прислушалась к чему-то, — Нет, отпадает. У Вали в запасе несколько лет спокойной жизни.
Вдруг Антонина Петровна хлопнула себя по коленкам.
— О, святые угодники! Как я забыла? Я тут в Городке на такой случай держу одного гов... — хозяйка не договорив, прикрыла рот рукой и вдобавок похлопала ладонью себя по губам. — В общем, имеется один старичок. Все про всех знает — сама вскормила.
— И он скажет, что случилось?
— Если хорошо попросить.
Томас начал закипать.
— Слушай, подруга. Хату спалили в ночь с понедельника на вторник, сегодня четверг. Время уже укатило, а мы все балачками балуемся.
— Не скажи. Умная мысля — как награда, её заслужить надо, — баронесса встала, налила себе в стакан из графина воды. — Ты оставайся, а я через часик, может раньше, подкачу.
В два глотка осушила тару. Поставив стакан на стол, Тоня сказала задумчиво:
— Давно же я его не проведывала... Дуется, наверное... Всё, Томчик, жди. Я поцокотила.
25 Вперёд, в прошлое
Пока Тоня цокотит, разрешите сделать отступление. Оно не будет коротким, поэтому наберитесь терпения. Вы конечно заметили, что в моем рассказе слишком часто уж стали появляться какие-то странные пруссаки, которых так опасается Томас. Отсюда эти крики, нервы и ссоры. Но вы же не понимаете, отчего завелась вся эта нервотрепка, а я не спешил все разжевывать — тянул до последнего. Что ж, дело подходит к экватору и, похоже, пришло время ещё для одного возвращения в прошлое Томаса.
Вы не замечали, что некоторые прочитанные вами романы похожи на здания — у них строгая архитектура, крепкий фундамент, монолитные стены, лестницы с крутыми ступенями и где-то спрятан темный пыльный чулан с привидениями, скелетами и пауками. Подобные истории выходят из-под перьев писателей-архитекторов или математиков. Моя рассказка — нечто совершенно иное. Какие уж тут крыши, колонны и оконные витражи? Тут как бы не сбиться, не зачастить, утопая в деталях. Явление Томаса Чертыхальски в Городок подобно ручейку, пытающемуся среди камушков пробить себе простейший и ближайший путь к развязке. Архитектором меня сложно назвать, но ведь я и не писатель! Биограф, — вот это слово подойдет точнее. Скоро вы поймете, кто я на самом деле и почему столько знаю о прошлом Городка, и кто научил меня понимать людей, его населяющих. Но прежде, чем мы с вами познакомимся ближе, мне придется раскрыть некую тайну. Пора уже. Думаю, вы к ней готовы.
Как ни забавно, но это ещё один вариант, как бы я мог начать свой рассказ. На самом деле — это великий соблазн, закрутить историю Томаса с ночи его настоящего взросления...
Кто знает о церемонии великого гадания, тех прошу перейти на два абзаца ниже, ну а если вам сие словосочетание неведомо, просвещаю. В давние-предавние времена, в начале или конце каждого века в одном из поселений, а потом, деревень, а потом свободных городов Старого Света собирались некие силы на великое гадание. Как происходит отбор гадателей, никто не знает, но доподлинно известно, что в церемонии принимают участие ровно девять особ любого пола и не суть важно, какого возраста, сословия, образования или национальности. Есть некоторые исключения, но я бы о них вообще не хотел упоминать, по понятным мне (но не вам) причинам. Кто умный, тот догадается. Крестьяне и священники, голытьба и аристократы, проститутки и белошвейки — все могут оказаться за одним столом. Ну, почти...
В чем состоит таинство церемонии? Если к вам утром-днем-вечером постучатся в дверь три — обязательно три — бородатых старца-друида, а на груди у них будут висеть золотые цепи с круглыми медальонами в виде солнца; если они вручат вам запечатанный сургучом пергаментный свиток и монету, — знайте, вы приглашены на церемонию и в ваши руки вручена судьба народов старушки Европы на ближайшие сто лет. Про друидов — это я так, для красоты. На самом деле, наряды бывали разными. К гадателям являлись жрецы в костюмах венецианских купцов, губернских секретарей, чумных докторов, судей, палачей и пр. Помимо пергамента из мягкой телячьей кожи— здесь пока сохранялось завидное постоянство — передавались кроны, дублоны, талеры, рубли и пр. Монеты обычно были золотые, но не обязательно. Получив приглашение, вы обязаны в недельный срок попасть в место, где должно произойти гадание. Адрес и время прибытия написаны на пергаменте.
Но берегитесь! С минуты получения грамоты церемония начинается, и вы становитесь участником гадания со всеми вытекающими последствиями, обязанностями и ответственностью. Сможете ли вы добраться до места без приключений, в целости и сохранности? Как вас встретят? Какое место отведут? Выиграете или проиграете? Как выиграете? Как проиграете? Хотя, лучше об этом не думать. Если на вас указал перст Судьбы, значит, всё у вас будет хорошо, и трудности, которые выпадут на вашем пути — не более чем шалость Фортуны. Ну а если задание окажется не по силам, подстережет неудача или нелепая случайность, то горе вам и вашему народу — в будущем столетии вам всем лучше не высовываться... А вот счастливчика, увернувшегося от ловушек, капканов, оставившего всех с носом, ждет бесценныйдар — исполнение любого желания. Да, прямо как в сказке, но на самом деле это малая награда, несоизмеримая с той, которую получит народ-победитель, ведь в ближайшие сто лет стране, представитель которой за столом церемонии останется последним, придется править Европой и никто не в силах этому помешать — великое гадание ни разу не ошибалось.
О том, как прошла последняя церемония, можно написать целый роман. Наверное, когда-нибудь я за этот труд и возьмусь, но в данный час свою задачу вижу в том, чтобы подробно и правдиво рассказать, что же произошло в августе 1999 года в моём родном Городке...
Если же на чистоту, только между нами... Я не знаю всех подробностей того, что произошло почти сто лет назад, поэтому всё, что вы прочтете ниже — снова подсмотренные мной чужие сны и воспоминания, то есть вас ждёт ложь, помноженная на вымысел. Посему извините за краткость.
Что ж, начнем...
В предпоследнюю среду декабря 1913 года к одному из домов Кенигсберга подъехала карета с шестеркой вороных лошадей. Из неё вышли три гонца. В этот раз они были в сутанах иезуитских монахов. В вышеуказанном доме жили известные в городе конезаводчики — братья Михаэль, Иоганн и Ральф Шульцы. Средний брат получил не старинный золотой, а серебряный пиастр, или как его раньше называли, — столбовой доллар. Именно на плечи Иоганна была возложена честь представления Пруссии в великом гадании. Через неделю он был обязан прибыть в город, который мы сейчас называем Брестом, и в двадцать два ноль-ноль войти в часовую мастерскую, где хозяйничал некий Генрих Кис. Так сложилось, что перед приходом гонцов Иоганн собирался в дорогу — у него была запланирована поездка в Вильно. Поэтому на семейном совете было принято оправданное немецкой практичностью решение: совместить оба предприятия, сделав маленький крюк. Все-таки Брест — не Лиссабон.
Как я уже рассказывал, на пути гадателей обязательно будут подстерегать необъяснимые болезни, природные катаклизмы, неведомые враги — без этих мелочей не обходится ни одна церемония. Братьям Шульцам выпал жребий не из легких. Нет, не бубонная чума или крушение поезда. Им пришлось сразиться с нашим героем — Томасом Чертыхальски, который как раз в эти дни гостил у своего педагога и покровителя — баронессы фон Унгерн. Два вектора — Иоганн в окружении братьев, и Тихоня с двумя мальчишками — подельниками в его тихих делишках, встретились в субботу на Ратушной площади города Вильно.
Смешно сказать, но ход истории изменился оттого, что у Тихони зачесался кончик носа. Такое случалось с ним, когда рядом назревало что-нибудь тайное, запретное, когда в чьей-то голове молоточками стучала мысль: «Тише, тише, тише, чтобы только никто не узнал». Доверившись чутью, Томас переключил внимание с толстого кошелька мануфактурщика, который пытался залезть в экипаж, на трех невысоких сухопарых мужчин в котелках и зимних кожаных плащах с воротниками из волчьего меха. Троица успела пересечь площадь и шла в направлении еврейского квартала. Тихоня видел братьев всего мгновение, и... ему этого хватило. Походка, напряженные спины, гордая посадка голов, тусклый блеск холодных глаз — всё говорило о тайне, опасности и... прибыли! Подозвав напарников, Томас дал каждому указание следить за новой дичью. Особо не наглеть: главное — узнать, чем занимаются и где остановились. Сам засел в кабачке за чаем с баранками. Через час Тихоня узнал, что братья Шульцы приехали в Вильно договариваться об участии их лошадей в предстоящих скачках. Остановились в гостинице за университетом, отъезжают сегодня вечером. Билеты на поезд уже куплены. Выходят на станции Брест-Литовск.
Не густо.
Томас уже начал жалеть о потере кошелька, однако не перестающий чесаться нос показывал, что не стоит бросать троицу в волчьих воротниках без боя. То, что произошло дальше, вошло в историю мировых авантюр, как самая простая по исполнению, но разрушительная по последствиям афера нашего времени.
Иоганн с братьями стал собираться в дорогу. Вызвали экипаж. В столь хлопотном деле им вызвались помочь консьержи — три мальчишки в форменных курточках. Парни вынесли чемоданы из номера, погрузили их на багажную полку, помогли закрепить и получили честно заработанные чаевые. Только через час — здесь можете поставить столько восклицательных знаков, сколько вам не жалко — через час после отправления Иоганн обнаружил пропажу грамоты из подкладки сюртука. Он всё время проверял в кармане жилетки пиастр — его-то воры не тронули — а про грамоту на время забыл.
Пропажа пропуска взбесила братьев. Чтобы вернуть пергамент, они решили разделиться. Иоганн и Ральф продолжили путь, а Михаэль сошел на ближайшей станции и вернулся назад. В гостинице, сломав два пальца дежурному консьержу, старший из Шульцев узнал, что мальчишек тот никогда раньше в гостинице не видел. Когда консьерж не смог ответить на вопрос: «Какой дурак платит империал за право заработать пару грошей?», — Михаэль сломал ему ещё два пальца.
Проклиная всё на свете, Шульц-старший отправился догонять братьев. Он понимал — искать трех воришек в незнакомом городе — полная бессмыслица. И был прав. В ту минуту, когда Михаэль подъезжал к вокзалу, румяный после ванны Тихоня, набросив на голое тело мягкий шерстяной халат, сидел в глубоком не менее мягком кресле и пил мелкими глотками тёплое молоко с топленым маслом. Напротив него на диванчике расположилась баронесса и читала свиток. Ни голосом, ни единым движением тела она не выдавала своего волнения, только бьющаяся на шее жилка указала Томасу о важности его добычи.
Баронесса села прямее, подняла подбородок выше.
— Мой мальчик, — голос её был торжественен. — Оказывается, мы были приглашены на праздник, но нас забыли об этом предупредить. Что ж, ты исправил эту оплошность.
Только женщины с их наглостью и беспринципностью могут вступать в бой, когда у них ни то что козырей, но и завалявшейся пары нет. Но тут такое дело... Антонина Петровна, баронесса фон Унгерн, Томасу-Тихоне Чертыхальски преподавала как раз эту самую наглость и беспринципность! Не имея никаких юридических или моральных прав на участие в великом гадании, наставница решила рискнуть.
31 декабря 1913 года — это по новому стилю, а по старому юлианскому, 13 января 1914 года, за час до указанного времени экипаж с нашей парой въехал на рыночную площадь Бреста. Кучер баронессы с трудом протиснулся как можно ближе к часовой мастерской — все пространство перед домом уже было занято рядами парадных экипажей. Ржание, ругань, щелчки хлыстов, гудение рожков. В глазах пестрело от плюмажей на сбруе лошадей, попон, позолоты, аксельбантов украшающих мундиры пажей. Газовые фонари и фары сияли со всех сторон, освещая площадь как днём. Изредка попадались обычные дилижансы, но Томас на них не обращал внимания — черезмутное стекло он рассматривал механических фыркающих бензиновыми парами монстров. Раздавливая своими красивыми шинами снежные комья и конские яблоки, между каретами и лошадьми всех мастей ехали аристократы — омнибусы Delaunay-Belleville, Minerva и Delahaye. Им, уступая дорогу, сигналили Piccard-Pictet, Bugatti, Panhard & Levassor и Scania-Vabis 3S Phaeton. В хвосте пристраивались скромные, знающие свое место, De Dion-Bouton и M.A.F. Torpedo.
Когда машины останавливались, затянутые в кожу водители открывали двери пассажирам: дамам в вечерних платьях, мужчинам в смокингах и фраках. Пустые глаза, пустые тела, а снаружи бриллианты, атлас, шелка, сибирские соболя, венецианские кружева, жемчужные бусы, запонки с изумрудами и рубинами, сигары в углах хищных ртов...
Не слушайте меня — я всё равно не в силах отразить и сотой доли правды о той Церемонии...
Выходной туалет баронессы был подобран по последней петербургской моде, но без излишнего шика: приталенное платье из шерстяной ткани с ручной вышивкой, на плечах платок а ля рюс, горжетка и муфта из меха горностая; аккуратная шляпка с каракулевыми полями, черной вуалью и рубиновой брошью, державшей перо додо. Томас терзался в объятиях пошитого для него фрака. Эх, если бы ему ещё парочку уроков, как его носить!
Прежде чем открыть дверку экипажа, Антонина Петровна взяла Томаса за руку и сказала:
— Тебя здесь не ждут, но мы получим то, что нам принадлежит по праву. Пошли, мой мальчик, покажи им всё, чему я тебя учила. А теперь главное — чем бы ни закончилось наше приключение, отнесись ко всему с иронией и юмором. Хорошо?
Вышли. В обрамлении черных коробок домов виднелась широкая залитая светом площадь. Снова газовые рожки, конское ржание, тусклое золото на белоснежных открытых шеях, резкие гудки клаксонов, девичий смех и над всем этим морозный пар от дыхания животных и людей, а ещё выше — алмазное сияние холодных звезд. Наверное, так и было... Как-то же оно было?! Но, хоть убейте, мне сейчас трудно представить самых могущественных и богатых европейцев в такой дыре! Брест и нынче-то не Монте-Карло, а в те времена — и подавно. Впрочем, кто я такой, чтобы указывать, где проводить великое гадание?
Очередь таяла быстро — гости у входа долго не задерживались. Наконец наша пара подошла к двери, над которой красовалась вывеска «Часы». Томас первым переступил через порог и оказался в длинном освещенном свечами коридоре, укрытом кроваво-алым ковром с синими полосами по краям. Стены оббиты шелком пастельного цвета с расплывчатым ускользающим от внимания узором. Под привинченными к панелям канделябрами на полу были видны грязные кляксы от восковых слез.
Пройдя до середины коридора, Томас и Антонина Петровна предстали перед моложавым офицером в походной форме мадьярских гусар. Доломан цвета свежей травы, эполеты, ментик на плече, перо от кивера достает почти до потолка, небесно-голубые рейтузы, высокие сапоги при шпорах, сабля. Щеки припудренные, усы напомаженные, под правым глазом мушка.
Баронесса и Тихоня поклонились.
Стражник, накрыв рукоять сабли правой ладонью, спросил по-русски:
— Ваш пропуск?
Баронесса достала из муфты пергаментный свиток и подала гусару. Поручик, осмотрев сломанные печати, перевел свои черные, как маслины, всепонимающие и принимающие глаза на Антонину Петровну, затем на Томаса.
— Один приглашенный не смог добраться вовремя — случился удар-с, — сказал гусар с усмешкой. — Одно место вакантно. Кто из вас изъявит желание принять участие в Церемонии? Швабы? Э... русские?
Баронесса улыбнулась краешками губ.
— Не пристало Вюртембергу ссориться с Пруссией. Гадать будет обладатель приглашения.
Гусар, подавая Тихоне появившийся в его руке пиастр, отчеканил:
— Томас Чертыхальски, вы приглашены на Церемонию Великого Гадания. Своей честью вы будете представлять Великое Княжество Киевское, с которым связаны материнской кровью. Вам всё понятно?
— Так точно, — ответил Тихоня.
Гусар, звякнув шпорами, отдал честь, и, открывая путь гостям, сделал шаг в сторону.
Как я уже отмечал, мне доподлинно не известно, что происходило 31 декабря 1913 года на Церемонии — я там не был. До меня дошли только обрывки фраз, мысли, размытые кусочки воспоминаний... Однако кто рассказчику может запретить фантазировать? Мы любим былины, страшные и поучительные притчи, смешные и грустные побасенки в восточном стиле, с мужественными воинами, мудрыми и скупыми раджами, ловкими ворами и коварными разбойниками, хитрыми дервишами и бесстрашными купцами; сказки, пересыпанные драгоценностями, поэмы, наполненные ароматами благовоний, шафрана, корицы, розового масла... Мы любим всю эту мишуру, дымы, конфетти... Сладкий вымысел, недосказанность, трюки провинциального варьете, мишура, бенгальские огни. Игры теней скрашивают серость, тупость, гнет и тлен повседневья. Жизнь скушна, господа, скушна, как долгая зимняя ночь без морфина. Так почему бы нам не поиграть? Почему бы не разогнать печаль? Давайте вместе представим мир худющих переполненных желчью банкиров, набриолининных министров с моноклями в глазу, толстых — это обязательно — бургомистров с золотыми цепочками на жилетках, эпископов и судей, князей и лордов. Вот бы вы удивились, попав в зал Церемонии! «Ла Скала», «Большой театр» или что-то среднее между ними — вот куда попал Томас. Драпированные аксамитом ложи, хрустальные подвески люстр, свечей нет — только электричество, море биноклей и снова преследующий вас блеск драгоценностей...
Фраки ослепительны, бабочки изящны. Веера дрожат. Улыбки предвкушения, горячий шепот на ушко милой соседке, а глаза вниз — в открытое декольте... Кокаин с ложечки в каждую ноздрю, отрезвляющий глоток спирта из фляги...
Вот, наконец, на сцене появляются актеры, которым предстоит разыграть пьесу на девятерых. Каждый из труппы, прежде чем предстать перед публикой, пережил отмеренное ему драматургом приключение — сразился с грабителями, вылез из трясины, по счастливой случайности разбил бокал с ядом. Испытания позади, впереди — бой с Неизвестностью. Актеры-кубки, наполняющиеся надеждой и верой, но большинству из них придется выплеснуться отчаянием, тоской и обидой, ибо только одному суждено встать из-за стола победителем. Трепет, благодарность, экстаз победы не для всех. Для одного.
Ранее участники Церемонии находили победителя благодаря заточенным палочкам, картам, костям, домино — мало ли забав на свете? Но в начале прошлого века игроки собрались за обтянутым зеленым сукном столом с цифрами и диском с лунками.
Гадающие положили пиастры на номера. Томас после недолгого раздумья, закрыл пятерку. Заправлял Церемонией крупье — старик в смешном фиолетовом трико, зеленом камзоле и холщовой остроконечной, похожей на конус богатыря серой шапочке. На его груди висела золотая цепь с бляхой, на которой было выдавлено солнце.
Игра шла не по известным всем правилам, наоборот — проигрывал тот, в лунку которого падал костяной шарик. Каждый вычеркнутый номер вызывал у публики вздох сожаления. Несчастный тяжело вставал из-за стола, чтобы скрыться за кулисами — раздавленный, ещё до конца не осознавший размеры своей потери. Его сопровождающие также молча покидали театральный зал топить горечь в водке и вине.
Не могу сказать, сколько длилась игра, но в конце за зеленым сукном осталось три игрока: Томас, пожилая англичанка с артритными пальцами и молодой серб в платье семинариста. Зачем тратить чернила и полиграфическую краску — вы и так знаете, что единственным, на кого не указал безжалостный Рок, был наш герой — ревельский юнкер Тихоня.
Первым проиграл серб, поставивший на 28.
Победителя пришлось ждать не долго. После десяти минут игры на нервах, шарик со звонким стуком нырнул в лунку № 23 и страшный визг англичанки заглушил топот тысячи ног, свист и гром аплодисментов. Именно в это мгновение, когда часовой механизм Истории, клацнув, перескочил с одной шестеренки на другую, когда, в ожидании Желания в зале после оваций установилась тишина, Томасом были произнесены те самые роковые, но счастливые для многих слова...
Они были сказаны тихо, даже робко, но услышали их все.
Он сказал:
— Я недостаточно пожил, чтобы загадать желание. Давайте мы вместе встретимся, когда мне будет сто лет... Может тогда я решусь.
Именно в этот миг мальчишка Томас Ченстоховски, воспитанный монахами и китоубийцами плут и жулик Тихоня Чертыхальски в свои без малого четырнадцать лет исчез, испарился, и мир увидел доселе неизведанное новое создание...
Я не знаю, кто первым встал и, подняв над головой кулаки, закричал: «Браво! Браво! Браво!». Я этого не знаю... Но вижу — хоть меня там не было — я вижу своим внутренним зрением тысячи, сотни тысяч теней, вскочивших на ноги и, разбрызгивая слюни, вопящих: «Браво! Браво! Браво!!!»... В этом рёве было столько восторга, столько обожания и любви... Ни одна звезда оперы не слышала в свой адрес подобных оваций. В театре Генриха Киса ревел настоящий камнепад.
В честь победителя был устроен пир. Здесь самое время вспомнить восточные сказки, ибо в ночь уходящего года мир пережил гадание, и все счастливцы и счастливицы, видевшие сие таинство своими глазами, чувствовали себя предупрежденными, а значит... да-да,вооруженными, и они получили право на веселье, восторг и безумие.
Стертые из памяти языческие обряды, камлания, древнеримские вакханалии, шабаши, оргии — все это энциклопедические термины, слова за которыми мало смысла. То, как отмечают гости церемонии наступление нового века нельзя описать, нельзя даже представить, поэтому в этом месте я промолчу. И правильно сделаю! Потому что для нашей истории не есть важно, как Томас танцевал, пил и пел. Для нашего рассказа главное, что с ним произошло утром после праздника.
Чертыхальски проснулся рано. Открыл глаза и понял: больше не заснет. Такое с ним бывало во время первых попоек на «Яснооком» — стоило выпить лишку, так обязательно встанет ночью и мается до утренней склянки. Тихоня приподнялся, посмотрел по сторонам, горько усмехаясь. Перед его глазами ещё стояли картины ночного безумства, но сейчас всё выглядело не так красиво и весело. Перевернутая мебель, разбитые зеркала, разбросанная по столам и паркету еда. Лежащие вповалку не совсем одетые тела. Над всем этим стояло осязаемое полное перегара, едкого табачного и опиумного дыма сизое марево. В нос ударили запахи кислой капусты, жареной селедки, жженой резины, горчичного газа и много ещё чего тошнотворного.
Томас, с трудом выбравшись из объятий тел, нашел чьи-то брюки и камзол; его фрак валялся где-то здесь, но зал был размером с хороший ипподром, и поэтому искать свою одежду не имело ни малейшего смысла. Стянул с кого-то сапоги — вроде по размеру. Из-под жирной храпящей туши вытащил чей-то плащ с меховой подстежкой. Одевшись, обувшись, Тихоня оглядел себя — выглядел он в то утро как мародер, перед которым лежало поверженное войско. Стараясь ни на кого не наступать, он пошел к выходу, где стояли стражники — два высоких наполеоновских гвардейца. Когда Тихоня приблизился к французам, воины отдали честь и открыли ему дверь. Чертыхальски оказался в том самом коридоре, через который попал в зал, только в этот раз он пустовал и к восковым горкам на полу добавились мерзкие лужи, при взгляде на которые тут же подкатывала тошнота.
Как не старался он пройти по ковру ровно, не получалось — хмель всё ещё раскачивал его из стороны в сторону, да ещё в голове почему-то начало темнеть, грудь сдавило, во рту пересохло, хотя уж куда больше?
Томасу показалось, что он бредет по колено в болотной жиже: так тяжело давался каждый шаг. Что ни говори, а он ещё молод для пьяных застолий и объятий щедрых на ласки женщин. А тут ещё нос зачесался...
Вот напасть, — мелькнула мысль, — не хватало ещё во что-то новое вляпаться...
Накаркал.
Ещё как.
Томас вышел на улицу. Успел сделать насколько шагов, как вдруг пришлось остановиться — в изголодавшиеся по кислороду легкие ворвался морозный, сладкий, как антоновское яблоко, воздух. За ночь выпал снег и миллиарды микроскопических зеркал, отражая солнечные лучи, устроили его привыкшим к полумраку глазам настоящую пытку. Зажмурившись, Томас прикрыл тыльной стороной ладони лицо и, поэтому, не мог видеть, как к нему кто-то подбежал. Тишину распорол женский визг — это баронесса пыталась предотвратить неизбежное... Но всё впустую... Закутанный во все черное высокий человек с искаженным бледным лицом сбил Томаса Чертыхальски с ног и толкнул в снег. Прошипев: «Jüdisches Schwein», — человек в чёрном побежал к стоящему вдалеке экипажу. Только он запрыгнул на подножку, возница свистнул, и кони рванули с места.
Томас сначала ничего не почувствовал, ему только показалось, что по необъяснимой причине он медленно-медленно, как во сне, падает, но не на промерзшие камни мостовой, а в пух, и прах, и порох... Когда же он уткнулся спиной в снег, Томасу вдруг сталохорошо, нежно и мягко. Ласковые, как девичьи пальчики, молнии рыскали по его телу. Спину приятно холодило, а в голове, особенно там, где затылок, растекся жар. Сознание затуманилось, но вдруг он почувствовал... Что-то давило на ноги. Приятная истома ушла, и Томаса словно схватили холодные железные клещи, зажали и начали трясти. Издалека, через ватное облако, донесся голос, который просил, умолял о невозможном — выйти, вынырнуть хоть на секундочку из этого прохладного тепла. Вот дуреха! Неужели человек по своей воле способен лишить себя такого неземного удовольствия? Оказывается, может. Томас просто так, ради любопытства привстал, чтобы посмотреть, кто же его держит, кто давит на колени, кто его зовет, наконец? И пошел-пошел из тумана вверх-вверх на голос...
Когда Тихоня открыл глаза, то увидел утреннее девственно-прозрачное небо, белые облачка и умытое снежком апельсиновое солнце.... Он лежал на мостовой в объятиях Антонины Петровны. Вокруг стояли люди и говорили на незнакомом языке. Ещё он увидел похожего на преподавателя университета лобастого бородатого мужчину с маленькими очками на мясистом носу. Он тоже что-то говорил и указывал...
На что?
Томас опустил глаза и не сразу понял, что из его бока торчит рукоять кинжала с красивой отделанной желтоватой костью ручкой.
— Кровь черная — в печень попал... — дошло до сознания.
Учитель приказывал:
— Кинжал не трогать! Тоня, я за ноги, вы и ребятки, за плечи. Давайте в мой экипаж, а там видно будет... Скорее, голубушка!
Это были последние слова, услышанные Томасом Чертыхальски в небольшом городке, который мы сейчас называем — Брестом. Когда Тихоню подняли, он от нахлынувшей волны боли потерял сознание и пришел в себя только спустя две недели на Хоревице, в резиденции Князя Киевского.
Все это время «учитель» был рядом, но больше наблюдал не за Томасом — его здоровье не вызывало опасений, — а за лекарями, чтобы те не ленились. Вечера Князь проводил с баронессой — они сидели в гостиной, гоняли чаи, курили папиросы, спорили, пытаясь расшифровать символы прошедшего гадания. Говорили о будущем, которое их ждало, и, конечно, о судьбе молодого человека, собственно его напророчившего.
Обсуждать было что. Как только здоровье Тихони пошло на поправку, к Князю прибыло посольство от пруссаков. Оные требовали выдачи некого Томаса Чертыхальски, обворовавшего, опозорившего и, наконец, убившего поданного Герцога Пруссии. Совокупность сих фактов, по мнению послов, требовало достойной оценки, коя обязана последовать по прибытии вышеназванного подозреваемого в преступлениях в Бранденбург. Князь уведомил послов, что Томас по независящим от него причинам в данный момент не в состоянии выдержать столь долгий путь для праведного и справедливого суда, поэтому некоторое время должен находиться по месту лечения. Когда посольство удалилось, Князь и баронесса единодушно пришли к выводу: Тихоня должен покинуть Киев.
Вы подумаете, если кража пергаментного свитка имела место, но при чем здесь убийство? Поясняю. Братья Шульцы после утраты одной части пропуска не знали, как их примут в Бресте, и допустят ли к церемонии. Сначала всё шло хорошо. В коридор часовой лавки братья вошли вместе — плечо в плечо. Иоганн достал пиастр и подал его гусару. Мадьяр взял монету, посмотрел ближе, куснул, словно хотел проверить, не фальшивая ли она, и затем подбросил в воздух. Ловко поймав пиастр, он сказал:
— Господа, вы не имеете права присутствовать на церемонии вместо вашего брата, ибо в приглашении написано, Иоганн Шульц, а не Михаэль или Ральф.
Старший и младший переглянулись и с ужасом обнаружили, что их средний брат склонил голову набок и его колени начали подкашиваться. Некоторое время он держался на ногах, а потом обмяк. Михаэль подхватил Иоганна, с ужасом чувствуя, что у среднего брата сердце уже не бьется.
Братья были вынуждены покинуть часовую лавку. Пруссия проиграла, даже не попав на церемонию. Её место впервые в истории гадания заняло Киевское Княжество. Ральф отвезет тело покойного домой, готовить к погребению, а Михаэль остался, чтобы отомстить. Он знал куда бить, как бить и чем бить. Вот только, как вы понимаете, Тихоня всё равно остался жив.
Томас Чертыхальски не мог умереть, ибо стал рабом своего Желания.
26 Соловьи поют, заливаются
Вернувшись, Тоня сразу пошла наверх. Тяжело поднимаясь по скрипящей лестнице, яростно обмахиваясь веером, она сама себя успокаивала, просила не кипятиться, но вся невозмутимость баронессы улетучилось, как только вошла в комнату, и увидела такую картину: Чертыхальски, развалившись в кресле и забросив ноги на стол, кушал мороженое. Ложечкой. На неё и не посмотрел.
Подошла, взяла за грудки, приподняла, так, нежно... и спрашивает:
— Это что же ты, Seckel, такое удумал, га?! Ты шо, берега попутал? Приблуда блохастая. Быстро же забыл, как я с тобой нянчилась! Это такая твоя благодарность за всё моё хорошее?
Томас стащил ноги со стола, встал и медленно, но уверенно освободился от вцепившейся в его рубашку баронессы.
— Не гони лошадей, мать, остынь. Скажи, что случилось?
Невысокая полная Тоня умудрилась нависнуть над высоким тощим Тихоней. Посмотрев поверх очков, рявкнула:
— Ты зачем приехал, подкидыш чухонский?
Томасу вдруг захотелось оказаться подальше от Городка — где-нибудь на Камчатке, среди гейзеров.
— Антонина Петровна, успокойтесь. Когда вы так верещите, я не могу здраво рассуждать — мысли в норки прячутся.
Подождав, пока баронесса присядет, пододвинул ногой стул и примостился рядом. Спина ровная, улыбка вежливая. С постным видом он взял чашку, зачерпнул ложкой пломбир, но баронесса вдруг жахнула кулаком по столу. Тихоня вздрогнул, и чашка упала на пол, разбилась. Наблюдая, как белая лужица растекается по паркету, Тихоня тоже закричал:
— Вот видишь, что наделала!
Он-то знал — баронесса в таких случаях теряется, потому что на неё никто никогда не повышает голоса, но к удивлению Тихони хозяйка продолжила гнуть своё:
— Говори! Зачем приехал?! Что наплел Соловей?
Здесь, надо признать, Тихоне стало дурно. Он любил загадки, интриги, трюки и фокусы. Озадачивал своих жертв, наслаждаясь их глупостью и слепотой, но сейчас перед ним была чужая необъяснимая загадка, даже парадокс.
— С чего ты взяла, чтобы я...
Антонина Петровна со всего размаху, со звонким хлопком, ударила Тихоню веером по руке.
— Не юли! Ты мне мяса дай, а сухари оставь помазкам. Зачем приехал, ирод?
Лицо у Чертыхалськи вытянулось, пошло пятнами. Он то улыбался, то хмурился. Подвинув стул ближе, взял баронессу за руки.
— Тоня, я тебе как на духу, и ты поймешь, что моей вины здесь нет... Я начну говорить, а ты не перебивай... Честно... Не знаю о чем ты...
Тут он понял, если не сменит тему, то может получить веером или хрустальной пепельницей уже по голове.
— Стоп! Я же просил... Не знаю о чем ты!.. Но если мы говорим не о птице, а о Соловье, то разреши внести ясность. Не понимаю, откуда тебе известно, но перед тем, как уехать в отпуск, я услышал от Князя о последнем разговоре со стариком. Князь мне намекнул, что в Городке скоро произойдет нечто любопытное, связанное с церковниками, чудо какое-то или там пророчество. Но ты-то откуда знаешь?
Антонина Петровна сплюнула.
— Вот, Соловушка, гад. Хоть бы предупредил!
Баронесса, скрестив руки на груди, покачалась на стуле.
— Ты в курсе, что он ещё с Мономахом в шахматы играл? От, старая лярва... Ну, и чего он такого сказал?
Понимая, что гроза миновала, Томас ответил примирительно:
— Повторяю слово в слово. Соловей сказал: «Скоро горожанин пойдет на свет и потеряет счастье. И будет беда великая, и все умрут».
— Ну, про «все умрут», я бы особо не заморачивалась, — отмахнулась Антонина Петровна. — Он так все свои побасенки завершает. Хотя в чем-то прав — людишки дохнут, а это каркало до сих пор живёт.
— Князь мне то же самое сказал — слово в слово!
Тихоня горько вздохнул...
27 Его Высочество
В то утро Томас проспал. Зайдя в ванную комнату, ударился коленом о край стиральной машины. Брившись, полоснул станком по шее так, что остался след, как от засоса. Вдобавок к этому всему лезвием задел ноготь. О, оказывается, это такое мерзкое ощущение — хоть пытку устраивай! Дома закончился сахар. Первым глотком растворимой черной горькой бурды обжег нёбо и язык. Это называется — день не задался...
На службу Томас обычно добирался конторским автобусом — самому ехать через весь Киев запрещалось. Вызвать охрану — в таких случаях ему полагалась гарда Князя — не захотел, решил потолкаться в метро. Рискнул? Получи драку! Три парня в вагоне без особых причин вдруг начали мутузить друг дружку. Такое и раньше происходило — стоило Томасу зайти в автобус, застрять в лифте с людьми или начать торговаться на базаре с продавцами, тут же, как по команде, рядом возникала суета, ссоры, скандалы. В его служебное время в присутствии Томаса ломались механизмы и техника, не работали телефоны, останавливались часы, не показывали телевизоры... К этому давно уже надо было привыкнуть, но почему-то именно в то утро Чертыхальски не выдержал, стал растаскивать дерущихся, при этом сделав ещё хуже. Вылезал из вагона под крики проклятий и полные ненависти взгляды людей. Из награды — сбитые костяшки на руках и распухшее пульсирующее болью ухо.
На проходной прапорщик поздоровался — один восклицательный знак — назвал Тихоню по имени отчеству, — второй восклицательный знак, — и сказал, что мол, пан Чертыхальски, вас с докладом более часа ждет Сам. Три восклицательных знака.
Томас окоченел. Зачем он нужен Князю? С чего бы это? Не виделись лет шесть... Так, а какую сказать причину опоздания? Ещё и полоска на шее и подбитое ухо... Мелькнула мысль — мол, задержался из-за ссоры в метро...
Конечно же, глупость несусветная...
Секретарь, молодой флигель-адъютант, своими мерзкими напудренными щечками настроения не прибавил. Усики-ниточки, нос длинный, глаза лисьи, подбородок острый — ожившая иллюстрация рассказов Аверченко.
Томас открыл двери, за ними тут же вторые, и вошел в залитый солнцем кабинет. За спиной хлопнуло два раза. Огляделся. Всё так же, как и много лет назад, когда он был здесь, чтобы получить назначение в отдел статистики. Но если раньше на потолке висели вентиляторы, сейчас к стене прилип кондиционер. Остальное не изменилось. Паркет, чугунная люстра, та же антикварная мебель — два приставленных друг к другу стола — хозяина и для совещаний; полные папок книжные шкафы, кресла с гнутыми ножками, аквариум с большими и малыми пестрыми рыбками. На главном столе зеленая малахитовая лампа, старинные телефоны, огромный монитор в правом углу; в левом — графин с водой, подстаканники, пепельница, шкатулки с сигарами и нюхательным табаком. Это для гостей.
Хозяина не было.
Вдруг послышался шум, и через минуту открылась боковая дверь. Князь вошел в кабинет, держа перед собой горшок с цветком — на больших зеленых листья молочая блестели капли воды. Заметив гостя, Князь поставил горшок на стол и пошел к Томасу — плотный, с брюшком. Да, постарел — Тихоня заметил, что голова с прошлого раза ещё больше полысела.
Лицо спокойное. Маленькие темно-вишневые глаза, как всегда таят усмешку. Одутловатые щеки с еле видными оспинками покрылись большими веснушками. Под глазами кожа стала дряблой, мясистый нос ещё чуть вырос и изменил форму. На переносице сидели маленькие круглые очки с бифокальными линзами. Кудрявая наполовину седая борода была подстрижена по-летнему. Серая из легкой шерсти пара с маленьким тусклым значком в петлице. В верхнем кармане пиджака небрежно засунут платочек. Белая рубашка без галстука — ворот расстегнут, и в вырезе видны растущие на груди рыжие кучерявые волосы.
Сейчас Князь не был похож на учителя — скорее на управляющего крупной мануфактурой.
Чертыхальски хотел по выражению лица угадать, в каком он настроении и чего желает, но внешность и походка Князя были без зацепок, только когда протянул руку для пожатия, зажглась и тут же потухла улыбка. Томас, ответив на крепкое пожатие, невольно опустил глаза. Князь носил легкие открытые сандалии, и Тихоня увидел толстые короткие пальцы с желтыми ногтями, и припухшие стопы с выпирающими венами — они синели, словно под кожей ползали дождевые черви.
— Ну, здравствуй.
— Доброе утро, Петр Лексеич, — Тихоня отчаянно пытался оставить все свои страхи. Он запретил себе думать о хвостах на работе, до сих пор ноющем ухе и красной полоске на шее. — Рад вас снова видеть.
— А по виду не скажешь, — протянул Князь недовольно, и тут же спросил участливо: — Как живешь-то? Укатали бесята?
Что мог Томас ответить интересного о службе в качестве исполняющего обязанности начальника бюро вспомогательных материалов статистического отдела киевского главка Главстата? Можно ли передать словами ту пытку, которую ему приходилось терпеть каждое утро, когда, раздирая трясину кошмаров, он просыпался в своей тесной комнатенке с одной мыслью: «Что, вставать? И когда же это всё закончится?!». Если у вас один день похож на другой, а работа — это аквариум, в котором плавают протухшие рыбы, и вам приходится ежедневно нырять туда, вдыхать эти мерзкие миазмы, тереться о мертвую чешую, пожимая чужие плавники, целовать гниющие жабры — тут поневоле задумаешься, как бы быстрее залезть в петлю, чтобы сбежать от этой всей безнадеги. Хорошо, когда помогают великие изобретения человечества: интернет, «Цивилизация» II и «Дюна». Фильмы, новостные ленты и книжки ещё как-то держат в этом мире, не давая соскользнуть в пропасть безумия, но остальное... Что сказать тому, кто знает о тебе всё, о чем ты и сам не догадываешься? Лучше ответить так: не имел, не привлекался, осознал, больше не повторится! Уже столько лет на казарменном положении — без женщин, друзей, веселья, водки, табака, бодрящих таблеточек, любимого ремесла. Монахи взвоют от зависти.
Надо отметить: радости не запрещены, даже поощряются, но... воротит! Уже от всего воротит! На дворе — начало августа. До Нового года остались какие-то несколько месяцев. Со дня церемонии прошли бесконечные, каторжные, горькие, как хинин, восемьдесят шесть лет. Восемьдесят шесть лет ожидания неизбежного. Ни разу при свидетелях, даже в одиночестве, Чертыхальски не жаловался на свою судьбу. Нет, бывало, когда в лаве обушком махал две смены подряд, после разгрузки вагонов, рытья окопов или по окончании дневного перехода по тайге он говорил: «Как же я заморился», — но это была другая усталость, а вот сейчас перед Князем под его внимательным понимающим взглядом у Томаса вырвалось:
— Я пустой внутри — все сгорело, выгорело. И я так устал ждать...
Чертыхальски полегчало. Он словно долго нёс камень и, наконец, бросил его с вершины высокого холма.
Князь участливо обнял Томаса за плечо и повел вглубь кабинета. Усадив на кожаный диван, пошел к столу, налил из графина стакан воды. Вернувшись, подал Томасу.
— Не мудрено. Я бы, окажись на твоем месте, тоже устал. Но я при своих, а ты при своих. Твое дело уставать, а моё — следить, оберегать и помогать по мере сил. До церемонии ещё есть время подготовить себя, настроиться, так сказать, морально. Скажи, где бы хотел отдохнуть?
— Но...
— Пруссаков больше не интересует твоя персона. Они, насколько я знаю, получили приглашение на участие в гадании ещё два года назад и не должны выражать недовольства. Кто старое помянет... Поэтому я спрашиваю, Томас Томашевич, куда бы вы хотели поехать отдохнуть?
Услышав вопрос, Тихоня растерялся, задумался. Куда податься? В Ревель, — вернее, Таллин, — нельзя — это уже чужая территория — границы изменились. Пруссаки хоть с опозданием, но догадались, как ему отомстить. В Московское Княжество или Казанское? — и там, и там у него было много приятелей. Можно было б гульнуть, поохотиться, порыбачить, вспомнить минувшие деньки, но... Тихоня и это вариант отверг — не хотелось уезжать далеко от дома...
Тогда остается... Что? Конечно! Малая родина — старый добрый Городок. До западной границы далеко, земля, можно сказать, ничейная, вольная — Дикое поле. Там всё знакомо — каждая улочка, переулочек, и Петровна, если что, поможет. Тоня... Только всплыло в памяти её лицо, как Томасу стало досадно и обидно за свою глупость — он долго ей не звонил, не писал. Однако ощущение недовольства быстро сменилось радостью: вот она обрадуется его приезду!
— Я бы в Городок рванул.
Князь после этих слов засмеялся и с выражением продекламировал: «Скоро горожанин пойдет на свет и потеряет счастье. И будет беда великая, и все умрут».
— Что это? — спросил Томас.
— Это Соловушка напел, грешный. Провидец наш. Полгода молчал, а намедни прорвало. Думал, с чего бы это, какой горожанин? А тут Городок. Совпадение?
— Что значит — все умрут?
Князь провел ладонью по гладкой блестящей голове. Достал платок из кармана брюк и вытер руки.
— Пустое — у него все мрут. Я о другом. Не придал бы значения этому меленькому совпадению, если б оно не касалось вас, Томас. Кто-то другой, но не вы. Уникум разрушения, алмазная песчинка в идеальном механизме Природы. Сколько вас знаю, не перестаю поражаться: всё к чему вы прикасаетесь, с кем знакомитесь, во что верите, всё меняется, обретая парадоксальное, вывернутое наизнанку значение. Разбрасываться такими кадрами я не имею права и не желал бы... Признаться, для Княжества было бы спокойнее запереть вас здесь в Конторе, но в этот раз доверюсь своей интуиции... Вы сегодня получите расчет — пусть кастелянша отдаст вам отступные. Берите копеечный рюкзак. Скажите, я приказал. Это пенсия. До вечера сдать дела и, как только будете готовы, отправляйтесь домой. Только одна просьба. Узнайте, что за свет такой? Если всплывет этот таинственный горожанин — звоните. Раз устали — надо отдыхать...
28 Большой брат
Раз устал, надо отдыхать... сказал тогда Князь.
Баронесса подошла к серванту, открыла стеклянную дверку и достала из бара початую пол-литровую бутылку «миргородской». Один глоток — и водички почти нет. Остатки вылила на платок, протерла им лицо и, усевшись на стул, тяжело вздохнула.
— Вот сволота.
Непонятно, кому были адресованы эти слова? Томас надеялся, что не ему.
— И ты, гад, чего молчал? Неужели это такая тайна? — веер яростно терзал воздух. — Сколько раз мы пытались не обращать внимания на эти... — Антонина Петровна усмехнулась,- пророчества.
— И что?
— Выходило ещё хуже. Ладно, давай думать спокойно. У нас есть Соловей. У нас есть ты. Вы дуэтом вспоминали про мой Городок. Значит, здесь что-то должно скоро произойти.
— Князь сказал — событие касается света.
— Намек на чистеньких? Хорошо, давай потопчемся на этой могилке... Свет — это не про меня. Мне нет дела до света, пойдет ли кто куда, найдет ли счастье... Или не найдет.
Томас осторожно предположил:
— А вдруг у тебя в городе появится ну очень чистенький?
— В смысле?
— Страшный суд и всё такое.
— Не, всё это бредни.
Баронесса отвернулась, посмотрела в окно. Томас заметил, как начали двигаться её губы, словно она читала про себя. Веер с хрустом сложился, и кончик показал на Тихоню.
— Слушай, если у меня в отчине и дедине по твоей милости начнется драчка... — баронесса посмотрела на Тихоню исподлобья и погрозила веером.
— Это с каких это?
— А нечего тайничать.
— Напугала. — Томас подался вперед: — Скажи лучше, откуда твой знакомый знает о нашем с Князем разговоре? Это же такая тайна, шо капец!
Антонина Петровна хитренько улыбнулась.
— От тебя.
— Как это? Я никому не говорил.
— Но вспоминал?
— А что запрещено?
Баронесса кивнула.
— В моем городе — да.
Тоня встала, держась за поясницу, потянулась.
— После твоего отъезда в сороковых я окрутила одного мужичка из Курдюмовки. Он такой любопытный был, такой любопытный — страх. Все боялся, что против него соседи заговоры плетут, хотят деньги украсть, анонимки пишут. Вот я и подкатила к нему, говорю, хочешь знать, что думают в округе? Дала недельку послушать его улицу. На пробу, стало быть. В итоге заполучила два козыря — душу и всевидящие глазки. Давно хотелось.
— Подожди, где Курдюмовка, а где центр?
— Так когда это было? Мужик оказался не промах, скупердяй ещё тот — с самого начала ругались. И тогда, и теперь за каждую услугу требует землю. Я к нему ходила, ты думаешь, запросто так? А улица Пионерская, дома с тридцать четвертого по семьдесят восьмой не хочешь?
— И что?
— Не повелся — требует больше. Ты, знаешь, если б он мне все рассказал: кто приехал, когда, куда, что за свет такой — я б ему всю Пионерскую отдала, но он же не согласится, а если и возьмет, то прямо ничего не скажет, всегда загадочками, гад. Пойди тут разберись.
— Подожди, он и тебя слушает?
— Он всех чует! Вот ты меня пощупать не можешь — слаб силенками. Да и нет в тебе вкуса к этому делу — больше по-розовому. Тебя же я ощущаю лёгко, но не всегда, только когда своим ремеслом промышляешь. Он же слышит всех, даже Князя. В пределах города, естественно. Мне он, например, сказал такое! Про парней из сожженной машины. Оказывается, их Крымский послал. Твою квартиру охраняли
— И кто убил?
— Поджигатели.
— А точнее.
— Не колется.
Тихоня нахмурился.
— Так, давай подведем дебет-хребет. Жилья нет — раз! — хлопок ладонью по столу. — В городе саботажники — это два. Ты этих врагов народа не чуешь — три. Тот, кто чует, молчит — четыре. Соловей поёт, что в Городке появится сильный чистенький — это уже пять. Охранники убиты каким-то невидимкой. А теперь самый геморрой: как теперь жить, зная, что в твоей голове копается какой-то мужик с Курдюмовки? Га?
29 Азбука предательства
В августе 1999 года звезды над Городком-на-Суше сошлись так, что астрологи, будь они хоть чуточку компетентны, должны были вытащить тамтамы и без остановки бить ими по башкам своих князьков, губернаторов, герцогов. Я тут сижу, жду, думаю, когда же кто-нибудь приедет и разрулит ситуацию. Неужели, никто не мог предвидеть, что поджог квартиры Томаса запустит такой маховик, что мало не покажется?
Я, конечно, предвидел, как будут развиваться события. Имея возможность наблюдать за всей шахматной доской, передвижениями явных и тайных фигур, я, признаюсь, получал ни с чем несравнимое удовольствие. О, как мне тогда было хорошо! Раньше что? Ну, убьют кого-нибудь, обворуют, изнасилуют — скукотища, а тут — История!!! Вся красота состояла в том, что герои, принимавшие участие в розыгрыше этой пьесы не знали, не подозревали, куда идут и каков их ждёт финал. Мало того, они только догадывались о существовании друг друга, ощущали присутствие врага, но не могли выйти на точку обозрения, чтобы за ним проследить. Самое смешное — они не могли знать, каково их истинное звание в этой игре. Конь? Слон? Одному герою очень хотелось думать, что он Ферзь. Пусть Ферзь, польстим ему, мы не жадные, но в шахматах эта фигура не всегда приносит победу. Как получится в этот раз? Посмотрим. Второму герою казалось, что он вообще не фигура: так, прогуляться вышел. Но чтобы он о себе ни думал, игра уже вовсю кипит. Вокруг «прогульщика» суетятся Ладьи, копают ямки, натачивают капканы, потирают в предвкушении ручоночки свои потные ... А зря — не на пешку напали!
Что же до итогов совета в Филях, то было принято решение оставить всё, как есть: на время снять соседскую с Тоней дачу, собрать информацию о поджоге — свидетели, слухи, версии. Дальше заняться намеченной программой по обработке «чистеньких» из списка, словно ничего не произошло. В случае новых поползновений, объявить тревогу и, ну как вариант, снова обратиться к «старичку из Курдюмовки» за помощью.
Вы поняли, в чем состоит ирония данной ситуации?
Уважаемые друзья и критики! Заявляю официально, не будьте жадными, это плохое чувство. Из-за жадности — запоры, бессонница и девушки не любят. А иногда от этого мерзкого склизкого греха страдают люди. Вот отдай Тоня мне всю Пионерскую, разве «старичок» не помог бы? На капельку, на граммулечку, но поделился бы информацией. Этого бы им хватило! Разве я бы скрыл, что в Городке орудует вредитель, саботажник и враг народа? Вариант: «А, подождем; а, рассосется — и не такое бывало», — это несерьезно. Надо было даже не прийти, а прибежать. «Авось» тут не сработало — жадность бьет «авось». Жадность много чего бьет. По сусалам, под дых до кровавой юшки и пузырей на губах. Тут, скорее всего, недоработала Петровна. Недобдела. Эх, старость не в радость — пожадничала, а ведь было время, за Тихоню горлянки зубами рвала...
Думаю, о тех легендарных временах надо рассказать подробнее.
Когда Князь решил, что он Томаса пруссакам не отдаст, то отправил его с Антониной Петровной подальше — в край, где легче всего было затеряться — в Дикое поле. То была земля ничейная, и до недавнего времени никому не нужная. Вот только благодаря человеческой настырности и любознательности под берегами Кальмиуса и Суши нашлись залежи углей, ртути и прочего, необходимого при капитализме богатства. Равнодушная ко всему, политая кровью кочевников, дикая ковыльная степь вдруг ожила. Это сейчас всем правит нефть, а сто лет назад нефтью был уголь. Не успели Князья оглянуться, а у них под боком иностранцы и доморощенные бродяги освоили до недавних пор целинный край — явив подобие Соединенных Штатов, вот только не Америки, а Руси. Донбасс пожирал всех. Шотландцы, валлийцы, бельгийцы, австрияки, сербы, черногорцы, греки — кто только сюда не набежал! Промышленники и купцы со всей Российской Империи сжигали миллионы золотых монет за шанс успеть присосаться к новому Клондайку. Буржуи богатели, разорялись, организовывали общества, покупали акции за полушку, продавали за червонец золотой. Бесконечным потоком, как вода в губку, стекались в донецкие степи сезонные и постоянные рабочие. Зимой — прилив, отлив летом.
Тоня ещё полностью не оправившегося от ранения Томаса привезла в Городок. Зимой 1913 года. Хотела дальше, да куда? — из Киева Дикое поле видится настоящим краем земли. Прибыв на место, им стала понятна абсурдность затеи — слишком много вокруг было пруссаков. Но бежать уже было поздно. Тогда Чертыхальски решил затихориться под землей — устроился на рудник «Альфред», который держали бельгийцы. Обычным шахтером. Жил там же — в землянке. Поначалу было тяжело, а потом пообвыкся. Скоро понял, что в этом деле его юные годы, худоба, жилистость, крепкие мышцы и луженый желудок — первые помощники. Попробуйте глубоко под землей полазить по крутопадающему пласту шириной в полметра — посмотрю я на вас. Толстому здесь делать нечего, а такому, как Тихоня — в самый раз.
Когда началась война с пруссаками, чему Томас нисколечко не удивился, работать стало труднее — шахтеров хозяева рудников на фронт не отпускали, но все равно нашлись дурни, записавшиеся добровольцами. Тем, кто остался, пришлось пахать за троих. Три с половиной года Томас вкалывал под землей наравне с взрослыми. Мимо него прошли восторги от первых побед и уныние после поражений, а потом все эти революции, контрибуции, экспроприации, национализации, бегство иностранцев, чему он, признаемся, был только рад. Надо пояснить, что всё безумие мира: болезни, голод, пожарища европейской войны — всё это было там, наверху, где солнышко светит и зеленая травка растет, где паучки паутину ткут, и соловьи весной смущают сердца. Горы мяса и озёра крови его не касались и не волновали. Уж кто-кто, а Томас лучше всех знал, кто был настоящим зачинщиком этой войны. Чтобы не думать о плохом, Тихоня во тьме подземного космоса известную ему правду глушил изнуряющей тело и дух работой. Жара, духота, угольная пыль, луч шахтной лампы стали его первыми друзьями. Уголь везде: на зубах, в глазах, коже, одежде; уголь на кальсонах, в кальсонах, даже когда он задницу подтирал, то вместо дерьма и там, если присмотреться, был уголь.
В конце семнадцатого пруссаки, наконец, узнали, где прячется Томас. Первая сволочь и конченая тварь — он же управляющий «Ртутного и Угольного дела» Леонид Эйлер — своим крысиным носом разнюхал о Чертыхальски. Дальше всё было, как в шпионских авантюрных романах. Чтоб этот сифилитик никому не смог рассказать о Тихоне, баронесса организовала стачку шахтеров и захватила, как учили в модных книгах того времени, управу, телеграф, обе железнодорожные станции, и, кажется, обложила пруссака — в этом помогли ребята из стачечного комитета. Вот только немец все равно сбежал, заодно прихватив кассу акционерного общества.
Большая война завершилась поражением большевиков — Чичерин в знакомом Томасу Бресте отдал немцам всё, что мог. Когда германские войска вошли на Украину, Антонина Петровна и Томас знали, куда они стремятся и зачем. Баронесса вышла на Яшу Свердлова, чтобы он надавил в верхах и помог Троцкому организовать военную помощь донецким рудникам. Яша обещал, но он уже так высоко ползал, что, наверное, просто забыл, а вернее всего, уже был не в силах их спасти. Пришлось искать иные варианты. Рванула в Ростов к Каледину уговорить ввести казачье войско на Донбасс. Героический генерал готов был воевать с пруссаками до последнего солдата, но, как поняла Антонина Петровна, не хотел, а может и боялся связываться с отрядами шахтеров. В итоге Томаса предали все: белым было не до пруссаков, наоборот, они с ними вдруг стали заодно; большевики были ещё слишком слабы и отступили. У Тихони не осталось выбора — пришлось вместе с отрядом красноармейцев бежать из Городка на восток.
В итоге комиссары пруссаков всё равно победили — иного исхода не могло и быть. Вернулся Чертыхальски через два года, когда стало понятно, что советская власть — это надолго, и присутствия немцев на своей земле они больше не потерпят. Именно в этот момент Тихоня понял, что с большевиками ему по пути.
30 Кто виноват?
Леся, проснувшись рано утром, долго приходила в себя. Ей снился тёмный кедровый лес, в котором на земле лежали шишки. Она заблудилась, шла босиком, и каждый шаг отдавался болью. Открыв глаза и осознав, где она находится, и что произошло за последние сутки, застонала. Она потеряла почти всё! Сердце разрывалось от воспоминаний о любимой одежде, утраченных навсегда сувенирчиках, милых сердцу фотографиях. Ещё её обеспокоил предстоящий звонок Валентину. Что ему рассказать, чем оправдаться? Но это потом, а сейчас, лежа рядом с Томасом в летней кухне, Леся гадала, как себя вести в незнакомом доме? Шутить, грустить, отмалчиваться? В голове — пустота. Томас с вечера успокаивал, сказал — живи как раньше, ни о чем не думай, глупостями голову не забивай. Люди здесь простые, без заскоков, всё понимают. А то, что унес огонь — забудь. Главное — голова на плечах цела. Жива-здорова. Деньги есть — новое купишь, ещё краше.
Легко сказать...
Леся задумалась. Как она жила раньше? Просто плыла по течению, надолго не загадывала — день прожит и хорошо. Училась, работала, когда была возможность — веселилась. А нынче? Такое чувство, что она ртутью скатилась в какую-то странную лунку. Кажется, сама того не разумея, она совершила нечто запрещенное, словно украла у нищего. Ещё этот остров! Сказка наяву. Песочек под пятками теплый, водичка прохладенькая... И не глубоко — лагуна, как блюдце, только при выходе из залива чернота обрыва. Как сказал Томас, там могут и акулы водиться, но сюда не попадут — коралловый перешеек мелкий, а если с приливом сумеет заплыть, то её в прозрачной воде хорошо видно. Лесю такие речи особо не пугали. Что такое акула для девушки из донецких степей? — не страшнее бабая. Но признаться, неприятный холодок под коленками тогда ощутила... А ещё ей понравились бананы. Томас лазил на пальму и отрывал по несколько штук, сбрасывал. Такие необычные, мелкие, в зеленой кожуре, но если оставить на несколько часов под солнцем, быстро зреют.
Каждая минута, проведенная в том рае, каждое мгновение она будет вспоминать до конца жизни и не потому, что это были, как она понимала, её ожившие тайные мечты — нет! Просто там, уже глубокой ночью перед самым сном она впервые ощутила первобытный животный страх. Он пришел с мыслью, что такого не может быть! Не может обычный человек открыть дверь, а там... Океан, золотой язык пляжа, солнце яркое-яркое. Но всё это было. Реальное! Этот плед, на котором они лежали, и одеяло из верблюжьей шерсти у ног; кем-то припрятанные под камнем огниво, стеклянные старинные банки с солью, сахаром и специями — все можно было пощупать, погладить, понюхать и попробовать на вкус. Запеченная в глине рыба и отварные клешни пойманных ими крабов, кокосовое молочко, странные маслянистые орешки — где бы она такое ещё попробовала? Но реальней всего реального был её мужчина. Когда той ночью Томас, посапывая как ребенок, прижимался к ней костлявым боком, то от него шло такое приятное тепло...
Всё это было настоящим, а значит, она не сошла с ума.
Получается, сказки случаются.
Если так, то куда делась золотая рыбка, лампа или, на худой конец, щука? Может тот, кто грел её ночью на острове и есть «щучье веление»? И вот когда мысленный хоровод уперся в Томаса, она испугалась. По-настоящему, до зубовного скрежета. Но... Женскую логику не понять. Она вдруг осознала, что только Томасу по силам спасти её и избавить от этого обуявшего её унизительного чувства беспомощности. О парадоксе, чтострах она собирается лечить источником страха, не стоит и думать — слишком это всё для неё было запутанным. Так зачем усложнять жизнь? Леся там, далеко, под незнакомыми созвездиями, слушая шум ночного прибоя, не думала о прошлом — жила только настоящим, и сейчас, здесь, неизвестно у кого в гостях, ей пришлось свыкнуться с мыслью, что за удовольствия надо платить. Пожар — часть расплаты за остров и кто знает, может это только начало? Надо быть честной перед собой, своей совестью: после острова нет дороги назад, и никогда не будет «как раньше». Этот вывод надо принять и смириться с ним и со всеми последствиями, какими бы тяжелыми они ни были. Как точка, завершающая спор, к Лесе пришла правда: она поняла, если бы сейчас ей предложили отыграть все назад, с возможностью оставить квартиру в целости, то она ничего бы не стала менять. Она бы выбрала остров. Она бы выбрала Томаса, а раз так, нечего горевать. С глаз долой — из сердца вон!
Размышления Леси прервали — Катерина позвала завтракать.
— ...у меня есть подруга на проспекте, могла бы на время приютить, — говорила домработница, накрывая на стол. — Берет недорого. Обычно студенты останавливаются, а сейчас лето, квартира пустует. Позвонить?
Томас, накладывая себе в тарелку салат, пробурчал:
— Куда гонишь, мне и здесь неплохо. У соседей перекантуемся. Тоня говорит, есть дом свободный.
Катерина промолчала, подумав: «Конечно, неплохо, спали в летней кухне, там прохладно, комары не кусают, гербарии на стенах пахнут. Почему не жить?».
— Да я это так, мне-то что? Живите, кто вас гонит? Разве я здесь хозяйка?
— А кто здесь хозяйка? — спросила Леся. Она баронессу так и не увидела — вчера весь день проспала, а вечером не выходила из домика. Утром, когда Тоня собиралась на службу, Леся ещё не проснулась.
Катерина, услышав вопрос, поджала губы, невольно копируя Тоню.
— Много будешь знать, скоро состаришься.
Томас зацокал языком.
— Ну, прям режимный завод! Здесь живет мой лучший друг, соратник, отличный организатор и — я не побоюсь этого слова — прекрасная женщина. Кстати, аристократка, баронесса голубых кровей. Я много повидал на этом свете женщин, но подобной не встречал ни в одном городе, ни в одной стране.
Катерина покачала головой.
— И много ты стран объездил?
— Давай загибать пальцы... — Томас выставил пятерню. — Так, порты не в счет... Ага. Родился в Эстляндской губернии Российской Империи. При царе батюшке посетил Восточную Пруссию, западные губернии и степь Дикого поля. Внезапно оказался в Донецко-Криворожской Советской Республике. От прусской оккупации пришлось драпать, что вполне естественно. До самого Царицына добег, поэтому почти не застал здешних «тяни-толкай» со сменой власти. На Волге меня нагнала диктатура пролетариата. Дальше пришлось вернуться — уже почти в УССР. Путешествовал по РСФСР и прочим ССР в составе СССР. Теперь, получается, живу в самостийной Украине. Этого что, мало?
— Тю, так это тот же член, только в разных руках! — посмеялась Катерина.
— Не скажи. Земля одна, а страны и народы разные. Каждое время ставит свою печать. Вот взять людишек лет сто назад и сейчас. В главном, конечно, одинаковые — больше всего любят себя грешных. Этого у вас не отнять, — сказал он, обратившись к Лесе. — Но есть и отличия. Тогда бомбами губернаторов да чиновников взрывали, сейчас больше банкиров. Сто лет назад народец по всяким фармазонским сектам кучковался, декаданс, кружки поэтов, а в наши дни по белым братствам и западной херне. При этом раньше люди набожнее были — в церковь ходили, исповедовались, причащались. Где это всё?
— Так, когда советская власть пришла, куда им было деваться? В складах и конюшнях не помолишься...
Катерина разложила исходящую дымком картошку сначала гостям и только потом себе.
— Советы первым делом церкви повзрывали...
— И правильно сделали, — кивнул Тихоня.
— Это почему же? Мы ж всё равно сильнее, зачем издеваться над убогими?
Томас помахал пальцем.
— Ми-ну-точку. Резали, сжигали, вешали, расстреливали не мы, а народ. И не мы столетиями проповедовали доброту, терпимость и человеколюбие. Не мы били себя кулачком в грудь, крича о любви к ближнему своему. Не мы брали на себя обязанность пастырей. Не мы гребли в мошну деньги, якобы на святые цели и при этом, надев сутаны, лезли в управление государством и в торговые дела. Народ всё видит, всё примечает, а когда настает час расплаты, счет представляет полный, до последнего копья. Кто святым отцам виноват? Когда тебя гонит своя же паства в три шеи, кто виноват? Если дети бьют родителей, кто виноват? Вот приди Иисус в семнадцатом, да и сейчас, что он сказал бы своим слугам? А может он, перво-наперво, взялся бы не за нас с тобой, а за тех, кто в сутанах? Мы не кричим о своей святости! Может мы, карая, вообще его волю выполняли?!
Томас рассмеялся, показав два ряда крепких белоснежных зубов. Было видно, что он истосковался по таким разговорам. Давно передуманное в нем сидело, вызревало, и, наконец, выплеснулось.
— Ты лучше, скажи, Катерина, почему те людишки, которые в свое время исправно ходили в церковь, молились на ночь, венчались, звали батюшек отпевать покойников такое натворили? Дали им волю, они и рады попов стрелять, иконкамипечи растапливать, в храмах гадить. Ты не думала, что если бы за церковью стояла истинная святость, то она бы никогда не допустила такого греха. Ведь так? Она же в ответе за паству свою?
Томаса несло, а наблюдавшая за ним Леся вдруг поразилась, сколько же в нем сидит сарказма.
— Больше скажу, — вещал Чертыхальски, — если рядитесь в чистенькое-пёстренькое и думаете, что народец не ведает, что творит, тогда, как истинные праведники в былые времена собственным примером докажите сие заблуждение темное! Вас расстреливают, а вы примите свою планиду, как подобает священнослужителям. Апостолы и первые великомученики к зверям на растерзание шли, потому как знали — за ними правда и вера. Миллионами животы сложили, но церковь построили. На века. Для чего? Чтобы эти короеды её тело источили? Значит, закончилась правда в церкви и требуются новые миллионы страстотерпцев. А как вы хотите? Если прав — то страдай! Сделал добро, совершил подвиг и быстро прячься, пока не посадили! А лучше умри, чтобы не мешать жить нормальным людям. Врать не буду — попадались мученики, не отреклись, безропотно приняли кару за грехи свои и чужие, ну а остальные? Сколько попов с нами в десна целовались? Когда пруссаки сюда пришли, что творилось? Сколько их на танках к нам оттуда поналезло? Дальше — хуже. Союз распался — они сразу за раскол! Самостийным кадилом от москалей отбиваются.
— Раскол ещё раньше был, — возразила Катерина. — Эти только продолжили.
Томас повернулся к притихшей Лесе, не понимающей, откуда взялся такой горячий спор, и сказал:
— Правильно Катя говорит! Началось со старообрядцев. На севере сколько беспоповцев было? Ещё с допетровских времен с церковью воевали. Пугачев да Разин попов после бояр вторыми топили. Отчего? Заслужили отступники!
Перевел дух и снова, но уже обращаясь к домработнице:
— Нет у меня к ним жалости, Катя. Когда рожа кривая, чего пенять на зеркало?! Что в результате? Что получили? Оглянись, Катюша, разве это паства? Раньше бывало, чтобы душу заполучить, месяц вкалываешь, подходы ищешь, всех знакомых обрабатываешь, ситуацию лепишь, приманочку. Гражданскую не трону — во время войны не работаем — давай мирные годы возьмем. После двадцать седьмого да перед страхом вылететь из партии продавали и себя, и всех родных-потомков до седьмого колена. Ведь думают, что все понарошку, — нет никакой души у человека! А как можно жалеть то, чего нет?
Томас с силой отодвинул от себя тарелку. Катерина и Леся притихли, перестали жевать. Тихоня чувствовал, что закипает, и с удовольствием отдался этой волне. Ночью он часто просыпался, а когда ворочался, гадал, как себя поведет Олеся, кого обвинит в пожаре. Съедало ли его чувство вины? Скорее всего — да. Они лежали рядом, но не прикасались друг к другу, даже случайно. Проснувшись прятали глаза. Отмалчивались. «О чем говорить, когда не о чем говорить?», — так и здесь. Лучше жаловаться на людишек, чем сидеть рядом с Лесей, не зная, что ответить на незаданный вопрос.
— ...сейчас ещё хуже! В сороковых хоть с пруссаками воевали, границы княжеств-волостей отстаивали. А эти? Стоит пальчиком пригрозить, они уже лапки к верху. Дерьмо, а не время. Как можно работать? Где творчество поиска? Где искусство охоты, наконец? Одна пошлятина. Пруссаки пришли, привели своих попов — те и рады стараться. Наши вернулись, своих понаставили. Прямо как мебель. Тьфу! Я за свою жизнь насмотрелся на святош! Хватит. Он весь в шелках, парче, золоте, а в голове и сердце гниль, не говоря уже об их душах бессмертных. Мы хоть изначально не лезем людишкам за пазуху, не смущаем сладкими речами о спасении их после смерти. Мы говорим, поверь в себя, свой род, свой народ. Не в эфемерность, а в непреложный факт. Не теорема, — аксиома! Мы не церковь, мы не наставляем, мы устанавливаем порядок и просто помогаем выжить без рассказывания сказок о добре. Добро — это великая ответственность, а её на наших плечах и так достаточно, потому что правило от нас. Какой главный человеческий грех? Ну, Катя, скажи.
— Жажда власти, — ответила она.
— Правильно. А они пытаются с нами в этом грехе тягаться. Фигушки! Что наше — то наше.
— Всё равно с верой нам не совладать. Она помогает им выжить, — возразила Катерина.
— Помогает и помогала, но не благодаря, а вопреки. Ты не подумай — я тоже верующий. У меня бессмертная душа есть, и я её никому не отдам! Вот только я верую не в призраков, но в себя!
— Может ты буддист? — усмехнулась домработница. — Читала, что там любой, кто праведно живет, может достичь нирваны. Надо только поступать по совести.
Томас согласно кивнул.
— Ответь на вопрос, Катерина, сколько лет служишь?
— Так немало. Э-э-э... — Женщина подняла голову вверх, словно ей на небе нарисовали ответ. — Шестьдесят пять стукнет. Слушай, Тихоня, так это юбилей!
Томас налил себе квасу и, подняв стакан, спросил:
— Когда?
— Зимой.
— Так давай выпьем, Катерина, за то, чтобы ты справила этот юбилей, а то по моим подсчетам не будет никакой зимы.
Домработница, налившая себе из графинчика водки и собиравшаяся поддержать гостя, уже подняла было рюмку, и вдруг замерла с вытянутыми в трубочку губами.
— Это как не будет зимы?
Томас выпил стакан до дна, взял из пиалы жменю жареных семечек и начал грызть, сплевывая шелуху на скатерть.
— А ничего не будет. Я, ты думаешь, где последние годы служил? В канцелярии. Статистика. Царица бюрократии. План выполняете-перевыполняете, а всей картины вам не видно.
Катерина поставила полную рюмку на стол.
— Что это ты тут заливаешь? Какая картина?
— Такая. В аду мест уже нет!
— Как нет?
— Кончились! — развел руками Томас. — Устроили нам конвейер, так-растак? Получайте! В прошлые века — по сто верст между городами, а нынче? Миллиарды грешников землю топчут, да над каждым многотонный черный столб небо режет. Кто такое в состоянии выдержать?
Катерина подсела к Томасу ближе, улыбнулась.
— Слушай, я знаю — ты известный сказочник. Хватит дурить.
— Эх, Катерина-Катя-Катюха, кабы я врал.
— Подожди, а если мест нет, то куда их селить, где грешников жарить?
— А ты почем знаешь, что там их жарят? Ты что в аду была?
— Нет. Чего я там забыла?
— Ну, так и не говори. Ты, наверное, выписывалажурнала «Перец», где любили бесенят с рожками рисовать кочегарами. Не знаешь, хоть бы помолчала.
Катерина выпила рюмочку и тоже взяла жменьку семечек — закусить.
— Если такой умный, скажи, что там?
Томас возмутился.
— Дура ты, баба. Как вообще можно оперировать такими глобальными теологическими материями? Причем здесь ад?
— Да ты же первый начал! — домработница вытаращилась на Томаса. — Чего скачешь с темы на тему? То поп, то попадья! — Вдруг её лицо стало расплываться в улыбке: — А-а-а, ты специально. Разыгрываешь! Ах, шутник... В аду мест нет. Вот, сказанул! Ну, — толкнула в бок, — давай. Брешешь же? Га? Колись, не то капец тебе, — Катерина показала внушительных размеров кулак. — Только одного не пойму, а чо тебя повело? Откуда такая тема, может самого от безносой типает?
Томас потрепал Катю по плечу и нараспев прочитал:
«Стать бессмертным — напрасный, поверьте мне, труд,
Все, кто стар и кто молод, в могилу сойдут.
Не дано это царство земное навеки
Никому...»
— А знаешь что дальше?
— Нет, — ответила Катерина.
— «Да и мы не останемся тут», — завершил стих Тихоня.
— Кто сказал, Князь?
— Нет, Николай Стрижков. А стихи Омара Хайяма.
Томас налил себе квасу.
— Когда-то я был партийным...
— Брешешь!
— Был партийным, — повторил он с нажимом. — Что значит, ходил «в поле», в геологоразведческие партии. Там я любил производить впечатление на неопытных в амурных делах барышень. Стихи читал... Тогда мне хотелось, чтобы Хайям был шайтаном.
— А вдруг наоборот?
— Любимец женщин и вина? Хотя... Кто знает? В нашем мире все так запутано...
Тут проснулась Леся, просидевшая все это время с открытым ртом.
— Это вы вообще тут о чем говорите?
Томас с Катериной переглянулись.
— Да ни о чем — корпоративный юмор, — ответил Тихоня, пряча улыбку.
— Не обращай внимания, — поддакнула Катя.
В этот момент раздался жужжащий звук, словно в кармане халата Катерины проснулась семья шмелей. Домработница поднесла трубку к уху и тут же ответила:
— Да, Петровна, передаю.
Приняв мобильный телефон, Тихоня стал кивать, словно Антонина Петровна могла видеть его реакцию. Отключившись, он повернулся к Лесе:
— Ну, что подруга, гордись — хозяйка тобой довольна. Твой паренёк, Валик, нам почти всю отчетность по августу выправил. Бегает по городу, кричит: «Ау! Лесяяяааа! Лесяааа! Ау!». Злости в нем, обиды, как в слоне дерьма. Всех приятелей своего папеньки застроил, всю свою шпану. Ищет пожарная, ищет милиция девочку, спички и керосин. И чем ты его приворожила?
Леся попыталась улыбнуться.
— Хату спалила, а теперь он меня...
Томас пятерней растрепал ей волосы.
— Это, красавица, ещё будем поглядеть.
Повернувшись к домохозяйке спросил:
— Слушай, Катерина, разве мы бросаем наших друзей в беде? А не сходить ли мне к этому мальчику в гости?
31 На стрелку
Чуть позже Тихоня попросил Лесю позвонить Валентину назначить встречу. Она долго отпиралась, но, поняв, что вечно оттягивать разговор не получится, решилась. Взяла у Кати мобильный, набрала номер, в трубке сразу же раздался голос:
— Алло?
Томас услышал:
— Леськ, ты?
— Я.
Трубка некоторое время молчала. Когда пауза затянулась, Валик, наконец, спросил:
— Ты ничего не хочешь мне рассказать?
— А ты не хочешь спросить, жива ли я, здорова?
— А ты не хочешь сказать, где ты была эти дни? И что с моей квартирой стало?
— Не кричи на меня! — не выдержала Леся.
— Да я ещё и не начинал, детка, — дальше неразборчиво. — Так! Ноги в руки, и через полчаса в «Монако». Поняла? — крикнул Валя, и раздались гудки.
— Нет, ну ты посмотри на него! — Леся отбросила трубку. — Кричит, словно я ему что-то должна. Как будто это я сама!
Томас рассмеялся и захлопал в ладоши.
— Ну, что я говорил? Женщины в опасности — страшные создания. Только что дрожала как абиссинец в Магадане, а тут — бах! — и перед нами образчик Жанны Д’арк. Я вижу, вы уже морально готовы предстать пред очи вашего бойфренда, он же Валик-Валентин, он же коллега по работе, и заметьте — не просто сотрудник, а ру-ко-во-дитель, то есть начальство. Ай, ай, ай. Служебный роман в нашей стране приветствуется, про него даже комедии снимают. Но мы тут имеем дело со стопроцентной аморалкой, гендерными притеснениями на рабочем месте и — держите меня трое — сексуальными домогательствами! Неужели такое постыдное явление, характерное, как для стран третьего мира, так и для развитых держав мы спустим с рук? А? Что вы думаете по этому поводу, уважаемая Катерина, э-э-э, как там вас по батюшке?
— Не помню, — честно призналась домработница. — Сирота я.
— А, не важно! Важно то, что нам сейчас предстоит великая битва, героические свершения. Поэтому, чтобы не попасть впросак, уважаемые судари и сударыни, предлагаю сходить до ветру и в путь! Ну, как говорит Тоня, поцокотили!
Томас хлопнул по столу ладонями и побежал за дом.
Катя посмотрела на полные тарелки: гости чуть поклевали картошки — вот и весь завтрак. Сказала беззлобно: «Ну, поросята».
32 Мальчик
Через двадцать минут, когда к воротам подъехала вызванная машина, парочка уже стояла у калитки во всеоружии — Леся с шальными глазами и в каком-то заторможенном состоянии, улыбающийся Томас с рюкзачком на плече и Катерина, с довольным видом напевающая себе под нос «Прощание славянки». Минута в минуту, ровно через полчаса после телефонного разговора, такси подрулило к «Монако».
Томас, расплатившись с водителем, окинул взглядом стоящего неподалеку черного «мерина» — не последней марки, но хорош! Как только Тихоня вошел в зал, сразу направился к столу, где несколько дней назад он ел окрошку. Леся послушно семенила чуть позади.
— Ну как чувствовал! — прошептал Томас, увидев за «их» столиком грузного молодого человека, внешностью и фигурой чем-то похожего на Рому Хлебореза, словно их в одном инкубаторе лепили. Только у Вали русые волосы были длиннее и торчали ёжиком. Рядом с ним сидела симпатичная брунэточка в юных годах.
«Отличный вкус!», — подумал Тихоня. Он не стал лишать себя удовольствия первым начать беседу.
— Добрый день, дамы, — галантно поклонился «пионерке», — и господа! — Тут обошлось без поклонов.
Валя промолчал.
— Давайте знакомиться, — Томас, не замечая замешательства «бывшего», продолжил: — Как вас звать — величать, прелестное создание?
— Даша, — ответила брунэточка, улыбнувшись.
— Валентин, — выплюнул русый. Глазки его засуетились, начали бегать, словно он искал поддержки среди немногочисленных в этот предобеденный час посетителей кафе или боялся, что Леся ещё кого-нибудь с собой привела.
— Очень приятно, — продолжал Томас, усаживаясь за стол. — Мою спутницу вы хорошо знаете. Особенно, вы, Валентин. Ну, а у меня имя простое — Эммануил.
Глаза Леси чуть округлились, и она удивленно посмотрела на Томаса.
— Виторган? — спросила Даша.
— Для вас, хоть Арсан! Или Кант, — ответил Тихоня. — Вы что-нибудь заказали? Тут такие чудесные вареники подают и окрошка бесподобная. Душу продать можно.
— Я сюда не жрать пришел, — сказал Валя, ощупывая взглядом худощавую нескладную фигуру Томаса, его длинную шею с острым кадыком, выпирающие ключицы, обычную одежду — джинсы и рубаху навыпуск. Посмотрел на запястье левой руки, но там часов не было — Тихоня не носил механизмы, отчитывающие время. Валя откинулся в бок и посмотрел на его обувь — Томас был в домашних тапочках с матерчатым верхом «здравствуй, пенсия». Рядом со стулом на полу лежал застиранный старый рюкзак. Оторвав глаза от столь неуместных в кафе предметов, Валентин спросил у Леси:
— Шо с квартирой?
— А я почем знаю? — её глаза округлились ещё больше.
Валик подался вперед.
— А кто знает?
— Когда это случилось, меня в Городке не было.
— И где была? Отдыхала? Да не одна, а с подругой? — Валя уперся взглядом в Лесю. — Вижу, какие у тебя подруги завелись.
— Что-то я не помню, чтобы ты раньше был такой ревнивый.
— А я не ревнивый, — Валентин с усмешкой посмотрел на Томаса. — Просто не люблю, когда мне брешут.
— Оно и видно, — кивнула Леся на девочку. — Я не ревнивый, но хату спалю.
— Ты шо, дура? Зачем мне жечь свою же квартиру?
— Молодой человек, — встрял в разговор Томас, — а с чего вы взяли, что вашу недвижимость спалили? Вдруг Олеся Батьковна просто забыла выключить утюг?
Валик в этот раз даже не посмотрел в его сторону, спросил бывшую подругу:
— Шо это за чмо?
Леся вздохнула.
— Его зовут Эммануилом. — Заметив, что ответ не устраивает, добавила: — Мы с ним живем.
Это надо было видеть. Лицо у Валика за какие-то пару секунд претерпело массу превращений. Тупое, злое выражение сменилось заинтересованным, а затем лицевые мышцы изобразили маску крайней степени недоумения.
— Не-е-е по-о-о-нял...
— Живем вместе, говорю, — повторила Леся.
Валентин с усилием проглотил комок в горле.
— В моей квартире?
— В вашей бывшей квартире, — поправил Томас. — Если запамятовали, её уже почти нет. Кстати, вы не ответили на мой вопрос. Почему настаиваете на модной ныне версии теракта? Есть основания?
Валя сквозь зубы прошипел:
— Слушай, ты! Заткни пасть, пока тебя не спрашивают! Ещё раз вякнешь, нос сломаю.
Томас ухмыльнулся своей фирменной ухмылкой.
— Валентин, где вас учили манерам? При дамах, так грубо, да ещё с незнакомым человеком? Неужели я вам позволю даже поцеловать мой нос, после того, как Хлеборез трогал его своими грязными пальцами? Я уже научен — хватит. Поэтому повторяю свой вопрос, — в глазах Томаса не было и намека на юмор, — Откуда известно, что квартиру подожгли?
Валентин прищурился, явно озадаченный. Прикинул, как себя вести дальше, и после некоторого раздумья, решил героя из себя не корчить.
— Свидетели есть. По их словам ночью подъехала иномарка, из неё вышел человек и кинул в окно бутылку. Через полминуты загорелось.
— Молотова?
— Пожарные говорят что-то похоже.
— Номера?
— Видели, но не запомнили.
Томас, пригладив на макушке волосы, сказал задумчиво:
— Очень интересно. Версии есть?
— Об этом я хотел бы у неё спросить, — кивнул Валя на Лесю. — А вообще, кто ты такой?
Тихоня, размышляя о своем, ответил небрежно:
— Я друг Леси, её новый... воздыхатель. Если у тебя есть претензии...
Валентин попытался улыбнуться, но не получилось.
— У меня масса претензий. Из-за этой суки я лишился дома и кто мне будет возмещать убытки?
Томас кивнул.
— Наконец-то слышу деловой разговор. Сразу видно — предприниматель. Поэтому, чтобы снять недопонимание, хочу узнать, какова цена вопроса? Я имею в виду утраченную мебель, всё содержимое и затраты на капитальный ремонт. Стены и метраж прошу в стоимость компенсации не вносить.
Валя без запинки ответил:
— Всего десять штук зелени. Я сегодня добрый.
Томас посмотрел на Лесю и пожал плечами.
— Это очень даже нежная цена. Дляпровинции вполне приемлемая.
Он нагнулся, поднял рюкзак и плюхнул его себе на колени. Расстегнув застежку, открыл, порылся внутри и кинул перед Валентином несколько свернутых в трубочку, перетянутых резинкой бумажек.
— Тут двенадцать на ремонт, плюс компенсация за моральный ущерб.
Посмотрев на красавицу Дашу, Тихоня сладко улыбнулся и подкинул ей кирпичик в банковской упаковке.
— Это для ровного счета, — девочке на заколки. Я сегодня тоже добрый.
Валя машинально потянулся за деньгами Даши, но как только его глаза остановились на его личной горке, стал оглядываться вокруг — заметил ли кто расчет? Денег было много и куда их девать? Несколько «бочонков» рассовал по карманам брюк, а остальные стал запихивать в стоящую на столе барсетку. Вдруг он замер.
— Да, а машина?
— Какая машина?
— Я так понял, что она тебе уже не нужна, а Дашеньке пойдет в самый раз.
Томас ответил за Лесю:
— Думаю, что Дашеньке машина в том виде, в каком она пребывает сейчас, не пойдет.
Валентин не знал, что делать — плакать или смеяться.
— И её тоже?
— И её, — кивнул Чертыхальски с довольным видом. — Но если вы не против, — Тихоня достал, не считая жменю «кирпичиков». — Этого хватит вам купить новую.
Валя хотел что-то добавить, даже рот открыл, но передумал. Томас кивнул понимающе.
— Если материальные претензии снимаются, то наш вопрос, как говорил Инженер Вошкин, исперчен. Вижу, вы хорошо потрудились, разыскивая виновных в поджоге. Поэтому у меня к вам просьба. Если узнаете, кто это был, или появится хоть какая-либо полезная информация, прошу вас, как друга. Выручите Эммануила, а Эммануил когда-нибудь выручит вас. Хорошо? Договорились? К поджигателям у меня свой счет. Кстати, в лесополосе, нашли машину. Сожженную. Внутри два человека. Это была моя охрана — присматривали за твоей квартирой. Так что, Валентин, если выведешь меня на безпредельщиков, буду должником.
— Без проблем, — кивнул Валя, — землю буду рыть! Телефон?
Томас подал визитку.
— Думаю, мы сработаемся. Как имя отчество?
— Мельник Валентин Петрович.
— Вот видишь! Такая прекрасная фамилия, солидные имя и отчество. Не может ни получится! Поэтому у меня предложение — давайте обмоем нашу встречу-знакомство, будущий ремонт квартиры, и... короче, за успех начинаний!
33 За спасибо
После бутылки водки и бутылки вина — Томас пил только минералку — после трех смен блюд, сотни сальных анекдотов и взрывов смеха, когда стали прощаться, за столом вышла легкая заминка. Разрумянившийся Валентин поцеловал Лесю в щеку и спросил:
— Ничего мне не хочешь сказать на прощание?
— В смысле.
— Ну, будешь работать или новую девочку искать?
Леся покосилась на Дашу.
— Давай не будем торопиться.
Валя кивнул.
— Хорошо. На гульки тебе месяц, а потом, если одумаешься, возвращайся. Буду ждать.
— Вот и отлично.
Валентин был немного озадачен. Поиграв ключами от машины, спросил:
— И это всё?
— Что всё?
— Всё что ты можешь сказать после того, что было между нами, что я для тебя сделал?
— Всё, — искренне ответила Леся.
— Даже спасибо не скажешь?
Леся удивленно посмотрела на Валентина. Её ответ, дополненный блеском пьяненьких грешных глаз, внешней непосредственностью молодости, всей этой обстановкой прощания, его — Валентина Петровича Мельника, человека далекого от сантиментов, просто раздавил.
Олеся искренне его спросила:
— А что это такое?
34 О Сталине
Когда Томас и Леся вышли на улицу, то увидели возле кафе на стоянке «Победу», а рядом с ней, облокотившись на крыло, стояла Антонина Петровна. Одежда праздничная — пестрая брючная пара из ситца, ярко-красная сумочка на плече.
— Ну, что, орелики, все справы закончили? Я тут вам такую нору нашла, закачаетесь.
Сев на заднее сидение и познакомившись с баронессой, Олеся не удержалась: толкнув в плечо Тихоню, спросила:
— Слушай, ты так легко деньги всем раздаешь. Не жалко?
Томас ответил:
— Милый мой человек, о чем жалеть? Я даже радуюсь. Чтоб ты знала, деньги — это живой организм, их невозможно приучить. Кажется, у тебя их много, а потом — раз! — и ушли, как детки в школу. Я люблю деньги, но понимаю, что они не всегда любят меня. Гулять от одного хозяина к другому — вот их призвание. Им скучно сидеть в одном месте. Люди стремятся к свободе? И они тоже. А я не дрессировщик.
— Легко об этом говорить с полнымрюкзаком.
Томас и Антонина Петровна, посмотрев друг на друга, рассмеялись.
— У тех денег много, кто за ними не гоняется, — ответила баронесса за Тихоню. — Кто легко зарабатывает и так же легко расстается. Зашибить копейку за час и спустить за минуту — это по-нашему. Такими нас мама родила. Леся, деньги — это магия! Представь, ты заработала миллион. Держишь их в руках. Вот они, красавчики. Бумажные. Пахнут сладко. Но стоит их положить в банк, банку, под кровать, закопать в саду... и нет их у тебя! Они у Тихони!
— А если откопаю? — спросила Олеся.
— Они тут же из его сумки перелетят назад.
— И в чем подвох?
— Секрет в том, — пояснила Антона Петровна, — что пока деньги лежат без дела, ими можно пользоваться, и мы знаем как. Родной, сколько щас дают командировочных?
— Согласно последнему циркуляру на сутки выходит по две сотни, плюс хавка, две смены одежды в сутки, бесплатный бензин, и, если удается крутануть клиента, полная компенсация потерь. Вот это, -Томас указал на рюкзак, — моя пенсия, но и без неё хватило бы. Машина Хлебореза покрыла б все затраты.
— Сжульничал? — усмехнулась баронесса.
— Чем торгуем, — пожал плечами Тихоня.
— Эх, права Леся — транжиришь. Вот в наше время экономили. При царе батюшке больше червонца золотом в неделю не давали, а при Сталине, пусть земля ему будет пухом, не то, что лишку, своё б не потерять. Даже нам приходилось деньги в заем сдавать. Железный был мужик.
Томас, заметив грустный взгляд подруги, взял Лесю за руку, поцеловал в шею ниже ушка.
— Не расстраивайся. Ну, потянуло парнишку на молочное, с кем не бывает?
«Сохнут травы, и прелесть теряют цветы,
Милый мой виночерпий, не вечен и ты.
Пей вино. Рви цветы. Лишь мгновенье сияет
Мир пленительной, юной, живой красоты».
Вот он и решил сорвать цветочек.
— А ты подожди, ещё назад приползет, — откликнулась Антонина Петровна, на скорости вписываясь в поворот так, что бедная «Победа» завизжала. — Коленки твои целовать будет, а ты ему: «Пшол вон, пёс». Он ещё довольным останется. Попомни.
— Во-во, ты нас слушай, да на ус мотай. Тоня плохого не насоветует. Она, ну когда чуток помоложе была...
— И полегче, — поддакнула баронесса.
— ...таких чертяк накручивала, таких ушлых. Что там Казанова? — мальчуган!
— Да, ладно, наговариваешь, — заулыбалась баронесса. — Это не я ими крутила, а они, кобели, сами лезли.
— Прибедняешься, Тоня. Как тебя раньше называли твои кавалеры? А? — не унимался Тихоня. — Рассказать?
— Только попробуй.
Леся посмотрела на потный в жирных складках затылок с кочаном-шиньоном и торчащими в стороны японскими палочками. Ей не верилось, что эта пожилая полная женщина когда-то могла вертеть Казановой. Хотя?.. Кто их, мужиков, знает?
— Да ладно, тоже мне секрет. Жюльеттой! Думаешь, просто так? Тоне одна тайна известна. Про любовь. Поделишься с нами?
— Та разве это тайна? — сказала баронесса громко, чтобы перекричать шум врывающегося в открытые окна ветра. — Всё просто. Любовь — она такая, материальная. Её пощупать можно. Я её меряю породами собак. Если у тебя пекинес, то добра не жди. Любой чих, и поскользнётся твой дружок и невольно, сам того не желая со всего размаху шандарахнет псину о лёд — одна кровавая лужица останется. А потом с горя уйдет он от тебя. Поэтому, если хочешь с мужчиной серьезных отношений, надо заводить лабрадора. Чтоб надежно, спокойно, на долгие годы. Есть такие бабы — им алабая подавай, волкодава или самого волка. Ну, это уже перебор — такая любовь и загрызть может.
— А как узнать, какая порода?
— Ну, это уже от женщины зависит — чего она хочет в жизни.
— Тогда скажите, а у нас с Томасом что? — спросила Леся, усмехнувшись. — Как это можно назвать? Разврат-модерн?
Баронесса повернулась к девушке и ответила с издевкой:
— Не обольщайся, милая. Томас у нас — пустоцвет. К тому же кошатник — собаки его недолюбливают. А в разврате ничего постыдного нет. Разврат — это, чтоб ты знала, самый честный из всех возможных видов отношений между мужчиной и женщиной. Никаких обязательств, планов, корысти — только сиюминутная жажда и её утоление, страсть, а по большому счету — отречение. Нет завтра и вчера, только здесь и сейчас. Полная свобода, равенство...
— И братство, — закончил мысль Тихоня. — Делай всё, что хочешь, только не наноси вреда другому. Конечно, если тебя об этом не попросят специально. Это — первое. Второе — в разврате все равны. И главная последняя заповедь — не делай другим того, что не хотела бы получить сама, и наоборот — делай по отношению к другим такие благие поступки, какие хотел бы по отношению к себе. Неужели в этих простых правилах есть что-то постыдное?
Вдруг Антонина Петровна встрепенулась.
— Слушай, родной. Я же обещала тебя к Тарасу отвезти.
— Это какому?
— Который о тебе говорил, помнишь?
— Нет.
— Ты его в сорок девятом откопал.
— А-а-а-а... — протянул Томас, погрустнев. Он отвернулся к окну и спросил, особо не надеясь на удачу: — Отказаться никак нельзя? Ты же знаешь, я этих стариков терпеть не могу. Лучше бы домой, да по разврату.
Баронесса рассмеялась и, обращаясь к Лесе, прокричала:
— Это в нём говорит врожденная скромность. Когда-то давно горноспасателем служил — ему столько шахтеров жизнью обязаны — гробовщики до сих пор воют от злости. Поэтому из Городка пришлось уезжать — слишком заметным стал. Хорошо! Поступим так. Вам надо по магазинам проехаться — одежды почти нет. Поднимите себе настроение. Девушек баловать надо, — прокричала Тоня, заливаясь смехом. — А потом и к Тарасу можно. Нехорошо старых друзей обижать.
— Как я к нему пойду? — спросил Томас. — Ты хоть подумала? В сорок девятом ему было двадцать три. Сейчас... э-э-э... семьдесят три. Но я же не изменился, наоборот, ещё моложе стал! Ты вообще, зачем обо мне кому-то говорила?
Антонина Петровна резко нажала на тормоза. Когда машина остановилась, она развернулась к Томасу и ответила зло:
— О тебе все уже забыли — у людишек на добро память короткая. Один Тарас вспоминает!
Перевела дыхание, села на место. Уже тише и спокойнее добавила:
— Повидаешься, послушаешь, может что поймешь полезное — дед славный. А вообще не бойся, я ему сказала, что внук приехал.
Леся, слушая этот спор, в очередной раз с некой злостью осознала, что её разум самым бессовестным образом не желает терять связь с новой для неё реальностью, а спокойно принимает её. Угли в зрачках, ветер в квартире... уже в сгоревшей квартире... Встретившая её гарь и пепельный смрад. Сорок девятый год. Внук. Спасатель. Людишки неблагодарные. Это вообще, что такое? Как это понимать? Другая бы на её месте, только попытавшись трезво обдумать ситуацию, в которую она невольно попала и, придя к некоторым неожиданным выводам, наверное, завопила б от ужаса! Но почему ей не страшно? Почему она ничему не удивляется и принимает баронессу и Томаса такими, какие они есть?
Об этом надо подумать. Потом. Трезвой. Наедине с собой.
— Я с вами? — спросила она и тут же ответила себе: — Да, с вами.
Антонина Петровна закурила сигарету, завела машину. Кивнув в сторону Томаса, добавила Лесе:
— Поехали, обойдетесь без магазинов. Послушаешь, какой Тихоня на самом деле...
— А куда?
Куда-куда...
Дед Тарас жил на Бессарабке.
35 Старик
Дед Тарас жил на Бессарабке. Мне нравится, как звучит название этого района. Когда только я задумывал свой рассказ о пребывании Тихони в нашем городке, то хотел не обращать внимания на местные достопримечательности, дабы не нагружать читателя лишними деталями, но постепенно заметил за собой слабость: в тексте упорно появляются названия наших сел, улиц и микрорайонов. Да, можно было бы не вспоминать никому не известные бульвары и проулки, ставки и шахтерские поселки — это отвлекает от героя и самой его личности, — но Городок, как вы скоро сами убедитесь, не такое уж и простое место в Диком поле и заслуживает к себе уважительного отношения. Со всеми его достоинствами и недостатками. Москвичам любы сердцу Арбат, Воробьевы горы, Марьина роща и прочее; у питерцев пароли — Невский, Фонтанка, Лиговка, а в Городке, куда не плюнь, свои примечательности. То Государев Буерак, то Жеваный лес — у каждого пригорочка своя необычная история.
Дед Тарас жил в поселке, построенном когда-то между ртутным комбинатом Ауэрбаха и Никитовкой. В этом месте издревле пузырилось газами и квакало квакушками болото Свинячки. В конце двадцатых к трясине пришел инженер Тимофей Ильинков и сказал местным жабам, что звиняйте, подружки, но вам придется подвинуться. Советские люди на этом гнилом месте заложили шахту и назвали её «Гигант». Пока строили, дали ей новое имя — Косиора, но это название она носила не долго. Слесарь, футболист, большевик при чинах и орденах оказался польским выкормышем и без лишних слов был расстрелян. Пришлось шахту переименовывать сначала в 4-5 «Никитовку», а потом, после войны, в Изотова — Никифор Алексеич, когда-то славный горняк-стахановец и управляющий Хацапетовским шахтоуправлением, к тому времени уже помер, забронзовел и не мог оказаться ничьим выкормышем. Никифор всем был известен под именем Никита — так его по ошибке в своей статье назвал московский корреспондент. Пришлось человеку менять паспорт — советские газеты неправду писать не могут.
Строили шахту с огоньком, а восстанавливали после войны вообще играючи. Копёр — это такая высоченная башня, внутри которой находятся механизмы, поднимающие и опускающие клеть — решили строить не вверх, а вбок — без использования кранов, прямо на земле. По плану надо сто двадцать дней, а сделали за сорок. Ставить копёр «на попа» по инструкции отводилось полтора месяца, а подняли за восемнадцать часов! Есть ли подобной прыти нормальное объяснение? Нету...
Выходит, всему виной — колдовство и магия!
И все же люди свой поселок называли не в честь местных героев труда, болота Свинячки, жилых кварталов имени Щербакова, Жданова или, к примеру, Хацапетовки. Так же растворилось в народной памяти давнее название Соцгородок. Всё вышеперечисленное одолела «Бессарабка». Почему? После войны этот район помогали восстанавливать приехавшие из Западной Украины выпускники фабрично-заводских училищ, которых освобождали от службы в армии. Гости из запада построили у нас многоквартирные дома, магазин, больницу, Дом культуры. Вот и весь секрет.
Дед Тарас жил неподалеку от «восемьдесят седьмой» зоны в обычной низенькой хате с печным отоплением, маленькой верандой, погребом, сараем, тесным гаражом, в котором никогда не стоял автомобиль, но полно было всякого хлама. Старик был женат, имел троих детей, пятеро внуков и одну правнучку.
Леся с каким-то детским любопытством наблюдала за волнениями Томаса, как он всю дорогу хмурился, нервно барабанил пальцами по ручке двери, кусал свои тонкие губы. Когда машина подъезжала к дому, перед тем как выйти на улицу, он вдруг истошно закричал: «Тоня! Кем я тогда был? Я не помню имени своего!». Лесе на секунду показалось, что он своим ужасом заразил и баронессу, но Тоня, ни без труда, но смогла вспомнить, что когда-то давно его называли Колей, а фамилия была — Торец. Тихоня вроде успокоился, но его улыбка стала такой жалкой, что у Леси перехватило дыхание. Она подумала, что это за причина такая неотложная, чтобы идти туда, куда идти не хочется? Неужели это так важно? Но Тихоня безропотно подчинился.
Собравшись с духом, он вышел из машины, терпеливо выдержал все объятия, поцелуи и слова благодарности набежавшей родни старика. Чтобы увидеть спасенного им шахтера Томасу пришлось пройти через прихожую, кухню и зал, где были накрыты приставленные друг к другу столы. Салаты, нарезки, солености, минералка. Что подаётся теплым, ещё в печи и духовке, а остальное, жидкое и твердое, в холодильнике.
Дед Тарас обитал в дальнем углу дома, в небольшой комнатке с маленьким окошком. Из мебели — узкая кровать, большой шкаф, стулья, торшер и тумба, на которой стоял дорогой японский телевизор. К приходу гостей в хате прибрали, но ковры, одежда, мебель все равно обильно источали запахи крепкого табака, мужского пота, медикаментов, утки и вездесущей неистребимой пыли.
Леся знала, как пахнет старость, но попав в комнату деда Тараса, вместо брезгливости она испытала сложное невыразимое чувство тоски и боли. На неё кирпичной стеной обрушились воспоминания о последних днях её отца и, даже не успев увидеть старика, Олесю начало, что называется, «колотить» — подбородок задрожал, а из глаз брызнули слезы.
Дед Тарас сидел в инвалидном кресле возле окна. Сухой, жилистый. Белоснежные волосы аккуратно расчесаны на ровный пробор, подбородок гладко выбрит. Опрятная байковая клетчатая рубашка с длинным рукавом. Из широкого хорошо отглаженного ворота торчит тонкая морщинистая шея. Ясный твердый взгляд голубых глаз. С виду он был спокоен: никакого волнения, только пальцы нервно теребили край лежащего на коленях пледа.
Дед Тарас приказал:
— Я слышал, как подъехала машина. Ну, покажите мне его!
Родственники расступились.
Вперед вышел Томас.
Старик достал из кармана рубашки очки с толстыми линзами, медленно надел их, заправив дужки за большие торчащие в стороны уши и, прищурившись, посмотрел на Чертыхальски. После секундного замешательства он улыбнулся, развел свои длинные с широкими ладонями руки в стороны и сказал:
— Ну, здравствуй, друже. Дай я тебя обниму!
Томас подошел, наклонился, осторожно обхватил старика, и они замерли, а родственники, жена и две уже взрослые дочери, вдруг все разом начали причитать, плакать и, гладя Томаса по спине, говорить что-то неразборчивое, идущее от самого сердца. Леся тоже плакала, при этом думая, почему же она так убивается, что тому виной? Растроганные от искренней благодарности женщины? Может, её сжала неисчезающая с годами боль утраты любимого папы? Торжественный вид ровно сидящего в кресле старого шахтера и сгорбленная с торчащими острыми лопатками спина Томаса? А может до сих пор плещущееся в её крови вино?
Не сразу, но все успокоились. Вытерев слезы, женщины шумно, никого не стесняясь, высморкались в батистовые платочки и, помыв руки, пошли доставать горячие закуски. Подкатили кресло — хозяин занял место во главе стола. По правую руку посадили Томаса и Лесю. Супруга старого шахтера села по левую руку, а за ней Антонина Петровна. Дети, мужья дочерей и внуки расселись напротив. Поначалу к Томасу с расспросами не приставали — слишком большая разница была между ним и дедом Тарасом. Родным хватало самого присутствия гостя. Кто-то первый спросил, как его зовут и Томас ответил, что в честь деда — Николаем. Говорили-говорили и вдруг снова спрашивают, а как его зовут? — и родственникам, у кого была хорошая память, пришлось подсказывать, что в честь деда — Колей.
Сначала выпили за крышу дома и всех собравшихся, за встречу, потом за Николая, его деда и спасенного Тараса. Третий тост был за любовь, четвертый за здоровье. Когда выпили по пятой — помянув тех, кого забрала шахта — родственники сказали гостю много слов благодарности, но Томасу этого было мало. Он понимал, что слова эти не шли от души. Тихоня чувствовал себя висящим на стене портретом умершего героя: находится в комнате, но уважение к нему оказывается протокольное, лишенное искренности. Это с одной стороны радовало — восхваления его раздражали — и всё же ему было сложно отделаться от ощущения невольной обиды. Ему не хотелось сюда ехать, потому что он чувствовал: никому не в силах узнать, что такое шахта после аварии, когда любой звук, невольное движение может стать последним в твоей жизни. И всё же Томас ошибся: был за столом человек, который его хорошо понимал.
36 Рассказ
Когда дед Тарас положил на скатерть свои тяжелые руки, все смолкли. Леся обратила внимание, что его кисти и предплечья. Они все были в «точках» и «тире» — в шахте в любую рану, большую и малую, попадает угольная пыль и если её полностью не удалить, то шрам окрашивается в синий цвет.
Старик кашлянул. Ему часто приходилось выступать перед школьниками или репортерами местных газет. Умел говорить красиво и витиевато — научился. Но в этот раз его исповедь была далека от обычно причесанной сказки.
— Я помню тот день, словно специально для меня записали те события сначала на цветную, а потом черно-белую пленку, и я всю свою жизнь почти каждую ночь смотрю это кино. Внучок, — дед Тарас посмотрел на Томаса, — я расскажу, каким был твой дед. Но сперва послушай, почему же Коле Торцу пришлось ползти за мной.
Старик замолчал. Собравшись с мыслями, он продолжил рассказ тихим, но при этом твердым голосом:
— Это случилось в тот день, когда я чуть не помер. Но чуть — не считается. В ноябре это было. Двадцатого. Морозы как раз только ударили, но снега ещё не было. Встал рано. Жил я тогда в бараке бессемейных. В комнате жарко — надышали, а на общей кухне колотун. С утра приходилось железной кружкой лед разбивать, чтоб попить. Холодно, ветрено: пока добежишь до толчка, а удобства во дворе, всё хозяйство можно было того...
Жилось трудно. Город сильно пострадал от немца. Кругом стройки, теснота, вечная грязь и пыль. У кого в своих домах колодцы, тем ещё хорошо, а в казармах с водой худо было. Зимой не помыться по-человечески: шахтная баня только и выручала. Так и жили. Но работалось крепко, с огоньком, весело. Я-то воронежский. Двадцать шестого года рождения. В армию призвали весной сорок четвертого после школы. Сначала на финскую границу, в резерв. Не успел привыкнуть, как меня и ещё несколько бойцов прикомандировали к инженерной части на восстановление. Тогда уже все понимали, что финны не нападут и лишних солдат лучше на строительстве использовать. Так я на фронте и не побывал. Демобилизовался в сорок седьмом вместе со всеми, кто попал под большое увольнение. Приехал домой. В институт поступать, так сказать, голова не варит. На работу только по строительству или в милицию, но туда в основном фронтовиков брали. Голодно. Я сюда и приехал — Донбасс поднимать. Физически крепкий, выносливый, поэтому определили в забойщики. Подучили, само собой. Два годка день в день работал. Бригада была мировая: как-то притерлись друг к дружке. Такое братство, сейчас не выскажешь словами. Это как... как... Я бы за всех наших в атаку сам пошел, чтобы только они живыми остались. Вот как мы жили и работали. Сейчас не понять. Много лишних слов о том времени говорят, но все было не так. Совершенно. Телевизор включишь — одна политика. Это, я думаю, от бедности. Мы вещи носили до последнего, не то, что сейчас. Голодали. А ты спроси любого из нашей той бригады, чувствовали мы себя бедными? Нет! Мы жили в своей стране. Мы были победителями великого мирового зла и верили, что когда-нибудь все это закончится. Мы были горды и богаты своей правдой. Знали, что будет мир и спокойствие, рано или поздно наступит счастье всего трудового народа. Вот почему я и мои друзья почти каждый день спускались в шахту давать стране угля. Чтобы в школах, больницах, на заводах и фабриках было тепло, и горел свет. Чтобы женщины отцам на радость рожали детишек...
В то утро всё шло как обычно. Получили наряд, переоделись, короткий перекур, и в клеть мимо ворчащей рукоятчицы. До участка добежали быстро и — в лаву. Расселись по уступам и вперед — давать стране угля. Потекло черное золотишко, зашелестело, заискрилось в свете лампы. Я рубал в четвертом уступе. В третьем — Саня Варнаков, а во втором Греков Игорь. Я привык с самого начала рубить до упора, пока сильно не устану, а потом уже можно с перерывами... В тот раз до упора я не дотянул...
Дед Тарас налил себе в рюмку водки и махом её приговорил. Не поморщившись, закусил кусочком черного хлеба. Продолжил:
— Услышал звук такой, словно змея большая рядом поползла, а потом удар — чуть не оглох — и волна воздуха по всему телу. Сбросило со стойки, но я успел за неё чем-то зацепиться, наверное, голенищем, а так бы сразу утащило. Каска отлетела, лампа погасла... Это то, что я помню. А потом понесло в сторону и, скорее всего, у меня сознание отшибло — отключился напрочь. Когда в себя пришел, первое, шо почул — звон в ушах. Шахта — она живая: скрипит, капает, дышит, так сказать. Стойки трещат. Какая выпадет, смотришь, а её жевал кто — так порода давит со всех сторон. Вентиляция опять же, вода течёт, а тут всё исчезло, только звон этот противный и тьма кругом. Затылок ноет. Я запаниковал — разумом-то понял, что уголь пошел. «Выброс!», — мелькнуло в голове. Очнулся и, как рыба на берегу, давай трепыхаться. Дергаюсь во все стороны и ртом воздух хватаю. Понимаю, что живой, но надолго? В первые секунды испугался. Думал, что от удушья помираю. Не хотелось вот так, как утопленнику. Говорят, страшная смерть. Да. Страшная. Заглянул я тогда за краешек...
Старик ещё одну рюмку казенки налил и выпил.
— Спеленало меня — руками шевелить могу, плечами, головой кручу — каску-то унесло — а ноги, словно в граните. Не больно, тогда я резкой боли вообще не чувствовал, но такое было ощущение... Я потом, так сказать, долго подбирал образ, чтобы понятнее передать... Вот представь, внучок, — сказал дед Тарас, обратившись к Томасу, — тебя схватил великан. Ты — маленький-маленький, а он огромный-огромный. Чудище не хочет тебя раздавить, но и отпускать у него нет желания. Держит в своем гигантском кулаке крепко. Вот что-то подобное я и чувствовал. В темноте полнейшей. Это сложно объяснить — мы редко бываем во мраке — а там я попал в абсолютное отсутствие света. Это вначале, когда лихорадочно варианты перебирал — накатил ужас. Потом успокоился, стал шарить вокруг. Фляга на месте — в кармане штанов — а я даже радоваться не могу: вдруг вспомнил про друзей. Меня как бы с двух сторон обошло потоками угля и к кровле прижало. Это я наощупь понял. Стоек, инструмента рядом не было — я все обшарил. Если что б случилось — новый выброс или сотрясение — тиски породы и кровли сомкнулись бы, и меня раздавило б как мокрицу — даже шкурки не осталось.
Ещё запомнил, что я своего тела вообще не чувствовал. Знал где верх-низ и всё! Было такое ощущение, как будто я не под землей, а в воздухе нахожусь, подвешенный на невидимых канатах. Понятно, это так мой разум пытался приспособиться к недостатку воздуха, невольной слепоте и давлению со всех сторон. Ещё казалось, что я в невесомости и лечу куда-то вверх. Это вообще с ума сводило.
Дед Тарас взял солонку и поставил рядом с графином для вина.
— Что интересно, изменилось внутреннее представление о размерах. Вот как мне казалось в самом начале. Я — маленький и вокруг сплошной монолит породы. Но потом, после какого-то времени под землей, в темноте, во мраке вдруг представилось, что я вырос.
Старик приподнял графин.
— Вот только великан увеличился вместе со мной и, как прежде, не желал меня отпускать. Я стал путаться в мыслях. Они прыгали с одного на другое. Какое-то время понадобилось, чтобы успокоиться по-настоящему. Если попадете в сложную ситуацию, то лучше всего начать с простых вопросов и честных ответов. Мне об этом рассказывали те, кто побывал на фронте. Оказавшись под завалом, не сразу, но вспомнил об этом совете. Так и поступил, но радости не прибавилось — слишком многое было против меня. Давление породы. Метан. Угольная пыль. Темнота. Время — тело-то сжало и кровообращение нарушилось. Сколько я так мог выдержать? Пытался шевелить ногами, хоть и было больно, сжимал-разжимал мышцы, шевелил пальцами. За меня стояли воздух, вода и, как ни странно, огонь. В смысле, его там не было. А посередине этого поля боя — я. Но на самом деле...Это я уже потом всё понял... На самом деле всё, что произошло там, под землей, было у меня в голове. Глаза не видят, уши ничего кроме звона не слышат, громко говорить нельзя. Чтоб как-то о себе дать знать, флягой стучал по кровле: раз-два, раз-два, раз-два... Остается только вкус, осязание и обоняние, но и ему доверять не мог — долгое время ничего кроме запаха угольной пыли и крови я там не чувствовал. В какой-то момент пришел к грустному выводу: два дня продержусь, а потом всё — не жилец.
После этих слов старушка схватила деда Тараса за руку и сжала её крепко-крепко. Промокнув платком глаза, мать предложила:
— А давайте выпьем.
Наливали водку осторожно, чтобы стекло не звенело. Тихо без лишних слов чокнулись и опростали рюмки. Закусывали мало — ждали.
Старик, отвернувшись к окну, молчал.
Наконец дед Тарас обернулся, поднял глаза на Томаса и продолжил рассказ:
— Время тянулось, как мочало за банщиком. Казалось, прошел целый месяц, но я-то понимал, что это невозможно. Тогда стал отсчитывать часы по глоткам. Терпел изо всех сил. Воду подолгу во рту держал, не глотая. Сосал пуговицу, которую оторвал с рукава рубашки. Раньше, когда работал, флягой на смену обходился. Помногу не пил, ведь чем больше хлещешь, тем сильнее хочется. Эта привычка помогла, но все равно тяжело было терпеть — в забое ведь жарко. К тому же слышно, как где-то вода каплет — в лаве она всегда каплет. На какое-то время я даже задремал, но сразу проснулся. Приснилось такое яркое, зеленое и пестрое, словно я на солнце смотрю через кружевные листья березки. Подбросило и я со всей силы лбом в кровлю впечатался. Когда искры из глаза полетели, ох света прибавилось! Сейчас кажется, что я тогда смеялся, но... Наверное это с годами стерлось, размазалось в памяти. Скорее всего, я плакал... Потом произошло то, что разделило аварию на две части: до и после. До я был сам по себе, а после... Уже не помню сколько воды во фляге осталось, но в какой-то момент мне стало казаться, что я чую новый запах. Приятный. Сначала приятный. Но дальше он начал усиливаться и я догадался, что это было.
Старик посмотрел на рюмку, но пить не стал — отодвинул её пустую.
— Вот так ко мне пришла Смертушка. Как она выглядела, не знаю — было темно, но скажу без утайки, даже если бы у меня работала лампа, все равно на неё не стал бы смотреть. Да. Когда почувствовал её присутствие, то мне стало так обидно. Молодой, сильный, все зубы целы. Что матери скажут? Да она бы и не удивилась — на Донбасс отправляли, как на войну. Наверное, поэтому я сюда и поехал, чтобы не чувствовать на себе этих женских взглядов. Вокруг, кому посчастливилось вернуться, одни фронтовики. Сосед на год моложе меня, а с орденами, нашивками за ранения. До Праги дошел. А какие могут быть награды у солдатика, служившего каменщиком?
Ещё злоба. Да, злоба. Только жить начали, новые посёлки везде строились. Мне через два года обещали квартиру. Если женюсь. Вот, женился... Невестушка уже прибыла... Не пожил по-людски... Как мне там стало больно! Не страшно, а больно и обидно. За несправедливость, за неуважение. Мы же шли в шахту, прекрасно понимая, чем рискуем. Каждый день был особенным, каждая смена. Знание, что этот луч солнечный на твоих плечах может быть последним... И ты уже не поднимешься, не увидишь света. Оно вносит особую трезвость, придает силы и веру, что ты чего-то стоишь, ты лучше, чем есть на самом деле. Ярость. Меня обуяла ярость из-за того, что не увижу, как вырастут деревья, посаженные нами на субботниках. Сколько новых песен я никогда не услышу. А ещё мне нравилась одна девушка...
Старик посмотрел на жену и его подбородок дрогнул.
— Но с ней я так и не заговорил. Эта моя трусость мне тогда показалась такой жалкой, и я весь был жалким, беспомощным, ни к чему не годным человеком... Точно знаю, что в тот момент, когда пришла Смертушка, я не плакал, потому что я был в бешенстве!
Вы не поверите, но случилось чудо. Она заговорила со мной. Она сказала, что пришла посоветоваться. Хорошие люди просили за меня, желали мне спасения и ей трудно им отказать. Мать почувствовала неладное и стала усердно молиться, что опять же, всё усложняет и ей тяжело делать свою работу. Поэтому Смертушка, это я помню как сейчас, сказала вот что: «Хорошо, я могу даровать тебе жизнь, но этого ты должен захотеть сам. Злость придаст силы, и ты выживешь», — она сказала. «Но потом, как бы ты меня не звал, за тобой я не приду, а приду в самый смешной момент, и мы будем хохотать вместе», — вот что я услышал.
Дед Тарас вдруг впервые за время застолья улыбнулся, и все увидели, каким он был в молодости — ироничным, при этом, где надо упорным, злым до работы, смешливым, по-мужски красивым.
Старик коснулся плеча Томаса и сказал с улыбкой:
— Когда понял, что выживу, то в голове моей все сместилось, перевернулось, великан исчез, и я стал сражаться не с болью в ногах и жаждой, а со временем. Помогла мне в этом, кстати, сама Смертушка. Она была рядом и развлекала, как могла. Рассказала, как переживают за нас друзья-шахтеры, сколько спасателей пробиваются к нашему пласту через завалы породы. Потом стала объяснять, что будет происходить в будущем год за годом. Я сначала испугался, спросил, зачем она мне это рассказывает, я же всё увижу своими глазами, а она захихикала. Хорошо, говорит, увидишь своими глазами. Но рассказ не прервала. Я там ещё долго-долго-долго лежал, а она всё говорила-говорила-говорила... Наконец, я крепко заснул, а очнулся уже от электрического света и оттого, что в меня кто-то тыкал обушком. Это был твой дед. Как мне потом в больнице рассказывали, он обладал какой-то змеиной гибкостью и нюхом. Пробивал норы и как тот крот, первым под завалами находил горняков. Живых и мертвых. Освободив, он передал меня другим ребятам из бригады горноспасателей, а потом, уже не спеша, дождавшись крепежников, вытащил трёх погибших моих друзей. Этому нет объяснения, но он словно чувствовал, когда надо действовать срочно, а кто уже мертв. То, что делал Коля Торец, было чудом. Твой дед — настоящий герой. Да ты и сам это знаешь, верно?
Старик налил себе и Тихоне. За столом все молчали.
— Жаль, что он так рано ушел от нас. Давай, дружище, ещё раз помянем. Колю.
Дед Тарас замолчал. В комнате недолго царила тишина. Вдруг словно тумблер с раздела «слезы» повернулся на сторону «смех» и все оживились: дети зашумели, зазвенела посуда, заскрипели ножки стульев, зятья потянулись за бутылками. Выпили, закусили, снова выпили, а потом кто-то снял со стены гитару и полились песни. Сначала вечные «Старый клён», «Надежда», «А годы летят, наши годы как птицы летят», затем шахтерские про молодого коногона, добрую маму и «В чистом небе донецком», где была любимая всеми горянками строчка «что ты знаешь о солнце, если в шахте ты не был». Всем известные куплеты объединили сидящих за праздничным столом. Глаза заблестели, щеки раскраснелись.
Внуки, опьяненные детством, стали отбивать ритм, стуча ложками по граненым стаканам, и взрослые их не одергивали. Гитарные струны резонировали с нервами, вибрировали и вызванные ими волны очищали, снимая накипь с человеческих душ. Все пели во весь голос, впопад и невпопад, а в общем хоре выделялась Леся Галаева. Сильное меццо-сопрано добавило в дом света и чистоты, а когда она взяла гитару и стала петь «Старинные часы», нараспев, словно это был старинный романс, за столом всё смолкло. Леся дошла до последнего куплета и все поняли, что она поет от имени жены деда Тараса и эти тихие, но в тоже время имеющие много смыслов строки, приобрели новое звучание.
— Старинные часы еще идут... Старинные часы — свидетели и судьи. Когда ты в дом входил, они слагали гимны, звоня тебе во все колокола.
Томас Чертыхальски скосил глаза вниз. Дед Тарас уже много лет не мог войти в свой дом. Под пледом у него были спрятаны два отрезанных выше колен обрубка.
...По дороге домойвсе молчали. Леся устала. Сев в машину, она положила голову Томасу на плечо и закрыла глаза. Улыбка никак не хотела с ней расставаться. Леся что-то беззвучно шептала, наверное, повторяла куплет неспетой ею песни. Прощаясь, они со всеми по многу раз расцеловались, приняли подарки: пойманного зятьями на Водобуде амура, большую корзину с грушами и трехлитровый бутылёк домашней хреновухи. Старик передал Томасу старинную фаянсовую игрушку — играющего на флейте пастушка. Статуэтка была потертой на боках, у основания белело несколько небольших сколов, но краски от времени не потускли и были такими же яркими как в год создания. Золотые волосы, черные точки глаз и линии бровей, синий камзольчик с алыми пуговицами, белые панталоны, черные туфли. Коричневая флейта. Мальчик держал её своими пальчиками, отставив в стороны мизинцы.
— Возьми, — сказал дед Тарас, подавая статуэтку, — это память о годах моей молодости, молодости твоего деда. Посмотришь на пастушка, и вдруг тебе теплее станет. Из крепкого светлого корня ты вырос, Коля, знай это. Сила в тебе не скрыта, а видна — она на поверхности. Не забывай. Жизнь — сложная штука. Много в ней наносного, глупого, низкого, но бывают моменты, ради которых надо всё это перетерпеть. Время тебе не враг... Цени добро, цени счастье и благодарность мира. Ещё что хочу сказать напоследок... Послушай старика, не держись, не цепляйся за прошлое, оно того не стоит. Живи будущим.
Вот что сказал дед Тарас Тихоне на прощание.
37 Полюса
В ночи медленно едет «Победа» и стоящие на посту милиционеры отдают ей честь. Антонина Петровна молча смотрит на бегущую ей навстречу дорогу, с видимым усилием, даже зло, переключая на поворотах передачи. Губы плотно сжаты. На лоб волнами легли три глубокие морщины. Глаза прищурены. Пусты. С таким лицом из лодок выпрыгивают на берег к ещё живым тюленям или заряжают маузер, чтобы отогнать волков от раненого друга ...
Как только баронесса переступила порог дома старого шахтера, она молчала. Когда все плакали, её глаза были сухи, когда за столом пели, она не подпевала. Все вокруг смеялись, а Тоня становилась мрачнее и мрачнее. Когда уходили, родственники обходили её стороной, а старик даже не кивнул на прощание.
Чертыхальски опустил стекло и смотрел, как ночь баюкает город. Во многих окнах ещё горел свет. Там в сиянии электрических ламп жили люди, ужинали, пили чаи, смотрели телевизоры. Теперь Городок мало походил на уютный, милый сердцу край, где прошли юность и зрелость Томаса. Он раздался вширь и ввысь... Днем приметы прошлого ещё заметны, но с наступлением темноты улицы не узнать. Фасады домов сталинской постройки искажают мигающие витрины, контуры знакомых зданий затирает сияние вывесок аптек и кафе, превращая ампир и арт-деко в пародию с неоновой подсветкой.
Да, подумал Томас, город теряет свое лицо. Оно стало современным, с люминесцентным макияжем, подведенными стироловской краской глазами. Но, какие лампы не включай, не ретушируй — главное здесь не меняется: никакой пудре и белилам не в силах скрыть мусор, пыль и грязь, невозможно замазать оспины, обезобразившие асфальтовую шкуру города. Дороги, площади, переулки снова, как в послевоенное время, обильно изъедены ямами, рвами, колдобинами, траншеями. На относительно ровных участках асфальт латан-перелатан, как халат Хаджи Насреддина. Если иметь в Городке машину, то только такой танк, как у Тони — её «Победа» могла проехать везде.
Одно радует: разросшиеся за последние десятилетия парки, посадки, леса... Растущие на улицах, скверах, пустырях, низинах и высотах тополя, канадские клены, каштаны, липы, дубы, сводящая с ума пьяная черемуха, бархатные розы на клумбах — вся эта зелень, в которой теперь утопает город, радует душу.
Томас прикрыл глаза. Что там старик говорил о времени? Не цепляйся за прошлое? Но как это сделать? Неужели он не старался стереть из памяти старые грехи свои, всю эту вонь и мерзость? Прошлое сильнее. Закрой глаза и перед его мысленным взором тут же предстанут картины почти столетней давности, переплетенные с недавним настоящим, и разница будет не такой уж заметной. В пмяти Томаса всплывал болезненно-мрачный присыпанный жужелкой сумрачный мир с низкими тучами, пыльными ветрами и юной рогатой луной, прячущейся за тогда ещё невысоким отвалом породы Первого рудника... Как вы думаете, почему Тихоня проворонил аварию, когда въехал в Городок? Это при его-то способностях? Просто он ехал не только по улице Интернациональной! Если сидящий рядом Сергеич видел почти современные дома, «сталинский» магазин, столовую, она же «пирожковая», то перед Томасом Чертыхальски одновременно открывался иной вид. Он въезжал в пустивший глубоко под землю свои корни грязный, заскорузлый в малярийной дремучести, черный от угольной пыли степной посёлок.
Без угля нет тепла, нет движения, а сталь и чугун не принимают нужную человеку форму. Заводы и фабрики, многоэтажные высотные дома, крейсера и броненосцы, поезда и автомобили, станки, тысячи километров железных дорог — это тоже всё уголь. Прожорливые доменные печи и топки паровозов, кузни, голландки, буржуйки, обычные русские печки в русских избах — всем люб антрацит!
В том месте, где Ослик превратился в шар-пея, когда-то была Конторская — единственная в Городке мощеная улица. От хутора Алексеевка она вела к управе первого Корсунского рудника. По ней нельзя было ходить шахтерам после смены — слишком они были грязными, а тут жили и работали те, кто носил чистое. На Конторской в единственном двухэтажном жилом доме квартировал директор. Дальше строились инженеры, штейгеры, десятники, счетоводы. Поодаль на склонах балок ютились разбитые на линии землянки Пекина и Собачовки, в которых бедовали кадровики — постоянно приписанные к руднику шахтеры. Почти сто лет назад летом в Городке работало от силы десять тысяч человек, а с наступлением холодов начиналось время той самой подземной жатвы, дающей пропитание сотням тысяч работяг, прибывающих на Донбасс с Орловщины, Воронежчены, Полесья и прочих тогда бедных краев.
В землянках с двухскатной крышей, облепивших склон шахтных отвалов, селились в основном сезонные горнорабочие. Бывшие, прошедшие японскую войну солдаты знали, как выглядят трущобы, поэтому назвали свой клоповник Шанхаем — вот откуда всё пошло... Только даже китайцы могли бы удивиться тому, как жили и работали славяне. По двенадцать часов под землей без чистого воздуха, при тусклом свете, до смертельной усталости размахивая обушком; на износ качая водяные помпы и тягая вровень со слепыми лошадьми тяжело груженые вагонетки. Мальчишки, мужчины и старики. После смены они все, черные как негры, голодные разбредались по своим норам на два хозяина — пока один отдыхал, второй спускался под землю. Придя в землянку, где даже невозможно было помыться как следует, поскольку выдавали полтора ведра воды на семью, переодевались, ели и ложились спать.
Степь — столом и хатки, как прыщи на лбу, а над ними тогда ещё невысокая вечно воняющая серой гора породы, внутри которой никогда не угасало пламя и поэтому, в сырую погоду в низины стелился отравляющий все живое сизый дым.
Томас помнил всех, кто здесь жил: мрачных, худых, с тусклыми взглядами шахтеров и их жен — изможденных с обвисшими грудями женщин, окруженных сворами грязных голых ребятишек, у которых торчали пупки на вздутых от недоедания животах. До сих пор он слышит детский плачь, тягучую, как мёд песню, ругань взрослых, где украинский и еврейский говор так обильно был приперчен русским добрым матом, что залетный гость, заслышав местных, невольно крякал и тряс головой, как от доброй зуботычины.
Работа и праздники, гуляния, пьянки, драки и замирения...
Шахтеры всегда держались хорошей компании в жизни, а тем более в смерти. У них не получалось умирать по одному — если уж уходить, то только так, что бы вся линия рвала на себе волосы, и серые от горя жены толпами шли за домовинами. Ещё Томас застал более жуткие похороны, когда молча, торжественно провожали шубиных — были и такие безумцы. А как ещё можно назвать человека, согласного взять в руки факел и первым спуститься в лаву, чтобы выжечь метан, а в случае выброса, принять на себя тонны земных потрохов? Без шансов на спасение — из защиты только толстый кожух мехом наружу. Что заставляло их так низко ценить свою жизнь? Жребий, карточные долги, обман, неразделенная любовь или необъяснимая и непонятная в наше время цеховая спайка?
Были и развлечения. Кабаки, трактиры, ярмарки, хаты шахтерских вдов на окраинах.
Здесь была больница, две школы, рабочее училище, ставшее Горным техникумом, но это уже потом, когда улица Конторская превратилась в Сталинскую. Времена менялись. Большевики подарили миру сказку — веру, что в будущем дети будут жить лучше, чем их родители. В шахту народ уже гнала не нужда и голод, а пролетарская сознательность и нарезанный кем-то свыше план... Надо же — у живых мертвецов, как про себя называл шахтеров Томас, появились свои планы... И всё же, он не мог отрицать факта, что люди стали иными. Работали с огоньком, часто даже задарма, веря, что они строят светлый мир — счастливый, добрый, за который и помереть не страшно. Появились новые слова: врубовка, электричество, отбойный молоток. Всяческие аббревиатуры, о которые язык сломать можно.
Перед большой войной жизнь в Городке стала налаживаться. Не успеешь оглянуться, как исчезали целые улицы. Разрушались землянки, хатки, прогнившие бараки и казармы, и на их месте во время субботников люди своими руками разбивали скверы, строили летние площадки для танцев, клубы, кинотеатры, стадионы, парки отдыха. Как грибы в лесу плотно растут на поваленных перегнивших стволах и пнях, так и люди в Диком поле обживали места вокруг удаленных друг от друга рудников и железнодорожных станций. А в центре располагалась голова осьминога: от неё к посёлкам тянулись дороги-щупальца. Городок, если взять его полную площадь, чтоб вы знали, шире многих областных центров-миллионщиков. Да...
Линии улиц большевики планировали широкие, словно хотели перед старыми похвастаться. Строились новые районы с отдельными квартирами, в которых были столовые, залы, даже ватерклозеты! Народ постепенно перебирался в светлые комнаты, где до потолка не достать, с широкими окнами, прозрачными стеклами и белыми шторами из тюли и льна.
Вот только Корсунские трущобы упорно не желали сдаваться. В тени выросшего террикона, как и прежде приземистые улочки утопали в зарослях репейника и амброзии. Здесь стояли прячущиеся за покосившимися щербатыми заборами, перепоясанные парусами сохнущего белья дворы. Люди жили во вросших в землю, словно грибы, низких тесных мазанках, с куцыми пеньками труб на покрытых соломой, досками и толью крышах. Оконца в толстых рамах тут были похожи на амбразуры и мало пропускали солнечного света. Зайди в эти жилища и увидишь в углах хат белые расшитые рушники, раскрашенные фотокопии древних икон и черно-белые портреты хозяев под стеклом в самодельных рамках. Здесь приятно пахли висящие в коридорах и сенях веники сушеной лаванды, иван-чая и полыни. Вся нехитрая мебель сделана своими руками — стол, табуреты, вешалки. В маленьких спальнях тогда не было купеческих кроватей с шарами на быльцах, как и бархатных ковров с оленями — они появились уже после войны...
Эх, Тарас-Тарас, что же ты наделал со своим рассказом! Яркие вспышки памяти Томаса вдруг выхватили уютный мирок: гудящую зимой жаркую печку, скрип привезенной из деревни пахнущей овчиной прялки; летом оставленные во дворах картонки с мелконарезанными дольками яблок, над которыми жужжали наглые осы — если их прибить газетой, то эти мерзкие твари скрючивались и становились похожими на маленьких желто-черных Кощеев Бессмертных. Осенью он помнил бульканье домашнего вина в огромны двадцатилитровых бутылях и кружащихся над ними дрозофил. Тиканье ходиков, скрип рассохшихся половиц в спальне, доносящиеся с улицы грюканье пустых консервных банок и крики мальчишек, играющих в клё-клё... А рядом, за дорогой, всё те же дымящиеся отвалы породы и воняющие свалки — пристанище навозных мух, тощих псов и жирных крыс.
Планировали коммунисты дать бой этим домам и переселить всех горняков в отдельные квартиры, но не сложилось. Само пекло поднялось на гора и свастикой скатилась с террикона, ломая, круша, все вокруг, чтобы впиться клыками в горлянку Руси.
Повоевать пришлось и старым, и малым... Заводы эвакуировали на восток — с ними бежал и Тихоня — но большинство местных остались под немцами, итальянцами, венграми. Новая власть тут же показала серьезность намерений, построив виселицу возле бахчи у шахты «Комсомолец». Что ж, понятно, что в том году никто арбузы не воровал, но армейские склады горели, подъемные механизмы в копрах ломались так, что невозможно их было починить, поезда сходили с рельсов. В отместку пруссаки всех, кто попался им под руку или на кого поступил донос, не разбирая, прав-виноват, карали самым-самым донбасским способом: людей бросали в шахтные шурфы.
Ничего, выдержали! Красная Армия вернулась и погнала немцев-нацистов, итальянцев-фашистов и прочий просвещенный европейский сброд на запад, а на освобожденной территории вот такие Тарасы и Николаи, Сашки и Сергеи, Кати и Людмилы, Сони и Галины, вернувшись домой, откачивали воду из не работавших при захватчиках шахт, отстраивали заново город, возводили новые заводы и фабрики.
Жизнь снова стала налаживаться.
Перемены коснулись и Шанхая. Когда террикон не рудника № 1, а уже шахты «Кочегарка», вырос до максимально возможного размера, инженеры протянули высоко вверху укрытую мелкой железной сеткой канатную дорогу. Было забавно наблюдать, как над головами людей сновали туда-сюда вагонетки с породой и сбрасывали её где-то далеко за городом. А в остальном для горняков всё осталось как прежде — смена за сменой, конь за конем, полоска за полоской. Это мир вокруг менялся — физики, поэты, геологи, телевизоры, космос, БАМ, Олимпиада, а Шанхай застыл, как стрекоза в янтаре: смена за сменой, полоска за полоской, километр над головой, крутая лава в полметра шириной, обушок или отбойный молоток в руках, тьма вокруг да коногонка на каске...
Томас открыл глаза, но тут же зажмурился — машина проезжала под фонарем и его ослепил электрический свет.
— Всё это сон. Долгий скушный сон, — прошептал Тихоня, поглаживая спящую Олесю по плечу.
38 Соль и сахар
«Победа» въехала во двор к Антонине Петровне — Катя оставила ворота открытыми. Выбравшись из машины, Томас осторожно взял спящую Олесю на руки и отнес в летнюю кухню. Уложив на кровать, сняв с неё балетки, какое-то время постоял, любуясь. У Леси милая улыбка. Да, её красота не бросалась в глаза. Чтоб её открыть, надо было прикоснуться к её душе и услышать, как она поет. Леся во сне смешно чмокала губами. Ниточка слюны стекала на щеку. Томас нагнулся и снял её поцелуем.
Когда Тихоня выпрямился, то понял, что все это время он держал фаянсового пастушка. Разжал ладонь. Украшение для женских будуаров, полочек в гостиной и комодов. Такие «пастушки» продавались в советские времена. Барышни, оленята, слоники, жирафы — яркий, сочный символ растворившихся в небытии десятилетий.
Томас, чтобы не налетели комары, аккуратно прикрыл за собой дверь и пошел к дому. Свет на втором этаже не горел — значит, Тоня ещё внизу и не спит. Без стука открыл дверь, прошел на кухню. Баронесса сидела в углу за небольшим круглым столом. Руки скрещены на груди, голова опущена, словно дремлет. Перед Тоней стояла глиняная бутылка без пробки и рюмка, наполненная мутной жидкостью. Успела переодеться — в одной ночнушке.
Не спрашивая разрешения, Тихоня сел напротив. Поставив пастушка в центре стола, он подвинул его вперед. Тоня медленно подняла голову и разомкнула тяжелые опухшие веки. Чертыхальски выдержал взгляд. Усмехнувшись, баронесса встала, подошла к шкафу, где у неё хранились полезные в кулинарии запасы: специи, мука, уксус, крупы. Здесь же стояли украшенные резьбой, и закрытые колпаками вырезанные из дерева бочонки. Тоня опустила внутрь руки и, вернувшись к столу, высыпала на скатерть то, что держала в жменях. Перед Томасом появились две горки — соль и сахар. Баронесса ребром ладони осторожно разровняла их так, чтобы получились два белых на красном круга. Средним пальцем, на котором матово блестел перстень с черным камнем, провела три линии. В центре сахарного круга появился"плюс«. Там где была соль — «минус». Затем баронесса взяла стол за края и осторожно повернула его так, чтобы соль и сахар поменялись местами. Теперь статуэтка стояла к Томасу не тылом, а во фронт.
Антонина Петровна взяла рюмку, чокнулась с пастушком и выпила. Положив ладонь на грудь, зажмурилась и, задержав дыхание, замерла. Подождав немного, опустила пустую рюмку на стол и медленно выдохнула воздух. Тыльной стороной ладони вытерла набежавшие слезки. Закупорила бутылку, развернулась и, так и не проронив ни слова, грузно ступая на скрипящие ступени, ушла к себе наверх, оставив Тихоню одного.
Алая скатерть. Рюмка с каплями на донышке. Бутылка. Древняя, без этикетки. На горлышке остались крошки от сургуча. Томас осторожно взял рюмку и, как делают химики, желающие понять запах реактива, несколько раз провел над ней ладонью, нагоняя воздух на себя. Пахнет кедровыми шишками и ещё чем-то знакомым. Волчьими ягодами, что ли?
Два белых круга. Плюс и минус. Сахар и соль. Статуэтка. Минус и плюс. Пастушок. Чтобы это значило? Опять загадка? Но голова не варит. Все эти «Жизнь невозможно повернуть назад и время ни на миг не остановишь», «И там, где когда-то влюблёнными шли, влюблёнными шли, деревья теперь подросли».
Да, здесь всё выросло, не только деревья! Взять этого Тараса, которого он вообще не помнит... Крепкий мужик, семьдесят никак не дашь, а все равно — возраст! Седой, морщины, синие и красные прожилки на щеках; обрубки ног, шею, спину на погоду так ломит, что он охает по ночам, стонет. А Томас? Поджарый, стройный, лицо посвежевшее, здоровое, без одутловатости — спасибо годам без вредных излишеств. Ручки мягкие, чистые, с блестящими ноготками. А ведь это он должен иметь облик деда Тараса, даже ещё древнее. Но тело — это одно, а душа? Чувствует ли он прожитые годы? Понятно, пытался об этом не думать, но нет — вручили ему напоминание о прожитом... Ещё в пору своей молодости он научился бороться с временем — стал забывать всё, что прошло и осталось за спиной: поступки, слова, мысли. Тихоня не запоминал имена тех, кто его окружал — зачем, если ему скоро придется менять работу, переезжать, а они все состарятся и умрут. Он не помнил события недавнего минувшего. Прошли дни-недели — вот и хорошо.
Ах да, новогодние праздники... К несчастью, они были в его жизни. Тридцать первого декабря веселился, танцевал, размахивал бенгальскими огнями, ухаживал за девушками, когда мог пить — пил, всегда в разных компаниях, с разными людьми. Даже если Тихоню попросить вспомнить, как он встречал очередной Новый год, то он бы не смог! До войны этому празднику никто не придавал особого значения. Годы Отечественной для Томаса спрессовались в единый пьяный кошмар, а после войны, когда снова пошел в шахту, в бесконечное похмелье, так что сороковые в памяти зияли сплошным черным провалом. В себя стал приходить в пятидесятые. Менял имена, внешность, возраст, места работы. Читал много, но стоило ему закрыть книгу, забывались имена главных персонажей. Многие фильмы смотрел по нескольку раз, и каждый был как первый. Чтоб взбодриться, перепробовал столько всего, что до сих пор удивляется, как тело и разум выдержали. Остановился, обретя истину, что лучшее состояние, какое может быть на этом свете — это когда ты здоров, сыт, трезв, а ноги сухие и находятся в тепле.
Годы шли... Не часто, но иногда время побеждало и тогда на Томаса «накатывало». О, сколько было кошмарных, орошенных холодным потом шершавых, как акулья шкура, ночей. А до заветного года были ещё десятилетия жизни! Пятидесятые, шестидесятые, семидесятые — всего лишь листики отрывных календарей — унесло, растворило, растаяло, где надо, подчистило... Вот эмоции оставались с ним навсегда! Сложно забыть непередаваемую радость, и усталость в день Победы, ужас и непонимание, что происходит в этом мире после первых испытаний ядерной дубины. Смерть Сталина, прикосновение к волшебству на чемпионате Европы по футболу в шестидесятом; запредельный, дикий восторг от Юры Гагарина, покупка первого телевизора...
Ещё музыка...
Да, музыка! Вот настоящая машина времени! Плюшевый Утёсов, мягкая, словно оренбургский платок, Клава Шульженко, звенящая Кристалинская, Миансарова — веселая, пьянящая, как шампанское; Трошин, Ободзинский и Мартынов — только услышишь их голоса, и нет тебя на этом свете; обольститель Захаров...
Музыка, песни — это не просто конверты пластинок, а дирижабли, заслоняющие половину неба. Западную не принял — «Жуков» слушать мог, но остальное... Просто он знал, кто там воет.
Вдруг Томас с досадой и горечью подумал, что у Андрея Сермяги, скорее всего, нет таких болячек, и художник по утрам не просыпается с мыслью: «Вот ещё один день настал — маленький шажок к могиле».
Ладно, хватит! Томас зажал статуэтку в кулаке. Зажмурившись, он приблизил пастушка к губам и прошептал: «Забудь. Веселись. Прорвемся!». Тихоня вернулся в летнюю кухню и, раздевшись, осторожно, чтобы не потревожить Лесю, прилег на край. Сон и не думал приходить. Голова, как оркестровая яма, в которой музыканты «разыгрываются» к концерту. Отчего он так расстроился? Напомнили о прожитых годах? Ну, и что? Спалили квартиру? Это временное неудобство не могло испортить настроение — пожар на фоне воспоминаний о проведенных на острове часах казался неуместным чьим-то капризом. Разве мертвый пепел, гарь и сажа в силах победить образы раскаленного золота песка и живой ртути лазурной морской воды? Сочный изумруд зелени, шершавые стволы пальм, приятное покалывание ракушек под ногами и над всем этим — мерное дыхание великана-океана, над головой — драпированная белобрюхими облаками синева. Ветер, наполненный йодным запахом водорослей и морской соли; всхлипы и стоны, животная пляска тел; пот, отражающий пламя костра, подмигивание звезд; фонтанирующее в жерло вулкана семя — вот ради чего стоит жить! А бесконечные вопросы о времени — это не для нас, не про нас. Пусть умники головы ломают: мы будем петь, танцевать и предаваться разврату...
Беги от прошлого — думай о хорошем!
Томаса засыпал со счастливой улыбкой на губах...
39 Заказ
Томас проснулся глубокой ночью. Подскочил на кровати с криком — ему снился давний кошмар — годовой отчет. Цифры не сходились и всё время выползали какие-то сотые и тысячные. Тарво, управляющий из «Тощей Эльзы», худой, белолицый, с бритым черепом, в черной тройке в тонкую полоску с бархатной алой гвоздикой в петлице и фарфоровой флейтой в руках, истошно кричал из тёмного верхнего угла, вися у потолка, словно подвешенный на невидимых канатах. Чтобы его услышать, приходилось задирать голову.
— У нас не может быть сотых! — вопил Тарво и пена выступала на его побелевших дрожащих губах, слюни летели во все стороны. — Грехи не делятся, не дробятся не упрощаются. В сотый, тысячный раз талдычу. Грех — это основа и фундамент всей нашей двоичной системы. Кто пропустил? Какая тупая скотина позволила немыслимое — покушение на весь наш уклад? То, что вы наворотили — это не ошибка, ошибка — это рождение на свет таких выблядков, как вы, дебилоиды! Вам только сажу с котлов слизывать! Будете у меня угаром вместо кислорода дышать, пеплом зубы чистить. Спешите куда-то, помазки? На песочек захотелось, ироды, на травку? Своих потаскух давно не жарили? Я вам дам травку, я вам дам жарить! Я вас сам так отжарю, что жаровня задымится!
Томас не отвечал за отчетность: он и цифры — это вещи взаимоисключающие. Организовать своевременную доставку папок, бумаги, чернил, свечей, ламп и керосина, изредка привезти со склада мебель — вот и все его обязанности. Пишут, считают, подсчитывают, готовят отчеты, выкладки, аналитические записки, служебки, рапорта, доклады уже другие. Томас не виноват в том, что в отчёт закралась ошибка, но почему и ему так страшно от ора начальства? Он же особа привилегированная, допущенная к ручке Князя, на него бесенята (бакенбарды-усики-бородки, чубчики-хохолоки, глазки подведенные, мушки на щеках, губки бантиком, брючки трубочкой, пестрые рубашечки, синие пиджачки с черными канцелярскими налокотниками, бабочки в цвет подтяжечек, штиблеты с черными пуговками) и посмотреть в его сторону не могут — боятся. И ему страшно. Вжимает голову в плечи, ладонями закрывает уши, но всё впустую: строгий голос гремит изнутри, в голове Томаса. «Не покушайтесь на мое, и я вас не трону! Не перечьте, не нойте, терпите, все равно не будет по-вашему!», — завывал Тарво.
Томас проснулся, шепча: «Не будет по-вашему».
Сел на кровати. Огляделся. Леся спит, отвернувшись к стене. Луна стоит высоко, а солнце затихорилось до поры до времени. Форточку открыл шире. Занавеску колышет приятный ночной ветерок. В верхнем углу, где труба печки соединяется с потолком, жужжит обожравшийся девичьей кровушки комар — вот-вот лопнет.
Томас проснулся по-настоящему. Потер кожу на кончике носа, и тут же возник образ разрезанного на две части арбуза, а затем выплыло имя — «Костя». Хотел спросить у себя, какой это Костя? — но получил подсказку, словно его отражение из зеркала влетело в комнату, приблизилось и прошептало на ухо: «Красненький». Всё понятно — настал момент заняться номером «три». Но почему так поздно? Время — за полночь, а он только недавно лег! Отражение переместилось к правому уху: «Лучше поспеши, он...». Легко сказать, поспеши. Надо впотьмах, не зажигая света выбрать подходящую данному случаю одежду, попить воды, прополоскать рот дешевой мятной гадостью, которая стоит на полочке возле умывальника, обуться... Поссать, наконец.
Всё сделано — он готов. Похлопал по карманам брюк. Деньги, платок, телефон на месте. Стал перебирать номера такси. «Фаворит»? — не, там почти все наркоманы. «Класс»? — это пойдет. Когда Томас подошел к калитке, Джеки Член высунул нос из будки, понюхал воздух и, удостоверившись, что свои, снова спрятался.
Выйдя на улицу, Тихоня невольно поежился от сырости. Это днем жарко, а ночная прохлада напомнила о приближении осени. Спрятался в тени растущей у забора акации. Вызвал машину. Мир застыл в тишине. Фонари заливают люминесцентным маревом поникшие ветви деревьев, запятнав землю резными кружевами. Город спит — ни в одном окне из видневшихся вдали за цыганским поселком высотных домов не горит свет. Обычно в столь поздний час на окраинах и в частных дворах брешут собаки, но сейчас всё словно заморозилось, остекленело, только в небе медленно летела мигающая точка, наверное, самолет шел на посадку. Через несколько минуту послушался шум приближающейся машины и на улицу въехал «ланос» с шашечками на крыше. Томас вышел из тени, чтобы его было видно. Такси остановилось. Водитель пожилой, в очках с толстой оправой, линзами, из-за которых непонятно, какие у человека глаза — добрые или злые. Глубокие морщины добавляли лицу строгости. «Повидал на своей жизни всякого», — подумал Томас.
— Куда едем? — спросил таксист.
— К «авторему».
Чертыхальски сел на заднее место. Из радиостанции донесся механический голос:
— Семнадцатый, клиента взял?
Ч-ш-ш-ш...
— Взял, на Черемушки.
Ч-ш-ш-ш-ш...
— Там есть кто? — спросил водитель коробочку, соединенную с торпедо закрученным спиралью черным шнуром.
— Подождите.
Ч-ш-ш-ш-ш-ш...
— Через полчаса на «шалашах» две машины.
— Принял.
Ехали молча. Прибыв на место, Томас расплатился, добавив сверху «ночные». Водитель на щедрость клиента никак не отреагировал, словно так и должно быть.
Машина уехала, и Томас остался один. Осмотрелся. Над головой мерцание звезд. Пунктир фонарей. Линии улиц пусты. За спиной спящие дома, перед ним — завод «авторем». Слева, за высокими деревьями прячется ещё одна промышленная площадка — «Экспериментальный завод». Вот туда и надо идти. Побрел по асфальтовой дороге, а потом свернул налево, но не к будке ВОХРовца, а наискось по-над забором и дальше по периметру. Скоро он звериным чутьем нашел узкую щель среди плит. Протиснулся, оказавшись на охраняемой территории.
Ну как охраняемой...
Брёл мимо возвышающихся до неба коробок цехов, башенного крана, ржавеющих под открытым небом машин. Заросли кустов, чахлые деревья. Сараи темной ночью походили на декорации в театре теней — плоские, двуцветные. Рельсы, мусор, проволока, осколки стекла, поваленные горой гнилые доски, рассыпанная по земле щебенка. Приходилось смотреть под ноги, чтобы не зацепиться. Света было мало — полная луна уже спряталась за горизонтом, а «сириусы» стояли в трех дальних точках, и сияния не хватало на всю территорию — завод был очень большой. Ещё Томаса преследовали резкие, борющиеся между собой запахи полимерной эмали, солидола, машинного масла и растущей везде амброзии. Вот так, с горем пополам, он пришел к восточной стороне, к полоске между цехом и забором.
Впереди чернеют силуэты балка и высокой стопки бетонных плит. Справа возвышался стоящий на рельсах строительный кран. Больше никого и ничего: громада завода драпирована тьмой — не различить границ и высоты цехов. И где здесь прячется наш номер «три»? Привиделось что ли?
Тихоня кашлянул:
— Кхм-кхм.
Прислушался. Тишина...
Дверь балка заперта на висячий замок — отсюда видно. Где здесь можно скрыться? И, главное, зачем? В вагонетке? Томас сделал несколько шагов, слыша, как из-под подошвы его кроссовок разлетается щебень — в тишине этот звук казался громом камнепада. Вдруг послышался гулкий звон, как будто резиновой киянкой ударили в чугунный рельс. Идя на звук, Томас заметил, что за вагонеткой лежит перевернутое вверх дном большое корыто, в каком обычно на стройках замешивают раствор.
Томас костяшками пальцев постучал по дну.
— Эй, еврибади хоум?
— Ес ов кос, — ответили изнутри.
Тихоня подпер руками бока. Он стоит посреди спящего завода, спящего города, спящего мира, на часах где-то два ночи, и вот — на тебе! — словно оказался на «Яснооком»: разбудили, притянули, показали тихушника и теперь думай, что с этим всем делать.
— Мужик, ты как там оказался?
— Та ото ж... — послышалось снизу.
Томас нагнулся — емкость стояла на шпалах, между бортом и землей был небольшой зазор. Попытался приподнять железяку. Не, она была очень тяжелой.
— Слушай, да это корыто почти целую тонну весит. Я один не справлюсь.
— Давай вместе попробуем, — послышался голос.
Томас взялся за край и со всей силы потянул вверх. Поднять-то он поднял, но удержать долго не мог.
— Полезешь — придавлю нахрен, — сказал Томас озадаченно. — Придется подмогу звать.
В ответ — молчание. Блин, что же делать? Тоню будить не стоит — ему ещё жизнь дорога. Леся тут бессильна. Рому с братанами? Слишком поздно. Разве что охрану позвать — двое вохровцев сейчас в бане спят. Но попробуй им объясни, что посреди ночи на их территории делают два взрослых мужика. Легче развернуться и уйти — как-то залез, пусть сам выползает. Но ситуация, в какую попал Тихоня, была столь необычной, что ему захотелось узнать, чем всё закончится.
Тихоня ругнулся и тут же услышал знакомый перекат камушков — неподалеку кто-то шел. Вот нисколечко Томас не удивился, заметив, как из-за бетонных плит сначала показалась груженая тачка, а потом два силуэта — один повыше и шире, второй ниже и уже. Тихоня стоял в тени вагончика, поэтому, чтобы никого не напугать, снова кашлянул.
Парочка замерла, прислушалась.
Не повышая голоса, Чертыхальски сказал:
— Мужики, не бойтесь. Тут мой приятель в беду попал. Помощь нужна.
Тачку поставили. Шуршание щебенки приблизилось.
...Черная крышка, как панцирь огромной черепахи, а рядом стоят три человека.
— Шо у тебя?
— Вот, под корыто залез, а вылезти не может.
— Поднять?
— Попробуем.
— Слышь, мужик. Давай мы потянем, а ты лезь скорее, — сказал Томас.
Втроем берут за края корыта и с тихим стоном на «раз-два» поднимают.
Чертыхальски видит, как из открывшегося черного проема что-то высовывается.
Только поймите правильно: ночь на дворе, темно, Томас ещё полностью не проснулся, а в голове до сих пор слышен вопль Тарво: «Не будет по-вашему!», — а тут на тебя лезет что-то большое, широкое, серое, вообще не похожее на голову человека! Скорее язык дракона или лапа горного тролля! Как Томас не разжал пальцы — удивительно. За те доли секунды, пока его разум перебрал миллиарды вариантов происходящего, Томас успел произнести пять не совсем цензурных словосочетаний на русском языке, два на немецком и одно на эстонском, причем такое, о существовании которого он уже давно забыл. Высказав всё, что он думал, Томас, наконец, нашел ответ.
Из-под крышки вытолкнул мешок с цементом!
— Подержите ещё чуть-чуть, — раздался голос. В щели показался второй «язык дракона» и только за ним уже человеческая голова, плечи, туловище и ноги.
Три богатыря с кряхтением опустили корыто на место.
У Тихони зачесался язык. Ему хотелось высказать всё, о чем он только что подумал, но стоило ему посмотреть на спасенного, слова куда-то пропали. Большие выпуклые глаза, крупный нос вздернут, щеки круглые, зубы большие, особенно выделялись передние, имеющие форму трапеции верхние резцы. Пред ним, счастливо улыбаясь, стоял чистенький, отмеченный красным ярлыком Костя Иванов. Номер «три». Он так сильно был похож на белку, довольную, веселую белку, что вместо ругани, Томас заулыбался в ответ. Улыбка стала ещё шире, когда заметил, что его клиент уже держал подмышками спасенные им два мешка цемента.
— Ну что, побежали? — прошептал Костя и, нисколечко не сомневаясь в том, что остальные последуют за ним, рванул к забору.
Томас посмотрел на своих неожиданных помощников, но они, не обращая внимания на суету и бегство одного из персонажей данной интермедии, выбрали новое занятие — приподняли корыто, и какое-то время подержали его на весу.
— Дотащим, — последовал приговор.
Уже знакомая нам парочка — Сашка и Иван Сергеич — сплав молодости и опыта, о да, это были они, припрятав в кустах у забора свою тачку с проволокой, поплевав на руки, взялись за железяку. Покряхтывая, сопя и тихо ругаясь, они подняли корыто и понесли. Томас в недоумении смотрел, как его нежданные спасители, словно носильщики крышки гроба на похоронах, скрылись во тьме. Не пришло и минуты, а Чертыхальски остался один. Стоять дальше, хлопая ресницами, не имело смыла, поэтому Томас рысью рванул за Костей, к которому накопилось много вопросов и хотелось как можно скорее услышать ответы.
40 Номер три
Чтобы догнать «красненького» пришлось хорошо ускориться. Перепрыгнув через забор — искать щель уже не было времени — Томас замер, прислушался к ночной тишине и затем шумно, как койот, потянул носом воздух. Поняв, в каком направлении искать, засеменил вдоль кустов по узкой тропинке. Хорошо, что в темноте Тихоня видел как кошка, а так бы с непривычки легко заблудился. Тропинка в одном месте свернула к пустырю, и вела к железнодорожным путям. Томас взобрался на вверх насыпи в тот момент, когда Костя пересекал последнюю пару рельсов. «Ничего себе дури», — прошептал Тихоня, который бежал налегке, а у этого «красненького» в руках мешки с цементом.
Чертыхальски пересек трассу, нырнул в проулок возле магазина, и припустил по грунтовой дороге. Догнал. Костя, какой он ни был семижильный, но все равно остановился передохнуть, поставив мешки на землю. Томас подошел, нагнулся, уперев руки в колени и, с трудом переведя дыхание, прошептал:
— Вот ты горазд бегать.
— Так я там чуть не околел.
— Согрелся?
— А то.
— Куда спешишь хоть?
— Думал ещё поработать, но теперь понимаю: на сегодня хватит, — ответил Костя.
— Поработать?
— Ну да. Зачем я их тащу?
— И зачем ты их тащишь?
Ответ озадачил Томаса. Ему показалось, что Иванов шутит. Такого не может быть. Что-что? Бункер? Он сказал «бункер строю»?
Костя подхватил стоящие «на попа» мешки и пошел дальше. Томас — за ним.
Иванов был невысоким. Не такие уж и широкие плечи, руки без объемных мышц, ноги не длинные, но и не короткие. При этом в нём чувствовалась какая-то необъяснимая сила. Пружинистый широкий шаг, под футболкой двигаются мышцы, лопатки, воздух с еле слышным свистом вырывается из легких. Видно, что устал, но продолжает идти. Томас хотел предложить помощь, но посмотрел на себя — белый батик из нежнейшего хлопка, спортивные брюки, светлые чуть испачканные кроссовки, и... передумал.
— Тут уже близко. Чаю попьешь? — спросил Костя, не оборачиваясь и не сбавляя темпа.
Томас не задумываясь, ответил:
— Конечно, попью. После такой пробежки в самый раз.
— Это да.
Иванов свернул в темный проулок и через метров двадцать подошел к высоким железным воротам. Толкнув калитку плечом — она была не заперта — юркнул во двор. Томас запнулся у порога, но услышав «заходи», смело последовал за хозяином.
Двор был просторным. Освещали его две подвешенные высоко вверху закрытые плафонами электрические лампы, вокруг которых сейчас кружились ночные бабочки. Слева от Томаса возвышалась серая неоштукатуренная стена двухэтажного гаража, справа — низкий деревянный заборчик, за которым росли фруктовые деревья; прямо чернел большой дом. Он был одноэтажным, с высокими, кирпичными, отделанными «шубой» стенами и чердаком. У фундамента горели похожие на амбразуры узкие окна цокольного уровня. Над ними были подняты козырьки железных ставен.
Костя опустил мешки возле гаража. Здесь была настоящая стройплощадка, с ручной бетономешалкой, укрытыми тканью лопатами, ведром с мастерками. Видны горки песка и земли — песок старый, а земля ещё свежая. Вообще, все пространство, кроме центра, было занято. Тут лежали скомканные, старые, приспособленные для выноса мусора, простыни, стояли залитые водой под завязку бочки. Мотки, вернее, целые бухты проволоки, как гигантские бублики лежали возле ржавой двуручной пилы и старого, почерневшего от времени козла. Вдали возвышались перепачканные цементом и гипсом леса, под которыми прятались тачки нескольких видов. Томас ещё подумал, что кто-то коллекционирует старинные автомобили, а здесь собран небольшой парк емкостей для перевозки сыпучих и жидких материалов. Много чего здесь было — что пряталось в темноте, а на что-то Томас просто не обратил внимания.
Разминая плечи, хозяин повернулся к Томасу, и протянул руку.
— Спасибо, дружище. Выручил.
У Тихони, когда он открыл ладонь для рукопожатия, вдруг екнуло сердце. Художник его чуть не покалечил, а этот... Мало ли что может произойти? Но обошлось...
При свете Томас уже внимательней рассмотрел хозяина. Хм, первое впечатление не обмануло — захочешь нарисовать шарж — смело ваяй белку и не ошибешься. Только ушей с кисточками не хватает, а так все на месте: большие навыкате глаза, нос, как у Павла Первого, только крупнее, пухлые щеки, большие губы, улыбка арбузной коркой и, конечно же, передние зубы — ну, настоящая смешная мультяшная белка! Бывает же такое?!
— Томас, — представился Чертыхальски, ощущая, как его словно окатило кипятком по спине — он назвал своё настоящее имя! Кто его только за язык дернул!
— Костя. Сейчас быстро чаек сварганю, но... Есть ещё вариант. Для такого случая храню веточки вишни. Пробовал?
— Конечно. Абрикосы, вишни или яблони. Залить кипятком и подержать минут десять. Отвар получается вкусный и полезный. Малина так же ничего, а чтобы вообще крышу снесло — в кипяток бросить ягоды кизила.
— Ага, — кивнул Костя, — по жаре в самый раз. Я, правда, потом потею, как гиппопотам.
— Ты лучше скажи, чего не спиться.
— День занят. Приходится работать по ночам. Дрыхну до обеда, а потом в типографию. Уже привык.
Вот сказал «уже привык» и тут же заулыбался во все свои... сколько там осталось? Раз-два-три... не больше двадцати зубов. Вдруг Томас увидел, понял, осознал, прикоснулся к истине, что для Кости Иванова больные зубы — это великое благо. Он этого не понимает, боится их лечить, а потом вырывать, но ему лучше будет без задних коренных, но особенно — без коронок. Железных коронок. Почему? На этот вопрос у Чертыхальски пока не было ответа...
Костя улыбался, как могут улыбаться счастливые дети. При взгляде на его довольное смешное лицо, Томас не заметил, как у самого губы растянулись от уха до уха. Вдруг Иванов сорвался с места, побежал в дом, и оттуда донеслось грюканье железной посуды. Свет мигнул, и через какое-то время раздалось шипение — на кухне включился старый электрический самовар. Костя крикнул:
— Пошли руки помоешь.
Томас поднялся по ступеням и, для порядка, пошаркав подошвами кроссовок о лежащую у порога тряпку, вошел в дом. Вид жилища и царящие тут запахи говорили о том, что здесь уже давно ведется ремонт, и всё делает мужчина — женщина ни за что на свете даже на одну ночь не позволила бы оставить такой свинарник. Стены и потолок не оштукатурены — полы застелены крагисом и старым заляпанным краской, белилами и ещё какой-то гадостью линолеумом. Перечислять всё, что здесь было навалено — зря только бумагу изводить, но вы должны понимать, почему Тихоня, внимательно посмотрев по сторонам, пришел к любопытному выводу. Он подумал: «А этот „красненький“ на самом-то деле — столь нелюбимый Андрюшей Сермягой персонаж — несун!». Как ещё можно объяснить наваленную на диване стопку рулонов обоев, большинство из которых были разной раскраски и рисунка? Тихоня знает, что такое ремонт. Если собираешься клеить обои, то подбираешь одного вида, хранишь в сухом месте и отдельно от остальных. А клей? Пакеты разных марок горкой свалены в углу. Там же стоят ведра с замазками, коробочки с какими-то пастами, открытые и закрытые банки из-под краски, герметики. Батарея из флаконов монтажной пены. На полу у стены рассыпаны рейки плинтусов. Дальше — пластиковые ведра, в которых гора шурупов, гаек, болтов, саморезов, мотки ниток, веревок, проволоки, разноцветные «бублики» изоленты и прочая, и прочая полезная в хозяйстве хрень. Все было разбросано без особой логики и порядка. Мелкие яркие детали существовали отдельно от пыльной громоздкой мебели — стульев и укрытого ковром дивана, столов с высокими ножками, чтобы работать у потолка — явно сделанными самим Костей; двух шкафов с открытыми настежь дверками — там лежали перфоратор и электродрели, пластиковый футляр, в котором хранились сверла, насадки для перемешивания раствора и красок, несколько фотоаппаратов — это уже повыше, где полки были чище. Да чтобы упомянуть всё, что хранилось в гостиной и зале, надо ещё страниц десять потратить! Кто же это будет читать? Скажу кратко — если во дворе ещё был относительный порядок, то в центре дома без сноровки и особых навыков ногу можно было сломать.
— А где руки помыть? — спросил, наконец, Томас.
— По коридору и направо, — ответил Костя, рассматривая этикетку стоящего на подоконнике растворителя — у него, после сидения под корытом на коленях появились черные пятна.
Тихоня зашел в ванную. Просторная. Унитаз, душевая кабинка, змеевик полотенцесушителя, стиральная машина, пластиковое глубокое ведро для грязного белья. Стены покрашены и в одном углу положена белая плитка. Относительный порядок — здесь ещё было заметно присутствие женщины.
Сполоснув руки и вытерев их о чистое банное полотенце, Томас вышел в коридор. Скорее по привычке и повинуясь природному любопытству, он прошел чуть дальше по коридору, приоткрыл дверь и заглянул в соседнюю комнату. Я уже говорил, что Чертыхальски хорошо видел в темноте, но здесь его талант не понадобился — полоса света, струясь из щели между шторами, перерубала спальню наискось, подсвечивая детскую мебель, смешные и забавные рисунки на стенах. А ещё Тихоня заметил странные, необычные, удивительные игрушки. Он хотел посмотреть на них тихо, не привлекая внимания, но что-то в нём потребовало включить свет, чтобы «красненький» понял, где он находится.
Рука потянулась к включателю и замерла. Как поступить? Тихо или с открытым забралом?
Хотя, к чему уже таиться, когда он назвал свое имя, тем самым, вручив хозяину этого дома свою судьбу?
Щелчок. Свет зажегся. Тишина. Нет, разум по инерции фиксирует шум закипающей воды в электросамоваре, дыхание ночного ветра за окном, далекий лай собак; в соседней комнате под ногами Кости жалобно скрипит крагис и доски, тикают часики на стене, где-то в доме возмущенно затренькал разбуженный в этот поздний час волнистый попугай, но для Томаса Чертыхальски мир умер. Такое бывает. Маленький мальчик попал в мешок к Деду Морозу, сластену на ночь заперли в магазине с конфетами, любитель марок в руки взял старинный альбом давно умершего филателиста; букинист, сняв суперобложку с найденного на развалах «кирпича», понял, что под фантиком пряталось первое издание редкого романа... В таких случаях невольно дыхание спирает, начинают дрожать руки, в голове всё сдвигается и кажется, что у тебя под языком аскорбинка счастья. Нечто подобное сейчас испытал Тихоня: ладони вспотели, волосы на затылке встали дыбом, и глаза метались по комнате не в силах остановиться на чем-либо одном.
Нашел!
Вот он — стоящий на тумбе в углу зверь — высоченный динозавр: железный, блестящий, огромный страшный тирекс. Игрушка была сделана из тысячи элементов. Детали детского конструктора, шестеренки механических часов, цепочки, новогодние гирлянды, оловянные пуговицы, бутылочные крышки, лампы от телевизоров и радиоприемников. Тело состояло из старого карбюратора, к которому крепилось все остальное: ноги, шея, длинный хвост. Спина из фольги от шоколадок, лапы — кожаные обрезки, а внутри тела пружины, припаянные к ножкам зонтиков и согнутым кольцами гвоздям; колесики, зубцы, крючки, чешуйки. Череп и нижняя челюсть выплавлены из свинца, а не собраны из случайных деталей. В пасти — вместо зубов половинки дюбелей. В провалы для глаз помещены лампочки, и Томас гарантировал, что они зажигаются. А может зверюга ещё умеет рычать и двигать нижней челюстью? Это был бы вообще капец!
Кроме динозавра здесь стояли два фантастических по красоте звездолета, с хромированными соплами, переплетенными между собой тонкими трубками, окрашенными емкостями для топлива — когда-то банок из-под пива — зеркальными иллюминаторами, наверное, вырезанными из осколков старых солнцезащитных очков. Корабли опирались на ножки, напоминающие части спиннинга. Между ракетами на посту стоял боевой, вооруженный огромным бластером робот. Тело металлическое. Грудь — двигатель от мопеда, ноги-руки — загнутые жестянки. Голова — шаржевый парафраз робокопа: макушка шлема — обрезанный автогеном надраенный до блеска туристический котелок, челюсть из хромированной пластины, нижняя часть лица от старой куклы. На ногах детские кроссовки из посеребрённого кожзаменителя. Кисти деревянные, покрашенные, естественно, серебрянкой.За спиной воина крест-на крест висели два небольших черных меча нинзей.
Красота!
Дерево в глиняном горшке. Ствол — изогнутая арматура, вместо листьев маленькие замочки, которые висят на припаянных к ветвям рыболовных крючках. Плоды — старые лампочки. Стекло раскрашено масляными красками и издалека кажется, что висят настоящие груши, а рядом пальма, собранная из кусочков пластиковых бутылок и сшитая из четырех самодельных подушек, похожая на снеговика, баба в пестром платье. С веночком на голове. Вместо груди две поролоновые шишки, в которые можно втыкать иголки. Это то, что было большим, ярким, заметным, а сколько здесь было игрушек поменьше? До утра можно рассматривать...
Чертыхальски выключил свет и осторожно прикрыл за собой дверь.
41 По душам
Вернувшись в гостиную, Томас увидел сидящего на табурете Костю — почти голого, в одних трусах. Тихо нашептывая что-то недоброе, он тер брюки смоченной в растворителе тряпкой. Томас подошел ближе, навис телеграфным фонарем, став так, чтобы не загораживать свет.
— Битум?
— А хрен его знает, что там было. — Костя, с остервенением размазывал черные пятна по ткани. — Вот угораздило вляпаться.
Томас невольно засмеялся.
— Как ты туда вообще попал?
Иванов поднял голову. Хмурое сосредоточенное лицо вдруг растворилось в улыбке — морщины разгладились, щёки округлились, снова показались смешные, словно мультяшные зубы.
— Та, вооще атас. На работе задержали, на такси денег нет — пошел пешком. Мешки по первой казались легкими, а потом устал. Решил срезать — там часто хожу. У вагончика слышу: «Кто тут? Стоять!». А у меня — мешки! Попробуй, докажи, что ты не верблюд! — Костя хмыкнул, опустил голову и, терзая шорты, продолжил: — Это сейчас хоть что-то соображаю, а там — инстинкты. Тазик тот поднял, цемент под него забросил. Наверное, хотел... Блин, да я не помню, что я там хотел — мозги отключились напрочь! Слышу, шаги, а у меня в руках это корыто. Ну, я прямо... Короче, накрылся я им. Они подошли, говорят, вот был же здесь, куда делся? Постояли с минуту, поматерились и пошли дальше. Я подождал слегонца и думаю, пора бы уже и выбираться. А как? Стою на четырех костях. Чтоб поднять крышку, надо упираться затылком и плечами, а там раствор застывший к днищу прилип и на земле щебенка.
Томас посмотрел — так и есть: колени, локти и плечи у Иванова были красные, израненные.
— Я упираюсь, а она такая тяжелая.
— Ты же её одной рукой поднял!
— И я о том же! Хрен его знает, как вышло. Со страху-то влез, а назад не могу — больно. Короче, засада!
Томас призадумался. Нет, все верно выходит: стоя на четвереньках да на острых камнях, попробуй, сдвинь — он-то помнил, какой тяжелой была железяка.
— Раствор внутри, говоришь?
— Ага, — ответил Костя. Проведя рукой по волосам, показал ладонь — на ней осталась белесая цементная пыль.
— А эти её вдвоем понесли, — сказал Тихоня задумчиво.
Костя смотрел на Томаса некоторое время, а потом, когда в его глазах магниевым огнем вспыхнула догадка, захохотал. Смеялся он заразительно, трясся всем телом и, откинув голову назад, при этом чудом не ударившись затылком о стену. А вот Томасу наоборот стало не по себе, словно куриные лапки оцарапали его селезенку... Проторенной дорожкой он оказался в гостях почти незнакомого ему человека. Они общаются уже почти полчаса, если отсчитывать время от «эврибади хоум». Обошлись без необходимых в таких случаях приветствий, знакомств и расшаркиваний. Они говорят, как два старинных друга, которых многое связывает. Если посмотреть на эту ситуацию со стороны, то можно подумать, что Костя — это классический неудачник с трупом на руках, а Томас — спаситель, согласившийся закопать мертвеца. Так? Так! Вот поэтому Тихоня решил, что ему надо избегать вопроса, что он делал на заводе в столь позднее время и, главное, как узнал, что под крышкой находится человек. Если он поставит себя на место Кости, то будет напрашиваться только один возможный ответ, и этих слов Чертыхальски очень не хотелось бы слышать.
Дождавшись, когда Иванов успокоится, Томас сказал:
— Ничего смешного тут не вижу. Это ж надо догадаться! Поздняя ночь, луна спряталась, тучи ходят хмуро. Заросли вокруг как щупальца шевелятся от ветра, собаки лают. Мы поднимаем железяку, и что я вижу? Из-под крышки гроба лезет какая-то гигантская лапа! Меня там чуть кондратий не хватил!
Костю накрыла вторая волна хохота.
— Я не подумал... — только и смог он из себя выдавить, растирая слезы по грязным щекам. — А-а-а-а... Давно так не ржал. Шо за ночка?
Успокоившись, Иванов пояснил:
— Ты мне напомнил про одного деда с Кировского ставка. Он там козу свою пас. Задремал, а она пошла на соседнее кладбище цветочки щипать. Ну, короче, свалилась в свежевырытую могилу и блеет оттуда. Дед типа просыпается — козы нет. Пока нашел — стемнело. Полез спасать и сам провалился. Стал кричать — без толку. Летом дело было, но все равно холодно, темно. Сидят вдвоем, обнялись, друг дружку греют. Дед уже не знает, что и думать. Тут чует — кто-то идёт. Вроде шахтер возвращался с последней смены. Услышал вопли — прямо как ты. Ну, дед не дурак, думал тоже сначала свое добро спасти — козу вверх подтолкнул. У того, кто хотел помочь, тут же инфаркт со страху — еле откачали.
Томас прыснул, но не из-за истории, просто, когда Костя рассказывал про деда, он всё разыгрывал в лицах, даже козу с рогами успел изобразить. Тихоня подумал, что Иванову бы в театре служить или кукольные мультфильмы снимать, а он в картотеке красным ярлыком окрашен. Странно...
— Я тут дверью ошибся, в детскую зашел, — сказал Тихоня. — Классные игрушки.
— С малыми делали. Вместе.
— А где они? — спросил, прекрасно зная, что супруга чистенького сейчас у своей мамы.
— На даче. Дома сам видишь, какой срач, — повел головой Костя. — Жена к тёще забрала до конца лета. Тут пыльно, а у них аллергия.
— Ремонт?
— Не, я же говорил — бункер строю.
Томас за свою долгую жизнь успел убедиться — сколько не общайся с людишками, все равно не угадаешь, какое коленце они выкинут в следующий миг. Сейчас это был тот самый случай.
— Думал, послышалось. Какой бункер?
— Подземный.
— А зачем?
Костя посмотрел на потолок, призадумался, и, подержав мхатовскую паузу, ответил:
— Ну, во-первых, это красиво.
Насладившись реакцией Томаса, продолжил уже без улыбки:
— У меня есть подвал, но для верности надо сделать ещё одну комнату — углубляюсь в сторону улицы. Пол залил раствором, три стены поставил. Бетонные плиты для потолка я давно положил, когда дом строил. Сейчас гадаю, какую стену выбрать для перегородки — с прутами или без.
— А в чем разница?
— Ну, — пожал плечами Костя, — это вопрос философский. Смотря для чего будет служить. От мародеров железные двери, бетон и арматура — в самый раз. Если от природы, то каменная кладка сгодится. Но не думаю: триста метров над уровнем моря — вода не достанет.
— Чёт не понял. Какая вода?
Когда Костя начал объяснять, то стало понятно, что ему не привыкать к расспросам. Изменилось выражение лица, голос — он словно превратился в активиста «Гринписа», читающего лекцию в рабочем клубе.
— Для начала возьмем потепление. Это не догадки, а доказанный факт — в двадцатом веке температура выросла почти на градус, а каждые тридцать лет — теплее предыдущих. Территория вечной мерзлоты сокращается. Арктические льды тают. Так?
— Да, — ответил Томас. — Князь об этом тоже говорил, он по льдам дока.
— Какой князь?
— Не важно... — отмахнулся Томас, а Костя и не настаивал — его уже тянуло «поговорить».
— Считай сам. Если все пойдет так и дальше, то через сто лет уровень океана вырастит на два-три метра — это в лучшем случае. Представляешь? Если говорить не о тропиках, где будет полный конец, а о нас — всё равно хорошего мало. Недавно читал про теорию поворота сибирских рек. Не людьми, а типа самой природой. Вся эта махина может двинуться сначала на Каспий, к Аральскому морю, в Поволжье, а потом в сторону Черного и Азовского морей.
— Не понимаю, — ответил Томас вполне искренне.
Это было что-то запредельное! Ночь умирает, солнышко уже натачивает свои лучи, птицы на улице просыпаются. Провонявшая растворителем комната. В этом сумасшедшем доме где-то чирикает попугай, а в детской между железных и пластиковых деревьев, бродят металлические динозавры, роботы и толстые плюшевые бабы. Высоко в небе над Городком летят самолеты, спутники, метеориты, кометы, звезды, а тут на табурете сидит полуголый Костя Иванов и вещает:
— Таяние льдов и подтопление тундры наполнят сибирские реки таким объемом воды, что Лена, Енисей, Обь не смогут удержать её в своих берегах. Я точно не помню, но якобы ландшафт в Сибири такой, что вода пойдет в нашу сторону. Прикинь, через всю Россию — от Якутии до Ростова — хлынет поток. Не сразу, не как цунами, а постепенно. Но неотвратимо. Так что, возможность природного апокалипсиса я пока ещё не снимаю. Ну а то, что грядет конец света — это к гадалке не ходить.
42 Лекция
Костя говорил, но в его взгляде не было глупойсамоуверенности или присущей сумасшедшим упрямой пустоты. Он был нормальным и говорил нормально, словно рассказывал о погоде или проблемах на работе.
— ...Я не верующий. Апокалипсисы по календарным датам — это лапша для идиотов. Специально интересовался, сколько всего было объявлено концов света. До фига! Лжепророки вещают, грозят, а мы до сих пор живы... К тому же нельзя отрицать влияния маркетологов: накануне объявленных концов света в торговых сетях вырастают продажи — это тоже факт.
— Но есть же ясновидящие.
— Да ладно! Мой дед как-то рассказывал, что на Байраке жила слепая баба Матрена. Она будущее видела, к ней весь Городок ходил ворожить. Так на неё в «Кочегарку» какой-то рабкор донос написал. Сущая правда — в библиотеке я тот номер газеты сам видел. В заметке говорилось, что баба Матрена на вопрос, надо ли платить земельный налог, отвечала тем идиотам... А дело было в двадцать втором году... Отвечала, зачем платить, если скоро белые придут? Так вот, эти липовые ясновидящие до сих пор ждут «белых», не соображая, что «красные» это надолго. Незачем нам бояться того, что не страшно. Второе пришествие Христа, Машиах, нашествия злых зомби... Бред! Лучше в другую сторону смотреть — вот где ужас надвигается! Я, кстати, не про сбой «две тысячи». Техногенные катастрофы, атомные электростанции не рванут — фигня все это. Не верю! Но когда меня спрашивают, какого ляда я трачу все свое свободное время на рытье норы, и столько уходит денег на покупку стройматериалов, то отвечаю: «Двадцать первый век — это Рубикон!». Академик Капица посчитал, что население Земли приближается к критической отметке. Точно не помню, но где-то в двадцатых-тридцатых годах начнется. Это все связано: количество людей, скорость смены исторических и социальных эпох, повышение температуры. Больше людей — чаще совершаются научные открытия, научно-технический прогресс летит галопом. Тут же слом политических систем и институтов. Наш двадцатый век показал, что можно уничтожать сотни миллионов душ и тебе за это ничего не будет. Травить прививками, серой и цианидом, ртутью, искусственной едой, искусственными семенами. Скоро научатся травить искусственным семенем. Дальше будет только хуже...
Продолжал говорить Костя Иванов, рубя воздух ладонью.
— ...клоны, машины, компьютеры, искусственный интеллект, парниковый эффект, лаборатории по разработке биологического, химического, генетического оружия, зараженных насекомых. Ядреные, да-да, ядреные, водородные, нейтронные заряды. Блин! Это не фантастический роман, это типа мое настоящее! О будущем и думать страшно, а у меня трое детей! Трое! На мою жизнь хватит воды, еды, земли и воздуха, а им что от меня останется? Как подумаю — хоть вой! Им жить в том будущем, какое я им передам, а они даже не имеют права выбора. Как и те, кто сейчас находится в утробах, кого этой ночью зачали. Вот начнут Индия и Пакистан войну, сбросят несколько десятков атомных бомб и что делать? Израиль имеет ядерное оружие. Рванет где-нибудь в Мекке и капец. Но скорее в Иерусалиме. Поэтому строю бункер — глубокий, надежный с водопроводом — отвод от колодца в следующем году планирую сделать, канализацию проведу. На генератор собираю, чтобы автономное электроснабжение было. Работы — до хрена. Мне некогда ждать. Когда в мире случится катастрофа, я должен быть готов. Я должен сделать то, что в моих силах. Оборудованный подвал — это я потяну, это та самая малость, которая мне дает возможность спать по ночам. Я уверен, знаю, что занимаюсь полезным делом. Пусть меня считают сумасшедшим, но когда планету начнет трясти, и людей начнут убивать за хорошую пару ботинок, то моя семья будет находиться в лучшей стартовой позиции, чем мои соседи.
Костя посмотрел на Томаса и, отбросив грязные шорты на диван, сказал:
— Так не понять. Пойдем, покажу. Только давай вишни кипятком зальем.
Иванов взял высокий кувшин, засыпал туда несколько жменей мелко поломанных палочек, горсть сушеной мяты. Повернул краник на самоваре. Наполнив кувшин до краев, накрыл его блюдцем. Закончив с отваром, пошел к подвалу.
Как он сказал? Во-первых, — это красиво? Нет, это умно! Томас-то догадался, что в дальней комнате в полу есть люк, но если придут незнакомые люди, им будет его сложно найти — откидная дверь была спрятана под ковром и не выделялась. Если вспомнить узкие окна цокольного этажа, которые закрывались специальными железными ставнями — Томас их заметил ещё раньше — значит, в случае опасности, подвал легко превращается в крепость.
Костя отбросил половик в сторону и поднял люк.
— Тут специальные петли. Если надо, могу открыть и вовнутрь. Это если...
— Завалит дом и придется откапываться. Я понял, — сказал Томас, заглядывая в открывшийся перед ним черный провал.
Костя спустился первым и зажег свет — включатель был возле лестницы. Томас — следом. Когда он оказался в погребе, первое что бросилось в глаза — это стеллажи с полками, которые закрывали три стены. Сейчас они были завешены полиэтиленовой пленкой, но Томас смог рассмотреть хранящиеся большие и малые бутыли с помидорами, огурцами, грибами, томатным соком. Какие-то банки, графины. Отдельно стояли ящики, старые чемоданы, мешки: всё аккуратно, на своих местах, многое подписано — если консервация или вино, то с датой. На деревянных ящиках выведены краской понятные хозяину буквы и цифры. Здесь же стояли бочки с водой и рядом с ними возвышались два больших холодильника — один из них был старый «Донбасс» с ручкой-рычагом, второй — современный, скорее всего западный — логотипа фирмы-производителя из-за пленки не было видно. Томас чувствовал, что где-то здесь было спрятано оружие — два охотничьих ружья и патроны к ним. Он также обратил внимание на закрытый досками угол, где на застеленной резиновой дорожке выстроились в ряд десятилитровые стеклянные бутылки с плотно закрытыми горлышками. В таких бутылях обычно хранят вино, но жидкость там была прозрачной.
Костя, перехватив взгляд Тихони, пояснил:
— Медицинский спирт — лучшая валюта. Даже если и не понадобится, то пойдет детям на свадьбу.
Томас хотел съязвить, поинтересовавшись, как в одной голове может уживаться крайний фатализм со столь наивным оптимизмом, но приказал себе молчать: время было ранее, и он уже устал мироточить сарказмом.
В погребе, в который спустился Томас, не было одной стены — за двумя слоями толстой пленки скрывалась ещё одна, более просторная комната. Костя отбросил прозрачную штору и скрылся за ней. Что-то щелкнуло и зажегся свет. Томас, прищурившись, посмотрел на расплывчатую гротескную фигуру. Чертыхальски подумал, что преломленный контур тени, её неестественные движения, сейчас должны быть наполнены неким смыслом. Может быть, скользящие длинные руки, карикатурные голова и туловище — это первобытный танец, шаманский обряд призыва или... А вдруг это попытка поймать его, Томаса Чертыхальски? Такое может быть? Не об этом ли его предупреждали?
Под землей в поделенной на две части комнате стоят чистенький и Томас. Их сейчас разделяет иллюзорная вуаль, линия, какая бывает на игральных картах. Плюс и минус. Минус и плюс. На стороне Томаса материальное богатство, еда, вода, спирт, техника. С противоположной стороны — пустота только что созданного мира и почти обнаженное тело человека. Благодушие «красненького», забавная внешность, искренность и простодушие во взгляде — это всё уловка, ширма. Красный ярлык — вот правда. Способный убить молитвой — это тоже правда. Иванов ничем не уступает Томасу, ибо он — образ и подобие. Он опасен, в нем ощущается сила, но Костя её не чувствует, не понимает, что может ранить Томаса, как и Томас не в состоянии предсказать последствия мыслей, слов и действий Иванова, а значит, по большому счету, не может защититься. Это как подойти к бомбе с проржавевшим часовым механизмом или войти в клетку к медведю — мохнатому, ленивому, мощному. Он может пыхтеть, дурачится, есть с руки, показывая, что он дрессированный, но в какой-то момент в медвежьей голове обязательно произойдет сбой и плюшевый добряк превратиться в зверя: выплеснется вся его природная дурь, ярость и жажда навести свой медвежий порядок, каким он его хочет видеть. Вот только даже у зверя есть разум, инстинкты и его действия имеют логику, а Константин Иванов не обладает необходимыми знаниями, и не догадывается, насколько он смертоносен для Томаса. Сермяга-младший Тихоню ранил, а этот и убить может.
Томас прислушался к своей интуиции, и понял, что сегодня всё для него завершится хорошо — бояться незачем — никто не собирается нападать на Томаса Чертыхальски в этом подвале, а родившиеся страхи — всего лишь знание того, что последний час он, Тихоня, проводит в компании «красного», вот и всё.
Отбросив полиэтиленовую штору в сторону, Томас вошел в «бункер».
Здесь было светло — возле козла, приставленного к противоположной стене, висел переносной радиоприемник с встроенным в корпус фонарем. Тихоня осмотрелся. Да, здесь был новый, чистый, безопасный, ещё не наполненный душевным человеческим теплом мир. Потолок состоял из трех бетонных плит. Недавно возведенные стены не были оштукатурены и сохранили следы деревянных подпорок, которые когда-то не давали раствору растечься. Пол был почти готов — осталось залить полоску у входа. Застывшая часть застелена мокрой, грязной пленкой. В ложбинках ещё стояли мутные лужи — Костя, чтобы прибить цементную пыль, разливал воду. Воздух сырой, затхлый — если сделать несколько глубоких вдохов, обязательно чихнешь.
— Настоящее логово маньяка, — сказал Томас, указывая на полиэтилен. — Грохнул, завернул и никаких следов.
Глаза Кости смешно округлились. Он задумался, почесал голый живот. Иванов сейчас мало походил на убийцу случайных гостей.
— Даже не знаю, что и думать, — сказал он. — Чего-то боишься?
— Я? — нет. Это ты пустил незнакомого человека в дом, завел в место, где нервы щекочутся и возникают странные желания, — ответил Томас, понимая, что сознательно нагнетает ситуацию, провоцирует.
— Бояться? Мне? — спросил Костя, и в его голосе было столько неподдельного удивления, что Тихоня невольно рассмеялся. Конечно, чего опасаться человеку, который три километра быстрых ходом тащит в руках два мешка цемента?
— А бункер выйдет на славу, — вдруг вынес приговор Тихоня и пошел по кругу, осматривая углы, стены и потолок. — Как по мне, даже слишком крепкий.
Костя, вмиг забыв про недавнюю неловкость, оживился, глаза заблестели.
— С плитами повезло. Завод разбирали и я по дешевке купил. Такие используют при строительстве многоквартирных домов. Стены сделал так, чтобы выдержали нехилый заряд тротила. Перед тем, как залить раствор, сэндвичем поставил две сетки рабицы и арматуру посередине.
— Круто.
— Ага.
— Но я одного не пойму, — сказал Томас, проведя ладонью по крепкому потолку, похлопав по шершавой стене. — В чем смысл? Ну, если сбудутся твои страхи, сможешь пересидеть какое-то время. Город вымрет — погибнут все, кто не имеет убежища, как у тебя. Их ждут голод, болезни, преждевременная смерть. Будут умирать дети, старики, а в это время ты будешь сидеть в своей скорлупе и жрать консервы?
Костя ответил сразу, не раздумывая — ответ давно сложился в его голове:
— У меня одна пара глаз, — сказал он. — Во фразе «точка зрения» отражается то, что мы наблюдаем за происходящим только со своей колокольни. Я не могу влезть в чужую голову и не в ответе за остальных. У меня есть семья: жена, дети, тёща. Я знаю, что будущее таит в себе опасность и чтобы осознать это, не надо обладать каким-то супер умом. Могу ли я построить бомбоубежище для всего города? Нет. Могу ли спасти тысячи жизней? Нет. Но при всем этом я в состоянии попытаться уберечь тех, за кого отвечаю. Если мужчины будут выполнять свой основной долг — защищать своих близких, то кто знает, может ничего и не случится? Прошло время интеллигентской рефлексии и поиска смысла жизни. Право имею — не имею? Незачем больше спрашивать «что делать?», так как ответ уже всем известен. Надо спасать детей, попытаться дать им шанс на будущее. Мы слишком близко приблизились к эре общего счастья, сострадания, понимания того, что нас всех объединяет, и отрицания разъединяющего. Кто такое стерпит? Нам не дадут спокойно жить! Самое темное время суток наступает перед рассветом и нам, как не высокопарно звучат мои слова, предстоит пережить эти страшные часы. Зло невозможно победить одними словами. Необходимы действия, поступки, усилия, для того, чтобы наш мир стал чуточку безопаснее, чище, спокойнее, а значит — добрее. Я делаю что могу, что мне по силам. А остальные? Пусть и они почешутся...
...Прощались почти друзьями. Когда Томас вышел на улицу и нырнул в августовское украшенное птичьим ором, взбрызнутое росой, расцвеченное зеленью и алыми облаками утро, он понял, что будет делать с номером «три».
Ничего.
43 Матерно
У вас случаются дни, когда утром вы бодры, готовы прыгать до потолка и выше, когда жизнь в радость и работа не в тягость? Но, пребывая в иллюзии своего ничем не мотивированного счастья, вы не догадываетесь, что в это время где-то далеко или, наоборот, близко такое случается, что не натянешь, не прожуешь. Предвидеть будущие события сложно, если вы, конечно, не ясновидящий или гадалка таро. Незаметно, неслышно, откуда ни возьмись, тянется ниточка, сплетается в веревочку и, как не петляй, не режь углы, а всё равно попадешь в петельку, оступишься.
Получается фитилек. Подожги и свечечка загорится.
В тот самый час, когда наша веселая троица обсуждала свободолюбивую природу денег, в Городок въезжал красавец «континенталь» последней модели. За рулем сидел Железный Дровосек. Да, так и будет — Дровосек. С большой буквы, потому что настоящего имени гостя я не расслышал, а без прозвища или там, фамилии, тяжело вести историю.
В момент, когда «континенталь» пересек границы Городка, я, к моему стыду, не обратил на него внимания — мало ли в наши дни иностранцев прёт через Донбасс? — за всеми не уследишь. Единственно, что царапнуло — пресс и бицепсы водителя. У него было странное занятие — сидя за рулем, он в определенном ритме напрягал и расслаблял мышцы живота и рук. Что это за упражнения, я не знаю, но сила мускулатуры Дровосека меня зацепила. Я это к чему. Пройдет время и фитилёк, то бишь водитель «континенталя», и огонёк — Тихоня — встретятся, но пока наши герои об этом даже не догадываются.
Настроение прекрасное, шины шуршат, мотор гудит, бицепсы каменеют.
Тихоня укладывается спать, чтобы через два часа подняться и продолжить свой путь по шаткому мостику его непутевой жизни. Ну а мы... Мы попрощаемся с безмятежной частью рассказа. Вы наблюдали Томаса Чертыхальски в его ремесле и любви, когда он был весел и беззаботен. Мы заглянули в его прошлое — годы детские, отроческие. Без нагромождения мелких деталей и лишних захламляющих повествование персонажей.
Явление героя, завязка, интрига, развитие и, как не тяни, все равно настанет очередь финала. Затяните крепче подпруги, я вам, ***, такой катарсис устрою!
Третья часть, которую можно назвать: «Княжеская милость или Скотос в надире» 1 Дом и домовой
«Он бросил меня в грязь, и я стал, как прах и пепел».
(Иов 30:19) Книга Иова
Тоня поселила гостей рядом — на Кутузова, в доме, где когда-то жил цыганский барон. Судьба у него вышла кривая. Стоит потратить пару минут, чтобы мне рассказать, а вам послушать. Приходят как-то к барону сваты, а он видит — это не сваты вовсе, а свита, и жених не цыган, а бес. Понял барон, что кому-то напакостил, и ему «пороблено». Нечисть в дочь любимую единственную вцепилась. Что делать? Соседей, родичей звать? Не позвал — гордый, а надо было — вмиг бы налетели, наплевали, нашептали — от таких сватов и запаха серы б не осталось. Решил в одиночку бой держать. Чтобы беду отвести, согласился продать душу за обещание не трогать его дочку. Ничего не выгадал — сам через год кровинушку довел до греха. Запрещал на улицу выходить, на парней смотреть — вдруг там снова бес приноравливается? Та влюбилась в цыгана-красавца, загоревала, а когда поняла, что счастья ей не видать, взяла да и повесилась на воротах.
Барон ушел неизвестно куда. Дом остался пустой. Петровна подсуетилась, выкупила у родни не задешево. Для виду батюшка приходил, кадилом махал. С тех пор жили здесь гости баронессы. Кто от Князя — добро пожаловать на Кутузова. Из-за границы? — туда же. Не дом — хоромы. Евро-ремонт, евро-мебель, евро-дизайн. Техники — тонны. Кондиционеры, солярий, сауна, душ-Шарко, зимний сад в теплице, но и это ещё не всё. Для такого богатства охрана нужна хорошая, и она имелась. На втором этаже над гаражом, жил такой себе дядечка по хозчасти — дядя Ваня Сопля. Не Сопля, а Сопля. Рост — метр пятьдесят, в плечах узковат, лицом худоват, глазами остер. Дед Вани был жокеем на Ростовском ипподроме. Завистники, которым приходилось вес сгонять, говорили, что того можно было соплей перебить, но даже за глаза боялись произносить обидное прозвище — поэтому Сопля. Кличка перешла по наследству сыну, а потом внуку.
Ваня нравом пошел в деда — соседские пацаны его боялись, как прокаженного. Родителям даже пришлось переехать в другой район, а так взрослые в отместку за своих поскрёбышей придушили бы Ваню ещё мальцом. Перевели забияку в школу-восьмилетку самой рабоче-крестьянской окраины — Курдюмовки. Там пободаться любят от мала до велика — на сшибки с соседями из Зайцево, Зеленополья, Кодема, Доломитного до самой пенсии ходили. Но в классе не нашлось таких, кто мог бы усмирить Ваню.
Да, фамилия его была — Самохвалов.
В августе девяносто девятого Сопле было сорок четыре годика. За плечами три отсидки, драки, поножовщина. А почему? Да потому, что у Ивана челюсти сводило от несправедливости, наглости и тупости человеческой, бахвальства, ограниченности, зазнайства, взяток, чиновничьего произвола, бесчестия, косности, равнодушия, от потерявших стыд прокуроров, налоговиков, проверяющих-стращающих всех проклятых мастей... Да мало ли от чего? Если бы война, да на фронт — быть бы ему героем с крестами на всю грудь. Первым в атаку бы шел, языков брал, связь под шквальным огнем налаживал, а в мирное время... Не приживаются на Руси злоненавистники и правдорубы. В общем, с таким охранником спалось спокойно.
Я не рассказывал, как Ваня с Тоней познакомились? Конечно нет, — это риторический вопрос...
Жила в Курдюмовке Савельевна — всю жизнь в торговле. Красотой не славилась, с мужиками не ладилось, жила одна, но то ли так карта выпала, то ли Савельевна удачно подлегла, — в тридцать пять понесла. Родила девочку — Анютой назвала. Жили вдвоем — мать работала, дочка подрастала. Кто был отцом — никто не знал, но то, что он был красавец — факт. Мать широкая в кости — дочь просто фигуристая, крепко сбитая. У Савельевны сала на полтора центнера — дочь в теле, но без фанатизма, хочется подойти, прижаться, за талию подержаться. У мамаши плечи — шпалы носить, у Анюты все как надо, покато и гладенько. И самое обидное — на мать в её девичестве и старые пердуны не смотрели, а за Анютой женихи, словно репей за хвостом кобелиным.
Как настала пора дочку замуж выдавать, — а жених подобрался видный, красавец, из проходчиков с Румянцева, зубоскал, каких и среди этой братии мало. Матери бы радоваться, а она... Свадьбу устроила, деньгами и продуктами помогла. Везде поспеет, похихикает. С будущей сватьей на кухне две смены отпахала, в общем, не мать, а подарок, вот только... Даже не знаю, как и сказать... Савельевна из близких на свадьбу пригласила только одного знакомого — нашего дядю Ваню. Что у них, кашалота и ерша, было раньше неизвестно. Соплю последние пять лет никто не видел и уже успели подзабыть о таком кадре. Может их связывала давняя любовь или дружба, ведь в молодости жили на соседних улицах...
Антонина Петровна была приглашена на свадьбу со стороны мужа. Она видела, как Ваня, зажатый с двух сторон, томился в окружении горняков и их супружниц. Приглашенные говорили на одном языке, вспоминали известных им людей, смеялись над своими шутками, а Ваня — ещё без паспорта, со справкой об освобождении, без родных, жилья, работы — сидел с мертвым лицом и ел капусту. От водки поначалу отказался — после отсидки не шло, но: «Чего не пьешь, не по-нашему! Да ты не девка, чай, давай до дна! Шо филонишь?».
Выпил. Ещё раз выпил. Баронесса понимала, куда все катится и что сейчас начнется. Дядя Ваня после шестой рюмки, играя желваками, уставился в тарелку с нарезанными кровавыми помидорами, а рядом гуляли ничего не замечающие уже хорошенько макнутые коногоны и забойщики, у которых друг женится на красавице Анюте. Гости пришли гулять, выпивать и кричать «горько!» — для них всё веселье впереди, только начинается. Антонина Петровна видела — мужики подобрались жилистые, а откуда в шахте быть жиру на боках? Кулаки у них недетские — без отбойного молотка уголек добывать можно. Но даже им с дядей Ваней не справиться — пока повалят на пол, сколько челюстей сломает?
Встала Тоня, тронула Соплю за плечико, попросила сходить на кухню помочь кастрюлю с компотом перенести. Дядя Ваня — как не помочь? — тяжело вышел из-за стола и чуть пошатываясь, побрел за приятной, на его осоловевший глаз, полной женщиной. Когда они нырнули в темный коридор, Антонина пропустила вперед помощника и, недолго думая, тюкнула его кулаком по темечку. Взвалив на плечо обмякшее легкое тело, она вынесла дядю Ваню на улицу. Бабы хохочут -свадьба только началась, а первых гостей уже понесли!
Очнулся Сопля через полчаса у баронессы дома. Сама на диван уложила, нашатырь поднесла, тряпкой, смоченной в уксусе, виски протерла, размяла ему шею, дала таблетку и попросила заснуть. Дядя Ваня молча отвернулся к стенке и через минуту уже посвистывал.
С тех пор он жил у Антонины Петровны.
...Встретил Ваня Томаса и Лесю приветливо. Сначала отпросился у хозяйки на ближайшие выходные порыбачить, а потом пошел помогать устраиваться гостям.
Дальше можно пропустить — в тот день ничего интересного больше не было. Леся ходила по комнатам-этажам и цокала языком — ей здесь нравилось. Томас, закинув ноги на журнальный столик, сидел на веранде, слушал радио, пил квас с сушками и размышлял, что Тоне рассказать о «красненьком», чем оправдаться?
2 Снова накатило
На новом месте Тихоне всю ночь снились кошмары. Проснулся после полуночи с ощущением, что он только что кричал. В голове туманное марево не снов, а галлюцинаций. Пытался снова заснуть — всё впустую. Лежал, обильно потея, наверное, с дюжину раз ходил пить воду, а потом в уборную. Ворочаясь на мокрых простынях, с завистью смотрел на сопящую рядом Лесю — её остуженный кондиционерами воздух сморил накрепко. Казалось, на некоторое время засыпал, но в очередной раз выныривал из тяжелого тумана в трезвую реальность. Невольно замечая, сколько времени на часах, Томаса перекашивало, как от пытки. Ему чудилось, что он не в Диком поле у Тони под крылышком, а дома, в Киеве, и в ушах его, если потерять контроль над разумом и расслабиться, сейчас начнет греметь «БАМ-БАМ-БАМ!». Сердце прыгало до кадыка, по спине ползли ледяные сороконожки.
— Старинные часы ещё идут. Старинные часы — свидетели и судьи... Накатило, накатило, снова накатило, — шептал Томас, как заведенный.
Сидя на кровати и раскачиваясь вперед-назад, он раз за разом, словно молитву, стал повторять один и тот же стих: «Стать бессмертным — напрасный, поверьте мне, труд. Все, кто стар и кто молод, в могилу сойдут. Не дано это царство земное навек — никому. Да и мы не останемся тут».
В подобные минуты, когда мир спал, и Томас оставался один на один со своей совестью, он невольно задавал себе неудобные вопросы. Главный из них — что его ждёт на Новый год? Конец или начало? Дадут ли ему, повзрослевшему, право загадать желание, а может эти сто лет жизни и были воплощением несказанного, но искомого? Тогда, во время церемонии, он был ещё слишком мал. Гадание застало его в пору превращения из мальчика в юношу. Тело уже принимало алкоголь, ему, почти четырнадцатилетнему, были приятны ласки женщин, но разумом, даже для тех, непонятных современному человеку времен, он был ещё слишком молод. Иначе не объяснить, почему у Томаса возникло, вернее, вырвалось такое желание, желание не расчетливого озабоченного долголетием циника, но неискушенного мальчишки, боящегося всё испортить. В ту ночь Тихоня не чувствовал себя победителем. Он делал то, что у него получалось лучше всего — жульничал. Так какой здесь может быть подвиг? В его случае не вор у вора украл дубину, а... Ему не пришлось переплывать через Ла-Манш или карабкаться на вершину Монблана; он, наконец, не сражался против отряда гренадеров... Поставил на «пятерку», а почему? Насколько он знал, это цифра являлась символом абсолютной свободы и воли, смелых преобразований, вечного движения вперед по своей колее вне просек и гатей. Именно такую судьбу он уготовил Княжеству, которое волею небес, представлял на церемонии.
В сотый, тысячный раз Томас спрашивал, мог ли он тогда попросить что-то иное для себя? Конечно! Ему всегда хотелось иметь свой дворец. Большой дом с башенками, садом, лужайками, конюшней и автопарком. С прислугой, садовниками, красивыми служанками. Или парусник со своей проверенной командой. Что может быть лучше кругосветного путешествия? Пусть другие толкаются в тесных городах, наблюдая вокруг себя перекошенные от злобы, зависти, ненависти лица людей. Ещё он мог наказать своих обидчиков — список таковых уже тогда был длинным. Насладиться мучениями врагов, стоя рядом с их распятыми телами и хохоча во всё горло — это же прелестно!
Мог пожелать... пожелать... желать...
Наконец Тихоня заснул.
3 Охота
Утром Томас как смог привел себя в порядок, побрился, позавтракал, поцеловал ещё спящую Лесю-Олесю в щечку и отправился по делам. После ночи размышлений ему не сиделось взаперти — душа требовала розового, красного, фиолетового. Работа с чистенькими подходила к концу, поэтому Тихоне надо было расставить все по полочкам, определиться раз и навсегда, стоит ли потрошить номер «один» или нет, взять ещё какую-нибудь дополнительную «шестерку» или вообще отказаться от этой затеи. В конце концов, хотелось просто погулять по городу, окунуться в толпу простых людишек, и с их помощью смыть с себя запах чистеньких.
Первым делом он проехался на кольцевом трамвае. Вышел возле второй больницы и спустился к скверу Коммунаров, что у иняза. Купил мороженое и сел на лавку под каштанами напротив памятника импотентам — высокой гранитной стелы. Такие посиделки Томас раньше называл рыбалкой. В конце двадцатых каждый день был похож на фестиваль. На глазах Томаса зарождался неведомый, сияющий гранями непостижимой человеческой души мир. Рушились древние, оставшиеся от дореволюционных времен грехи и зарождались новые. Сначала Томасу Чертыхальски даже казалось, что революцию люди устроили не против царя, церкви, древнего, даже дремучего бытия, а против их племени, но... Природа греха взяла своё, в который раз доказав незыблемость постулата о слабости человеческой сущности. Но, надо быть честным до конца: люди советского времени всё же мало походили на себя прежних. Они жаждали знаний и не стеснялись этого. Они тянулись к свету, пусть даже электрическому. Им было тесно в их старых лачугах, на их темечки давили низкие двускатные потолки, поэтому они всё рушили, крошили, сносили, взрывали, безжалостно уничтожали окостеневший за века уклад.
По выходным люди собирались в парках культуры и отдыха, чтобы попеть, поплясать, поплевать семечек, выпить пивка и кваску. Вот тогда-то, в те безмятежные милые его сердцу годы, Томас так полюбил посидушки. Народ, пытавшийся забыть Гражданскую, быстро зажигался, споро работал, весело отдыхал, даже грешил с огоньком. Парни знакомились с девчатами, устраивали спортивные соревнования, — городки там, шахматы; огородные — кто больше тыкву вырастит... Иногда ходили в кулачки рудник на рудник, улица на улицу, но не так, как раньше, без былой злобы и свинчаток.
Для Томаса Чертыхальски то были золотые деньки. Он тогда работал, вернее служил в местном ДОПРе — охранял шпану, растратчиков, поджигателей, а в свободное время гулял между новых клумб и фонтанов, любовался цветочками... Подмигнёт девушке, погладит собачку, купит семечек и сядет на лавку — ждать собеседников. Дальше — по обстановке. Барышня? Вот вам и любовное томление. Комсомольцы? Почему бы ни сходить к ним на собрание, посмотреть, как они организуют шефство над холостяцкими казармами, заставляя лентяев убирать в своих каморках, стирать белье, занавески вешать. Нравилось за партийными наблюдать, особенно когда они организовывали коммунистические почины. Ну там, в противогазах бегать, устраивать велопробеги, избы-читальни открывать... В общем, веселился как мог. Но больше всего Томас любил общаться с местными интеллигентами, с людьми образованными, умными, старорежимной закалки, бывшими эсерами, кадетами, анархистами. Сам университетов не заканчивал — образование Тихони, напомню, было начально-теологическое. После «Ясноокого» других более породистых юнг ждало продолжение учебы в Коллегии, а ему, рожденному женщиной, пришлось возвращаться домой; поэтому, чтобы не прослыть тупицей, в местной библиотеке Чертыхальски перечитал все книги, незнакомые слова записывал в специальную тетрадку и заучивал наизусть.
Интеллигенцию Томас любил за предсказуемость, однобокость, за все эти разговоры о предначертанности великого пути России, о великих Революциях, о роли великой личности в истории. Однако вот странность. Как показала практика, у интеллигентов высокопарные заумные вопросы почему-то всегда сводились к частным ответам. Тихоня умел слушать, внимать советам, рассуждениям. Он знал, что рано или поздно эти очкарики с аскетическими лицами, горящими глазами, фанатики, азартно проповедующие атеизм, отдадут ему душу оптом и в розницу. И не за мир во всем мире, не за победу пролетариата над Антантой, не за доходчивый ответ Чемберлену, а за банальное восстановление половой функции организма, изобретение вечного двигателя или спасение любимой доченьки-растратчицы из сырых застенков бахмутской тюрьмы.
И стояло! И крутилось! И спасалось! — а новоявленные, когда-то царские, а теперь советские интеллигенты, говорящие о возвышенном, о новой народной религии, государстве, литературе, после беседы с простым рабочим парнем вдруг переставали быть людьми... Чертыхальски поражался, почему эти когда-то набожные и привыкшие думать, что умнее их нет на всем белом свете люди доверяли ему самое дорогое, что может быть у человека, ему — незнакомому им юноше? Даже не комсомольцу! Юноше, который так жадно внимал их видению развития страны, континента, человечества, наконец... Верили собеседнику, который непостижимым образом перед ними превращался в факирапрофессорамедиума-иличтотамещётакогостранногоможнопридумать. Завоевав первое внимание, Тихоня заставлял собеседников его слушать, кивать, поддакивать и соглашаться на простой научный эксперимент — узнать эмпирическим путем, есть ли душа у человека или нет.
Да, лихое было время, бесшабашное...
4 Программист
Может ностальгия тому виной или скука, но Тихоня решил вспомнить прошлое. Закинув удочку, он стал ждать, что произойдет, какую историю подкинет Городок. Время тянулось медленно. Мимо проходили очкастые студенточки с книжками в сумках и рюкзаках, мамаши возили в колясках капризных малышей. Куда-то спешили потасканного вида мужчины в спортивных штанах с «пузырями» на коленях, бабушки с авоськами, парни с приятно пахнущими спичечными коробками в карманах «адидасовских» костюмов.
Тихоня съел мороженое и решил не ждать, пока с ним кто-то заговорит — пора самому проявить инициативу. Стрельнул сигаретку у рыженькой девушки — Чертыхальски не курил, но для «прикормки»... Барышня достала пачку, открыла, подавая сигарету, выдержала взгляд, а потом, всепонимающе улыбнулась и пошла дальше по своим делам. Тихоня хотел сказать ей вдогонку что-то забавное, смешное, но на ум ничего не пришло. Вот, блин, подумал, старею что ли? Сделал пару затяжек и, морщась, выбросил ещё целую сигарету в урну.
Посидев, как трубочист на именинах ещё с полчасика, Томас перестал вертеть головой. Он понял: не его сегодня день, не его публика. Всё вокруг было знакомо и не знакомо, словно карандашная копия яркого натюрморта. Вроде люди такие же, а другие. К нему никто не подходил просто так, как раньше с разговорами, никто не здоровался... А может... Не мир изменился, а он сам? Если подумать трезво, зачем он сюда пришел? Вспомнить молодость? Прошлую жизнь? Так нет её больше — растоптало время, ничего не осталось. Последние годы не жил, а катился под гору, без мысли, без смысла. Почему такая приятная вначале идея — «повыкуплять» людишек — привела к таким вот невеселым размышлениям? Что изменилось? Пруха пропала?
Вдруг над ухом кто-то прокричал:
— Ты шо тут сидишь?
Томас обернулся и увидел толстенького скромно одетого мужичка с грязным полиэтиленовым кульком в руках. Тихоня поморщился — на лице незнакомца отчетливо стояла печать Дауна. По его виду нельзя было сказать сколько ему лет — двадцать, а может и все сорок. Томас отвернулся, но мужичок обошел лавку, встал перед ним и повторил:
— Шо сидишь, это мое место!
Не желая спорить, Томас поднялся и пересел на другую скамейку, подальше от припадошного. Вот только тот не унимался, подбежал и снова кричит:
— И это мое место!
Чертыхальски уже собирался совсем уйти, но настырный мужичок сменил тон.
— Дай копеечку.
Томасу почему-то стало неуютно.
— У меня нет денег, — ответил он вежливо.
Мужичок захихикал.
— А ты не жопся. Денег как грязи, а жопится. Дай копейку, а то закричу!
На выручку Тихоне пришел худощавый мужчина, выгуливающий неподалеку черного ньюфаундленда.
— Вы ему лучше подайте, что просит, а то хуже будет. Недавно видел, как этот типчик ходил по рядам на рынке. Так один из мясников пошутил — дал ему в протянутую руку бычий глаз. Им же и получил. Прямо в лоб.
Томас вытащил из кармана кожаное портмоне, медленно достал и протянул вымогателю купюру. Тот схватил деньги, отбежал на несколько метров, повернулся и закричал, шепелявя и коверкая слова:
— Это ты скоро свалишь отсюда. Вот Кристина придет, всех вас, поганых, святой метлой за кудыкину гору отправит! Будете визжать, кровью харкать, да ногти грызть, а поздно! Всех вас!
Кричит, кривится. Плюнул и побежал проч. Тихоне и до этого было невесело, а тут... как кошачьей блевотиной окатили. Откуда взялся этот ненормальный? Вокруг солнышко, красота, нарядные люди бродят, машины бибикают — ну, что не так-то?! Почему с ним постоянно гадкое стало происходить? Он что, магнит, притягивающий всех уродов этого мира?! Чертыхалськи почувствовал, как у него вспотела спина и к коже прилипла рубашка. Захотелось всё бросить и пойти домой. Порыбачил, называется...
Мужчина подошел к скамейке Томаса и, поддёрнув штанины, присел рядом. Собака следом. Она была такой большой, словно сошла со страниц сказки «Огниво» — настоящий медведь.
— О чем это он? — спросил незнакомец.
— Не знаю. Припадочный, что с больного взять? — ответил Чертыхальски, поочередно рассматривая пса и человека. Собака уставилась на Тихоню, и её черная кудрявая морда выражала крайнюю степень недоумения. Пёс обнюхал брюки Томаса и, посмотрев на хозяина, заскулил. Он не понимал что происходит — кажется, в этом мире ему были известны все запахи, но собеседник хозяина пах по-особенному, и собака не знала, что перед ним — опасность-тревога или альфа-защита.
Хозяин, не замечая замешательства пса, осматривал скамейку, на которую сел, при этом понимая, что даже если на поверхности и была грязь, уже поздно что-то менять.
Томас приосанился. Если верить первому впечатлению, хозяин собаки был похож на играющего в парках шахматиста. Высокий лоб с залысинами, чуть всколоченная прическа, наверное, чтобы скрыть лысеющую макушку. Две упрямые морщины между бровей, покрасневшие глаза, припухшие веки, на переносице остались красные ямки от очков; аккуратно подстриженная чеховская бородка, щеки и шея гладко выбриты. Одежда чистая, практичная, не требующая глажки — фиолетовое поло и джинсы песочного цвета. На запястье левой руки намотан поводок, в свободной руке держит толстую газету.
Не, скорее преподаватель.
— Интересно, как его звать? — спросил Томас задумчиво.
— Цезарь, — ответил мужчина.
— Не, я о больном. Случаем не Иваша?
— А! — рассмеялся сосед. — Нет, имя этого несчастного мне неизвестно. Видел в сквере и в городе несколько раз — и всё. Таких запоминаешь.
— Не Иваша... Печаль.
— Ничем не могу помочь.
— Тогда случаем не знаете, кто такая Кристина? — Томас протянул руку, чтобы пёс его понюхал. Собака недоверчиво приблизила свой черный блестящий нос к наманекюренным ногтям и начала шумно вдыхать-выдыхать воздух. Но и этот вид знакомства её не успокоил.
— Кристина? — переспросил сосед.
— Да. Иваша и Кристина.
— Впервые слышу. А больше никаких дополнительных деталей? Фамилии, прозвища, профессии?
Томас задумался и после паузы ответил:
— Иваша странный, не от мира сего. Его ещё зовут Миклухо-Маклай, а Кристина... Если верить этому чудаку, который бросается в живых людей бычьими глазами, то сия дамочка умеет орудовать святой метлой.
Посмотрев друг на друга, Томас и сосед рассмеялись.
— Это какой-то изысканный оксюморон получается. Вы не находите? — спросил «преподаватель».
— Нахожу.
Томас продолжал смеяться, чувствуя, как смех убивает кипящее в нём раздражение и досаду.
— Что бы мы делали без чудаков? Наверное, сошли б с ума со скуки.
Тихоня поддакнул:
— И не говорите.Кстати, о баранах. Иваша — это ваш городской сумасшедший. Вот бы с кем познакомиться.
— Ну, такие кадры, наверное, имеются в каждом городе.
— Не-е-е, ваш особенный.
Брови соседа приподнялись, отчего его лицо вдруг приобрело глупое выражение.
— Это чем же?
— Говорят, он вроде какого-то... святого.
«Преподаватель» искренне рассмеялся.
— Ну! Это вы погорячились. Сейчас не те времена. Вот раньше были святые, а в наши дни нет их. Те, кто себя так называет — подделки, шарлатаны и аферисты. То белое братство, то серое и у каждого свои пророки, учителя.
После этих слов у Томаса вдруг зачесался кончик носа.
— Неужели не осталось истинно верующих? — спросил он осторожно.
«Преподаватель» протянул руку:
— Иван Степаныч. Попов. Программист. А это мой друг и соратник, Цезарь. Впрочем, я уже его представлял.
— Соратник?
— Да. Иногда я его так называю, и Цезарь это высокое звание заслужил. Соратник — тот, с кем ходил на рать. Однажды я имел встречу не с самыми лучшими представителями человечества. Таких везде хватает, а тут мне вдруг повезло. Я — холерик, что-то сделаю, а потом думаю. На язык не сдержан. Зацепился с тремя. Поспорил. Так Цезарь одному наглецу чуть горло не перегрыз. Защитил.
Томас потряс руку программиста.
— Алексей Степанович Рокоцей, дипломированный психолог. Иногда практикующий экстрасенс. Но только для друзей.
— О, тезки по отчеству, — отметил сосед. — Сейчас не принято называть детей Степанами.
— Своя практика в Ростове, — продолжал Томас, гадая, расслышал ли он про «экстрасенса». Почему-то не было желаемой реакции на это слово.
— Очень приятно.
— Очень приятно.
Помолчали.
— Я тут у вас проездом, — сказал Томас, отвернувшись и осматривая сквер. — Приятели пригласили.
— А что вас интересует в нашем Шанхае?
— Почему Шанхае?
— Ну, так повелось. Когда имеют в виду неформальное название Городка, говорят — Шанхай.
— Ну, насколько мне известно, это было давно, — Томас на программиста даже обиделся. — Вы что не видите, что Городок изменился? Шанхай — это название, больше подходящее для трущоб. Но я их здесь не вижу. Современные проспекты, площади, дома. Дороги отвратительные, тут не поспоришь, но в целом. Я у вас был когда-то и мне есть с чем сравнить. Нет, не согласен. Может на окраинах, в поселках ещё сохранился старый Городок, но центр вполне ничего, держится.
Иван Степаныч вдруг каким-то невообразимым образом стал похож на своего пса.
— Говоря о городе, я имею в виду жителей. Это человек создает вокруг себя трущобы, а не наоборот. Где-то читал, что Стаханов, когда переехал в Москву — там ему квартиру дали большую — перевез с собой тараканов. Якобы примета такая — где тараканы, там и деньги. Представляете? Вот что я имею в виду.
— Значит народ неправильный? — спросил Томас.
— Конечно. Сюда многие приезжали на время. Заработать и вернуться домой. Поэтому жилье строили абы как. Землянки, времянки — всё это было. Мы через это всё прошли. Потом шахтеры стали много зарабатывать. Ещё здесь поселялись те, кому сложно было прижиться и найти работу в других местах.
— Вы имеете в виду...
— Да, — кивнул Иван Степаныч. — Донбасс был самым космополитным районом в СССР. Уж где-где, а в Городке на национальность никто никогда не обращал внимания. У нас в Тельманово после войны даже немцев не трогали. Каков работник, человек — это главное, а остальное приложится. Поэтому приезжали и хорошие, и плохие, всего по чуть-чуть. Насильно ссылали — особенно с западной Украины... Те же сидельцы... Отсюда блатняк, шансон, все эти наши доморощенные фавелы-бичарни. Когда у народа вырастают доходы, он сыт и одет, то «шанхаи» в глаза не бросаются. Но посмотрите сейчас. Кругом нищета, зарплаты копеечные, просвета нет, бездуховность, преступность. Союз всё рушится и рушится — конца-краю этому нет. Народ озлоблен и при этом на удивление обладает каким-то нечеловеческим терпением. Такое ощущение, что ему уже всё равно. Главное — выжить. Но так долго продолжаться не может. Думаю, рано или поздно, но рванет.
5 О религии
Томас заинтересовался собеседником по-настоящему. Незаметно хотел пощупать его за серое, розовое и пурпурное, но, или присутствие собаки, не спускающей внимательных глаз с Тихони, или ещё по какой причине заглянуть за изнанку души собеседника ему не удалось. Это как пытаться удержать капли акварельных красок в стакане с водой — они растворяются и исчезают. Так и сидящий перед ним человек: гладкий, стерильный, прозрачный — не за что схватить.
Обычно за простыми вопросами следуют пространные ответы — именно этого Чертыхальски и нужно было. Ему вдруг захотелось узнать, есть ли в этом «преподавателе» червоточина, похож ли он на интеллигентов из его славной молодости. Он спросил:
— А что, по вашему мнению, поможет народу выжить и что станет причиной взрыва?
Иван Степаныч Попов как будто ждал этого вопроса.
— В первую очередь я бы отметил не то, что нас спасет, а то, что гарантированно похоронит! Извините, но отвечу вопросом на вопрос. Вы верующий?
Томас изобразил улыбку Мадонны.
— Конечно верующий.
— А в какую церковь ходите?
— Я не воцерковленный. Скорее, традиционалист — верую в то, чему поклонялись наши пра-пра-прадеды.
— Это хорошо, — кивнул Иван Степаныч, и для верности ударил газетой по коленке. — Консерватизм — наше спасение. Эти зоны высокого и низкого духовного давления до добра не доведут. То верую, то заигрываю с атеизмом. Вчера религиозный фанатик, инквизитор, а сегодня агностик, нигилист. Трагедия. Мы с вами такую духовную катастрофу пережили, мама дорогая! Коммунисты сделали всё возможное, чтобы выкосить, уничтожить наш духовный стержень — православие, и каков результат? Вакуум! Набежало всякой нечисти — не продохнуть!
Томас невольно поморщился.
— Я бы на вашем месте не стал судить так категорично. По-моему, конкуренция никому ещё не мешала.
Иван Степаныч резко вздернул подбородок.
— Что за слово вы используете похабное — «конкуренция»? Рыночные отношения хороши в бизнесе, а в духовной сфере главное — идея, скрепы, традиции. Когда народ мыслит одними категориями, говорит на одном языке, питается от единого духовного корня — тогда он непобедим. Православная церковь раньше для русских была опорой, спасением. А сейчас? Посмотрите вокруг! Кришнаиты, сатанисты, сектанты. Протестанты, баптисты, пятидесятники и прочие раскольники! Приходи, бери голыми руками, никто даже не пикнет. Ваши слова — это всё от непонимания. Как можно сплетать коммерцию и веру?
— А... — начал, было, Томас, но его перебили.
— Церковь и коммерция — это бывает, здесь не поспоришь. Ватикан — одно из самых богатых государств в мире. Но вы же понимаете, что я имел в виду? Вера! Кто-то верит в деньги — туда им и дорога, но я о традиционной религии, консервативной.
Произнеся слово «консервативной» программист как бы хотел сделать комплимент своему собеседнику. Томас это понял и, прижав руку к сердцу, в ответ чуть поклонился. Пёс проследил за движениями Чертыхальски. Две большие капли пены отсоединились от обвисших щек и с противным хлюпаньем упали на асфальт.
— Ну, что я говорил! — программист дернулся, словно обжёгся, и посмотрел Томасу за спину. Чертыхальски или Алексей Степанович Рокоцей, как кому угодно, оглянулся. От офиса «Теплосети» по дороге шли два паренька в темных брюках, белых рубашках без рукавов, узких галстуках и с черными рюкзаками за спиной.
— Вот, приехали! Почему мы, славяне, согласны принимать тех, кто рядится в пастыри? И ведь многие молодые люди подпадают под влияние чуждой нашему народу церкви. Начинают верить в то, против чего воевали наши предки.
Томас присмотрелся к этой парочке. Ему вдруг показалось, что это...
— ВАВ! — Цезарь, разинув свою алую пасть, напомнил о своем присутствии.
Чертыхальски подпрыгнул от неожиданности, а когда снова стал искать мормонов, те уже скрылись за углом.
— Наверное, показалось...
Томас подсел поближе к программисту.
— Разрешите в данном вопросе с вами подискутировать, — сказал он как можно вежливее. — Если эти мальчики будут строить приюты для беспризорных, стариков и старух, то пусть ходят, молятся, вам—то что? По-моему неважно, как верующий трактует Библию и Евангелие. Главное — он хоть изучает эти великие книги. Во время приобщения к Пятикнижию на души человеческие нисходит благодать. Это как раз то, о чем вы и говорите — вера, идеалы, духовность. Я думаю, можно не ходить в церковь, но при этом жить по совести, не мешая другим жить по совести. Вы сами только что об этом говорили.
Ох, как вскипел этот дядечка с собакой! Газетка на коленке заплясала, стала нервно отбивать ритм. Глаза блистают. Иван Степаныч губы куриной жопкой надул — видно, что собирается с силами и подбирает доводы.
— Категорически, ка-те-го-рически не согласен. Даже спорить на данную тему не желаю. Вы говорите об идеале, но это — утопия. Научите шимпанзе читать — она проникнется святым словом? То-то же! Я имел в виду другое. Какие книги? Какие приюты? Тут на кону — выживание России! Князь Даниил Галицкий был православным. Княжество его было православным. Подчиненные, вернее, подданные — единоверцами. Храмы, монастыри, библиотеки. Галицкое княжество после нашествия татар по праву считалось правопреемницей культуры Киевской Руси. Как вы знаете, Даниил, один из немногих, кто смог защитить свои земли от нашествия. Потом он, по ряду причин, принял католичество и стал королем. Вот только всё, как оказалось, зря! Помощи, обещанной Папой, он не дождался. Хорошо. Смотрим дальше. Князь — католик, подчиненные — православные. Непорядок. Началась постепенная ломка людей. Очень скоро Галичина стала переходить в католичество. Куда подевались все наши храмы? Где библиотеки? Вот так и пропала частица наследия Киевской Руси. Если бы не папская хитрость, кто знает, как бы все повернулось? Голубая кровь правителей осталась на севере, а Киев сожгли, и он на века превратился в захолустный городок.
Томас не смог скрыть улыбки.
— Ну, из Киева никто никуда не уходил, — сказал Тихоня, почесывая Цезаря за ухом. — Это раз. Внимательно читайте патерик Киево-Печерского монастыря. Настоящие князья, чтоб вы знали, не могут туда-сюда шастать, они к земле приставлены и пашут наравне с воинами теми же гребцами, как Святослав в свое время. Дело делают. Почитайте Льва Диакона. Перехожу ко второму. Не хочу спорить, в истории не силен, но даже моих школьных знаний хватает, чтобы понять насколько вы упрощаете, бьете по вершкам. Вернее, придаете значение тем фактам, которые не имеют первостепенной важности. Семнадцатый век. Гетманщина. Полная автономия. Золотые нивы, голубые реки, торговые пути, народ не глупый и покладистый. Что старшина делает? Это ненасытное племя, которому сладу не дать, все жилы из земли вытянуло, кровь всю выпило. Еле-еле в стойло поставили, тварей. Семнадцатый год. Пока на Руси шатания — бери, что плохо лежит. Поляки и финны подсуетились, обособились. Даже прибалты и те шустрее вас оказались. А Киев — что? Под пруссака лег! Добровольно. Ещё и на коленях перед ними ползал. «Алежбо то нимци»! Тьфу, сволочи! Из-за этих паскуд русичам снова пришлось воевать за землю свою. Вернули, а вам... Вам-то, людишкам умом немощным, зачем государственность?
Иван Степаныч потряс головой.
— Как это зачем? Украинцы всегда мечтали обособиться — вот и бузят. А умозаключения об ошибке Даниила Галицкого — это мнение многих историков и писателей. Вы про грехи и землю, а я про святость и будущее. Можно отстоять свои территории, но если предать веру, это будет смерти подобно. Католицизм одна из самых экспансивных религий. Не зря наши предки боролись против насильственного насаждения власти Ватикана. В наши дни протестанты, баптисты, эти «слово жизни», ещё страшнее. Поэтому нам надо укреплять православие, объединяться. Если упустить момент, то мы однажды можем проснуться в протестантской стране!
— В чем-то вы правы, — согласился Томас. — Но в духовном развитии человека, мне так думается, главное какой он, хороший или плохой. А в какую ходит церковь, в православный храм или в синагогу — это блажь, диктат социума и государства. Я вам рассказывал об Иваше. Есть теория, что он почти святой. Как вы думаете, если это так, то какая разница, православный он или нет? Чистота — это кристальная совесть, которая опирается на веру. На веру, а не на институт церкви!
Тихоня небрежно снял со своей штанины пылинку, видимую только ему одному, и добавил:
— Ну, а если следовать за вашими утверждениями, выходит, что нам надо бояться не католиков и протестантов, а мусульман.
— Я такого не говорил.
— Католицизм — экспансивная религия. Ваши слова?
— Мои.
— «Одна из» — так?
— Да, — согласился Иван Степаныч.
— Всё верно, — воскликнул Томас. — Наиболее молодая из великих религий — это ислам. Кто моложе, тот более сильный, настырный и его слово последнее. Кто стал Пророком после Иисуса?
— Я в него не верю! — отрезал программист.
— В этом ваша главная, кардинальная, коренная слабость, — усмехнулся Тихоня.
— Это почему же?
— Потому что мусульмане верят в Ису.
— И в Магомета.
— Не в Магомета, а в Пророка Мухаммеда. Это, во-первых. Во-вторых, если мыслить здраво, христианину можно принять ислам, потому как не нарушается принцип очередности, а мусульманину уже сложно стать католиком или православным.
— Почему же?
— Потому что ислам не противоречит христианству. Там добро и там добро, там правда и там правда. Там грехи наказываются и там. Только Пророк Иисус жил две тысячи лет назад, а Пророк Мухаммед в конце шестого века. Преемственность налицо.
— Вы мусульманин? — спросил Иван Степаныч.
— Нет.
— Ах, ну да, — скривился программист. — Мы же экстрасенсы, все знаем, всё видим, зачем нам церковь, правда? Но даже если у вас имеются неординарные способности, кто вам их дает? Откуда черпаете силу?
Томас про себя отметил, что программист всё отлично слышит и понимает, однако как настоящий интеллигент, промолчал, предпочтя игнорировать неприятное ему слово. Но стоило погладить против шерсти и вот, — полезло! Так, тему экстрасенса убираем, а то всплыли слишком неудобные вопросы, повоюем проверенным способом...
— Хорошо, вы за православную церковь и Россию. Но где логика? Мы с вами находимся на территории независимой Украины. Как это понимать?
— А! — программист одним махом сломал загодя подготовленную Томасом ловушку: — Страна, заложившая в основание своей государственности церковный раскол, нежизнеспособна. Украина — это небольшая империя, а — как нам доказал двадцатый век — империи в современном мире долго не живут. Тут и жадной старшины не надо — все произойдет естественным путем. Одно поможет другому.
Тихоня некоторое время молчал, потрясенный простотой и эффективностью довода. А братец-то зубаст. Хорошо, но мы подступим с другой стороны.
— Здесь я согласен: если каждый улус или волость начнет подминать церковь под себя, так можно и до мышей дойти. Но в данном утверждении вы противоречите сами себе.
— В чем же?
— Утверждая, что страна, принявшая церковный раскол, обречена на разрушение.
— Что вы имеете в виду?
Томас подсел ближе и, соединив кончики пальцев рук, стал говорить, при этом, в самых эмоциональных точках монолога разъединял получившийся овал и тут же возвращал назад, словно в подушечки были встроены магниты.
— Давайте обойдемся без излишних углублений в историю церкви Руси: влияние Могилянки на Москву, дружбу с католиками — там дров таких можно наломать, не разгрести всем миром.... Возьмем только то, что всем известно и не требует толкования. Первое. В каких краях селились раскольники-беспоповцы?
— На се-е-евере, — ответил Иван Степаныч протяжно. По блеску в его глазах стало понятно, что он догадывается, куда клонит собеседник.
— Именно. Урал, Поволжье, север, центр. Многие называли себя поповцами, но фактически являлись староверами. Официальным цифрам веры нет — они были серьезно занижены. С этим спорить не будем?
— Ну, думаю, тут ваша правда, — согласился он, кивая. — Подобные явления не редки. Читал, что в эпоху гонений евреям разрешается креститься или принимать ислам, если в душе они по-прежнему чтили Тору. Вступить в коммунистическую партию, при этом не отказываясь от Христа, это... нормально.
— Реформы Никона проходили в пятидесятых годах семнадцатого века, когда крепло государство Российское, — говорил Томас, смотря Ивану Степанычу в переносицу, — воевало с поляками, присоединило Украину, при этом в русской церкви начинался такой раскол, что нынешний — это просто чихнуть и растереть. Кто при власти, да с капиталом, тот за попов, а крестьяне — против. Кажется, что тут такого, тремя перстами креститься или двумя? А поди ж ты, стали друг на друга волком смотреть. Гонения на церковь после Революции — это все отзвуки того раскола! Так что не только Украине следует опасаться разрушения, но и России.
Томас ещё не закончил мысль, а Иван Степаныч уже знал, что ответить. От нетерпения он наклонился вперед и даже прикусил кончик языка.
— Постойте, разрушение уже произошло! Советы все наворотили, они же сами и разрушили свой дом. По давним счетам-грехам уплачено сполна кровушкой и муками нечеловеческими. А Русь, как та березка осенью, сбросила с себя листву, избавившись от того, что мертво и ей только мешало. Я знаю, верю — всё будет хорошо. Не сразу, придется поработать, но иногда проще начинать с чистого листа. А вот когда обновленная Русь снова станет сильной, она легко отыграет назад всё, что было утеряно. Отлив-прилив.
— Не получится, — отрезал Томас. — Украина никогда не ляжет под Россию — слишком мы разные. Русские упёртые. Зимой, как те медведи, по берлогам сидят, а летом, если зацепить, бедокурят. Природа сурова. Если строить, то крепко, а как успеешь, когда лето с пятачок? Приходится всем миром, скопом, поэтому привыкли все решать сообща. Помогают друг дружке, доверяют. Сам погибай, а товарища выручай — откуда пошло? Оттуда! По-иному не выжить. Ум у русских не короткий, а долгий, — этого не отнять. А на югах как? Пшеница выше макушки, стебель толщиной с оглоблю. Зернышко на голову упадет — скопытиться можно. Нарезал себе огородик, животину в сарай загнал и живи спокойно, детишек строгай. Зима короткая, лето ласковое. Отсюда кумовья, самогон и песни красивые. Чтобы ночи коротать, мрия должна быть гарная — без этого никак. А нахрена за весь мир стоять, когда ты сам себе хозяин? Не родова-община, а его величество единоличник, и планируешь не на годы вперед, а от урожая до урожая. Не нравится гречкосеем? — шаблю на бок, пистоль зарядил и на шлях — сам себе пан в богатом краю. И таких панов пануе тысячи по всей Украине, под себя гребут. Не, как ни прикладывай, не получится соединить два столь разных психотипа. Одни на восток смотрят, а вторые на запад, — подытожил Томас и развел руки в стороны.
Программист какое то время молчал, словно завороженный, но оцепенение спало и он ответил с такой же убежденностью, как и прежде:
— Всё равно я считаю, что на переломе тысячелетий будущее имеет только тот народ, который объединен единой церковью и повторю это в сотый раз. Все эти упыри во власти не навсегда. Россия-матушка не с такими справлялась. Поэтому нам надо ей помочь — по мере сил бороться с теми, кто обесценивает наш национальный духовный капитал, растлевает молодежь, насаждая разврат, пьянство, цинизм и безверие. Нельзя следовать вашей меркантильной логике единоличника.
— Иван Степа-а-а-аныч, — Тихоня грустно улыбнулся. — Мы с вами на разных языках говорим. Я вам про Фому, вы мне про Ярему. При чем здесь всё это? Давайте я лучше поделюсь любопытным фактом, который все стараются не замечать, а некоторые и специально замалчивают. Вот вы всё — Россия-Россия, но существует теория, что не Москве, а Киеву в будущем предстоит стать энергетическим центром нового мира.
— И на что опирается данная теория? — спросил Иван Степаныч.
— Жаль, у меня нет карты, но поверьте на слово, а когда придёте домой, можете сами посмотреть. Если от египетских пирамид по меридиану провести линию вверх, на север, то вы попадете как раз в Киев.
— Да?
— Это легко проверить.
— Ну, если это правда, то что здесь скрывать? Разве это тайна?
Тихоня сделал паузу и торжествующе и при этом заговорщицки, ответил:
— Данный факт замалчивается самими украинцами.
— Зачем?
— Если провести меридиан ещё выше, то вы попадете...
— Куда?
— В Санкт-Петербург!
Программист поднял руки и захохотал. Пёс встал и, глядя на хозяина, начал вилять хвостом. Томас смотрел на «преподавателя» с прищуром, отметив про себя, что так и не смог его раскусить. Этот Иван Степаныч был каким-то слишком правильным, без выступов и углов. Гипноз на него не действовал. Говорил то, во что верил, стоял на здравой, не лишенной логики позиции. Возраст солидный, но мерцающего графитного столба смертных грехов над головой не было видно — значит, жил ровно и в ключевых узлах судьбы делал правильный выбор.
— Хорошо-хорошо, сдаюсь, — сказал программист, махая руками. — Не будем спорить. Вы верите в то, что юг ушел навсегда и будет жить своим умом, но мне приятно сознавать, что наш раздрай не навечно. Поэтому вдвойне противно вынужденное соседство с теми мальчиками в белых рубашках. Вы что, не понимаете? Они же незаметно, потихонечку расширяют пропасть между нами.
— Вижу этот вопрос для вас болезненный. Но, а что если... — Томас прищурил левый глаз и посмотрел вверх, — Чисто гипотетически... Может они вовсе и не пастыри, а шпионы? Живут здесь, изучают язык и менталитет народа. Они ведь думают, что им здесь править, вот и готовятся.
— Эх, милый мой Алексей Степанович, — программист явно подобрел — после «Санкт-Петербурга» вся его агрессия испарилась. — Если б это было правдой, я бы сам им открыл все секреты, что ни спроси. Но это не так! Заявляю официально — одно не исключает другого. Никакой шпион не навредит нам больше этих белорубашечников. Это сейчас их мало, а что станет через десять лет?
— Ну, думаю, лет через десять нас всех уже не будет. Мальчиков, и всех этих, — Томас обвел взглядом улицу, — девочек.
— Почему?
— Про Страшный Суд что-нибудь слышали?
— Да вы пессимист, как я погляжу? Сейчас экстрасенсы все такие пошли?
Томас кивнул:
— Я просто хорошо информированный оптимист.
— Понимаю, — сказал Иван Степаныч, хмыкнув. — Психолог, инженер душ. Кому как не вам знать, что сейчас творится в нашем обществе. Я тоже вижу, газеты читаю. Тысячами спиваются, бросаются во все тяжкое, изменяя Родине, от безнадеги бегут на чужбину, при этом, не ведая, что они совершают настоящее самоубийство.
— Это почему?
— Вы же экстрасенс! Должны знать, что вырывая корень из родной земли, мы теряем возможность от неё подпитываться. Вода тоже имеет значение. Где родился — там и пригодился. Водичка в родном колодце — живая, а на чужбине мертвая. Судьба иммигранта незавидна — тяжкая работа и замаливание греха родинопродавца.
— Но зато их потомки будут жить в другой зажиточной благополучной стране, — сказал Томас. — Уезжающие делают сознательный выбор — они готовы страдать ради будущего своих детей.
— Это очень плохо. Любая иммиграция — потеря для нашего народа, нашей страны.
Томас и тут возразил, скорее из вредности:
— Во времена моей босяцкой молодости была поговорка, что на планете Земля ничего нельзя украсть, можно только перенести с одного места на другое. Люди ищут там, где лучше, а рыба — где не суше. Если вы хотите отстаивать свою веру, церковь, тогда вам, я так понимаю, надо делать все возможное, чтобы в родном крае жилось хорошо. Вы клянете коммунистов, но стоит поучиться у них. Во время Гражданской войны сколько человек погибло, а все равно построили новое неведомое ранее общество относительной справедливости. Мне нет дела до всего Союза, я о нашем Городке скажу. Всем миром работали на субботниках. Боролись с безграмотностью. За несколько лет пристроили всех беспризорников, которые потом в Великую Отечественную на амбразуры голой грудью ложились! И воспитали их нелюбимые вами коммуняки. А как строили? Стадион поставили за полтора месяца! Своими руками. В нерабочее время! Все горожане пахали днем и ночью — с лопатами и тележками бегали. Кстати, без вашей православной церкви. Ставки понарыли, трамвай провели через шахтные поселки. А сейчас? Вы с православной церковью или без неё заставите хоть кого-то сорваться после работы копать траншеи, чтобы провести в степь водопровод?
— Заставим, дайте время! — отрезал Иван Степаныч.
— Что значит, заставим? — Томас искренне удивился. — Раньше никого палкой не били — всё на энтузиазме. А нынче попробуйте! Люди во дворах за собой убирать не хотят — не то, что субботник. Вы сначала здесь порядок наведите, народ научите любить чистоту.
Томас закипал.
— Чтобы быть чистеньким, много сил не требуется — живите по совести, уважайте старших, не обижайте слабых. Посмотрите, никто не знает что такое мера, самодостаточность. Хапнуть и убежать — вот это по-вашему. Зависть, гордыня, злоба, гипертрофированное самолюбие. Вы бы отдали часть зарплаты на то, чтобы государство построило себе пару современных самолетов? Безвозмездно или за бумажки, которые ничего не стоят?
— Не знаю. Наверное, нет. Где гарантия, что мои деньги не украдут, и они пойдут туда, куда надо?
Томаса вдруг озарило!
— Э... извините за бестактность. А как вы собираетесь отстаивать свои взгляды, как будете помогать славянским народам? И, пардон, какого размера у вас десятина?
— Ну, — Иван Степаныч замялся. — Официально я сейчас безработный, но без дела не сижу.
Томас заметил, что последний вопрос смутил программиста — за его спиной пошли желтые разводы и возле почек воздух стал куриться сиреневой дымкой. Хм, если этот цвет, обозначающий готовность лгать, сменится на фиолетовый, то наш чистюля может оказаться бессовестным вруном!
— У меня хорошая подработка, — сказал программист. — На аутсорсинге. Жить можно.
Сирень исчезла — появилась зелень. Говорит правду. Но не всю. Что-то скрывает.
Томас привстал.
— Не понял. Аутсорсинг?
— Я сотрудничаю с одной западной фирмой, — пояснил Иван Степаныч, — пишу для них программы. Платят хорошо. Достаточно при моих вполне скромных запросах.
— То есть вы живете здесь, а работаете на... тех?
— Ну, да.
— И те, — палец Тихони указал на запад, — пользуются плодами вашего труда?
— Можно и так сказать.
— А какая страна, если не секрет?
— Ну, это не такая уж и тайна, — в голосе Иван Степаныча прозвучали горделивые нотки. — Я сотрудничаю с одним немецким автоконцерном. Там работают мои бывшие коллеги, подкидывают заказы. Кстати, иммигранты, но мечтают когда-нибудь вернуться назад.
— При этом вы безработный и стоите, скорее всего, в центре занятости... — сказал Томас, потрясенный открывшейся перед ним картиной.
Чертыхальски почудилось, что он стал похож на жабу, которую начали надувать через соломинку. Его распирало-распирало и, наконец, он взорвался! Рассмеялся до ломоты в затылке, завыл так громко, что голуби и вороны по всему Городку испугались и рванули в небеса. Пытаясь успокоиться, Томас посмотрел на пса, который с удивленным видом рассматривал Тихоню. Заглянув в снисходительные, всё понимающие глаза Цезаря, Чертыхальски снова захохотал.
Выдавил из себя:
-Увольте, это выше моих сил. Простите. Простите, за мою реакцию...
Раскусив орешек, Томас теперь смотрел на программиста, словно на открытую книгу. Как бы ему не хотелось сейчас встать и уйти, он не мог себе позволить такой слабости, потому как, не за этим сюда пришел и потратил столько своего драгоценного времени. Результат должен быть иным. Сейчас ему надо включить на всю мощь обаяние, напомнить о том, что он экстрасенс, и создать такую ситуацию, чтобы Иван Степаныч Попов решил узнать его силу и способности. А что тут гадать?Отроду пятьдесят три года, дважды женат, сын от первого брака — Тимофей Иванович, девятнадцати лет, кстати, фамилию взял материнскую — Бурчаков. Первая жена — Дарья Сергеевна, естественно, Бурчакова, сорок семь лет, проживающая... Продолжать? Если щупать этого кадра по всем правилам, то в конце необходимо довести процедуру до логичного финала — забрать у И.С. Попова нечто невесомое, но очень ценное. Чертыхальски уже понял, на чем можно зацепить этого кадра — свести с теми, кто его научит взламывать самые защищенные сети, а потом, иссушив этого аспида, можно будет повесить его шкурку в воображаемом шкафу трофеев и сделать новую запись в толстой книжице одержанных побед...
Да, так и надо делать, хватать, рвать на части, давить, уничтожать этих ублюдков, не чтящих незыблемый закон — платить десятину там, где живешь! Надо... Но зачем? Плести словестные узоры, хитрить, изворачиваться, лгать, хихикать и расшибаться до соплей? Ради кого? Вернее, чего? Вот этого стерильного, не понимающего степени своей мерзости чистюли? Этого конченного ушлепка, сумевшего пробежать под дождем не намокнув, ни попав не только в отчетность Тони, но и — Тихоня был в этом уверен — и другие важные, не менее строгие скрижали. Конечно, И.С. Попов чист по духовной части, но при этом, не выплачивая десятину, он также является умелым преступником-рецидивистом, сумевшим найти лазейки в своих, человеческих государственных законах. Позволительно ли Томасу осуждать того, кто обманывает систему-системы? Скорее всего, нет. Но заставить себя марать руки о такую мерзкую амёбу-ракушку, разглагольствующую о церкви и Православии и при этом подкармливающегося деньгами пруссаков — это было выше сил Томаса Тихони Чертыхальски. Конечно, придется вытерпеть наказание, тут ничего не сделаешь — ему не простят потерю попавшей в силки добычи. Ничего, шкура у Тихони крепкая, потерпит.
О, все святые угодники, великомученики, юродивые и страстотерпцы! Куда же делись те милые интеллигентные старички-импотенты, инженеры жаждущие изобрести вечный двигатель, родственники дочерей-растратчиц? Они уже из раздела фантастики. Если бы они работали на пруссаков, то быстро загремели б как шпионы вражеской разведки — не помог бы и Томас. Даже наоборот, — сам бы их сдал в НКВД или вообще, собственноручно зеленкой лоб намазал! А тут сидит такое дерьмо, разглагольствует о скрепах, а сам с пруссаками в засос сосется, падаль...
Томас встал и пошел прочь от скамейки, Цезаря и газетки в потном кулачке. Охая и мотая головой, он брел по скверу, ни разу не обернувшись, уперев руку в бок, словно у него болел аппендицит.
...Кстати, вы заметили, как я ловко ввернул в рассказ толщину гроссбуха побед Тихони?..
6 Судьба человеков
По дороге домой у Томаса в голове крутилась одна мысль — ну как он мог упустить столь важную тему? Деньги — беспроигрышный вариант. Подумал, что попал на пенсионера-шахматиста? Вполне может быть... Ох, интеллигенция! Меняются режимы, мода, технологический уклад, а она всё та же. Красивые слова, идеи, а копни глубже — пустота... Это же надо иметь такой благочестивый вид, так убедительно радеть о будущем, а самому пахать на...
Томас брезгливо вытер руки о штанины, как будто трогал жабу. Придя домой, не стерпел, позвонил Тоне и рассказал о своих посиделках в сквере Коммунаров. Когда дошел до финала, Тихоня почувствовал: ему стало легче, что было для него новым ощущением. Во время вынужденного и почти добровольного затворничества в Киеве, все свои горькие мысли, страх и беспомощность пред новым веком он носил в себе, ни с кем не делясь. Теперь же Томас с болью в сердце осознал, каким был слепцом. Все эти годы у него была родственная душа, которая бы поняла, пожалела, не стала б осуждать за излишнюю паранойю. А он, вырванный из привычного мира, огородился и был вынужден стереть из своей памяти прошлое. Что он выиграл, приказав себе забыть всех, кто когда-то ему был дорог? Вот же идиот!
Вечер прошел тихо, почти по-семейному. Поужинали, выпили с Олесей домашнего вина семилетней выдержки. Чтобы на боках завязался жирок, устроились на диване смотреть по телевизору какой-то фильм про любовь... А ночью к Томасу снова пришли кошмары. Один ужаснее другого. Окровавленные пилы. Черные тиски. Старуха, стучащая костяшками пальцев в слюдяное окошко. Прыгающий по диску рулетки костяной шарик, буби, трефи, вини, трехголовый змей, противный детский плач и прочие мерзости.
Пока он бился в липкой паутине снов, в Городке много чего произошло. В тот вечер Иван Сергеич и Сашка совершили одно из самых великих открытий в своей карьере металлостарателей. В заброшенном доме на Гольме, под прогнившими досками пола они нашли клад — сделанный из нержавейки самогонный аппарат. Он состоял из огромного тяжелого бака и крышки с приваренным к ней большим цилиндром, внутри которого находился змеевик. Когда первая радость прошла, компаньонов сразила задача, которая на первый взгляд не имела решения. Перед ними во всей своей красоте засияла проблема философского выбора. Что лучше, сдать аппарат в металлолом и сегодня же пропить заработанное — нержавейки в нем было килограммов двадцать! — или занять (взять в кредит) денежные средства, приобрести дрожжей, сахара, поставить брагу, через неделю выгнать самогонку и только тогда выпить? Сегодня бутылку или через пять дней, но два бутылька?
Сашка был за сегодня, Иван Сергеич за потом.
Победу одержали опыт и жизненная мудрость, а последствия от столь непростого выбора коснулись многих в Городке. Как показали дальнейшие события, умеренность в желаниях ребятам пошла на пользу. Через неделю они выпили один литр, второй отдали в качестве покрытия части кредита, а оставшиеся четыре продали. Часть средств пустили в оборот — снова поставили брагу. Оказалось, это очень удобно — пока они добывали деньги своим физическим трудом, где-то в запретном темном месте внутри нержавеющей стальной емкости, происходило алхимическое таинство брожения. Сей факт грел душу и сердца наших героев. Во время долгих переходов через пустыри, сгибаясь под тяжестью ржавой батареи, Иван Сергеич рассказывал:
— Брожение, Саша, — это есть метаболический процесс, при котором генерируется аденозинтрифосфорная кислота, коя в свою очередь является основным переносчиком энергии в клетке. Если же рассматривать отдельно брожение сахара, то есть спиртовое брожение, то в нём принимают участие соли пировиноградной кислоты, представляющие собой конечный продукт метаболизма глюкозы в процессе гликолиза. Пируват — те самые соли — расщепляется на этанол и диоксид углерода. То есть, чтобы было понятнее, с одной молекулы глюкозы благодаря колдовству Вакха, получаем по две молекулы этанола и углекислого газа.
Волшебство и чудеса чудесные древнегреческого бога заинтересовали Сашу в практическом значении. Когда концессионеры остановились на короткий перекур, он осторожно заметил:
— Мне кажется, соотношение один к двум в финансовом плане выглядит достаточно привлекательным. Я правильно мыслю, коллега?
Ну, при бросовой цене на сырье — на югах сахара было много — поллитра приятно пахнущей крепкой амброзии в конце второго тысячелетия стоила примерно гривну. Официально доллар тогда шел один к четырем. Средняя заработная плата составляла примерно тридцать пять долларов. С восьми килограммов сырья — больше не позволяла емкость — на выходе получилось девять литров питьевой фракции. Это поначалу. Доходы компании «Сергеич & Сашка» существенно возросли, когда ребята переговорили со знакомыми сторожами с оптовой базы «Баядера», и те по старой дружбе, понимая инвестиционную привлекательность нового предприятия, для «подскока» почти задаром разрешили взять двадцать мешков сахара и три ящика турецких дрожжей. Зная все «рыбные» места, в дополнение к нержавеющему баку были «найдены» десять сорокалитровых бидонов, в которых на фермах когда-то хранили молоко. Производственный процесс происходил в одном из стоящих на консервации цехов Казенного завода, куда были проведены, — естественно, неофициально, — все необходимые коммуникации: газ, вода, электроэнергия. Скоро предприятие бутлегеров вышло на шестидневную рабочую неделю. Реализация бутылок с оригинальной этикеткой «Надежда» проходила в точках приема металлолома. Это было удобно всем. Хозяева офисов до минимума сокращали наличный расчет. Поставщики металла, благодаря уникальной бартерной системе, имели возможность приобрести желаемое горячительное на месте, минуя посредников.
Производя в месяц восемьсот бутылок качественного крепкого напитка, первый валовый доход коммерсантов составил примерно двести долларов. Второй месяц был более удачным — своих покупателей нашли тысяча четыреста бутылок «Надежды». Для ускорения доставки продукции у давнего приятеля был взят в лизинг старенький «москвич-2715», версия кузова — «пирожок». Когда ты за рулем, естественно пить нельзя. Как-то незаметно Иван Сергеич и Сашка отказались от дегустации собственного продукта и перешли сначала на крымскую «Массандру», а потом со временем на «Chateau Fompeyre» из Бордо.
Только в выходной.
Максимум одну бутылку на двоих.
Что немаловажно, компания «Сергеич & Сашка» не вступала в конфликт интересов с правоохранительными органами. Вся торговля металлоломом у нас проходила и проходит под патронатом милиции, поэтому офицеры в синих погонах рассматривали руководителей вышеназванной компании в качестве партнеров и никак иначе.
Странно, непонятно? Как такое может быть, чтобы милиция прошла мимо сладкого пирога и не обложила ребят данью? Придется объяснить. Дело в том, что скоро во многих районах Городка были отмечены банкротства винокурных точек. Мелкие производители просто не выдержали конкуренции. Следовательно, сократилось количество заявлений и жалоб от населения по поводу нестерпимой вони в подъездах, и обилия асоциальных элементов, распивающих спиртное во дворах, где бабушки раньше варили самогон. Статистика правонарушений стала сокращаться. В области во время совещаний руководство нахваливало милицию Городка за успехи в борьбе с такими пагубными явлениями, как самогоноварение и хулиганство...
...А пока, не ведающие своей счастливой судьбы, Петр Сергеич и Сашка, тайными тропами везут на тачке тяжелую драгоценную ношу, давайте с периферии перенесемся в самый центр Городка. В этот же вечер произошло ещё одно, не связанное с нашей историей событие, но все равно я о нём расскажу, уж очень оно было характерным для того времени. Случай такой: милицейский патруль задержал возле памятника Никите Изотову некого Федора Савельевича Гурьянова.
Вот правду говорят — в тихом омуте чего только не водится. Жил себе человек, никого не трогал, даже голоса не повышал. Работал как все, отдыхал как все, женился, родил двух сыновей, стал вдовцом, потом пенсионером. Однажды случилось недоразумение — поругался с соседом. Тот всю жизнь на месте не сидел, то на заработках — весь Союз исколесил — то, как Ленин, петлял в лагерях. Трудовой книжки не имел, официально не работал, вернулся домой, когда здоровье подвело... Суть конфликта состояла в том, что бюрократия измерила двух столь непохожих людей одним аршином. Родное государство назначило соседям почти одинаковую пенсию. Сравнить того, кто за всю свою жизнь на одном месте и трех лет не сидел — пятилетняя командировка в ИТК № 58 не в счет — и Гурьянова, сорок лет пропахавшего на машзаводе? Но Фёдора Савельевича возмутила даже не эта чиновничья несправедливость! Его расстроила обидная фраза соседа, сказавшего, что правда в этой жизни для всех одна. Ему, потомственному слесарю стало так горько и досадно, что он... Нет не стал мстить, поджигать дверь, писать жалобы... Пенсионер пошел по иному пути.
В ночь с четверга на пятницу, за несколько дней до некоторых никому не известных событий, о которых я расскажу позже, Гурьянов явился к памятнику, поставленному в честь знаменитого шахтера. Фёдор Савельевич достал из сумки молоток, монтировку и саперную лопатку. Не прошло и двух минут, как он взломал гранитную плиту.
У нашего Городка, как я уже рассказывал, давняя революционная история, свои традиции. В пятом году воевали с капиталистами и царским режимом. Стачки, забастовки. Начали машиностроители, за ними подтянулись шахтеры и работники ртутного рудника, путейцы. Организовали отряды. Пришлось повоевать с драгунами. Конечно, были биты, но полученный опыт пригодился в семнадцатом. В Городке приняли первую, вторую и третью революции, а потом на развалах империи вместе со всем Донбассом создавал свою республику, защищал её от золотопогонников, петлюровцев, германцев. Отступили, а когда вернулись стали хозяевами своей земли и экспроприированных предприятий.
В 1927 году, когда все прогрессивное человечество праздновало десятилетие Великой Октябрьской Социалистической Революции, комсомольцы машиностроительного заводанаписали послание потомкам, запечатав его в специальной гильзе из легированной стали. «Конверт» замуровали неподалеку от завода, в сквере Дворца Труда. Вскрыть послание надо было в 2017 году, в год столетнего юбилея Революции. Позже, когда было принято решение построить памятник Изотову, то его воздвигли рядом с той гранитной плитой. Вот с этим самым письмом из прошлого и решил ознакомиться Федор Савельевич Гурьянов. Ему было интересно, чем горели идейные комсомольцы, коммунисты, о чем мечтали в те славные годы? О такой уравниловке, унижении трудового человека, нищете, в которой утонули бывшие советские люди?
Когда наряд патрульно-постовой милиции набрел на место преступления, то увидели такую картину: гражданин Гурьянов Ф.С. сидел возле сдвинутой плиты и рыдал. При этом он рвал какой-то лист бумаги и кусочки отправлял в рот.
Через пятнадцать минут к оскверненному вандалом памятнику примчались: прокурор города, кум с «избушки», начальник милиции, начальник по гражданской обороне и городской голова. Вот только ничем они помочь уже не могли — Федор Савельевич успел дожевать послание комсомольцев. На просьбы, уговоры, побои, рассказать хотя бы смысл, общие фразы утерянного для истории документа, гражданин Гурьянов Ф.С. выражался матерно и громко икал.
Я догадываюсь, почему он молчал — из вредности. Я в этом случае с ним солидарен. Мог бы рассказать, о чем мечтали наши прадеды, какую судьбу желали своим внукам и правнукам, но промолчу.
Тоже из вредности.
7 Не задалось
Утром чтобы прийти в себя Томасу Чертыхальски пришлось принять холодный душ. Выйдя во двор с чашкой крепчайшего кофе, он доковылял до скамейки под навесом. Бухнулся, сел сгорбившись, и опустил голову. Сырая рубаха приятно холодила плечи и спину. Всё ещё мокрые волосы торчали во все стороны — после душа он не стал вытираться. Глаза почему-то слезились и горели, словно от щелока. Во рту стоял неприятный привкус жженой резины. Хотелось вернуться в спальню, лечь, укрыться простыней и заснуть, но Тихоня себя заставлял сидеть и таращиться на заросшую лопухами клумбу.
Разум его сегодня подвёл — кошмары чуть до инфаркта не довели. Проснувшись, с испугу стал щупать город — вдруг какая опасность приближается, а сны — это предупреждение. Чужаков не заметил. Впрочем, лучше не стало, наоборот, ныряя в людские пороки и грехопадения, только вляпался в плохо смывающееся, похожее на дёготь воняющее привокзальной мочой месиво. Поэтому утром до красных пятен драил под струями душа бока и спину.
...Отхлебнул кофе. Обжегся. Поморщился. Кофе был горький, а идти на кухню за сахаром не хотелось. Кричать Лесе не было сил. Спал от силы часа два-три... Вертелся почти до рассвета. Лучше бы и не ложился.
Тихоня, наклонив голову, машинально отметил, что утро выдалось ласковое. Олеся встала раньше — с кухни было слышно грюканье тарелок, и в воздухе витал запах тостов и жареного лука. Небо выдалось прозрачное, акварельное, без единого облачка. Легкий ветерок колыхал листья растущих у высокого каменного забора черешен, солнышко грело асфальт, виноград зрел, пчелки летали, паучки, обняв паутинки, катались на своих блестящих качелях. Ничего не боящиеся задорные воробьи прыгали по карнизу и гаревой дорожке, порхали у ног Тихони, щебеча что-то о своем, мелком, сером, непонятном. Один обычный день, каких были миллиарды до этого мига, этого утра, и будет после. С ним и без него.
Отчего же так тошно?
Напиться бы до «вертолетов», чтобы похмелье, голова, как колокол и жжение в нутрях. Мир будет качаться перед глазами, и станет так противно, что хоть вой. В таком состоянии хорошо одно — ясна причина неприятных ощущений. А если удастся нажраться до провалов в памяти, вот будет джек-пот! Тогда утро станет новой точкой отсчета, перерождением разума, его обновлением, переформатированием. Как змея сбрасывает шкуру, птицы оперение, так и Томас раньше напивался, чтобы на время исчезнуть из этого мира и в пьяном беспамятстве оставить всё, что мешало ему жить. Вернувшись, он видел мир посвежевшим, сияющим словно выпал первый снег. Тоня этого не понимала. Пришла бы, нахмурилась, как она одна умеет это делать, прошипела б: «Не зачастил ли, ирод?».
Томас Чертыхальски усмехнулся, но улыбка умерла, так и не успев родиться.
Кошмары его не отпускали, не забылись. Тело помнит, до сих пор чувствует поднимающиеся адреналиновые волны страха. Предчувствие чего-то неизбежного неотвратимого раскололо семечко-яичко, липкий противный ужас пророс, опутал щупальцами, нитями, лианами всё его ливерное нутро. Сердце отказывается биться в нужном ритме, легкие наполняются воздухом в четверть объема, желудок сжался до размеров камня, печень разбухла так, как будто её накачали водой, почки превратились в два ледяных кристалла, а кишечник скрутился морским узлом.
Тихоню колотило.
Пальцы подрагивали.
Он зажмурился.
Прислушался.
Воздух с шумом и посвистыванием вырывается из груди. Зубы стучат, отбивая морзянку. Шелест крон деревьев над головой. Где-то на соседней улице играет радио. «Nazareth». Поют, что все люди — звери. Кто ж спорит?
Кожа — это фарфоровая или, как у того пастушка, фаянсовая оболочка, корка, прячущая внутри нечто гудящее и пахнущее озоном.
Черная шаровая молния.
В его груди находится черная шаровая молния.
Вот какой был сон, а все эти оставшиеся в памяти образы: джокеры, рыболовные крючки, тягучая скрипящая скрипками музыка, визг тормозов, волчий вой, шипение змей — это обрамление, уловки фокусника, желающего отвлечь простофилю от главного.
Томас икнул.
Вспомни про Тоню, она и появится! — за воротами послышался шум подъезжающей «Победы». Калитка открылась.
— Всем привет, — крикнула баронесса, переступив через порог.
Темно-синее платье с красненькими пуговками на объемном лифе. Над ухом висит украшенная перьями кукушки черная шляпка-дерби. На сгибе локтя сумочка из кожи крокодила.
Олеся вышла встретить хозяйку в халате и фартуке, взлохмаченная, чем-то обеспокоенная. Наклонилась к Антонине Петровне, зашептала ей на ухо. Томас смотрел на них через смеженные ресницы и ему захотелось пошутить зло, обидно. Лань и гиппопотамчик? Старлетка и бандерша? Дюймовочка и... Колкости иссякли, когда он разглядел лицо баронессы. Она была чем-то расстроена.
Олеся вернулась в дом накрывать на стол. Томас пятернями пригладил волосы, разделив их на две равные части, завел мокрые пряди назад. Посмотреть со стороны — настоящий сын булошника. Попытался улыбнуться. Бесполезно.
Баронесса подошла, и света под навесом стало меньше.
— Привет.
— М-м-м.
Подхватив тяжелое кресло, поставила его напротив Томаса и с тяжелым стоном присела. Сумочку повесила на подлокотник.
— Ох, колени-колени, когда же вы болеть перестанете? — сказала горько.
Томас рассматривал баронессу, пытаясь угадать, из-за чего она расстроена. Приехала с плохими новостями или Леся нашептала? Устала, постарела... Темные круги под глазами, пудры больше, чем обычно, помада ярче. Волосы отросли, и стала видна седина у корней. Очки, обычно сидящие внизу переносицы, подняты и закрывают глаза. Спрашивать ни о чем не стал, ждал. Кстати, Олеся за утро к нему так и не подошла, ни о чем не спрашивала. Чего-то боится?
— Обживаетесь? Это хорошо, — сказала Тоня.
Томас только хмыкнул.
— Планы на сегодня какие? — продолжала и, не меняя интонации, добавила: — Ваня ко мне с утра заезжал. Говорит, ночью собаки в округе выли. Вот, решила проведать.
Тихоня молчал.
— Ладно, не в духе, так и скажи. Хочешь в барчука играть — воля твоя. Но девочка не нанималась в четырех стенах сидеть.Хочешь, сама её проветрю. Я тут колечко с камушком присмотрела. Мне нельзя — легкомысленное оно какое-то, а Лесе в самый раз. Кулончик до пары. Ей понравится.
Томас кивнул согласно.
Баронесса привстала и, расправив платье, устроилась в кресле удобнее — туфли глубже вонзились в гравий.
— Слышала с «красненьким» не получилось?
Тихоня дернул мизинцем, любое движение ему давалось тяжело.
— Не ругайся, — наконец сказал он.
— Чай не маленький, чего ругать.
— Побоялся связываться.
Тоня наклонила голову набок, сказала беззлобно:
— Дуреха ты. Я что подвигов ждала? Тебе надо было рядом с ними постоять — вот и вся работа. «Красненького» можно вычеркивать. Не щас, так в будущем твоя пруха его догонит.
Томас вытянул вперед ноги, оставляя в гравии две борозды. Потянулся, зевнул.
— Одного не пойму, где в этом Косте чистенькое? Ничего не заметил.
Баронесса пожала плечами.
— Да кто его знает? Наверное, в будущем что-то натворит. Я же тебя на упреждение отправила.
Томас поднял голову и широко открыл глаза. Задумался, хотел что-то сказать, но...промолчал.
— «Красненькие» они такие — белая кость, голубая кровь, — продолжала Тоня. — Честь мундира. Приходит горячее время, они не по лабазам и тылам, а под шрапнель лезут. Это мы с тобой — алга! — драпаем.
— Каптерщик?
— Где бы мы все были, если б не такие каптерщики?
— Каждому свое, Тоня, каждому свое.
Баронесса покачала головой.
— Что-то ты плох сегодня — смотреть страшно. Отдохнул бы, поспал до обеда.
— Это потом...
Томас провел ладонью по колючему подбородку, подумал, надо бы побриться.
— Что-то неспокойно на душе, мать. Сегодня ночью чего только не привиделось.
Антонина Петровна вздохнула.
— Леся сказала. Стонал, зубами скрипел. Пыталась разбудить, а ты её чуть не ударил. Досыпала в другой комнате.
Чертыхальски ногтями поскреб по груди. Теперь понятно, почему не подходила.
— Таблетка есть какая?
— Не поможет. Хотя... — баронесса раскрыла сумочку, достала две рюмки и старинную, запечатанную сургучом бутылку. — Есть повод выпить. Помянем хорошего человека.
— Кого?
Антонина Петровна крутнула ладонью, снимая пробку — раздался еле слышный треск, а потом хлопок. Понюхав горлышко, она наполнила рюмки жидкостью коньячного цвета. Томас взял свою и, ощутив спиртовые пары, закатил глаза. Со стоном сказал:
— Ох... калгановка.
— Ага.
— Так кого поминать?
Баронесса вздохнула:
— Ивашу.
8 Фотоальбом
Томас отвел рюмку от губ.
— Опаньки!
— Ага. Зарезали. Вчера. Представь, оказывается, все это время в подземном переходе на флейте играл, у «Кочегарки», а мне не доложили. На Цимлянской жил.
Томас что-то прошептал тихо и отпил глоток. Поставил рюмку рядом с кофейной кружкой.
— Кто?
— Пацанва. Для забавы. Конечно, стоит старик беспомощный, да ещё в смешную дудку дудит.
Антонина Петровна прошептала про себя пару слов и выпила до дна. Смахнув с рюмки оставшиеся капли, сказала зло:
— Ну, что за несправедливость, а? Был бы нормальным человеком, я б его видела. Может беду отвела. Нет, доверился...
Баронесса посмотрела на растянутый над её головой брезентовый навес.
— Эти разве спасут?
Томас догадался...
Ему вдруг так стало её жалко.
— Жили вместе?
Баронесса опустила глаза. В них не было слез, но Чертыхальски понял по дрожащему подбородку — ещё несколько минут воспоминаний и их не избежать.
— Пять лет, как один день. Он такой нежный был, начитанный. Доверчивый. В кино познакомились. Потом что-то почувствовал, ушел. Тихо, без скандала. Ждала-ждала и вот. Вернулся, а я его не чую, как раньше, словно чужой. Страшно. И обидно. Хороший был...
Наполнила себе рюмку и сказала твердо:
— Царство небесное новопреставленному рабу Божьему Ивану...
В этом имени, в том, как оно было произнесено, во всей поникшей фигуре баронессы, в выражении её глаз сейчас было столько горя, что Тихоне стало не по себе. Он уже и забыл, что Тоня может сопереживать, кого-то жалеть, горевать. Ещё его поразила мысль, а что будет, когда он умрет? Вот пройдет церемония и всё, отведенные ему сто лет иссохнут. Ведь неизвестно, что будет дальше! А вдруг после Нового года он начнет стареть?
Вспомнилась эвакуация под Казанью, где он охранял склады госрезерва. Там была девушка, которая тридцать лет пробыла в коме. Молодой упала в обморок, ударилась головой и с тех пор лежала, как мертвая. В сорок третьем медсестра, которая за ней присматривала, — капельницы ставила, массажи от пролежней делала — получила похоронку. Когда сестричка от горя завыла, полумертвая проснулась. Это, наверное, было самое страшное воспоминание в жизни Тихони. Девушка, которой по виду можно было дать лет двадцать, никого не узнала. Родные-соседи умерли, на месте её деревни был построен военный городок и бесконечные ряды складов. Она, как только поднялась, стала бродить по улицам с полоумными глазами, в окна заглядывала. Сперва её все жалели, а потом... Девушка стала превращаться в старуху. Поселок сковал такой ужас, что на улице никто не показывался. Нашлись бы смельчаки, подбили всех пойти и убить её, но таких не сыскалось.
Через неделю горемычная умерла.
Томасу вдруг представилось, вот бьют часы — неважно, выиграет он или нет — и с последним ударом курантов спина начнёт сгибаться, кожа сохнуть, волосы выпадать, ногти ломаться. Как у той девушки. И его молодое тело, отразив прожитые годы, наконец, превратится в тело столетнего старика. Но здесь, под навесом, не эта мысль его испугала, — все-таки, он видел подобное и за десятилетия привык как-то бороться со страхом... Сейчас он ужаснулся за Тоню. Ведь она убивается из-за мужчины, с которым жила много лет назад, может, даже любила его, но Тихоня — это совершенно иное...
В памяти воскресли его первые монастырские годы. Баронесса в монашеском одеянии, тихая, торжественная, красивая, строгая — как же он её тогда боялся! Картина сменилась: она уже в холщовых штанах, сапогах с высокими голенищами, короткой моряцкой куртке, свитере грубой вязки, широкой кожаной шляпе. Возвышается на мостике и, перекрикивая океанский ветер, кроет китобойцев на чем свет стоит. Почему-то представил, как по дороге в Киев после церемонии гадания Тоня, меняя компрессы, гладила его по голове и нашёптывала что-то ласковое...
Однажды он нашел альбом с фотографиями — дело было в сорок седьмом. К первым картонным страницам были прикреплены обычные черно-белые фотокарточки из салонов, где баронесса в любимых нарядах сияла всей своей молодой красотой. Потом шли фотографии помятые, поцарапанные. Тоня изображена в кожаной куртке с красным бантом в петлице и деревянной кобурой маузера на боку; на строительстве первой трамвайной линии от Дома Советов до машзавода и вокзала — это уже потом маршрут продлили до шахты № 5. Бывшая баронесса с тачкой на строительстве стадиона — морщины на лбу, взгляд грозен, жилы на шее вздулись. Вот она ловит рыбу на Водобуде — кудрявый локон выбился из-под платка, белозубая улыбка, смеется, не видя, что за её спиной кот готовится сожрать весь улов; комсорг Тоня прибивает знамя из рогожи к управлению отстающей шахты; повзрослевшая Антонина Петровна, уже в очках, строгом платье с белым воротничком, среди делегаток съезда акушерок в Сталино...
Много карточек, а когда Томас перебросил альбом и начал листать с конца, то увидел нечто такое, отчего у него тогда в жилах кровь превратилась в тягучую ртуть. Это ему в тринадцатом году после отчисления пришлось возвращаться домой, а потом драпать на конец света — в Дикое поле. А вот оставшиеся на китобое юнги продолжили учебу и заняли отведенные им по праву рождения места. Ненадолго...
В конце альбома были наклеены фотокарточки людей, стоящих вокруг гробов. Черные костюмы и платья, хмурые торжественные лица, венки с шелковыми лентами: «От Краковской семинарии», «От Пражской Коллегии», «От друзей», «От преподавателей». На немецком. Готический шрифт. Гробы с белоснежной обивкой внутри, рюшами и глазетом. Тринадцать фотокарточек. Судя по выведенным под фото датам, трое погибли во время Первой Мировой, остальные в сорок третьем и сорок четвертом годах. Пять гробов пустые — скорее всего тел не нашли.
Тогда, в тысяча девятьсот сорок седьмом году, держа тяжелый альбом с фотографиями мертвых воспитанников баронессы фон Унгерн к Томасу пришла истина, что он у Тони теперь последний. Это знание, эта безжалостная правда жизни ошеломила, раздавила и начала отравлять его душу. Он вдруг испугался близости, которая всегда была между ними, но после обретенной правды, приобрела новое значение. За годы изгнания Тоня поддерживала его, как могла. Оберегала. Он привык к ней относиться как к лучшему другу. Новость, что их класс, оказывается, уже на кладбище, всё меняла.
Они все хотели убить Томаса. Выпускники Коллегии пошли на семинариста и погибли один за другим. Тоня всё знала. Но не выдала его... Хотя могла... Тихоня понял, что Антонине Петровне теперь не о чем мечтать и некем гордиться. Было досадно, что он так и не заметил её страданий. Война только закончилась, всем тогда досталось, а Тоня ни разу не говорила о некрологах. Он тогда попытался найти теплые, добрые слова, чтобы утешить её боль, но... Промолчал... Да, сейчас можно себе признаться, что он тогда испугался. Антонина Петровна охраняла его, как собственного сына. Князь это сразу понял, поэтому доверил баронессе его защиту... Чем он отплатил Тоне за любовь? Только отдалился... После того альбома он как с цепи сорвался! Стал пить, буянить, а осознав, что загул не спасет, ушел в горноспасатели. Лез во все норы, не боясь завалов и аварий. Он хотел быть как можно дальше от Тони, от её почти материнской тоски.
Трудовые подвиги заметили газетчики: стали выходить хвалебные статьи. Представили к ордену. Чтобы сбить интерес, Томасу предложили на некоторое время переехать в Киев. Согласился с радостью. Перед отъездом так и не признался Тоне, что знает о смерти ребят. Садясь в поезд, думал, едет на пару лет, но вышло иначе: Князь вцепился в него клещом и надолго от себя больше не отпускал...
Что ж, пришло время заказывать ещё один гроб, звать стариков, плакальщиц и настраивать фотоаппарат. Если он умрет, — а Томас почему-то был уверен, что это обязательно произойдет на руках баронессы — эти пальцы, которые сейчас сжимают горлышко бутылки, снова будут гладить его волосы... Седые волосы на холодном, морщинистом лбу. Что она будет чувствовать? Каким словом помянет его? Кого обвинит в его смерти? И вообще, что такое смерть? Нет, не так. А жив ли он? Сердце бьется, в желудке кислота жжется, но это ещё не жизнь. Катиться с горы, сбивая на ходу деревца и стебли чертополоха, это ли бытие?
Томас протянул руку и положил ладонь на мягкое теплое плечо баронессы.
— Прости, мать. Я исправлюсь.
— За что? Оставь, Тихоня. Оставь всё так, как есть. Хватит, порезвился и будя. Ты ж почти закрыл список. Плюнь.
— Почти — страшное слово, — сказал Томас насмешливо. — Давай подобьем бабки. Номер «два» не по зубам, пока детлахи рядом. «Красненького» до конца не щупал, побоялся. Думал, загоняют в капкан. Представь, а я к нему ночью понесся, словно кто за руку вёл.
Сама.
Во сне.
Старухой.
Томасу вдруг представилось, вот бьют часы — неважно, выиграет он или нет — и с последним ударом курантов спина начнёт сгибаться, кожа сохнуть, волосы выпадать, ногти ломаться. Как у той девушки. И его молодое тело, отразив прожитые годы, наконец, превратится в тело столетнего старика. Но здесь, под навесом, не эта мысль его испугала, — все-таки, он видел подобное и за десятилетия привык как-то бороться со страхом... Сейчас он ужаснулся за Тоню. Ведь она убивается из-за мужчины, с которым жила много лет назад, может, даже любила его, но Тихоня — это совершенно иное...
В памяти воскресли его первые монастырские годы. Баронесса в монашеском одеянии, тихая, торжественная, красивая, строгая — как же он её тогда боялся! Картина сменилась: она уже в холщовых штанах, сапогах с высокими голенищами, короткой моряцкой куртке, свитере грубой вязки, широкой кожаной шляпе. Возвышается на мостике и, перекрикивая океанский ветер, кроет китобойцев на чем свет стоит. Почему-то представил, как по дороге в Киев после церемонии гадания Тоня, меняя компрессы, гладила его по голове и нашёптывала что-то ласковое...
Однажды он нашел альбом с фотографиями — дело было в сорок седьмом. К первым картонным страницам были прикреплены обычные черно-белые фотокарточки из салонов, где баронесса в любимых нарядах сияла всей своей молодой красотой. Потом шли фотографии помятые, поцарапанные. Тоня изображена в кожаной куртке с красным бантом в петлице и деревянной кобурой маузера на боку; на строительстве первой трамвайной линии от Дома Советов до машзавода и вокзала — это уже потом маршрут продлили до шахты № 5. Бывшая баронесса с тачкой на строительстве стадиона — морщины на лбу, взгляд грозен, жилы на шее вздулись. Вот она ловит рыбу на Водобуде — кудрявый локон выбился из-под платка, белозубая улыбка, смеется, не видя, что за её спиной кот готовится сожрать весь улов; комсорг Тоня прибивает знамя из рогожи к управлению отстающей шахты; повзрослевшая Антонина Петровна, уже в очках, строгом платье с белым воротничком, среди делегаток съезда акушерок в Сталино...
Много карточек, а когда Томас перебросил альбом и начал листать с конца, то увидел нечто такое, отчего у него тогда в жилах кровь превратилась в тягучую ртуть. Это ему в тринадцатом году после отчисления пришлось возвращаться домой, а потом драпать на конец света — в Дикое поле. А вот оставшиеся на китобое юнги продолжили учебу и заняли отведенные им по праву рождения места. Ненадолго...
В конце альбома были наклеены фотокарточки людей, стоящих вокруг гробов. Черные костюмы и платья, хмурые торжественные лица, венки с шелковыми лентами: «От Краковской семинарии», «От Пражской Коллегии», «От друзей», «От преподавателей». На немецком. Готический шрифт. Гробы с белоснежной обивкой внутри, рюшами и глазетом. Тринадцать фотокарточек. Судя по выведенным под фото датам, трое погибли во время Первой Мировой, остальные в сорок третьем и сорок четвертом годах. Пять гробов пустые — скорее всего тел не нашли.
Тогда, в тысяча девятьсот сорок седьмом году, держа тяжелый альбом с фотографиями мертвых воспитанников баронессы фон Унгерн к Томасу пришла истина, что он у Тони теперь последний. Это знание, эта безжалостная правда жизни ошеломила, раздавила и начала отравлять его душу. Он вдруг испугался близости, которая всегда была между ними, но после обретенной правды, приобрела новое значение. За годы изгнания Тоня поддерживала его, как могла. Оберегала. Он привык к ней относиться как к лучшему другу. Новость, что их класс, оказывается, уже на кладбище, всё меняла.
Они все хотели убить Томаса. Выпускники Коллегии пошли на семинариста и погибли один за другим. Тоня всё знала. Но не выдала его... Хотя могла... Тихоня понял, что Антонине Петровне теперь не о чем мечтать и некем гордиться. Было досадно, что он так и не заметил её страданий. Война только закончилась, всем тогда досталось, а Тоня ни разу не говорила о некрологах. Он тогда попытался найти теплые, добрые слова, чтобы утешить её боль, но... Промолчал... Да, сейчас можно себе признаться, что он тогда испугался. Антонина Петровна охраняла его, как собственного сына. Князь это сразу понял, поэтому доверил баронессе его защиту... Чем он отплатил Тоне за любовь? Только отдалился... После того альбома он как с цепи сорвался! Стал пить, буянить, а осознав, что загул не спасет, ушел в горноспасатели. Лез во все норы, не боясь завалов и аварий. Он хотел быть как можно дальше от Тони, от её почти материнской тоски.
Трудовые подвиги заметили газетчики: стали выходить хвалебные статьи. Представили к ордену. Чтобы сбить интерес, Томасу предложили на некоторое время переехать в Киев. Согласился с радостью. Перед отъездом так и не признался Тоне, что знает о смерти ребят. Садясь в поезд, думал, едет на пару лет, но вышло иначе: Князь вцепился в него клещом и надолго от себя больше не отпускал...
Что ж, пришло время заказывать ещё один гроб, звать стариков, плакальщиц и настраивать фотоаппарат. Если он умрет, — а Томас почему-то был уверен, что это обязательно произойдет на руках баронессы — эти пальцы, которые сейчас сжимают горлышко бутылки, снова будут гладить его волосы... Седые волосы на холодном, морщинистом лбу. Что она будет чувствовать? Каким словом помянет его? Кого обвинит в его смерти? И вообще, что такое смерть? Нет, не так. А жив ли он? Сердце бьется, в желудке кислота жжется, но это ещё не жизнь. Катиться с горы, сбивая на ходу деревца и стебли чертополоха, это ли бытие?
Томас протянул руку и положил ладонь на мягкое теплое плечо баронессы.
— Прости, мать. Я исправлюсь.
— За что? Оставь, Тихоня. Оставь всё так, как есть. Хватит, порезвился и будя. Ты ж почти закрыл список. Плюнь.
— Почти — страшное слово, — сказал Томас насмешливо. — Давай подобьем бабки. Номер «два» не по зубам, пока детлахи рядом. «Красненького» до конца не щупал, побоялся. Думал, загоняют в капкан. Представь, а я к нему ночью понесся, словно кто за руку вёл.
— Кто же тебя за руку может водить? — спросила баронесса шепотом.
— А шут его знает? — также тихо ответил Чертыхальски и, чтобы скрыть смущение, отвернулся. Взял кружку с остывшим кофе и стал сербать шумно. Между делом продолжил:
— С «третьим» я зубы обломал, а «четвертый» меня чуть не контузил. До сих пор в голове звенит.
На порог вышла Олеся.
— Всё готово, идемте завтракать.
Баронесса крикнула:
— Чуть позже, дай догутарить! — и тише добавила, — зато с «пятой» повезло.
Томас сплюнул.
— Не с «пятой», а «первой»! Ты одно скажи, какого ляда мне подсунула эту тварь? Специально?
— Ой-ой, завелся. Девка, как девка. Лучший токарь на заводе. Стихи пишет, в клубе бардов числится. Крученая. Раньше таких любил. Час работы!
— Я?
— Ты! Как семечки девок щелкал.
Томас нахмурился.
— Не помню. Я уже многого не помню: в голове какой-то сдвиг произошел — ничего не хочется. Последние годы работа и дом, работа и дом. Книжки, сон, рисование... Ты вообще пьесу читала?
— Нет, — призналась баронесса.
— То-то и оно. Тебе было бы приятно, если б послали в гости к Сермяге-старшему?
Тоня задумалась.
— Думаю, не очень.
— Тогда зачем меня подставлять? Там не просто ямбы-хореи, метчики-плашки. Там — диагноз. Я однажды такое уже видел. Собрался на свадьбу, подхожу, а по всей улице вокруг дома жениха бетонные слова летают, как планеты вокруг солнца, каждое весом с гирю — попробуй, увернись!
Томас прищурился.
— Ты знаешь о ком я. Вспомни. Он на метростроевке женился... Тебе легко — не чуешь — а я тогда позору натерпелся. Называется, познакомился с писателем... Как заяц бежал оттуда.
Баронесса поправила очки, вспоминая. Не сразу, но догадалась, кого вспомнил Томас.
— Да, точно... Ну, хорошо, про «первую» забудь.
— Конечно забуду! Давай смотреть, что в итоге. «Первую» вычеркиваем. «Вторую» вычеркиваем. «Третий» вычеркиваем. «Четвертого» я ещё и наградил! Только с «пятой» получилось.
Тоня налила себе ещё.
— «Шестого» тоже вычеркиваем.
Огоньки в глазах Томаса потухли.
— Не могу понять. Тоня, это какая-то засада! За эти дни столько всего случилось... Мне кажется... это заговор какой-то. Церемония, моя жизнь непутевая, постоянная беготня от прошлого, от своей природы. А сейчас... Проснулся, думаю, сердце вот-вот взорвется. Пощупал город, такого насмотрелся!!! Вот тебе и клин клином. Гадаю, а может, все эти годы были дадены ради этого лета? Чтоб в конце жизни пороху нюхнул и понял, силы-то не безразмерные и на меня есть укорот! Куда не сунусь, везде тупик. Мне надо что-то понять, а времени не осталось. Ладно я, посмотри вокруг. Это же менять всё надо. Рано или поздно. Так не может продолжаться бесконечно. Стариков режут ради забавы, к милиции даже не подойти — там в застенках постоянно кто-то орет. Я не против системы, ты знаешь, но когда людей пытают, у меня внутрях вскипает, как будто меня самого током бьют. Аборты, измены, наркота... Снова пена прёт — пупом чую.
Баронесса накрыла ладонью руку Тихони, потрепала:
— Родной, это всё кошмары. Не бери близко к сердцу — куда ночь туда и сон. Ты бы лучше спать лег. Пойдем, уложу.
Тихоня не стал спорить. Поднялся, пошел в дом. Сбросив с себя всю одежду, лег под простыню. Взбил подушку и отвернулся лицом к стене. Чтобы свет не давил на глаза, накрылся с головой.
Олеся на мгновение заглянула в спальню, всё поняла и, чтобы не мешать, тихо вернулась на кухню. Антонина Петровна задвинула плотнее шторы и села рядом с кроватью. Темная. Большая. Тени под глазами. Скорбные борозды через щеки. Губы плотно сжаты. Грудь медленно вздымается и со свистом спадает. Пальцы нервно теребят черный перстень на указательном пальце.
Подождав немного, баронесса чуть наклонилась и начинает петь:
— «За печкою поёт сверчок, Не плачь, угомонись, сынок, Глянь, за окном морозная, Светлая ночка звёздная...».
Глаза затуманены. Она смотрит на пастушка, играющего на флейте. Статуэтка стоит в центре тумбочки у изголовья кровати. Колыбельная струилась ручейком, и кажется, что фаянсовый мальчик-с-пальчик аккомпанирует баронессе фон Унгерн.
— «Что ж, коли нету хлебушка, Глянь-ка на чисто небушко, На небе светят звёздочки, Месяц плывёт на лодочке, Месяц плывёт на лодочке, Месяц плывёт на лодочке».
Вытерла рукавом глаза.
— «Ты спи, а я спою тебе, Как хорошо там на небе, Как нас с тобою серый кот, В санках на небо увезёт, В санках на небо увезёт, В санках на небо увезёт. Будут на небе радости, Будут орехи-сладости, Будут сапожки новые, И пряники медовые, И пряники медовые, И пряники медовые. Ну, отдохни хоть капельку, Дам...».
Запнулась, замолчала.
— Нет, милый, не дам я тебе золотую сабельку. Незачем тебе ею махать. Отмахал своё. Спи родной, спи сынок... Неугомонный мой сверчок. Спи...
Томас забылся. Антонина Петровна тихо встала и собралась уходить, как вдруг, больше повинуясь привычке, пошарила по карманам висящих на стуле брюк, нагнулась к рюкзаку, проверить, что в нём. Зеленые пачки её не заинтересовали: в боковом отделе нашла потрепанную книжку «Локи — кормчий Нагльфара» и скрученную в трубочку ученическую тетрадь. «Локи» баронессу не заинтересовал, а тетрадку вытащила, расправила. На титульном листе написано «Рудоментарно, Ватсон».
Глаза Тони кузнечиками поскакали по строчкам.
8 а РУДОМЕНТАРНО, ВАТСОН!
Столб света бьёт сверху, освещая на сцене два пня. На них сидят — спина к спине — два человека. Головы направлены в разные стороны, но когда мужчины говорят, то жестикулируют, словно видят собеседника напротив себя. Вокруг — чернильная темнота...
— ...
— А у меня хвост вырос!
— ...?
— Честно, настоящий!
— Как такое может быть?
— Да вот так. Сам удивляюсь.
— Врешь.
— Хотелось бы, но разве такое придумаешь? И для чего?
— Что для чего?
— Для чего мне придумывать?
— Не знаю.
— Вот я ничего и не придумываю! Вырос.
— Хвост?
— Да! Не было, не было и, бац!
— Вырос?
— Ага.
— А рога?
— Ты что?.. — я не женат!
— Я не об этом. Рожки такие, небольшие...
— Ну, ты даешь! Приплел на ночь глядя... фу.
— Это я так, пошутил.
— А я не шучу.
— Подожди, ты хочешь сказать, у тебя вырос... хвост?
— Да.
— ...
— Вот и я в ужасе.
— Ну, это же... ненормально!
— Да, ненормально! Жил как все, горя не знал и вдруг... Стою, жду зарплату — повышение обещали — и думаю: «В этом месяце или в следующем?». Волнуюсь, в животе дрожь, со всех боков напирают — им тоже хочется узнать... В воздухе такое марево мерцало... Странное... Вот окошко, заглядываю в ведомость, а там... Нули-нули!!! Знаешь, как это бывает, когда счастье в темечко целует? Смеяться захотелось, ладошки вспотели и в коленях слабость... и тут... ни с того не с сего — вжик-вжик, вжик-вжик. ВЖИК-ВЖИК!!!
— Мухи?
— Какие мухи? Хвост! Шевелится! Туда-сюда, туда-сюда! И вжик-вжик...
— А!
— Да, о ткань... Вжик-вжик...
— Так у тебя...
— Зашевелился... От радости...
— А раньше?
— Не было.
— Вообще?
— Вообще.
— А может он был, а ты его не чувствовал?
— Это как?
— Не было настоящего повода для... вжик-вжик.
— Ну, ты сказал! Ха-ха три раза. Как это не было? Было!.. Но хвоста не было...
— А если подумать?
— Что?
— Вдруг был?
— Да ты вообще рехнулся! В роддоме смотрели? Смотрели. Мама купала, в попку целовала? Целовала. В яслях-садике пузыри пускал? Пускал. Про школу вообще молчу, на смех подняли бы... Живьем съели б. Это такой повод для шуток, что страшно. Потом армия. Как ты себе представляешь? Проходите молодой человек, откройте рот, покажите язык. Та-а-ак, уши. Хорошо слышите? Ну-ну. Снимите трусы. Повернитесь. Раздвиньте ягодицы... Это я раньше думал, что они геморрой искали, а оказывается, нет!
— Что?
— Хвост.
— А если бы нашли?
— Ну... Сдали бы в цирк де Солей. А скорее всего, посмеялись бы, мол, чего только солдатики не придумают, чтобы закосить. Отправили бы подальше... В Анголу.
— Это где?
— Далеко.
— А тебя послали близко?
— Близко, тут, рядом, можно сказать, у мамки под юбкой. Час езды.
— Повезло.
— Я сперва тоже так думал, а потом волком взвыл.
— Почему?
— Да как представлю: там, за забором, друзья вечером на лавочке песни орут, девчата семечки лузгают... Хоть в петлю!
— Что, аж до этого?
— Ну... я нет, а друг того...
— Совсем?
— Совсем.
— Сам?
— Сам.
— Близкий друг?
— Да как сказать? Не близкий, вместе в автобус садились, в карантине водку пили... Он в другом батальоне служил. Редко виделись.
— Это плохо.
— Да уж знаю, что не хорошо. Хотя... Одного не пойму, почему у нас плохо, а в других странах, например, в Японии, хорошо?
— Как это?
— Там не считается грехом.
— Разве?
— Да.
— А Япония — это где?
— Та, далеко.
— Не скажу за Японию, но у нас это плохо.
— Сам знаю, но почему у нас плохо, а там хорошо?
— Врешь, наверное?
— Да как сказать... Сложно объяснить... Там умереть достойно считается за честь, а если сам, и все по обряду, то это достойно.
— Не понимаю.
— И я тоже. Почему им можно, а нам нельзя?
— Нам нельзя.
— Странно это.
— Ничего странного. Если нам нельзя, то и им нельзя, а обряды... всё брехня.
— Я тоже так считаю. Не подумай, я, как осознал всё, ну после вжик-вжик, не допускал даже мысли. Это же, это же... Страх, какой грех, и... Какую смелость надо иметь! Но вот что странно, после этого... Шевелящегося отростка... Стал бояться высоты. Как выйду на балкон, посмотрю вниз, и голова кружится. Что получается? Я боюсь скрытых своих помыслов? Из-за этого паника, страх переступить черту... Головокружение.
— Ну, ничего удивительного. Ты столкнулся с неразрешимой ситуацией, из которой, якобы, нет выхода и, как любой человек, захотел обмануть судьбу.
— О чем ты? При чем здесь обман?
— То о чем мы говорим, есть обман чистой воды. Тебе кажется, что всё закончится, раз — и в дамках! Но мне кажется, это только начало нового ещё более трудного пути.
— Ты верующий?
— А ты?
— Не знаю... Но если боюсь об этом помышлять... Ну, ты понял, о чем... Значит, верующий.
— Странный вывод. Бояться греха, ещё не значит верить.
— Давай сменим тему. Я бы не хотел говорить о вере. Уж кто-кто, но не я — прямое доказательство того, что Бога нет.
— Это почему же?
— Как там? По образу и подобию. Что, у Адама был хвост?
— Эх ты! Хохмач...
— Да уж какой смех, когда такое в голове творится? И не только в голове... Я слышал... Слышал...
— Ну, говори.
— Что эти, в труповозках ненавидят тех, кто с крыш сигает, мол, видончик ещё тот, мороки много, собирай его ложечкой. То ли дело висяки — снял с петельки, там всё чин по чину, узел с одной стороны или с другой, язык вылез или нет, смерть наступила в результате асфиксии... Всё давно прописано — наука! А когда с двадцатого этажа... Какая уж тут наука?
— Ты столько всего знаешь.
— Да просто в голове застряло, оно ж любопытно!
— Как такое может быть любопытно?
— Всё что ненормально, всё любопытно.
— Получается, теперь и ты любопытный.
— Ах, да... Вот чего теперь ненавижу... Да, ненавижу!!! Подобных секунд, мгновений. Только что парил в облаках, о чем-то думал приятном или неприятном, ну, не настолько, чтобы... Короче, о другом думал, а потом — шандарах!!! Как крюк на пупок... Как головой в битум и хруст позвонков. Когда приходит осознание истины...
— Ну ты даешь — истина.
— Хорошо, скажи по-другому. Истина и есть.
— Нельзя разбрасываться такими словами. Истина — это святое. Можно же сказать... Ну, я не знаю... Правда... Хотя тоже слово... хорошее.
— А если фактически?
— Фактически?
— Ну, да, если сказать: «У меня фактически имеется хвост».
— Глупо звучит.
— А все искусственные обороты звучат по-глупому.
— Проще — лучше. «У меня есть хвост».
— У тебя?
— Да, нет, у тебя. У тебя есть хвост.
— Это понятно, но откуда он взялся?
— Ты у меня спрашиваешь? Я при этом процессе не присутствовал.
— Я хоть и присутствовал, но не могу описать сам... процесс. Потому как его не помню. Помню — вжик-вжик, и всё.
— Зарплата?
— Ага. Вижу — нули-нули, вот я и обрадовался. Как идиот. А потом опечалился. Нет, не то слово... Ну, как можно достоверно передать состояние слияния ужаса, паники, страха и безумия?
— Можно.
— Знаю, что можно, но для этого надо родиться гением. И не рассказать, а нарисовать.
— Художники не рисуют, они пишут.
— Странно... думал, что рисуют.
— А ты что почувствовал?
— В момент осознания?
— Да. Вжик-вжик, а дальше?
— Дальше... Я в кино видел — вот стоит герой, потом дверь открывается, а внутри или страшилище какое, привидение, и герой так глазки закатывает и по стеночке, по стеночке.
— Падает?
— В обморок. И у меня нечто похожее. В ушах зашумело, на веки тень пала, звездочки летают, такие белесенькие. Думаю, всё — сейчас рухну, но сам себе говорю, что нельзя, это же все бросятся спасать, начнут тягать из стороны в сторону, а вдруг перевернут? Нельзя! Я мух разогнал, уши ладонями закрыл, комок в горле сглотнул, начал дышать глубоко, но не резко, чтобы не повело в сторону... Всё правильно сделал. Пару шагов, словно робот, и дёру. Все ж куда смотрят?
— Куда?
— В окошко, ждут повышения, а я бочком-бочком, как краб морской на полусогнутых, и домой. Не разуваясь, забежал в ванную, брюки снимаю, белье... Обернулся... ХВОСТ! Нет, я знал, что там появилось нечто странное, шевелящееся: когда по ступенькам поднимался, прямо чувствовал — брюки натянулись, но не на заднице, как обычно бывает, а на...
— Переднице.
— Ага.
— Такой большой?
— Ну, не малый.
— Длинный?
— Длинный...
— С кисточкой?
— Почему с кисточкой?
— Ну, так рисуют часто. С помозком.
— Нет никакой кисточки. Он, это... Весь странный такой.
— Покажешь?
— Ну, вот ещё! Я что в цирк нанимался?
— Уморил...
— Тебе смешно, а мне что делать? Это вжик-вжик, к слову сказать, всю жизнь мою перечеркнуло!
— Да ладно! Неужели хвост может помешать? Вот увидишь, наоборот поможет!
— Это в каком смысле? Ты что лепечешь? Где он поможет?
— Ну, в магазине три сумки понесешь.
— Ты издеваешься?
— Почему? Вот скажи, рано или поздно, как не кобенься, всё равно откроется, ведь так?
— Лучше поздно, чем рано.
— И потом настанет момент, когда ты перестанешь вызывать любопытство. Так всегда бывает. Вот выросла родинка на всю щеку, ты только о ней и думаешь, а народу очень скоро начхать на тебя и твою родинку. Ты носишься с ней, ночей не спишь, от зеркал бегаешь, а соседей уже не интересует, что у тебя на лице. Им подавай, пьешь ли до белочки или детишек в сердцах колотишь, с кем спишь и как часто...
— Давай не начинай, а.
— Ну, я же... Постой... А как у тебя с женщинами будет?
— Да как всегда.
— Не понял...
— То есть никак.
— Хочешь сказать, никогда не было?
— Сознаюсь... Не было, и это хорошо, даже отлично!!!
— Ничего себе отлично....
— Этот факт меня, можно сказать, успокоил...
— Ну, ты и чудик. Как такое может успокоить?
— Ты не понимаешь... Что там про рожки плел?
— Я?
— Ты. На что намекал?
— Ну, это... Жена загуляла.
— Не ври. Ты другое имел в виду. Если по правде, я тоже над этим думал. Оно ж ночами теперь не сильно спится...
— То есть...
— Ну, я же не хозяин своему хвосту. Когда-никогда могу приказать, приструнить, но в момент дремы он сам по себе и начинает всякое выделывать: то одеяло стягивает, то какой-то ритм отбивает. Поэтому не спится... Думается... А вдруг это мне наказание за грехи мои тяжкие?
— Вполне может быть. Много накопилось?
— Кто знает? С девочкой дружил в школе. Маленький был. Портфель ей носил.
— Это не грех.
— Да я не о том... Поссорились мы с ней, и я её... Ударил. Носком ботинка по ноге. Она выше меня была на голову, я бы с ней не справился, а тут что-то нашло такое... Она потом ещё плакала. До сих пор жалею. Была бы возможность, хоть сейчас к ней пополз прощения просить...
— Да она уже и забыла давно.
— Да? Но я-то помню!
— И это достойно того, чтобы тебя наказать таким способом?
— Не знаю.
— Я знаю — не достойно. Мелочи это всё. Копай дальше и глубже. Что там ещё?
— Сразу и не соображу... В школе учился нормально, не курил, не пил. Списывал иногда у соседки, так все списывают, и у них почему-то хвосты из-за этого не вырастают.
— Дальше.
— Техникум... пропускаю.
— Это с каких делов?
— Да что я там мог натворить? Первая сигарета, бокал вина... Кому сказать — засмеют.
— А сейчас?
— Табак — ни-ни, алкоголь, как все — по праздникам, не то, что эти.
— Кто?
— Та было дело... Ездил к родне в глубинку. Не умеют пить. У нас погулял хорошо, а наутро хоть тресни, но на работу идти надо. А у них если гулянка, то минимум дня три синячат без продыху. А бригадир покрывает. Я спрашиваю, ты чего, как такое может быть, а он мне — ведь ребята расслабились, с кем не бывает? А ты говоришь... Если набедокурил и хвост словно наказание, то всё что угодно, но не из-за водки.
— И не из-за женщин.
— Да, можно вычеркнуть.
— А почему?
— Чистосердечно?
— По-другому нельзя.
— Боюсь я их.
— Сильно?
— Достаточно.
— Это уже, брат, диагноз. Не пьешь, не куришь, с женщинами того...
— Согласен... Теперь вот ещё хвост...
— Ага.
— Так может... это... Зря я себя сдерживал? Вдруг надо было гулять, пока гулялось, о здоровье и приличиях не думать?
— Ошибаешься. Если бы фестивалил, рожки точно бы получил в комплекте — я говорю.
— Это успокаивает.
— Да неужели?
— Ага. Хвост где находится? Его спрятать можно, под брюками не видно, а с рожками сложнее. У всех на виду.
— Шляпа.
— Как ты себе представляешь?
— Плохо...
— То-то же... После этого «вжик-вжик» неделю ходил, словно подушкой придушенный. Задыхался, по сторонам оглядывался, вернее, назад оборачивался: смотрит ли кто на мой копчик? Какая-то маничка напала. Рядом засмеются, а я уже за сердце хватаюсь. И что странно, в детстве был тихим, спокойным ребенком и представлялось по ночам, вот бы у меня нос был бы большой или уши, и тогда на меня бы обращали внимание. Ведь как бывало? Зайду в комнату, а мне не «привет», ни «пока»: словно пустое место... Ребята дружат, шайки сколачивают, по деревьям лазают... Только я один слоняюсь по двору. Хотелось внимания. И вот оно пришло... Дохотелся.
— Судя по твоему рассказу, ещё всё впереди. О тебе же никто не знает, ведь так?
— Ни обо мне, а о моём хвосте... и... Нет, ты прав, конечно! Прав как поворот направо... Обо мне никто не знает. Живу и живу... Незаметно... Старушкам на лавочке кивну, цветочек понюхаю, бумажки на работе в папочку приколю... Всё верно — кроме тебя никто не знает. Честно сказать, я последние года четыре ни с кем, как с тобой, так долго не разговаривал...
— Что-то плохо верится...
— Почему? Родителей давно уже нет, начальство не говорит — приказывает, коллеги... Себе на уме. Друзей нет.
— Собаку не пытался завести?
— Она же слюнями будет на ковер капать... Я брезгливый.
— Странный ты человек. Такое ощущение, что боишься жить.
— Может и боюсь.
— А чего?
— Как сказать... Сразу и не выберешь. Я боюсь... Я боюсь... Детей боюсь.
— Ничего себе!
— За ним же ухаживать надо! Кормить! Поить! Укачивать... И на руках носить осторожно. Они же такие крохотные! Чуть сдавил и всё.
— Что всё?
— Или в школу пойдет... Там же хулиганья! И уроки задают... Учителя изверги. Нет, дитем быть плохо! Страшно. А вот ещё... Военных боюсь. Всех, кто в форме. Они же при власти! А при власти сколько всего наворочать можно! И им ничего не будет... Боязно... Я как вижу погоны, на другую сторону перехожу. Или в трамвай не сажусь. Пропускаю.
— Ну-ну, продолжай, любопытно...
— Чего уж тут? Если ж завелся... Вдруг больше не будет повода? Ляпнуть лишнего боюсь!
— ...
— Как бывало на работе? Коллеги говорят, говорят, а потом ко мне обращаются: «Ведь, правда, же?». А что ответить? Как попка-дурак? И подмывает возразить... Нет, не правда! Брехуны вы все! Собрались тут по уголкам, курят, шепчутся, анекдотами давятся. Вот взять бы вас всех, кайло-лопаты в руки — котлованы рыть! А то тяжелее трусов ничего в жизни не поднимали...
— А ты поднимал?
— Так это я так... К слову... Обобщаю. Вот и боюсь высказаться. На языке столько разного вертится, а я терплю... Странно... Вот выдал сейчас и на душе спокойнее стало. Даже, хи-хи, не боюсь прослыть хвостатым! Может потом, когда откроется... Однако в данную секунду...
— Что в данную секунду?
— Я другого боюсь...
— Меня?
— Ха-ха три раза, чего в тебе такого страшного? Нет, уже привык... Я боюсь... Прослыть пустышкой.
— Не понимаю.
— Ну, смотри, ты сам говорил: ни пью, не курю, с девчатами того... Конечно, это примитив, упрощение, но, в общем, подходит... Я ничего не достиг! Садик-школа-техникум-работа... Нет семьи, друзей... У меня даже нет увлечений, бзика, как у сумасшедшего, чтобы кто-то мог сказать: «Этот Хвостатый был с чудаковатинкой, бабочек собирал, вся комната увешана. Бывало, поймает редкого мотылька и бегает по двору, всем показывает». Не бегаю... Не собираю. Ничего у меня нет. Никого... Ничем не запомнюсь. Дом не построил, дерево не посадил... Только вот подвиг — хвост вырастил.
— Чего кукситься? Как там у ребят? Мне всего лишь сорок два, у меня всё впереди!
— Ге-ге... помню-помню, видел. Смешно... Когда по телевизору всегда смешно, а как в жизни — страшно. Вот как представлю — со дня на день узнают! Будут склонять на все лады, и с одного боку и с другого. Жизнь изменится, газетчики, зеваки: покажите обезьянку говорящую... А потом, когда втянусь, научусь говорить с народом не заикаясь, привыкну к шумихе и пойдут бабочки-мотыльки, то все скажут: «Да понятно — с хвостом у любого получится, а ты попробуй без хвоста!». Раньше, раньше надо было!!! Жить, дышать в полную грудь, наслаждаться радугой, запахом малины, кушать мороженое с изюмом...
— Любить...
— Да! Да! Да!!!... Любить! Меня мысль разрывает, в разные стороны тянет, что никогда... Никогда никого не любил... И, наверное, не смогу... Вернее, смогу, но не будет взаимности, а если и будет, то она, эта... женщина... будет любить не меня.
— А кого?
— Мой хвост!!!
— Ничего себе! Зачем тебе извращенка?
— Причем тут это? Она будет из-за жалости... или корыстная. В первом случае унизительно, во втором... страшно. Не нужна мне такая.
— Погоди, ты про какую корысть говоришь? Про нули-нули?
— Нет, про ту, которая захочет меня за деньги показывать...
— ...
— Это я так... В перспективе... Думаю...
— Ну и богатая же у тебя фантазия! За деньги... Эка невидаль... хвост.
— Погоди-погоди. Ты о чем это? Я ещё раз повторяю: У МЕНЯ ВЫРОС ХВОСТ!
— Не кричи... слышал.
— Это ведь... Сенсация! Вычитал, бывало подобное...Атавизм или по-научному — рудиментарный отросток. Но у меня не от рождения, а сам по себе! Журналистов понаедет... Будут охотиться... Страшно... Вся жизнь насмарку!
— Но ты же говорил, что у тебя не было этой жизни. Выходит, и перечеркивать нечего?
— Э-э-э-э... Так уж и не было... А лето? А первый снег? А клубника? А... а... а арбуз? Куда это всё девать?
— Я думаю никуда оно не улетит.
— Скоро-скоро всё изменится... Всё будет по-иному.
— Хуже?
— Кто его знает? Сперва казалось, что хоть помирай, так стыдно, но прошла неделя, вторая, никто вроде вокруг пальцами не показывает... Словно как и прежде, я — пустое место... Свыкся... Время оно такое... А у тебя какое сейчас время? Как вообще сам?
— Да нечего особо рассказывать... Шевелюсь потихоньку... Жизнь бросает из стороны в сторону...
— Понятно...
— Что мы всё про меня, да про меня? Ты про себя давай, у кого из нас хвост?
— Спасибо... А ты прав! У меня! И это сознание факта иногда... не постоянно, не часто... как бы... греет.
— А вот тут подробнее.
— Ну, смотри сам. Спроси любого в моей конторе, как зовут второго заместителя третьего счетовода? Не ответят! Словно и нет такого! Смотрят сквозь, словно я из стекла сделан... Раньше было обидно до изжоги, а теперь... Стыдно признаться... Чуть-чуть, самую малость... Граммулечку... А приятно. Ржут, гогочут, кольца вонючие пускают, и не подозревают, что рядом с ними стоит... Будущая знаменитость...
— И я об этом! Во всем надо находить приятные моменты! Вот в... как там? В наступлении лета, в запахе ландышей, в полете ласточек... Вот в таком разговоре...
— Согласен... приятно побеседовали...
— И мне тоже приятно... А можно?
— Что?
— Да вот вопрос вертится некультурный.
— Валяй.
— И на много повысили?
— Что?
— Ну... Нули-нули.
— А-а-а! Так это же... вжик-вжик было напрасно!
— ...
— Правду говорю! В глазах у меня от напряжения марево встало, начало двоиться! Показалось! Дома пересчитал... Ну, это когда от обморока отошел... А там вообще меньше... Урезали. Вжик-вжик и это... сзади... всё зря! Я видел то, что хотел увидеть и, представь... Не тогда, когда хоть в петлю, а вот сейчас, нисколечко не расстроился! Ну, ни на грамм! Какое уж тут расстройство? Оно, когда время прошло, всё по-иному смотрится...
— Представляю...
— Ага! Раньше опасаешься по мелочам всяким... Теперь же нет. Теперь чего опасаться? Кого? Да пусть меня боятся все! Я ведь уникальный! Единственный! Эндемик, так-растак! А остальное... Всё уйдет... Всё суета сует... суета сует... суета сует...
— ...
— Давай спать.
— Давай.
Два столба света постепенно гаснут. На сцену наступает тьма"
Дочитав до конца, Антонина Петровна аккуратно сложила листы и спрятала назад в боковой карман рюкзака. Чтобы собраться с мыслями и понять, что же ей делать дальше, Тоне пришлось вернуться в дом и выпить стакан настойки на волчьих ягодах.
9 Продолжение банкета
Томаса душили кошмары. Всю ночь напропалую дебелые молодцы с гитарами, девицы с синюшными рожами и милиционеры в женских колготках топорами кромсали спелые астраханские арбузы; звери дикие — настоящие нахахали-выхухоли — перед ним, вокруг него водили хороводы, орали песни и хихикали. Во сне колья, ямы и овраги перегораживали дорогу, развешанное на веревках заляпанное грязью белье хлестало его по лицу, пыль разъедала глаза, болотная жижа липла к сапогам, засасывала. Было тошно, страшно и только одно место во сне радовало. Он видел, как с неба упал столб света. Вокруг освещенного круга клубился едкий туман и чем дальше он был от круга, тем плотнее. В темноте пряталось что-то липкое, смердящее мускусом и серой, потное, не имеющее четких очертаний, обезличенное. Оно вертелось, кружило, порыгивая, покрякивая, посвистывая и сплевывая в щербинку между редкими зубами. Чешуйки терлись, волосики топорщились, глазки щурились от света, потому как этот миллионоголовый безликий-обезличенный знал, что вход в центр белого столба ему заказан. Мерзости, при всей её способности всё отравлять вокруг, было не под силу подчинить обыкновенный белый луч. Тихоня во сне понимал: в белом хорошо, покойно, а вокруг бардак, грязь и вой. Он стоял на самой границе между щиплющем кожу туманом и незамутненным небесным потоком. Ему так хотелось попасть в белое, так хотелось... Но...
Проснулся и не поморщился. В этот раз Томас не стал обращать внимание на раскалывающуюся голову, ноющий пустой желудок. Он понимал, что эта боль — ничто по сравнению с той зеленой безнадегой, которая вернулась, чтобы снова вгнездиться в его темя и виски,намертво переплестись с ребрами, позвоночником и закрыться его лопатками от мира. Томас знал, что сон здесь не причём. Всё началось гораздо раньше, просто встряска чистенькими освободила дремавший в нем вирус, подтолкнула и помогла расцвести болезни во всю силу. С сожалением подумал, что это только первые симптомы. Рано или поздно, но на него снова накатит. Поэтому надо срочно искать противоядие!
...Чертыхальски очнулся в момент, когда шел по улице, машинально переставляя ноги. Остановился. Всё — конец. От чего бежал, к тому и пришел. Спешил в Городок, убегая от паники, одиночества, и надо же — помогло. Первые дни как в сказке, словно в другую страну попал: всё новое и в тоже время такое знакомое. Старые серые улицы расцвели магазинчиками, вывесками, рекламой, как во времена НЕПа, только ещё краше. Деревья вымахали до неба. Странные люди — те и не те — неожиданные знакомства, разговоры... Страх отступил, но не прошло и двух недель — снова накатила тошнота. Почему так быстро? Неужели Леся виновата? Почему нет? Красивая, нежная, без претензий и желания подмять под себя. Независимая, умная. Ему такие женщины всегда нравились. Другой и не посмотрит, а ему в самый раз.
Хе-хе! Внутри сидит всезнайка и подсказывает: «Не обольщайся!». Леся-Олеся оттягивала приход, сколько могла. Она здесь совершенно не в теме. Всё просто. Забивай себе голову мусором фантазий, выдумывай загадки, тешь самолюбие и гордыню, всё равно ты не в силах оттянуть визит его величества Страха. Неважно, какая причина, что сыграло роль камушка, снёсшего дамбу — этот мерзкий Царь явился без спроса и вступает в свои права...
Не в первый раз... И не в последний. Сколько времени осталось до конца? Ты ж смотри — ребра сводит от одной только мысли о декабре... Четыре месяца с хвостиком. Почему так быстро летит время??? Только недавно, в четырнадцатом году, на Конторской улице открылся клуб «Банакер», и вот на тебе — двадцатый век ласты клеит. В «Банакере» Томас впервые в жизни увидел фильму. Он тогда квартировал на Дробиловке — поселке самогонщиков. Чтобы посмотреть, как жуки-усачи будут воевать с рогачами, целый час трясся в телеге по раскисшей от весенней распутицы дороге. Эти глупые воспоминания... Томас подумал, что они, как лопасти ветряной мельницы. Кажется, чертят воздух высоко над тобой, уже и забыл про них, но чуть зазевался, и вдруг опускаются, чтобы со всего размаху дать по макушке... Жизнь пролетела! Сейчас-то понимаешь, что загаданное им желание не случайно, оно было на тот час единственно возможным. Никакой он не вершитель мира. Скорее орудие, ибо вершитель сам принимает решения, а он — обычный инструмент, которым попользовались, и выбросили.
Что теперь? Приятно себя осознавать пустышкой? Полным нулем? Эта мысль неоднократно приходила к Томасу и ранее, но он гнал её далече, и вот сейчас Чертыхальски вдруг почувствовал, что его снова втягивает в прорытый кем-то фарватер. Как ни отбивался, как не прятался, а спутало в силках, вскружило. Гони не гони эту обидную мысль, всё равно вертается. Вершитель-оружие? Он — мотыга-уступ-саперная лопатка, только и всего. Пустота. Кислота. Рябь в глазах.
Томас готов был сесть в первую попавшуюся машину и рвануть, куда дорога поведет, и так бы и сделал, если бы был уверен, что поможет, но... Ему не дадут — коготок увяз. Даже если будет сопротивляться, станет ещё хуже.
Чертыхальски брёл по улице, шаркая подошвами туфель по асфальту, автоматически реагируя на знаки светофора. В глазах тлеют болотные огоньки, капли пота стекают по спине. В левом ухе противно звенит. Сильнее, чем вчера.
Томас в очередной раз остановился возле пустого перекрестка. Посмотрел налево, направо. Хотел вступить на дорогу, как вдруг перед ним остановилась двадцать четвертая «Волга». Черная. Из машины вышел водитель. Высокий, широкоплечий. Много раз сломанные хрящи ушей. Перебитая переносица неправильно срослась. Кавказец.
Приобняв Томаса за плечо, водитель сказал:
— Дорогой, поехали с нами. Тебя ждут хорошие люди.
Тихоня подчинился. Сел в машину и бездумно уставился в окно. «Волга» какое-то время петляла по переулкам и через минут пятнадцать остановилась у знакомого Томасу дома, у того самого — заросшего амброзией. Водитель перевалился через спинку кресла и открыл Томасу дверь — мол, иди. Тихоня выбрался из машины и, переставляя налитые свинцом ноги, направился к крыльцу.
Три старые рассохшиеся давно не крашеные ступени. Две палки, к которым когда-то были прибиты перила. Взялся за ближнюю «тросточку», оперся и медленно, как старичок, взошёл на первую ступеньку. В этот миг Томаса прошибла догадка: «Как в церковь поднимаюсь!». Вот в Ревеле было проще — там в древних соборах надо спускаться вниз, это веселее...
Вторая ступень.
Мысли летучими мышами разлетелись во все стороны. Неужели он прожил сто лет? С виду парубок хоть куда, но если бы нагнал прожитые годы, стал бы похож на древнего мухомора-лесовика. Может, поэтому ноги не гнутся и в коленях слабость? А вдруг вот прямо сейчас он постареет? Войдет в комнату, поздоровается и, как в кино показывают, за минуту высохнет, превратившись в мумию? Вот смеху-то будет!
Третья ступенька. Мокрая тряпка. Порожек.
Костяшками пальцев ударил дверь — та со скрипом открылась. Вошел в прихожую. Побеленные когда-то стены у потолка черны от сажи. Паутина. Небольшое окошко без штор. В углу шкаф времен 1812 года и за ним канцелярский стол, усыпанный всяким хламом. На грязном полу валяются ржавые запчасти двигателей, свечи, форсунки, корпус стартера, несколько труб, батарея — маленький склад собирателей металлолома. Воняет лаком и старой краской.
Переступив через покореженный карбюратор, Томас пересек прихожую и потянул на себя тяжелую оббитую остатками войлока дверь. Вошел в дом. Светлая комната. Выцветшие на солнце желтые как бы обои; усыпанный мусором, асбестовым крошевом и песком дощатый пол, прогнивший потолок в разводах, но первое, что бросилось в глаза — печь. Чугунные плиты сняты, кирпичная кладка осыпалась, и Томас увидел нутро дома: место, в котором когда-то горели угли, обогревая и кормя живущих здесь людей. Сейчас очаг был похож на дырку от вырванного зуба.Старые кирпичи, потрескавшаяся штукатурка на трубе, почти белая зола и раскрошившиеся угли — всё это, как свидетели в суде, указывало, что жилище, в которое пригласили Томаса Чертыхальски, мертво.
У раскрытого окна на кривых ножках стол, застеленный древней, недавно отмытой клеёнкой — на ней ещё видны свежие разводы. Бьющие из окна солнечные лучи малюсенькими светлячками пересекает пыль. Две девушки сидят за столом, сложив руки перед собой, как примерные школьницы. Одна совсем молоденькая, худая, с черными тенями под глазами. Не выспалась, что ли? На голове черный платок, повязанный на старушечий манер, с параллельными складками на висках. Без косметики. Смуглая кожа, большие карие глаза. Вторую девушку Томас узнал — это была та самая «попадья» со страшными глазами. Такой же черный платок, темно-синяя кофта с длинными рукавами в мелкий горох и, Томас готов был ручаться, под столом пряталась длинная, опять же черная юбка. Она сидела, опустив голову, скрыв лицо так, чтобы были видны только её длинные ресницы и кончик носа.
На клеёнке лежит стопка «Донецкого Кряжа», пара ручек и новенькая раскрытая школьная тетрадь. Белый чистый прямоугольник выделялся на фоне неопрятной комнаты, приковывал к себе взгляд, как бы крича: «Лучше на меня смотри, а не по сторонам: в доме паутина, хлам, запустение, в шкафах рай для моли, а нетронутая чистая бумага — это портал в новое измерение, где оживают сны, где день беззаботен и легок; там зимняя нега и плед у камелька, чай в граненом стакане, писк синиц у кормушек и шум ветра в кронах акаций».
Шепот белых листов стих и в воображении Томаса вдруг мелькнуло дикое видение: вот девки сейчас закроют тетрадь, вскочат на стол, захохочут, засвистят, закричат пьяно: «Ге-гей! Не угадал, не угадал!», — подол задерут, показывая срамные места и, схватившись за руки, подпевая, начнут здесь же, на столе, плясать канкан, пока от тряски ножки не подогнутся, и они с хохотом не упадут на грязный пол...
— Добрый день, а мы вас ждали. Проходите, пожалуйста, — сказала девушка, указывая на стоящий в углу табурет.
Когда первые слова были произнесены, разум Тихони прояснился, глупые образы исчезли, и в голове всё встало по местам. Существует только здесь и сейчас.
— Добрый день, — ответил Томас, подумав, что вежливость — это добродетель хорошего гостя.
Царапая ножками пол и, оставляя в пыли полосы, подтянул табурет. Поставил не вплотную к столу, а так, чтоб было место для маневра. Присаживаясь, забросил ногу за ногу, скрестил руки на груди и сказал с насмешкой:
— Вот не думал, что еду к двум барышням. Могли б предупредить, цветы захватил бы, бутылочку вина, фрукты.
— Мы вас пригласили не для этого, — ответила девчонка.
— Почему?
— С такими как вы, мы не пьем.
Томас удивился.
— Это ещё почему? Лицом не вышел? Или манерами? По-моему, это у вас с ними не очень. Я имею в виду второе, — добавил Тихоня. — Вы меня приглашаете, можно предположить, что знаете, как меня зовут, кто я, а сами не представляетесь.
— Вы — Томас Чертыхальски, известный также как Тихоня, — сказала девчонка. — Проходимец, развратник, шарлатан.
— Даже так? — брови Томаса непроизвольно поползли вверх. Странно, но ему было неприятно слышать такую оценку от молодой и симпатичной особы.
— Я, — Натаван. Это моя сестра Кристина.
Томас подумал: понятно, приезжие. Вот тебе и примета времени — вернулся домой, а тут инородцы ловят и старым бельем в нос тычут. Нехорошо это, неправильно, несправедливо.
— Если вы такого низкого мнения обо мне, то зачем пригласили? Пристало ли девушкам принимать у себя дома развратника? Вы знаете, что Казанове нравилось общаться с двумя барышнями? Он считал, что двух легче склонить к близости, чем одну. Не боитесь?
— Казанова давно горит в пекле. Там и вас заждались.
— С чего это? И кто меня туда отправит? — рассмеялся Томас. — Уж не вы ли? Это первое. Второе, вы хоть имеете представление, о чем говорите?
Подруга «попадьи» нахмурилась, успела сказать: «В Библии...», — но Томас поднял руку, погрозил пальцем и, повысив голос, отчеканил:
— Ми-ну-точку. Не стоит при мне упоминать эту книгу, хотя бы из уважения к себе. Библией меня не пронять. То, что написано людьми, пусть люди и слушают. Там есть про рай и ад — людишкам нравится. Только не надо мне угрожать тем, что совершенно не страшно. Отправить туда, не знаю куда? Хороший разговор у нас получился.
Томас встал.
— Разрешите откланяться. Знаете ли, дела.
«Попадья» начала что-то быстро писать в тетради.
Натаван скосила глаза.
— Моя сестра просит вас остаться.
— Зачем?
— Она хочет предупредить.
Томас рассмеялся, но смех получился наигранным — он сам это чувствовал.
— О чем?
Кристина вывела в тетради одно слово. Крупными буквами.
Натаван прочитала:
— Смерть.
Томас невольно сел на табурет.
— Девчата, вас не понять. Одна грозит отправить подальше, вторая отсрачивает командировку. Вы как-то разберитесь между собой, чего хотите.
Кристина быстро выводила строки, царапая бумагу. Натаван читала:
— Вам угрожает опасность. Вам желают смерти.
Томас начал злиться.
— Деточка, я последние сто лет живу с топором над шеей. Меня резали, я тонул. Три раза. За моими плечами пять автокатастроф, семь завалов и медведь-шатун с бешеной росомахой в придачу. Мне на роду записано погибнуть молодым, но как-то выжил.
Натаван улыбнулась.
— Это цветочки, по сравнению с тем, что вас ждет впереди.
— А вам-то что с того? И вообще, кто вы такие?
Девушка опустила глаза, и ответила:
— В этом мире у каждого из нас свой путь. Кто-то его находит, кто-то нет. Умные понимают, куда идти, а глупцы до самой смерти плутают. Иногда попадаются упрямцы, которые видят свою тропу, однако не хотят на неё ступать. Вот тогда являемся мы.
— Стрелочники? — спросил Томас.
Попадья написала Мы — друзья.
Тихоня горько усмехнулся.
— Это даже не смешно. Ладно бы старец козлобородый... Посмотрите на себя. Кому я должен верить? Двум девочкам? Притом, что одна молчит.
— Ваша ирония здесь неуместна. Моя сестра немая, — отрезала Натаван.
Томас открылся, посмотрел. Следов присутствия греха нет: вокруг фигур и над женскими головами воздух был густой и подвижный, зыбкий, как марево, поднимающееся над раскаленным асфальтом. С подобным Тихоне встречаться не доводилось.
— Хорошо, а можете изъясняться яснее? Кто вы?
— Мы друзья. На нашей родине сейчас война. У нас горе. Нам помогли, а теперь мы хотим помочь вам, предупредить вас.
Томас снова забросил ногу на ногу — перед этими чистюлями Чертыхальски хотелось вести себя как можно развязнее.
Посмотрел с прищуром на парочку. Натаван — пустое место, главная не она. Кристина... Вот кем его пугал в сквере тот, болезный... Томасу больно смотреть на неё. Он помнил их первую встречу, её тяжелый взгляд и его последствия. Именно эта сука не позволила, как надо настроиться на Катю-Катерину. Сейчас с первой минуты нахождения в комнате, Тихоня вообще не поднимал глаза выше её груди. Лицо притягивало, но он боялся на неё смотреть, словно знал, что тут же последует наказание.
Надо пересилить себя. Внутренне сжался, как перед ударом бича, и...
Как бы тут подобрать нужные слова? Все-таки я сторонний наблюдатель и вижу не полную картину, но только отражение чужих мыслей. Я, как та губка, которая впитывает всё, что расходится волнами по эфиру или синий кит, фильтрующий тонны воды в поисках малюсенького планктона. Я не помню весь спектр переживаний Тихони — слишком многое на него и на меня тогда обрушилось, сложно передать нюансы.
Что я тогда почувствовал?
Нет, не так...
Что я мог тогда почувствовать?
Кто-то может описать страдания заживо сгорающего человека? Можно ли, к примеру, ведром накрыть взрыв фугасного снаряда? А если можно, то какими словами потом все это передать?
Вы в силах? Я — нет. Не требуйте невозможного...
...Вот теперь на Томаса накатило по-настоящему: сбило столбом света с ног, придавило, спалило, расплющило...
10 В начале было слово?
Очнулся Томас не скоро. Лежа на полу, уткнувшись лицом в тряпку, неудобно подвернув руку. Сознание медленно возвращалось, но тело отказывалось подчиняться. Звон в ушах. Глаза печет, словно в них плеснули кислотой. Так, наверное, чувствуют себя люди, отходящие после наркоза: вата в ушах, вата во рту, вата в мыслях. Руки-ноги затекли — не пошевелиться. Дышать тяжело — живого места нет. Нечто подобное с ним было, когда на Саянских Столбах упал и сломал четыре ребра. Тогда неделю отлеживался.
Вдруг откуда-то издалека послышался голос Тони. Подошли люди, подняли его, понесли. Голова Томаса беспомощно качалась на ходу. Он шептал: «Я видел, видел», — но никто не обращал на него внимания, не замечал движения потрескавшихся губ. Он попробовал закричать — не вышло. Томас с досадой подумал, вот и хорошо, не сейчас — он для этого был слишком слаб — но когда-нибудь обязательно расскажет о своем приключении. О том, как он искал встречи со светом, с этим столбом из сна, и вот нашел... Теперь он точно знает — есть ещё сила в этом мире, такая же по мощи и одновременно по легкости. Не картонный крест и купель с якобы святой водой, не глупые сотрясения воздуха, не дутые пустые символы. Изведанная им сила легко способна победить тоску, страх и стыд. Если Томаса, не такого уж и слабого, можно прибить одним только взглядом, то что станет, когда ОНО скажет СЛОВО?
Томас почувствовал, как Антонина Петровна положила руку ему на лоб. Она что-то говорила, но что — он не мог разобрать. Тихоне стало тепло, как будто избу с утра засыпало снегом, сквозняки перестали носиться по полу, и жар от печки, наконец, его окутал, убаюкал, сделал добрее...
Перед тем, как выйти на полустанке сна, Чертыхальски понял, что сегодня он испытал настоящее незамутненное счастье, любовь и благодарность. Всё вместе. Одновременно.
11 О Природе
Очнулся Томас на чердаке цыганского дома. Поднял голову — никого. Его уложили на кровать, укрыли стеганым одеялом без пододеяльника, окно открыли, шторы опустили и ушли. Тихоня вдруг почувствовал себя маленьким больным мальчиком. Взрослые дали лекарство, уложили спать, а сами сидят в соседней комнате, шепчутся и переживают. Эта мысль его позабавила. Тихоня лежал и смотрел, как в пробивающихся между штор солнечных лучах летает пыль. Слушал, как по-домашнему уютно стрекочет сверчок, поскрипывают доски. Он заметил, сколько звуков окружает его. И почему раньше не обращал внимания? Прислушался к шелесту листьев, шуму ветра, далекому дребезжанию трамвая, сигналам автомашин...
За окном в переплетении ветвей абрикосового дерева летают скворцы — блестящие грудки, острые клювики.
Шмель пролетел.
А краски? Сколько красок вокруг! Оттенков...
Старое одеяло... Синее...Как платья у девочек, танцующих кадриль на маевке из далекого прошлого...
На пыльном подоконнике стоит алая звезда для новогодней ёлки. Стены побелены. Ржавые гвоздики и светлые квадраты — наверное, здесь когда-то висели иконки.
Паутина в углах... А люстры нет — только провода торчат.
Сколько он спал? Наверное, уже позднее утро...
Так не хочется вставать...
А запахи?! Комнатушку переполняли ароматы пыли, лаванды и эвкалипта, сушеного укропа и мяты. Здесь пахло молодым вишневым вином, женским кислым потом, коноплёй, сухой ромашкой, старой бумагой, дрожжами, семенами дыни, собачьей шерстью, прелой ватой — это от одеяла, снова пылью... Как же хорошо... Томас сладко зевнул. Ему хотелось ещё чуть-чуть понежиться в постели...
Очнулся под вечер. Рядом на кровати, обняв его, посапывала Леся. Тихоня пощупал свои ребра, грудь, лицо, макушку. Вроде все в порядке — голова на месте, ничего не болит, во рту только пересохло. Томас только подумал, что было бы неплохо проверить, а точно ли всё в норме, как Леся вдруг открыла глаза. Прошептала:
— Мне такое наснилось... Берегись...
Наверное, ей тоже захотелось узнать, в каком состоянии пребывает её мужчина.
Через минут пять, запыхавшиеся и мокрые от пота, они лежали «вальтом» на смятой простыне.
— Ну, ты... меня... и напугал... Я уже думала — убили.
— Не дождутся.
— Мы по магазинам, как вдруг срываемся и за тобой, — сказала Леся, доставая из-под кровати бутылку с минералкой. — Она к нам перебралась вместе с Катей. Говорит, теперь за тобой глаз да глаз нужен. В доме поселились, а я наши вещи сюда перенесла. Лестница крутая — не набегаешься, но всё равно хорошо.
Передавая друг другу бутылку, выпили воду.
— Смотри, какая красота, — сказала Леся, растопырив пальцы. На среднем тускло блестело золотое кольцо с камнем. Она включила ночник, и алмаз, отражая электричество, вспыхнул.
— Не люблю, — поморщился Томас. — Колются.
— Кто?
— Камни. Словно в глаза иголки втыкают. Неприятно.
Леся видела, что Тихоня говорит искренне. Она могла бы пошутить, что ты сначала подари, а потом зажмурься или надень очки, но промолчала. Томас мог купить сто камней — от него не убудет — вопрос, надо ли ей? Леся сейчас вдруг поняла, что ей от него ничего такого не надо... Был бы он только жив и здоров.
Положив голову Томасу на бедро, спросила:
— Лучше расскажи, с кем ты там озорничал.
Тихоня задумался.
— В два слова не уложишься... Хотя, нет, есть эти слова. Я теперь знаю, что ад существует. Железно.
— Да?
— Да. Потому что я узнал, что такое рай. Когда вы меня нашли, что удумали?
— Ну... всякое. Петровна осмотрела, говорит, все в порядке.
— Это как сказать, — ответил Томас. — А я думал, что помираю.
Леся поднялась на локте.
— Мучили?
— Не-е-е, наоборот. Так было хорошо!
— Как со мной?
— По-другому, — ответил Томас, прикрыв глаза. — С тобой взбираешься-взбираешься, потом за несколько мгновений летишь вниз. А там я долго был на вершине и никуда не падал, ни о чем не жалел. Так в жизни не бывает. Это беспримерное тотальное ощущение счастья, от которого забываешь всё на свете, и теряешь сознание. Абсолютное, катастрофическое, всеиспепеляющее...
— И ты хотел поделиться им со мной, — прошептала Леся, прижимаясь щекой к ноге Томаса.
— Хотелось поймать его отражение...
— Удалось?
— Может быть... Но это всё равно греховное, а там... Чистое... Странно. На полу в заброшенном доме, рядом с развороченной печкой я словно побывал в раю...
Они провалялись на кровати до самого ужина. Кое-как оделись и пошли на веранду. Катя накрыла стол по-простому: подала тушеную курицу с гречкой, обильно посыпанный луком салат из помидоров и огурцов, тонко нарезанные ломтики сала, малосольную селедку и бородинский хлеб. В центр поставила запотевшую, со льда, бутылку из Тониной алхимической лаборатории. За столом собрались четверо — Ваня Сопля уехал на Оскол, и утром должен был вернуться.
Томас почувствовал, что за последние дни Петровна с Олесей успели если не подружиться, то, как минимум, хорошо познакомиться. Они разговаривали так, словно знали друг друга давно. Тоня с удовольствием опекала девушку, ей была приятна её компания. Между ними появилась та осязаемая степень доверия, которая иногда бывает только между родственниками. Пустым людям такие кольца не дарят, подумал Томас.
Баронесса уселась во главе стола. Китайское шелковое платье с драконами и такой же ткани косынка. Довольная, не с поджатыми губами, а с улыбочкой. На Лесю не фыркала, а по-доброму подначивала, мол, съешь лимона — морда сильно довольная; чего за стол в одном халате выперлась, хоть бы ночнушку надела. Олеся лениво огрызалась...
Когда, наконец, Катя села за стол и наполнили рюмки, Антонина Петровна произнесла тост:
— Я хочу выпить за то, чтобы в нашей жизни страхи оставались только у нас в сердцах и никогда не превращались в реальность. Я пью за тебя, Томас, образина ты непутевая. Испугал, гад, до коликов... Думала, что изменила тебе удача — оказался не там и ни в то время. Но обошлось. Вот за это и выпью. От всего сердца. За тебя и твою планиду, и пусть светит она ещё сто лет.
Томас прокашлялся.
— Это слишком. Вот годик будет в самый раз.
— Не прибедняйся, — поддакнула Катя. — Закон преферанса знаешь? Жалься и карта попрет.
Чокнулись, выпили.
— Попробуй селедочки, сама солила, вку-у-усная,— сказала Катерина, подвигая тарелку.
— Погоди со своей селедкой. Ты лучше скажи, чего поперся в этот дом проклятущий? Один раз зацепило, зачем снова нарываться?
— Откуда знаешь, что я там уже был? — спросил Томас.
— Работа такая. Но знать и влиять — разные вещи. Раньше просто наблюдала, а теперь хватит. Ни шагу без моего ведома. Вон, сегодня телеграмму принесли, посмотри.
Баронесса пододвинула лежащий на скатерти конверт. Томас достал из него открытку. На обороте, как в советские времена были наклеены полоски бумаги со словами: «будьте осторожны тчк соловей ругается тчк продержитесь до 30 тчк».
— А сегодня какое число?
— Двадцать седьмое, — ответила Катерина.
— Это я целые сутки провалялся? — присвистнул Тихоня.
— Получается.
— Выходит, номер «первый» пролетает окончательно? Не успею?
— Да ты плюнь на них, — пропела баронесса, — они ж ведь, суки, буйные... — И, обращаясь к Олесе, пояснила: — Я ему работенку подкинула, чтоб скукой не маялся, а то знаю, если Тихоне не организовать приключения, он их сам себе придумает. А у меня городок тихий, спокойный, мне его гусарства не трэба — и так проблем хватает.
Томас поморщился, потянулся за бутылкой.
— Да не собирался я ничего устраивать.
— Это как посмотреть.
— Люди меняются... — вздохнула Катя.
— Они никогда не меняются, — отрезала хозяйка. — Вот мы — да! Мы можем себе позволить сегодня быть добрыми, а завтра не очень. Мы такими рождены и нас не перевоспитать. Мы свободные, а они... Чего уставилась?
Антонина Петровна посмотрела на Лесю, уперев руки в боки.
— Больно слушать? Вы рождены в любви, добре. Когда у мамки в пузе плаваете, разве вам там худо? Или в яслях-школах учат воровать, завидовать, насильничать, убивать, наконец? Вы рождаетесь чистенькими, но такая уж ваша порода. Чем старше становитесь, тем безобразнее. По образу и подобию?Ха!
— А вы? — Леся тоже подняла голос. — Вас что, не матери родили?
Антонина Петровна, наколов на вилку кусок помидора, ответила уже тише:
— Нас не ровняй, нам на роду было написано. Ты бы на Томаса посмотрела в малолетстве — сущий анцыбал. Попал в класс к таким оторвам, что ужас! Но не затерялся — наравне с первородными шел. Если бы не глупость наших правил, хорошую бы карьеру сделал. А я? У меня в роду кого не возьми — коадъютор или примас, бароны, баронессы. Но как родилась, сразу получила клеймо — «чортово отродье». Вот с тех самых пор я сама по себе и вы сами по себе.
— За что вас так? — прошептала Леся.
— Какая разница! — встрял Томас, переживая, чтоб Тоня не сказала чего лишнего.
Баронесса, не замечая его предостерегающего взгляда, вскинув голову, ответила:
— Гении рождаются наперекор природе и ничего — человечество терпит. Так и мы, и нас стерпит. Ладно, хватит об этом, у меня сегодня хорошее настроение и не стоит его портить глупыми разговорами о Природе. Томас дома, жив-здоров, всем пруссакам на зло.
— Слушай, на выставку-то меня отпустишь? — вспомнил Тихоня. — Уже завтра.
— К Сермяге? Вот когда Иван вернется, тогда валяйте, — милостиво разрешила Тоня. — Всё, наливай ещё по писят.
12 Князь
Финита и комедия пришли не в тот момент, когда над Городком-на-Суше пути звезд заплелись в сумасшедший по своей сложности узел, нет — это всё мелочи. Конец истории настал 27 августа 1999 года в миг, когда с последними лучами солнца границу городка со стороны Артёмовска-Бахмута переступил некий гражданин. Одет он был, как инженер в отпуске: застиранная футболка с эмблемой хоккейного клуба «Сокіл» Київ, шорты хаки с кучей карманов; на плече — недавно сломанная, струганная, ещё пахнущая арбузами ветка тополя, на которой сзади раскачивалась плетеная корзина с матерчатым мешком внутри. По лопаткам путника хлопала соломенная шляпа — скорее всего она в полдень спасала гражданина от солнца. На поясе — «волкмен», наушники висят на потной шее. Позади ходока понуро брела дворняга, которую гражданин покормил ещё утром. Собачка привязалась, но за дневной переход успела выбиться из сил и сейчас ждала удобного момента, чтобы сбежать.
Товарищ был бос. Он бодро шаркал дублеными пятками по мягкому, не успевшему остыть асфальту и улыбался. Ему было приятно ощущать, как в вырез футболки забирается пахнущий степными цветами ветерок, как он ласкает загоревшее лицо, перебирая кудряшки в курчеватой бороде. Он радовался мысли, что, наконец, дошел до места, куда так стремился. Что его никто не ждет, и как все удивятся его прибытию. Сюрприз будет на славу! А он очень любил делать сюрпризы...
О возрасте гостя ничего не могу сказать точно — как-то ускользнуло от меня. В один миг показалось, что путнику было лет 20, а потом вдруг выскочили цифры сто двадцать, две тысячи двадцать, и в голове начался такой ералаш, что я перестал гадать.
Гость в дом — счастье в дом, не зря так люди говорят, но этот гражданин... Ой, не хотелось чтобы к вам пришел такой гость. Я, как многие из вас уже догадались, лишен всяких сантиментов. Некоторые, в свое время, меня даже называли... вредным, что ли... Но такого гостя я вам не желаю...
За четыре дня до смерти августа, поблескивая бифокальными стеклами очков, в Городок явился Князь.
13 Арбузные корки
Тем утром Томас проснулся в добром настроении — если что и снилось, всё забылось. Принял душ, позавтракал, примерил купленные Лесей обновки, и сел ждать пока Ваня приготовит машину: он затемно приехал с Оскола, чуток пьяненький, довольный и с хорошим уловом. Леся отказалась подниматься, хотела дольше поспать.
День шахтера официально празднуется в воскресенье, но мероприятия проходят на протяжении всей недели, поэтому Иван Сопля в то утро надел свой лучший костюм. Как-никак собирались в музей на выставку художников.
Загрузились в старенький «Опель». Пропетляв по улочкам цыганского хутора, выехали на проспект Ленина, но до места так и не добрались...
На пересечении улиц Гагарина и Пушкинской в машину Вани вдруг врезался старенький «зилок» с будкой. Сопля, красный от переполнявших его чувств, вышел из машины и пошел разбираться к безглазому тупому дебилу, который купил права на блошином рынке.
Открыл дверь грузовика...
Ему было что сказать, но Иван Самохвалов сначала хотел услышать извинения! Вот только вместо «простите» он в лицо получил разряды дроби. С двух стволов сразу. Его голова взорвалась, как спелый арбуз.
Услышав выстрел, Томас обернулся и заметил, что к его машине со всех сторон подбегают крепкие одетые во всё черное ребята. Они распахнули двери, схватили Тихоню за плечи и волосы, вытащили на асфальт. Томас не успел дернуться, как получил удар по почкам. Ему завели руки за спину, подняли и понесли к будке «зилка». Ни дать не взять — кража невесты. Когда Томаса забросили внутрь будки, там его уже ждали. Надев ему на голову черный мешок, начали волтузить кулаками и носками ботинок. Экзекуторы взяли бодрый темп и не снижали минут десять, пока «зилок» не остановился. Створки будки открылись и изрядно помятого Томаса вытолкнули на дорогу. Он не кошка, на лапы падать не умеет, но всё же Тихоне посчастливилось свалиться на бок.
Мешок сняли.
Тихоня прищурился, попытался вздохнуть — не получилось — резануло в боку. Хотел поднять голову осмотреться — не смог. Боль так сковала тело, что пришлось бессильно уткнуться лицом в дорожную пыль. Кровавый ручеек, обрастая серой корочкой, потек изо рта на землю.
— Привет, Чертыхальски.
Томас услышал над собой знакомый голос. Этот голос заставил его забыть о боли и найти в себе силы приподняться.
— Посадите его.
Тихоню подтащили к машине и прислонили спиной к колесу.
Перед ним — широко расставив ноги, руки за спину — стоял Фф.
— Ну, что, свиделись?
Томас огляделся. Перед ним свежескошенное широкое поле с маленькими домиками на горизонте. Позади зеленая стена деревьев. Сидел же он на проселочной дороге. Догадался: скорее всего, завезли за «Красный партизан».
— И что это было? — спросил Томас. Ему хотелось задать вопрос спокойно, уверенно, но не получилось — мешала кровь, заполнившая рот. Закашлялся, про себя проклиная всё на свете: малейшее движение молниями отдавалось в боках.
— Что было? Вторая попытка знакомства.
Тихоня сплюнул. Пошарил языком — недосчитался пары зубов с левой стороны. Правша бил.
— Тогда при чем здесь Ваня? Его за что?
— Водитель? А это для науки, чтобы сразу понял — валандаться не будем.
— Переборщили. Я — пацифист.
— Не прибедняйся.
— Ладно. Хватит, — поморщился Томас и, не разлепляя глаз, спросил: — Шо надо?
— Не веришь — ничего, — ответил Фф. — Просто решил ещё раз посмотреть без лишних свидетелей, как говорится, вблизи, каков он из себя... Томас. И, чего скрывать, хочу чуток помучить, а то несправедливо получается. Надо мной можно куражиться, а над Чертыхальски нельзя?! Добро должно быть с кулаками.
— Это ты-то добро, шелудивый? Ты — никто. Падаль.
— Обижаешь, я ведь тебя не оскорблял, — ухмыльнулся пастор и в провале его рта тускло блеснули металлические коронки.
— Ты же — пёс, даже хуже — сука. Все вы одним дерьмом мазаны, выскочки.
— Разве? Тогда почему я банкую, не скажешь?
— Для меня вечер мудренее.
— Хм, — черты лица пастора исказились, проскользнуло что-то хищное. — Надолго ли тебя хватит? Ты лучше скажи, чего поперся в такую даль? Сидел бы себе в Куеве, дрочил помаленьку на свои графики, а то приехал — напаскудил, хорошим людям помешал.
— Судьба.
Фф вдруг незлобно ругнулся:
— Откуда ты такой только взялся?
— Из табакерки.
— Ладно, хватит. Прощай.
— С чего это?
— Сейчас умирать будешь, — по голосу было слышно, что пастор не шутит.
— Хе-хе, а вот это дудки, — ответил Томас.
— Почему?
— Сегодня не Новый год.
— Причем тут Новый год?
Тихоня себя еле сдерживал, чтобы не застонать. Рядом с этим Фф было тошно не то, что разговаривать, думать! Все же пересилил себя, посмеялся:
— Вот что меня в вас бесит, так это ваша тупость. Ни хера вокруг себя не видите, не знаете, не интересуетесь. Ну, были у тебя тут свои дела, так хоть бы узнал, чем этот город славен, кто здесь живет и кто иногда гостит. Ох, дебилы... Пошел на хер, еблан.
— Не понял?
— Ты даже не догадываешься, во что вляпался, ебанько. Я не могу умереть.
— Кощей, да?
— Ага.
— И смерь в зайце?
— В сундуке...
Фф вывел из-за спины правую руку — блеснула сталь.
Полыхнуло огнем.
Сначала Томас увидел,как подпрыгнула его нога, задымилась ткань на брюках и в том месте, где было правое колено — образовалась дырочка. Боль пришла чуть позже. Странно, но он не почувствовал её так как должно быть. Пришла мысль: наверное, это шок, и по-настоящему больно станет через пару секунд. Он смотрел на простреленную ногу. Заныло, закрутило, словно на погоду и всё — терпеть можно.
Пастор не смог скрыть разочарования:
— Марку держишь — даже не пикнул. Молодца... Ты лучше, херой, скажи, зачем Андрюшу сгубил? Такой хороший человек был.
— Какого Андрюшу? — Тихоня поднял глаза.
— Сермягу.
— Что с ним?
— А ты типа не знаешь?!
— Нет.
— Я честно признаюсь, думал, что ты ехал позлорадствовать, порадоваться.
Томас нахмурился.
— Ты о чём?
— Застрелился Андрюша! Сегодня утром. Засунул пистолет в рот и всё — нет больше нашего таланта. Какая же ты сволочь! Только за одно это тебя надо повесить на крюк и костер развести, чтобы мясцо подвялить. А ещё лучше живьем закопать. Ты говоришь, что умереть не можешь? Вот и спрячу тебя в землице, а в могилу шишек еловых насыплю, чтобы мягче лежалось. Читал, у вас был такой обычай, так колдунов хоронили. Слушай, а это идея! И никто не найдет.
— Тебе б в Инквизицию, — сказал Томас устало.
Фф посмотрел на часы.
— Ладно, поздно уже, — вывел из-за спины вторую руку — в ней тоже был пистолет. Приставив к темени Тихони, он прошептал:
— Прощай, Кощей!
14 По печени… По печени!
Колонна автомобилей неслась по трассе «Москва — Ростов». Впереди — шестисотый «мерс» — личная машина начальника городской милиции полковника Фесенко К.Н. От мерина чуть отстал «пятисотый» земляк начальника штаба горуправления милиции полковника Волобуева А.А., и уже позади «немцев» виляли «Победа» Антонины Петровны, «пазик» плотно забитый бойцами местного «ОБОПа» и «скорая». Не доезжая километра до поворота на Пятихатки, колонна свернула в противоположную сторону, к заброшенному коровнику. Если «мерины» остановились на обочине, то «Победа», не тормозя, по стерне рванула в пампасы, к видневшейся на горизонте лесопосадке. Только после этого маневра пристыженные «немцы» припустили вдогонку. Водитель «пазика» хотел было присоединиться, но, трезво рассчитав возможности трансмиссии автобуса, свернул на грунтовку. За ним двинулась и «скорая».
Петровна, стиснув зубы, вцепившись в руль, высматривала место, где мог находиться Томас. Подпрыгивающая на кочках машина мешала сосредоточиться, да и со зрением беда и всё же. О, чудо! — Тоня, как стрелка компаса, самым кратчайшим путем выехала на развилку, где пять минут назад стоял «зилок» с будкой. Баронесса выскочила из машины и, сделав пару шагов, заметила Тихоню. Чертыхальски свесив голову на грудь сидел, прислонившись к стволу дерева.
Издали были видны бурые пятна — на ноге и темени.
Баронесса схватилась за сердце и, покачнувшись, тяжело упала на землю.
— Томас!
С такого расстояния не было видно жив ли он или нет. Сердце Антонины Петровны стало медленно наполняться жидким аммиаком. Ещё минуту назад она была уверенна, что ему ничто не угрожает — по определению, по закону жанра. Слова «Томас» и «смерть» не поставишь рядом — Чертыхальски был рожден для чуда, церемонии желания, поэтому не мог погибнуть так глупо, каких-то полгода не дотянув до своего бенефиса! Баронесса хорошо знала, кем был Тихоня на самом деле. Рок-поводырь провел его стежками-гатями по таким болотам — и для чего? Чтобы погибнуть от выскочек из-за океана?
Позади баронессы затопотали шаги.
— Жив? — голос начальника милиции сорвался на фальцет.
Петровна, куда достала, — а дотянулась до живота — с размаху ударила кулаком.
— А ты проверь, падла!
Полковник, пропустив удар в печень, не мог этого сделать при всем своем желании — упал рядом. Только просипел подбежавшим начштабу и главному особисту Городка: «Посотите». Волобуев в три прыжка подскочил к Тихоне и, особо не церемонясь, потянул вверх за волосы. Нагнулся, всматриваясь в лицо.
Тихоня простонал.
— Жив, жив! Живой!
Волобуев никогда так не радовался. Ещё бы, баронесса сказала, если Томас погибнет, то самолично по живому вырежет их циррозные печени и скормит им же.
— Врача, быстро! — крикнул особист и тихо добавил, вытирая горошины пота со лба: — Надо же, чуть не обосрался со страху...
15 FU**
Фф хотел нажать на спусковой крючок, как вдруг у Тихони горлом пошла кровь. Он, судорожно дергаясь, начал кашлять. Краснофф инстинктивно сделал шаг назад. Томас одной рукой прикрыл рот, второй достал из кармана брюк заботливо припрятанный Лесей платок и стал вытирать им подбородок.
— Чего не стреляешь? Ждешь? Ну-ну, жди, а пока вот тебе... Вот тебе от меня подарок!
Томас скомкал окровавленную ткань и бросил к ногам Фф.
— Что это? — не понял Краснофф.
Чертыхальски ответил:
— Милостивый государь, вы беспричинно обвинили меня в смерти Андрея Сермяги, тем самым опозорили мою честь. Я требую сатисфакции, и пусть оружие выявит кто прав, а кто виноват. Я пришлю вам своих секундантов.
— Дуэль? — у пастора отвисла челюсть. — FUCK!!! И ты думаешь, что я соглашусь на дуэль с тобой? Ты же сам говорил, что я — никто! Разве низкородный шелудивый пес выскочка, достоин чести сражаться с Томасом Чертыхальски? Это же ваши заморочки — не наши!
— Пусть тебе будет приятно. Достоин. По кодексу в дуэли поруганную честь отстаивают только перед равными. Ты вверху, а я внизу, хе-хе.
Краснофф постоял ещё пару секунд, соображая, что делать. Поднес пистолет к макушке Чертыхальски, вторым прикрылся, чтобы не заляпаться кровью...
Получить бы Тихоне пулю в темя, это я, — автор, вам говорю, но тут подошел к пастору парень и что-то шепнул по-английски.
Краснофф помрачнел.
— Ну, ты и гнида! Выкрутился, блядь! Утро-вечера... Тварь... Хорошо, пусть будет дуэль. Только оружие за мной, понял?
Тихоня кивнул.
— Договорились. Завтра на рассвете. Просьба вам, сударь, прибыть на Могилу вместе с секундантами, коих можете выбрать по своему желанию. Оружие за вами.
После этих слов Томас отгрёб рукоятью пистолета по голове и отключился.
16 Нашатырь и уши
Чертыхальски очнулся от яркого света. Тела не ощущал, боли — никакой, лицо как силиконовое, в животе приятная истома. Мелькнула мысль — вкололи что-то. Огляделся — лежит голым на столе. В операционной. Над головой железный круг с яркими лампами. Стены — белый кафель. Стеклянные шкафы, внутри которых на полках стояли какие-то хромированные кастрюли, тарелки — Томас не разбирался в названиях медицинской посуды. Руки-плечи в кровоподтеках, а грудь стянута эластичным бинтом. Что ниже пояса не видно — мешала рама с белой занавеской. Раненой ноги не чувствовал, она заледенела, словно её обложили льдом. Вокруг — никого. Вдруг из-за белой ширмы послышался металлическое позвякивание.
— Очнулись, Томас?
Он сразу понял, кто с ним в операционной: глубокий с хрипотцой голос Князя ни с кем не перепутаешь.
— Кажется.
— Я тут вас немного поштопаю. Ничего страшного, кость-хрящики-связочки не задеты. Пулька так удачно вошла, что удивительно. Помнится, в былые времена пресса расхваливала gentlemanly bullet. Маузерную. Самый совершенный снаряд в то время был. Вырывалась со скоростью шестьсот сорок метров в секунду и, по мнению некоторых репортеров, которые, якобы, ссылались на полевых хирургов, могла пройти сквозь ткани, не разрывая их. Один врач рассказывал, что во время войны с бурами он наблюдал такой случай. Рядовой ирландского полка во время перестрелки на аванпостах получил ранение. Пуля Маузера вошла в голову, прошла сквозь мозг, пробила небо, язык и вышла ниже челюсти. В этой же стычке другой ирландец, лежа в цепи, получил ранение в спину, в области лопатки. Так выходное отверстие доктора нашли в ноге! Будете смеяться, но газетчики написали, что внутренних повреждений тканей у ирландцев не было. Две недели хорошего питания — овощи, яйца, молоко, виски напополам с содовою, и парочка была отправлена обратно на фронт... Факт... Или не факт? Может, врет пропаганда проклятая? Но газетчики ведь не могут врать! Уж вам это известно. А у нас тут что... — металлический предмет со звоном упал в стальную тарелку, — скорее всего «беретта»... Странно, в упор и никаких серьезных повреждений... Хотел чашечку раздробить, да не попал. Разучилась молодежь стрелять...
Из-за шторки послышался смех.
— У него руки дрожали, — пояснил Тихоня.
— Скорее всего. Не привык мараться — за спинами исполнителей комфортнее. Но в вашем случае другим не доверил... Уважает, — сказал Князь.
— Боялся.
— Чувствовали?
— Колено дрожало. Правое. Но лицо заледенело.
— Покер. В картах, говорят, любого обойдет.
Томас услышал, как Князь начал что-то напевать, похожее на «мы поедем, мы помчимся». Сказал:
— Спасибо вам.
Как «петрушка» из-за сцены появилась голова в синей шапочке и такого же цвета маске, поверх которой сидели очки. В ушах черные точечки динамиков.
— За что?
— Что отпустили.
— А! Рано меня благодарить — веселье только начинается. Вы ведь у меня гвоздь программы — бочонок меда, а гости даже ложки не приготовили.
— Я знал.
— Что?
— Что это неспроста. Сколько лет держали, а тут легко отпустили... эм-м...
Боль поднялась до паха и ринулась вниз — к колену.
Переведя дух, Тихоня спросил:
— Кто он такой?
— Шишка. Из молодых да ранних. Если... Сейчас будет немножко больно...
Томасу стало больно.
— ...если роги не спилить, далеко пойдет. Это первое его серьезное дело. Получилось бы провернуть фокус с картинами, глядишь, и пошел бы в гору, а так... Наследил, ввязался в драчку с тем, к кому и подходить не следует...
— Дался им этот Сермяга, — сказал Томас через сжатые зубы.
— Не скажите. Гений. Скоро о нем весь мир будет говорить. Что для художника надо? Вдохновение. Когда его муза посещает? Когда хорошо или когда очень плохо. Сереже в штатах так погано стало... Это он деньги слал.
— Знаю, а я с переводами прогадал...
Князь кашлянул. На секунду он появился из-за ширмы, блеснув очками, и снова исчез.
— Ничего страшного. Голова не сито — все не просеешь. Я так понял, Сермяга-старший совсем плох, скоро помрет. Краснофф или как вы говорите, Фф, приехал забрать ранние работы. Обидно — он ведь, гад, наших кровей. Дед из под Шостки, торговый. Не только о деньгах думал. Стихи писал, рисовать любил. Надо же, а у внука мир сузился до цента.
— Мелкую монету выбрали.
— Это верно, — согласился Князь. — Скоро картины под миллион пойдут.
— Суки, — прошипел Томас.
— Эти ребята всё рассчитали до мелочей. Кто надо напишет, кому прикажут похвалят. Это же не тема — конфетка! Художник в изгнании, ностальгия, сын за океаном, тоска по папе. Даже трагическая смерть Андрея — такой подарок!
— Неужели правда?
Князь вздохнул.
— С вашей тяжелой руки потеряли мы Андрюшу. Научили вы его на беду от друзей хорониться. Помните Гараняна?
— Конечно.
— Это был его единственно близкий человек, друг отца, постоянный работодатель. Так этот Гаранян продал Андрея. У него с Фф был уговор — во время выставки, с субботы на воскресенье, устроить кражу картин. Для этого из Нью—Йорка вылетела бригада архаровцев. Они, кстати, сейчас в Киеве в аэропорту сидят — мои ребята с таможни их пеленают. Надолго не задержу, но всё же... Гаранян должен был получить сто тысяч, а Краснофф все работы отца и сына. Андрей, придя к Гараняну, прочитал его мысли. Пошел домой, взял пистолет, вернулся и нашего свидомого любителя живописи, как собаку — в лоб.
— Да кто же знал? — простонал Томас.
— Одного не пойму... За всю жизнь никого пальцем не тронул, а тут расчетливо, спокойно... Ба-бах в кочан.
— А потом?
— Милиция к нему домой, а мальчика уже нет. Застрелился.
— Надо же...
— Не переживайте. Андрея похороним, выставку проведем, картины никто не тронет — лично прослежу. Пусть они там бесятся, но все наше останется у нас — таково желание усопшего.
— Завещание есть?
— Сам я его не видел, но считается что есть. А нет, так напишем.
Помолчали.
— Томас, у меня тут работы ещё минут на пять. Полежите спокойно, отдыхайте — самое вредное позади.
Томас рад бы помолчать, но такой шанс, Князь и он одни, да ещё в таком щекотливом положении. Чертыхальски подмывало спросить, что он задумал провернуть в Городке, ведь Князь без особой надобности и лишнего шага из Киева не делал. Набрался уже было храбрости, но осекся... А вдруг он уже знает про его историю с тем проклятым домом? Сам себе ответил: «Конечно же, знает!».
— Вам доложили?
— Про что?
— Кристину.
— А, забудьте. Всё не так как кажется. Тут вы, Томас, вообще немножечко опростоволосились. Но с кем не бывает. Никакая она не чистая. Выворотень.
— Но...
— Чтобы эту погань чувствовать, особая душевная тонкость нужна, — пояснил Князь.- Не вы первый, ни вы последний... А если брать вообще...
Князь снова выглянул из-за ширмы.
— ...то это наша с вами общая беда. Только у нас попы дружат с такими как вы, а вы ищите доказательство абсолютного добра. Вы заметили, как у нас, у славян, переплетается вера в хорошее и плохое? Народ молится и тут же делает всё, чтобы не гневить нечистого. Во времена былые весной и летом почитали богов белых, а после осеннего равноденствия наступало время черных богов. И сейчас доходит до смешного. В красном углу ставят иконы, а в зале на видном месте вешают чеканку с рогатой мордой и сережкой в ухе...
— Не думал над этим.
Князь помолчал, а потом сказал мягко, доверительно:
— Мне самому пришлось, наверное, раз двадцать шарик обойти в поисках света. У кого в гостях только не был... Вижу, вот он — вроде благолепный! Святой из святых, только нимба на голове не хватает. Молятся на него, почитают за пророка. Думаю, ну надо же, вот оно, чудо! Но... Только на порог, стоит отойти на пару верст и сразу в сердце закрадываются сомнения.
Не верю я в свет. Не знаю, как кому, а я думаю, добро ощущается только в прямом контакте с его носителями. На расстоянии это уже не добро, а вера. Вера в добро. Но такого не то что не может, а не должно быть. Получается, что надо верить в то, что где-то есть добро. Вот тут совсем рядом или далеко, за морем, но есть. Так даже лучше, когда далеко. По-моему, в этом кроется самый большой недостаток церковников. Человека надо заставить верить в некий далекий чистый свет, а это не так просто. Он, скорее всего, поверит в то, что зло непобедимо — этому масса доказательств. Взять, к примеру, наши истинные мысли, наши потаенные мечты... А добро? Вера в добро есть, с этим не поспоришь, но самого истинного добра нет. Куда наши страсти девать, а? Томас, запомните, — нет святых, нет их в природе, не-ту. Ну, а когда они появляются, то от нас под землю прячутся, в норы, пещеры — подальше от дневного света, от людей, чтобы только не видеть хвосты да копыта. Я же трезво смотрю на происходящее. Человек, милый мой друг, рожден для хороших поступков и для плохих. В тот миг, когда он думает о хорошем и совершает добрые поступки — он свят, но стоит ему только подумать о грехе и наш святоша превращается в нормального.
— По вашему выходит, что святость — это категория времени? — спросил Томас.
Князь рассмеялся как от доброй шутки.
— Золотые слова. Да, так и есть! С одним могу согласиться: великомучеников, благодаря нашими с вами стараниям много, но страдания — это ещё не свет. Вот вы столько времени провели в провинциальной сутолоке, а потом перебирали никому не нужные бумажки... И это тот Томас Чертыхальски, который был рожден для войн, революций, катаклизмов?! Вы наделены высшими силами почти библейским талантом вершить судьбы народов, раздвигать континенты, сплетать человеческие жизни, а как вас заставили...
Князь вдруг запнулся.
— Хорошо — перед вами надо быть честным. Как я заставил вас жить? В пьянках, блуде, праздности. Вы разменяли себя по копейке. Как думаете, почему? Ответ вам известен. Я специально не пускал вас в дело. То в шахту, то в тундру отправлял, то в тайгу — лишь бы людей вокруг поменьше, да от городов подальше. Вот и скажите, разве вы, Томас, не страстотерпец? Молчите? Ну-ну. Я сам-то в душе, как вам хорошо известно, анархист, но если говорить не обо мне, не о моих политических и общественных предпочтениях, а о Княжестве, то ему спокойствие надо, порядок. А из-за вас то одна война, то другая... Вдруг ещё с кем рассоритесь? «Ничтожному опасно попадаться меж выпадов и пламенных клинков могучих недругов[1]». Вот и взял на себя грех.
Томас тут же на своем колене почувствовал настроение Князя, да так, что не удержался от крика.
— ... а зачем сейчас достали? — только и смог прошипеть, вытирая пот со лба.
— Вы мне нужны. Вот поставлю на ноги, — тут из-за шторы вылезла окровавленная резиновая перчатка с поднятым вверх пальцем. — Заметьте, это выражение фигуральное. Несколько дней танцевать не сможете, — придется на коляске. Хотя... Не, и так сойдет.
Томас представил, вот Князь смотрит на колено, думает штопать ещё или не штопать, будет ходить или не будет, а потом говорит: «А, и так сойдет», — и машет рукой.
Капли крови летят на белый кафель.
М-да. Не очень приятное зрелище.
— ...вот на ноги поставлю и дам чуток поколоворотить, как раньше... — продолжал Князь весело. — Так, помолчите минуту... Я вам внутри такими нитками сшил, хитрыми, они со временем рассосутся, а сверху обыкновенными. Шрам получится страшненький, но вам, Томас Томашевич, на конкурсе красоты коленок не выступать?
— Нет.
— Вот и я о том же. Ладно, хватит болтать. Дам понюхать одну ампулку, поспите пару часиков.
Князь вышел из-за ширмы, достал стеклянную бутылочку, обломал кончик, поднес к носу Тихони.
— Дышите, голубчик, дышите. Это — не глазки Кристины, но сказочные сновидения гарантирую.
Томас вдохнул раз, второй. В голове все поплыло, комната отдалилась. Стало хорошо, захотелось смеяться и говорить глупости.
— Скажите, ад есть?
— Есть, — ответил Князь без запинки. — У кого-то он здесь, на земле, кого-то ждет в будущем.
Томасу вдруг показалось, что ему ответили очень уж серьезным голосом. Слишком серьезным, таким серьезным-серьезным, что даже смешно.
Петр Алексеевич вытер руки о фартук, подошел к больному, наклонился и прошептал:
— Что, боишься?
— Боюсь, — ответил Тихоня, еле ворочая языком.
— Зря, — Князь, прихрамывая, подошел к умывальнику. Томас заметил, как он махнул рукой, и рубиновые капельки крови упали на кафельный пол.
Томас закрыл глаза, а Петр Алексеевич начал что-то говорить. Тихоне казалось, что голос доносится издалека. Чертыхальски плывет в лодке по тихой воде, а вокруг туман, и эти слова ему шепчут невидимые тени...
— Пришел в одно селение мальчик просить за больного отца, чтобы долг вернули, а ему говорят — сходи в хижину на отшибе, там бес живет. Убей его, тогда мы и вернем деньги. Только знай, что бес — бессмертный. Пошел мальчик в хижину, убил беса, отрезал его уши и вернулся за долгом. Видя такой оборот, испугались селяне мальчика и вернули деньги до последнего аспра, а за уши ещё и добавили. И только после расчета самый старый из старых селян осмелился спросить, как же мальчик смог победить бессмертного беса? И получил ответ: «Если бес бессмертный, значит он — БЕС-СМЕРТНЫЙ!».
Вот такая отгадка. Вот какая загадка.
Тихоня последних слов не слышал, а может и слышал, но не запоминал, а если и запоминал, то, будьте уверены, когда проснется, всё — и мальчик, и бес, и уши, всё превратится в сон, который так красочен, так ярок... Это тот сон, который ускользает из памяти с утренней росой. Но он только начался, этот бесконечный, много раз виденный сон.
Томасу чудилось, что он едет домой. Свинцовая плита Балтийского моря до горизонта, чайки, черный сырой порт с нагромождениями кораблей, кранов, лебедок. Тени в тумане, а он подростком петляет по тесным знакомым и незнакомым улочкам. Ступает по каменной мостовой, через тонкую подошву чувствуя пятками её выпуклость. Ему приятен стук каблуков, дробь эха, рассыпающегося по Старому городу. Чем ближе родной дом, тем теснее улочка, по которой он идет. Только... В этот раз сон имел другое окончание... Обычно Томас заходил в таверну «Тощая Эльза», и там его ждал отец. Он шел со счастливой улыбкой и обнимал его. Сейчас же он отошел на шаг и это был уже не Томаш, а Медведь-Соболь... и он тоже улыбался... И говорил... тебя ждут, Томас, тебя ждут...
Чертыхальски поднимается по лестнице. Свечи, гобелены, дорожка, пасть льва... Он тянет за кольцо, раздается скрип несмазанных петель. Входит вовнутрь. Кабинет почти пуст, в нем нет старика, нет пюпитра на высокой ножке... Здесь стол, и за ним сидят Натаван, Кристина и во главе — Леся. Томас подходит ближе, наклоняется и целует Натаван. Её губы горячи, развратны и надо приложить нечеловеческие усилия, чтобы разомкнуть поцелуй. Томас обнимает Кристину. Он знает, что во сне можно без боязни смотреть в её глаза. Она пиявкой прильнула к его губам, и этот поцелуй волнует его ещё сильнее. Томас чувствует как ласка женских губ и языка наполняют его тело жаром, сердце колотится, подхлестывая кровь, заставляя её стучать в висках. Вдруг сзади его обвивают руки, гладят спину, грудь, ласкают шею, пальцы впиваются в волосы, тянут назад, отстраняя от сладких губ Кристины.
Это Леся-Олеся. Настала её очередь. Она валит Томаса на пол, и ложиться сверху. Тихоня хочет её обнять, но не получается. Сёстры крепко держат его за руки и прижимают к полу. Он чувствует себя распятым. Леся начинает раздевать его... Девушки уже обнажены... Напрягшиеся девичьи соски щекочут его кожу, коготки царапают его грудь и Томасу кажется, что нет ничего слаще этой пытки. Он уже не сопротивляется, не пытается вырваться, он расслаблен, ему хорошо, и становится ещё приятнее, когда перед ним начинается танец весталок, весталок, нарушивших обед безбрачия... Продолжался танец любви вечно, если вы на самом деле знаете, что такое вечность. Вдруг ослепительный свет заставил Томаса зажмуриться, и он взлетел, не телесно, но мысленно... Взлетел и рассмотрел себя, как бы со стороны. Такое бывает во сне — вы словно умираете — возноситесь вверх и смотрите...
Открывшаяся картина заставила Томас окаменеть от ужаса.
На грязном полу сплелись четыре белых безобразных в своей наготе скелета. Они двигаются то быстро, то медленно, гладят друг друга по ребрам, по острым косточкам позвоночника, обхватываю длинными пальцами выпуклости таза, и... безобразно ухмыляются белыми челюстями.
Из глотки Томаса вырвался вопль. Но никто его не услышал...
[1] В.Шекспир. «Гамлет» V,1.
17 Формула забытья
Давайте, пока Томас спит, забудем грусть-печаль, встряхнемся и окинем взглядом окрестности, чтобы узнать, чем же занимается пастор-злодей, мерзкий покуситель на наше национальное добро — Василий Краснофф. В данный момент батюшка изволили отдыхать. Сидят в кресле — ноги на пуфике, на коленях ноутбук — читают последнюю прессу. Рядом на столике пузатый бокал с лужицей недопитого «Ноя». Пастор где-то вычитал, что сэр Уинстон Черчилль предпочитал армянский коньяк иным спиртным напиткам, поэтому, пребывая на окраине Европы, где цены не кусаются, по вечерам баловал себя рюмочкой-другой. Вот только нас должно интересовать не то, что он пьет, а куда только что звонил. Если вы заглянете в его мобильный телефон и нажмете на опцию «последний набранный номер», там высветятся любопытные цифры. Так вот, за плюсиком и рядом арабских знаков прятался не кто иной, как юрист, представляющий интересы Ральфа и Михаэля.
За минувшие семьдесят с лишним лет братьям пришлось не раз менять свою фамилию. Из Восточной Пруссии перебрались в Мюнхен, где стали Шварцманами. Во время Первой мировой Михаэля и Ральфа многие видели в окопах Галиции, без устали обстреливавших русские позиции из пушек крупного калибра. Шульцы-Шварцманы стойко переносили холод, сырость, вшей, тиф, хлорный газ и, когда возникала необходимость, смело бросались в штыковые атаки.
После революций и подписания с большевиками Брестского мира братья в составе экспедиционного корпуса одними из первых вошли в побежденный Киев, а потом с авангардом ринулись на Донбасс. Шустро пруссаки рыскали по степи донецкой, но Томаса в Городке уже не было: он вместе с отступающей армией ДКСР прорвался к Царицыну и принял участие в обороне этого города, служа на бронепоезде «Красная валькирия» старшим кочегаром. В Первую мировую тот поезд состоял из приспособленных под бани вагонов, где завшивевшие солдатики мылись, а сестрички белье стирали. Большевики обшили паровоз и вагоны броней, поставили пушки, но три бани оставили — вши Революцию не приняли и кусали бывших крестьян-пролетариев, а ныне доблестных красноармейцев, со всей буржуйской злобой и ненавистью к низвергателям старого режима. Так что работы у Томаса хватало.
Часики тикали и немцам, уже успевшим на Украине подцепить революционный триппер, пришлось возвращаться домой, где они — вот незадача — на свою беду решили повторить чужой опыт. Вышло, честно говоря, коряво. Власть не удержали, а все сопутствующие перевороту болячки: разруху, голод, безработицу, сглотнули по полной.
Когда Веймарская пена вынесла на берег австрийца-арийца, дудочка запела, население построилось в ровные колонны, и позор минувшей войны скоро был забыт. Братья, теперь уже Штраусы, надели серые рубашки, черные галстуки, коричневые галифе, гетры, ботинки на толстой подошве и начали собирать походные рюкзаки.
Второй крестовый поход против Томаса радикально отличался от предыдущего. Русские теперь не за просто так отдавали свою землю, даже наоборот, начали сопротивляться. Но братья — бравые командиры танковых рот одной из бригад группы «Центр» — не унывали. Лихо воевали, заодно собирая любую информацию о нахождении некого Томаса-Тихони Чертыхальски. Тщетно — наш герой, как мы уже знаем, прятался... Хотя нет, не буду его оскорблять... Временно служил под Казанью отвечая за сохранность продовольственных складов. Кто же мог лучше сберечь народное достояние, как не наш главный специалист по «тише-тише»?
Осознав, что наскоком Тихоню не достать, братья решили вернуться домой, благо история для пруссаков потекла по старому руслу — разрухе, голоду и безработице.
После сорок пятого наша парочка, чтобы быть ближе к главному другу-недругу, решила остаться в Германской Демократической Республике. В паспортах у них стояли имена Бориса и Клауса Роберманов. Жили скромно, работали на фабрике выпускающей резиновые сапоги. Пели в хоре. Вот только что-то с ними было не так. Люди, как известно, с годами имеют склонность к седине и морщинам, а наши братья то старели, то молодели...
В начале шестидесятых скучная жизнь и нездоровый интерес «Штази» к отказывающимся входить в пенсионный возраст Роберманам заставили братьев рвануть на Запад. Оказавшись в клоаке капитализма, они занялись знакомым для них делом — моторами, машинным маслом, автомобилями. Под фамилией Рооп долгое время работали испытателями на заводе «БМВ».
Вас, наверное, интересует не начало шестидесятых, а конец девяностых, верно? Так вот, в 1999 году Ральф и Михаэль гоняли на болидах Формулы — 1. Старший на «Феррари», а младший стоял на довольствии в конюшне «Вильямс». Так что пастор Василий Краснофф звонил адвокату Ральфа. Он сказал, что готов принять награду в 10 миллионов долларов за информацию о местонахождении некого Томаса Чертыхальски, афериста, убийцы и врага столь уважаемых людей.
У братьев в конце того августа в делах наблюдался небольшой перерыв. Младший готовился к старту в Спа, а старший в начале июля попал в аварию на гран-при Великобритании и получил двойной перелом ноги, поэтому пребывал на законном больничном. Тут надо отдать должное двум вещам: современной связи — на то, чтобы созвониться и бросить все дела братьям хватило десять минут — и реактивному самолету «Dassault Falcon 2000». Если в начале века Шульцы добирались до Бреста почти сутки, то в 1999 году из Бельгии до Харькова они долетели за каких-то три часа.
Положа руку на сердце, Михаэль и Ральф, садясь в самолет, не могли себе признаться, хотят ли они смерти убийце их брата. Время лечит — сущая правда, но ещё больше лечит изнурительная, тяжелая, бесконечная и совершенно бессмысленная работа. Вы думаете, легко допрашивать большевиков, убегать на тачанках от упитых вусмерть партизан, готовить и посылать в сталинскую красную Россию шпионов-убийц? Вы пробовали морозным утром вытаскивать танки из окаменевшей за ночь грязи, крепкой, как бетон, русской, в роги её мать, грязи?! Вы когда-нибудь носили черные кресты на кителе от «Hugo Boss», а потом десятилетиями прятались за еврейской фамилией? Нет? Всё вышеперечисленное, а также молоток и циркуль на гербе, и работа на станках отлива резиновых сапог под портретом Вильгельма Пика в рамочке кого угодно научат относиться к жизни философски. Смена за сменой, пара за парой — это как воду из одной полыньи во вторую таскать... Только в гонках братья нашли отдушину. Граница между жизнью и смертью в доли секунд, азарт, бензиновые пары, душ из шампанского, обидные поражения, восторг публики, уважение профессионалов — все эти приятности и неприятности вытеснили боль утраты и, в конце концов, заставили забыть о Томасе.
...Всё же братья полетели в ненавистную ненавидимую ими страну. Шульцы не были итальянцами и не понимали изысканного вкуса «холодного блюда». Они были пруссаками и поэтому старались жить по правилам, придерживаясь порядка — если уж принято решение отомстить, то необходимо закончить то, что было когда-то начато.
По крайней мере, попытаться...
Два наших героя скоро должны встретиться и, — вот ирония судьбы — они оба передвигались в инвалидных креслах.
18 Кто эта дама?
Томаса разбудили в пятом часу утра. Положили на лоб влажный платок. Когда он открыл глаза, то увидел, что лежит на кровати в незнакомой комнате. Мягкий свет. Запах дорогой кожи и шерсти. Шторы, картины, хрустальная люстра над потолком. Разум упорно не желал вклиниваться в реальность, вспоминать свое имя, привычно взваливать на плечи прошлое, настоящее и готовиться к ответственности в будущем.
Рядом сидела Леся и держала его за руку.
— Привет, герой.
Послышалось:
— Готов к ратным подвигам?
Томас медленно повернул голову — это сказал Князь, который склонился над ним с другой стороны постели. Чертыхальски полностью ещё не отошел от сна — его, то ли от наркоза, то ли от вчерашнего удара по голове ещё подташнивало.
— Как спалось? — спросила Леся.
Глаза Томаса двинулись направо.
— О! Мы можем только позавидовать таким снам. Правда, герой?
Глаза налево.
— Болит? — Леся кивнула на колено.
Глаза вниз.
Не успел Томас ответить, как ему пришли на помощь:
— Ничего, до свадьбы заживет.
Князь потрепал Тихоню по плечу.
— Главное позади. Да, с Днём шахтера вас и... с наступающим.
— Не понял... — Тихоня, наконец, смог хоть что-то сказать.
— Сегодня канун великого праздника. Раньше у нас... — Князь обратился к Лесе, — ...на Руси, Новый год справляли 1 сентября, а до этого 1 марта. Что поделаешь, любим мы устраивать новогодние гульбища, по нескольку раз отмечаем. Но осенью, думаю, логичнее: урожай собран, стол ломится, карманы полны, время подвести итоги прожитого. Да, Томас?
Тихоня нехотя ответил:
— А я уж думал, до зимы провалялся.
— Не, — засмеялся Князь, — Не дождетесь. Вы мне нужны здесь и сейчас, здоровый и в трезвой памяти. Только не пугайтесь, но... Пришло время желания, и я хочу, чтобы вы знали: я сегодня вызвал всех, кому в часовой мастерской Генриха Киса вы продлили жизнь. Но это потом, после дуэли.
Князь встал.
— Покину вас на время.
Он поклонился и, неслышно ступая по мягкому ковру, вышел из комнаты.
Томас посмотрел на Лесю. Как забавно — он словно раненый солдат, и у его кровати сидит сестричка милосердия. Только не было у неё косынки с красным крестом, платья грубого сукна и белоснежного фартука. Вместо этого — украшенный бриллиантовой брошью и пером жулана черный бархатный берет, светлая блуза с широкими рукавами, брюки для верховой езды из темно-синей легкой шерстяной ткани, приталенный подчеркивающий фигуру кожаный жакет.
— Встань, я хочу посмотреть на тебя, — сказал Томас.
Леся отодвинула стул, отошла и покрутилась на месте. Красоту её длинных стройных ног подчеркивали галифе и сапоги с серебряными шпорами. Она двигалась легко, грациозно, словно парила в воздухе. Томас её не узнал.
— Ты изменилась.
— Да, я уже другая. Пока ты спал, многое произошло. Я взяла несколько уроков. У Петра Алексеевича.
Тихоня прикрыл глаза. Ему трудно было говорить, во рту пересохло.
— Ты мне снилась.
— Надеюсь, не в кошмаре?
— Сон был сказочно прекрасен.
Леся рассмеялась, закинув голову и обнажив белоснежные зубы, а потом вдруг стала серьезной. Посмотрела как-то отстранено, как медиум во время сеанса. Было заметно, что мыслями она уже не здесь. Сейчас её переполняло предвкушение праздника, словно там, за порогом этой тёмной комнаты вот-вот должны были сбыться все её детские и взрослые мечты, и она боялась опоздать. Ей хотелось сорваться с места и побежать, но вместо этого она вынуждена сидеть возле кровати раненого.
— Ну что, Рокоцей-Чертыхальски, мне пора, — Леся улыбнулась и поцеловала Томаса в щеку. — Выздоравливай. Ты даже не представляешь, что сегодня будет... Вот удивишься...
Леся вышла, прикрыв за собой дверь. Комната опустела. Казенные обои, гостиничная мебель, глупые картины. Вдруг Томас ощутил запах йода и к нему ворохом вернулись вчерашние события, а потом вспомнилась операция и разговор с Князем, желание спросить, зачем же он пришел, а потом...
Томас, хотел вспомнить, что было дальше, но голова напрочь отказывалась складывать два и два. Это какой-то... слово такое знакомое... А, склероз! Но здесь иное — тут чистейшая блокировка. Его разум, получается, щадит сам себя. Как только Томас это осознал, перед ним открылась вся правда.
Сегодня 29 августа, День шахтера, но Князь его поздравил с наступающим. До Петра на Руси провожали старый и встречали Новый год 1 сентября. Значит, Томас должен объявить о начале церемонии. Гости уже оповещены, — в этом нет никаких сомнений. Приглашения рассылаются заранее, и маховик гадания, скорее всего, был запущен минимум неделю назад.
Чертыхальски ждал зимы, а конец наступит раньше. Если это всё правда, Тихоне уже подписан смертный приговор. Без отсрочек и апелляций.
Думай, Томас, думай! Вдруг имеются пути отхода?
Время шло. Тихоня уподобился крысе, которая ищет возможность вырваться из лабиринта, но... Как бы он ни старался, переиграть Князя не сумеет. Слишком далеко всё зашло. Пётр Алексеевич не собирается играть по правилам — вот в чем дело. Из этого выходит, что Князь с самого начала планировал устроить церемонию гадания не в Киеве, а здесь — в Городке! Но почему? Выходит он, оберегаемый, лелеянный все это время, был просто тем джокером в рукаве, которого используют в игре только один раз, чтобы сорвать банк... Или проиграться в пух и... неужели прах?
Томасу захотелось закрыть глаза и снова заснуть. Зачем его так рано разбудили? На висящих над потолком электронных часах зеленели цифры «5:09». До дуэли ещё без малого час. Зачем он им понадобился? Проверить самочувствие? Что тут сказать, оно не радовало. Тихоня был похож на боксера после десятираундового поединка — голова болела, ноги вообще не ходят.
Дверь приоткрылась. Князь вернулся и занял стул, на котором только что сидела Олеся. Томас вдруг почувствовал, как у него внутри растет злость и раздражение, эмоции опережали мысли — он не понимал, что стало основной причиной злобы. Непонятные отношения Князя с Лесей, забранные месяцы жизни, сорванные планы... А были ли у него планы на осень? Задумывался ли он о том, что будет делать завтра, послезавтра? Нет! Время — его первейший враг, поэтому он давно привык жить одним днём.
Князь снял очки, достал из кармашка платок; Пётр Алексеевич этим утром надел темный костюм-тройку, но пиджака сейчас на нем не было.
Протирая стекла, Князь сказал:
— Пока вы спали, мы с Лесей готовились. Оружие, секунданты. Запомните, Томас, чтобы пастор ни делал, не удивляйтесь — мы всё предусмотрели. Расслабьтесь и попробуйте получить удовольствие. Сейчас вас приведут в порядок. Потом покатаетесь на «мерседесе»...
Томас посмотрел, куда указал Князь. В дальнем тёмном углу комнаты за торшером стояло инвалидное кресло.
— ... и мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним...
Тихоня закрыл глаза. Нет, надо поспать хотя бы пять минут, а то слишком всё сложно. Тяжело жить в состоянии ожидания страха. Чертыхальски знал, что бояться не стыдно. Когда в уравнении судьбы нагромождается слишком много неизвестных переменных...
Куда только подевалась дрёма? Стоило Князю чуть-чуть надавить на одеяло, под которым пряталось перебинтованное колено, и нервные окончания внутри Томаса завибрировали, словно их наматывали на бормашину.
Что ж, подъем, так подъем. Так бы стразу и сказали.
Когда Леся вернулась с ведерком теплой воды и туалетными принадлежностями, Томас не сопротивлялся. Девушка, перемигиваясь и шутя с Князем, достала шаветку. Её искусству брадобрея позавидовал бы любой парикмахер — опасная бритва стрекозой порхала в длинных красивых пальчиках, а острозаточенное лезвие с еле слышным треском сняло всю щетину.
Томас, проведя ладонью по подбородку, буркнул:
— Чувствую себя кинозвездой.
Сбросив одеяло, он сел на кровати. Повернулся и осторожно согнул раненую ногу. Колено не болело, но он ощущал, как внутри натягиваются связки. Неприятное чувство.
В комнату вошли два крепких охранника и помогли Тихоне надеть просторные черные брюки и льняную фиолетовую рубашку с черной каймой на воротнике. Томаса подхватили, усадили в кресло. Подали легкие туфли без задников, чтобы не нагибаться, когда надо их снять.
Перед тем как выехать из комнаты, Петр Алексеевич подошел к Томасу и твёрдо, без обычной иронии в голосе, сказал:
— Слушайте меня внимательно. Если у вас закрались сомнения, а сомнения это такие сволочи — они обязательно закрадываются — то давите их как крыс. Я знаю, о чем вы думаете. Окажись я на вашем месте, то перед моими глазами мелькала бы бегущая строка: «меня используют, меня используют, меня используют». Бросьте. Вы такой же, как все. И Лесю кто-то использует. Да, девочка? — Князь вдруг ей подмигнул. — И Антонину Петровну. Она, кстати, вас ждет в машине. Можете не верить, но я эту землю до сих пор топчу только потому, что это кому-то надо.
Пётр Алексеевич улыбнулся. Ушел холодок. Весеннее солнышко растопило льдинку.
— Всё. Выше нос, кабальеро. Нас всех ждет большая драчка!
Князь зашел Томасу за спину и покатил коляску к двери. Когда они выехали на улицу, лучи восходящего солнца уже скрыли звезды, окрасив на востоке редкие облака нежным барбарисовым цветом. Небо на две неровные части разрезал след от пролетевшего самолета. Воздух наполняла утренняя прохлада — ещё живые капельки росы блестели на травинках. Невидимые, но хорошо слышные птицы, хвастались своими талантами, разрываясь в трелях — база находилась в лесу или посадке — за забором темнели высокие кроны деревьев. Ветер медленно их раскачивал из стороны в сторону, гипнотизируя, навевая дрёму.
Тихоня осмотрелся. Эту ночь он провел в месте больше напоминающем торговую базу, а не больницу или гостиницу. Серые высокие коробки зданий складов. У бетонного, забранного вверху колючей проволокой забора выстроились седельные тягачи без фур. Ярко освещенные прожекторами железные ворота с будкой охранника. Неподалеку, во дворе стоял мини-автобус с открытой задней дверью. Рядом с ним курили парни в форме без знаков отличия.
— Это одна их моих резиденций. На всякий случай держу, — сказал Князь, подкатывая кресло к автобусу. — Не знал, что пригодится так скоро. Построили, если мне не изменяет память году в семьдесят четвертом. Оружие, машины, НЗ. Вам спасибо, проверил, как мои беркуты службу несут. Говорят, здесь банька хорошая. Надо будет попариться... Вам, Томас, пока нельзя, но после всех подвигов, как поправите здоровьишко, милости просим. Вместе с подругой.
Томас повернул голову. Леся поймала его взгляд, и рассмеялась:
— Почему бы нет?
Тихоне хотелось что-то добавить, но он только мысленно махнул рукой, почему-то подумав, что никакие капли крови с его пальцев сейчас не упадут... Эта догадка странным лишенным рациональности образом его приободрила. Представил, вот сорваться бы куда-нибудь подальше... Есть же на свете люди, которых сейчас ничего не трогает, им никуда не надо спешить... Спят себе, досматривая последний перед пробуждением самый сладкий сон... Ну вот почему неизвестный ему человек проснется и пойдет на работу, а Томасу Чертыхальски сегодня предстоит смертельная игра в орлянку?
Несправедливо...
19 Дуэль
На Могилу первыми приехали пастор и его ребята. На трех «фордах» внедорожниках. Белые рубашки с короткими рукавами. Темно-синие тонкие галстуки. Рюкзаки. Черные узкие брюки. Удобные мягкие туфли. Очки-авиаторы. Через минут десять подкатили два джипа и микроавтобус. Когда инвалидное кресло Томаса опустили на землю, он оттолкнул охранников, сказав, что справится сам, но ехать по высокой мокрой траве в гору было неудобно. Пришлось покориться. Коляску с трудом дотащили до вершины хорошо знакомого вам обрыва.
Пастор их уже ждал. Рядом с ним стоял секундант, лет двадцати, худощавый, черные волосики смазаны какой-то блестящей гадостью и прилизаны назад. Мальчишка совсем.
— Доброе утро, — сказал Фф.
— И вам не хворать, — ответил Томас.
— Голова не болит?
— Иногда полезно отгрести — умные мысли приходят.
Василий Краснофф прищурился, упорно не замечая Князя, стоящего позади кресла Томаса.
— Прежде чем перейти к делу, позвольте представить моего секунданта. Пол Карчанян.
Мальчишка, сделав шаг вперед, кивнул и черкнул каблуками. В руках он держал плоский отполированный футляр красного дерева, на котором были нарисованы два старинных пистолета.
— Очень приятно, — сказал Томас. — Пожалуйста, мой секундант — Великий Князь Киевский Петр Алексеевич Кропоткин.
Князь вышел из-за коляски и протянул руку своему визави. Карчанян заметно стушевался, пожимая крепкую ладонь Князя.
Василий не смог скрыть удивления.
— Ничего себе. Чтобы своей широкой спиной закрыть Томаса Чертыхальски прибыл сам хозяин? Интересная история вырисовывается, вам не кажется? — Краснофф пытался улыбнуться. — В бой идут одни Рюриковичи?
Князь кивнул в ответ.
— Согласен, странная ситуация. Вообще-то это мы с Полом должны были обсуждать правила и время поединка. По кодексу вы вообще не должны разговаривать друг с другой, не то, что ставить свои условия дуэли. Напоминаю, право на выбор оружия принадлежит оскорбленной стороне, но, я гляжу, вы тут и без нас хотите справиться... Кто-то поперед батьки лезет, вы не находите?
— Уважаемый Петр Алексеевич, — отозвался секундант. — Времена изменились — старые правила не действуют. Как было уговорено ранее, право на выбор оружия принадлежит пастору Василию. Это предложение было высказано самим Томасом Чертыхальски.
— Я вправе оспорить это решение, но в данном случае соглашусь, — сказал Князь усмехнувшись.
— Мой подопечный выбирает...
Пол сделал шаг в сторону.
— Вот это оружие...
Из «форда» вышел человек.
Помните гостя, которого я назвал Железным Дровосеком? Именно этот тип явился на встречу к Томасу. Он был высок, широкоплеч, кряжист, шея — поленом, руки и ноги — словно туловище анаконды. Круглую, красивой формы голову покрывал серебристый ёжик. Лицо в морщинах. Глаза скрыты за черными очками. Синие джинсы, белая свободного кроя футболка с Микки Маусом на плече. Цельный. Сбитый. Мощный.
— Может, вы считаете, что мы не имеем права использовать данное оружие? — спросил Пол, не пытаясь скрыть улыбки.
Князь окинул взглядом Дровосека.
— Я со всей ответственностью заявляю, что перед нами не человек, а машина. Здесь можно подобрать только один эпитет — оружие массового поражения...
Петр Алексеевич обернулся к сидящему в кресле Тихоне.
— Хорошо, мы принимаем бой. Так как весовые категории не равны, а дуэль подразумевает хоть какую-то видимость справедливого поединка, мы тоже вынуждены обратиться за помощью. Вы не будете возражать, если наша замена выберет классический способ дуэли? Думаю, вашего Челубея ничем не испугать. К тому же кодекс гласит: неумение пользоваться дуэльным оружием — никак не может служить поводом для отказа от самой дуэли.
Пол Карчанян посмотрел на стоящего рядом высоченного Дровосека, и снисходительно ухмыльнулся:
— Валяйте.
20 Все немцы любят танцы
В ту самую минуту, когда Карчанян и Петр Алексеич договаривались о правилах дуэли, неподалеку в тени акаций притаился тойотовский винивен с затемненными стеклами.Два окна были чуть приоткрыты. Из одного торчал микрофон с тарелкой — прибор дистанционной прослушки, а из второго вылез глушитель снайперской винтовки.
— Ральфи, согласись, в этом что-то есть, — прошептал Михаэль, рассматривая через оптический прицел профиль Томаса Чертыхальски. — Несешься на край света, чтобы завершить то, что начал почти сто лет назад, пытаешься вспомнить ту боль и обиду, которую нанес нам этот выродок. Одна война, вторая... Гонишь от себя мысль о всепрощении, милосердии. Уже, кажется, настроен поставить точку... Вот она, долгожданная встреча, и оружие готово, расстояние нормальное, наводишь прицел — и что видишь? Калеку!
— Ты сейчас тоже не в лучшей форме и ничего — снова гонять будешь. Может он нас дурит? Не в первый раз, кстати, — ответил Ральф.
— О чем они говорят?
Младший прислушался. Сквозь шум ветра и треск помех услышал: «...не сомневаетесь в качестве вашего оружия... мы вольны в выборе... раз уж так вышло... если победит ваш... наша сторона... картины возвращаете... и вы со всем своим блядским выводком выметаетесь из княжества...».
— Ну, что там? — Михаэль хорошо знал русский язык, но пожалел, что так и не научился читать по губам.
— Договариваются об условиях. Кто победит, кто проиграет, кому что достанется.
— А что сказал пастор?
— Сам без нашей помощи справится.
— Да за такие деньги можно и Горби убить...
Ральф снял наушники, повернулся к брату.
— Я ему не верю. Пытается доказать, что у него всё под контролем, а сам дерганный какой-то.
— Подожди...
Да, с выстрелами можно было не спешить...
Братья заметили, как на вершину холма поднялась высокая красивая девушка. Стройная. Аккуратная шапочка, жакет, брюки-галифе, сапожки. В руках она несла две шпаги. Одну вручила мужчине в белой футболке с рисунком мышонка, а вторую оставила себе. Пастор развернулся и отошел к машинам. На площадке остались только дуэлянты. Михаэль не удержался от возгласа восхищения, когда девушка взмахнула шпагой и, как мушкетер, подняв левую руку верх, встала в стойку ан-гардъ. У «Микки Мауса» не получилось так красиво.
Девушка атаковала первая. Братья не разбирались в тонкостях фехтования, но их скромных познаний хватило для того, чтобы определить уровень мастерства соперников. У мужчины было много силы, он был ловок, но не более того. К тому же он совершенно не обладал навыками владения этим видом оружия. Его нелепые движения, попытки достать руками соперницу, скорее вызывали улыбку, а воительница двигалась легко и свободно. Она танцевала вокруг дуэлянта, играючи уходила от его неловких выпадов, при этом, не забывая наносить контрудары.
Поединок продолжался минут пять. За это время мужчина получил около десятка сквозных ран. Спина, грудь и плечи были исполосованы — кровь залила не только футболку — мужчина весь окрасился в бурый цвет. Чужие страдания не останавливали амазонку. Она, не обращая внимания на шатающегося медведем противника, легко парировала его медленные атаки и наносила новые, не смертельные, но крайне болезненные уколы.
Наконец Ральф сказал:
— Стреляй! Сейчас или никогда.
Михаэль прицелился, указательный палец лег на спусковой крючок. Задержка дыхания. Прислушался к стуку сердца...
Место идеальное. Оптика позволяла рассмотреть Томаса, сидящего в инвалидном кресле. Висок, шея — протяни руку и достанешь. Трава зеленая, кустики, липы вдали... Такой знакомый зеленый край. Да-да, в Городке Михаэлю доводилось бывать неоднократно — в 1918, 1941 и 1943... Почему-то вспомнилось, сколько Михаэль, пока был молодой и чувство мести в нём ещё пылало, в эти края людей отправил — не счесть! Профессионалов, волков-контрразведчиков, выдававших себя за самых верных ленинцев, коммунистов, строителей светлого будущего. Задача казалась простой — закрепиться, а потом найти следы Томаса Чертыхальски. В крайнем случае, узнать, как он выглядит и какое носит имя. Но была одна сложность — агенты выгодно выделялись на фоне местных бюрократов. Их, вот ирония, приглашали в Москву, где скоро объявляли саботажниками, агентами иностранных разведок, врагами народа и расстреливали, если они, конечно, не успевали совершить самоубийство...
Вдруг над головами братьев загрохотало!
Михаэль от неожиданности чуть не подпрыгнул. Стук повторился — кто-то бил по крыше машины. Ральф достал пистолет и, сняв его с предохранителя, приоткрыл дверь. То, что он там увидел, заставило братьев сначала оцепенеть, потом внутренне собраться. Если бы они могли, то встали бы по стойке смирно. Перед ними стоял офицер в форме СС! На фуражке кокарда — мёртвая голова и орёл из цинка. Повседневная форма с погонами ваффен-гауптштурмфюрера. Братья узнали петлицы- рука с мечом и буква «Е». На цветном ярком шевроне три золотых льва — двадцатая ваффен-гренадерская дивизия СС. Лицо офицера было бледным, без кровинки. Фельдъегерь отчеканил по-немецки:
— Михаэль Шульц, вам оказана честь принять участие в гадании, которое пройдет в Городке-на-Суше. Адрес места церемонии — проспект Ленина, 1. Вы лично приглашены Томасом Чертыхальски, дабы заменить своего покойного брата. Начало церемонии 31 августа ровно в 23:00. Прошу принять приглашение.
Ваффен-гауптштурмфюрер передал пакет, отдал честь и, развернувшись на каблуках, пошел прочь. Дверь закрылась. Михаэль и Ральф смотрели друг на друга, заледенев от неожиданности. Наконец, Михаэль, развязал тесемки кисета, и вытряхнул на ладонь золотую монету. Она была тяжелой, странной — без цифр, но с буквой «Z» с двух сторон. Рассматривая пропуск на церемонию гадания, старший брат прошептал:
— Alles geht nicht so, wie ich es haben möchte. (Всё не так и всё не то).
— Es ist nicht alle Tage Sonntag. Alles geht schief.
21 Пора домой
Не успел пасторский кортеж отъехать от Могилы, как им пришлось остановиться. Все сидящие в «форде» оторопели, увидев, как к ним по встречной полосе приближается странная машина с открытым верхом!
— What is the shit? — прошептал пастор.
— Это «Штайр-Пух», — ответил водитель, — тот самый грузин, доставивший Томаса на встречу к Натаван и Кристине.
— What?
— «Хафлингер». Австрийский.
Тем временем, джип остановился перед носом «форда», перегородив путь к отступлению. В нем сидели военные с винтовками старинного образца. Василий Краснофф пытался что-то сказать. Сейчас он был похож на рыбу в садке — открывал рот и тут же закрывал. Пастор отказывался понимать, почему у него всё летит к такой-то матери? Только что он был победителем, предвкушающим зрелище сладкой мести, и вот, пожалуйста, приходиться драпать! Что они вообще делают в Диком поле? Почему не пьют пиво или кофе в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк, в Новом Орлеане, штат Луизиана, Сиэтле, штат Вашингтон? Кто эти военные? Расстрельная команда? Может он бы и нашел ответы на столь непростые вопросы, но тут с «Хафлингера» на асфальт спрыгнул офицер в мундире кайзеровской армии. На голове шипастый кожаный шлем пикельхаубе и большие водительские очки. На плече висит сумка фельдъегеря, кожаные перчатки с раструбами. Сапоги надраены.
Военный подошел к «форду» со стороны пастора и постучал в окно. Краснофф опустил стекло и в салоне к запаху одеколона «L`adieu Aux Armes», примешалась вонь от выхлопных газов тарахтящего двигателя «Штайр-Пуха». Пруссак молча передал в руки пастору бумажный пакет, козырнул двумя пальцами и, красиво повернувшись на каблуках, направился к своему броневику.
Василий Краснофф, разорвав сургучную печать, вытряхнул из конверта несколько бумаг. Это была пачка билетов на самолет «Донецк-Киев» и «Киев-Нью-Йорк» — чартер.
Вылет из Донецка через полтора часа.
22 Кровушкой запахло
...Власть. Что может быть приятней власти? Тем более, если ты, когда-то немощная, часто прогуливающая в школе уроки физкультуры, вдруг обретаешь необъяснимую силу и выносливость? Благодаря урокам Князя теперь ты способна любого испепелить одной непоколебимой уверенностью в себе. Ты своей ловкостью, хитростью и мастерством фехтовальщицы низвергаешь врага, и не какого-то неумеху-варвара, а настоящего преторианца. Да у него шрамов хватит на целую пиратскую команду, а наград — на роту спецназа. Но разве это ему помогло?
Есть много приятных вещей в этой жизни. Любовь, жажда и её утоление, вино и деньги... Все это хорошо, но власть... Ничего не может быть прекрасней власти. Когда вкус силы приходит в детстве, то она воспринимается как должное. Почувствовав власть уже взрослым, думаешь, что она есть награда за терпение, мужество и храбрость. Вкусив власти, понимаешь, что границы возможного для тебя расширились навсегда. Ты становишься другим. Сила и власть — это ещё и всепрощение. Как можно обижаться на тех, кто слабее тебя, ниже тебя? Кто теперь недостоин не то, что с тобой рядом стоять, а и думать о тебе, называть своей ровней. Ни с чем несравнимая сласть видеть врага, стоящего перед тобой на коленях. Удивленного, не понимающего, как это произошло, живого врага с мертвыми от ужаса глазами...
Олеся знала, что победит. Дровосек за десять секунд голыми руками убивает трех человек, стреляет точно на два километра, владеет всеми видами стрелкового оружия. Нет, он правильно держит шпагу, но не более того. Проблема «пасторов» — незнание русской классики. Прав был Козьма Прутков — нельзя объять необъятное. Пусть Олеся не так сильна физически, у неё нет молниеносной реакции, она не может стрелять по-македонски с двух рук, не бросает на двадцать метров ножи. Ей этого и не надо. Здесь и сейчас она всего-навсего научилась биться на шпагах и этого для победы вполне хватило.
На второй минуте поединка она краем глаз заметила, как пастор с делягами сел в машину, бросив своего наёмника ей на растерзание. Когда «форды» отъехали, Дровосек расстался с надеждой. Оружие, до этого сопротивлявшееся из последних сил, начало клинить. Несмотря на это Олеся не помышляла о снисхождении. Она просто не могла остановиться. Жажда власти захватила её всю без остатка. Враг никогда ещё так не страдал. Его разрывала скорее боль не физическая, но моральная. Попытки справиться с девушкой, обхитрить её, легко отбивались. Сталь из Толедо много раз прошла сквозь мышцы, парализуя руки и ноги, но не могла остановить волю и разум. Другой бы давно лег на землю и умер, но Дровосек был упертым.
Рано или поздно, но всему приходит конец. В глазах, которые только что горели гневом и упорством, блеснуло понимание неизбежного. Враг повержен, и она, воительница с мечом в руке, решает добить преторианца или даровать ему жизнь. Олеся стоит над, теперь уже не врагом, а рабом и упивается мигом абсолютной власти... Карать или миловать?
Может лучше убить сразу, чтобы не мучился? Воин потерял много крови, мышцы и связки никогда не обретут былой формы — он уже калека. Милосердие будет состоять как раз в его скорой смерти. Через ключицу наискось — в сердце... А может не торопиться? Пусть живет. Убить сейчас — значит освободить. Пусть до последнего своего вздоха помнит, как его, непобедимого Железного Дровосека, повергла простая хрупкая девушка из Дикого поля, где по преданию в стародавние времена жило племя амазонок... Она носком сапога выбила шпагу из кисти воина, подцепила её острием и от греха подальше откинула на несколько метров в сторону. Достав из кармашка жилета платок, вытерла им лезвие. Белая ткань почернела.
— Девочка, — Леся услышала сзади шаги. — Такого поединка я ещё не видел. Только что на моих глазах любитель поверг профессионала, — Князь с горькой улыбкой смотрел на коленопреклоненного Дровосека.
— Новичкам везет, — усмехнулась Леся.
— Добей, зачем лишние страдания...
Клинок прошел через ключицу вниз, к самому сердцу.
23 Поле-море
— ... обожаю странствовать пешком. Конечно, верхом на велосипеде, за рулем автомобиля, за штурвалом самолёта быстрее, но ничто не может сравниться с путешествием! Сколько встреч на своем пути, неожиданных событий. А природа? Не устаешь поражаться многообразию трав, цветов, деревьев. Всё в этом мире устроено как надо, совершенное, красивое... Вот каждую бабочку, каждого кузнечика бы обнял...
Князь, Олеся, Томас и Антонина Петровна возвращались в город на минивэне. Когда Леся услышала про бабочку, в её голове вдруг родился образ бабушки, рассказывающей на ночь сказку своей внучке: «Она наколола Дровосека на булавку, словно это был майский жук».
— ...Всё знакомое и такое непонятное. Верста за верстой, тайна за тайной. Мир прекрасен, с какой стороны на него не посмотри. Забавно, но я до сих пор не знаю, когда он красивее...Днем, когда солнце греет землю, раскрашивает в яркие и теплые цвета — оранжевый, красный, фиолетовый... А ночью? Луна скрылась за тучами и кажется, что небо темнее земли, сияние идет не сверху, не от звезд, а от полей, дороги, окружающих тебя деревьев. Слышно, как кричат ночные птицы, в кустах суетятсяполевки. Подует ветерок — мурашки по спине, — но если лечь в траву, то быстро согреешься. Идущее из глубин земли тепло до самого нутра пробирает...
Середина лета. Ты бредешь по дороге, что-то себе напеваешь, а рядом колосится пшеница. Ещё не собрали, но скоро начнется жатва — колосья тяжелые, плотные, что прямо кричат: «Тесно мне здесь, тесно...». Вы замечали, как выглядит пшеничное поле днём и ночью? В солнечных лучах оно золотое, а при лунном свете оно... Иное... Смотришь, а это не поле вовсе. Во тьме оно больше похоже на озеро или реку. Ветер гладит колосья, и вам кажется, что это волны ходят. Всматриваешься в громадье, сознавая, что тут не может быть воды, но мозг домысливает то, что скрыто в сумерках, а воображение упорно рисует фантастическую нереальную картину. Пока... Пока луна не выглянет из-за туч... В ту секунду мы понимаем, что нет лунной дорожки, а значит нет никакой воды. Но, поди ж ты, хоть режь — мы только что наблюдали настоящие волны, и все тут! Как после этого не согласиться с истиной, что нельзя доверять глазам своим. А вообще... Чтобы не обмануться ночью, надо знать, как поле выглядит днем.
— Это всё как-то... сложно, — вздохнула Олеся.
— Эх, если бы в этой жизни всё было просто.
Они подъезжали к центру города. За всё утро Антонина Петровна не произнесла ни слова. Когда Томаса утром загружали в минивэн, встретилась с ним взглядом — и всё. Во время дуэли осталась в машине. Казалось, её ничто не интересует и ко всему безразлична. Тихоня на обратном пути тоже молчал. Олеся, слушая рассказы Князя о путешествиях, смотрела в приоткрытое окно. Мелькали дома, машины, деревья кружились. Сидящий рядом Князь говорил вкрадчиво, приятным баритоном. Его голос убаюкивал, и Лесе казалось, что ещё чуть-чуть, и она заснет. Ей сейчас хотелось побыть одной, обдумать то, что произошло на берегу карьера, но Князь упорно её тормошил, не желая оставлять наедине со своими мыслями.
Чуть толкнул плечом, продолжил насмешливо:
— Людям свойственно считать, что они тяготеют к одной из сторон. Даже философы в душе называют себя добрыми или злыми, но... Смею утверждать — это ошибочное суждение. Чтобы понять ночь, необходимо увидеть день и наоборот. Мы часто ошибаемся. Вот, к примеру, мой друг, Томас, жертва нашей же пропаганды, верит, что Хайям — богохульник! Это не так! Разрешите поведать о том, что Хаким Гийяс эд-Дин Абу аль-Фатх Омар ибн Ибрагим Хайям Нишапури, что в Хорасане, врач, математик, звездочет, мудрец и поэт, не кто иной, как суфи! Он был одним из зачинателей суфийской школы хваджаган и одновременно жил в двух мирах. Он видел поле, и купался в лунных озёрах. Его Рубаи имеют двойной смысл. Гончар — это Творец, полная чаша или кувшин — символ и мера человеческой жизни. Роза — олицетворение Красоты и чувственного наслаждения. Кабак — человеческое тело. Там, где один видит грех, другой находит святость. Всё в этой жизни не то и не так, как мы предполагаем изначально. Какими мы хотим себя видеть? Рядом со мной находятся те, кто далек от святости. Но почему я не замечаю в вас тьмы, о которой так любят рассуждать церковники? Совершенно! Вы, девочка моя, только что убили человека. Да это был враг, но нельзя отрицать того факта, что вы только что погубили душу. Черную, греховную, но душу, бессмертную душу. Я смотрю в ваши чистые глаза и не вижу сожаления, раскаяния. Или взять нашего искусителя, Томаса. Отвернулся, молчит себе, в голове четки мыслей перебирает. Чувствует себя обманутым. По идее должен быть злым-презлым — и немудрено — немало наворочал за свою жизнь. А сколько совратил невинных душ? Не последний в своем ремесле... Но сейчас? Двадцать три года поста и почти молитв. Посмотрите на него — чист, как предрассветная роса на черешневом цвету. Это хорошо. Перед главным в жизни экзаменом необходимо очиститься от всего лишнего. Надо думать о вечном. Чтобы выйти на поле брани без сомнений, сожалений и ненужной злобы требуется опора. Если же её нет, то необходимо найти. Без этого никак!
Князь обратился к соседке:
— Леся, должен вам признаться, Томас сейчас стоит на пороге великого таинства.
Обернувшись к Чертыхальски, и прибавив драматизма, актерствуя, Пётр Алексеич сказал:
— Да, Тихоня, главное событие в вашей жизни произошло не в часовой мастерской Генриха Киса. Оно грядет. Оно зовет вас... Да вы и сами всё прекрасно знаете...
— Что он знает? — спросила Олеся.
Пётр Алексеич улыбнулся, щеки округлились, очки приподнялись, глаза подобрели.
— Ох, дитя. Раз в сто лет проходят великие гадания. Точные срокине указываются, но церемония обязательно должна проводиться в канун Нового года. Как ни удивительно, но он наступает через два дня, ведь мы с вами едем по земле, которая последние столетия, находится во власти славянских правителей. Томас — мой подданный, поэтому я вправе устанавливать сроки по своему разумению. Всё логично.
Князь потянулся, как после долгого сладкого сна.
— В этот раз гадание пройдет по нашим законам. Ничего, привыкнут. Со временем...
Помолчали.
Когда пауза затянулась, Олеся тихо спросила:
— Петр Алексеевич, а как распознать, кто передо мной, обычный гончар или творец?
Князь, запрокинув голову, рассмеялся.
— Прошу прощения... Позабавила такая редкая в наше время тактичность. На самом деле вы хотите спросить, что есть зло и добро, ведь так? Давайте подумаем вместе. Можно ли назвать злом то, что вы сейчас сотворили с этим беднягой? Мне кажется, любые измышления на тему полярности не более чем словесная эквилибристика. Философы могут на этом сколотить капиталец, ну а я в подобных случаях стараюсь использовать метафоры. Думаю, распознать истину невозможно. Я так считаю — это моё умозаключение. Вы ещё молоды, поэтому есть время поучиться. Читайте Библию, Коран, Тору. Прочтите покойного Меня, Блавадскую, Ницше, нашего Сковороду, наконец. Его понятие о третьем симболичном мире прелюбопытно и требует переоценки современников. Кстати он, как и я, был перипатетическим философом — любил странствовать пешком... Список мудрецов и написанных ими умных книг можно продолжать до бесконечности. Но если вы спросите, как я распознаю черный и белый цвета, то отвечу — я стараюсь ни во что не верить. Почти ни во что. С моей колокольни не наблюдается ни белого цвета, ни черного. У меня есть принципы, есть своя шкала ценностей, но она очень субъективна. Я её не хочу навязывать. Потому что до всего дошел сам. Думаю, когда пытают — это плохо. Растление — грех. Убийство невинных ради своего удовольствия должно караться самым жесточайшим образом. Ложь... Тут важен контекст. Это моя оценка греха. А вдруг вы обретете свой уникальный взгляд на жизнь и грех? Тогда зачем мне вас смущать? Вдруг у вас получится найти добро или зло? А вдруг вам, Леся, откроется способность распознавать истинный цвет? За то, и за это люди вам будут безмерно благодарны...
Вдруг вы увидите мир таким, каким его никто до вас не видел? После захватывающих дух путешествий, бесконечных километров одиночества; после пыльных дорог, ночных купаний в ведьминых омутах, после зимних ночевок в стогах сена, разговоров, споров, многолетнего созерцания текущей воды... Может вы научитесь понимать... Хотя нет, не то слово... Ощущать этот мир. Попытаетесь говорить с ним на одном языке. А может, вы родите свою, новую, ни на что не похожую религию? Кто знает, вдруг у вас получится? Только у меня к вам маленькая просьба, пусть она будет лежать не очень далеко от наших исконных корней. Я хорошо отношусь к восточному самопознанию, уважаю пустынную жажду просветления, преклоняюсь перед западным аскетизмом, но, возвеличивая верования других народов, не стоит забывать о славянских традициях. Язычество, единение духа и природы, семья, свобода и взаимодоверие. Ни в коем случае не агрессия или желание повелевать, но сила собственного достоинства, отрицание государства, как источника диктата и насилия, возвеличивание своего рода... Это мы придумали триумф общины, силу родственных соседских связей. Не теория соперничества, но взаимопомощь, справедливость и равенство. На наших просторах по-другому не выжить — только взаимовыручка, умение миром строить мир. Мы прощали рабов своих, давав им свободу и считали за равных. Русские — не народ-воитель, а народ-защитник. Вот за эти идеи я готов умереть. Такую новую, современную, при этом произрастающую из славянского русского корня религию я готов принять. Однако нет пока человека, который в ближайшее время мог бы сдвинуть духовные пласты, и подарить нашим людям надежду. Пока не рождена религия, проповедующая не стяжательство, но щедрость, не повиновение, но свободу, не преклонение, но любовь. Любовь и благодарность. Можете предположить, что всё это есть в христианстве и исламе, но я с вами не соглашусь. Все они замазаны кровью так, что не отмыться.
Присмотритесь вокруг, вам не кажется, что настало время фарисеев? Вам не кажется, что скоро придет мессия и скажет, что мы все живем во мраке, и не имеем права молиться тому, кому мы молимся. Он скажет: «Вы предали Создателя! Предали!».
Князь раскрытой ладонью ударил по своему пухлому бедру. Звук получился хлесткий — Олеся от неожиданности вздрогнула, а Петр Алексеевич продолжил тем же самым елейным убаюкивающим голосом:
— Раньше как зарождались церкви? Через распятия на крестах, пасти зверей, миллионные жертвы во благо будущих поколений, через моральное и духовное очищение... От греха, заблуждений, животных желаний... Церкви зарождались, как появляется на свет венец природы — Человек. В муках, крови, надежде, страхе и счастливом прозрении. А нынче? Томас прав, церкви в наши дни подобны растениям — размножаются почкованием, делением! Этот храм — тебе, а этот — мне, эта паства — тебе, а эта — мне, эта волость — тебе, а эта — мне. Время предателей и двурушников. Когда пришли первые христиане, а потом мусульмане, они имели полное право сказать погрязшему в невежестве, блуде, гордыне народу: «Ваши старые идолы умерли. Настало новое время — наше время». Я думаю, царящее вокруг непотребство — это та питательная среда, в которой вызревает иная духовная эра. Скоро будут построены совершенно новые церкви, и миссия придет, но не для того, чтобы карать. Он придет с миром и любовью.
— И когда? — спросила Олеся.
— Так кто ж его знает? — вздохнул Князь. Он вдруг замолчал, задумался. Зажав в кулаке бороду, потянул руку вниз, пока кудряшки не выскользнули из пальцев, снова схватил, потянул и так несколько раз. Встрепенулся, посмотрел по сторонам. Тоня сидела впереди и, казалось, дремала. Томас закрыл глаза, и облокотился на дверь. Одна Леся внимательно слушала.
Блеснув стеклами очков, Князь продолжил:
— Думаю, скорее, чем мы предполагаем, ведь так дальше продолжаться не может. Людей слишком много, и они лучше не становятся. Настоящее меняется с такой скоростью, что уследить не хватит и трех голов. Будущее уже на пороге. Уверен, когда появится человек новой эры, он будет верить не в высшие неведомые, и, как правило, безжалостные силы... Это будет вера в любимого, друга, родственника, соседа, земляка.
Петр Алексеевич повернулся к Тихоне.
— Вот вы, Томас, во многих местах побывали — в Азии, Сибири, на Камчатке. Я уже не говорю за годы вашей молодости... Красивейшие края, живут прекрасные люди, простые, добрые, хлебосольные... У вас там много друзей осталось, подруг, но вы, когда стало плохо, поехали не к ним, а решили вернуться в Городок. Почему?
Томас ничего не ответил, но Князю это и не нужно было, он продолжал:
— Вы родились в Ревеле. Из последних ста лет провели в Городке в общей сложности... так, четырнадцатый, перерыв на войну, с двадцатого по сороковой, потом снова война... Сорок третий и... э-э-э-э... Почти половину века! Тяжело было, каторжно. Существовали, не замечая, какого цвета трава и небо. Ползали по штрекам и лавам, как та крыса. Леся, а вы знаете, что Томас в юности был выжигальщиком? Люди, привыкшие каждый день ходить в обнимку со смертью, чувствуют тех, кто родился под счастливой звездой. Не старика-инвалида, а молодого симпатичного парня видного жениха всей сменой попросили стать шубиным.
Леся догадалась, о чем говорил Петр Алексеевич, но решила переспросить:
— Это опасно?
Князь словно пианист надавил пальцами на невидимые клавиши.
— Выжигальщики спускались в самые опасные участки, чтобы с факелом проползти по выработкам и пластам. Из защиты только полушубок и валенки. Бывало заваливало, но каждый раз Томаса откапывали. Рядом с вами сидит настоящий, а не дутый герой. Кем только не работал... Саночником, крепежником, коногоном, врубмашинистом, кочегаром, охранником в ДОПРЕ... Терял друзей... На скольких похоронах приходилось бывать, а? Опять же скука, водка, драки... Казармы для холостяков, вонючие бараки, вши, вонь, чесотка... Вокруг пыль, смрад, малярия, туберкулез, сифилис. Сколько раз, просыпаясь, вы проклинали и себя и этот переполненный грязью грязный город? Леся, раньше ваш Городок был похож на самую глубокую в мире канаву. Улиц нет, площадей нет, дома кто где хотел, там и строил. Засушливый, обвеянный суховеями посёлок после дождей заливался сплошной болотной жижей — не проехать. Чтобы дойти до работы, надо было надевать сапоги штейгеров с ремнями у бедер. Сколько хребтов пришлось переломать, чтобы местных приучить к чистоте. Элементарное было сродни подвигу. Много ума надо, чтобы дорожки и тротуары засыпать шлаком, известью и песком? А возносили так, словно уже построили коммунизм. Хорошо, нашлись умные люди — стали деревья сажать, лесопосадки. Меньше стало пылевых бурь и грязи. Кто-то скажет, что здесь такого — степь! Это как с песком бороться на краю пустыни. Не соглашусь! Сколько поколений работяг терпело это болото? Некоторые в землянках до восьмидесятых жили. Забойщик — денег куры не клюют, а в хатке пол земляной. Леся, грязь — это материальное отражение наших душ, дрожжи греха. Вспомните, с чего начинаются беседы Иоанна Златоуста: грязь помешала горожанам прийти в церковь, чтобы послушать святого.
Князь прикрыл глаза и процитировал по памяти:
— «Что это? Нужно бы целому городу быть здесь сегодня, а к нам не пришла даже малая часть. Может быть повинны грязь и дождь? Нет, — не грязь, а беспечность и упадок духа». Вот куда я сослал нашего Томаса — на край света, в Дикое поле, царство болотной беспечности и упадка человеческого духа. Но всё здесь скоро изменилось. Первое вытеснила партийной ответственность, а второе — оптимизм и вера в светлое будущее.
— Не надолго, — возразил Томас.
Князь так резко вскинул свою лобастую голову, что по салону минивэна молнией скользнули солнечные зайчики от его очков.
— А кто говорил, что будет легко? Против нас работают похитрей и мерзопакостней...
Снова повернулся к Лесе, и с тихой улыбкой продолжил рассказ:
— После войны пожалел я нашего Томаса: послал в края чистые, первобытные — на севера геологом, картографом, гляциологом. Ему это нравилось — где риск, там и Тихоня... Благословенные места... Но под занавес жизни наш герой рванул не в Чульман, не к Зульфире в Казань, не в тайгу или Каракумы, а сюда...
— Я хотел повидать Тоню, — ответил Чертыхальски, не открывая глаз.
— О! — Князь поднял вверх указательный палец. — Это по-нашему. Вот видите, Леся, род, родова. Много знакомых и друзей, а в минуты роковые тянет к единственному на свете близкому созданию. Томас, пруссаки — глупцы. Если бы я хотел вам отомстить, то не стал бы гоняться за вами по всему миру с шашкой наголо, давя гусеницами миллионы невинных душ. Я просто убил бы того, кто вам больше всего дорог. Сегодня вы были во-о-о-т на столечко от смерти. Вам в затылок должны были влепить такую ма-а-ахонькую пулечку. Но пронесло. А если бы и убили, ну и что? Вы довели их брата до смерти. Они сколько лет живут с этим горем в сердце, страдают. Однако эти глупцы не додумались отомстить по-настоящему. Даже здесь, в таком тонком деле у них не так мозги варят. Другой склад сознания, вот что опасно. Лезут к нам, не понимая нас, не учитывая нашего духа, традиций, уклада. Ладно бы итальянцы, — они по складу характера с нами чем-то схожи, только веры папской, — но пруссаки! Да что пруссаки, -они уже поняли что почем. Те, что за океаном прячутся — вот где дуболомы!
Ребята лихие, не спорю, но играют с огнем. На первом месте у них не свобода и душа, а деньги. Это же ни в какие ворота не лезет! Леся, деньги — страшное зло! Они могут подточить любую империю. Они уничтожают тех, кто их не уважает, запирает и пытается поработить. Деньги этого не терпят! Сколько цивилизаций было уничтожено из-за пагубной бездумной страсти к ракушкам, золоту, алмазам.
Князь посмотрел на колечко, сияющее на пальце девушки, улыбнулся.
— Леся, с деньгами шутки плохи. Запомните, в мире существуют вещи, которых должен бояться даже сам сатана.
Кортеж, наконец, пересек город и въехал в княжескую резиденцию.
24 Все становится ясно
Как только в Городке появился Князь, у меня начались трудности — стало сложнее следить за людьми. Создалось такое впечатление, что горожан как подменили. Мысли в их головах путались, возникали какие-то странные желания, тянуло на солененькое, перченное, горячее. Слова произносились громче, чем обычно, движения становились резче, водители давили на газ сильнее. Девушки вдруг стали сговорчивее, а парни настырнее; что плохо лежало, было украдено; не запертое угнано, водка выпита, запасы на чёрный день съедены. В травматологии не протолкнуться — не перелом, так кошка покусала, или крысы ночью по пьяному делу уши погрызли. В морге очередь образовалась, работяги из КП «Простор» задолбались могилы рыть. У продавцов венков «масть пошла» — за три дня месячную выручку загребли...
С превеликим трудом нашел я Тихоню в самом тёмном закуточке базы и только благодаря тому, что Антонина Петровна ему рассказывала о моём к ней звонке. Да, слаб, не удержался, что знал, всё баронессе выложил... Они сидели на старой кровати без матраца, укрытой только пыльной рогожей, растянув ржавую сетку почти до пола. Костыли, которые помогли Томасу сюда забраться, были приставлены к стене. В глубине склада чернели горы погнутых труб, проволоки, дисков от колес, радиаторов отопления. У стен до потолка возвышались башни из поставленных друг на друга старых стиральных машин. Их подпирала заполненная пачками электродов детская коляска и насыпанные в кучу велосипеды, как целые, так и одни рамы. Под ногами валялся всякий хлам, осколки стекла и пластика, детские игрушки... Но заговорщики мало обращали внимания на царивший вокруг хаос. Они радовались появившейся возможности уединиться: на базе гостей было, как старух в трамвае по воскресеньям.
— ...Вот что он сказал... Ты постарался — молодец. Не успел приехать, как похерил мировые планы. Представь, этот пастор всё подготовил, рассчитал до минуты: машина, перекресток, авария, легкая ссора, а дальше в неформальной обстановке договор о плодотворном сотрудничестве, помощь деньгами, раскрутка, прикормка, не мне тебя учить... Рому купил бы с потрохами, подмял под себя — это в лучшем случае. Потом заставил бы на квартиру Андрея Сермяги налет сделать.
— Да, я чувствовал, что Рома обречен. Поэтому... Попользовался...
— Вот-вот, а здесь ты... С осликом горбатым... На следующий день вечером встречаются, а у Ромы глаза пустые. Пастор не знал, что и думать, брать под себя или нет? Душу ведь человек не каждый день отдает... Ногти до локтей сгрыз. Стал разбираться, умом-то не дурак. Когда ты у Гараняна выплыл, Фф подумал, что под него копают. Он ведь здесь под мелкотню ховался. Стал тебя плотно вести. Когда ты пропал на островах, палкой в кустах пошерудил. У дома Сермяги встретил — хотел пощупать тебя.
— Ага, пощупал.
— Квартиру, кстати, самолично сжег, поэтому я не чувствовала — сильней оказался. И ребят Лешего приказал убить.
— Князь говорит, девки тоже его.
— Да, была здесь на крайний случай. Страховала. Сильна, бестия. Дурачка она подослала, попугать, ну и дальше концерт самодеятельности...
— А я купился.
— И на старуху бывает проруха.
— Купился, как школяр.
— Говорю, не казнись, с кем не бывает?
— С кем угодно, но не со мной и не сейчас... И не здесь!
— Стыдно?
— Перед тобой.
— Да я-то понимаю...
— Вот поэтому и стыдно.
— Да, что тут такого? Захотелось мальцу ангелка за юбку подергать? Шо тут такого?
— А! — Томас опустил голову.
— Не виноват ты. Это просто глупое совпадение.
— В одном городе в одно время я и пастор — не совпадение, эти девахи — не совпадение. Князь — не совпадение! — Томас ударил себя кулаком по здоровому колену. — Я! Я всегда чистюль на девок ловил, на сирот, убогеньких! Нос подставлю, чтобы он потешился, а потом — цап-царап!!! А тут...
— Беженки.
— Да. Фф такой же финт провернул. По яйцам словил, а я, идиота кусок, и рад радешенек.
Томас взъерошил пятерней затылок.
— Вот олух! Но... Тоня, вот, как на духу! Скажешь, давай всё заверну, переиграю. Хоть режь — не соглашусь! Даже передать не смогу, как мне там было хорошо!
— Дурак ты пятихатский! Кристине по этой части равных нет. Боль и страсть на грани — два в одном. Крутанула от души. Может немного переборщила, чтоб всякого надумал. Тебе же казалось, что в рай попал?
Томас посмотрел на баронессу удрученно.
— Угу.
— Так она специально. Ублажила с походом. Вам мужикам что, много надо?
— Обидно... Моим же оружием, словно котенка.
— Ты сколько лет на охоту не выходил, чего дергаешься? Забудь.
— Как просто у тебя выходит...
— Что Князь сказал?
— Говорит не ты первый и не последний.
— Вот и я о том же.
Томас снова опустил голову, машинально поправил брюки.
— Устал я. Зная дату своей смерти, привыкаешь к ней и начинаешь невольно подгонять время.
Антонина Петровна вздохнула, под ней жалостливо скрипнула сетка кровати.
— Это грех.
— Знаю.
— Кстати, луна тебе благоволит. В Тельце. Девиз на первое: «лучше хорошо знакомое зло, чем еще неизвестно какое добро». А вдруг пронесет?
— Меня? Точно пронесет, да так, что и до толчка не добегу, так буду кишками да кровищей срать...
— Типун тебе на язык!
— И на все члены...
— Да хватит каркать, блядь! Говоришь, как с маленьким. Вот дала бы по заднице!
Томас встрепенулся, перейдя на максимально громкий шепот, почти закричал:
— Ты мне лучше скажи, чё он такой всё ухмыляется? Всё знает, предугадал, рассчитал. Это не Краснофф тебе, не забалуешь. По плечику похлопает, в глазки заглянет — само радушие. Сказки рассказывает, послушаешь, прямо кот-Баюн. Клокотит ведь всё внутри, наружу рвется, а он ухмылочки... Вот зачем в Лесю вцепился? Ты бы послушала этот бред! Поле-море! По ушам катает, а она и рада, дура. Стыдоба так опускаться. Ради кого? Чистенькой? Так уже нет, — я постарался. Зачем она ему?
Баронесса чуть отстранилась от Тихони.
— Во, даешь... Он же тебя выручил! «Спасибо» вернул.
— С чего это?
— В обмен на урок фехтования.
Глаза Томаса Чертыхальски во тьме вспыхнули алым.
— Сам спроси!
Помолчали. Тихоня выпрямился. Из его рта начал валить пар. Воздух вокруг заморозился.
Баронесса подушечками пальцев погладила Томаса по спине, успокаивая.
— Князь он и есть Князь. Политик. Тут добреньким быть нельзя. Быть нигде и везде, всюду поспевать. Ты думаешь, ему легко?
— Я не о нем, я о себе. Меня ведь, меня как барана на убой ведут, и ради чего? Что за напасть такая гадание раньше времени проводить? Никогда такого не было! Это если, какой-нибудь вьетнамец выиграет, мы что будем в феврале гадать?
Томас зашептал тихо-тихо:
— Это же всё — конец. Я даже снега не увижу.
Тоня отстранилась.
— Ты это, свои хотелки оставь. Раз решил, значит, тому и быть и против него никто не пойдет. Сейчас с нами задираться себе дороже — мы хоть убогие, да с гонором. Кто бы мог подумать, что снова будем себе хозяева...
— Надолго ли?
— А ты не торопи. Наше время пришло: лихое, веселое...
— Веселое? Да уже тошно от этой веселухи! Мне тошно! За окно выглянешь — день насмарку. Уж видел-видел, но такого? Родятся-суетятся, а для чего? В какой переулочек забредут, убогие?
— Ты чё? Да ничего не меняется! — усмехнулась Тоня. — Они не меняются. Какие были, такие и остались.
Томас вдруг потер кончик носа.
— Нехорошие у меня предчувствия.
— И у меня не свадебное, но я-то не ною? Думаешь, одним нам худо? Князь, вон, с утра белый, как полярный мишка. Ты знаешь, что почти все приглашенные прислали замену? Это что же выходит, мы за традиции, обычаи, а этим насрать?! Ты им почти по сто лет прибавил, а им, оказывается, уже не надо гадания. Вот Князь и буянит... Хотя виду не кажет.
— Это он буянит? А я? Да мне ему в рожу дать не страшно! Вот тебе, гад, предупреждал же, вот ещё раз, чтоб неповадно было.
— И что, поможет? Ох, Томас, уж от кого — от кого, но от тебя не ожидала. Ну, посмотри, что ты говоришь. Ты сам себе хоть веришь?
Чертыхальски помолчав, ответил грустно:
— Нет.
— Уясни главное, в который раз говорю, а до тебя всё не доходит: в жизни нет порядка, нет справедливости. В тот редкий момент, когда к нам приходит первое и второе, нам они уже не нужны. Потому что в жизни нет справедливости, и нет порядка.
— Всё ни так и всё не то.
— Да! И когда ты это осознаешь, отпадет охота под Кристину ложиться.
— Я уж тогда лучше под Васю Краснова.
Смех, неловкий толчок в больное колено — в темноте не видно — скулеж, вопли извинений — все это завершилось приступом безумного хохота. Когда Тихоня успокоился, вытирая выступившие на глазах слезы и сдерживая приступы смеха, сказал:
— Я гадания не боюсь. Вот что скажу...
— Ну.
— Я там, на полу, думал, что к свету прикоснулся, и вот такой козырный облом. Так что, выходит, рая нет?
— Ну, может он и есть, — грустно улыбнулась баронесса. — Да не про нашу с тобой честь.
— Жаль.
— Почему?
— Жаль, что так всё вышло.
— Что?
— Жизнь. Я вот что думаю. Не буду я никому гадать. Не хочу.
— Не спеши, ещё есть время всё исправить.
Антонина Петровна добавила серьезно:
— Князь приказал тебя свозить за канал к моим старикам, с которыми я иногда в карты играю. Без их совета тебе на церемонию соваться не след. Слушай их внимательно. Это вообще тебе повезло, что все в сборе. Выезжаем через час, но перед этим ещё в два места заедем. С хорошими людьми надо попрощаться...
25 На кого ты нас покинул
Темный сырой подъезд. На ручке двери висит белое полотенце. Лестничная площадка. К стене приставлена крышка гроба. Дверь открыта. Странная пара вошла-въехала в квартиру, где лежал покойный Андрей Сермяга. Пожилая полная женщина в тёмно-фиолетовом бархатном платье с черными кружевами и мужчина в инвалидном кресле. Траурная ткань на зеркалах и мебели. Фотографии на стенах тоже закрыты. В комнате, где лежал самоубийца, на стульях дремали две старушки-соседки. Больше никого не было.
Гостей встретило собачье завывание. Пират сидел возле гроба, поскуливая, смотря то на хозяина, мертвого хозяина, то на пришедших гостей. Здесь же была и писана. Увидев Томаса, она запрыгнула на стол, а потом на грудь Сермяги. Понюхав ворот белой сорочки, которую надели на Андрея, повернула голову и посмотрела на Чертыхальски. Ронета писана, по-своему, по-кошачьи заплакала, жалобно, протяжно, словно маленькая девочка. Казалось, что она ждала его — только Томас мог понять и унять её боль.
Тихоня снял кошку с тела мертвеца и, прижав к груди, сказал ей тихо:
— Прости. Я не хотел...
Баронесса подошла к гробу, поправила шелковые покрывала.
Голова Андрея была закрыта платком, поверх которого лежал полоска бумаги с иконками. Под глазами черное, нос острый, губы синие. Подбородок сухой, твердый. Чисто выбрит.
Тоня сказала:
— Не казнись. Он всё равно бы умер — сердце слабое. Чистых всегда забирают, Томас. Рано или поздно. Таков закон.
— Не наш закон.
— Да, не наш.
— А всё равно больно.
— Больно, — вздохнула баронесса. — Жаль парня. Хороший был художник.
— Да?
— Пойдем.
Антонина Петровна покатила кресло в мастерскую.
Андрей Сермяга писал только своих друзей. Пират. Писана. Они вместе. Карандаш. Пушкин в черном пальто — портрет в полный рост, масло. Улыбающийся Гоголь, гуашь. Салтыков-Щедрин в профиль — смотрит через маленькое окошко на улицу, акварель. Достоевский — поясной портрет, уголь. Олдос Хаксли лежит на турецкой тахте и курит кальян, пастель. Ильф. Отдельно — Петров. Масло. Маркес, граттаж. Булгаков, черные чернила на серой бумаге, монокль в глазу — ослепительно-белоснежный круг. Кен Кизи, обычные цветные карандаши. Веселенько.
В углу, на мольберте большой белый лист. Карандашный набросок. Обнаженный мужчина сидит на земле, прислонившись спиной на камень. Полевые цветы. В углу чахлые деревца. Роса выступила на траве. Левая рука опущена вдоль бедра, а правая держит колокольчик. Левая нога вытянута, правая согнута в колене. Три бурых кляксы — губы и соски. Кровь. Настоящая. Там где должны быть чресла — заретушировано, однако из темного пятна вверх, под небольшим углом возвышается здание, похожее на костел или кирху... Голова изображена в профиль, пунктиром. Красивое лицо, благородный силуэт, а поверх также небрежно, нарисована маска с козлиной бородой и рогами. Возникала иллюзия, словно художник хотел показать: «казнить нельзя помиловать». Если смотреть на лицо, то не видно маски. Если же на маску, то не видно лица. Подпись: «Маркиз де Сад и моя кровь».
— Что это? — спросил Томас.
— Не знаю. Наверное, последняя работа, — прошептала баронесса.
— Странно.
— Да.
Долго Томас и Антонина Петровна рассматривали эту картину. Наконец, Тихоня сказал:
— Ох, и повезло же Алёне.
— Какой?
— Первому номеру.
— Почему?
— Суди сама. Я встретился с Екатериной-Катей. Да, сейчас не подступиться, но детки ведь подрастут. «Белая кость». Ничего хорошего ей не видать. Андрей и так всё ясно... Моя Леся. Жила себе девка, горя не знала. Пойдет теперь искать ведьмины озера... Себе на погибель... Твой Миклухо-Маклай...
— С Ивашей ты не встречался, — возразила Тоня.
— Ну и что? Чем бы я ему помог? Осчастливил? Нет, Тоня, со мной он ещё бы скорее... Вот что думаю, мы живем не видя дальше собственного носа. Кичимся умом, изворотливостью, самые хитрые, гордые... Но при этом такие слабые... Мне недавно что-то подобное говорили... Про артемонов... Наверное я и есть этот самый артемон... Всемогущий в борьбе за чужую душу, но свою защитить не в силах...
Когда они выехали из квартиры, Тихоня спросил:
— Что с Пиратом и Ронетой будет?
— Заберу себе — места хватит...
— Куда дальше?
— Ещё в одном доме горе поселилось... Ваню Самохвалова помянуть надо...
Кортеж — два джипа с тонированными стеклами и минивэн — проследовал от проспекта Ленина до площади «Кочегарки», свернул на бывшую Конторскую улицу и, не доезжая до «сталинского» магазина, остановился у столовой. Да-да, Уроборос всё-таки грызанул себя за хвост, подлюка. Это была та самая «Пирожковая». Серое скучное здание, возведенное на месте гремевшего восемьдесят лет назад кабака «Банакер».
Широкая мраморная лестница, ведущая на второй этаж, просторный зал, с высоким потолком и огромными окнами пропускающими свет с трех сторон даже в сумерках, поэтому пришедшие на поминки гости всегда здесь чувствовали себя неуютно. Они хотели попасть в тёмный мир траурной тишины, кладбищенской строгости, а оказывались в месте, где было слишком много разгоняющих могильную тоску солнечных лучей. Не скорбь об утрате, но благоговение перед вечностью.
Этим воскресным днем столовая была заполнена старухами. Нищенки, нуждающиеся, оставшиеся без попечения государства и помощи детей, брошенные, потерявшие здоровье, знающие, в каких районах в мусорных баках можно откопать сносную еду, возле какого храма и церкви подают. Бычки с земли. Равнодушные слёзы. Мрак и холод от проходящих рядом людей. Поминать Ваню пришли те, кто отвык мыться, забыл, что такое чистое и новое. Дух в зале стоял тяжелый, разъедающий глаза, как «черемуха» перехватывающий дыхание. Тоня и Чертыхальски по-чеховски старались не замечать вони старух, а телохранителям выдержка изменила — подняли Томаса по лестнице и почти бегом — на улицу, к машинам.
Во главе стола домработница баронессы. Перед ней на скатерти поставлен наполненный водкой стакан с краюхой бородинского хлеба и черно-белая фотография с траурной полосой в углу. В тяжелой гнетущей тишине Тоня катила поскрипывающее инвалидное кресло. Томас медленно приближался к отведенному ему месту. Катерина смотрела на Тихоню. Стотонные чугунные болванки, километровые бетонные кубы, неподъемные пласты породы — всё, что лежит в основании алтаря Антероса, вся эта не выразимая словами мировая тяжесть горя присутствовала во взгляде Кати. Но добавьте к гнёту ещё презрение, злобу и две искрящиеся холодные слезинки на ресницах. Так Катя смотрела на Томаса.
Антонина Петровна, отказываясь замечать настроение домработницы, подняла граненую рюмку с водкой.
— Царство Небесное и пусть земля тебе будет пухом, Ваня. Ты был крепок, надёжен, тверд, стоял на своем до конца. Был верен данному слову, умел дружить. Страшное слово — был. Умер хорошо, по-мужски.
Баронесса посмотрела на притихшую Катерину.
— Не убивайся. Лучше поплачь. Такое наше дело, бабское. Они уходят, а нам дальше жить.
Выпила. Села. Как только Тоня поставила рюмку на стол, старухи почти хором прошептали: «Царство Небесное новопреставленному рабу Божьему Ивану». Выпили. Нищенки потянулись вилками к тарелкам, на которых сиротливо лежали политые майонезом вареные яйца, соленые огурцы, голубцы, куски жареной рыбы, тут же наливая по второй, которую пили без слов, как и третью, четвертую. Официантки, зажимая носы, разнесли борщ и лапшу на курином бульоне.
Пятая-шестая.
Старухи перешептываются, говорят, что кладбища скоро завоюют Городок — по территории они почти сравнялись. В дальнем углу завыли плакальщицы. Стон подхватили в центре, и вот уже весь зал умывается слезами. Каждая плакала о своем, об ушедших безвозвратно счастливых теплых девичьих годах, когда было здоровье, красота, живы ещё дети, муж любил и кости не болели на погоду. Когда они не просыпались с мыслью, где бы взять еды и удастся ли найти крышу над головой. Кто-то оплакивал свою проклятую судьбу, заставившую их с детства отведать кровавых помоев войны, а в старости хлебать тягучий воняющий плесенью кисель развала империи.
Катя, раскачиваясь на хлипком стуле, застонала, разорвала ворот блузы, а потом уткнулась в плечо баронессы и зарыдала. Томас, широко раскрыв слезящиеся от невыносимого запаха старой прокисшей мочи и прогорклого старушечьего пота глаза, смотрел на разверзшееся перед ним действие, разыгранное труппой театра абсурда и запредельного безумия. Косые солнечные лучи, пробивающиеся через белые с кружевной оторочкой шторы (как только что виденный им саван на окоченевшем теле Андрея Сермяги). Длинные ряды красиво сервированных столов, а за ними на лавках актрисы, нацепившие самых диких расцветок вязаные кофты, парики, береты, побитые молью штопаные платки, грязные залапанные жирными пальцами бейсболки, из-под которых выбиваются седые давно не крашеные космы...
Явись сюда любой, обладающий богатой фантазией, подумает, дурак, что перед ним шабаш ведьм на дармовом поминальном обеде...
Выброшенные, лишние, обездоленные...
Сто лет назад здесь жили молодые, работали молодые и умирали молодыми. Не было обидной жалкой старости. Когда стали жить, а не выживать, лечиться, а не мучиться, пошли плодиться пенсионеры — государству убыток. Томасу, когда он видел старость, всегда плохело. Тянуло на севера и по этой причине тоже. Там, где каждый день — бой за выживание, нет места слабости и немощи. Или ты тянешь, а если тянешь, то какая разница, сколько тебе лет? Или не тянешь... Тогда ложись и помирай.
Седьмая-восьмая-девятая. Картофельное пюре и котлета по-киевски. Компот с пирожком. Чавканье, шамканье беззубых ртов, кряхтение, пердение, слезы на морщинистых щеках, пьяный смех. Какая-то татарка завела удалого Хасбулата. Бедна сакля твоя. Раздался звон рюмок — кто-то чокнулся.
— Катя, оставайся. А нам пора, — сказала баронесса и встала из-за стола.
26 За каналом
Если вы думаете, что в степи нет воды, то ошибаетесь. Степь степи рознь. Наш Городок расположен на одной из вершин Донецкого кряжа, самых древних в Европе гор, и является водоразделом Северского Донца и Крынки с Миусом. Давление поднимает воду из-под земли на поверхность, и она просачивается в низины. Двадцать девять наших родников питают речушки малые и большие. Лугань, Бахмутка, Корсунь — приток Крынки. Железная, Широкая, Соломенная Балки. Россоховатка, Батманка, Скотоватая, Гурты, Житний и Широкий Яр, Жованка, Поклонская, Ячменная... Коровам на радость, хозяевам на стол. Когда-то протекала Суша — капризная, высыхающая летом, печальная осенью, хрустальная зимой, бодрая весной. Потом начали строить запруды, ставки и море. Да-да, в Городке есть свое море, где рыба, раки, пляжи, шашлыки и музыка из радиолы! Понастроили заводов, фабрик, и речка Суша отдала людям все свои соки без остатка. Одно название осталось...
В прошлые годы донецкие степи задыхалась, ведь где уголь, там и сталь, чугун, а значит вода и пар... Родников, речушек и ставков не хватало, поэтому партия и правительство повелело в конце пятидесятых протянуть канал от Северского Донца на юг — до Кальмиуса. Большую его часть составляла обычная рукотворная река. Там, где воду надо было поднимать вверх, проложили широченные трубы, в которых свободно может проехать грузовик. Теперь вам понятно, о чем говорили Князь и Тоня? «За каналом» — это значит за огромными необъятными трубами, пересекающими западную часть города с севера на юг.
Кортеж остановился возле длинного, темного, сырого подземного перехода, ведущего от 245-ого жилмассива в степь. Не все знают, где он находится...
Томас вылез из минивэна сам. На одной ноге допрыгал до выгруженного охраной кресла и, морщась от боли — колено разболелось не на шутку — тяжело в него упал. Подъехал к ступеням. Тоня передала ему корзину, сказав: «Это подарки старикам. С пустыми руками к ним не ходят». Обернулась к бойцам в ожидании помощи, но вдруг откуда-то из-под земли услышала покашливание. Из черного провала поднялась молодая женщина в просторном светлом платье до щиколоток. Худощавая, бледная. Её красота была столь ошеломительной, что невольно, по какой-то необъяснимой нелогичной причине, вызывала отвращение. В руках девушка держала носовой платок. Истощенное с правильными чертами лицо, волосы стянуты в узел, как у балерины. Кожа прозрачная до синевы — под ней видны ручейки вен. Высокий лоб. Огромные навыкате карбоновые глаза с припухшими веками, и землистыми тенями вокруг, какие бывают у тех, кто постоянно не высыпается. Тонкий острый нос с узкими ноздрями. Линия сухих обветренных губ с болячками в уголках, к которым девушка то и дело прикладывала платок.
— Привет, Люся, — сказала баронесса тихо с еле заметным напряжением в голосе.
Девушка легко оттеснила Антонину Петровну.
— Дальше я сама.
Подкатив к ступеням, легко, как мать детскую коляску, она подняла кресло вместе с Томасом и сошла по ступеням вниз, в тоннель. Пол, потолок и стены здесь были покрыты мхом и лишайниками. Где-то капала вода, не было света — только вдали виднелся белый прямоугольник выхода. На земле блистали лужи, а в лужах были видны пустые винные бутылки, пластиковые шприцы, пустые консервные банки, пластики от таблеток. Колеса без скрипа легко преодолели пространство до выхода. Тоннель заканчивался утрамбованной тысячами ног залитой солнцем дорожкой. Она вела к огороженному железной оградой роднику. Перед дверкой налево сворачивала еле заметная тропинка, ведущая в кусты дикого шиповника — туда Томаса и повезли. Ветки больно хлестали его по лицу, царапали кожу. Пришлось зажмуриться и прикрыть лицо руками. Когда заросли закончились, они выехали в чистое поле. В глазах зарябило. В высокой сочной траве росли колокольчики, анемоны, ирисы, фиалки, воронец, мать-и-мачеха, сон-трава. Томас увидел, куда они направлялись: вдали в травах среди пестрых зарослей возвышалась землянка с двускатной крышей без печной трубы — взрослому человеку по плечо, окошко на уровне колена.
Когда подъехали, Томас понял, что выкопанный в земле спуск слишком узкий, а дощатая дверка низкая — придется вставать с кресла и прыгать на здоровой ноге. Томас Чертыхальски наклонился вперед, с удивлением понимая, что его простреленное колено вообще не болит! Обернулся и посмотрел по сторонам. Никаких жилых районов — Городка вокруг не было, только зеленая, украшенная полевыми цветами степь, безоблачный океан синевы над головой и во всем своем летнем торжестве сияет империал.
Девушка, которую баронесса назвала Люсей, подтолкнула его в спину и сказала:
— Иди, не бойся. Тебя ждут.
Томас встал, взял корзину. Перед тем как спуститься, скосил глаза вниз и рассмотрел платок, который девушка держала в руках. На нём горели яркие точки, словно белую ткань окропили брусничным соком...
27 Суховей
...Антонина Петровна тяжелым взглядом провела удаляющуюся инвалидную коляску. Скоро Томас с Люсей скрылись в черном провале — было только слышно покашливание и хлюпанье луж под ногами. Баронесса достала початую пачку «Космоса». Вытащив сигарету и потянувшись за спичками, которые лежали в кармашке сумки, замерла. Только сейчас она заметила, как потемнело небо на северо-западе со стороны Дзержинска. Почуяв неладное, прошла до бетонного куба, который поддерживал трубы канала, взобралась по старой хлипкой лестнице вверх. Осмотрелась. Всю линию горизонта закрыла серое, клубящееся облако. Издалека оно было похоже на волну цунами или надвигающийся пепельный туман. Сухой степной ветер дул в лицо, рвал юбку так, что ткань прилипала к ляжкам и бедрам, а сзади хлопала кумачом. Пыль иголочками покалывала кожу, заставляла щуриться. Тоня шумно вдохнула горячий воздух. Он пах пересохшей мёртвой травой, горчил полынью и подорожником... Заскрипел на зубах.
Филологи и медики сраму не имут — позволяют себе использовать крепкие неприличные слова — но при всем моем желании я не могу повторить девятибалльный оборот, который завернула баронесса: слишком он был приподзаковырист и настолько не печатен, что и бумага не стерпит. Антонина Петровна, проклиная все на свете, кряхтя, хватаясь за расшатанные ржавые поручни, спустилась по лестнице на землю. «По машинам! Окна закрыть!», — приказала охране.
Не успела Тоня докурить сигарету, как улицу и канал накрыла пыльевая буря. Небо потемнело. Ветер, наполненный абразивными частицами земли, пыли, кристаллов кремня, ракушечника, выискивая открытые форточки, двери, щели чтобы нагнать в квартиры и подъезды барханы песка, обрушился на город, царапая лобовые стекла машин, окна в домах, зеркала и витрины. Казалось, природа, доведенная до крайности засухой, взбесилась. Тугие струи вихрей, словно ожившие степные духи, охотились на людей, сбивая их с ног, завывая, перехватывая у жертв дыхание и хохоча в их лица.
Горожане попрятались по норам квартир и офисов, закрылись в магазинах, заперлись в машинах. Дети, визжа от восторга, хлопали в ладоши — они никогда ещё подобного не видели, и наслаждались счастьем открытия неизведанного, а взрослые... Они смотрели в небо!
Недосягаемое, неприступное, все испепеляющее Солнце вдруг превратилось в вырезанный из белой бумаги приклеенный к стене кружок. Любой, кто поднял голову вверх, поразился тому, что во время пылевой бури можно спокойно смотреть на Солнце, и для этого не нужны закопченные сажей стекла или защитные очки. Оно не слепит глаза, не греет кожу, висит себе вверху — белое, бледное, равнодушное ко всему... Слабость небесного светила кого-то привела в восторг, но большинство горожан почувствовали, как их сердца наполняются беспомощностью и необъяснимой тревогой. Подобное случается, когда взрослеющие дети, наконец, понимают, что их родители на самом деле слабы и не в силах спасти своих чад от напастей, болезней, самой смерти. Неосознанный первобытный страх пригвоздил их, впечатал в великое ничто, вгнездился в подкорке разума и остался с ними навсегда — до самых последних дней их жизней...
28 В гостях
Спускаясь в землянки, Тихоню каждый раз поражала труднообъяснимая перемена сознания на поверхности и под поверхностью. Стоит переступить порог, закрыть за собой дверь и тут же под землёй, как будто теряешь способность слышать. Только эта глухота имеет странное свойство. Вдруг ты, как церковный колокол изнутри наполняешься неизвестно откуда идущим звоном и начинаешь ощущать, как вместо давления низкого потолка и стен, происходит нечто обратное — душе становится тесно в теле и тебе кажется, что тебя распирает изнутри. Это не землянка такая темная, узкая и маленькая — это ты вырастаешь на два-три размера. Как будто душа страшится любого подобия могилы и пытается вырваться за пределы. В этот раз с Томасом произошло нечто похожее: внешние звуки стерлись, раздался звон в голове, но тише, чем он ожидал; приятно пахнущий сосновой стружкой воздух был недвижим, поэтому Томасу вдруг показалось, что попал он в тюремную камеру или в тот самый каземат, которым он так любил пугать людишек. Глаза быстро привыкли к сумеркам — свет, струящийся из маленького окошка, показал обшитую сосновым кругляком похожую на предбанник комнатку с дощатой дверью.
Сосна. Запах шахты. Новой шахты, где на складах хороший крепежный лес, где коногоны вовремя его развозят по штрекам и выработкам, а крепежники не филонят. Бывают плохие шахты. Там работают саботажники, а не снабженцы. Там стойки рыхлые, словно гнилые изъеденные кариесом зубы. Только в клеть зайдешь, спустишься в забой, а в лицо трухой и короедами тянет. Смертью. Таким лесом кровлю не удержать... А тут пахнет хорошо, надёжно...
Подумал, постучаться или нет? Как она сказала, иди смело?
Перед тем, как толкнуть дверь, кольнула мысль, что в столярке, где сколачивают гробы, тоже приятно пахнет сосновой стружкой...
Томас невольно оскалился и с диким шальным блеском в глазах вошел в землянку.
За дверью его встретила хорошо углубленная комната — пришлось ещё спускаться вниз. Потолок не горизонтальный, а домиком, без поперечных балок. Висячие стропила из горбыля под углом упирались в центральный брус — коньковый прогон. Крышу поставили на врытые в землю четыре стойки, поэтому казалось, что землянка была просторней, чем на самом деле — потолок на темя не давил. Стены заложены песчаником. На полочках в глиняных тарелках горели большие свечи, давая столько света, что можно спокойно читать. Воск в фитильках потрескивал, принося в землянку ощущение покоя и мира. Пол земляной, но обильно засыпан опилками и еловыми ветками, поэтому запах стоял свежий, новогодний — никакой затхлости. Центр землянки занимал огромный круглый стол, вырезанный из спила многовекового дуба — были хорошо заметны неисчислимые годовые кольца, темные в центре и светлеющие ближе к коре. Ножек не было видно — скорее всего, стол опирался на одну, центральную. Тут же стояли четыре деревянных кресла с высокими спинками, застеленные волчьими шкурами. Одно свободно, а три заняты.
Томас с трудом убрал ухмылку с лица.
По правую от него руку сидел дедок в белой черкеске, поразительно похожий на короля Лира из советского фильма. Грива белоснежных волос длиннее, чем у Томаса. Высокий лоб. Гордый профиль — нос, словно коготь ястреба, упрямый подбородок, большие жабьи губы. Широко поставленные серые глаза такие большие, что, кажется, старик пошевелится, и они тут же выпадут из век и покатятся по полу, собирая опилки — лови их потом, очищай...
Напротив Томаса, уткнувшись необъятным пузом в стол, возвышался настоящий бай-батыр. Встанет — придется нагибаться — не по его росту землянку выкопали. Голова огромная, лысая, блестящая, как шарик подшипника. Лицо круглое и абсолютно ровное, плоское. Кожа почти черная, вся в рубцах и морщинах. Может это и не лицо вовсе, а плаха, которая много лет исправно служит своему хозяину? Сталь много раз вонзалась в неё — раскосые прорези глаз, ноздрей и провал рта были больше похожи на следы ударов острого топора в твёрдую древесину. Голова покоится на крепкой, как у древнего тура шее и налитых силой плечах. Руки большие, в шрамах. Кожаные браслеты с серебряными заклепками. На пальцах несколько перстней с уральскими самоцветами. Одежда у батыра простая — восточный полосатый халат. Томас похожие видел в Самарканде.
Старик, сидящий по левую руку, Тихоне был смутно знаком. Да такую рожу один раз увидишь, ни за что не забудешь! В молодости дед был огненно рыжим, но сейчас космы превратились в белоснежный хлопок. Половины правого уха нет -когда-то саблей снесли подчистую; белесый шрам через всё лицо — от брови и переносицы, до угла широких губ; лоб, как вспаханное бороной поле — такими глубокими были морщины; один глаз водянистый, почти белый, а второй — изумрудно-зеленый; нос с торчащими из ноздрей седыми волосками был много раз сломан и косил в сторону; пошамканная кожа на щеках и шее, как у рептилии. Все эти вместе взятые черты создавали такой разбойничий вид, что Томас невольно залюбовался.
Старик носил шелковую рубашку и темно-синий костюм «тройку» без пиджака — тот был наброшен на спинку кресла. Ткань подмышками мокрая от пота. Рукава закатаны. Кожа на запястьях в еле заметных шрамах. Томас подумал, что, скорее всего, от кандалов. На мизинце перстень с алым рубином. Когда Тихоня вспомнил, как раньше назывались эти драгоценные камни, то догадался, к кому он прибыл в гости, и где он с этим дедом мог видеться. Это был Соловушка, тот самый, игравший в шахматы с Мономахом. А пересекались они когда-то давно у Князя на одном из вечеров для избранных гостей.
Окинув ещё раз всю троицу взглядом, Томас обратил внимание на то, что деды отличались друг от друга, как понедельник от января, а январь от лета, но при этом у них всех обнаруживалось нечто общее. Царственная осанка, холодный блеск глаз (карих, серых, бело-зеленых), и такой презрительный излом губ, что кажется за ними прячутся раздвоенные языки.
— Присаживайся, друг наш, — сказал Соловей, и его рука указала на пустое кресло. Яхонт блеснул, отражая мерцающие огоньки свечей.
— Спасибо, — ответил Томас и подошел к столу. Когда он садился, то прежде стянул шкуру и бросил на пол, а сверху на неё поставил принесенную с собой корзину.
— Терпеть не могу волков.
— Зря, — сказал Соловей, близоруко щурившись. — Умные животные. Пожив среди них, через какое-то время начинаешь понимать волчий язык, а потом читать их мысли. Они вас могут научить охотиться в стае. Полезное умение для тех, кто живет долго...
— Не для меня.
— Как знать, как знать... — ответил Соловей, растягивая слова и, чуть наклонившись, внимательно, не упуская мелких деталей, рассматривал гостя. — Однажды вы продлили свою жизнь на сто лет. Что вам мешает провернуть похожий фортель ещё раз?
Тихоня задумался. Отвечая, подбирал каждое слово:
— Вы думаете, выиграть так легко?
Старики переглянулись. В этот раз говорил король Лир:
— Друг наш, что вам известно о сей забаве?
— Немного, — Томас поправил волосы, чтобы не лезли в глаза. — Я специально не интересовался. Слишком неудобная тема. Думаю, понимаете...
— Мы понимаем, — кивнул король Лир. — Поэтому вызвались помочь. Мы расскажем вам то, что нам известно. Князь беспокоится о вас, и наша обязанность сделать всё возможное, чтобы экзекуция прошла без последствий.
— Рулетки не будет? — спросил Томас, стараясь, чтобы его голос звучал как можно спокойнее.
— Не будет — правила меняются, — отозвался Соловей.
Деды мелко-мелко стали трясти головами и заулыбались. Как только их губ коснулась улыбка — всё! — ушла строгость. Перед Томасом уже сидели не самисебецари, а три весёлых дедка, привыкшие смеяться, а не плакать, петь, а не жаловаться на жизнь. «Они не знают горя — они сами и есть горе», — почему-то подумал Томас. Старики как-то засуетились, начали потирать ладошки, словно в предвкушении интересной беседы. А может к ним не часто заходят гости и каждый для них, как награда?
Король Лир вдруг выразительно поднял глаза вверх и поскреб ногтями по шее. Томас всё понял. Нагнулся, взял корзину и выставил на стол подарки. Тоня передала дедкам глиняную запечатанную бутылку, четыре обычные рюмки — из таких поминали Ваню — несколько краюх черствого ржаного хлеба и пучок красной сочной редиски.
— Вот, это уже по-нашему, по-соседски, удружил, — наконец сказал сидящий напротив Томаса бай-батыр. Голос у него был утробный, низкий, с рычащими перекатами, никакого акцента — чистый, в данном случае, настоящий могучий русский язык.
Соловей посмотрел на друзей.
— Кто на разливе?
— Самый старший, — сказал бай-батыр.
Король привстал, легко подхватил бутылку и с треском скрутил ей «голову». Разливая по рюмкам чернильного цвета жидкость, он объяснил:
— Традиция проводить гадания раз в сто лет пришла с Востока. Нахватались в походах, но так до конца и не поняли, зачем волхвы там ворожили. А может, наоборот, смогли докопаться, иначе как объяснить непреложное правило, что приглашение на их церемонию может получить только европеец.
Старики потянулись за рюмками. Томас взял свою. Поднес ближе — наливка пахла полынью, корицей и еловыми шишками.
— Давайте, братишки, жахнем, — сказал Соловей и подмигнул Тихоне. — Что там той жизни?
Чокнулись.
Томас подождал, пока все выпьют — старики, запрокинув головы, махом влили Тонино варево в расширепленные беззубые рты. Взяв по краюхе, шумно занюхали и положили хлеб назад на стол. К редиске никто не притронулся. Выпил сам — настойка была не крепче водки, по вкусу похожа на бальзам.
— Так вот, — продолжал король Лир, — в древности монету получали людишки только из тех народов, чьи предки воевали в первом крестовом походе. Четыреста лет назад гадание указало на старушенцию с островов, и с тех пор англичане выигрывали каждый раз.
— Пока не появился ты, — хохотнул бай-батыр.
— Да, — кивнул Соловей.
Король Лир налил по второй. В этот раз никаких слов никто не говорил, пили по чуть-чуть, глоточками, изредка тыкая под нос горбушку.
— С какого края не возьми, тебя пускать не должны были, — объяснял Соловей: — Схизматик. Подданный Николая-Покойника, — получается с Востока. В наших краях о гадании ведь только сказки рассказывали. Известно, к какому племени ты в детстве пристал. Куда людишкам с такой силой тягаться? Теперь скажу, почему им пришлось покориться. Рожден женщиной. Хоть и семинарист, но Коллегию не закончил — получается ни там, ни сям. Мать под запретом, но пергамент на руках — добыт честь по чести. Отец из Варшавы, из католиков. Как тут отказать? Обошел ты их правила.
— Не это главное! — перебил бай-батыр. Его ровное, как блюдо, лицо после выпитого оживилось, щелочки глаз заблестели, редкие волосики на бороде топорщились. — Ты вообще всё всем испортил. С церемонией тянули, потому что островитяне набрыдли. Наконец, разгадали трюк, как они выигрывали, прихватили на горячем. Победить должен был Шульц-средний. Но всё у них сломалось. Пруссак помер, а тут ты нарисовался. Мало того, ещё и выиграл. А потом, словно в издевку, прибавил всем по сто лет. Пруссаки были вправе стребовать своё, но за тебя всё кубло встало горой. На последнем издыхании все старичьё еле доползло до этого Бреста, и вдруг такой подарок! Короче, ты всем услужил. Кроме, естественно, пруссаков.
Томас слушал стариков внимательно. Показная строгость, потом как бы искреннее радушие не обманули его. Соловей, это понятно, вылез из древних северных пущей, как ни хитер, а весь на ладони. Но откуда, из-под какого камня выпрыгнул этот батыр в халате? Горец тоже странный. В чем их выгода? Какой прок от этого разговора Князю? Чего они хотят? Почему Тоня настояла, чтобы он приехал в это место? Томас ожидал всякого, но не пьяных посиделок с дедами, которые любят чесать басни.
— Теперь давай смотреть, что мы имеем, — продолжал Соловей. — Гадание пройдет по нашим правилам, у нас дома и в срок выгодный нам. В зал войти придется тебе — с этим все согласны, а кто был не согласен, того уж, поверь, давно нет — прибрали. Остальные понимают, выиграть у тебя не получится — у людишек пруха не та. Единственно, кто будет упираться до последнего — это пруссаки. Вот такой расклад, дружище.
Томас помолчал, обдумывая услышанное. Отхлебнул половину рюмки.
— Если не рулетка, тогда что?
Король Лир покачал головой.
— Не можем сказать.
— Хорошо, — согласился Тихоня, — но объясните, почему мне надо выиграть? Слишком дорого далась моя прошлая победа, вы не находите? Желание? Да чихать мне на него!
Старики переглянулись. Посерьёзнели. Улыбки стерлись. Король Лир навалился на стол локтями, набычился и, смотря из-под мохнатых бровей, проскрипел строго:
— А ты не плюйся! Князь переживает. Догадывается, чем всё может закончиться. Поэтому позвал нас, чтобы вразумили.
— Предостерегли, — добавил Соловей.
— Наставили на правильный путь, — пробасил бай-батыр. — Кровь-то у тебя горячая.
— Чухонская, — пискнул король в старики вдруг заржали.
Томас усмехнулся — вот, это уже дело! Теперь надо узнать, в чем их выгода. В чем ваша выгода, старики?
— Понятно. Но прежде чем мы продолжим, ответьте мне, о чем вы меня хотите предупредить, предостеречь и куда будет вести путь?
— Предупредить тебя мы должны вот о чем, — сказал король Лир, смахивая рукавом слезы с ресниц. — Ты должен думать не только о себе. Если что-то пойдет не так, за твоё решение придется расплачиваться всем нам. Снова. Но больше всего достанется тем, кого ты любишь.
— Предостеречь от опрометчивых умозаключений, — добавил Соловей. — В этот раз тебе не удастся всё пустить на самотёк, как обычно ты привык делать. Пришло время отвечать, обдумывая каждый свой новый шаг.
— Правильный для тебя путь только один, — сказал бай-батыр. — Узнать, кто ты на самом деле, для чего живешь и чего желаешь добиться. Ты обязан всех размазать — это не обсуждается. В этой игре нет тебе равных — под тебя всё строилось. Ну, а когда выиграешь, загадывай любое желание — здесь мы тебе не приказчики. Всё справедливо. Вот только решить, какое оно будет, ты должен заранее, чтобы не начудить, как уже бывало. Мы в этом тебе порука.
Томас усмехнулся про себя — и это всё? Снова выиграть? Но проблема в том, что у Томаса не было особого желания нырять в этот омут. Ему было безразлично. Чувство вины, когда-то щелочью выжигавшее изнутри его душу, ничего в ней больше не оставило. Сейчас он ощущал себя яичной скорлупой, из которой через маленькую дырочку удалили весь белок и желток. Внешне — такой же, как все, а внутри — голый и босый.
— Не понимаю. Нам-то это всё зачем? В чем подвох?
Соловей ответил:
— Каждые сто лет людишки совершают одинаковые ошибки — из века в век одно и то же. Но бывают некоторые изменения. В один цикл спираль может идти вверх, в другой — вниз. Гадание подсказывает, куда будет направляться ход событий. Почти нет никакой разницы, выиграл ты или проиграл, но... Главное слово в данном предложении — почти. Стоило старухе обмануть сложившиеся правила, и мир изменился. Для бритов всё изменилось. В лучшую сторону. Они стали подниматься вверх, а остальные... Век назад ты снес расставленные фигуры, разрушил устоявшиеся веками правила. Отбиться мы смогли, и настало хрупкое равновесие. Если проиграешь, все наши победы, поражения, боль и страдания, не родившиеся младенцы, миллионные жертвы, реки слёз и моря крови — всё это будет напрасным. Эти слова тебе не мог сказать Князь или Тоня, но услышать ты их должен. Всё что произошло — это не твой выбор, но как бы ты ни сопротивлялся, выползти из колеи тебе не по силам. Тебе снова придется крутить этот проклятый барабан, и ничего с этим поделать ты не можешь.
— Но можешь набраться мужества и пройти отмерянный тебе путь до конца, — добавил король Лир. — Тебе пришлось многое пережить, как-нибудь справишься и с этой бедой.
— И мы тебе в этом поможем, — пробасил, словно поставил точку, бай-батыр.
29 Козёл
Некоторое время старики молчали. Снова наполнили рюмки. Томас отставил свою.
— Если все сделано под меня, то в чем тогда проблема? К чему все эти разговоры? Разве я когда-нибудь шел против Князя? Не проще ли сказать, что мне делать?
— Приказать? — спросил король Лир.
— Да.
Горец подвинул рюмку назад к Тихоне.
— Таким, как ты, не приказывают. У кого бессмертная душа — на тех не надавишь. Когда прижмет, вы прислушиваетесь к своей совести, и мы с этим ничего поделать не можем.
Бай-батыр добавил:
— Князь чувствует в тебе сомнения. Но ты должен знать. Во всём, что произошло в последние дни, твоей вины нет. Это Тоня начудила и чуть не смазала наши планы.
Брови Томаса полезли вверх. Соловей хихикнул.
— Доучился б в Коллегии, знал бы.
Он вытянул вперед руку и рядом с полной рюмкой Тихони поставил латунную чернильницу с колпачком в виде шлема Меркурия. Следом появилась каменная статуэтка без головы, но с широким задом и полной торчащей в стороны грудью. Она чем-то была похожа на матрешку, выточенную из камня. Соловей достал из воздуха костяной почерневший от крови наконечник стрелы, кусочек заточенного с краю угля и желтый волчий клык, а король Лир поправил предметы так, чтобы они выстроились в ряд. Он сказал:
— Когда-то давно над нашим краем, лесами, горами, озёрами и реками, болотами и степью, тундрой и тайгой, взошел Узел Apricus, что означает, освещенный, очищенный Солнцем.
Бай-батыр продолжил:
— Вспомни, сколько лет ты провел, постясь: не пил, не знал женщин, по непонятной для тебя самого причине отрешился от мира, словно готовился к чему-то важному, значение чего и сам до конца не понимал. Как только приехал в Городок, тебя закрутили, спеленали и пустили с горы. Чистенькие были подобраны не случайно. Приняли на себя часть твоих старых грехов. Ты им исповедовался, с ними причащался.
Настала очередь говорить Соловью:
— Другой бы на это и внимания не обратил, но Князя не проведешь. Каждый встреченный тобой человек был по отдельности опасен. Помнишь? Сорока-белобока этому дала, этому дала. Поэту, Матери, Витязю, Художнику, Не Ведающему Страха — каждому по-отдельности было отмеряно немало. Вместе в одном городе они ещё сильнее, но если к ним присоединить Монаха, — Соловей к пяти фигуркам прибавил вырезанное из кипарисового ствола распятье, — то получится Сияющий Крест — непобедимая сила... Но... Можно всё переиграть.
Король Лир смахнул распятье на пол и положил перед Томасом карту Таро «шут».
— Теперь Apricus приобретает иное значение. Чистота превращается в святую простоту. Это тоже начало нового цикла жизни, новых дел. Символ наивности, неискушенности, но также и больших начинаний, перемен. Как раз то, в чем мы все нуждаемся, чего ждем. В этом сочетании присутствует энергия, оптимизм, сила и счастье. Теперь ты волен избирать любое направление. Идти куда угодно, делать что хочешь. Тоня гнула своё, только ей одной понятное, но в итоге помогла всем нам. Князь понимает баронессу, знает, что ей двигало. Женщинам позволительны слабости.
— Об этом мы тоже поговорим, — сказал бай-батыр.
Он выставил вперед руку, и Томас увидел, как на его ладони появилась засаленная старая колода карт с волнистым рисунком на рубашках.
— Друг, а не сыграть ли нам в «козла»?
Томас за свою жизнь, наверное, провел миллионы партий в эту старую шахтерскую игру, которая не имела ничего общего с обычным «козлом». В Городке были свои правила. Они не отличались особой сложностью, для преферансиста вообще казались детской забавой, но было в ней нечто притягивающее, заманивающее. В этой игре ощущалась какая-то магия. Томас любил карты. В двадцатых тынялся по шулерским притонам, где жульничал в буру; в тридцатых резался в парках культуры и культурного отдыха в преферанс — там играл честно. Одно время пытался вникнуть в деберц. В учителя заполучил самого Музыканта. Вообще, за все свои прожитые годы Тихоня при желании мог познакомиться с любыми знаменитостями: учёными, поэтами, певцами, актрисами. Кто бы отказался сыграть на бильярде с академиком Капицей или выпить чашечку кофе с Маяковским, Есениным? Побродить по ночным улицам Ленинграда под руку с Любовью Орловой или обменяться анекдотами с молодым Григорием Гориным? Томас мог, но не хотел. К тому же, вокруг таких людей обычно роем крутятся бесята, а Тихоня от этого гнилого племени старался держаться подальше... Для Музыканта сделал исключение. Втерся, подружился, навязался в ученики, но... не хватило ума. Как и в шахматах, память подвела. Его всегда подводила память... А вот в шахтерского «козла» с работягами рубился самозабвенно!
— Почему бы и не сыграть? — ответил Томас.
— Прежде, чем раздадим, послушай правила.
— Что-то новое?
— Нет, наш старый добрый «козёл», — ответил король Лир.
Томас посмотрел удивленно: тогда что не так? Но по ухмылкам стариков понял, что здесь всё не так. Они начали говорить — Соловей, король Лир, бай-батыр, Соловей, король Лир, бай-батыр — и Томаса не покидало ощущение, что это не три отдельных рассказчика, а один. Слова текли, цепляясь друг за друга, как бусинки мониста. На стол выкладывались карты одна за другой, когда надо было объяснить их значение. Это были не просто правила игры, а наставление. При этом деды, словно зазубрившие пьесу актеры и, наверное, проигрывавшие её на этих врытых в землю подмостках много раз, не упускали возможности порисоваться. Играли голосом, добавляя рокота и бархата, говорили тихо или громко, выделяя, как им казалось, важные слова. Деды не могли сказать, какое его ждет испытание, или «экзекуция», они просто решили научить его давно известной забаве...
Вдруг Тихоня задался вопросом: а сколько до него сидело в этом кресле охотников за старческой мудростью? Он отделался бутылкой из подвалов Тони, а какую цену его предшественникам пришлось заплатить за эту встречу, чем пожертвовать? Ещё здесь пахло хитростью, обманом...
Старики говорили так: «Послушай, у нас нет времени тебе объяснять, почему горит огонь, а птицы вьют гнезда, какая сила заставляет воду подниматься от корней до самых маленьких листьев, почему одни живут долго, а другие умирают молодыми. Мы всего лишь научим тебя играть в «козла». Правила достаточно просты для того, кто хоть раз в руки брал карты. Они давно известны, а мы слишком горды, чтобы задумываться над смыслом, таящимся в этой игре. Но шахтеры, как никто иной, близки к Небу. Простой душевный, даже простодушный народ, но ему открылась мудрость... Посмотри на игру по-новому, обрети её для себя.
Игра начинается, когда ты садишься за стол. Ты и ещё три игрока. В игре четыре игрока. Всегда четыре игрока. Ты сидишь за столом. Один игрок на твоей стороне. Всегда на твоей стороне есть игрок. Всегда. Если на твоей стороне нет игрока, ты проиграл. Если ты вышел играть один — ты проиграл. В одиночку никто не играет. За столом четыре игрока. Ты и тот, кто напротив — вы одно целое. Союзники, соратники, друзья. Против тебя всегда двое. Один справа, другой слева. Одолел одного, жди нападения второго. Они в союзе против тебя. Против вас. Таковы правила. Вас двое и их двое. Всё честно, всё поровну.
В колоде тридцать шесть карт. От шестерки до туза. Тридцать шесть. Раздается по девять на руки. Каждому. Вам восемнадцать и противникам восемнадцать. Всё честно, всё поровну. Все карты на руках. Стол чист. У тебя перед глазами девять карт. Соратники не знают, какой у кого расклад. Они видят только свои. Если между вами настоящее взаимопонимание, то и без слов догадаетесь, у кого слабая рука, а у кого есть сильные козыри. Это называется — союзничество. Вас двое и вы должны доверять друг другу, верить не только в себя, но и в того, с кем ты близок. Как себе. Даже больше, чем себе. Чем дольше вы играете, тем лучше узнаете друг друга.
Старшинство определяется по масти. Самые старшие — это трефи, крузы. Трефи всегда старше. Трефи старше. Пики слабее. Чтобы мы там себе не насочиняли, трефи старше, а пики слабее. Пики идут за крузами-трефами, а не наоборот. Запомни. Ниже нас стоят черви и бубны. Черви, а потом бубны. Бубны козыри самые слабые.
Отдельного упоминания заслуживают постоянные козыри. Это четыре витязя. Первый и самый главный: «хвал» — витязь по трефи. Всегда.
Хвал — всему пантеону голова — витязь крузов старший и бьет остальных валетов. За ним идут пики, и дальше по ранжиру — черви, бубны. С пиками не справиться червям и бубнам. Черви могут одолеть бубнового валета, но уступят хвалу и пикам.
Первый ход в игре у того, к кому пришел хвал. Он заказывает козырь и на будущее определяет козырь союзника. Первая раздача в игре всегда имеет козырь трефи-крузы. Всегда. При следующих раздачах этот игрок всегда будет заказывать кресту, его союзник — пики. Попал к тебе — ты хвалишь трефи. Попал к союзнику — всегда будешь хвалить пики. Навсегда. Как только хвал попадает к другой паре, первый заказывает козырь черви, а сидящий напротив — бубны-каро.
Сдатчик определяется по хвалу — у кого крестовый валет, тот и раздает.
Теперь старшинство козырей. Младшая — семерка козырной масти. Дальше старшинство возрастает от восьмерки до туза, четырех валетов и... главная карта раздачи — Мать. Мать — козырная шестерка. Мать бьет любого витязя: хоть крестового, хоть пикового. С матерью не шутят. Берегут или, наоборот, с неё заходят, когда на руках у тебя или у твоего союзника хвал. Тогда вы с первых заходов можете вывести из игры почти все козыри и забрать их себе. В игре двенадцать козырей. Ходят по одной карте. Масть в масть. Нет масти — бей козырем или сливай любую. Бери взятки и не давай их брать врагам. Итог считается по очкам. Сто двадцать зёрен. Когда хвал на вашей стороне, вы обязаны набрать минимум шестьдесят одно очко с раздачи. Хорошо, если не дадите противнику отобрать у вас более тридцати очков. Каждая раздача в копилку приносит от одного до трех. Партия считается законченной, если какая-либо пара игроков набрала двенадцать. Это длинная игра. Бывает короткая — до шести.
Возможно преждевременное окончание игры.
Разгром наступает в тот миг, когда союзники за раздачу так и не смогли выхватить из рук врагов ни одной взятки. Если вы не набрали ни одного очка, наступает «люся». Это обозначает только одно: какими бы вы ни были умными, богатыми и здоровыми, против вас играли все масти, козыри, витязи и — это самое главное — мать.
Вы проиграли. Люся — конец игре Понятно?«.
— Скорее да, чем нет, — ответил Томас тихо. — А...
— Подожди, помолчи, — перебил его король Лир. — Мы сказали то, что ты должен был услышать, — ни больше и не меньше. Мы не учим стратегии и тактике — эти знания ты получаешь по ходу игры. Сейчас не надо вопросов. Потом, когда ты с этим переспишь, обдумай наши слова и спроси себя, как ты понял правила.
Бай-батыр:
— Даем тебе совет. Тот, кто хочет получить правильные ответы, должен задавать себе короткие и емкие вопросы. Тогда твой разум будет лишен соблазна солгать себе.
Соловей:
— Какой короткий вопрос ты готов нам задать?
Томас ответил, упрямо мотнув головой.
— Зачем мы гадаем?
Старики притихли.
Вызвался ответить бай-батыр.
— Гадание — это индульгенция.
— Кому? — спросил Томас.
— Нам.
— От кого?
— От... Ты сам должен догадаться... Кто всё решает в этом мире, кто его создал и нас в том числе? Если есть мы, значит, есть и Он, логично? Гадание — это обряд ниспрашивания разрешения на будущие... поступки. Любая власть нуждается в сакральности. Только тот правитель имеет право на власть, за кем стоят высшие силы. Когда судьба указала на тебя, она тем самым разрешила всем нам действовать по своему усмотрению, без оглядки. Ты победил, мы победили, значит, высшие силы встали на нашу сторону. Мы получили право на власть, а остальные её лишились. Безумцы, однажды не пожелавшие с этим мириться, сотворили такое, что не забудется в веках — и нет им прощения. Сейчас перед тобой выбор небольшой — отдать победу другим или выиграть самому. Если окажешься сильнее, правда и дальше будет на нашей стороне.
— Нет, не так... — поправил бай-батыра Соловей. — Все поймут, что правда окончательно на нашей стороне и им придется с этим считаться, терпеть, как раньше терпели островитян. Мы получим индульгенцию на любые... Любые действия и поступки. Теперь понимаешь, что для нас значит гадание? Твой выигрыш не пустит войну на нашу землю. Теперь пусть другие воюют, а мы наконец-то сможем вздохнуть свободно, как никогда ранее.
Томас услышал всё, что хотел, но осталось ещё три вопроса.
— Почему Городок?
Ответил король Лир:
— Потому что здесь скоро будет решаться судьба всех народов.
— Кто «мы»? Я пришлый, чужак. Почему я должен решать за всех вас?
В этот раз все старики пожали плечами.
— Так и мы не здешние! — сказал Соловей. — Дружище, ты чухонец, я из голяди, что в болотах и чащах на севере жила; мой племянник с Алтая, а шурин с Кавказа. И все же нам всем придется разгребать эту гору серы, что в Дикое поле ветра нанесли.
Старики смеялись, а Томас становился все мрачнее.
— И последнее. Если я правильно понял правила, выходит Тоня старше Князя?
Бай-батыр цыкнул зубом. Улыбка потускла. Ответил с заметным сожалением:
— Да, Городок всегда имел пиковую масть. Она старше Лексеича — против матери не попрешь... Ладно, хватит о делах. Давайте посидим, выпьем. У нас Томас в гостях — столько всякого повидал. Думаю, ему есть что рассказать, а нам послушать.
30 Поцелуй на века
Томас сбился со счета, сколько было выпито рюмок. В этот раз его наливка не брала — в голове зашумело и всё. Захмелевшие старики вспоминали своих общих знакомых: каких-то бояр, купцов, юродивых. Смеялись, шутили. Кто-то предложил сыграть в карты и пошла потеха — короткую выиграли Томас с бай-батыром, длинную Соловей с королем. Потом обменялись и ещё несколько раз оставили друг друга козлами... Сколько они сидели — неизвестно, но вдруг в какой-то момент лежащий на столе пучок редиски ожил! Красные клубни исчезли и вместо них появились... глаза! Они начали вертеться во все стороны, что-то или кого-то высматривая. Деды замолчали, сложили карты и, отставив кресла назад, поднялись на ноги.
Оказалось, что горец был невысокого роста. Это бай-батыру пришлось упираться руками в стол, согнувшись в поясе. Соловей доставал макушкой до горбыля — худощав, жилист. Набросив на плечи пиджак, он взял бутылку и разлил последние капли в рюмки.
— Всё, вышло наше время — стременная зовет. Пора по домам, друзяки.
Старики обнялись друг с другом, поцеловались троекратно. Каждый подошел к Томасу и похлопал его по плечу.
— Давай, не робей, — сказал король Лир на прощание. — Стержень есть — прорвешься.
— Когда колени будут дрожать, терпи до последнего, — сказал бай-батыр. — Помни, я рядом — помогу. Я сильный.
Соловей обнял Тихоню крепко-крепко.
— Вопросы как выстрелы. Запомнил? Всё, иди!
Томас поклонился дедам в пояс, развернулся и вышел. Только закрыв за собой дверь и очутившись в предбаннике, он понял, что на прощание так ничего им и не сказал, даже не поблагодарил за добрые советы. Оглянулся, но что-то ему подсказало — там уже нет никого, а комната засыпана землей.
Томас легко поднялся по утоптанным ступеням и вышел в ночь. Черный изукрашенный хрустальной пылью шатер раскинулся над степью. Луна уже скрылась за горизонтом, оставив за собой шлейф плаща, сотканного из беспроглядной тьмы. Стрекотали кузнечики, было слышно уханье и стоны ночных птиц. Ветер гладил пряные стебли ковыля и полыни, пырея и полевых, заснувших в сей поздний час цветов. Томас не увидел никаких волн. Наверное, было слишком темно.
Высокий чертополох вдруг расступился, открыв тропинку. Тихоня пошел по ней и скоро добрался до зарослей дикого шиповника. Медведем продрался через колючки и переплетение стеблей. Когда вышел на другой стороне, там его уже ждали. В землю возле родника были воткнуты шесты, на вершинах которых пылали факела. Огонь освещал путь от шиповника до входа в тоннель, где стояла его проводница — девушка Люся. Томас подошел к ней. Языки пламени плясали на девичьем изможденном лице, отражаясь в её огромных широко расставленных слезящихся глазах. Томас не смел произнести и слова — ждал. Наконец Люся сделала шаг к нему навстречу и обняла крепко, ещё сильнее, чем Соловей. Срывающимся голосом влажно, жарко зашептала на ухо:
— Всё понял, медовый, сладкий мой, ласковый? Пошла наука впрок? Терпела тебя, хитреца-обманщика, долго. Не забирала. Так сделай что просят, не дай мне пожалеть о своей милости и доброте редкой. Но за обиды твои плату возьму — поцелую тебя...
Люся пиявкой присосалась к губам Тихони.
Что там Кристина с её блудливыми глазками! Томас прожил миллионы жизней, пока длился поцелуй. Горевал, радовался, любил, страдал, растил детей, убивал и был убит неоднократно, но однажды в одной из бесчисленных своих жизней он прочитал смутно знакомые строки: «В нашем грешном мире нет ничего слаще приятных воспоминаний: они как бесконечная сосательная конфета — вкусная до одури, — но ещё, я вам скажу, слаще делиться ими», и в этот момент поцелуй разорвался, морок исчез, и разум его прояснился.
Люся отстранилась, вытерла губы тыльной стороной ладони и сказала с издевкой:
— На все хотелки Тоне предай, а ни пошла бы она на ***, ведьма старая.
Люся обернулась назад, посмотрела в черный провал тоннеля, и её лицо исказила гримаса бешеной ярости и боли. Сжав сухенькие кулачки, по-стариковски зло зашипела:
— На ***!!!
И тут же, хмельно улыбаясь, Люся подмигнула Томасу и засмеялась заливисто, как девушка на первом свидании. Отступила в ночь, начала таять и в какой-то момент скрылась во тьме — только изредка откуда-то издалека было слышно её покашливание...
Тихоня, ещё полностью не пришедший в себя, двинулся к тоннелю, машинально переставляя ноги. В голове звенело, в желудке плескалась кислота, а рот наполнился тягучей вязкой слюной. Тело страдало при малейшем движении: руки-ноги затекли и горели, словно их варили в кипятке. Но Томас терпел. Чтобы отвлечься, он попытался расплести космы образов, околдовавших его, но вспомнить ничего не удалось.
Языки пламени факелов остались позади — он шел в кромешном мраке.
Хлюпанье луж и чавканье скользких мхов под ногами. Хрип дыхания. Похолодало. Воздух сырой, затхлый, как в древнем каземате. Томас прислушался, ожидая писка мышей или крыс под ногами, но к своему удивлению иной звук ворвался, поселился внутри его головы. Звон исчез и раздался отчетливый ни с чем не сравнимый воробьиный гомон. Монотонный, громкий, чем-то похожий на зудение цикад. Тихоня выставил вперед руки, чтобы не наткнуться на каменную стену. Он потерял внутренний ориентир и не был уверен, правильно ли идет. Это в самых темных штольнях и выработках ему было известно, где север-юг и запад-восток, но здесь, без поводыря, он, наверное, мог и заблудиться.
Шаг за шагом, вдох-выдох. Боль постепенно из тела ушла. Наконец, далеко-далеко впереди, как лучина на ветру замерцала звездочка. Томас не пошел — побежал, высоко задирая колени, задыхаясь, боясь потерять выход. Казалось, конца-края не будет этому тоннелю. Тихоня стал хрипеть. Пот выедал глаза. Легкие так накалились, что готовы были вспыхнуть. Когда он уже готов был сдаться, лучина стала гореть ярче и показался серый на чёрном квадрат.
Последние метры перед ступенями он сбился на шаг. Остановился, стараясь перевести дыхание и унять колотившееся в груди сердце. Оперся одной рукой о влажную склизкую стену, а вторую положил на бок, где пылала его печень. Подумал, хорошо, что не курит, а если бы курил? Капец...
Собравшись с духом, стал подниматься по лестнице. На половине пути заметил, что, несмотря на позднюю ночь, машины стоят там же, а посередине, на фоне звездного неба сарматской каменной бабой возвышалась огромная чёрная фигура. Огонек зажжённой сигареты, описав дугу, упал на землю и рассыпался в искрах. Фары джипов и минивэна вспыхнули, осветив силуэт Тони. Томас подошел к ней, остановился. Почему-то ему было тяжело на неё смотреть. Нагнулся, стал выбивать пыль из брюк. Потом задрал штанину и, надорвав уже ненужный бинт, начал его распутывать. Снимая слой за слоем, шептал: «Да когда ж он, сука, кончится? Вот тварь...». Не выдержав, остатки бинта разорвал в хлам и бросил на землю.
Выпрямился.
— Это... Там... — промямлил Томас, но баронесса перебила его.
— Да слышала уж... Весь Городок слышал.
Повеяло холодом. Тихоня присмотрелся. Лицо Антонины Петровны было каменным. Прищуренные глазки, плотно сжатые губы. Из огромных как жерла печных труб ноздрей вырывался белесый пар, а на верхней губе волоски усов покрылись инеем.
Когда Тихоня усаживался в минивэн, он вдруг ощутил на губах вкус полыни, и перед ним как живая встала глумливая ухмылка Люси...
31 Житие преподобномучеников Феодора и Василия Печерских
Иван Степаныч Попов страдал. Вот уже третий день его одолевали хвори — по всему телу вдруг пошли чирьи. Горные гряды фурункулов, рассыпавшись по спине, подмышками, на шее, мешали ходить, лежать, думать, жить, наконец! Метициллин, мазь Вишневского, пивные дрожжи в таблетках, протирки, присыпки помогали, но не так чтобы очень. Всё дело шло к переливанию крови. Иван Степаныч готовился лечь в больницу. Этим вечером, чтобы как-то занять свой воспаленный от непрекращающейся боли и недосыпания мозг, он включил компьютер и в интернете в поисковике набрал следующие слова"патерик Киево-Печерского монастыря«. Тут же выскочил список, на верхних строчках которого, помимо сайтов о Киево-Печерской лавре и объяснения, что такое патерик, он заметил несколько ссылок на страницы с названием «Преподобномученики Феодор и Василий Печерские». Судя по рейтингу, житие этих святых интересовало читателей чаще других преподобных. Пара кликов и перед Поповым появилась страничка какой-то христианской общественной организации. Сайт был украшен русским орнаментом под старину, в углах стояли фотографии икон, календари с православными праздниками. Верху горело название рассказа.
Иван Степаныч подошел к монитору и чуть нагнулся — сидеть он не мог по причине вышеуказанной обидной болезни.
***
Преподобномученики Феодор и Василий Печерские
Редко когда до наших времен доходят подробности судеб и точные описания подвигов праведников, живших много столетий назад. Но бывают счастливые исключения. 11 августа все верующие поминают преподобномучеников Русской Православной церкви Феодора и Василия Печерских. Так вышло, что история их жизни, их нелегкой борьбы с греховными слабостями и искушениями, их смерть были описаны в патерике Киево-Печерского монастыря. Это летописный сборник рассказов о создании киевской обители и жизни её монахов. Судьбе этих святых в патерике отведено особое место, а описания их религиозного подвига до сих пор поражают и волнуют сердца верующих.
В данной летописи сказано, что блаженный Феодор в его мирской жизни имел большое богатство. Однако он раздал его нищим и стал черноризцем в Печерском монастыре. По приказанию игумена монах поселился в пещере, которая называлась Варяжской, где он провел много лет в строгом воздержании. Это пещера самая древняя в Киево-Печерской обители. Ранее, до строительства монастыря, ею пользовались варяги, которые путешествовали из Скандинавии в Византию и обратно. Пещера имеет более ста метров в глубину, и называлась также Дальней.
Так вот, во время пребывания преподобного Феодора в этой пещере диавол однажды навеял ему сожаление о розданном и потерянном навсегда золоте. Годы монаха были преклонные, он много болел, монастырская пища его не радовала. Блаженный Феодор, видя свою нищету, отчаялся. Однажды он открыл свою печаль друзьям, ничего от них не утаивая.
Среди монахов, которые услышали его исповедь, был инок Василий, отличавшийся добродетельным нравом и умом. Он утешил Феодора. Нашел нужные слова и смог убедить его отречься от греха стяжательства. Монах достучался до сердца блаженного Феодора тем, что готов был за него собирать милостыню. Василий сказал:
— Молю тебя, брат Феодор, не губи награды своей, но если ты сожалеешь об имении, розданном нищим, то я постараюсь возвратить его тебе в том же количестве. Ты только скажи пред Господом, чтобы твоя милостыня вменилась мне, и тотчас избавишься от скорби и снова приобретешь через меня свое богатство.
После таких слов блаженному Феодору стало совестно. Выслушав это, блаженный Феодор образумился и начал оплакивать свое падение, ублажая брата, исцелившего его от столь опасной душевной болезни. О таких людях сказал Господь: «если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как Мои уста» (Иер.15:19). С этого времени между Феодором и Василием еще более усилилась любовь друг к другу. С тех пор преподобный Феодор неустанно преуспевал в заповедях Божиих, стараясь совершать всё необходимое для праведной, богоугодной, святой и непорочной жизни.
Диавол же подвергся великому посрамлению. Не будучи в состоянии окончательно прельстить преподобного Феодора сребролюбием, он опять вооружился на преподобного, строя новые козни, чтобы возбудить в нем страсть любостяжания.
Однажды игумен монастыря послал Василия на долгих три месяца в другую обитель. Диавол, считая это время удобным для своих козней, приняв образ уехавшего друга, пришел в пещеру к преподобному Феодору. Льстивыми беседами он снова заставил блаженного вспомнить о потерянном богатстве. И намекнул, что скоро монах получит большое вознаграждение за проведенные в пещере годы. Ему пошлют множество золота и серебра. Надо только об этом молиться.
Блаженный послушался лжемонаха — ведь он думал, что разговаривает со своим братом Василием. Феодор сказал:
— По твоим, отче, молитвам я с успехом выдерживаю борьбу с диаволом и не слушаю возбуждаемых им мыслей. Теперь, что ты мне прикажешь, я охотно исполню, повинуясь тебе. В твоих наставлениях я нашел великую пользу для моей души.
Он стал молить Господа вернуть ему сокровище. И надо же — в первую ночь во сне к нему явился бес и под видом ангела указал место в пещере, где был зарыт большой клад. Монах сначала не поверил сну, но видения стали его преследовать. Тогда преподобный Феодор сдался и пришел к указанному месту. Начав там копать, он обнаружил настоящее сокровище. Оказывается, он жил рядом с кладом золота, серебра и ценных сосудов! Не зря пещера называлась Варяжской. Наверное, северяне викинги здесь прятали часть своей добычи во время путешествия из варягов в греки.
Тогда к святому Феодору снова явился бес в образе монаха Василия, и попросил показать ему золото. Но блаженный ему отказал. Обрадованный диавол тотчас начал в душе монаха распылять жажду к золоту. Когда Феодор сказал, что он молился о богатстве лишь бы снова его раздать нищим, диавол возразил, при этом отметив:
— Не говорил ли я тебе, брат Феодор, что ты скоро получишь от Бога вознаграждение? Однажды ты роздал своё богатство и вот теперь в руках твоих снова золото. Делай с ним, что хочешь! Возьми его, брат Феодор, и иди в другое место, а там приобрети себе землю. Когда же придет время смерти, то никто не запретит тебе раздать имущество, кому захочешь. И так о тебе сохранится добрая память.
На все уговоры взять клад, уехать прочь из Киева и покинуть святую Русь, преподобный Феодор отвечал так:
— Мне стыдно, что я, однажды оставивший мир, сделаюсь беглецом и мирским человеком. Я ведь обещал окончить жизнь в этой пещере!
Но диавол был хитёр. Он сказал:
— Ты уже ничего не можешь сделать. Рано или поздно, но о золоте узнают. Они придут и заберут его у тебя. Лучше послушайся меня. Если бы Богу не было угодно, то Он не помог бы тебе найти клад. И ты бы не смог снова разбогатеть.
Блаженный Феодор в этот раз поверил лжемонаху. Он тайно приготовил повозки и сосуды, в которых бы мог перевезти золото и серебро. Но человеколюбивый Господь спас преподобного раба своего Феодора. Для блаженного настоящим Ангелом Хранителем стал преподобный Василий, который в это время возвратился из путешествия. Желая повидаться с другом после долгой разлуки, он пришел в пещеру к Феодору. Блаженный удивился радости Василия. Он-то думал, что видел его только вчера. Василий поразился не менее. Он сказал Феодору:
— Бог свидетель, прошло три месяца, как я не видел тебя. Я был отослан по монастырским делам. Сегодня третий день как возвратился, но ты говоришь, что за время моего отсутствия я постоянно приходил к тебе. Думаю, в моем образе тебя посещал бес.
В подтверждение своих слов он привел старцев из обители. Монахи также указали, что Василия не было в Киеве три месяца. И с кем виделся блаженный Феодор — есть большая загадка.
Завершился этот спор так. Преподобный Василий сотворил молитву запрещения, призывая себе на помощь всех святых. А Феодор, для которого открылось коварство нечистого, с той поры заставлял каждого приходящего к нему прежде всего сотворить молитву Иисусову. И потом уже беседовал с ним. Таким способом он смог победить непростого врага, тем самым при помощи Божией избавился от козней беса. Блаженный Феодор осознал свой грех и принял непростое решение. Он закопал найденное им сокровище глубоко в землю. Кроме того, монах непрестанно молил Господа, чтобы Он даровал ему забвение места, где зарыт клад. Он молил Всевышнего побороть в себе грех алчности.
Господь услышал молитву раба Своего: преподобный Феодор совершенно забыл, где было скрыто им сокровище, и больше никогда не думал о приобретении богатств. С тех пор золото и серебро для него стали не дороже грязи.
Чтобы избавиться от козней дьявольских, преподобный Феодор возложил на себя великий труд. Он поставил в своей пещере жернова и начал работать на братию. Причем не только сам молол жито, но и приносил его из монастыря. Ночь он проводил почти без сна, посвящая большую часть ее молитве и работе на ручных жерновах. Днём относил муку обратно и снова забирал жито. Своими трудами блаженный в течение многих лет облегчал монастырских рабов, не стыдясь разделять их труд.
Однажды монастырский келарь пришел в умиление, увидев, какой тяжелый и мучительный подвиг возложил на себя преподобный Феодор. Келарь вызвался помочь блаженному. Он повелел отправить пять возов к его пещере.
Преподобный Феодор не возражал. Высыпав жито, он принялся за работу. Утомившись, хотел немного отдохнуть, как вдруг раздался удар грома, и жернова начали молоть сами. Распознав козни диавола, преподобный Феодор поднялся и начал усердно молиться, после чего сказал громким голосом:
— Господь запрещает тебе, лукавый бес!
Но бес не переставал молоть на жерновах. Тогда преподобный снова сказал:
— Во имя Отца и Сына и Святого Духа, свергшего тебя с небес и давшего во власть угодников Своих! Я грешный повелеваю тебе не оставлять работы, пока не перемелешь всё жито! Потрудись и ты на святую братию!
Сказав это, он продолжил молиться. А бес не посмел ослушаться и в одну ночь измолол всё жито, все пять возов. Вот так лукавый хотел устрашить преподобного Феодора и заставить его повиноваться себе как прежде. Но вместо этого сам попал в рабство.
Утром преподобный Феодор дал знать, чтобы из монастыря прислали телеги за мукою. Келарь удивился столь необычайному делу. Как можно было смолоть в одну ночь пять возов? Он сам отправился в пещеру, чтобы вывезти из нее муку, причем совершилось другое чудо: от этого же жита получилось еще пять возов муки. Так сбылось здесь, в сейчас рассказанном событии из жизни преподобного Феодора, слово Апостолов, некогда говоривших Иисусу Христу: «Господи! и бесы повинуются нам о имени Твоем» (Лк.10:17), а также и обетование Самого Слова Божия: «се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью» (Лк.10:19). Лукавые бесы хотели устрашить преподобного Феодора и заставить его повиноваться себе как прежде, во время его прельщения, но вместо этого сами наложили на себя узы рабства, так что принуждены были возопить:
— Мы не будем более появляться здесь.
Преподобные Феодор и Василий установили между собою благочестивый обычай никогда не утаивать своих мыслей, но обоим обсуждать их вместе, чтобы видеть, насколько они богоугодны. По обоюдном совещании, Василий удалился безмолвствовать в пещеру, а преподобный Феодор, как достигший уже старости, вышел из нее с тем, чтобы поселиться в древнем монастыре.
В это время монастырь был сожжен. Деревья на устройство церкви и келлий, пригнанные плотами по Днепру, лежали на берегу, и наняты были работники, чтобы ввести их на гору, но преподобный Феодор, желая сам поставить себе келью, начал на себе носить бревна с берега на гору, не дозволяя никому работать за него. Лживые бесы, забыв свое, вынужденное подневольное работой обещание никогда не приближаться к преподобному, снова начали свои козни: все бревна, какие с великим трудом блаженный Феодор вносил за день на гору, бесы ночью сбрасывали вниз, желая через это добиться его удаления. Поняв козни бесов, преподобный сказал им:
— Именем Господа нашего Иисуса Христа, повелевшего вам войти в свиней (Мф.8:32), я, грешный раб Его, повелеваю вам все бревна с берега перенести на гору, чтобы братия, работающая Богу, не отрывалась от своего труда и могла без ваших козней выстроить храм Пресвятой Богородице и келлии себе; тогда узнаете, что Господь присутствует на этом месте.
В ту же ночь бесы перенесли с берега на гору все бревна, предназначенные для постройки монастыря. Когда утром на берег приехали нанятые для перевозки, то не нашли ни одного бревна; поглядев по сторонам, они увидели, что бревна уже находятся на горе и не свалены в кучу, а разложены в порядке: особо — предназначенные для крыши, особо — для пола и особо — длинные, чрезвычайно тяжелые балки. Всё это, как дело превышающее человеческие силы, возбуждало удивление. Так прославился Господь чрез угодников своих Феодора и советника его Василия; ради их подвигов Господь явил это чудо.
Но эти сродные по духу рабы Божии не гордились, видя повиновение себе бесов, следуя наставлению Христа: «не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах» (Лк.10:20). Бесы же, столь явно обличенные в своих кознях святыми Феодором и Василием, не могли стерпеть своего поношения, — они когда-то пользовавшиеся, как боги, почитанием и поклонением от язычников, теперь должны были переносить от верных угодников Божиих презрение, унижение и бесчестие. Должны были, как рабы купленные, трудиться для них то меля жито, то таская бревна, и к тому же, повинуясь запрещению тех же святых, они должны были удаляться от людей. Поэтому-то во время переноски бревен они и вопили, как слышали некоторые:
— О, злые и лютые враги наши Феодор и Василий! Мы не перестанем бороться с вами, пока не предадим вас смерти!
С этого времени лукавые бесы, — не зная, что послужат к еще большему прославлению преподобных, — начали всеми способами возбуждать злых людей на святых Феодора и Василия. Тотчас же, по чудесном перенесении бревен, нанятые для перевозки рабочие подняли возмущение:
— Давай нам, — говорили они блаженному Феодору, — нашу плату: мы не хотим знать, какими хитростями ты вместе с Василием перенес бревна, когда мы готовы были их перенести.
К тому же присудил и недобросовестный судья, будучи подкуплен золотом: не помня угрозы Господа, что судящий неправедно сам будет осужден, он не побоялся сказать преподобному Феодору:
— Пусть помогут тебе платить те бесы, которые помогли перевозить.
Великую скорбь доставило это новое искушение диавола нестяжателю Феодору и советнику его Василию.
Не достигши смерти преподобных, диавол, вспоминал свою первую победу над блаженным Феодором, воздвиг опять смертоносную бурю. Приняв образ преподобного Василия, безмолвствовавшего в то время в Варяжской пещере, он пришел к одному из ближайших к князю бояр; это был человек жестокий нечестивый, лично знавший преподобного Василия.
— Феодор, живший до меня в пещере, — сказал ему искуситель, — нашел большое сокровище, состоящее из золота, серебра и ценных сосудов, и хотел, было, бежать с ним, да я удержал его. Теперь он притворяется юродивым и имеет сношения с бесами, которым приказывает то молоть жито, то носить бревна на гору с берега; при всем этом он тщательно скрывает найденные им богатства, чтобы удалиться с ним куда-нибудь тайно от меня, когда настанет для этого более благоприятное время; в последнем случае князю, конечно, ничего не достанется.
Услышав это, боярин повел мнимого Василия к князю Мстиславу Святополковичу. Бес рассказал и ему то же самое, присоединив еще следующий совет:
— Схватите его как можно скорее, пока не сбежал, и тогда получите сокровище; если он не захочет расстаться с ним добровольно, прибегните к побоям; но если и после них не согласится отдать, то подвергните его, не жалея, пытке и позовите меня: я пред всеми уличу его и укажу самое место, где спрятано сокровище.
Обольстив, таким образом князя, бес скрылся.
На следующее утро князь, точно собравшись на охоту или против врага, в сопровождении множества воинов поехал в монастырь. Феодора он привел к себе в дом и стал сначала с ласкою спрашивать его:
— Скажи мне, отче, правда ли ты, как я слышал, нашел сокровище?
— Да, — отвечал преподобный, — я действительно нашел его, и оно спрятано теперь в пещере.
— Не известно ли, — снова спросил князь, — кто именно спрятал его и как много в нем золота, серебра и сосудов?
— Еще при жизни отца нашего Антония, — сказал блаженный Феодор, говорили о сокровище, спрятанном варягом в этой пещере, отчего она и до сих пор называется Варяжской; я видел его; оно состоит из множества золота, серебра и сосудов, только латинских.
— Почему же ты, отче, не отдашь его мне? — спросил князь. — Я разделю его с тобою, ты возьми сколько тебе будет нужно, и за это ты станешь вместо отца как мне, так и моему отцу (последний в это время находился в Турове).
Преподобный Феодор сказал на это:
— Я бы ничего не потребовал бы себе из того, что мне не принесет никакой пользы, всё бы отдал вам: на вас лежат такие заботы, от которых я совершенно свободен, но Господь отнял у меня всякую память о том месте, где мною зарыто сокровище.
Тогда князь в гневе приказал слугам:
— Скуйте этого монаха по рукам и ногам и не давайте ему даже через три дня хлеба и воды: он не дорожит моими милостями.
После того, как преподобный Феодор был закован, его снова спросили, куда он спрятал сокровище? Преподобный Феодор отвечал на это то же, что и ранее:
— Я сказал уже, что не знаю, где оно находится.
После этого ответа князь велел его бить так, что власяница, бывшая на преподобном, омочилась кровью; потом, по приказанию того же князя, его повесили в сильном дыму и, привязав сзади, развели под ним огонь. Многие дивились терпению преподобного Феодора: он пребывал среди пламени точно среди росы; огонь не коснулся даже власяницы. Один из видевших это рассказал князю; последний, придя в ужас, опять стал увещевать старца:
— Зачем ты губишь себя, не открывая сокровища, которое должно быть наше?
— Я тебе истину говорю, что по молитвам брата моего Василия был избавлен от сребролюбия, когда нашел сокровище, и теперь, — снова повторяю, — Господь отнял у меня память, где оно зарыто, — отвечал преподобный Феодор.
Выслушав этот ответ, князь тотчас послал за блаженным Василием, которого привели силою, так как он не хотел выходить из пещеры.
— Всё, что ты советовал мне сделать с этим злым старцем, — обратился князь к преподобному Василию, — я сделал, и ничего не достиг и призываю во свидетели тебя, которого желаю иметь вместо отца.
— Что же я тебе советовал? — спросил в недоумении преподобный Василий.
— Он, несмотря на мучения, не хочет открыть, где спрятано им сокровище, которое, как ты сообщил мне, было им найдено, — отвечал ему князь.
— Узнаю козни лукавого беса, — сказал преподобный Василий, — прельстившего тебя, оболгавшего меня и сего честного мужа: вот уже пятнадцать лет, как я не выхожу из пещеры.
— Ты при всех нас говорил князю, — возразили присутствовавшие при разговоре беса с князем.
— Вас всех прельстил бес, — отвечал преподобный, — я не видел ни вас, ни князя.
Разгневанный князь приказал и его, как преподобного Феодора, подвергнуть жестокой пытке. Не вынося обличения и придя в сильнейшую ярость, от опьянения перешедшую в буйство, он взял стрелу и ранил блаженного Василия. Извлекши стрелу из своего тела, преподобный бросил ее князю со словами:
— Этою стрелой скоро сам будешь ранен, — что и сбылось по пророчеству святого. После этого князь велел заключить преподобных, еле живых уже от мучений, в отдельную темницу, чтобы утром подвергнуть их новым, более жестоким пыткам. В ту же ночь оба преподобных отошли ко Господу (в 1098 г.). Господь вывел их души из темницы для прославления Его всесвятого имени в присносущем свете. Узнав об их смерти, пришли братия и, взяв тела святых страдальцев, с честью погребли их в Варяжской пещере, где они проводили свою, полную богоугодных подвигов, жизнь. Впоследствии они были перенесены в пещеру преподобного Антония, где и доныне лежат нетленны в окровавленных одеждах и власяницах, тоже не подвергшихся тлению.
Спустя немного времени после их блаженной кончины, сбылось пророчество преподобного Василия: князь Мстислав Святополкович был ранен стрелою во время битвы с князем Давидом Игоревичем в городе Владимире; узнав стрелу свою, которою ранил преподобного Василия, он сказал:
— Вот я умираю, наказываемый за преподобных Феодора и Василия.
Так злой убийца был наказан за свое преступление.
Память преподобномучеников Василия и Феодора Печерских празднуется 11 августа, в день их кончины. Общецерковное почитание блаженных установлено указами Святейшего Синода ещё в восемнадцатом веке. На древних иконах преподобных изображали стоя. При этом святой Василий в руках держит стрелу или книгу.
Столь подробный рассказ об их подвигах стал возможен благодаря настоящему чуду. Ведь дошедший до наших времен Киево-Печерский патерик — это настоящий религиозный, исторический литературный памятник.
Первые летописи о жизни монахов Киево-Печерского монастыря появились в далеком XIII веке. И благодаря переписчикам, переводчикам, архивариусам — сохранившим в память потомкам те рукописные тексты — мы имеем уникальную возможность узнать о судьбах патриархов, служивших Церкви десять веков назад.
Эта редкая книга составлена не только из летописных историй о создании и строительстве монастыря, борьбе с язычниками, перечнем важных событий тех времен. В нём также присутствуют краткие занимательные истории о борьбе монахов с бесами и разбойниками. При этом описания отличаются увлекательным сюжетом и большим драматизмом.
Читая рассказы о подвигах блаженных Феодора и Василия Печерских, множество поколений верующих укреплялись в борьбе с грехом алчности. Пример святых учит смирению, молитве и всепобеждающей силе Православной веры. Преподобные страдальцы, как победители диавола, побеждающего сребролюбием, увенчаны не тленным серебром и золотом, но вечною славою и честию: они получили венец от драгоценного Камня — Христа, Ему же честь и слава с Богом Отцом и Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.
***
Попов перекрестился. Потом ещё раз. И ещё. Оглянулся назад, и посмотрел на стену, где у него между репродукцией «Последнего дня Помпей» Брюллова и постером фильма «8 ½» Феллини висел подарок друзей — доска с выжженным рисунком козлиной морды с серьгой в ухе. Иван Степаныч подошел к ней, осторожно снял с гвоздика, а потом резко, как обладатель черного пояса по каратэ, ухнул по деревяшке своим острым не молодым коленом. Доска с сухим треском переломилась пополам.
Странно, но Ивану Степанычу Попову на миг полегчало. Даже перестали болеть чирьи. На пару секунд.
32 Пятовский ставок
В эту ночь Томасу ничего не приснилось. Совершенно. Подскочил за миг до того, как его тронули за плечо.
Леся ещё спала. Когда он ложился, она уже спала.
Постелили им в летней кухне, в доме баронессы. Она же и пришла будить.
Томас привстал на локте. Посмотрел, щурясь в окно. Время ближе к шести, а лёг он в четыре. Попытался пригладить торчащие в стороны волосы.
Антонина Петровна подала мокрое полотенце.
— Вставай, на Пятовский сходим, порыбачим.
Мысли стали кружиться внутри черепной коробки, как мотоциклисты в железном шаре. Какая рыбалка? Если бы и правда хотела, разбудила б в пять. Пока доберутся — клев уже пройдет. Что-то задумала? Во дворе тихо: все спят, только где-то далеко-далеко на другом конце цыганского посёлка орёт петух, да ещё птицы привычно для этого часа гомонят. Взял полотенце и приложил к лицу, с наслаждением ощущая, как потоки холодной воды, омыв лоб и щеки, полились на голую грудь. Отбросив простыню, подхватился и, не стесняясь своей наготы, прошел до стула, где висели легкие серые брюки и футболка с зеленой буквой «А» на левой стороне груди.
Не надевая трусов, успел только влезть в штаны, а Тоня уже поставила перед ним железную миску с крупно нарезанными дольками арбуза. Алая мякоть манила — Томас только сейчас понял, как его мучила жажда. Ещё этот привкус горечи во рту... Не боясь разбудить Лесю, шумно вгрызся в одну скибку, вторую, третью. Миг — и в тарелке уже одни полосатые корки. Рыгнул, издав звук, как изюбрь во время гона, и сидел с блаженной глупой улыбкой, пока Тоня мокрым полотенцем вытирала его колючие щеки и подбородок.
Приведя Тихоню в порядок, баронесса бросила ему на плечо футболку.
— Пошли.
Этим утром она выбрала комбинезон хаки, косынку и кроссовки. Томас несколько секунд пялился на её белые изрядно поношенные адидасы, пытаясь сообразить, где он раньше мог их видеть? Не вспомнил.
Что ж, пошли, так пошли...
Мир их встретил большими каплями росы на ярко-зеленых листьях винограда и крестьянскими орами петухов. Голубки гугукали. Дятлы трещали. Это было то самое августовское утро, которое в памяти обычно не остается, но зимними холодными ночами часто приходит к нам во снах, чтобы тут же забыться, как только голова оторвется от подушки. Солнце пряталось за заборами и кронами деревьев. Утренняя сырость щекотала рёбра и спину. Воздух был свеж, небо сине, краски мягки. Во дворе приятно пахло малиной, мятой и черной смородиной. Ветерок гладил щеки. Первые лучи солнышка вдруг выглянули из-за листьев и поцеловали прищуренные веки.
Тоня всё уже подготовила: пока шла к воротам, прихватила удочки, сумку и два раскладных стульчика. Томас плелся сзади, почесывая бока, сворачивая челюсть в зевке. Когда вышли на улицу, с удивлением заметил, что машины не было.
— Как поедем? — спросил он озадаченно.
— Не поедем. Пойдем.
Томас вышел со двора без обуви. Опустил голову, посмотрел на свои босые не загорелые ступни.
— Догоняй, — почти приказала Тоня и, не оборачиваясь, пошла по улице в сторону «пятой» шахты.
Тихоня подумал, может вернуться за шлепками? Дойти надо было только до остановки трамвая, и все же... Сначала он ступал осторожно, морщась, когда попадались острые камушки, но после окрика баронессы припустил, уже не обращая внимания на дорогу. Ему даже начало нравится ощущать холодную сырую землю и маслянистый асфальт. Усыпанная мелким гравием обочина приятно покалывали ступни. Было в этом что-то деревенское: частные дома, засаженные фруктовыми деревьями улицы, запах коровьего навоза, козьего молока, этот петух с его летним хитом «ку-ка-ре-ку, красавец»... А он бежит босиком на рыбалку с Тоней, подкатив штанины.
Арбуз помог — горящие в животе угли потухли.
Томас улыбался.
Пропетляв по улицам они вышли к трамвайной остановке у гаражей, за которыми возвышался ржавый террикон. В лучах утреннего солнца он был похож на гигантскую кротовину, только без норы внутри. Томас представил, каких размеров должен быть крот, чтобы выгрести такое количество породы на поверхность. Он бы ещё вертел по сторонам головой, но из-за поворота послышалось дребезжание приближающегося трамвая.
Тоня ускорила шаг. Томас не отставал. Успели.
Трамвай был пуст.
Плиты дверей с грохотом закрылись за спиной и вагон, дернувшись, начал разгон. За огромными окнами проплывали крыши домов, покосившиеся заборы, ворота гаражей, растущие на взгорках липы и тополя. Трамвай шатало, колеса стучали, всё скрипело, звенело, покачивалось. Томас от греха подальше присел на кресло.
— У меня билета нет, — сказал он Тоне. — Это тебе хорошо: сразу видно — пенсионерка. А мне что делать прикажешь?
Антонине Петровне было что ответить — в столь ранний час никто билеты проверять не будет, а если найдется бешеная собака, которой семь верст не крюк, заплатят штраф и всё. Но она сдержалась. Тихоня картинно забросил ногу на ногу, показывая, что босиком, но баронесса отвернулась, не удостоив его и взгляда.
Весь путь до конечной молчали. Ехали без остановок — людей не было — район «пятой» шахты как вымер. Когда трамвай остановился на «кольце», Антонина Петровна собрала вещи и вышла через переднюю дверь. Томас мог её обогнать, чтобы помочь сойти, но не стал этого делать.
Вышли в лесочке. Тонкие высокие стволы акаций, клёнов, дубков, тополей, берез и ещё каких-то неизвестных Томасу деревьев. Как-то раньше не интересовался специально, а сейчас любопытно стало... Океан зелени над головой. Мокрый от росы травяной пестрый ковер с узкими тропинками. Тихоне почему-то вспомнились такие дорожки на севере, где олени в ягеле протаптывали себе путь к водопою.
Везде хорошо, где мы есть. На севере осенью и особенно весной — хоть на двор не выходи — шалеешь от красоты. Кристально чистые озерца между кочками мхов, хвоя, смола кедрача, куропатачья травка, брусника, ягель, дикий малинник, можжевельник, грибы, клюква, водяника, смородина красная, ёлочки, березки махонькие с веточками тоненькими, ветреница, голубика, лимонник; лиственницы местами хилые, но попадаются и крепкие, стойкие, поляны с иван-чаем, багульником... Можно перечислять весь гербарий юного ботаника Сибири... Вдохнешь полной грудью такой воздух и пьянеешь от обилия запахов. Радость проникает в душу с каждым вздохом, чувствуешь себя корнем, стволом, комом земли, родником, речной галькой. Хорошо там, — в крае морозов и нестерпимой жары, стылых ветров и невыносимого проклятого гнуса... Уехал бы на всю жизнь собирать грибы и женьшень, кедровые шишки-паданки, варить варенье из морошки. Вот только охотник из него никакой,никудышный был Томас охотник... Не с ружьем, а с самодельным луком ходил, местным на потеху... За все время несколько куропаток подбил — и всё.
В Диком поле запахи иные — пряные, сухие, горчат. Здесь много тепла, но мало влаги, разве что по утренним росам, когда спустишься в балку или ярок и ноги по колено мокрые. Подорожник, мать-и-мачеха, цветок всех оптимистов и героев — барвинок; медуница, цвета неба перед грозой; донецкие поля из роз, сон-трава, касатики, шафран, тюльпаны, ковыль бархатный — вот где волны, вот где море! А чертополох и крыжовник колючий, подмаренник-желтая кашка, любка, крокус, райка, угорка, яблоньки и черешни, вишни, груши и маки-маки-маки...
И эта проклятая полынь, что сейчас горчит на губах!
Подошли к ставку. Запах тины, камыша, осоки и ряски. Сырости и рыбьей чешуи. Взобравшись на бугор Тоня, как легавая взяла стойку: замерла — рука козырьком. Всмотрелась. Перед ней открылось покрытое рябью, обрамленное с севера зарослями камыша, а с юга песчаными пляжами зеркало для неба.
— Не занято.
Пока шли по-над берегом, Томас заметил, подпалины в камышах. За весь август не выпало ни капли. Местами высохло, зеленое стало желтым, почти белым. Кто-то бычок бросил и всё — запылало! Неприятное было зрелище, словно о картину Шишкина тушили окурки.
Наконец, добрались. Тоня рыбачила на узком, зажатом с двух сторон ивами метра два шириной пляжике. На западной стороне. Чтобы туда добраться, пришлось перевалить через бугорок и по узкой тропинке сойти к воде. Место было обжитое. Подставки для удочек, ведро с мусором, врытые в песок две пятилитровые баклажки, со срезанным верхом и заполненные водой — хранить пойманную рыбу. Отчетливо видны четыре ямки. Не надо быть детективом, чтобы догадаться — это следы от стульчика баронессы. Дно здесь было не пологое, метр-полтора ещё видно и дальше — чернота.
Тоня за минуту разложилась. Достала коробки с прикормкой, наживками, хлебом, выдвинула на полную длину бамбуковые удочки. Движения скупые, отточенные до автоматизма — ничего лишнего. Только пришли, а смешенная с прибрежной землей макуха разбросана по воде, черви на крючках, две удочки воткнуты в подпорки — одну баронесса держала в руках. Стульчики заняли свое место, сумка висит на крючке, прикрученном к стволу рядом растущей ивы.
Томас подумал, что все эти действия — раннее пробуждение, дорога, прогулка через посадку, приготовления, были сделаны только для того, чтобы ярко-розовые поплавки стали дразнить Тоню. Он не понимал рыбалки, не испытывал никаких эмоций при виде килограммового леща или карпа, был равнодушен к количеству и размерам пойманной им рыбы. Когда поплавок нырял и он начинал тянуть что-то тяжелое, трепыхающееся, норовящее ускользнуть, в душе просыпался азарт, но вся радость заканчивалась в тот момент, как только подлещик, окунек, бычок или карасик, оказывался в его руках.
...Присел на стульчик. Солнечные лучи гладили волны, отражаясь от воды так, словно по ставку разбрасывали золотую мелочь. Ветерок свеж. Утро жаркого засушливого августа, но осень уже слышна в прячущихся по берегам клочках тумана, и успевшей остыть за ночь воде. Вокруг ни души. Кто рыбачил, те уже ушли. Камыш, ивы, высаженные в ряд березы, облака и тишина.
Томас, шумно разогнав ногами мутные зеленые волны, вдавил стопы в песок. Вокруг пальцев появилась черная дымка тины. Тоня, большая, необхватная, мрачная, на такое хулиганство ничего не сказала, сидела, держа в руках удочку, и смотрела на поплавки пустыми заледеневшими глазами.
Листики ивы шевелятся, холод подбирается к пяткам, тень от облаков пробегает по ставку — мир движется, живет, шевелится, ветер трется боками о румяные терриконы, но Томасу кажется, что время замерло, всё замерло. Он сидит на маленьком раскладном стульчике, слушая шум небольших волн, шепот в кронах деревьев, вдыхает озёрный воздух, с запахами осоки, гниющих корней камыша, топляка, кувшинок.
Этого ему хватило на пять минут. А дальше что делать? Для чего он сюда пришел? Смотреть на молчащую нахохлившуюся Тоню? Она не в духе. Послали её... Люся какая-то. Но он-то тут при чем?
Взять в руки удочку? Не хочется.
Мысли подобны холодцу — застыли.
Прострация.
33 Грабители времени
Сколько прошло времени до того момента, когда Тоня наконец прервала молчание, неизвестно. Томас вздрогнул, как очнулся от сна.
Баронесса прокашлялась и сказала задумчиво:
— Пока тебя не было, через Городок пыльная буря прошла. Как в тридцатых. Серая стена, кучерявая такая... До неба. Наползла и поглотила — не продохнуть. Ветер, пыль во все щели — народ визжит с непривычки. Так вот, оказывается, солнце, когда светит через пыльную пелену, совершенно не жжется. Смотришь на него, как на прикрепленный к дверке холодильника магнитик, и оно кажется беспомощным. Я уже и забыла как это красиво... А то, что стариков повидал — это хорошо. Они дело говорят. Но послушай ещё и старуху. Всё что они рассказали — это правильно, это поможет, но ты лучше подумай вот над чем. Иногда важно не то, что тебе сказано, а то, о чем они решили умолчать. И почему.
Тоня сменила наживку на крючках.
Томас попытался обдумать услышанное, но голова отказывалась соображать. Он просто не выспался, устал, это для него слишком сложно. Сейчас бы подставить стульчик поближе к Тоне, положить голову ей на колени и со всем своим удовольствием прикорнуть бы на часок. Вот только не вышло у него ничего...
Баронесса добавила ещё несколько коротких фраз, и Томас понял, что ради этих слов она его и разбудила, привела к воде — от людей и Князя подальше. Слова произносились, ещё не был ясен полный смысл, но Тихоня уже почувствовал, что они больно ранят его и ему будет тяжело их вынести. Если Тоня пошла на такие сложности, приготовления, значит ей трудно признаться в чем-то... Но почему она так боится? Неужели в мире есть нечто, что способно ранить того, кто уже отмеряет...
Наконец-то он сообразил ЧТО услышал.
Да, есть и пострашнее...
Антонина Петровна сказала:
— Посидим часик и пойдем. У нас много дел. Сегодня, чтоб ты знал, тридцать первое августа.
После этих ужасно глупых и нереальных слов Томасу поплохело.
Сегодня тридцать первое августа.
В землянку он вошел в воскресенье.
Если поверить Тоне, уже настало утро среды.
Среда — это день гадания.
Сегодня — тридцать первое августа...
Томасу уже было всё равно, как такое могло произойти, чья в этом вина — стариков, игры в карты или поцелуя Люси... Вопросами утраченного времени не вернуть.
Уже не вернуть.
У него на всё про всё остались неполные пятнадцать часов.
Тихоне вдруг стало так обидно! До боли в сердце и больших, как жемчужины, слёз на глазах. Это так несправедливо! Князь крадет несколько месяцев, старики и Люся от оставшегося огрызка вырывают ещё почти три дня. Это время он бы мог провести с Тоней и Лесей... Но уже не проведет. У него их забрали. Забрали время. Забрали право на ласку, завтраки, обеды, ужины, сны, ничего не значащий трёп, кошачье мурчание, походы в магазин, смех, лежки на кровати, ругань, подколки и розыгрыши, поцелуи, сидение в туалете — всё то, из чего состоит обычная жизнь.
Оставшийся час не показался Томасу пустым. Каждый его вздох, поглаживание ветра, набежавшая на берег волна были наградой. Окружавшая его трава, цветы, деревья, небо, вода и земля вдруг стали соучастником его горя. Пятовский ставок провожал его и прощался с ним. Сам Городок прощался с Томасом Чертыхальски. Вернее, Тихоня так хотел думать, что Городок с ним прощается, но это, конечно же, было не так. Городку нет до него дела... Ровно через сутки он неизвестно где окажется, а вот эти, растущие на пляжике ивы и дальше будут терять свои листочки. Листочки упадут в воду. Волны их прибьют к берегу. На берег придут рыбаки. Облака, отбрасывая гигантские тени, и дальше будут скользить над землей. На шахте имени Ленина клеть с грохотом и лязгом спуститься вниз, и ребята разойдутся по лавам; в автогаражах водители заправят баки и разъедутся, продавцы на рынках выставят свой товар, чьи-то дрожащие от предвкушения руки забьют гильзу травкой; старухи у церквей прогундосят свои зазубренные жалобные речовки, клерки включат компьютеры, воров ждет новый срок, матери пойдут выгуливать детей, мужья будут изменять женам, жены — мужьям... Жизнь потечет своим чередом. Как до него, так и после. Это сейчас Томас имеет возможность ощущать, осязать, вкушать, видеть, наконец... Сто лет прожито, а не надышался. Отсекал все лишнее, как та ящерица свой хвост, забывал, отворачивался, не вникал.
Небо такое прозрачное, голубое... августовское. Воздух звенит. Ощущается какое-то напряжение. Давление скачет, что ли? Дождь будет? Пора бы... Тоня обычно чувствует приближение грозы. Спросить?
Антонина Петровна сидела, опустив голову, отвернувшись от Тихони. Наверное, ей сейчас ещё хуже, чем ему. Всё это время она находилась возле тоннеля и ждала его. Ждала, прекрасно зная, к кому он пошел в гости... Вернее, к кому она послала Томаса в гости. Воскресенье, понедельник, вторник... Он появился в ночь на среду, когда времени почти не осталось. Это он пребывал в счастливом неведении, забытье, но Тоня всё прекрасно понимала, и ожидание для неё было пыткой. Хуже пытки... Так думал Томас, сидя на берегу и полоща свои босые ноги в не желавшей теплеть воде.
Поплавок юркнул, как мышка в норку. Удилище — вверх и в сторону. Карасик выпрыгнул из воды, серебристый с розовыми полосками на боках. С ладошку. Тоня подхватила его, ловко сняла с крючка и хотела бросить в баклажку с водой, как вдруг из зарослей вышел рыжий дикий котяра. Грязный, одноглазый, с куцым хвостом. Томасу почудилось, что это был брат близнец Соловья — одна и та же разбойничья морда. Впервые за утро Антонина Петровна улыбнулась. Положила рыбу на траву. Кот, недоверчиво посматривая на Томаса, подполз и схватил карасика зубами. Замер, раздумывая, здесь съесть или в кустах... Кто победит? Страшный незнакомый худощавый длинноволосый или добрая высокая огромная надежная кормилица? Съел тут же на пляже, урча от удовольствия. Затем, обнюхав пустое корытце, потерся о ноги баронессы и сел на песок между Томасом и Тоней, нервно дергая обрубком хвоста, посматривая через прищур на блестящую воду...
Домой пришли в одиннадцатом часу. Первым делом разошлись по душевым. Томас вымыл голову, побрился, намылился с макушки до пяток, и со всей силы натёр себя вехоткой, наверное, желая содрать кожу. Вехотка... Где так говорят? В Сибири. Много слов он оттуда привез. И с югов тоже...
Что такое человеческая жизнь? Опыт, выраженный через слова и воспоминания; выбор, сделанный нами раз и навсегда; события и поступки — мелкие и важные, повлиявшие на чужие жизни. Ручей впадает в протоку, протока в приток, приток в реку, река в море, море в океан. В океане есть и мои капли, думал Томас, смывая хлопья пены с груди и раскрасневшихся боков. Так ли это? Если так, то какой водицей он поделился с океаном? Живой или мертвой?
Уж точно не живой...
Вышел из ванной красный, румяный, чисто выбритый, красивый, с горящими от возбуждения глазами человека, принявшего важное решение. Заметил лежащие на стульчике халат и новые трусы — белоснежная хлопчатобумажная ткань, CALVIN KLEIN на резинке и вышитая вручную буква «Т» с правой стороны.
Спустился на первый этаж, в столовую. Поздний завтрак или ранний обед — какая разница? — но здесь были все: Петр Алексеевич, Тоня, Катерина и Олеся. Мягкие пастельные цвета рубашек и блуз — светлый верх, темный низ. Стеклышки очков задорно блестят. Движения плавные, ножи-вилки, ни дать не взять — семейство интеллигентов на даче решило отобедать. Накрахмаленная скатерть, красивая сервировка, широкие блюда и тарелки, соусники, хрустальные графины, бульонница с большой, похожей на перевернутый казан для плова, крышкой.
Катя хотела сделать Томасу приятно, и у неё получилось. С продуктами помогла Тоня. Утиная грудинка с винной грушей и клюквенным соусом. Бульон из утки. Фаршированный рисом и овощами кальмар. Медовый лосось с жареной кинзой, имбирным гелем и крокетами из картофеля. «Цезарь», икра летучей рыбы и французская зерновая горчица. Только для него — любимые тосты, чуть-чуть смоченные с одной стороны в оливковом масле. Нотку агрессии всей этой красоте вносили половинки крупных помидоров и нарезанные соломинкой болгарские перцы в салатнице. В графинах минералка — никакого спиртного.
Все уже трапезничали.
Томас присел на свободное место между Олесей и домохозяйкой. Звон серебра о фаянс, сопение, шум пережёвывающих пищу челюстей. Князь развлекает барышень светской беседой:
— ...она сказала: «Рассвет нового дня — предвестник заката. Земля — не навеки наш дом». Представляете? Девочке всего одиннадцать, а уже такая умница. Поражаюсь, какие восхитительные дети растут! Мы такими не были...
Леся пожала Томасу руку, подмигнула, улыбнулась. Тихоня посмотрел в наполненные щенячьим счастьем девичьи глаза, и догадался, что она даже не подозревает, насколько для всех сидящих за этим столом важен сегодняшний день. Молодость эгоистична. Она не замечает показное благодушие Князя, упрямые складки между бровей Катерины, льдинки в зрачках баронессы. Когда вся жизнь впереди, зачем обращать внимание на такие мелочи? Но в этой наивности прячется столько понятных Томасу смыслов, что оторопь берет. Ведь это такая удача, увидеться с той, кто не ведает страха! Это, конечно же, не любовь, Тихоня так и не познал этого чувства, и, скорее всего, уже не познает, но... Он согласен променять любовь на Лесю. Она была настоящим украшением его последних дней — это истинная правда. Сидит рядом, весёлая, красивая, не понимая, что для Томаса уже не существует четверга и пятницы, никаких больше островов и любовных плясок, хозяйки корчмы и богатого постояльца. Жаль... Мог бы сейчас взять её за руку и отвести на второй этаж, положить на кровать... Но этого делать нельзя... А потом не получится — Тоня не отпустит в такой день...
— ...«Жизнь — лишь тень на стене!», — она говорит. Глазенки васильковые, ресницы веером, платьице, носочки, туфельки лакированные. Такое милое создание. И папаша за спиной стоит — табачищем воняет, ненавистью брызжет. Через слово «сгадили Россiюшку», словно мы в николаевские времена вернулись. Ума хватает дочке учителей-репетиторов нанимать, а самому рядом посидеть времени нет. Такая поразительная разница между поколениями, я вам скажу, Антонина Петровна... Это радует. Подобное и раньше случалось — все детки светлы, а взрослыми огреховниваются. Но нынешние... Подрастающие, думаю, когда им позволят, наворотят таких дел!
Томас ел с удовольствием. Кальмары были нежные, сухарики в «цезаре» как он любил — не пересушены. Бульон жирный, с какими-то хитрыми специями, названия которых Томас не знал. Попросил добавки.
Отобедав, Князь раскланялся и, сославшись на заботы, удалился. Олеся помогала Катерине убирать и мыть посуду. Тоня подождала, пока Тихоня отставит от себя тарелку. Промокнув салфеткой губы, встала из-за стола.
— Пошли, рогожку примеришь.
Поднялись на второй этаж. Зайдя в спальню баронессы, Томас заметил, как на створке трельяжа висели закрытые прозрачным целлофаном «рогожки» — два смокинга, белый и чёрный. Однобортные. Сняв оба, повертел в руках.
— Касабланку?
— Попробуй этот.
Сбросив халат, взял со столика мохнатую кисточку и припудрил подмышки. Не застегивая запонки, надел сшитую из тончайшего хлопка рубашку, чёрные брюки с подтяжками, жилет и пиджак. Белую бабочку не стал повязывать: и так было понятно, что классика ему к лицу.
— Ну, теперь твой любимый, — сказал Томас, вытаскивая из целлофана белый костюм.
Сорочку и брюки оставил прежние, сменил черные части смокинга на белые. Присел на пуфик и приподнял одну ногу, а затем другую, пока Тоня натягивала ему черные носки. Затем баронесса нагнулась и, кряхтя от напряжения, вытащила из-за трельяжа три коробки. Отбросив крышки, достала черные туфли. Дыхнув и протерев их рукавом блузы, поставила перед Томасом.
— Выбирай.
Подошли средние — легкие и не жмут.
Вот теперь весь ансамбль собран. Рубашка с воротником-стойкой, углы загнуты, одинарные манжеты застегнуты белыми запонками; черный галстук-бабочка (Тоня завязала), белый жилет со спиной из шелковой ткани, чтобы скрыть подтяжки; черные брюки без лампасов и такого же цвета туфли; ослепительно белый шерстяной пиджак с гладкими лацканами английского кроя, черный платок в верхнем кармашке.
Баронесса подошла сзади и массажной расческой уложила Томасу волосы. Затем сняла перстень с черным камнем и надела ему на средний палец правой руки.
— Потом отдашь. Смотри осторожно с ним, я его когда-то уже теряла.
Посмотрел Чертыхальски и себя не узнал — в зеркале был совершенно иной Томас: стройный, породистый, но при этом похожий на запойного поэта, лакающего бочками осеннюю грусть и тоску.
— Богарт — отстой, — вынесла приговор Антонина Петровна.
Грудь — колесом, челюсть — вперед.
— Томас — forever!
Посмотрели друг на друга через зеркало и рассмеялись от души — как плотину прорвало.
— Что делать будем? Времени — вагон, — спросил Томас, успокоившись.
— Я тебе книжку почитаю. На веранде. Киношку посмотрим.
— Какую?
— «В джазе только девушки» есть. Прихватила тебе «Гнездо кукушки»...
Томас скривился.
— Не сегодня... В другой раз...
— «Любовь и голуби»?
— Не, пусть будет «Погорячее», — сказал Томас, расстегивая пуговицу на смокинге.
Раздевшись, он повесил костюм на тремпель и закрыл его целлофаном. Набросил на плечи халат.
— Без перевода, с титрами посмотрим?
— Давай, — ответил Тихоня.
— Потом пойдешь к себе — тебе ещё поспать надо, сил набраться.
Поцеловав Антонине Петровне её большую мягкую руку, Томас сошел вниз. Когда спускался по лестнице, вспомнил, как перед зеркалом изображал афишного героя, и снова рассмеялся.
...«В джазе только девушки» они с Тоней смотрели, наверное, раз сто.
34 С вороньего полёта
В последние дни августа темнеет по-осеннему. Только недавно в девять можно было в футбол играть, и вдруг на улицах пора фонари включают. Стоп! Как это? А вот, правда... Выйди во двор, пронесись рысью по центру, а если сесть на такси и рвануть по окраинам, то можно вообще с ума сойти! На Семидорожках, в Калиновке, Октябрьском, — везде горит свет. Последнее время здесь фонари горели... никогда! Нет, столбы стояли, но без ламп. А тут — о, диво! — весь город сияет. Если превратиться на часик в ворона и рвануть вверх, то можно увидеть, как Городок накрыло электрическим пожаром. Оказывается, он такой красивый, когда ночь и когда свет...
У электричества есть любопытное свойство скрывать грязь, мусор, тлен, паршу и плесень. Но меня не обмануть нарядной иллюминацией, гипнотическим светодиодным миганием витрин, магией пылающего вольфрама. Да, с высоты, издалека ночью всё кажется красивым, но если впитать в себя геометрию пересечения улиц, вскрыть нутро местечковое, вдохнуть его ароматы, то скоро поймешь, что город-то наш безнадежно болен. Родился в алчности, с малолетства трудился, воевал с доблестью, работал, отдыхал, получал премии, жил экономно, сажал цветы, играл в футбол. Ему бы жить и жить... А так, получается, исчерпал свой запас и пришла пора думать о вечном...
Городок наш слишком большой, чтобы в тишине пересидеть плохие времена. В начале века он объединил шахтёрские поселки, но что делать, когда рудники закрывают? Всё, что заработано за сто лет — растранжирено. Закрыты, разграблены «Кочегарка», Изотова, «Комсомолец», фабрики и заводы... Рынки да пара предприятий, как живительные капельницы ещё питают глюкозой высохший из-за болезни организм, но насколько этого хватит? Кто будет кормить эту многозевую орду нищих горожан, ютящихся в своих крысиных норах? Это раньше они были гражданами, как они считали, большой великой страны, а нынче настали времена перемен, испытаний, когда все против всех и каждый сам за себя. Республики-страны усыхают. Сжимаются до размера хутора. Кто-то жирует — всегда есть тот, кто жирует. Но горожанам от этого только больнее, ведь бедность заметней на фоне особняков...
Тоска накрыла Городок. Доживает он своё, последнее, упорно мечтая о гальванических зарядах новых идей, смыслов, чаяний, но всё впустую и праздничные гирлянды тут не помогут. Остаются только воспоминания о трудовых подвигах, демонстрациях и песнях под гитару. Унизительная ржа упадка отравляет воздух, а где бедность, там и грязь, где грязь, там и грех, а где грех, там... Прислушайтесь к чужим тайным мыслям, приглядитесь к тому, что люди вершат в тот момент, когда их никто не видит и не может поймать за руку или какую-нибудь срамную часть тела. Людская порода проста — этот сосуд греха испить до дна никому не удавалось. Потому что ты пьешь, а они все льются и льются - как не в себя лакает. Умирает Городок и никакими ретушированием невозможно скрыть трупные пятна, поэтому лечу я высоко-высоко, чтобы не обонять смрад разлагающегося тела...
...А вот фары машин мне нравятся. Не выскочки, а просто движущееся дополнение к залившему Городок морю света... Вот есть большие фонари — они стоят, а фары авто передвигаются. Красиво...Раньше как было? Двор черный, что страх, и вдруг заезжает легковушка: фары освещают подъезды, словно на руках прожектора занесли. Теперь же всё на своих местах: фонари стоят — ярко горят, машины едут. И этой ночью они не встречались...
Довольно каши — пора жрать мясо...
Сперва расскажу о месте, в котором должно пройти гадание. Кто местный тот знает, что по адресу проспект Ленина, 1, значится величественное здание эпохи развитого сталинизма — Дворец Труда. Да, да, именно дворец! Неужели наш хлебосольный край будет встречать князей в менее солидном учреждении? Построен в конце двадцатых обычными горожанами во время субботников и воскресников. Возводили всем миром. Камень сначала брали с местных карьеров, но не подошел. Выручили кирпичи, оставшиеся с разрушенной накануне церкви Ртутного рудника Авербаха. Получился Дворец огромным — на тот момент самым высоким в городе. Центральный фронтон был сделан в духе храма Зевса в Олимпии: портик с пятью большими неохватными колоннами, формирующими семь арок — две боковых и пять фронтальных. Колоннада поддерживала архитрав, на котором в свою очередь вылеплен горельеф — скульптуры счастливых молодых людей. Флаги, гармошки, девочки в веночках...
Когда горожане отступали, то многое взорвали: заводы, шахты, фабрики, — но чтобы покуситься на Дворец Труда, не могло быть и речи — верили, что вернутся. Через два года пруссаки бежали. Пытались устроить фейерверк, но и у них ничего не получилось. Подрывникам тянуть кабель помогал наш, из полицаев. Вот только кто знал, что он был подпольщиком, и не просто так «подай-принеси», а ещё и в этом деле разбирался? Не сработала адская машинка. Когда пришла Красная Армия — он тут как тут. Зашел, обезвредил мины, фугасы или что там ещё было. Герой! Герой? Куда там! Тут же нашлась охотница жаловаться. Настучала в СМЕРШ, что якобы в бытность полицаем любил он по девкам хаживать. Я так думаю, любил-то он любил, а к этой лярве как раз и не заглядывал. СМЕРШ тогда лютовал — Городку досталось во время освобождения — контрразведчики особо разбираться не стали. Это в одном кабинете ты герой, а во втором — предатель. Вывели в скверик и расстреляли.
А что Дворец? Застеклили, подштукатурили, закрасили и всё — готов к эксплуатации. После войны некоторое время здесь театр квартировал. «Наталку — полтавку» ставили, «Ревизора». Потом кино показывали, концерты, торжественные собрания проводили. Жил Дворец...
В последний день лета уходящего тысячелетия, с наступлением темноты началось вторжение в Городок. На всех въездах в город, площадях и перекрестках появились регулировщики. Центральные улицы начали патрулировать военные: румынские рошиоры верхом на лошадях, берсальеры итальянского экспедиционного корпуса и болгарские броневичи на мотоциклах. Офицеры в чудной форме и при этом с красными повязками «комендатура», останавливали и заворачивали назад машины. Зевак разгоняли по домам, у самых говорливых требовали документы. Слишком непонятливых куда-то увозили. Инородная речь и чужая военная форма со смутно знакомыми погонами и знаками отличия пугала горожан. Народ, чуя недоброе, попрятался по домам, выглядывая из-за штор — неужели кино снимают? Город притих. Улицы, если не считать патрульных и регулировщиков, опустели...
Я как-то задался вопросом, а кто из знаменитостей бывал в наших краях? Говорят, Петр I проездом через Дикое поле останавливался на вершине оврага, который потом назвали Государев Буерак. В двадцатых приезжали Молотов и Калинин, чтобы повидаться с горняками, спуститься в шахту. Михал Иваныч честно до мозолей отпахал полную смену. Лазарь Каганович ехал, да не доехал. Подъезжая к «Кочегарке» узнал, что в Городке обитает баронесса фон Унгерн, перед которой когда-то он в чём-то провинился, и счел за лучшее вернуть машину назад в Сталино. Бывали министры, замминистров... Можно поименно, но не стоит — это раньше их фамилии что-то значили, а сейчас... Писатели. Местных перечислять не буду, а из приезжих — это Аркадий Гайдар и Исаак Бабель. Первый у нас работал, второй собирал материал для новой книжки. Исаак жил на Советской, там же сыграл свадьбу с молодой женой из Москвы. Третьей по счету. Последней... Она работала в Метрострое.
Артисты... На День шахтера в Городке выступать было престижно. Заслуженные и Народные пели, играли, плясали, рассказывали. Высоцкий два раза заглядывал. Давал концерты и просто так пел во дворах для новых знакомых. Говорят, Дэвид Боуи мечтал взобраться на террикон «Кочегарки», помедитировать. Хотел заехать после Москвы, да как-то не сложилось. Если же обобщить... Петра сразу же выносим за скобки — это было давно и, скорее всего, неправда... Так вот: из настоящих знаменитостей я бы выделил только Юрия Гагарина, приехавшего летом шестьдесят пятого по службе в Луганск. Когда цыганская почта донесла эту новость Любоньке, она сорвалась с репетиции и махнула на такси домой. Надев лучшее платье, прихватила документы, все имеющиеся деньги — и на вокзал. О, что это была за девушка! Солистка местного заслуженного ансамбля народного танца «Уголек», красива, как мечта. Волосами черна, брови, глаза... Губки чуть приоткрыты, припухлые, словно её только что целовали... Фигура, грудь, осанка... Все это вместе составляло такой ансамбль, куда там военному песни и пляски... Строгих моралей. Находились такие, что пёрли бульдозером, но это на первых порах. Стоило наглецам при пагонах, из больших кабинетов, даже отъявленным мерзавцам поговорить с Любонькой, просто познакомиться, как тут же уходила тупая упрямая самцовость, забывались маты, но появлялась мечтательная улыбка и благородная покорность. Мужчинам хотелось петь и писать стихи. Потому как умна, начитана и в глазах сияет её величество Тайна...
Фамилия у Любы была Гагарина.
Узнав, что рядом находится её знаменитый однофамилец, девушка поехала его искать. Как ей удалось добраться до Юрия Алексеича неизвестно. Рискну предположить, что не последнюю роль сыграл паспорт, но неважно как Люба прошла кордоны, караулы, дежурных в КПП: главное — историческая встреча состоялась... А потом ещё одна, но уже в Городке. Первый космонавт прибыл в наш город в увольнительную инкогнито и даже остался на ночь. Через девять месяцев у Любоньки родился сын. В ЗАГСе ни у кого и мысли не возникло смеяться или испошлить когда мать-одиночка записала в метричке — Александр Юрьевич Гагарин...
Вот и все знаменитости... И вдруг, что мы видим? Двухэтажные английские автобусы колонной, а в них, как сельди в бочке: президенты-премьеры-министры-банкиры-председатели советов директоров-академики-топы-випы-журналисты-писатели-артисты...
Короче, слуги лизоблюдные.
Ближе к десяти явились хозяева.
В десятом часу вечера с севера и востока в Городок въехали две колонны... Я бы мог сказать, что автомобилей, но это будет оскорблением для художников, инженеров и мастеров — настоящих кудесников, придумавших и создавших эти произведения искусства. Наши ямы никогда ещё не проверяли на прочность подвески старичков Bugatti Type 41 Royale, Maybach Zeppelin, Ferrari 375 MM Coupe Scaglietti, Volvo PV4; хулиганов Bentley Arnage, Jaguar XJ Daimler Double Six, Bugatti 16/4 Veyron, Lamborghini Diablo, Ferrari 360 Modena, Aston Martin DB7 и DBS, Lotus Exige, Koenigsegg CC и прочих шикарных авто...
В хвосте плелись Volkswagen Käfer с прислугой.
Это то, что было на земле. Но ведь я не зря взмыл в воздух, правда?
Прислушайтесь... Чу... Разве вы не слышите жужжания шмелей? Они приближаются, приближаются, приближаются... И вот в ночном небе вспыхивают звездочки — белые, красные. Они мигают, как спутники на орбите. Милости просим, дорогие гости! Наш автодром, городские площади, футбольные поля возле школ готовы принять вас: Eurocopter EC155, Ми-171, AgustaWestland AW101, Eurocopter EC130 и прочие вертолеты VIP-класса...
Признаюсь, интересно было наблюдать за прибытием Князей Туринских, Пражских, Мадридских, Лондонских, Римских, Барселонских, Берлинских, Парижских и прочее, и прочее...
Эх, не зря Пётр Алексеевич переживал — не та публика собралась — слишком молодая. Раньше как бывало? Шкандыбает князёк с палочкой — коленки дрожат, а рядом свита мухами вьется, чтобы вовремя поддержать. Эти же иные. Кто в летах, те ещё крепышом: по семь сердец поменяли. Но таких мало. Большая часть гостей поджара, сухопара, ростом с каланчу! Тела, как из камня вылеплены, шеи мускулисты: не гребцы, так регбисты. Зубы заточены, желудки лужены, глазки остры, как алмаз — так и высматривают, что плохо лежит. Умом, правда, не блещут, но раз хватило могзи других по дороге к трону уделать, значит то, что надо — локоточками умеют работать... Улыбаются, но никакими ухмылками и амбре Penhaligon’s и Aramis-Aramis не скрыть идущие от них волны дурно пахнущего презрения ко всему, что видят вокруг себя, к чему вынуждены прикасаться...
А под ручки Князья ведут таких блядей нажористых в камнях-шелках-мехах, что свет ещё не видывал. У всех броши «blackmoor» с арапчонками. С первого взгляда не понять, сколько им лет, от тринадцати и старше, но те, кому за сорок и за школьниц сойдут: пластика, золотые нити, силикон омолодили их мордашки, грудь и задницы, сделав почти кукольными.
Вышли из авто, смешались в толпе. Смех, гул, разноязыкие приветствия и объятия давних знакомых, поцелуи, блеск бриллиантов, щелчки портсигаров и табачный дым в небеса.
Когда гости скрылись во Дворце, наконец, прибыл хранитель традиций. Его явлению можно посвятит целую главу. Эта ещё передвигающаяся по земле древняя мумия прикатила в карете запряженной шестеркой белых лошадей да с грумами — рослыми рязанскими парнями на запятках, одетых в расшитые золотом камзолы, шляпы треуголки, белые чулки, туфли с золотыми пряжками. Карета хранителя подъехала с визгом, криком, лошадиным ржанием, цокотом подков и гроздями искр. Заявилась мумия в Городок не одна, а с Великим Князем Московским.
Подъехала карета к лестнице Дворца, дверка открылась, ступенька выпрыгнула. Вышли гоголями — оба хороши. Во фраках, в белых перчатках, с цилиндрами на головах. Лаковые туфли. С тросточками. У старика набалдашник из бивня мамонта, ручка трости Московского Князя вырезана из клыка моржа.
Должно сказать, хранитель за последние сто лет заметно сдал. Закисшие глазки слезятся, слюнявые губки дрожат, щеки обвисли, пигментные пятна на руках, лице и шее таких размеров, словно материки на карте. Одно радует -золотая цепь с бляхой на месте и спину старикан ещё держит, острыми плечиками играет. Великий Князь Московский рядом с ещё живой мумией смотрится мальчиком. Лет под шестьдесят, высокий, сухенький, с водянистыми ничего не выражающими глазками, с висящим на цепочке моноклем и бородкой клинышком.
Ничего серьезного...
На первый взгляд.
Гостей дорогих встречает сам Петр Алексеевич при параде: фрак, цилиндр, белоснежная хризантема в петлице, в руках тросточка.
— Здравствуйте, Князь, — проскрипел хранитель, касаясь пальцами загнутых полей своего цилиндра. — Вижу, подготовились... В мажордомы метите?
— Что вы? — ответил Князь Киевский учтиво. — С радостью передаю в ваши великоуважаемые руки таинство церемонии и, дабы не смущать своим присутствием хранителя древних традиций, удаляюсь.
Старик, хмыкнув, отдельно кивнул Кропоткину и Великому Князю Московскому.
— Я не прощаюсь. Думаю после церемонии, в независимости от того, кто выиграет, мы с вами ещё встретимся?
— Несомненно, — ответил Князь Киевский. — Когда-нибудь встретимся.
Петр Алексеевич провел старика взглядом, пока тот тяжело поднимался по лестнице. Только когда «рептилия» вошла во Дворец, развернулся к Великому Князю Московскому.
— Не думал, что вам так повезет.
— Не говорите, Петр Лексеич. Прямо как утопленнику.
— Здравствуйте, Григорий Ефимович, — Кропоткин протянул руку.
— Рад видеть, — ответил москвич, снимая перчатку и крепко отвечая на рукопожатие.
— Где вы его найти изволили?
— После вашей депеши послал ребят вызнать, в каком месте этот любитель эфебов живет. Так они в Таиланде себе гарем завели. Мы его под трясущиеся рученьки и в Угловую. Потом — на вертолет и сюда не мешкая...
— Век буду благодарен.
— Пустое. Сегодня я вас, завтра вы меня. По-соседски. Если мы не будем друг друга выручать, то кто поможет?
— И то верно.
— За карету отдельное спасибо — угодили старичку. Не пристало хранителю подъезжать к Дворцу на авто. Кстати, они про вас спрашивали. Не в лестных тонах изъяснялись. Я думаю, с чего бы это? Обычно нас хают, а тут Тишайший Князь Киевский в опалу угодил.
— Потому что Тишайший.
— Не, Петр Лексеич, думаю, причина в другом, — возразил Великий Князь Московский, улыбнувшись. — Ничего, пусть побегают, посуетятся, а то мир вперед летит, каждый день новые открытия рождаются, только вот мы, грешные, не поспеваем, всё ленимся, прошлым живем.
— Ну, это не про вас... Скорее, про мою дедину.
— Не прибедняйтесь. Всему свое время.
— Согласен, Григорий Ефимович. Всему свое время.
Петр Алексеевич достал из жилета луковицу часов на цепочке. Открыл крышку.
— Что, оставляете одного? — спросил Великий Князь Московский, снимая пылинку с фрака Кропоткина.
— Я свое дело сделал, теперь могу и отдохнуть. Всё равно от меня уже ничего не зависит.
— А банкет? Неужели мне придется самому отдуваться?
— Увольте, Князь. Этой публике не до сантиментов — всё сожрут и вам не оставят.
— Заметил. Стариков задвинули. Думают легкое это дело — править... А всё же остались бы, с вами веселее.
— Не могу — дела. Взвалил на себя заботу о воспитании одной грешной души — не в силах отказать.
— Победи в малом и покоришь весь мир?
— Истинно так, — сказал Петр Алексеевич, кланяясь. — Мог бы отказаться, да некому под руку сказать: «Pietro, lascia de donne e studia la matematica[1]».
Доля секунды понадобилась Григорию Ефимовичу, чтобы докопаться до смысла сей аллюзии, а когда шарада была разгадана, Князья посмотрели друг на друга и рассмеялись. Правда, тут же замолчали, оглянулись по сторонам — заметил ли кто? Было бы совершенно не charmant так демонстрировать свое неуважение к гостям, но площадь перед Дворцом уже опустела — Князья и их подруги занимали свои места, готовясь к премьере века. Свидетелями были только стоявшие навытяжку у дверей военные в мундирах дивизии «Шарлемань».
Григорий Ефимович, сжав Кропоткину руку повыше локтя, сказал:
— Удачи в делах ваших, дружище.
— И вам того же, Князь... Не знаю, как всё пройдет, но лучше не задерживайтесь допоздна. Мало ли, что... Мой Томас способен такое отчебучить.
Кропоткин наклонился и, понизив голос, сказал на ухо старому другу:
— Гриша, сознаюсь, приснился сон престранный. Что этой ночью у нас мельница взорвется, и над Городком начали летать мешки с мукой. Паника, вьюноши и барышни визжат, ручки заламывают — кошмар! Во все стороны феррари и порши, как те тараканы, разъезжаются, а сверху на них мешки с мукой. Взрывы столбом... Глаз не отвести — так красиво...
Пётр Алексеевич развернулся и вразвалочку пошел прочь от Дворца, что называется: пост сдал — пост принял.
Когда в воображении Григория Ефимовича ожила картинка со столь необычными артиллерийскими снарядами, и перепуганными Князьями, а потом вдруг его осенила догадка, когона самом деле Кропоткин имел в виду, рассказывая анекдот про математику,то, уже не стесняясь, загоготал в полный голос.
Русский хохот разнесся над Европой.
Гости во Дворце притихли.
После секундного замешательства стали дальше хрустеть крахмальными воротничками, обмахиваться веерами, словно ничего не произошло...
Вытащив из кармашка платок, Великий Князь Московский промокнул глазки.
— Ну... От... Зараза... Попробуй, переделай таких... Рюрикович. Наша порода!
[1] «Pietro, lascia de donne e studia la matematica» (итал.)- «Петр, оставь женщин и займись математикой» Эту фразу одна венецианка однажды сказала Жан-Жаку Руссо, обратившись к нему по имени Zanetto. Руссо, Исповедь, (ч.2 кн. 7) Петр Алексеевич сей анекдот переиначил на свой лад.
35 Отдарок
Вернувшись домой, Петр Алексеевич заслушал доклад охраны. Затем, спросив у Антонины Петровны, где Чертыхальски, пошел к нему в комнату. Томас дремал, закинув руки за голову. Когда Князь вошел, он сделал вид, что спит. Петр Алексеевич приоткрыл дверь и постоял немного, пока глаза привыкали к темноте.
— Всё, я свою партию спел, — сказал Князь,присаживаясь на кровать, — теперь ваш выход. Не подкачайте, Томас... Я зачем пришел. Мне пора. А вы молодец, Тихоня, молодец. Правильно жили, многое успели сделать, и сделаете ещё, я знаю. Понимаю, не довольны...
Князь поправил плед, лежащий на коленях Чертыхальски.
— Я бы с радостью хотел оказаться на вашем месте, но я — не вы. Мне не дано смешивать коктейли судеб народов. Разрушать — вот это да, не отнять. Вы думаете, вам одному тяжело? У вас пруссаки, а мне за революции ещё расхлебывать... Но живу как-то... Привык уже.
Князь встал, выпрямился, кивнул:
— Честь имею.
Кропоткин хотел уже выйти, но вдруг замер на пороге...
Обернувшись, Пётр Алексеевич увидел в полосе света Тихоню. Глаза его были открыты — Томас смотрел в потолок.
Князь кашлянул.
— Слушайте, голубчик, отдайте Лесю, а. Ведь хорошая девушка... Далеко пойдёт...
Томас одними губами прошептал:
— Забирайте.
Князь вышел, осторожно прикрыв за собой дверь. Ни с кем не попрощавшись, он покинул дом баронессы. На улице его уже ждали. Леся подобрала походный наряд: джинсы, байковую клетчатую рубашку, кеды, за плечами рюкзак, в котором поместились все её оставшиеся после пожара вещи.
Вытащив из петлицы фрака белую хризантему и вручая её Лесе, Князь сказал:
— Ну что, красавица, в путь?
Стянув туфли, Петр Алексеич зафутболил их в кусты. Снял носки, развязал галстук-бабочку, сдвинул цилиндр на затылок, и, взяв Лесю под руку, он повел её по улице. Если бы в этот миг кто-то посмотрел в окно, то мог подумать, что под фонарями идут, ни дать ни взять: комсомолка-красавица и опереточный герой — «да я шут, я циркач, так что же?»...
— ...люблю первые мгновения, когда ты ещё пахнешь домом, помнишь мягкость перины, потрескивание дров в камине... А под ногами уже не паркет, но теплая родная земля... Ты ещё не думаешь о пути, дорога даже и не началась, но первый шаг сделан... Захочешь, всё равно назад не вернешься...
Пока Князь и Олеся ещё брели по улочкам Городка, произошли некоторые не совсем понятные события, к нашей истории вроде никакого отношения не имеющие. Хотя... Дело в том, что этой ночью наши «скорые» в Городке работали на износ. Инсульты, инфаркты, аневризмы и прочая скоропостижная гадость доконала некоторых горожан. Удивительно — смертельные случаи отличались избирательностью. До утра не дожили два заместителя городского головы и двадцать семь чиновников исполкома. К праотцам отправились человек сорок из прокуратуры, «избушки», милиции, налоговой, пожарной инспекции и прочих проверяющих органов. Выкосило почти весь судебный состав, поэтому в сентябре 1999 года штатное расписание в судах пришлось наполнять новыми кадрами... Из медиков полегли гинекологи — аборты потом некоторое время делали интерны... Кто наркотой барыжил, ширкой, трамадолом, ни один не выжил. Из «металлистов» каждый второй полег. Зацепило и наших коммерсантов. У Иван Сергеича сердце прихватило, но вычухался, можно сказать, пронесло...
Представьте, что в Городке творилось днём второго и третьего сентября, когда почти из каждого двора начали выползать увешанные венками процессии, и воздух разорвали духовые марши: музыкантов свозили со всех ближайших городов. Работяги в похоронных бюро от усталости с ног валились — пришлось экскаваторами могилы рыть... Казалось, ужас-ужас, однако не прошло и месяца, а всё забылось. Горожане приказали себе такое забыть. Скоро о покойникахникто и не вспомнил. Даже напротив, после гадания в Городке стало легче дышать, что ли... Как-то чище... Но, это я забегаю вперед... А пока...
...Томас лежит на кровати и смотрит в потолок, физически ощущая, как от него удаляется Леся. Он успел с ней попрощаться. После «Девушек» и Лермонтова на веранде пошел к себе в летнюю кухню, где она его терпеливо ждала. Они не произнесли друг другу ни слова — всё было и так понятно. Любая сказка имеет начало и конец. Иногда грустный.
Проснулся, когда уже начало темнеть. Леси рядом не было. Поэтому он так легко отпустил ту, Кто Не Испытывает Страха. Отпустил, потому как знал, что ей на роду написано сразиться с Князем и сложно узнать, кто окажется победителем... Но эта битва Томаса уже не касается — ему предстоит свой подвиг...
Что загадано — исполнено. Сто лет отмахал, почти сто один — пришел срок сражаться за новое желание. Готов ли? Князь сказал, что свою партию исполнил. Это так. Томасу созданы лучшие условия, старики помогли настроиться, подвести итог жизни... Они сказали, что прежде чем преступить к гаданию, он должен определиться с новым желанием. Сейчас в эти минуты все получившие приглашение преодолевают последние километры, чтобы прибыть в Городок. По дороге их, как обычно, поджидают всяческие трудности, стечения обстоятельств, совпадения. Во Дворец Труда попадут только те, кто совершит маленький подвиг — окажется сильнее чужой воли, победит, подчинит её себе. Томасу не надо преодолевать препятствия — он местный — но это не означает, что он явится на всё готовое. Желание, которое он должен загадать — вот его испытание и проверка. Скорее всего, об этом говорили старики. Достойно ли желание того, чтобы с ним, как со штандартом выйти в зал? Победит ли оно чужие судьбы? Поумнел ли он за этот век? Что желает получить в конце своей жизни?
36 Правила игры
Томас размышлял:
«Простые вопросы и правильные честные ответы — так говорили старики? «Игра начинается, когда ты садишься за стол. Мы рождаемся, и начинается игра. Ты сидишь за столом». Это понятно: теория относительности, эмпириокритицизм и субъективный солипсизм. Тут деды ничего нового не открыли, просто сжали его мироощущение до одной неакадемической фразы. Что ж, краткие вопросы — честные ответы... Что значит, всегда четыре игрока? Четыре стороны света? Три пространственных измерения плюс четвертое — время? Первая раздача и первый расклад карт: кто родители, где родился, в какое время, кто окружает, какие повитухи, болезни в младенчестве или их отсутствие... Поэтому первый козырь всегда крЕста. Первая раздача зависит от высших сил. Самых высших. Они решают, когда я сажусь за стол, где он будет находиться, когда и кому суждено присоединиться к игре. «Один игрок на твоей стороне. Если на твоей стороне нет игрока, ты проиграл. В одиночку никто не играет». Это просто. На моей стороне должна быть мать, друг, любимая, жена, ангел хранитель, наконец! Если в самом начале мать не на моей стороне, то мне суждено умереть во время родов... Или ещё раньше... «Ты и тот, кто напротив — вы одно целое». Так и есть... Так должно быть... А кто у меня был союзник? С кем я играл в паре? Вспоминается только старик Соболь. Потом баронесса... Наверное, Князь... Много-много было союзников, которых я использовал, а потом избавлялся от них... Когда наступала новая раздача... Удобная метафора... Образ... Применимо ко всему... Раздал, собрал взятки и выбросил карты за ненадобностью. С глаз долой — из сердца вон. Зачем вспомнить о тех, кого уже использовал, когда наступает новая раздача и старые карты в отбое? Леся играла на моей стороне... А против меня должны быть двое. «Вас двое и их двое. Всё честно». Всё поровну? О, если бы это было так просто! Одолел одного, жди нападения второго? А третьего-четвертого, сотого не хотите, старики?
«Старшинство определяется по масти. Старшие — это трефи». Креста, круз, крест, но при этом «трефа» на идише — это «скверный» или «нечисть». Что они имели в виду? Однозначно первое! Они говорили: «Креста сильнее нас». «Мы» — это пики. Вот только...«Пики-вини» — это старый символ орудия Лонгина Сотника, пронзившего тело Умирающего на Кресте... Сотника потом признали святым мучеником... Крести, вини... Вот так проткнешь Мессии бок и считай сразу в дамках... Один предал и был проклят, второй, не дав ломать кости, добил копьем, умертвил и... стал святым! Святым! Палач стал святым! Как такое могло произойти? Людишек не понять... Да... Что ж, если деды считают, что трефи старше, а пики слабее, так тому и быть.
За нами ползут черви и бубны. Любовь и Власть. Крест. Мы. Любовь. Власть. Крест и Мы, Любовь и Власть — постоянные пары в любых раскладах, говорят старики. Но так ли это? Почему, если ты рожден под звездой креста, в попутчики-союзники должен получить пики-вини? Как такое может быть? Наоборот — всегда пожалуйста — сама жизнь тому подтверждение. Учился под сенью креста, под крестом ходил на «Яснооком», с креста ел, когда кромсал святош сволочей в рясах, по которым раскаленные жаровни плакали. В нерушимой связи Любви и Власти тоже есть логика: эти две силы иногда так сплетены, что не разорвать... Но кресты-пики? Полные антагонисты должны помогать друг другу? Может старики что-то напутали? Хотя с чего бы это? Игра не их выдумка... Они её просто подогнали под свои ответы... Ладно, пусть будет так — кто в здравой памяти, тот с шахтерами не спорит...
Витязи и хвал. Здесь всё логично — на самом деле правят витязи-хлопы, а не Карл, Давид и Юлий с Александром. Выше королей всегда стояли витязи-князья и туз-daus...
Пройдем по козырям. Мать... Шестерка. Низшая по номиналу, но при этом сильнее всех. В кресте — Вера, в пики — Ложь, в черви — сама Любовь, в бубне — вожделенный Трон. Наверное, так...
Хвал. Неважно, что на кону — Любовь, Власть, Мы или Креста, всё равно в данный миг нами управляет крестовый валет. Так? Так. Без благословения крести живому никуда.
Ну, хоть здесь разобрался...
Расклад — шансы, взятки — опыт, деньги — чем больше, тем лучше.
Длинная игра и короткая. Сам решаешь. Но конец может быть и раньше. Если я не наберу ни одного очка, наступит люся, Смерть. Здесь старики напутали. Если у соперников нет хвала и они не набирают ни единой взятки, то я получаю три очка, и все... Игра продолжается, и они ещё имеют шанс отыграться... Логично... Люся — это когда хвал на руках, но все козыри биты, а главное — мать против тебя, она бьёт хвала! Вот тогда в полном пролете... Само мироздание вопит: «Дружище, пора тебе на покой!».
Какую игру выбрал я, короткую или длинную? Со дня гадания выбрал короткую. Желание было произнесено, срок отмерян. Наверное, поэтому даже в самых фантастических снах ко мне не являлся человек с белым полотенцем на предплечье, спрашивающий: «Продлевать будете?». Кто захочет продолжать пытку, когда вся прошедшая жизнь была отравлена ожиданием конца века? Продолжение жизни не может быть моим желанием, иначе оно было бы слишком мелким, суетным, низким. Длинная значила бы, что мне неважно как жить, главное — жить долго. Надо ли это? — нет!
Дорогого стоит прийти к такой истине... Да, это хорошо... Молодца.
Под какой мастью я был рожден? Кто знает... Но мать была не на моей стороне. И быть бы мне покойником, если бы не Соболь... Скорее всего, в детстве был крести — только ангел хранитель мог спасти от матери... Пришлось менять козырь на пики-вини. Выжил, окреп, встал на ноги. Но какой ценой? Потеряны образ и подобие... А потом пришлось играть против таких волчар, что до сих пор озноб берет. Как только выкрутился? Снова ангел хранитель помог — больше объяснений нет. Выиграл. Но проиграл. Скорее всего, всё пошло бы и без меня — все эти войны, революции, голод, миллионы смертей... Так почему я не могу отделаться от мысли, что именно мой крик вызвал камнепад, который разрушил платину и затопил города, заводы, вытоптал посевы, расширил кладбища?
По моей вине.
Вина...
Что такое вина?
Стоит ли вообще о чем-то жалеть, когда жизнь — это смена партнеров, взяток, очков, побед и поражений? В мире стариков нет места сожалениям — все что сделано хорошего и плохого — всё это подготовка к главному экзамену... Да... Простой вопрос: «В чем состоит смысл игры?». Если я выиграю, то какова будет награда? Рай? Нет — я не образ и подобие. Но это не моя вина, за меня всё решили, я тогда был слишком юн. Это Соболь взял на себя грех. Он раздал карты, поставив на кон мою судьбу, и ему отвечать на суде за свой выбор. Но даже если это и так, может, решение Соболя было обязательным условием моего выживания? Теперь же я в доброй памяти, сознании и в состоянии ответить за свою бессмертную душу. Теперь от меня зависит, смогу ли я вернуть принадлежавшее мне по праву рождения... Звезда загорелась в крести, но осознанные годы пробыл под защитой пики. Представим, что старики правы, тогда моё возвращение назад будет логичным. В осознанном возрасте, после ста лет борьбы, мучений, грехов и размышлений найти свой путь, обрести мудрость и принять крещение. Это предвидел Соловей. Горожанин пойдет к свету. Горожанин — это я. Они с этим смирились, но требуют откупную. Выигрыш... Только так смогу вернуть себе образ и подобие. Только так... Старики просили выиграть, а дальше желай что хочешь...
Жизнь — это бесконечная вилка вариантов решений, принимаемых исходя из имеющегося на руках расклада. Сильный или слабый — это решение высших сил. Я был рожден со слабой картой, но умудрился не слиться в отбой. Мой переход на сторону пики был предрешен высшими силами — иначе и быть не могло — я просто бы уже погиб. Мои суждения, поступки, понятие плохого и хорошего были ограничены навязанным пространством и временем, в котором я рос. Подправлены прочитанным мною, услышанным, увиденным, всем моим полученным жизненным опытом.
Люди, меня окружавшие — это партнеры по игре.
Кто за, кто против.
Я — в центре.
Упрощенный подход, но почему бы и нет?
Что для меня хорошо?
Поступать по совести. Я честно делал то, что умел лучше всего, для чего был рожден — наказывать тупых злобных нелюдей, обуянных гордыней сребролюбцев; проклятых садистов, кончающих от вида чужих мук — убийц, утративших право на жизнь. Но самое утонченное, изысканное удовольствие я получал, играя против блудливых, циничных, не верящих ни во что святош. Вот где был нескончаемый экстаз! Для этих грешников я был тем пиковым валетом, который по велению высших сил срывал чужую взятку и отправлял в отбой переполненную гноем лжи их черную душу.
Что для меня плохо?
Страх смерти. Если бы я не боялся смерти, то не изводил себя все эти годы, а жил как все: веселился, читал книги, писал картины, смотрел фильмы, крутил бы любовь без оглядки на календарь. Ведь мог отойти от дел ещё лет двадцать назад. Нашел бы вдовушку с ребятишками, помогал бы им по мере сил... Рыбачил бы с Тоней на Пятовском ставке.
Какой бред...
Вдовушка? Смог бы я с ней жить, зная, что одно мое прикосновение пачкает её и перечеркивает судьбу её детей?
Страх смерти... Не самого окончания жизни, а неизвестности... Что меня ждет за кулисами из черного бархата?
...Хочу ли я вернуть образ и подобие?
Да.
Почему?
Это правильно, это верно, это единственное, что могу попросить — остальное у меня уже было или есть. Что надо всем нам в обычной жизни, когда все хорошо, ты здоров и страх смерти ещё не поселился под сердцем? Власть, богатство, комфорт, слава и развлечения. Это всё я имел с избытком. Осталось последнее — вернуть самого себя. Именно к такому выводу я пришел в годы вынужденного поста, к единому и нерушимому выводу. Я не мог без содрогания ходить в Контору, где на меня пялились мерзкие, тупые, ненавистные мне, перекошенные злобой бесовские рожи. Мне претило положение ни там и не здесь. Надо было определиться... Но куда? Дальше сажей всех мазать? Хватит! Захотелось чистеньким стать? А почему нет? Что говорил Князь? Это естественно, когда такие, как я пытаются найти свет. При этом сама судьба словно надсмехалась над моим выбором! Намёки дочки Катерины-Катюхи, слова Андрея Сермяги, но хуже всего стало, когда прочитал эту проклятущую пьеску. Гадское название «Рудаментарно, Ватсон».
Череда испытаний, как цепочка следов росомахи на снегу. Судьба даёт шанс принять решение, которое должно подвести черту и наполнить смыслом даже те дни, когда я грешил, блудил, убивал время в праздности, пьянках и обжорстве. Моё последнее решение должно стать козырем в итоговой раздаче. Теперь от меня зависит, что получу на руки, какой расклад. А что может быть выше желания снова стать человеком, чтобы принять суд в образе и подобии, как равный пред равным?
Да, сие желание логично и единственно возможное в моём положении.
Разве не к этому стремилась Тоня? Мать пыталась продлить мои дни. Хотела договориться с Люсей, но не вышло. Это не баронессу послали, это меня послали куда подальше.
Что есть для меня древнее прошлое? Прошлое до моего рождения? Прочитанные книги, увиденные фильмы и чужие пересказы. Что есть мир? Это те места, которые удалось повидать своими глазами. Океаны, моря, страны, города, степи, болота и леса — всё, куда достал мой взгляд или ступила нога. Остальное для меня — есть пустота и тьма. Я сижу за столом и на руках у меня только те карты, которые мне раздали. Я — в центре, ощущаю, вижу, чувствую, мыслю. Что мне не доступно — того вполне вероятно и не существует. Весь мир — это большая задача, игра, забава, созданная высшими силами только для меня одного, моей души и моего разума.
Жизнь — это долгий вековой экзамен.
Что ж, пора давать ответ. Я готов".
37 Дорожка
...Томас с трудом проглотил ставший поперек горла ком. Отбросив плед, привстал, помассировал левую сторону груди. Вышел во двор. Подумал ещё раз принять душ, но отмахнулся от неё, как от мотылька. Волосы Тихони, его пальцы, плечи и шея пахли Лесей, и ему было приятно её незримое присутствие.
Стоило выйти на дорожку, открылась дверь — дом внутри сиял всеми огнями, как во время праздника. В проеме показался черный силуэт Тони. Она сошла с крыльца.
— Готов?
— Как видишь.
Тоня подала Тихоне бархатный мешочек с монетой и пергаментный свиток-приглашение. Она была в белой блузе и черной юбке — костюме, в котором встречала Томаса в своем исполкомовском кабинете. На ногах те же тупоносые туфли. Заметив это, Чертыхальски почувствовал в коленях слабость. Казалось, только вчера они пили «скляночку» и он согласился обработать чистеньких; перед глазами встала ругань из-за пожара и посиделки у деда Тараса; лучащиеся счастьем глаза Леси и картины Сермяги-младшего...А где сейчас его Остров и что там творится? Возможно, на другом краю земли сейчас бушующий ветер гнет пальмы и волны поднимаются до небес; змеевидные молнии, прорывая себе путь в клубящихся тучах, вспыхивают, слепя глаза, и гром трещит, разрывая барабанные перепонки несчастным китобойцам, попавшим в самый центр тайфуна...
Хорошо там, где мы есть во здравии и трезвой памяти.
За воротами стояла «Победа», уже заведенная, с включенными фарами. Перед тем как сесть в машину, Тоня ещё раз осмотрела Томаса и, поправив ему бабочку, кивнула:
— Готов.
Когда Томас и баронесса отъехали от дома, провожавшая их до калитки Катерина стыдливо сжала пальцы в щепоть и потрясла ими так, словно посыпала воздух солью...
Ночь уже наступила. Дневная жара спала, воздух свеж, приятен. Звездное небо, кроны деревьев в электрическом сиянии, провода над головой, отблески на трамвайных рельсах. Шум врывающегося в открытое окно ветра, сидящая за рулем Тоня — всё это пробуждало хоровод воспоминаний... Томас пытался схватить хоть одно из них, но голова не хотела думать. Мысли путались, образы прошлого расплывались, оставляя после себя послевкусие утраты чего-то важного, так и не высказанного... Это как забыть только что увиденный сказочно прекрасный сон...
Поехали не короткой дорогой, а кругом — от Дом быта на проспект Победы, свернули на Гагарина, затем Пушкинскую, до автовокзала и через рынок прямиком к Дворцу Труда.
Залитые огнем улицы пусты, только военные на перекрестках отдают честь.
«Победа» лихо подъехала к парадной лестнице Дворца за пять минут до назначенного срока.
Тоня, как полагается в таких случаях, сама открыла дверь Тихоне.
Томас Чертыхальски вышел из машины и окинул взглядом ряды сияющих хромом и серебром авто. «Победа» на фоне ретро-шедевров и новейших концепткаров смотрелась девочкой. Ей ничего не надо было доказывать — она говорила сама за себя. Именем и красотой.
Антонина Петровна стояла навытяжку, пожирая Томаса глазами. Также на него смотрели и деды. Чертыхальски догадался, что мог значить этот взгляд: они все хотели запомнить Томаса ещё живым, чтобы было потом что рассказывать, как он отправился на церемонию гадания, его смокинг, его последние слова...
Тихоня улыбнулся, мягко, одними кончиками губ, как пастушок, приноравливающийся поцеловать в щечку дочку мельника. Подошел к Тоне. Наклонившись, обнял её крепко до хруста, замер и... резко сделал шаг назад. Развернувшись, по-мальчишески перепрыгивая через ступеньку, вбежал по лестнице, пересек колоннаду и скрылся за дверью, которую перед ним открыли стоящие на карауле военные в черных мундирах.
38 В полымя
Во Дворце Томаса Чертыхальскивстречал хранитель традиций. Взял пергамент. Глаза старика пиявками присосались к лицу Тихони. Смотрели долго, пристально. В здании было почти тихо — не верилось, что за стеной, в концертном зале сейчас находятся сотни гостей. Только где-то на верхних этажах тихо играл «Duran Duran».
— Опаздываете.
Заметив, как Томас крепко держит в руках мешочек, хранитель традиций с иронией добавил:
— В этот раз монета вам не понадобится.
Старик протянул руку. Ладонь была широкая, с узловатыми увенчанными длинными ногтями пальцами и шишками на суставах — настоящая лапа коршуна. Томас передал кисет с монетой.
Пальцы сжались — капкан захлопнулся.
Всё, — последний игрок прибыл. Церемония началась!
— Пройдете вдоль по коридору до гримерок и свернёте...
— Я...
— Мне известно, молодой человек, что вы здесь были раньше, но... Правила — есть правила! Я говорю, вы молчите. Вы молчите, я говорю.
Томас не мог скрыть ухмылки.
— О чем речь...
— Тогда повторяю. Пройдете по коридору до гримерок и свернёте налево — там выход на сцену. Все уже в сборе. Вам доверена честь представлять Манкерман-Самватас. Будете играть... Такое слово... Забываю все время... Выбор Князя, признаюсь, меня удивил... Но хозяин — барин. У вас так говорят? Я вынужден подчиниться... Все, вы свободны.
Хранитель, эта безобразная еле стоящая на своих кривых ногах рептилия во фраке, осклабился, изображая подобие улыбки, проскрипел:
— Удачи не желаю. Для вас будет слишком много чести.
Томас кивнул, развернулся и пошел по коридору не торопясь, словно уставший шахтёр после смены, при этом чувствуя, как хранитель смотрит ему вслед.
Дойдя до двери, ведущей на сцену, Томас взялся за ручку и замер. Хранитель уже забыт.
Тихоня пытался заглянуть внутрь себя, в саму свою душу, чтобы понять, в каком пребывает состоянии, испытывает ли страх перед эшафотом или он достиг той точки, когда уже всё равно стоит ли у преисподней или, отодвинув в сторону катапетасму, готовится пройти через царские врата.
Потом-теперь-теперь-потом... Готов ли?
Вдруг матово блеснул черный камень в перстне. Томас у себя за спиной отчетливо услышал воробьиный щебет и предсмертный писк пичуги, которой кто-то незримый скрутил голову...
Решился: потянул дверь на себя и вышел на сцену.
Занавес из тяжелого красного бархата был ещё закрыт. Справа висели темно-синие ниспадающие волнами атласные полотнища. В центре залитого светом пространства стоял круглый стол, немного похожий на тот, который Тихоня видел в землянке. На ровной поверхности высокой горой были насыпаны стеклянные игрушки. Они, подобно алмазам, блистали в свете жарких, закрепленных высоко вверху на металлических рамах прожекторов. Вокруг стола расположились восемь человек. Один из приглашенных сидел в инвалидном кресле, остальные стояли. Стульев не было.
Фраки, смокинги, костюмы, открытые вечерние платья, манто, колье. Пожилые, юные, среднего возраста. Лица напряжены. Гости хмурятся, кусают губы. Томас подошел к столу и заметил, что все приглашенные игроки держат длинные, похожие на барабанные палочки, спицы. Тихоня вскользь окинул взглядом гадателей, а потом стал рассматривать игрушки. Они были навалены прямым круговым конусом, основание которого повторяло диаметр стола. Если тронуть хоть одну деталь, потревожив остальные, то какая-нибудь лежащая внизу стекляшка обязательно упадет на пол и разобьется.
Всё понятно: Пётр Алексеевич Кропоткин, Князь Киевский, предложил гостям сыграть в бирюльки. Это не кости или карты, где все решает глупый случай. В этой забаве необходима ловкость, осторожность, терпение, ум и холоднокровие. Томас заметил, что некоторые бирюльки были подобраны со смыслом: стеклодув сплел трубочки таким образом, чтобы они были похожи на зверей, птиц, детали механизмов, органы человека, цифры, буквы, алхимические знаки, иероглифы, символы мировых религий и геральдики; но большая часть на первый взгляд ничего не обозначала — абстрактные образы без гармонии и правдоподобия, шипастые, с крыльями, волнами, смешными зазубринами.
Михаэль Шульц подъехал к Томасу. Какое-то мгновение они смотрели друг на друга. Осторожно. Михаэль скосил глаза на простреленное колено.
— Wie ich sehen kann, heilen Wunden schnell? (У вас, как я погляжу, раны заживают быстро?) — нем.
— Ich beschwere mich darüber nicht, — ответил Томас. (Не жалуюсь) — нем.
Михаэль протянул Тихоне палочку.
— Возьми. Я тебе прихватил, — сказал он по-русски почти без акцента. — Надо осторожно поднимать бирюльки. Нам объяснили. Думаю, специально для тебя повторять не будут. Там ушки, дырочки, всякие отверстия. За них надо брать. Что снял, можешь разбить о пол, но лучше делай как я.
— Почему? — спросил Томас.
— Мне нужен честный поединок, — ответил Михаэль и отъехал в сторону.
Томас, покрутив спицу в руках, проверил — не скользит ли. Обычная, легкая, вырезана — понюхал дерево — кажется из осины. Опустив глаза вниз, он только сейчас заметил, что вокруг стола была проведена белая линия, от которой расходились лучи, деля окружность на девять секторов. Тихоня про себя посмеялся, представив, как служащая во Дворце старушка-уборщица рисует мелом это «солнышко».
Михаэль Шульц вернулся назад, на северную сторону. Остальные игроки тоже встали по своим местам. Томас Чертыхальски занял пустующий восточный сектор. Гости и до этого вели себя тихо, но сейчас почти окаменели. Каждый смотрел на сияющий миллиардами граней стеклянный конус, наверное, уже выискивая те бирюльки, которые лежат, не цепляясь за соседние. Вдруг над сценой словно махнули гигантским крылом, и подул прохладный свежий ветер — это неслышно поднялся занавес. Игроки невольно повернули головы в сторону зала, но из-за рампы ничего не смогли рассмотреть. Сияние софитов скрывало зрителей, поэтому гадатели отвернулись и тут же забыли о публике — им было чем заняться.
Первым к столу вышел высокий брюнет со свежей раной на щеке, на которую чья-то неумелая рука наложила грубые швы — черные нитки ещё стягивали рубец. Недолго гадая, он ловко подхватил стеклянного котенка и бросил в сторону: бирюлька, описав дугу, упала на пол и с хлопком разбилась. Брюнет вернулся на место. Следующим подъехал Михаэль. Шульц долго не решался сделать свой первый ход. Что-то высматривал, несколько раз объехал вокруг стола пока не нашел нужную игрушку. Медленно подняв стеклянную колбу за петельку, он не стал её выбрасывать, а спрятал во внутреннем кармане смокинга. Затем Шульц надавил кулаком на лацкан, чтобы стекло лопнуло и рассыпалось на мелкие осколки.
За немцем настала очередь молодого худощавого парня в твидовом пиджаке в мелкую коричневую клетку и замшевыми вставками на локтях. Его неприятное вытянутое лицо было бугристым, кожа плотно обтягивала череп. Рыжие, коротко остриженные курчавые волосы, выгоревшие на солнце брови. Глаза яркие как панцирь бронзовки. Тяжелый подбородок, недельная щетина. «Настоящий жулик», — подумал Томас.
Сосед в твидовом пиджаке подошел к столу. Выпад спицей и красивая чайная кружка, не тронув соседей, взлетела в воздух. «Твидовый» бросил трофей на пол и раздавил его каблуком.
Всё, настала очередь Томаса.
Шаг через белую черту.
О, все известные и неизвестные боги, она на самом деле проведена мелом!
Переступил и только приобретенная годами привычка сдерживать эмоции не позволила Томасу вскрикнуть. Стеклянная гора преобразилась. Она теперь не была похожа на конус переплетенных между собой аптекарских мензурок и трубочек. Каждая деталь теперь обрела свой цвет, запах, дыхание. При этом Томас непостижимым образом обрел способность одновременно видеть все находящиеся на столе элементы, вне зависимости от того, где они находились, вверху или у самого основания. Мало того, ему стал понятен алгоритм и порядок их укладки. Каждая часть головоломки находилась на своём месте. Если смотреть сверху, то можно подумать, на столе разложили семечки подсолнуха, только не золотые, а всяческих самых невероятных цветов. Старики сказали, что к гаданию можно приступить, только решив, что он хочет получить в награду. При первом же взгляде на бирюльки, Тихоня понял, как может выиграть. В самом центре стола, возле полированной поверхности, опираясь на шахматные фигуры, сияла пурпуром статуэтка играющего на свирели пастушка.
Томас понимал, что это не церемония гадания, а главный в его жизни экзамен, поэтому приз должен быть наделен высоким смыслом. Пастушок — это душа Монаха — Иваши Миклухо-Маклая, о котором там пеклась Тоня. Если Тихоне удастся её спасти, вытащить из заточения, то он вернёт себе образ и подобие. Только таким способом Чертыхальски может стать Ченстоховски. Осознав, каков его правильный ответ, Томас стал распутывать весь путь решения этой задачи. Он был похож на перевернутую корневую систему, где от пастушка, словно кровеносные сосуды, поднимались в стороны нити. Наконец, Томас увидел точки соприкосновения с поверхностью конуса. Самая яркая находилась почти у вершины — там лежала игрушечная стеклянная лейка. Томас поднялся на цыпочки, чтобы рассмотреть эту игрушку. Она ему показалась смутно знакомой, и как только он приблизился к ней, Тихоня почувствовал запах пива из «Тощей Эльзы».
— Вот так встреча... — прошептал Томас. — Отец!
Ошибки никакой не могло быть. Начало пути — вот эта маленькая лейка, похожая на ту, которой играют маленькие девочки. Он когда-то видел детский набор посуды с малюсенькими ножиками, вилочками, тарелками с которых кормят кукол... И одновременно — это его отец. Эта стеклянная, пахнущая пивом безделушка вдруг всколыхнула в душе Томаса столько смутных почти младенческих воспоминаний... Добрая улыбка, колючие-кусачие порыжевшие от табака усы, хриплый голос и сказка на ночь о хитром докторе Бартеке, крепкие руки с ладонями, такими большими, что казалось, они были шире лопат.
Чтобы ещё раз удостовериться в выборе, Томас прогнал весь путь назад — от вершины до основания и снова безошибочно нашел пастушка. Если сейчас он вскроет себе вены и подставит рану над лейкой, то его кровь, повторяя найденное решение, дымящимся бардовым ручьем, поворот за поворотом, ложбинками, запрудами, трубочками притечет к победной статуэтке из пурпурного стекла. Желаемое было далеко и глубоко — чтобы ручей добрался до пастушка, пришлось бы отдать всю кровь без остатка, до последней капли.
Томас вдруг заледенел, сраженный догадкой... Если он на самом деле вскроет вены, то что из них потечет? Что из него потечет в этом меловом кругу? Алая кровь или черная как нефть, проклятая вонючая отравленная жижа?
Приказав себе заткнуться, Томас крепко обхватил пальцами спицу и точным расчетливым ударом приподнял лейку. Ни одна игрушка не сдвинулась с места — все лежали нерушимо. Поднеся к себе трофей, Томас бережно положил его во внутренний карман смокинга. Спросил себя, можно ли оставить игрушку в целости или как Михаэль, раздавить? Ответ был ясен: при всем желании он не сможет сохранить все трофеи — бирюлек много, а карман хоть и глубок, но узок. Тихоня сжал руку в кулак и ударил себя по левой стороне груди. Стекло лопнуло. Маленькие осколки кольнули через ткань сорочки, слегка оцарапав кожу.
Всё, можно возвращаться на место — первый ход сделан.
Томас не следил за другими игроками, как они подходили к столу и приноравливались стащить бирюльки — перед его внутренним взором до сих пор возвышалась сияющая всеми возможными красками хрустальная гора, и внутри неё мерцал змееподобный ручей. Томас в этот миг вдруг испугался догадки: это вообще возможно, чтобы после стольких лет мракобесия он снова стал человеком? Не слишком ли все так просто? Но тут же себе ответил: когда за дело берется такой шутник, как Пётр Алексеевич, легкого пути не жди.
Второй ход пришлось пропустить — нужная ему игрушка пока была закрыта, поэтому он мог взять любую. Снял кролика со сломанной лапкой. Хотел, было, как большинство игроков бросить его на пол, но подумал, что это неправильно. Если столь обыденный предмет, как детская лейка ему напомнил отца, то вдруг этот зверек также кому-то дорог? Засунул в карман и раздавил стекло. За кроликом последовали безделицы — ледоруб, фиалка, очки, попугай сидящий в кольце; игрушек было много, выбор большой, поэтому ход возвращался довольно скоро. Казалось, что он принимает участие в раскопках окаменевшего корня дерева — ненужные ему игрушки были песком, а когда расчищалась необходимая деталь, он забирал её себе в карман. При этом Томас не ведал, известен ли остальным игрокам его замысел или нет.
Где-то на сороковой бирюльке Тихоня почувствовал, что карман, который должен был уже наполниться стеклом, почему-то опустел. Вот только кожу на груди начало саднить. Странно. Так в чем же состоит княжеский подвох? Некоторые гадатели бросают добытые игрушки на пол, где они разбиваются, или вообще давят их своими каблуками. Михаэль и Томас прятали трофеи в карманах. Их общий сосед в твидовом пиджаке поступал иначе: часть бросал, остальные прятал. Тихоня стал внимательно наблюдать за людьми, чтобы понять закономерность. Кажется, догадался — те, кто без сожаления избавлялся от стекляшек, были в хорошем настроении. Улыбались — никаких хмурых лиц. Они ожидали какой-то сложной игры или головоломки, а тут бери себе с поверхности горки любую загнутую стеклодувом мензурку и жди, когда соседи допустят ошибку. Игра спорилась, горка заметно стала тоньше. Наконец, настал момент, когда варианты сократились и, чтобы найти нужную бирюльку, гадателям приходилось подолгу бродить вокруг стола.
Время шло. Вдруг Томас почувствовал неладное. Кто был в хорошем настроении, те... не переставали улыбаться. Их лица словно растянули в стороны, губы вытягивались все шире и шире. В какой-то момент они начали хихикать. Кто-то насвистывал. Томас прислушался к своим ощущениям. Да, он был серьезен. Желания улыбаться не испытывал. Подходил к столу максимально сосредоточенным, понимая, что любая оплошность будет первой и последней. Лица Михаэля и «твидового» были также строги. Морщины легли между нахмуренных бровей. Глаза красные...
Томас посмотрел на кисти рук игроков. У большей части они еле заметно дрожали, как у наркоманов, в предвкушении новой дозы. Только у тех руки были обычные, кто не разбрасывался бирюльками, а прятал их у себя.
Наконец, произошло то, что должно было случиться ещё давно. Дама в зеленом шелковом платье-макси с глубоким декольте и ниткой жемчуга на красивой шее склонилась над столом, но всё никак не могла попасть в выбранный ею венский рогалик. Игрушка не прикасалась к другим бирюлькам, её надо было всего лишь палочкой подтянуть к краю стола и сбросить — всё! Но женщину душил истерический смех, сквозь который были слышны рыдания. Она слишком поздно поняла, что можно было делать, а чего нельзя. Рука дернулась, спица задела стеклянный кружок и он, как пущенная хоккеистом шайба, отлетел в центр стола. Раздался треск — лопнул рогалик и ещё несколько игрушек.
Спица выпала из трясущихся пальцев проигравшей. Она развернулась и пошла за кулисы, продолжая хохотать. Но глаза её, Томас это видел отчетливо, были полны боли и слёз...
Игроки теперь перестали сбрасывать бирюльки на пол. Вот только, когда очередь дошла до твидового пиджака, он выудил маленькую детскую розгу и с явным наслаждением разбил её о сцену.
Скоро Томас догадался, почему он так сделал. Дойдя до одного из поворотов своего пути к выигрышу, Тихоня увидел вылитого из серого стекла воробья. При должной сноровке он мог достать птичку, не дожидаясь следующего хода. Когда Томас склонился над ней, чтобы лучше рассмотреть, то рассмотрел, на кого игрушка была похожа. Альма. Этот неопрятный воробышек — его мать. Мертвые стеклянные глаза, серые торчащие во все стороны перышки, хвостик, скрюченные лапки с острыми коготками. Свет играл на взъерошенном загривке, словно только что прошел дождь и мокрая птичка пытается согреться. Другой посмотрит — милая забавная пичужка, но Томас понимал и знал, что прячется у неё внутри. Злоба, упорство, воловья тупость, жажда причинять боль. Но была ещё одна черная черта, которая перевешивала все остальные. Зависть. Альма была воплощением животной ненависти к чужому здоровью, спокойствию, уму, воспитанию. Она завидовала всему миру, а населяющих его людей мысленно проклинала! Каждый день, каждый день, каждый день! Бесконечный поток нечистот лился из её поганых уст, до самой её смерти. Однажды небо даровало ей шанс стать лучше, успокоить чесотку бессмысленной зависти, она вышла замуж и родила мальчика... Но природа взяла свое. Тьма заслонила её разум, не дала рассмотреть дарованный путь спасения. Альма стала врагом своему мужу, потом сыну, и, в конце концов, самой себе.
Томас достал воробышка и бросил на пол. Растоптал. В миг, когда хрупкая игрушка лопнула под его каблуком, он на секунду испытал такое блаженство, как будто в кровь вспрыснули ампулу дофамина. Томас ощутил непередаваемое удовлетворение от завершения сложного давно беспокоившего его дела. Возвращаясь на место, он, наконец-то понял, почему остальные с радостью разделывались с частями головоломки. Всегда легко вспомнить тех, кого мы не любим, кто нас отверг или не помог в сложной ситуации; кто умнее, сильнее, богаче, красивее, счастливее... А тут выпал такой шанс разделаться с обидчиками, наказать их, низвергнуть, раздавить каблуком, размазать по полу... И при этом получить награду — приятный, возбуждающий, придающий сил заряд энергии. Кто от такого откажется? Поэтому игроки и дальше не искали тропу, ведущую к победе: они разделывались со своими врагами, уподобляясь той крысе, которая вместо воды и мяса без остановки нажимала на педаль, впрыскивая себе наркотик.
Напряжение росло. Круг за кругом. Бирюлька за бирюлькой. Сколько прошло часов, Томас не мог сказать — как только он вышел на сцену, лишился чувства времени и о его ходе судил по таявшим на глазах стеклянным статуэткам. На столе уже возвышалось не более трети от общего количества. Гадание продолжали восемь игроков. Уже никто не смеялся, не находилось желающих глупо хихикать... Наверное, все оставшиеся игрушки имели особое значение для гадателей. Каждый долго приноравливался, прежде чем сделать ход, искал лучшие варианты. Легких не осталось — началась решающая игра. Но произошло ещё нечто, что серьезно встревожило Томаса. Привычно раздавив очередную стеклянную фигурку, он опустил глаза и заметил, что вся левая сторона его рубашки пропиталась кровью. Она была алая — и это Томаса обрадовало, но при этом он тут же почувствовал усталость в ногах. Ломило поясницу, шея затекла. Может, и раньше всё это было, но он просто не замечал. Вид крови заставил прислушаться к своему телу. Томас с завистью посмотрел на Михаэля Шульца, который сидел в кресле. Ему-то легче, а Тихоня за все время не присел, ни разу не облокотился на стол. Томасу не сказали, можно это делать или нельзя, но остальные игроки не прикасались к его поверхности, значит...
За несколько следующих кругов три гадателя сдвинули чужие бирюльки и были вынуждены покинуть зал. Смокинг потяжелел — кровавое пятно расползалось по телу Томаса, испачкав почти всю сорочку. Алое на белом — видно даже из галерки. Теперь, раздавливая стекло, Тихоня чувствовал боль от вонзающихся в кожу осколков не возле сердца, а на спине и пояснице. Томас в какой-то момент встретился глазами с Михаэлем и понял, что Шульцу тоже досталось. Немец выбрал черный смокинг: если кровь лилась, её не было видно, но Тихоня все равно заметил красные капли на манжетах сорочки. У «твидового» бурые пятна выступили на брюках.
Что ж, все почти в равных условиях. Почти... Всё теперь ясно... Кому-то смех, а тем, кто присваивал себе трофеи, приходится терпеть физическую боль. Легкое начало игры расслабило, покалывания были еле ощутимыми, но количество выигранных бирюлек росло, и каждая следующая давалась труднее. Сосед в твидовом пиджаке следовал выбранной ранее стратегии. Из десяти выигрышей восемь он оставлял себе, а два выбрасывал. Наверное, так он успокаивал боль. Шульц редко когда сбрасывал на пол бирюльки, а вот Томас... Он и рад был как-то успокоить саднящие раны на груди, спине и шее, но дальше пошла такая игра, — только держись!
Соболь. Маленький потешный зверек. Но перед Тихоней на столе лежал забавный пузатый медведь. При этом он и есть старик Соболь! Вини по матери. До конца своих долгих-долгих дней Соболь не поменял масть. Никакой крести. Никакой чистоты. Душа черна, как заброшенная пещера, в которой живут только плоские черви, тараканы и крысы. Ему уже ничем не помочь, а навредить Томасу он ещё может. Как поступить? Выбросить и раздавить, получив желаемую передышку или все-таки прижать к сердцу? Он виновен во всем, но больше всего в том, что однажды маленького мальчика лишил образа и подобия... В жизни у Дов-Бера таких, как Томас, было много. Тихоне ещё повезло — легко отделался... Наверное потому, что Соболь отнесся к нему, как к единокровному родственнику. Тихоня всмотрелся вглубь стеклянного медведя. Так и есть — двоюродный дед.
Какой вынести приговор? Почему он разбил воробья, даже не задумавшись, а перед виновником своих мучений гадает? Ведь всё для Тихони началось в момент встречи с этим стариком! Томас в преломлении исходящих от игрушек лучей увидел, как бы сложилась его судьба, останься он дома. В порыве ярости мать ударила бы его кочергой по затылку так, что у него отнялись бы ноги. Какое-то время Альма ухаживала б за ним, пытаясь искупить вину, но, в конце концов, сорвалась бы и отравила его крысиным ядом.
Томас спас медвежонка. Спрятав игрушку в кармане, он резко ударил по ней кулаком...
Тихоня не смог удержать крика. Заорал так, что, наверное, было слышно и за каналом. Боль была такой сильной, словно «розочкой» пырнули под лопатку, и острые края разбитой бутылки, распоров кожу и мышцы, прошлись по ребрам. Онемела левая рука. Томас не чувствовал половины своего тела. Повело в сторону — еле устоял. Возвращался прыжками на одной ноге, как мальчик, играющий в классики, но не на своё место, а к Михаэлю и его спасительному инвалидному креслу. Успел схватиться за ручку. В глазах потемнело, и перед ним поплыли серые пятна, большие и маленькие точки, запятые. «Не люб ты, Соболь, никому. Кроме меня», — подумал Томас, пытаясь улыбнуться.
Дорого же ему обошлась такая любовь...
Не хватало ещё проиграть...
Только перевел дух, а уже подошла его очередь.
Что делать? Томас мог стоять только на одной ноге. Опереться нельзя. Что ж, придется выкручиваться. Неловко допрыгал до стола, оставляя за собой нитку кровавых пятен. Присмотрел то, что лежало поближе — какую-то развратную в молодости старуху с глубокой глоткой. Ловко вытащил её из-под колоды карт и сбросил на пол. Как только игрушка разбилась, произошло чудо: Томас на себе испытал, что такое счастливое исцеление. Боль ушла мгновенно, и тело ему снова подчинилось. Усталость не исчезла, но после недавних нечеловеческих страданий её было легче переносить.
Посмотрел на горку бирюлек.
Да их стало меньше, но при этом ещё так много!
Возвращался на свое место, волоча ноги, дыша, как загнанный лошак.
Нашел взглядом Шульца.
Глаза их встретились.
Тихоня смежил веки и кивнул.
Михаэль ответил.
Игра продолжалась...
39 Выбор
Это был поединок на износ, измор, проверка воли и характера. Пришлось встретиться со всеми, с кем на жизненном пути поступил хорошо и нехорошо, и каждый отгрыз себе кусочек, выпил по глотку крови или, наоборот, преподнёс горсть таблеток. Время шло. Даже если чередовать хороших-плохих, всё равно после каждого успешного хода усталость, боль и невыносимая тяжесть наваливалась на плечи. Это не бирюльки снимались со стола — это прожитые годы чугунными чушками гнули его к земле. Томас потерял счет всему, он уже не мог понять, сколько ходов осталось до окончания пытки, в чем её смысл, и вообще что он тут делает. Мозг упорно отказывался мыслить и реагировать даже на первобытные раздражители: свет не слепил, жажда уже не мучала, дышал и то чудом.
Пятеро гадателей, окровавленных, шатающихся, словно угорелые, упорно продолжали подходить к столу, когда наступала их очередь. Досталось всем. Даже у Михаэля на лбу выступил кровавый пот. Томас не знал, что это не просто красивая метафора, а самый наиреальнейшие анатомический факт. К тому же Шульц не мог усидеть в своем кресле — постоянно ерзал, поправлял-сдвигал свои перебитые ноги, привставал и снова садился.
Он страдал...
Как и все игроки...
Только сейчас до Томаса дошел истинный смысл благородства пруссака! Томас — хороший игрок и если его лишиться, то остальным пришлось бы тянуть чужие бирюльки! Поэтому оставшиеся гадатели уже не желали друг другу неудачи, а поддерживали соседей взглядом, жестом, бодрящим вскриком. Каждый видел своё победное решение, и оно не пересекалось с игрой противников, не мешало им. Наоборот, снимая лишние стеклянные статуэтки, гадатели расчищали другим путь, помогали друг другу. В этой хитрой забаве можно было проиграть, но при этом участникам церемонии позволялось достичь своей истинной исконной личной цели. Томас пытался докопаться до пурпурного пастушка. Он был уверен, что остальные также видели нечто важное, личное, интимное. Этот цветок папоротника символизировал их конечную загадку, их желание. Сорвать его можно было только упорством, мужеством, умением терпеть нечеловеческие страдания, собрав всю волю в мертвый узел, со всей концентрацией физических и моральных сил. Каждый игрок за столом совершал марш-бросок с полной выкладкой. При этом гадатели стремились к их личной победе, решали свою, понятную только им загадку. Другие б на их месте давно бы сдались, но жребий привел в Городок упорных, мужественных, сильных духом, способных на подвиг игроков.
Томас продолжал сражаться, где-то на периферии своего сознания удивляясь тому, как он вообще ещё держится? Никогда ему не было так плохо, как в эти сначала часы, потом минуты и секунды. Даже когда в его печень вонзился клинок Шульца-старшего, боль была слабее...
Что там говорил бай-батыр? — я сильный, я тебе помогу. Ну, и где эта помощь? Ведь уже мочи нет стоять на ногах. Спина не гнется, руки не слушаются, пальцы дрожат, в коленях слабость — вот-вот подкосятся, и он с грохотом упадет на сцену. Это со стороны, наверное, красиво, когда актер, корчась, теряет последние силы и плашмя валится на доски, разбивая лицо в кровь... Пот ест глаза, в виски бьют кувалдой, уши заложило, и такое ощущение, что в желудке засела бетонная балка с торчащими в стороны ржавыми арматуринами. Как ни странно, но Томас терпел все эти мучения благодаря сумасшедшему бредовому фантастическому образу: если ему так плохо, то что могут ощущать его соперники — простые люди? Какие мысли роятся в их головах? Наверное, они проклинают всё на свете! Чем плох вариант игры в дартс или городки? Бросай себе дротики или бей по деревяшкам. Кстати, могли выбрать местный вариант — клё-клё, это когда большими палками пытаются попасть по консервным банкам. Вот! Отлично! И никому не надо страдать, доказывая, что они достойны большего. Это и так понятно — их выбрал Случай, и они нашли в себе силы прорваться через тенета во Дворец Труда. А боулинг? Отличное изобретение, пришедшее к нам из седых времен. Уходящий век довел эту игру до совершенства, с ровными дорожками, автоматическим возвратом шаров... Отличная забава для городского современного человека. Или электрические автоматы, с музыкой, мигающими лампочками и летающими шариками, которые запускают пружины-катапульты. Шарики бьются о стенки и набирают очки. Всё переливается, звенит, жужжит, музыка орет, электронное табло подмигивает победителю. Вот где нереальное удовольствие! Бильярд можно предложить... Это же настоящая игра джентльменов. Берешь кий и гоняй шары до умопомрачения на вылет. Пиво и фисташки прилагаются... Чем не вариант? В дурака неплохо бы переводного сразиться или домино... Но зачем, зачем, зачем было тащить в Городок этот проклятый стол с этими проклятыми бирюльками? Почему мы должны терпеть эти муки?
Томас отчетливо слышал доносящиеся из концертного зала мысленные вопли: «Verdammte Russen! Cursed fucking Russians! Russes maudits! Rusos malditos!». Странно, но эта злоба и общее непонимание замысла подстегивало Томаса, придавало ему сил, укрепило волю, а следом пришла разгадка истинного значение слов бай-батыра! Конечно же, силач не придет сюда, чтобы подставить плечо, и король Лир не придержит его дрожащую руку; разбойник не поднесет к потрескавшимся губам флягу с холодной родниковой водой. Томасу все это ни к чему! У него и так в крови кипит алтайская мощь и натиск, кавказская сила и гордость. Голядь поделилась с ним лихостью и бесстрашием, а чухонцы — терпением. Отец даровал волю, мать — неуступчивость, Антонина Петровна научила коварству, Князь — самолюбию и жажде знаний.
Поняв это, Томас, когда наступила пора для настоящей боли, готов был её принять...
Рома Смехов.
Глоток свежего воздуха перед глубоким погружением в ад. Смахнул не гадая, и живительный адреналин потек по венам, и рот наполнился слюной, мышцы окрепли, руки перестали дрожать. Как будто полотенцем начали размахивать у лица.
Катерина-Катя-Катюха и её дети. Вот они все лежат, связанные воедино. Виноградная гроздь «эким кара». Черные ягоды. Зеленая веточка. Вся семья. Томасу даже и присматриваться не надо было — и так понятно: не ведая, не желая того, а токмо по воле баронессы Антонины Петровны, сняла Мать с души Тихони столько грехов, сколько могла унести на своих плечах и хрупких детских спинках. Не пройдет и трёх лет, как убьют её любимого мужчину, а она ни с кем больше не сойдется. Без любви зачахнет и начнет пить. Очень сильно... Умрет в сорок, почти молодой...
Снял гроздь, осторожно опустил в карман и, зажмурившись, сжав зубы, напрягшись всем телом, ударил ладонью по лацкану окровавленного смокинга...
.
.
.
Он кого-то упустил и готов был принять заслуженную кару...
Кого-то упустил недавно...
Знал, что придется ответить...
Но вот чтобы так? Сверла дрели по костям, кипяток на содранную кожу, кислота по спине...
.
.
Сейчас он умрет...
40 Стиснув зубы
Нет... жив... и уже стоит на своем месте... Кто-то другой склонился над столом и держит себя за руку, чтобы она не тряслась в падучей...
Второй, третий... Снова идти... А на острове сейчас...
Заткнись! Заткнись, сволочь! Нет никакого острова! Всё это у тебя в голове! Ты сидишь за столом, а на руках самая гнилая карта из всех возможных — одни семерки и не прикрытые десятки — поставщик двора Его Величества — вот ты кто! Раздаешь взятки налево и направо... Поэтому терпи, недолго осталось... Будь мужчиной.
Алена Сак.
Вот до кого не дотянулись мои загребущие ручонки... А все равно девка пропала! Сидит, кропает по ночам листик за листиком, листик за листиком: «В нашем грешном мире нет ничего слаще приятных воспоминаний: оникак бесконечная сосательная конфета — вкусная до одури — но ещё, я вам скажу, слаще делиться ими». Ох, бедолага, и ты туда же? Зачем тебе оно? Зачем? Хвосты, пятачки, рога эти... Держалась бы подальше от всего этого... Хорошо, что есть на белом свете такие добряки, как Томас... Поднимут стеклянную чернильницу, спрячут и прихлопнут ладошкой, при этом забив миллион гвоздей в свое сердце...
...Луна на небе, но при этом она в Тельце...
Так бывает. Правда, Томас? Яйцо-утка-гусь...
Что говорила Тоня? Это хороший знак? Как там пишут в желтых газетках? «Знак материальной стабильности, настойчивости и усердия, поэтому это самое благоприятное время для проведения финансовых операций и сделок». Сделок... Да, мне нужна сделка... Хорошая, выгодная... И я готов терпеть... Потерплю чуть-чуть... «Вложение в ценные бумаги обязательно приведет к получению дохода». Посмотрим... Мы же оптимисты...
Стеклянная белка. Рыжая. С хвостиком и кисточками на кончиках ушей. Это — Костя Иванов, человек с самой русской фамилией из всех возможных. Он достроит свой бункер... и... Надо же, подвал пригодится! Только не от наводнения или мародеров спасёт, а от...
Снарядов, мин, «карандашей»...
В построенном Костей убежище спрячется вся его семья: детки, супруга, мама, любимая теща. Под бетонными перекрытиями, глубоко под землей они окажутся в безопасности...
Нет, этого не может быть! Скорее я поверю в летающие над Городком мешки с мукой, чем в далекое завывание «градов» и через минуту треск-гром-смерть с небес... Это уже бред смертельно уставшего Томаса... Израненного, истерзанного, умирающего от потери крови... Всё это сон — подобное не может быть реальностью в наше время. Все подвиги уже совершены! За сто лет перед Томасом прошло столько горя и страданий простых людей... Обычные людишки своими животами, душами, тихим героизмом и ратным трудом заслужили право чтоб их внуки и правнуки не знали войны... Это — бред, сон, усталость! В голову просто лезут давние самые потайные страхи. Они всему виной...
А что ждет Костю? Как припекло — пошел воевать. Подобные ивановы не могут спать спокойно, когда ложь и несправедливость, когда слабых бьют, дети плачут, и собаки на цепи с ума сходят перед тем, как осколки милостиво вспарывают им брюхо. Когда настаёт самый важный в твоей жизни час, и вопрос ставится по ребру — таксисты садятся за руль бээмок, рудокопы копают окопы, а переводчики с английского на русский переводят с одиночного на автоматический. Иначе никак. Иначе — смерть и вечный позор.
Плохо будет у Кости... Это когда строил бункер, тогда был чистеньким, а после встречи с Томасом стал обычным, как все... Правильно говорил Князь: «Святость — это временная категория». Сегодня ты в белоснежных одеждах, но завтра наступит завтра... А мы все грешны, с какого боку не посмотри... Пиковые отродья таких как Костя обожают... Изгаляются, пользуясь беспомощностью. Приняли. Подвал, железными прутьями по ребрам, провода и магнето-динамо — «позвонить по телефону» называется. Электричество — дугой от виска до виска, через глазные яблоки, вспенивая мозг. Коронки накаляются, обжигая до волдырей язык — потом есть невозможно, только воду пьешь... Волосы топорщатся, слюна брызжет с трясущихся губ. Запах зажаренного мяса. Человеческого мяса. Горелого. Вытерпеть такое невозможно. Но он будет терпеть. Изо дня в день, изо дня в день... Дожидаясь своей очереди, а в часы после пытки и до пытки, проваливаться в короткое забытье сна, слушая потом доносящиеся из-за стены стоны-крики-вопли своих друзей, ставших ему в тех проклятых казематах братьями...
Томас твердой рукой сделал одно движение, поднял спицей белочку и раздавил на груди. Когда стекло хрустнуло, Тихоня испытал всю концентрированную боль за те недели пыток, изматывавших Иванова. Томас ослеп — глазные яблоки чуть не сварились. В нос ударила вонь жженых волос. Он орал без остановки, во всю силу, сколько позволял набранный в легкие воздух. Кричал, медленно поворачиваясь и, ничего не видя кроме огненно-белого света, отпечатавшегося на сетчатке глаз. Ревел матом, шагая от стола. Ревел, остановившись за меловым кругом.
Да, он ослеп. Глаза превратились в две пульсирующие шаровые молнии. Слезы без остановки текут по щекам. Неужели это конец? Нет, должно быть решение! Должен быть выход, способ, как продолжить игру и слепым, а потом найти лечение. Вспомни, ответ находится прямо перед тобой. Если ты видел то, чего не мог видеть — прошлое, настоящее, будущее повстречавшихся тебе людей, то какая разница, обладаешь ли ты зрением или нет? Это не стеклянные забавные игрушки, а нечто большее, и они не находятся здесь на столе, они одновременно пребывают в прошлом, настоящем и будущем. Обычному человеку не под силу играть дальше, но ведь и ты, Томас, пока не человек! Не образ и подобие! Поэтому рано сдаваться! Качай, Томас, качай! Даже и не думай опускать руки!
Алтай, Кавказ, Балтика, Дикое поле, Алтай, Кавказ, Балтика, Дикое поле... алтай, кавказ, балтика, дикое поле...
Перебрав миллионы вариантов, образов, воспоминаний, Томас, наконец-то, обрел почву, фундамент, твердую точку, о которую можно опереться и сдвинуть мир.
Пастушок. Играет на флейте или свирели... Почему такой образ? Откуда он пришел? Это же так просто. Мальчик — это подарок старого больного инвалида. Что он говорил, подавая статуэтку? «Возьми, — сказал дед Тарас, — это память о годах моей молодости. Посмотришь, и теплее станет. Из крепкого светлого корня ты вырос, знай это. Сила в тебе не скрыта, а видна, она на поверхности. Не забывай. Жизнь — сложная штука. Много в ней наносного, глупого, низкого, но бывают моменты, ради которых надо это всё перетерпеть. Время тебе не враг... Цени добро, цени счастье и благодарность мира. Ещё что хочу сказать напоследок... Послушай старика, не держись, не цепляйся за прошлое».
Старый шахтер дед Тарас...
Тихоня спас его, но даже и не помнит об этом... Так вот, настала очередь ответной услуги. О, боги все вместе взятые! Вот кто был старичком из Курдюмовки! Встретившийся со своей смертью, потерявший ноги, прикованный к дому, кровати и инвалидному креслу... Тоня его пожалела — подарила развлечение и при этом обрела всевидящую пару глаз. И никакой души она у старика не могла забрать: тот, у кого печать смерти на лбу, неуязвим. Тоня, помня старое правило, что врагов надо держать рядом, привязала к себе того, кто видел Смерть. Благодаря подарку баронессы, дед Тарас чувствовал Городок. Ему не надо было заглядывать под одеяла и крышки кастрюль, чтобы увидеть, что там куёвдится и варится. Он и так всё знал!
Так и ты присмотрись к нему, Томас, загляни в его прошлое, прикоснись к настоящему и открой для себя его будущее...
Не из Курдюмовки он был — наврала Тоня — на Бессарабке с самого начала поселился...
Да, много часов провел несчастный Тарас во тьме, в ожидании спасателей, не сошел с ума — помогла вера, что ребята его не бросят. Когда совсем отчаялся, к нему, наконец, пришла Смертушка. Договор был заключен и скреплен поцелуем крепким-крепким. А потом безносая развлекала красивого, работящего шахтера побасенками... Рассказала о том, как все будет, каким путем всё пойдет... О, Томас отчетливо слышал первые слова Смертушки, склонившейся над ухом молодого Тараса. Она шептала так: «В нашем грешном мире нет ничего слаще приятных воспоминаний: они как бесконечная сосательная конфета, вкусная до одури».
Будущее... Так что ждет деда Тараса, какой смешной конец? Что приготовила Смертушка взамен долгой жизни, какую шутку?
Переживет детей и внуков. Что ж, ничего странного, такое часто бывает... Инсульт. Он лежит на кровати. Телевизор включен. Передают новости, фильмы, «приговоры» и реклама-реклама-реклама... Майонез, лапша быстрого приготовления, кофе, круассаны-рогалики... А старик остался один в своей хате и к нему никто не придет — вся улица пустая, все уехали, бежали прочь от войны...
Скованный параличом дед Тарас, чуть-чуть не дотянув до девяноста, умрет от голода, а перед глазами будет мелькать реклама еды — такой смешной подарочек ему приготовила Смертушка. И она расскажет ему об этом, зная, что молодой симпатичный работящий шахтер все равно все забудет, как только к нему во тьме ужом приползет горноспасатель Коля Торец. Тарас будет кричать, требовать, чтобы его не откапывали, чтобы добили здесь и сейчас, чтобы на веки вечные оставили глубоко под землей. Он не хотел такой смерти, но больше всего такой жизни... Но Томас его все равно откопает, и потащит на себе к выходу...
Что ж, у деда Тараса своя игра, стол и карты свои. В этой раздаче он подарил Тихоне хвала, зная, что «мать» уже у него на руках. Сливай в отбой козырного туза, который на самом деле слаб, но дорого стоит — все равно никто не перебьет — взятка наша.
Дед Тарас помог.
Томас посмотрел на сцену не своими глазами, а глазами старика из Курдюмовки.
Стол. Видны все бирюльки. Пять игроков. Четыре мужчины и одна женщина. Пять пульсирующих сгустков боли. Трое на последнем издыхании. Особенно тот, кто сидит в кресле. Ему хуже всех... А ещё чувствуется сила. Здесь, на сцене, есть сила. Чужая. Коварная. Затесался выворотень. Из самой Коллегии. Подстава. Слабее Кристины, но этого хватит...
Серьезный соперник.
Томас вдруг увидел себя как бы со стороны. Необычное ощущение. Его тело — большая раненая с почти порванными нитками марионетка. Его разум — дух присутствия. Раньше он о подобном читал, фантазировал, а тут выпал шанс влезть в душу кукловода-манипулятора.
Попробовал пошевелить рукой, сделал несколько шагов.
Это как управлять големом.
Выход найден. Томас может играть дальше.
...Луна в Тельце... Убывает...
«Хотя в этот период времени и отмечается некоторое усиление мыслительных способностей, но с другой стороны возрастает инерционность и склонность к лени. Появляется желание комфорта и уюта, хочется посетить театр или кино, расслабиться и вкусно поужинать в ресторане. В такой день хорошо идут дела, связанные с недвижимостью и любыми другими имущественными вопросами, включая операции с художественными ценностями».
Художественными ценностями? Я не ослышался? Вы это серьезно?
«Третья лунная фаза охватывает период от полнолуния и до начала четвертой четверти. В полнолуние отмечается пик скопления жизненной и психической энергии, которая впоследствии понемногу идет на уменьшение. В этот период активность начинает уменьшаться, настает частая смена состояний, идей и суждений. Когда накопленные за минувшие фазы опыт и силы энергетически продолжаются пускаться на реализацию планов. В этот период лунного месяца уже различимы первые итоги, вложенных прежде усилий. Случающиеся смены настроений могут относиться не только к деловой области, но и личной жизни. Прекрасный период для освобождения от давнишних привычек, также можно попробовать что-либо новое. В отношениях — это время сближения и романтики на наиболее высоком уровне. Третья фаза отлично подходит для саморазвития, самосовершенствования и созидания. Этот день находится под покровительством Марса, поэтому он полон энергии. Удача ждет сильных, волевых людей, в которых энергия бьет ключом. Если вы разовьете в этот день бурную деятельность, вас ждет успех. Если вы все обдумали заранее, то — вперед, без тени сомнения!».
Слышите? Тому, кто все заранее обдумал, сегодня улыбнется удача!
Чтобы проверить границы своей новой силы, Томас рванул вверх к рамам для прожекторов, потолку, крыше и выше-выше-выше... Тихоня боялся высоты. На секунду ему вскружило голову и сердце ухнуло куда-то вниз, в Марианскую впадину. Пальцы задрожали, по телу электрической водой растеклась скованность, в голове остатки рассудительности потребовали повернуть обратно...
Тщетно — он уже в небе...
41 Кто бы мог подумать
Глаза широко открыты и под ним — сияющая электричеством геометрия.
Томасу спёрло дух, когда он своими и не своими вороньими глазами посмотрел на Город с высоты, в обход страха и здравого смысла. Томас всегда любил эти крыши и терриконы, этот замысловатый лабиринт человеческого муравейника. Подумал, что на Город сверху он хотел бы посмотреть ещё раз, но днем. Увидеть его без ям и изношенностей. Без мусора и ржавчины. Заново открыть его утопающие в зелени улицы, перепрыгнуть взглядом через крыши — от террикона к террикону и взглянуть на гибнущее в зеркале дорог солнце. Этот Город не обряжен в стеклобетон, потому и неприметен. Но он живой. Дышащий подлинными чувствами. Не маскирующийся бутафорией столичного снобизма, не поддающийся мыльным пузырям моды... Застывший в своей вечной осени... До слёз наивный и захолустный. Такой, где в людях находишь открытые пространства с ослепительным небезразличием. Город, который сам на себя, одноэтажного, всегда смотрит улыбчивой высотой. Не пугающей и не заносчивой, а какой-то уставшей и всепонимающей. Будто бы Он сжимает тебе плечо и говорит: «Да я все знаю. Сам не безгрешен. Всем приходящим — дыши, всё уходящее — прощай. Мы не такие как все, но мы не хуже остальных. Мы учимся терпеть, чтобы жить дальше. И впереди нас — только высота. Бесконечная. Откуда приходят и куда возвращаются».
Ближе к закату Город готов будет обнять Томаса и повести дальше, туда, где больше никто и никогда его не обидит. Такого наивного с ослепительным небезразличием в глазах. Уже не боящегося ничего...
Но до заката надо ещё дожить...
Томас медленно-медленно кругами спустился вниз... В зал, к искрящейся пирамиде... Что выбрать? Перед Томасом лежит хрустальный томик Лермонтова.
О, Андрюша Сермяга, и ты здесь?! И почему я не удивлен? Но мне пока нельзя к тебе прикасаться, я просто не выдержу — сердце лопнет от перенапряжения. Мне нужна подстраховка, передышка, укол новокаина, чтобы продержаться хоть ещё какое-то время...
Присмотрись, Тихоня! Пришла пора наказывать, карать, растаптывать в пыль, давить каблуками. Кто у нас на очереди? Фигурка гиены. Зубастая, с мощными челюстями, мохнатым загривком, луженым желудком, цепкими лапами. Мистер Гаранян, at your service! Что ж, мы не откажемся от услуги.
Томас — и не Томас, а нечто неосязаемое, стоящее рядом привидение — ведет дрожащую руку со спицей к Гараняну. В последний момент кисть замерла — удар и гиена сброшена со стола.
Уже легче, но недостаточно.
Душа требует справедливости. Душа требует правосудия. Очки с загнутыми дужками, где они? Где тот, кто между капелек? Иди сюда, дружочек, посмотрим, что будет: боль или облегчение?
Томас терпеливо дождался своей очереди, а потом подвел к столу свое тело, нанес удар палочкой и резко поднял руку — как Тоня этим утром на Пятовском — вверх и в сторону. Очки, описав в воздухе широкую дугу, упали далеко за спиной Томаса и разбились о пол.
Зрение не вернулось, но боль стихла, кровь перестала течь из открытых ран, и он уже не испытывал сводящей с ума жажды. Ещё один круг и можно браться за Сермягу-младшего.
...Шульц.
В начале игры все были в равных условиях. Было весело, легко, непринужденно. Потом, когда появилась усталость, инвалидное кресло стало помощником — остальные мучились, не имея возможности присесть. Чем дольше продвигалась игра, тем меньше становилось бирюлек. Их уже не было на краях — только в центре. Чтобы достать игрушки Михаэлю Шульцу приходилось вытягивать руку как можно дальше и снимать фигурки кончиком вязальной спицы.
В этот ход все стекляшки были очень далеко.
Ему не достать.
Михаэль подъехал к столу.
Он видел перед собой ту самую его победную звезду. К ней он шел целый век. Грешил так, что небо над ним закоптилось, но здесь, за этим столом, на сцене Дворца Труда, построенного из камней разрушенной церкви, в Городке-на-Суше, в Диком-Диком поле, искупил он все грехи свои. Он не может себе позволить уступить, когда до победы остался один шаг. Вытерпеть столько мук, чтобы сдаться? В конце концов, он — немец! Цивилизация — это не о нас. Мы вылупились из паучьих яиц, которые цверги защищали от прожорливых монстров в пещерах под Альпами, мы вылезли из древних болот, дремучих чащоб, где кроме водяных и леших не было больше жизни. Мы настолько страшны-сильны-бесстрашны, что славяне, не сдержав нашего напора, покинули родные края и ушли на Восток. Сила, острые волчьи зубы, безжалостность, буря и натиск — вот наш девиз!
Никто не остановит немцев. Никогда. Нигде. Не сейчас!
Михаэль правой рукой крепко схватил палочку, левой оперся о подлокотник...
Только что от боли орал Томас, но крик Михаэля Шульца был страшнее.
Немец встал.
Немец встал, чувствуя, как заново крошатся его перебитые голени, наклонился над столом и резким точным движением выхватил из когтистой лапы пульсирующую зеленым цветом морскую звезду.
Всё. Ход сделан. Его личная победа одержана. При этом он ещё в игре... Можно возвращаться на место.
«Твидовый» крепился, но и его укатали крутые горки. Снял отяжелевший пиджак, рубашка под ним насквозь промокла от крови. Движения скупые, неуверенные, и всё же на фоне остальных он выглядел молодцом-огурцом. Достал стеклянный алый гранат, бросил его на пол и улыбнулся.
У него ещё были силы улыбаться.
Очередь Томаса. Маленький томик стихов. Лермонтов. Андрей Сермяга. Закладка с петелькой. В неё надо попасть, чтобы достать. Попал. Достал. Раздавил в кармане... Но боли не было! Облегчения тоже не почувствовал. Получается, нет за ним греха? Хм, и такое может быть.
В этой жизни всё может быть, даже то, чего быть не может.
Следующий за Томасом игрок ошибся.
Голова закружилась, тело повело в сторону, и он схватился за стол рукой. Когда игрок понял, что проиграл и все нечеловеческие усилия были напрасны, он лишился чувств.
Подошла единственная оставшаяся за столом женщина. Она умела терпеть боль и страдания, легко карала обидчиков, искренне наслаждалась их мучениями и с радостью получала приятную награду. Начало игры забавляло, продолжение вынесла с наименьшими потерями, а в конце... В конце она спросила себя: «А зачем это всё?». Ради чего ей надо подходить к столу и тянуть застывшие в самых бессмысленных невообразимых положениях стекляшки? Ей так и не объяснили до конца, в чем её выгода. Да, что-то говорили, убеждали, но она так и не отделалась от ощущения, что все эти жрецы с приглашениями, дорога в дикую страну, странный Дворец — это какой-то непонятный сложный розыгрыш. Там, где другие гадатели нашли потаенный смысл, видели цель и, превозмогая боль, шли к ней, женский рациональный ум обнаружил не самую интересную настольную игру для чудаков с безумными глазами. В её мире женщинам не свойственны сантименты, они управляют корпорациями, и жизнь их в ежедневниках расписана по минутам. В ней нет места мистицизму, надуманным страстям и героическим порывам. Женщина решила, что игра не стоит таких страданий. Она вышла вперед, аккуратно положила спицу на стол и под вздохи удивления ушла за кулисы.
На сцене осталось три игрока. Шульц. Твидовый. Томас.
Михаэль медленно-медленно подъехал к ристалищу.
В прошлый раз ему хватило силы воли встать на ноги.
Стеклянные игрушки за прошедшие минуты не приблизились.
Придется повторить свой подвиг.
Сможет ли?
Смог...
Смог, но все в зале — хранитель традиций, публика, игроки — поняли, что это был его последний ход. Кости в ногах переломились и Шульц, прижимая к груди вырванного из последних сил стеклянного джокера, страшно ругаясь, крича от невыносимой боли в переломанных ногах, отъехал от стола.
«Твидовый», войдя в круг, обернулся и посмотрел на Томаса. Вдруг он провел рукой над бирюльками. Вернее... Да он их просто смёл со стола! Стеклянные статуэтки разлетелись веером и, ударившись о настил сцены, разбились на мелкие кусочки.
Мошенник повернулся к публике. Поклонился. Это был поклон слуги, выполнившего приказ... Дальше уже без него.
42 Это не конец, это - финал
Из-за стены света, за которой прятались гости церемонии, донесся шум. Томас не сразу понял, что это были аплодисменты. Он не понимал, что происходит, почему уже объявлен победитель. Как такое может быть? Есть ещё его ход! Он же в игре! Томас перешагнул через меловую линию и...
Зрение вернулось, боль-жажда-невыносимая усталость ушли, мысли прояснились, но при этом сердце его сжалось до размеров макового зернышка, когда Томас увидел, что «твидовый» одним махом сбросил почти все бирюльки. Почти. На краю осталось три статуэтки. Они лежали рядом. Шахматная ладья, на неё облокотился пастушок, а на его свирели повис морской конек. Для победы Томас должен осторожно снять самую верхнюю бирюльку, при этом прекрасно понимая, что Михаэль Шульц заберет его пастушка. У него просто не будет вариантов — это единственно возможный ход. «Твидовый» поставил Томаса в такое положение, что, даже выиграв, он точно проиграет. С одной стороны, все логично: именно об этом его предупреждали старики в землянке за каналом, что против него будут играть двое. Не думай о себе, они говорили, сначала победи, а потом уже смело загадывай желание. Они говорили... Они почти заискивали... Не явно, но то уважение, которое ему было тогда оказано, сейчас, после всего выстраданного, выглядит странным... Разве он был достоин такого приема? Почему деды согласились с ним встретиться? Чтобы вбить в его голову идею жизни как экзамена? Но он все свои сознательные годы думал так же. Вообще, почему он представил, что пастушок — это Иваша Миклухо-Маклай? Было бы логичнее выбрать Олесю. Но во Дворце её не было — это точно... А ещё... Да, истина вот в чем! Победный ход решает не только судьбу Иваши, но и всех ранее спасенных! Сейчас они находятся в подобии чистилища, а для того чтобы идти дальше, нужен победный аккорд, ломовая точка, гениальный по точности выпад...
Ударить можно, но куда? Если поступит так, как хотят старики и Князь, то все будут в выигрыше. Он, если захочет, обретет ещё сто лет обычной простой жизни, Дикое поле пошлет подальше всех этих хвостатых гостей, деды и Князь обретут желаемое. Войны, революции, разрушения, не рожденные младенцы, страдания, пот, вши и гной, сцепленные зубы и кровавые мозоли — всё будет в прошлом и станет тем перегноем, на поверхности которого вырастит новый народ, народ созидающий, а не вынужденный воевать на всех фронтах, отбивающийся от вечно голодных соседей.
Соседи... Голодные соседи... Пиковые... Если правда то, о чем он сейчас подумал, то как объяснить поступок «твидового»? Он же выполнил приказ! Но чей? Точно не Петра Алексеевича... Неужели они уверены в своей победе? Они уже видят, как Томас подходит к столу и достает его личную победную бирюльку, при этом разбивая морского конька. В этом случае Тихоня побеждает в своей внутренней битве, а Михаэль Шульц получает право загадать желание и немцам будет дарована общая виктория. Неужели кто-то думает, что он, Томас, своими руками отдаст победу пруссакам? После всех лет позора и отступлений, бессонных ночей, роли загнанного зверя. Немцы поджигали лес, чтобы выгнать из него дичь, при этом уничтожая деревья, цветы, других звери и птиц. Томас научился жить с этим знанием, а теперь кто-то надеется, что он дарует победу своим ненавистным врагам?! Никогда, никогда, никогда такому не бывать!
Подойти и осторожно-осторожно снять конька с флейты. Пусть тащит этого пастушка, если сможет, конечно. Пусть радуется, а мы уж так и быть, возьмем ладью. Без особых проблем. Вот он — победный путь, настоящая истинная милость небес. Никто из близких не будет мучиться, гости растворятся в тумане и не будут к нам лезть ещё сто лет, в этот раз уж точно... Мы побеждаем. Томас, как это ни странно, тоже! Поставить мир выше спасения своей черной души, это ли не подвиг? Упасть самому, чтобы другие поднялись. Этот выбор наполнит смыслом прожитое, поставит его в один ряд с настоящими героями, жертвовавшими собой ради общего блага.
Томас уже взял спицу, как вдруг его поразила догадка: а правильно ли он понимает жертвенность? Слишком комфортная она получается, удобная, выгодная и нашим и вашим... Уж очень смахивающая на лукавство — Томас в этом хорошо разбирался. Может, это и не подвиг совсем, а наоборот? Что его останавливает? Почему его окатило волной сомнений? Не вернет образ и подобие? Ну, так что! Жил ведь раньше как-то... Не вышло в этот раз, загадаем ещё сто лет. Будем готовиться, настраиваться — времени достаточно...
Без образа и подобия... Всё как прежде... Сто лет как прежде...
В смоляной вязкой ванне, во тьме, в грехе, лжи и злобе на всё и вся. Они выиграют, весь мир выиграет, людишки и пиковые выиграют, но он, он — Томас Ченстоховски — проиграет, и будет вынужден все эти минуты, часы, годы страдать, вспоминая, что у него был шанс, а он его бездарно упустил, упустил ради каких-то якобы высоких материй, высокопарных слов о героизме. Всем добрый — себе злой. Обложили, не дали малейшего шанса на иное деяние. Вот она — колея, рельсы, правильная всех устраивающая дорога — и не свернуть!
После этих мыслей перед Томасом словно открылась маленькая шторка, за которой он увидел баронессу Антонину Петровну фон Унгерн. Вот она всегда верила в него! Оберегала ещё во времена его юнкерства, в сердцах ушла в отставку, когда безродному Томасу запретили продолжать учебу в Коллегии. Защищала в Городке, а потом, в последние дни перед гаданием хотела очистить его душу. Она переживала за него. Все её последние поступки вели к одному — дать Томасу шанс на искупление, покаяние и очищение души. Весь мир против него, а мать всё это время была на его стороне. Представил, вот выполнил он то, что требовали. Вернется победителем, но как он сможет посмотреть матери в глаза? Наберется ли смелости вообще к ней подойти? Тоня верила, что Томасу хватит сил послать подальше весь мир, всех этих князей, дедов, проклятую нечисть и людишек с их вечными проблемами, и он сделает всё по-своему. Не ради пруссаков или гостей, даже без оглядки на близких. Когда дело касается образа и подобия, все причины, доводы, аргументы обретают размер кванта. Томас, наконец-то понял, что если он сейчас даст слабину, откажется от своей бессмертной души, то сам превратиться в амебу, и никакая отсрочка не поможет — он сделает только хуже...
После возвращения из-за канала баронесса дала Тихоне совет... Что она хотела донести, какую открыть тайну? Вспомни! «Иногда важно не то, что тебе сказано, а то, о чем они решили умолчать. И почему», — вот какие были её слова.
Думай... Думай... Думай — от этого зависит всё. О чем умолчали старики?
Прошло очень много времени, прежде чем Томас у себя внутри нащупал теплый след прячущегося от него ответа на этот простой вопрос. Он брел за ним в сумерках сомнений и, наконец, вышел на залитую солнцем поляну, где во всей своей первозданной красоте сияла истина: с какими игроками не садись за стол, и какие карты не раздавай, выиграешь ты или проиграешь — без разницы! Все равно, с самого начала и до конца, тебе приходится играть в козла. Жизнь — это не экзамен. Жизнь — это бесконечный поединок с козлом. Мир, в котором ты живешь — это ристалище, где тебе, подобно Иову, приходится терпеть страдания, муки, кары небесные, и они будут вечны, пока у тебя есть вечная душа, и кто-то, мерзкий, жадный, лживый, по-змеиному хитрый и коварный, желает её у тебя забрать.
Таков закон.
Когда Томас, наконец, открыл глаза и посмотрел на себя, свою судьбу, на мир, в котором он дышал, мыслил, страдал, любил, у него внутри взорвалась целая вселенная — разрушилась и тут же заново сложилась. Радость от обретения истины была столь великой, что Томас начал смеяться. Ребра болели, голова раскалывалась, но остановиться он не мог. Ради этого мига стоило прожить сто лет и вытерпеть все муки. Это не было решение импульса, гонора, обиды. Ответ пришел в ясности, спокойствии, непоколебимой стойкой тверди вывода и только что обретенного знания. Из тьмы он сделал шаг вперед и вошел в круг света, и там — в тишине, милой сердцу простоте, взял со стола пастушка, прижал его к своей груди, развернулся и пошел прочь со сцены, за кулисы — куда угодно, лишь бы подальше от этой зловонной ямы и рассевшихся по рядам тряпичных побитых молью кукол.
Он бездумно шел через заставленные мебелью пыльные лабиринты, сквозные проходные комнаты, где маленькие, похожие на крысёнышей служки сервировали ломящиеся от снеди и пойла столы. Через будуары с прихорашивающимися пахнущими мятой и пудрой шлюхами, притоны с клубящимся туманом едкого табачного и сладкого опиумного дыма, подземные лавы с капающей за шиворот водой и гнилыми шпалами под ногами. Через вой сирен и зарева пожарищ, пыльные бури и грязь до колен. Пока он брёл, Томаса преследовали запахи кислой капусты, жареной селедки, жженой резины, горчичного газа, сгоревшего пороха, сажи, гари, вонючих портянок, дохлой рыбы и много ещё чего тошнотворного. Наконец, он заметил дверь, ведущую к запасному выходу на задний двор.
Темный узкий коридор с тусклой лампочкой вверху. Стены с облупившейся мышиного цвета краской, бетонный сырой пол, высокий потолок. Гулкие шаги. Томас подумал, что в таких местах хорошо расстреливать — бах в затылок — и на небесах! Эта мысль вдруг ему показалась забавной...
Толкнул дверь, вышел, сделал насколько шагов и тут же остановился. Глаза его ослепли от солнечных лучей, тысячекратно умноженных и усиленных кристаллами снега. Вся открывшаяся перед ним площадь, крыши домов, кроны деревьев, всё сияло мириадами бриллиантов. Вот так подарок! Хотел увидеть снег и — вуаля — милости прошу! Это сколько он сражался? Полгода, целый век?
Томас, закрыв глаза, полной грудью вдохнул обжигающий вкусный морозный воздух. Белесый пар изо рта. Волосики в носу прихватило. Ледяной живительный коктейль потек по всему телу и, достигнув мозга, очистил сознание, стерев из памяти удушливую вонь Дворца, а вместе с ней и образы разноцветия бирюлек, смеющихся и рыдающих игроков. Только морозная, вкусная, как бухарская дыня, свежесть, девственный только-только выпавший снег под ногами и бесконечное освященное солнцем чистое небо над головой. Невысокие старинные, словно с открытки, дома. Над печными трубами вверх поднимаются дымки.
Как же хорошо-то, Господи!
За спиной раздался крахмальный скрип.
Томас развернулся и увидел перед собой лицо Михаэля Шульца. Он улыбнулся немцу, как старому приятелю, с которым многое было пережито и выстрадано, улыбнулся как другу, ставшему ближе брата. Михаэль на долю секунды замешкался, что-то хотел сказать, но слова застряли в его глотке, а потом он всё равно завершил задуманное: сбил Томаса с ног и нелепыми в этот радостный момент прыжками бросился к поджидающему его экипажу.
Томас почувствовал, что хрупкое стекло, не выдержав удара, лопнуло, и пастушок рассыпался в пыль. Боли не было, только время замедлило ход, и он тягуче-плавно стал падать в прохладное, убаюкивающее, как руки матери, мягкое, чистое. Снег — это хорошо. Он любит зиму. В морозы все твари земные становятся честнее, а небеса снисходительней. Хорошо вот так — из засухи, пыли, грязи, тоски, подлости бесконечной, вываляться в сугробе ни о чем не думая, забыв прошлое, отрешившись от настоящего, не страшась будущего.
Тихоня открыл глаза. Утреннее голубое небо заслонили две фигуры. Он, в конце концов, понял, что происходит и где сейчас находится. Томас вернулся в Брест. В прошлое. А рядом — Тоня и Князь. Сзади темнеет часовая мастерская Генриха Киса. Если опустить глаза, то он заметит, как из правого бока торчит рукоять кинжала с костяной ручкой.
— Кровь черная, в печень попал...- сказал Пётр Алексеевич озадаченно.
Медный привкус во рту, дыхание спёрло, но боли нет.
Князь приподнял голову Томаса, взял его за руку, пытаясь прощупать пульс, и при этом тихо бормоча:
— Ничего не понимаю... Такого просто не может быть... Не должно случится... Не должно... Соловей-сволочь... Все умрут... Кто это все? Да что же это деется?
— Князь! — закричала баронесса, — Ну сделайте хоть что-нибудь!
Антонина Петровна не знала, как себя вести, что говорить, куда девать руки — ей ещё не доводилось терять своих учеников.
— Я не понимаю! Он не может уйти! — ответил Пётр Алексеевич, удивленно посмотрев на баронессу.
Вдруг Тоня всё поняла... Перстень с черным камнем. На пальце у Томаса. Баронесса думала, что оставила его в Коллегии, когда спешно уезжала. Как только она узнала камень, в этот же момент рука её мальчика начала чернеть. Под кожей стали проявляться синие рубцы, точки, шрамы, словно невидимый татуировщик беспорядочно набивал наколки без смысла и гармонии. Миг — и руки Томаса стали такими, словно он тысячу лет провёл в шахтах. Лицо — красивое и юное — пошло пятнами. На щеках и подбородке выросли страшные сливового цвета шишки, какие бывают у тех, кто получал сильные обморожения. Нос почернел и его кончик отвалился. Там где не поработал мороз, завершил дело «татуировщик» — лоб, брови, щеки, вся-вся кожа была в угольных рубцах. Светлые длинные красивые волосы поседели.
Томас поднял голову, посмотрел на снег голубыми чистыми, как у младенца, глазами, улыбнулся и... затих. Грудь опала и нестерпимо долго был слышен его последний выдох:
— Ткхаааааааа...
— Нет, Князь, теперь он может уйти... — прошептала баронесса, склонившись над ещё теплой почерневшей рукой её дорогого мальчика. Целуя пальцы, она прошептала: «Покойся с миром...».
***
Долгие истории принято завершать какой-нибудь красивой фразой, мудростью, метким афоризмом. Ведь конец — делу венец. Я бы могла завернуть в духе грешного мира и сладких воспоминаний, но это уже перехлест: и так кто только не писал о Томасе — охотников выискалось достаточно... Не будет никаких красивых слов. Об одном прошу: помолитесь за упокой бессмертной души новопреставленного раба Божия Томаса, и пусть Всевышний простит ему грехи вольныя и невольныя. Налейте калгановки в граненую стопку и помяните нашего Тихоню не чокаясь.
Пусть земля ему будет пухом.
Царство Небесное...
2004-2019 Павел Брыков Горловка-Партенит-Горловка

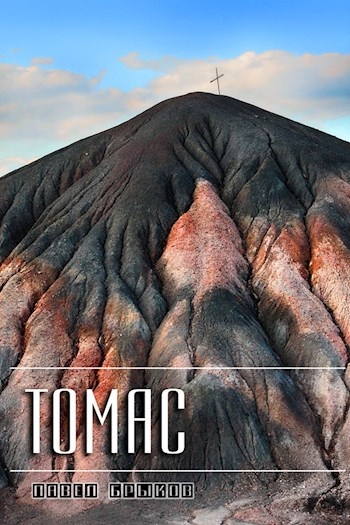






Комментарии к книге «Томас», Павел Брыков
Всего 0 комментариев