Эми Хармон Закон Моисея Серия: Закон Моисея - 1
Данная книга предназначена только для предварительного ознакомления! Просим вас удалить этот файл с жесткого диска после прочтения. Спасибо.
Переводчик: Ирина Ч., Юля Ершова (пролог+2 главы)
Редактор: Sotni(с.27 гл.) Алена К(1-26 гл.), Matreshka(пролог-2 главы)
Сверка: betty_paige
Вычитка и обложка: Pandora
Оформление: Юлия
Переведено для группы:
Пролог и 2 главы были переведены для группы:
18+
(в книге присутствует нецензурная лексика и сцены сексуального характера)
Любое копирование без ссылки на переводчика и группу ЗАПРЕЩЕНО!
Пожалуйста, уважайте чужой труд!
Пролог
Тяжелей всего писателю даются первые слова. Будто тебе самой приходится проживать все, что буквально клещами вытягиваешь из своей души и изливаешь на бумагу. И, раз уж начала, ты неминуемо обречена довести дело до конца. А как быть, если некоторым вещам в принципе никогда не приходит конец? Это как раз история о любви, которая не знает конца. И мне пришлось очень нелегко, когда я сочиняла его в книге.
Если я прямо сейчас выложу вам все, как есть: что я потеряла его — вам будет легче это пережить. Вы уже будете заранее знать, что ждет впереди, и страдать. Ваша грудь сожмется от боли, а желудок перевернется от ужаса. Но вы будете знать, и сможете подготовиться. Это — мой подарок вам. Меня же в свое время судьба не одарила так щедро, и я оказалась совсем не готова.
А что было, когда он ушел? Стало еще хуже. Каждый день было все тяжелее прожить. Чувство сожаления только усиливалось, горе обострялось. Впереди ждала только унылая череда дней — дней без него. Говоря по правде, я смирилась с судьбой, что мне выпала — хотя с радостью бы прошла любые испытания, кроме этого. Все, что угодно, только не это. Но жизнь решила иначе. А я была не готова.
Не могу даже сказать, что я чувствовала. Что чувствую до сих пор. Не могу. Слова все обесценивают, обращают в пустой звук, и все, что я искренне испытываю и говорю, становится какими-то дешевыми цветастыми клише из бульварного романа, призванными выжать слезы из доверчивого читателя, получить моментальную реакцию. Реакцию, не имеющую никакого отношения к реальности и оставляющую вас, как только вы отложите книгу в сторону. Как только утрете слезы и рассмеетесь от радости, понимая, что это была всего лишь история. И, слава богу, не ваша собственная. Но здесь все пойдет не так.
Потому что это моя история. И я была не готова.
Часть 1
1 глава Джорджия
До
Завернутого в полотенце Моисея нашли в корзине для грязного белья в общественной прачечной. Ему было всего несколько часов от роду, и он уже умирал. Какая-то сердобольная женщина услышала его плач, и, укутав своим пальто, держала на руках, пока не подоспела помощь. Она не знала, кто его мать, где она и вернется ли, знала только, что он уже не нужен, что умирает, и если в ближайшее время он не окажется в больнице, станет слишком поздно.
Его прозвали «дитя крэка». Мама сказала, что так называют детей, чьи матери употребляли наркотики во время беременности, и они рождены уже с кокаиновой зависимостью. «Дети крэка» развиты хуже нормальных, потому что рождаются, как правило, недоношенными и у нездоровых матерей. Кокаин изменяет биохимию мозга, поэтому они часто страдают от синдрома дефицита внимания и психических расстройств вроде клептомании, навязчивых состояний и тому подобного. Иногда даже от эпилептических припадков и шизофрении, а еще галлюцинаций и гиперчувствительности. Все боялись, что Моисей будет болен чем-нибудь из этого списка, а может быть, и всем сразу.
В утренних десятичасовых новостях рассказали его историю. Он был «гвоздем программы» — еще бы, младенец, брошенный в корзине грязного белья прачечной бедного района Уэст-Валли-Сити. Мама говорит, что помнит все так, будто это произошло вчера — трогательные снимки младенца, лежащего в больничном инкубаторе с зондом для питания в животе и синей шапочкой на крошечной голове, не так просто забыть. Спустя три дня нашли его мать, хотя никому не хотелось возвращать ей ребенка. Но этого делать и не пришлось. Она была мертва. Женщина, бросившая ребенка в прачечной, погибла от передозировки. Ее не смогли откачать в том же самом госпитале, где несколькими этажами выше ее новорожденный сын отчаянно боролся за жизнь. Ее тоже кто-то нашел, правда, не в прачечной.
Ее соседка, арестованная в тот же самый вечер за проституцию, рассказала полиции все, что знала об этой женщине и ее брошенном ребенке — надеялась, что ее наградят за помощь следствию. Вскрытие показало, что наркоманка, в самом деле, недавно родила. А потом и ДНК-тест подтвердил, что найденный мальчик — ее сын. Вот парню повезло.
В новостных сводках его часто называли «ребенком из корзины», поэтому сотрудники больницы дали ему имя Моисей. Но, в отличие от библейского пророка, его нашла не дочь фараона. Вырастили его не во дворце, и у него не было старшей сестры, обеспокоенно наблюдавшей за ним из зарослей камыша. Но родственники все же нашлись — город гудел, как разворошенный улей, когда выяснилось, что умершая наркоманка была местной. Ее звали Дженнифер Райт, и она приезжала проводить лето у своей бабушки, которая жила по соседству от нас. Бабушка никуда не переехала, родители Дженнифер жили в соседнем городе, а кое-кто даже был знаком с ее братьями и сестрами. Так что маленький Моисей был не одинок, хотя вряд ли кто-нибудь из родственников мечтал бы о ребенке с такого рода проблемами. Дженнифер Райт разбила им сердца и оставила семью сломленной и несчастной. Мама говорила мне, что во всем виноваты наркотики. Так что нет ничего удивительного в том, что она бросила ребенка. Поначалу она была нормальной девушкой, такой же, как все в этом возрасте: хорошенькой, милой и даже умной. Но оказалось, недостаточно умной, чтобы держаться подальше от метамфетамина, кокса и прочей дряни, которая затем ее поработила. Слыша фразу «дитя крэка», я представляла себе Моисея с огромной трещиной через все тело — словно он был сломан еще до своего рождения. Я знаю, что слово «крэк» (прим. crack с англ. можно перевести как трещина) обозначает совсем не это, но навязчивая картинка не шла у меня из головы. Может быть, понимание того, что он сломлен, загадочным образом влекло меня к нему с самого начала.
Мама рассказывала, что поначалу весь город следил за судьбой Моисея Райта: жители смотрели новости, делали вид, что тоже участвуют в событиях, и придумывали всякую чушь, чтобы добавить себе значимости в чужих глазах. Я сама не была знакома с маленьким Моисеем — он рос проблемным, как множество мальчиков его возраста, и члены семьи Райт перекидывались им, как слишком горячей картофелиной — когда уже не было сил терпеть, его отправляли к следующему родственнику. Тогда с ним какое-то время мирились, а затем все происходило по новой, и очередной брат или дядя заступал на печальную вахту. Все это произошло еще до моего рождения, а к тому моменту, как мы встретились, и мама рассказала мне все это для того, чтобы я «отнеслась к нему с пониманием и была доброй», история уже всем приелась, и никто не хотел иметь с Моисеем дела. Люди обожают брошенных младенцев, даже совсем больных. Даже «детей крэка». Но дети становятся подростками. Никто не любит трудных подростков.
Моисей был одним из таких.
К моменту нашего знакомства я уже, кажется, знала о них все. Через дом моих родителей прошло множество приемных трудных подростков. Они постоянно усыновляли или удочеряли кого-нибудь, так что, когда мне исполнилось шесть, у меня было две старшие сестры и брат, уже покинувшие дом. Мое появление на свет оказалось для родителей приятной неожиданностью, так что жизнь, полная неродных братьев и сестер, стала для меня привычной. Они сменяли друг друга, как картинки на калейдоскопе. Может быть, именно поэтому мои родители и Кейтлин Райт, прабабушка Моисея, частенько сиживали за кухонным столом, обсуждая его судьбу. Я услышала многое из того, что нежелательно было бы слышать. Особенно в то лето.
Старая дама сама решила заняться Моисеем. Через месяц ему должно было исполниться восемнадцать, и все остальные родственники уже готовы были, что называется, умыть руки. Он бывал у нее каждое лето, так что прабабушка надеялась, что они смогут поладить, если никто из родственников не станет вмешиваться в его дела. Казалось, ее ничуть не смущал тот факт, что вскоре после восемнадцатилетия Моисея ей самой стукнет восемьдесят.
Я прекрасно знала, кто он такой, и даже припоминала, как летом он появляется по соседству. Но мы никогда не общались, хотя в нашем городе все дети знакомы между собой. Кейтлин Райт приводила его на церковную службу в те воскресенья, что он бывал с ней в городе. В воскресной школе он учился в том же классе, что и я, и мы всей компанией пялились на него во все глаза, пока учитель пытался как-то его приободрить и втянуть в общие занятия. Он не поддавался, а только молча сидел на складном стульчике и глядел по сторонам своими глазами странного цвета, нервно сжимая и разжимая лежащие на коленях кулаки. Как только урок заканчивался, он срывался с места и бежал на свободу, к солнечному свету, прямиком к дому, не дожидаясь, пока его встретит прабабушка. Я иногда старалась его догнать, но Моисей как-то ухитрялся опережать меня. Выходит, уже тогда я пыталась следовать за ним.
Иногда Моисей с бабушкой гуляли или катались на велосипедах, а еще она почти каждый день водила его в бассейн в Нефи. Я ужасно завидовала: если я хотя бы пару-тройку раз окажусь летом в бассейне, это уже можно считать большой удачей. Когда мне уже нестерпимо хотелось плавать, я отправлялась к рыбацкой заводи в каньоне Чикен-крик. Родители запрещали мне ездить туда, ведь заводь была такой зловещей, темной и опасной, — но лучше уж утонуть, чем вообще не купаться все лето. Как видите, я все же умудрилась не утонуть.
Моисей взрослел и постепенно стал реже появляться у нас в Леване. Я не видела его уже пару лет, хотя Кейтлин всячески уговаривала его переселиться к ней. Семья пыталась ее отговорить: якобы старая леди не сможет с ним справиться. Говорили, что он «слишком эмоционален, нестабилен и агрессивен». Но, в конце концов, они опустили руки и сдались. Моисей переехал в Леван.
Мы поступили в выпускной класс одновременно, хотя я была младше, чем нужно, а он — на год старше. Дни рождения у нас обоих были летом — Моисею исполнялось восемнадцать второго июля, а мне двадцать восьмого августа — семнадцать. Моисей выглядел старше своих лет. За два года отсутствия он сильно вытянулся и обзавелся тяжелым «взрослым» взглядом. Вдруг оказалось, что у него широкие плечи, объемные красивые мускулы на точеном теле, мужественные скулы и упрямый подбородок — прямо как у египетских принцев с картинок энциклопедии. Такой образ никак не вязался с имиджем члена преступной банды, к которой, по слухам, он принадлежал.
Учеба в школе давалась ему нелегко — Моисею было сложно концентрироваться на чем-то одном и долгое время находиться без единого движения. Его родственники говорили, что он страдает от припадков и галлюцинаций — их удается взять под контроль с помощью медицинских препаратов. Я как-то услышала рассказ его бабушки о том, что он бывает угрюмым и раздражительным, что у него проблемы со сном, и он слишком рассеянный. Она также говорила, что Моисей очень умен, почти гениален, и что он очень много рисует, причем рисует так, как она еще никогда не видела. Но из-за лекарств, которые должны помогать ему сосредоточиться и учиться в школе, он становится медленным, неуклюжим, а его картины приобретают мрачные, кошмарные нотки. Кейтлин рассказала маме, что собирается прекратить давать ему таблетки.
— Таблетки превращают его в зомби, — говорила она. — Я хочу испытать судьбу и попробовать ужиться с юношей, который не может усидеть на одном месте и постоянно рисует. В наши дни это не считалось таким уж недостатком.
А мне показалось, что зомби все же звучит немного безопаснее. Несмотря на всю свою красоту, Моисей Райт выглядел страшновато. Из-за гибкого, подвижного тела, смуглой кожи и необычных светлых глаз он походил на дикого хищного кота из джунглей. Молчаливого, стремительного и смертельно опасного. Зомби, по крайней мере, медленно ковыляют, а дикие коты бросаются из темного угла. Находиться рядом с Моисеем — все равно, что пытаться приручить ягуара. Я искренне восхищалась отвагой старой леди, которая не стала от него отказываться. Выходит, она была самой храброй женщиной, что я встречала за всю свою жизнь.
Считая меня, в городе было всего три девушки моего возраста, и порой я чувствовала себя одиноко. К тому же, никто из девчонок не интересовался верховой ездой и родео так же, как я. Наши отношения были достаточно теплыми, чтобы здороваться и сидеть рядом во время церковной службы, но не для того, чтобы вместе проводить скучные летние дни.
Это лето выдалось особенно жарким. Я помню все до мельчайших деталей. У нас была самая сухая весна за всю историю города, и на западе начали бушевать пожары. Фермеры отчаянно молились о дожде, натянутые нервы и рекордная по высоте температура выматывали людей, все становились вспыльчивыми и раздражительными. А еще в округе стали пропадать люди. Исчезли сразу две девушки, хотя об одной из них поговаривали, что она просто сбежала из дома со своим парнем, а второй уже почти исполнилось восемнадцать и дома ей жилось несладко. Всем хотелось верить, что они живы и здоровы, но, к сожалению, это был уже не первый случай за десятилетие. Оказалось, в наших краях уже известно несколько подобных пропаж, которые ничем хорошим не закончились. Девушек так и не нашли. Из-за этого родители в каждом доме волновались за своих чад больше, чем обычно, и мои предки тоже не стали исключением.
Я выросла неугомонной, мне не сиделось подолгу на одном месте, хотелось побыстрее покончить со школой и окунуться во взрослую жизнь. Я любила скорость и мечтала о том, как прицеплю конный трейлер к своему пикапу и буду разъезжать по скачкам и родео, и не стану заботиться ни о чем, кроме лошадей, побед в соревнованиях и расстилающейся перед глазами дороги. Но мне было всего семнадцать, в наших краях пропадали мои ровесницы, и родители ни за что не отпускали меня на «волю». Они успокаивали меня тем, что когда мне стукнет восемнадцать, и я закончу обучение, все само собой как-нибудь образуется. Но мне казалось, что от выпуска из школы меня отделяет вечность, и бессмысленное лето простиралось передо мной унылой безжизненной пустыней. Мне требовался глоток свежего воздуха, как никогда. Может быть, все дело оказалось в этом, и я так изголодалась по впечатлениям, что просто слетела с катушек и потеряла контроль над ситуацией. В любом случае, когда Моисей приехал в Леван, он походил на воду из той заводи в каньоне — глубокой, темной, непредсказуемой и потому опасной, — ведь ты никогда не узнаешь, что скрывается за непроницаемой поверхностью. И, как и всегда, я нырнула в черную пучину с головой, не слушая ничьих запретов и предупреждений. Но только в этот раз я утонула.
***
— Ты на что уставился? — резко спросила я, вынужденная сдаться: в конце концов, Моисей, кажется, получил от меня то, что хотел: мое внимание. Всем приемным детям в нашей семье внимание окружающих требовалось, как воздух. Казалось, без него они могут задохнуться и умереть. Меня это просто бесило. Дело было не в том, что они постоянно требовали внимания родителей — они ждали того же и от меня. А для меня нет ничего лучше возможности побыть наедине с собой, повозиться с лошадьми. Лошади не были такими уж навязчивыми существами, в отличие от большинства окружающих людей, которые, казалось, устраивали соревнование, кто быстрее выведет меня из себя. Вот и Моисей пришел в конюшню понаблюдать за мной, бесцеремонно вмешался в мою встречу с питомцами Сакеттом и Лаки, и казалось даже, что в комнате стало меньше воздуха — так же, как с моими приемными сестрами и братьями.
Кейтлин Райт обратилась к моим родителям с необычной просьбой. Она посчитала, что неукротимую энергию, высвободившуюся после того, как Моисей отказался от лекарств, стоит пустить в полезное русло и отправить его помогать на нашей ферме. Моисей должен был убирать навоз, пропалывать сорняки, подстригать лужайки, кормить кур и вообще делать что угодно, лишь бы не маяться от безделья все лето перед школой. Обычно все эти обязанности выполняла я, и потому радовалась возможности переложить их на чужие плечи. Но папа нашел для Моисея и другие занятия, а парень неожиданно проявил такое рвение, что казалось, у папы вот-вот кончатся идеи. Стало ясно, что мы не сможем найти ему работу на все лето. Сейчас папа доверил ему уборку амбара, и Моисей все утро носился, как сумасшедший, возился с сенным прессом, махал граблями и работал вилами. Я даже не знала, хорошо это или плохо, что он так у нас трудится. Особенно, когда парень вдруг затих и уставился в одну точку, безвольно повесив руки по бокам. К счастью, смотрел он не на меня. Широко раскрыв свои кошачьи желто-зеленые глаза, он остановил взгляд где-то чуть выше моего плеча. Он замер без движения и едва дышал — таким я его еще не видела с самого начала знакомства. Моисей никак не отреагировал на мой вопрос и только молча сжимал и разжимал кулаки, будто пытался восстановить кровообращение в немеющих ладонях. Я обычно так делала, стоя зимой без перчаток на автобусной остановке. Сейчас на дворе царил июнь, и вряд ли у парня мерзли руки.
— МОИСЕЙ! — гаркнула я, пытаясь выдернуть его из оцепенения. Наверное, сейчас он упадет на землю, корчась в судорогах, и мне придется делать ему искусственное дыхание или еще что-нибудь. Мысль о том, что мы соприкоснемся губами, вызвала какое-то странное шевеление у меня в груди. Я задумалась, каково это будет — прижаться своими губами к его, даже просто ради того, чтобы вдохнуть в него кислород. Он вовсе не был противным. Подобное ощущение от человека я испытывала только раз в жизни, что-то переворачивалось внутри, и не могу сказать, что это было неприятно. Моисей был даже больше, чем просто непротивным. Он обладал странной, дикой красотой, нетипичной для нашего окружения — особенно эти загадочные волчьи глаза. Я честно призналась самой себе, что в случае Моисея — «нетипичный» значит «классный». Как жаль, что его судьба сложилась так плохо.
Родители использовали лошадей в психотерапии для работы с детьми-сиротами. На самом деле эта программа была широко известна по всему миру — что-то связанное с невербальным общением, ведь лошади не могут говорить, сами знаете.
Так родители обычно говорят, рекламируя свои услуги, чтобы рассмешить клиентов и расположить их к себе. Лошади не могут говорить, но некоторые дети не могут этого тоже, и в этом случае иппотерапия, — способ понимания самого себя через общение с лошадьми и наблюдение за ними, может помочь. Родители сделали ее делом своей жизни и так зарабатывали. Папа к тому же был квалифицированным ветеринаром — я тоже хотела выучиться на ветеринара, когда вырасту. Все наши лошади были прекрасно обучены и привычны к общению с детьми. Они понимали, когда следует стоять спокойно, чтобы ребенок не испугался, и проявляли поистине чудеса терпения, позволяя надеть на себя уздечку и даже смешно округляли губы, чтобы удобнее вставлялись удила. А дети реагировали на это тем, что взрослые обычно называют «чудо» и «прорыв».
Моисей провел у нас около двух недель: ковырялся в земле, полол, ел — кажется, он был способен есть даже ржавые гвозди — и постоянно выводил меня из себя одним своим присутствием, потому что от него будто исходили волны какого-то напряжения. На самом деле, ничего плохого он не делал — даже не говорил со мной, что было одним из его немногих достоинств, наряду с цветом глаз и мощными мускулами. Я скривилась, рассердившись на саму себя. О чем я вообще думала?
— Ты когда-нибудь катался на лошади? — спросила я, пытаясь отвлечься от странных мыслей.
Моисей будто вынырнул из полуденной дремы. Он больше не смотрел в никуда, стоя столбом посреди конюшни. Теперь его взгляд сосредоточился на мне. Но никакого ответа я не услышала, поэтому повторила свой вопрос. Моисей покачал головой.
— Нет? И даже не общался ни с одной?
Он снова помотал головой.
— Иди сюда. Поближе. — Я кивнула на лошадь. Может быть, мне удастся помочь ему иппотерапией, как обычно делают мама с папой? Раз я видела, как они работают, почему бы и мне не попытаться: может быть, мне удастся выручить это «дитя крэка».
Моисей слегка попятился, словно испугался не на шутку. Я вспомнила, что за все время работы у нас на ферме он держался в стороне от всех животных. Постоянно. Он наблюдал за ними с безопасного расстояния, так же, как и за мной. И не произносил ни слова.
— Не тушуйся. Сакетт — лучшая лошадка на земле. Хотя бы погладь его.
— Я его только напугаю, — ответил Моисей. Я замерла, будто громом пораженная. Мне впервые довелось услышать его голос, и он заметно отличался от моего сводного братца Бобби и множества остальных его ровесников. Их ломаные подростковые голоса будто скакали по ступенькам, то и дело спотыкаясь, поднимаясь до визгливого фальцета и опадая до низкого хрипа. А низкий мелодичный бас Моисея ласкал уши и вызывал какое-то непривычное щекотание у меня в сердце, странное и одновременно приятное.
— Вовсе нет! Сакетт вообще ничего не свете не боится. Его ничто не способно вывести из себя. Он может стоять, как вкопанный, хоть весь день, и даже позволит тебе обнять себя. А вот Лаки может куснуть или лягнуть незнакомца. Но только не Сакетт.
Я пыталась объездить Лаки вот уже несколько месяцев. Кто-то передал его отцу вместо платы за услуги.
У отца не было времени заниматься с ним лично, поэтому он просто доверил коня мне со словами «будь с ним поосторожнее». Тогда я только посмеялась — осторожность — это не про меня. Папа тоже засмеялся, но повторил:
— Джордж, я серьезно. Этого коня не просто так назвали Лаки: счастливчиком станет тот, кому он позволит сесть на свою спину и хоть немного проехать.
— Животные меня не любят. — Моисей сказал это так тихо, что я не была уверена, поняла ли его правильно. Я прогнала прочь все мысли о Лаки и похлопала по спине своего верного друга. Сакетт был со мной с первого дня, как я училась ездить верхом.
— А Сакетт любит всех.
— Меня он не полюбит. А может быть, дело не во мне, а в них.
Я растерянно огляделась по сторонам. В конюшне никого не было, кроме Сакетта и нас с Моисеем.
— Они — это кто, чувак? Здесь больше никого нет.
Моисей промолчал.
Я продолжала сверлить его взглядом, удивленно приподняв брови. Затем почесала Сакетту нос и провела ладонью по его изогнутой шее. Тот не дрогнул ни единым мускулом.
— Видишь? Он как статуя. И буквально источает любовь. Давай же.
Моисей сделал шаг вперед и робко поднял руку к Сакетту. Конь нервно взвизгнул.
Парень тут же убрал руку и шагнул в сторону.
Я растерянно засмеялась.
— Что за хрень?
Наверное, мне стоило прислушаться к его словам. Но тогда я не стала: наверное, мне не хотелось в это верить. И не в последний раз.
— Ты же не станешь распускать нюни? — поддразнила я. — Ну же, прикоснись к нему. Он ничего плохого тебе не сделает.
Моисей испытующе посмотрел на меня своими золотисто-зелеными глазами, прикинул что-то про себя и сделал шаг ближе, вытянув руку вперед.
В этот самый момент Сакетт встал на дыбы. Он будто переобщался с норовистым Лаки — такое поведение было совершенно не свойственно для лошади, которую я знала всю свою жизнь. За все годы нашего общения он ни разу не подвел. Мне ни разу не пришлось кричать на него, даже вообще повышать голос, и тем более пользоваться недоуздком. А теперь я летела на пол, как куль с мукой, метко получив в лоб подкованным копытом.
Когда мне с трудом удалось открыть глаза, я увидела над собой потолочные балки конюшни. Я лежала навзничь, а голова раскалывалась так, будто в нее лягнула лошадь. Ой. Меня ведь на самом деле лягнула лошадь. Сакетт. Я была так шокирована, что почти не чувствовала боли.
— Джорджия?!
Я с трудом сфокусировала взгляд на нависшем надо мной лице, загородившем от меня танцующие в солнечных лучах пылинки.
Моисей положил мою голову себе на колени и пытался остановить кровь своей сложенной футболкой. Даже в таком полубессознательном состоянии я обратила внимание на его шикарные плечи и широкую грудь. Щеки приятно касалась шелковистая кожа его мускулистого пресса.
— Мне надо сбегать за помощью, а ты лежи, ладно? — он осторожно переложил меня на пол, продолжая зажимать рану у меня на лбу. Я старалась не обращать внимания на перепачканную кровью футболку.
— Нет, подожди! А где же Сакетт? — я попыталась сесть. Моисей снова опустил меня на пол и оглянулся на дверь, не зная, что делать.
— Он… сбежал, — робко ответил Моисей.
Я вспомнила, что Сакетт не был привязан. Мне еще никогда не приходилось ограничивать его передвижения. Я даже представить себе не могла, что заставит его сорваться и убежать из конюшни. Я снова посмотрела на Моисея.
— Насколько все плохо? — я старалась вести себя, как Клинт Иствуд или еще кто-нибудь из этих крутых парней, которых не могла выбить из колеи даже лишняя дырка в голове. Но мой голос предательски задрожал.
Моисей напряженно сглотнул, так что было видно, как дернулся кадык под смуглой кожей. У него заметно дрожали руки. Легко было понять, что он расстроился не меньше меня.
— Не знаю. Рана, вроде бы, небольшая. Но кровоточит сильно.
— Получается, животные действительно тебя недолюбливают? — шепнула я.
Моисей не стал притворяться и покачал головой.
— Я заставляю их нервничать. Всех без исключения. Даже Сакетта.
Меня он тоже заставлял нервничать. Но каким-то другим, приятным образом. Меня это даже развлекало. Несмотря на то, что голова у меня гудела, как колокол, и кровь заливала глаза, мне не хотелось, чтобы он уходил. Мне хотелось, чтобы он остался и рассказал мне все свои секреты.
Словно почувствовав произошедшую во мне перемену, Моисей насторожился, встал на ноги и побежал прочь, оставив меня умирать от любопытства в гордом одиночестве. Впрочем, вскоре он вернулся в сопровождении моей встревоженной мамы, а за ними спешила его бабушка с бледным от ужаса лицом. Я засомневалась, может ли моя рана оказаться еще серьезнее, чем мне кажется. Меня даже посетили ранее не свойственные мне женские страхи: не останется ли у меня шрама? Какую-то неделю назад я бы посчитала, что это очень круто. А теперь мне почему-то так не казалось.
Я только хотела, чтобы Моисей считал меня красивой.
Он стоял на почтительном отдалении, позволяя женщинам кудахтать и суетиться надо мной. Когда стало ясно, что я не скончаюсь на месте, в реанимацию меня везти не нужно и дело может ограничиться двумя большими пластырями, Моисей ускользнул прочь. По всему выходило, что Моисею Райту было не суждено излечить свою душу иппотерапией. Но я твердо решила залатать все его трещины и склеить осколки своими собственными руками. В моем унылом городе будто начал расти тропический лес.
2 глава Джорджия
Спустя где-то неделю после того, как Моисей напугал моего коня, а я получила копытом в лоб, мы с папой обнаружили фреску на стене амбара. Кто-то потрясающе реалистично изобразил сцену заката над западными холмами Левана. На фоне розовеющего неба был виден силуэт коня, похожего на Сакетта. Он склонил голову набок, а в седле уверенно устроился всадник. Он был повернут в профиль и затенен, но его черты казались знакомыми. Папа задумчиво разглядывал картинку какое-то время. Сначала мне показалось, что он должен быть вне себя от злости: подумать только, кто-то использовал наш амбар, как холст… прямо как в неблагополучных районах больших городов. Но значки банд и нарисованные баллончиком надписи граффити не шли ни в какое сравнение с пейзажем. Он выглядел потрясающе. За такое не грех было и заплатить. Причем немало заплатить.
— Похож на моего отца, — шепнул папа.
— А конь похож на Сакетта, — добавила я, с трудом сдерживая слезы.
— У дедушки Шеперда был конь, Хондо. Это предок Сакетта, его прадед. Ты забыла?
— Угу.
— Ну, так вот. Ты все-таки была еще совсем крошкой. Хондо был замечательным конем. Дедушка любил его так же, как ты любишь Сакетта.
— А ты что, показывал ему какие-то фотографии? — спросила я.
— Кому? — удивился папа.
— Моисею. Разве не он это нарисовал? Я слышала, как миссис Райт рассказывала маме о том, что Моисея забирали в полицию за вандализм и порчу собственности, что-то такое. Ему очень нравится рисовать. Миссис Райт говорит, что это такой особый вид расстройства, чего бы это ни значило. А я подумала, что это был твой заказ.
— Хм. Нет. Я не просил его разрисовывать амбар. Но мне нравится.
— И мне. — Искренне согласилась я.
— Если он, в самом деле, нарисовал это, а я даже не знаю, кто кроме него, способен на такое — у него серьезный талант. Но все-таки ему не стоит рисовать, где попало и что вздумается. А то мало ли, возьмет и изобразит гигантского Элвиса на нашем гараже…
— Мама была бы в полном восторге.
Папа прыснул со смеху, но его глаза оставались серьезными. В тот вечер он заявил, что отправится в гости к Райтам, и я всеми правдами и неправдами пыталась увязаться за ним.
— Я хочу поговорить с Моисеем, — канючила я.
— Не думаю, что стоит так смущать его, Джордж. А если ты будешь присутствовать в то время, пока я буду отчитывать его за амбар — он точно зажмется. Во время таких разговоров лишние не нужны. Я просто хочу объяснить ему, что не стоит выкидывать такие штуки, как бы талантлив ты не был.
— А я хочу, чтобы Моисей расписал стену в моей комнате. У меня есть кое-какие сбережения, так что я смогу заплатить ему за работу. Так что выходит замечательно: сначала ты объяснишь ему, что не стоит рисовать, где попало, а потом я предоставлю ему место, где рисовать даже нужно. Разве это не здорово?
— А что за рисунок ты хочешь сделать?
— Помнишь ту легенду, которую ты рассказывал мне в детстве? Про слепого мужчину, который превращался в коня каждую ночь после заката солнца, а на рассвете снова становился человеком?
— Да. Эту историю рассказывал мне еще мой отец.
— Я долго думала и решила, что хочу изобразить ее сюжет на стене своей комнаты. Или хотя бы белого коня, убегающего в облака.
— Спроси разрешения у мамы. Если она не против, я не стану возражать.
Я тяжело вздохнула. С мамой все будет не так просто.
— Но ведь это всего лишь краска на стене! — проворчала я.
Как ни странно, мама разрешила. Хотя она немного волновалась, что Моисей будет проводить время в моей комнате.
— Он такой непредсказуемый, Джорджия. Он даже меня немного пугает. Я не знаю, как относится к тому, что вы стали друзьями. Знаю, что это не очень-то благородно с моей стороны, но ты — моя дочь, и тебя всегда тянет к опасности, как мотылька к огню.
— Мам! Он просто будет рисовать. Я ведь не стану крутиться вокруг него в кружевном пеньюаре, пока он будет работать. Так что, думаю, обойдется без жертв. — Я подмигнула.
Шлепнув меня пониже спины, мама рассмеялась. Но, честно говоря, следовало признать, что мама рассуждала мудро. Она не зря меня предупреждала. Моисей здорово меня заинтересовал, и этот интерес не был сиюминутным капризом.
Мы с папой направились в гости к Райтам после заката и постучали в заднюю дверь их дома. Моисей сидел на кухне и уплетал из пиалы самую огромную порцию хлопьев с молоком, что я видела за всю свою жизнь. Его прабабушка сидела напротив и чистила яблоко. Кожура опадала одной длинной непрерывной красной лентой. Я вдруг подумала, сколько же яблок ей довелось почистить за все восемьдесят лет жизни.
— Я больше не стану портить вашу собственность. — С честным видом сказал Моисей после того, как папа аккуратно выговорил ему за проступок. Кейтлин поначалу расстроилась, но папа рассказал ей, что пейзаж вышел замечательно, и он не станет его закрашивать. Она заметно успокоилась, и только потом я поняла, что Моисей обещал не рисовать только на нашем имуществе, а не на чьем-либо другом.
— Тебе здорово удалось изобразить моего отца, — добавил папа. — Ему бы тоже понравился твой рисунок.
— Я пытался нарисовать вас, — сказал Моисей, не глядя папе в глаза. Я почему-то поняла, что он лжет, непонятно зачем. Но действительно — если он пытался нарисовать папу, это выглядело гораздо логичнее. Ведь знать дедушку он никак не мог.
— Кстати, Моисей. — Я влезла в разговор. — Я хотела спросить, не согласишься ли ты разрисовать стену в моей комнате. Я тебе заплачу. Не так много, как стоило бы, но все-таки.
Он посмотрел на меня и опустил глаза.
— Не знаю, получится ли.
Прабабушка, я и папа смотрели на него во все глаза, пораженные. Явное доказательство того, что у него все получится, красовалось на стене амбара.
— У меня должно… появиться вдохновение. — Робко проговорил он и вскинул руки вверх, словно сдаваясь и пытаясь оттолкнуть нас. — Я просто не могу рисовать все подряд. Так ничего не выйдет.
— Моисей с удовольствием тебе поможет, Джорджия. — Резко перебила правнука Кейтлин, выразительно сверля его глазами. — Он подойдет завтра утром, и ты расскажешь, какая картина тебе нужна.
Моисей отодвинул пиалу и резко поднялся из-за стола.
— Ба, я не смогу. — Он повернулся к папе. — Больше никаких картин на вашем имуществе, обещаю, — проговорив это, он скрылся в доме.
***
Мы увиделись спустя две недели, и обстоятельства встречи сложились еще хуже, чем в предыдущий раз. Ежегодный фермерский праздник в Юте, округ Джуэб, для многих из местных даже важнее, чем Рождество. Три дня и три ночи парад, карнавал, и, конечно же, родео. Каждый год я начинала обратный отсчет — как правило, праздник приходился на второй уик-энд июля, самый разгар лета. Вдобавок ко всему, в этом году мне удалось пройти квалификацию и попасть на этап соревнований по вестерну — скачки вокруг бочек. Поначалу родители уговаривали меня не участвовать в соревнованиях до тех пор, пока я не закончу школу, но потом сдались и разрешили участвовать во всех этапах, на какие я пройду квалификацию. Я прошла отборочный тур в четверг вечером и выступала в следующем кругу уже в субботу. В тот раз я тоже пришла первой. Первый год я заявила о себе как о профессиональной наезднице, и сразу же выиграла соревнования.
Я решила отпраздновать победу и как следует повеселиться на карнавале. Но моя подруга, Хейли, которая жила в Нефи, городке недалеко от Левана, в этот раз приехала со своим противным бойфрендом, Терренсом. Я его недолюбливала. Терренс постоянно отпускал грубые шутки, а вместо нормальной ковбойской шляпы носил дурацкую кепку, высоко посаженную на голову.
— Ты надеваешь ее так, чтобы казаться хоть немного выше нас, девочек, — подколола я.
— Высокие девушки — не мой типаж, — протянул он и панибратски подтолкнул меня локтем.
— Боже, я еще никогда не была так рада тому, что выросла высокой!
— И я тоже, — парировал он.
— Терренс, милый, у нас с тобой все равно ничего бы не получилось. Все вокруг думали бы, что я вышла погулять с младшим братом, — поддразнила я, сорвала с него ненавистную кепку и выбросила ее в ближайшую мусорку, похлопав ладонью по его мокрому от пота лбу.
Он принялся сыпать ругательствами в мою сторону. Бедная Хейли, казалось, была готова сделать все, что угодно, лишь бы мы прекратили цапаться. Мне все равно уже стало скучно, и я попрощалась с ребятами, поддавшись голоду и желанию найти спутников, хоть немного похожих на настоящих парней. Ноги сами понесли меня к корралю, где содержали животных во время фестиваля.
Там стоял полумрак и никого не было. Мне захотелось посмотреть на быков. Я давно мечтала объездить какого-нибудь быка: мне наверняка это по силам. Я влезла на деревянную ограду и свесилась вниз, разглядывая загон, на соревнованиях отделявший человека от взбесившегося чудовища. Арена еще подсвечивалась, и хотя корраль оставался в тени, я легко могла разглядеть гигантскую мускулистую холку быка, на котором всего несколько часов назад выступал Кордель Михэм. Это была выездка на 10 баллов из 10. Кордель устроил потрясающее шоу и победил. Он скакал на быке с высоко поднятыми коленями, крепко упираясь каблуками в его мускулистые бока, отклонившись назад и подняв правую руку к небу, будто хотел достать звезду. И, по сути, он это сделал сегодня вечером. Толпа просто визжала от восторга. Я тоже кричала. И когда бык по имени Сатана, наконец, ухитрился сбросить Корделя, звонок уже прозвучал — это значило, что наездник выиграл. Улыбаясь от радости, я представляла себя на месте отважного победителя.
Но все, чем могли заниматься девушки-ковбои — скачками вокруг бочек. И это мне удавалось замечательно. Мне нравилось лететь над дорожкой вдоль арены, вцепившись в гриву Сакетта — словно я оседлала волну, и течение несет меня прямо к берегу. Но иногда мне хотелось знать, каково это — оседлать землетрясение вместо волны. Грубое, дерганое, мощное. Вверх и вниз, из стороны в сторону — верхом на землетрясении.
Но Сатана совершенно не обращал на меня внимания — так же, как и остальные быки в коррале. Их больше интересовало свежее сено. Я сделала глубокий вдох, не обращая внимания на запах навоза, от которого люди обычно морщат нос, проходя мимо загонов со скотом. Я постояла еще немного, наблюдая за животными, и потом слезла со своего наблюдательного поста на ограде. Становилось поздно. Пора было разыскать Хейли и отправляться домой. Было обидно, как маленькой, возвращаться домой к ужину, чтобы не посадили на домашний арест. Я с восторгом мечтала о том времени, когда мне не придется отчитываться ни перед кем, кроме самой себя.
Когда из полумрака показалась долговязая фигура, я совсем не испугалась. Ни капельки. Никогда еще у меня не было причин бояться ковбоя. Ковбои — лучшие люди на земле. На любом родео в любом конце Америки эти мужчины и женщины способны спасти мир одной левой. Не потому что они самые умные, богатые или красивые в мире люди, а потому что они хорошие. Потому что они любят друг друга, свои семьи и свою страну. Когда они поют гимн, они делают это искренне. Они снимают шляпы, когда поднимается государственный флаг. Они живут и любят от всего сердца. Поэтому нет. Я не испугалась. Я не успела испугаться даже тогда, когда меня толкнули лицом вниз прямо в навоз, взбитый каблуками ботинок и копытами животных.
Я была в таком шоке, что даже не успела оказать сопротивление, когда мне заломили руки и скрутили их за спиной, как ноги теленка на родео. Этот парень знал, как делать петли и завязывать узлы лассо. Изогнувшись, я попыталась закричать, но набрала полный рот грязи и поняла, что мои дела плохи, и я буквально в полном дерьме. Но сейчас смешная игра слов меня не развеселила: этот стремный тип принялся возиться с ширинкой моих джинсов. А когда его руки оказались в месте, которого не касался еще ни один мужчина, мой шок сменился диким бешенством. Изогнувшись, я со всей силы треснула его затылком по лицу. Грязно выругавшись, выродок уткнул меня лицом в землю и затянул веревки, прижав мои ступни к кистям рук и окончательно обездвижив, а затем перевернул на спину. Я оказалась в какой-то несусветной, заломанной позе — весь вес приходился на шею и голову, ляжки, казалось, вот-вот разорвутся от боли, а он еще и бросил ком грязи мне в лицо и зажал его ладонями. Глаза будто жгло огнем, нос забило землей, и с зажатым ртом мне становилось нечем дышать. Кашляя и задыхаясь, я пыталась откусить поддонку пальцы. Боль в легких была просто невыносимой, сильнее страха, и я серьезно поверила в то, что могу вот так умереть. Закряхтев от напряжения, он перекинул меня через плечо и поднялся, собираясь уходить, а потом вдруг замер. Неподалеку хлопнула дверь автомобиля, и кто-то позвал меня.
Он просто швырнул меня на землю и скрылся в темноте. Я слышала его ругань и удаляющуюся поступь. Голос я не узнала. С того мгновения, как он бросился на меня из темноты и в ней же растворился, прошла едва ли минута. Еще один рекорд родео, это точно.
Петля лассо вокруг моих запястий и щиколоток не ослабла, когда он меня бросил. Я мешком упала на землю без малейшей возможности хоть как-то сгруппироваться, и столкновение просто вышибло из меня дух. Задыхаясь и давясь землей, перемешанной с навозом, я с грехом пополам перевернулась набок, сплевывая грязь изо рта. Пряжка ремня больно впилась в бок — этот урод успел-таки расстегнуть мои джинсы «Вранглер». Я не могла подняться на ноги. Не могла даже вытереть глаза. Мне оставалось только беспомощно лежать на земле, как скрученной веревками свинье на скотобойне. Пытаясь хоть как-то вытереть глаза, я потерла лицом о плечо — теперь я могла видеть.
Мне нужно было видеть его, если он вернется, чтобы узнать его и защититься. Чтобы я смогла сама атаковать...
Не знаю, сколько мне пришлось там проваляться. Может быть, час. А может быть, и десять минут. Мне казалось, будто прошла вечность.
Готова поклясться, чем угодно, кто-то звал меня по имени. Разве не поэтому мой противник сбежал? И тут, будто я вызвала его своими мыслями, как чертово привидение, он вернулся вновь. Адреналин с новой силой закипел в моих венах, и я принялась отчаянно биться и извиваться, пытаясь спастись, но двигалась лишь на сантиметр с каждым рывком. Я попыталась закричать, но зашлась в кашле — новая порция земли попала мне в легкие. Шаги прекратились, будто пришелец не ожидал обнаружить меня здесь.
— Джорджия?
Это не маньяк. Голос совсем другой.
Он подбежал ко мне, в несколько огромных шагов сократив разделявшую нас дистанцию. Я испуганно зажмурилась — так делают маленькие дети, считая, что становятся в этот момент невидимыми для всего мира. Нет, нет, нет! Этот бархатный голос я знала слишком хорошо. Только не Моисей. Только не он. Вот черт, почему это обязательно должен оказаться Моисей?!
— Мне позвать на помощь? Вызвать скорую? — он засуетился вокруг меня, принялся осторожно вытирать мне лицо, так что теперь я смогла нормально видеть. Затем я почувствовала какую-то возню у своих щиколоток и запястий, и вдруг мои ноги оказались на свободе. Кровь с бешеной силой хлынула в освобожденные конечности, и я разревелась от боли и неожиданности. Слезы принесли облегчение, и я яростно заморгала, а Моисей в это время стал колдовать над тугой петлей на моих запястьях. Через мгновение мои затекшие руки безвольно повисли, и я застонала от тупой боли в вывернутых плечах.
— Кто это сделал? Кто тебя так связал?
Я готова была смотреть куда угодно, только не ему в глаза, но успела разглядеть, что на нем надета черная футболка, заправленная в свободные армейские штаны-карго с накладными карманами и высокими бутсами на шнуровке — ни один уважающий себя ковбой не появится так на ежегодном фестивале. А вот тот урод был одет с иголочки, в традиционный ковбойский прикид с модной рубашкой на кнопках. Я вспомнила прикосновение этих чертовых кнопок, прижатых к моей спине, и содрогнулась от отвращения. Еще немного, и меня стошнит.
— Все нормально, — нагло соврала я, пытаясь откашляться и не отключиться. Про себя я умоляла Моисея отвернуться и отойти в сторону, чтобы мне не пришлось блевать прямо перед ним. Ничего не было нормально. Вообще. Потерев щеки, я покосилась на Моисея, пытаясь понять, верит он мне, или нет. И тут же виновато опустила глаза.
Он спросил, могу ли я подняться на ноги, и после нескольких бесплодных попыток сделать это самостоятельно я ухватилась за его руку и встала, шатаясь на слабых ногах, как новорожденный жеребенок.
— Можешь идти. Я в порядке, — отчаянно проблеяла я. Он не послушал.
Развернувшись к нему спиной, я сделала несколько неуверенных шагов, повалилась вперед, успев ухватиться за ограду загона, и тут меня вырвало. Грязь вперемешку с навозом, затем мой праздничный гамбургер, и все это заправлено похлебкой из пепси. Шикарно. Перегнувшись через ограду, я извивалась от боли и напряжения, фонтанируя содержимым желудка, а Моисей все не уходил. Резко наступила тишина, и пофыркивание быков с другой стороны загона напомнило, где я нахожусь. Сатана с приятелями был неподалеку, и через дыру в ограде я буквально могла провалиться прямо в импровизированный ад.
— Ты вся в грязи и сейчас окончательно потеряешь свой ремень, — сухо и почти осуждающе сказал Моисей. Было совершенно ясно, что он все понимает. Подумайте только. Стоя к нему спиной, я непослушными, одеревеневшими пальцами застегнула пряжку ремня и просунула конец через петли джинсов, стараясь не обращать внимания на расстегнутую ширинку и сорванную пуговицу. Рубашка достаточно длинная, так что, может быть, он не успел заметить это безобразие. А я не стану привлекать лишнего внимания. Надеюсь, ремень удержит джинсы, и они не свалятся с меня прямо на ходу. Я поежилась от отвращения.
— Кто тебя связал?
— Наверное, это была шутка, неудачный розыгрыш. — Запинаясь, выдавила я, не прекращая чихать и кашлять — земля больно щекотала горло. — Может быть, это Терренс? Я здорово вывела его из себя накануне. Может быть, он думал, что я буду смеяться и визжать, а не так яростно сопротивляться. А я не дала ему спуску. Может быть, что-то пошло не так. Наверное, он собирался просто связать меня и бросить здесь, чтобы ребята нашли меня лежащей в навозе и посмеялись…Так что все в порядке. — Я с трудом могла верить в ту ахинею, что приходилось нести, но мне очень хотелось.
Как странно сложился случай: именно Моисей меня освободил. Ковбой хотел причинить мне зло, и тут на выручку пришел главный городской хулиган. А мама еще считала его опасным. Именно о нем она меня предостерегала. А он тут как тут, спас меня.
— Я в порядке, — упрямо прогундела я, стараясь не качаться из стороны в сторону, потирая глаза и поджимая губы, чтобы они так заметно не дрожали. Я была унижена тем, в каком состоянии видел меня Моисей и просто уничтожена при одной мысли о том, что могло случиться, если бы он не пришел. Что почти случилось. Но мне было достаточно и этого короткого ужаса в коррале. Если это вправду была неудачная шутка, то она зашла слишком далеко. Теперь Джорджия Шеперд испугалась не на шутку. А бояться я не очень умею. Мне резко захотелось домой. Я не знала, где сейчас Хейли, и мне не хотелось ее искать, в особенности, если она сейчас занималась тем, чем я думала.
— Ты не мог бы отвезти меня домой, Моисей? Пожалуйста? — мой голос предательски дрогнул, и я поморщилась от отвращения к самой себе. Как маленькая девочка.
— Они за это заплатят.
— Что?
— Они за это заплатят, Джорджия.
Так странно и непривычно было услышать его голос, непринужденно произносящий мое имя. Будто мы уже сто лет знакомы. А ведь он меня совсем не знал. И вдруг я поняла, что сама себя не узнаю. Тот же город, та же улица. Тот же долбаный мир. Но сейчас я не ощущала его, как раньше. Я точно уже не такая, как прежде. Интересно, это все шок или что-то другое? Ведь по сути, ничего ужасного не случилось. Я в порядке. По крайней мере, буду в порядке очень скоро. Мне просто нужно было домой.
— Я хочу домой. Все в порядке, — попросила я. — Ну пожалуйста?
Я действительно готова была взмолиться, лишь бы он послушался. Слезы стекали по моим щекам.
Он почти с отчаянием огляделся по сторонам, будто собираясь позвать на помощь. Ему словно нужен был чей-то совет или подсказка о том, как справиться с ситуацией. А главной его проблемой была я. Он не знал, что со мной делать. Самым простым решением было отвезти меня домой, но он считал, что это не лучшая идея.
— Пожалуйста? — надавила я. Затем вытерла лицо рукавом рубашки. Слезы и грязь оставили на нем темные следы. Специально купила ее к этому вечеру — у меня был обычай покупать новые тряпки на фестиваль. Джинсы, рубашки, иногда даже сапоги.
В отдалении над рядами построек мерцало разноцветное колесо обозрения. Легкий ветерок приподнял слипшиеся волосы с моих мокрых щек, принеся с собой запах праздника, сахарной ваты и попкорна. Смешавшись с рвотной кислятиной и вонью навоза, он тут же померк.
Я покачнулась, чувствуя, как весь ужас, пережитый за последние минуты, понемногу начинает устаканиваться во мне. Все тише, тише и тише. Мне просто хотелось домой.
Моисей, наверное, почувствовал, что я вот-вот провалюсь в забытье, потому что, не говоря ни слова, он аккуратно взял меня под руку, предлагая помощь и поддержку. В этот момент я его уже любила, всем своим существом, сильнее, чем сама могла предположить. Сильнее, чем могли позволить наши короткие, обрывочные встречи. Хулиган, уголовник, «дитя крэка» — теперь он был мой герой.
Он шагал рядом со мной, позволяя на себя облокотиться. А когда мы подошли к его открытому джипу, я остановилась, как вкопанная, растерянно моргая. Именно эту тачку я видела шесть недель назад, в тот самый день, когда Моисей переехал в Леван. Я с завистью разглядывала его огромные колеса и шикарные диски — ведь у меня самой был старый фермерский пикап, в лучшие свои мгновения выдающий сорок километров в час. Точнее, раньше я завидовала, а теперь испытывала такую благодарность, что готова была упасть перед машиной на колени и вознести хвалу Богу.
Моисей бережно усадил меня внутрь и даже пристегнул ремень безопасности. Ремень напоминал мне сбрую, а это значило одно — защищенность. Плевать, что у этой шикарной тачки нет крыши и задних дверей.
— Моисей, джип, ремень безопасности, Моисей, — перечисляла я, даже не обращая внимания на то, что говорю вслух и что дважды назвала его имя. Сегодня ему причитается вдвое больше очков.
— Что? — Моисей придвинулся ко мне, приподнял за подбородок и обеспокоенно заглянул мне в глаза.
— Ничего. Просто привычка. Когда я… в стрессе, то начинаю придумывать и перечислять вещи, за которые могу быть благодарна в жизни.
Он ничего не ответил, но не сводил с меня взгляд, пока усаживался и заводил машину. Я чувствовала, что он наблюдает за мной, даже тогда, когда он выруливал на дорогу мимо загонов и прицепов для лошадей, через парковку и дальше, прочь отсюда.
Ветер с ревом обвевал наши лица, спутывал мне волосы и вжимал мое тело в кресло, когда мы набирали скорость на автотрассе. Позади оставались праздничные площадки, мерцающее колесо обозрения, восторженные крики и прочие фальшивые атрибуты придуманного счастья, которые так легко сбивали меня с толку раньше. Всю жизнь они успокаивали, убаюкивали и, выходит, обманывали меня. Интересно, смогу ли я вновь поверить в них когда-нибудь потом.
3 глава Моисей
Я пошел на родео из-за Джорджии. Не потому, что у меня было предчувствие, что она нуждалась во мне, или надежда на то, что она хотела, чтобы я был там. И определенно не потому, что я ожидал найти ее связанной, всю в грязи, плачущую, потому что кто-то пытался навредить ей или напугать. Или взять ее. Она сказала, что, вероятнее всего, это была шутка. Я задавался вопросом, что за друзья могут шутить подобным образом. Хотя откуда мне знать? У меня никогда не было друзей.
В тот день моя бабушка вручила мне дополнительный входной билет в общую зону и сказала, что Джорджия «соревнуется в баррел рейсинге1 и ты не захочешь это пропустить». Я тут же представил Джорджию верхом на лошади, балансирующую и заставляющую ее маневрировать; ее ноги напряжены в отчаянной попытке не сорваться, когда она старается пересечь финишную черту раньше всех остальных наездниц.
До этого я никогда не был на родео. Я и понятия не имел, насколько сумасшедшими могут быть белые люди. Принимая во внимание, что я был брошен белой, зависимой от крэка матерью, мне бы следовало это знать.
Но я хорошо провел время. Это было потрясающее зрелище — множество семей, развевающийся флаг и музыка, которая вызывала у меня желание надеть ковбойскую шляпу, и неважно, насколько глупо я бы в ней выглядел. Я съел шесть родео бургеров, которые, возможно, были самой вкусной едой, которую я когда-либо пробовал за всю жизнь. Бабушка кричала так, будто ее только что пригласили на участие в шоу «Цена удачи»2, топала ногами и вообще вела себя так, словно ей восемнадцать, а не восемьдесят, и это мне тоже нравилось. Ковбоев, пытающихся заарканить вертящихся быков или объездить брыкающихся лошадей, сбрасывали, словно тряпичных кукол, а девушки, такие, как Джорджия, держались верхом, словно родились в седле. Джорджия уж точно, в этом я был уверен. Я наблюдал за ее верховой ездой множество раз, когда она думала, что я не смотрю.
Я избегал Джорджию с того случая в ангаре. Я не знал, как вести себя рядом с ней. Она была непредсказуемой. Она была девушкой из маленького городка, простая в общении и открытая, что возбуждало меня и одновременно с тем отталкивало. Я хотел убежать от нее, и в то же время я постоянно думал о ней.
Я наблюдал, как Джорджия несется на арену на своей бледной лошади, облако пыли клубилось позади нее, а за спиной развивались волосы. Она огибала стратегически расставленные бочки с такой широкой улыбкой, что я был уверен, она наслаждалась своей игрой со смертью. Я знал, что лошади значили для нее то же, что для меня значило рисование. И когда я наблюдал, как она несется, то отчаянно хотел нарисовать ее. Именно такой — полной жизни и движения, абсолютно свободной от обязательств. Обычно я рисовал, когда становилось тяжело сдерживать образы в моей голове, и это выливалось в яростное отчаяние. Я редко рисовал картины просто ради удовольствия, изображая что-то, что привлекало меня. И Джорджия, со свистом пролетающая по пыльной арене мимо кричащей толпы, каким-то образом стала тем, что меня привлекло.
Я ушел еще до того, как все закончилось. Бабушка заверила меня, что поедет со Стивенсонами и мне не нужно оставаться. Я бесцельно наматывал круги, не имея никакого желания толкаться среди людей на ярмарке, кататься на колесе обозрения или наблюдать, как Джорджия празднует с друзьями свой победоносный заезд. У нее были друзья, в этом я был уверен, как и в том, что совсем не был похож на них.
Я ехал и ехал, а затем почувствовал, как появилось тревожное предчувствие, оно растекалось по моим венам и заставляло мою шею и уши гореть. Я включил радио, пытаясь использовать звук, чтобы притупить зрение. Но это не сработало. В течение нескольких секунд я видел мужчину на обочине дороги. Он просто стоял и смотрел на меня. Вообще я не должен был бы видеть его, так как было темно. Это была проселочная дорога, освещаемая только луной и фарами моего джипа. Но он светился, словно украл сияние у луны и укутался в нем.
Я узнал его практически сразу, и образы стали наполнять мой мозг. Все они были связаны с Джорджией: Джорджия со своей лошадью, Джорджия, перепрыгивающая через барьеры, Джорджия, падающая на землю в конюшне, когда я напугал ее лошадь.
Один образ продолжал повторяться — Джорджия падает, падает, падает. Это не напугало меня. Я видел ее падение. Это было в прошлом. И она была в порядке. Но потом я задался вопросом, а что, если это не так. Что если этот мужчина на обочине и тот, которого я видел в конюшне Джорджии, когда Сакетт встал на дыбы и ударил ее, и которого я нарисовал на стене той же конюшни, потому что он продолжал возвращаться, один и тот же человек. Может, он пытался мне что-то сказать. Но не о своей жизни, а о жизни Джорджии.
И поэтому я развернул свой джип и направился в сторону ярморочных площадок. Я не стал парковаться на стоянке, а медленно ездил вокруг, держась в стороне, кружа вокруг хозяйственных построек и трейлеров с лошадьми, как будто у меня было представление, куда я еду. Я подумал, что на мгновение снова увидел призрачного человека, а может это просто вспыхнула зажигалка ковбоя, который решил закурить. Я остановился, вылез из своего джипа и позвал Джорджию по имени. Я чувствовал себя нелепо. Я постоял около минуты, ощущая неуверенность и нежелание присоединиться к куче людей, которые двигались под цветными огнями ярмарки в сотне ярдов от меня. Мне было комфортнее наблюдать из темноты.
Кто-то врезался и навалился на меня сзади, заставляя пошатнуться вперед и споткнуться, а затем растворился в ночи, не извинившись и не дав мне возможности ответить. Пьяный ковбой. Но после этого наступила тишина, нарушаемая только топотом и фырканьем животных, находящихся недалеко в загоне. Я не хотел еще ближе приближаться к ним, потому что мог обратить их в паническое бегство.
Я направился в сторону ярмарки и шел по периметру за его пределами, в поисках Джорджии. А затем я снова увидел того человека. Дедушку Джорджии. Он стоял возле самого темного входа на арену. Он не звал меня. Они никогда не зовут. Они просто наполняют мою голову своими воспоминаниями. Но на этот раз не было никаких образов. Он просто стоял в отражении жемчужного лунного света. И я направился в его сторону, но вернулся к тому, с чего начал. Он исчез, как только я приблизился, но что-то блеснуло по левую сторону от меня под трибунами, ближе к животным. И вот тогда я нашел Джорджию.
Джорджия
Я рассказала родителям о том, что произошло на конноспортивном фестивале. Я должна была. Также я рассказала им, что думаю, Терренс мог быть тем, кто связал меня. Моисей зашел внутрь вместе со мной и беспокойно стоял у двери, ни с кем не встречаясь глазами, его взгляд был устремлен в пол. Мои родители уговаривали его сесть, но он отказался, и они оставили его в покое, также намеренно игнорируя, как он игнорировал их.
Поздний вечер уже плавно перешел в ночь, пока встревоженные родители задавали бесконечные вопросы, и наконец, позвонили шерифу, который, к счастью, жил на окраине Левана, а не на другой стороне округа.
Мои родители позвонили бабушке Моисея и сообщили, что ему необходимо остаться и рассказать шерифу все, что он видел. Все закончилось тем, что она тут же пришла, врываясь в заднюю дверь так, будто на дворе было десять утра, а не два часа ночи. Она похлопала Моисея по щеке и обняла его, прежде чем двинулась ко мне и заключила в свои объятия. Ее голова достигала мне до плеч, а седые кудряшки щекотали подбородок, но я тут же почувствовала себя в безопасности. И даже лучше. Она села за стол, а я отправилась принять душ, чтобы смыть грязь со своей кожи и волос, пока мы ожидали приезда шерифа. У меня все болело. Я была покрыта синяками, на моих запястьях остались следы от веревки, а на левой щеке была глубокая царапина. Затылок ныл и даже мои губы саднили c той стороны лица, которой меня толкнули на землю. Но самым худшим из всего этого было чувство страха, которое вызывало тошноту и ощущение, что я избежала чего-то действительно ужасного.
Когда я вошла в кухню с полотенцем на голове, одетая в пижаму в горошек, шериф Доусон сидел за кухонным столом. Перед ним стояла открытая банка Пепси и кусок пирога — спасибо маме, неизменной хозяйке. Шериф Доусон был худощав, одет в коричневую униформу, светлые волосы были разделены на пробор и аккуратно зачесаны, ярко-голубые глаза выделялись на загорелом лице, которое говорило о его предпочтении находиться на свежем воздухе. Ему было далеко за тридцать или даже чуть больше сорока, и его недавно переизбрали на должность шерифа. Он нравился людям, а ему нравились лошади. Для жителей нашего округа это было отличной рекомендацией. Не думаю, что он лишится этой работы в ближайшее время. Он с моим отцом обсуждал объездку Лаки, когда я села за стол рядом с миссис Райт. Моисей сидел напротив шерифа, который тотчас начал допрашивать его. Моисей был тихим и сдержанным, и продолжал поглядывать на дверь, будто не мог дождаться момента, чтобы убраться отсюда прочь. Это напомнило мне воскресную школу, и эта мысль почти заставила меня улыбнуться. Беседа продолжалась недолго; Моисей давал самые краткие ответы из всех, что мне когда-либо доводилось слышать.
Он отправился на родео со своей бабушкой. Она тут же с готовностью кивнула. Он пришел посмотреть, как я езжу верхом. Миссис Райт снова кивнула.
Это правда? Эта мысль заставила меня смущенно поежиться и почувствовать тепло в груди. Он продолжал тихим голосом, уточняя только основные детали.
Он припарковался недалеко от загонов с животными. Оставаясь рядом со своим джипом, он пытался решить пойти ему на ярмарку за парочкой корн-догов и карамельным яблоком или просто отправиться домой. Кто-то налетел на него сзади. Он не видел, кто это был. Он решил, что это ковбой. Не так уж полезно, подумала я. Но в любом случае, я бы не смогла ничего добавить к этому описанию. Ему показалось, что кто-то вскрикнул. Так он обнаружил меня, развязал и довез до дома. Конец.
Затем Моисей пристально посмотрел на шерифа и повторил все те же самые ответы, когда Доусон надавил на него сильнее. Шериф спросил его, почему он припарковался возле загонов, а не на парковке.
Моисей ответил, что не хотел идти пешком.
Шериф хотел знать, почему он не может дать более детальное описание убегающего, человека, который налетел прямо на него.
Моисей сказал, что стоял к нему спиной, и было темно.
Казалось, шериф был обеспокоен и подозрителен, но только не я. Моисей не был тем, кто связал меня. Он был тем, кто меня освободил. И это единственное, что имело для меня значение.
Затем наступила моя очередь. Я тоже изложила свою историю, моя небольшая публика ловила каждое слово. Я сказала шерифу Доусону о том, что думаю, что Терренс Андерсон мог быть тем, кто провернул эту шутку. Это было в высшей степени неудобно, учитывая, что шериф Доусон был дядей Терренса. Но надо отдать ему должное, шериф не подал вида и не стал спорить со мной, и пообещал проверить это. Шериф записал все, что я сказала, и даже сделал несколько снимков следов от веревки на моих запястьях и царапин на лице.
— Что это? Необходимо ли это зафиксировать?
Шериф указал на то место, где копыто Сакетта ударило меня в лоб. Рана была трехнедельной давности и практически зажила, но из-за того, что моя голова была вдавлена в пыльную землю и гравий, это вызвало раздражение. Так что теперь рана вновь смотрелась покрасневшей, с ободранной кожей.
— Сакетт занервничал, — сказала я, пожимая плечами, не желая пересказывать произошедшее.
Я знала, что шериф был в курсе, кто такой Сакетт.
Шериф слегка ухмыльнулся и указал на шрам на своем лбу.
— Интересно, из-за того же тогда занервничала Тонга или нет. Она хорошо приложилась, чертова лошадь. Никогда нельзя ослаблять бдительность рядом с животными. Как только ты думаешь, что понимаешь их, они делают что-то абсолютно неожиданное.
— Да. И люди такие же, — произнесла я, не подумав.
Но это правда. Сегодня даже больше, чем когда-либо. Я почувствовала, как меня тут же наполняет страх, и я задалась вопросом, как, черт возьми, я смогу уснуть сегодня или вообще когда-нибудь. Шериф сочувствующе кивнул и поднялся, чтобы уйти, но протянул руку и потрепал меня по плечу.
— Я сожалею, Джорджия. Правда. Была ли это шутка, или что-то намного страшнее, я так рад, что ты в порядке. Мы проведем расследование и выясним, знают ли Терренс Андерсон и Хейли Блэвинс что-нибудь на счет этого. У нас есть твои показания и фото. А также показания мистера Райта, конечно же.
Шериф нервно взглянул на Моисея, и я еле сдержалась, чтобы не закатить глаза. Все боялись Моисея. И я была просто уверена, что если бы я не была непреклонна в том, что не Моисей связал меня прежде, чем развязать, он был бы подозреваемым номер один. Просто он выглядел как виновный.
Шериф шагнул к кухонной двери.
— Я рад, что это последний вечер родео. Люди немножко сходят с ума на нем. Будем надеяться, что жизнь в городе немного поутихнет, и мы выясним, что произошло. Будем на связи.
С этими словами шериф Доусон открыл дверь и вышел в предрассветную мглу раннего утра, а мы все сидели, уставившись на стол, каждый погруженный в свои мысли, слишком уставший, чтобы шевелиться прямо сейчас.
— Что ж, — вздохнула Кейтлин Райт, — шериф Доусон — славный мальчик.
Ему было почти сорок, но очевидно, для того, кому уже восемьдесят, он почти мальчишка.
— Моисей, он и твоя мама раньше встречались. Он был влюблен в нее. Я думала, что, может, она вернется в Леван и выйдет за него. Он старался, ухаживал и приходил к ней снова и снова. Видит Бог, это так. Но было уже слишком поздно, я полагаю.
Миссис Райт похлопала Моисея по щеке и встала из-за стола. Его лицо стало непроницаемым из-за упоминания о матери, и я задалась вопросом, как часто кто-либо говорит о ней. У меня было ощущение, что Моисей уж точно никогда.
Мои родители тоже встали, но Моисей, что удивительно, смотрел на меня. Мы двое были единственными, кто продолжал сидеть, на минуту оставшись без наблюдения взрослых.
— Ты хотела, чтобы я разрисовал твою комнату. И раз уж я здесь, то мог бы взглянуть.
Моя мама сразу же включилась в наш разговор.
— Почти три часа ночи, — возразила она.
Моисей поднял на нее глаза:
— Джорджии трудно будет заснуть сегодня.
Это единственное, что он сказал, и все погрузились в молчание. Мое сердце стучало, словно барабан. Я встала и повела его вдоль коридора. Никто не возразил, и я услышала, как попрощалась миссис Райт, а мои родители отправились в свою спальню вниз по коридору.
— Сейчас лето, Мауна, — до меня донеслось бормотание отца. — Все в порядке. Мы здесь рядом, всего через несколько дверей. Оставь их.
И они нас оставили.
— Расскажи мне эту историю, — попросил Моисей после того, как я сказала ему, что именно мне бы хотелось, чтобы было нарисовано в моей комнате.
Он пристально смотрел на чистую белую стену, которую я освободила еще две недели назад в надежде, что он согласится сделать настенную роспись. У меня были простые вкусы, даже заурядные, и я гордилась отсутствием бесполезных украшательств и полками, заставленными рядами книг, все вестерны, за исключением «Цветка красного папоротника», «Неприятностей с обезьянками», и еще один длинный ряд с книгами Дина Кунца. После Луиса Ламура — он мой самый любимый.
— Ты любишь читать? — спросила я, указывая на свой маленький стеллаж.
Моисей взглянул на мои книги:
— Да.
Его ответ удивил меня. Может из-за его репутации, будто он состоит в банде. Может из-за того, как он выглядел. Но он не производил впечатления человека, которому нравится спокойно сидеть с книгой.
— Какая твоя любимая книга? — произнесла я с подозрением, и его глаза сузились.
— Мне нравятся «Над пропастью во ржи», «Изгои», «1984», «О мышах и людях», «Дюна», «Звездный десант», «Властелин колец». Все книги Тома Клэнси и Дж. К. Роулинг.
Он произнес «Дж. К. Роулинг» быстро, будто не хотел признаваться, что он поклонник Поттера. Но я была потрясена.
— Ты действительно прочитал все эти книги?
Из них я прочла только «Изгоев», и мне понравилось. Я задумалась, не лжет ли он мне.
— Никакого Стивена Кинга или Дина Кунца? — добавила я, пытаясь найти что-то общее между нами.
— «Зеленая миля» и «Девочка, которая любила Тома Гордона». Но больше ничего из Стивена Кинга. А Дин Кунц слишком много знает.
— Что ты имеешь в виду?
Моисей только тряхнул головой, ничего не объяснив.
— Я не могу представить тебя сидящим неподвижно достаточно долго, чтобы читать.
— Я могу сидеть спокойно, когда моя голова чем-то занята. Телевизор сводит меня с ума. Обычно музыка тоже. Но я люблю истории, — его глаза снова нашли мои. — Ты собиралась рассказать мне свою.
— Ох, да. История. Эту историю дедушка рассказывал моему отцу, когда тот был ребенком, а затем отец рассказывал мне. Я не знаю, откуда она появилась, но она всегда казалась мне реальной.
— Твой дедушка. Тот, о котором тогда упоминал твой отец, и которого, по его мнению, я нарисовал?
— Да.
Моисей вздохнул с облегчением, что показалось мне странным, и я пристально смотрела на него в течение нескольких долгих секунд, пытаясь понять его реакцию.
— Продолжай, — произнес он.
— В одном маленьком западном городке жил слепой мужчина. Он не был слепым всю свою жизнь. Болезнь лишила его зрения, когда он был маленьким мальчиком. Вместе со своим зрением он потерял и свою свободу. Ему приходилось просить кого-то сопровождать его, когда он выходил на улицу, ему приходилось просить кого-то готовить и прибираться. Но хуже всего было то, что он не мог видеть своих лошадей и холмы, что окружали его дом. Однажды ночью ему приснился сон, как он бежит среди гор. Когда он остановился, чтобы попить из прохладного ручья, то увидел свое отражение в воде. Он больше не был человеком, а был прекрасным белоснежным конем, который мог пробежать без устали многие мили. Утром, когда мужчина проснулся, женщина, которая приходила и помогала ему каждый день, заметила, что его ладони и ступни были грязными, хотя он и принимал ванну до этого вечером. Ему приснился тот же сон на следующую ночь, и в этом сне он зацепился ногой за ветку, когда перепрыгивал через бревно. Это была всего лишь царапина на ноге коня, но утром, когда мужчина проснулся, то понял, что у него на ноге длинная царапина именно на том месте, где поранился конь во сне.
Слова льются из меня потоком так же легко, как заученная наизусть клятва верности3. Мне рассказывали эту историю так много раз, когда я была ребенком, что, вероятно, я использовала те же самые слова, те же самые описания, которые использовались тогда.
— Вскоре люди стали видеть белого коня по ночам, и когда слухи о нем дошли до мужчины, он понял, что это не сны. Он действительно превращался в коня по ночам, скакал и прыгал, видел все, что не мог видеть уже так долго, только теперь он смотрел на все глазами этого красивого животного.
— Он не осмеливался рассказать кому-либо, потому что знал, как это безумно. Сумасшествие или нет, но это была правда. Ночь за ночью, он продолжал превращаться в коня, и ночь за ночью продолжалось его появление, пока несколько мужчин в городе не начали строить планы, чтобы поймать прекрасного белоснежного коня. Мужчины сделали то, что планировали, и трое из них загнали его в угол. Но когда они думали, что он у них в руках, конь перескочил через забор и унесся прямо к самым облакам, исчезнув навсегда. На следующий день женщина пришла в дом к слепому мужчине, чтобы приготовить ему завтрак, но он пропал. Он так и не вернулся домой. Никто не знал, что с ним случилось, но женщина всегда подозревала правду, потому что следы босых ног, ведущие от его дома, превращались в отпечатки копыт в мягкой грязи во дворе.
Моисей пристально глядел на меня, пока я говорила, но его взгляд был отстраненным и несосредоточенным, как будто в действительности он не видел меня.
— Могу я использовать больше, чем одну стену? — спросил он.
— Ох, конечно.
Я вскарабкалась и начала снимать фотографии, выдергивая канцелярские кнопки. Вскоре вся мебель была сдвинута в середину комнаты, и Моисей стремительно делал набросок тем, что он называл восковым карандашом. Он достал несколько из своих карманов, словно всегда носил их с собой, куда бы ни пошел.
Я зачаровано наблюдала, как Моисей полностью погрузился в историю, которой я поделилась с ним. Он изредка отступал, чтобы посмотреть на свой набросок, и его руки будто порхали над стеной. Он использовал обе руки поочередно, но вскоре зажал по карандашу в каждой руке, рисуя обеими одновременно. Это было потрясающее зрелище.
Я едва могла писать левой рукой, не говоря уже о рисовании, или рисовать, пока моя другая рука занята чем-то еще. Моисей не разговаривал со мной. Один раз я прервала его, когда уже близился рассвет, и мои веки отяжелели. Он отстраненно посмотрел на меня, как будто забыл, что я была здесь.
— Давай прервемся. Я больше не могу бодрствовать, — зевнула я. — И я не хочу пропустить что-нибудь. Ты гениален. Ты ведь знаешь это? Может однажды, ты станешь знаменитым, а мою комнату превратят в музей Моисея Райта.
Он тут же начал трясти головой.
— Я не хочу останавливаться, — сказал он с мольбой в глазах. — Я пока не могу. Если остановлюсь, то, возможно, уже не смогу закончить.
— Хорошо, — тут же согласилась я. — Но тебе лучше уйти до того, как мои родители проснутся. Ты можешь приходить каждый день, пока не закончишь. Ты только должен пообещать, что позволишь мне наблюдать.
Я боролась со сном так долго, как могла, испытывая отчаянное желание не пропустить магию. Не только восхитительные изображения, появляющиеся на моей стене, зачаровывали меня, но и сам Моисей. А когда мои глаза уже больше не могли сосредоточенно наблюдать за ним, и мои веки закрылись в последний раз, Моисей был тем, кто кружился в моих снах; руки порхали, глаза горели, цветные изогнутые линии лились из кончиков его пальцев.
Я открыла глаза уже далеко за полдень, и то только потому, что за окном моей спальни был какой-то шум.
— Что ты делаешь? — потрясенно спросила я Моисея, выбравшись из кровати и потирая лицо после сна.
— Устанавливаю сетки на твое окно. Если я собираюсь рисовать здесь, нам будет необходима вентиляция. Без сеток, насекомые будут кусать меня, роиться вокруг света и приклеиваться к моему рисунку. И мы с тобой нанюхаемся краски. Мой мозг и так уже достаточно поврежден.
— Чокнутый, — сказала я, не подумав.
— Ага, — нахмурился Моисей.
— Ну, это тебе только на руку, — я повернулась и посмотрела на стены. — Ненормальность и все такое. На самом деле, если бы твой мозг не был бы немного сдвинутым, талант мог бы и не проявиться. Ты ведь понимаешь это?
И это было восхитительно. Он еще не использовал краски, но благодаря восковому карандашу и его чокнутой голове, Моисей заполнил две стены начальными образами сцен слепого мужчины, к которому вернулось зрение, и коня, который оживал только ночью. Это уже было за гранью того, что я могла бы представить.
— Ты хотя бы поспал? — я повернулась обратно к нему и зевнула.
— Не-а. Но я сейчас пойду, вздремну и вернусь после ужина.
Ужин был еще не скоро, и мне оставалось убить еще несколько часов. После того, как я позаботилась о своих цыплятах, подстригла переднюю лужайку и целый час помогала маме с двумя приемными детьми, которых мы взяли на воспитание несколько дней назад, я удалилась в загон. Мои лошади были счастливы видеть меня, и я чувствовала себя плохо от того, что заставила их ждать моего внимания. На поляне повсюду росла трава, у них была вода, поэтому это не выглядело так, будто они голодали, но я редко проводила утро без них. Я загладила свою вину, проведя с ними все время с обеда и до темноты, стараясь заставить Лаки полюбить меня.
У Лаки был черный окрас с еще более темной гривой. Он был самым красивым конем, которого я когда-либо видела, но он знал, что был красавцем, и у него был характер. Он не хотел, чтобы к нему прикасались или катались верхом или уговаривали стоять смирно. Он хотел, чтобы я оставила его в покое. У отца был клиент, не имеющий возможности оплачивать счета от ветеринара, поэтому они заключили сделку. Это не было хорошей сделкой, потому что отец нуждался в лошадях, которых он и мама могли бы обучить находиться рядом с детьми. Но жеребец имел родословную, которая нравилась отцу, и он подумал, что, может быть, удастся выручить денег от владельцев кобыл за случку.
Лаки напоминал мне Моисея — с мощной, словно выточенной фигурой, с четко очерченными мышцами. Манера держать голову и то, как он игнорировал меня, были в точности как у Моисея. Но затем Лаки посмотрел на меня, и я знала, что ему хорошо известно о моем присутствии. Он ни на секунду не забывал обо мне и хотел, чтобы я гналась за ним. Назовите меня сумасшедшей, но я была уверена, что то, что срабатывает с конем, может сработать и с парнем.
Моисей вернулся вечером. И следующим вечером. И следующим. Я с удивлением наблюдала за тем, как он добавлял цвет линиям и придавал истории фантастичности, что заставляло меня ощутить себя, будто я оказалась в голове слепого мужчины и видела все вокруг его собственными глазами, видела мир в самый первый раз.
Моисей не остановился на моих стенах. На третий вечер история продолжилась на моем потолке, и он наспех соорудил несколько лесов, чтобы иметь возможность рисовать свою Сикстинскую капеллу прямо на потолке моей спальни размером десять на двенадцать. Должна была признаться, я ничего не знала о Сикстинской капелле, пока Моисей не рассказал мне все о Микеланджело, собирая платформу, которая предназначалась для того, чтобы лежать на ней во время рисования. Он сказал, что однажды увидит ее вживую. Он хотел путешествовать по все миру и увидеть все великие произведения искусства. Это была его мечта. Я молчала, пока он говорил, поддерживая разговор только когда думала, что он выдохся и мог остановиться. Мне было необходимо, чтобы он продолжал говорить. Я хотела знать о нем все. Я хотела узнать все его сокровенные мысли, мало-помалу, особенно когда он рисовал. Он давал некоторое представление о себе, мимолетные мгновения, которые я бережно хранила, как ребенок хранит собранные хрупкие ракушки и отполированную гальку. И когда он не был со мной, я вынимала эти сокровища и перебирала их снова и снова в своей голове, изучая их со всех сторон, познавая его.
Мои родители не знали, что и думать по поводу моей комнаты. Никто не знал. Это было слишком для такого маленького пространства. Когда вы стояли в центре, история будто укутывала вас цветом; масштаб, детализация и глубина работы ошеломляли и вызывали головокружение. Но я любила ее. Я оставила свою мебель стоять в середине комнаты, словно остров, чтобы ничего не закрывало стены, и повесила золотистые гирлянды по периметру стен, чтобы, когда я выключала лампу в спальне, маленькие огоньки бросали мягкий, теплый свет на изображение сна слепого мужчины. Это было волшебно.
Я чувствовала себя как идиотка, когда протягивала Моисею сотню долларов в тот вечер, когда он закончил. Я была уверена, этого едва хватило на то, чтобы покрыть затраты на краску и продовольствие. Но это все, что у меня было, и я понятия не имела, во что я ввязывалась, когда просила сделать роспись на моей стене.
Он, казалось, был доволен деньгами, будто бы забыл, что ему было обещано вознаграждение, и искренне поблагодарил меня, положив сотню в бумажник из мягкой кожи и убрав его в карман.
4 глава Джорджия
Папа говорил, что лошади отражают энергетику окружающих их людей. Если вы напуганы, лошадь уклоняется от вас. Если вы сомневаетесь в себе, то она воспользуется этим. Если вы не доверяете себе, то и она не станет. Они как детекторы правды. Это не какая-то сложная наука. И не вуду. Поэтому ты отпускаешь поводья, когда теряешься, и она всегда приводит тебя домой.
От меня не ускользнуло то, что лошади боялись Моисея. И если теория папы верна, то это происходило, потому что Моисей испытывал страх, и лошади просто отражали очень сильную эмоцию. Лошади пугают некоторых людей. Они такие большие и сильные, что в противостоянии человека и лошади, она запросто надерет вам зад.
Но я не думала, что Моисей боялся лошадей. Не конкретно их. Я была больше, чем уверена, что Моисей испытывал страх в целом. Тревожный, безнадежный, маниакальный. Какой угодно. И наши лошади знали это.
— Ты знаешь, почему Сакетт ударил меня? — как-то утром спросила я у отца, когда мы готовились к консультации.
— Да, — проворчал мой отец.
— Он просто отражает эмоции Моисея, не так ли?
Мой отец резко вскинул глаза. Ему явно не понравилось предположение, что Моисей хотел ударить меня по голове.
— Моисей напуган, папа. Я думаю, он рисует, чтобы освободиться от накопившейся нервной энергии. Я подумала, что мы могли бы приводить его к лошадям, может, это ему тоже поможет.
— Первое правило терапии, Джордж, — произнес мой отец.
— Какое?
— Ты можешь привести лошадь к воде…
— …но не можешь заставить ее пить, — вздохнула я, заканчивая известную прописную истину.
— Вот именно. Ты можешь быть права насчет Моисея. И я уверен, что мы могли бы помочь ему, когда и если он захочет нашей помощи. Детям, женатым парам, людям с зависимостями, людям в депрессии, каждому и практически любому может помочь конная терапия. Я не знал ни одного человека, которому бы не помогло время, проведенное с лошадьми. Но Моисей должен сам принять это решение. Ты действительно упертая, Джордж, но ты встретила сильного противника в лице этого мальчика.
В этом я убедилась. Встретила сильного противника, это уж точно. Может удар по голове или столкновение с жестокостью на ярмарке полностью изменили меня, может из-за его роли спасителя, а может я просто влюбилась в художника, который вдохнул жизнь в изображение белого коня на стенах моей спальни, но я не могла выбросить Моисея из головы. Я ловила себя на том, что искала его взглядом с момента, как выходила по утрам на улицу, и до момента, когда сдавалась и заходила в дом по вечерам. Его бабушка периодически просила его об одолжениях, и, когда Моисей закончил выполнять разную работу для моего отца, он начал ремонтировать забор для Джин Пауэлл. Вероятно, это заняло бы всю оставшуюся часть лета, учитывая, сколько акров земли было во владении у Джин Пауэлл. Кроме того, его наняли на снос перекрытий внутри старой мельницы к западу от города, которую закрыли двадцать лет назад.
Я могла выдумать кучу причин, чтобы кататься верхом вдоль линии забора, но старая мельница — это уже совсем другое дело. Я полагала, что буду действовать по обстоятельствам, но уже начала все планировать. Я не позволяла себе задумываться о моем страстном увлечении, потому что тогда мне бы пришлось признать, что оно есть. И я не была одной из тех девушек, которые увлекаются кем-то и теряют голову, девушек, которые проверяют помаду на губах и поправляют волосы при приближении парней.
И все же я поймала себя на том, что делала именно это — распустила свою косу и пропустила пальцы сквозь развивающиеся волосы, когда достигла границы земель Джин Пауэлл поздним июлем. У меня с собой был ланч для Моисея. Удостоверившись, что перехвачу Кейтлин на выходе из дома, я вскользь упомянула, что мы с Сакеттом направлялись в ту же сторону. Она улыбнулась мне, словно я ее дурачила, и я почувствовала себя очень глупо. Может Кейтлин Райт и была восьмидесятилетней старушкой, но я была уверена, что она мало что упускала из виду. Особенно когда я заглядывала три дня подряд именно в то время, когда нужно было нести Моисею ланч.
Моисей не выглядел довольным, когда увидел, что я приближалась, и я в сотый раз спросила себя, что я сделала, чтобы так разозлить его.
— Где Джиджи?
— Кто такая Джиджи?
— Моя прабабушка.
— Я увидала, что она направляется в эту сторону и подумала, что пока я катаюсь верхом, то могу привезти тебе ланч.
— Ты увидела, что она направляется в эту сторону, — он раздраженно поднял на меня глаза. — А не «увидала». Ты произносишь это слово неправильно. И не только его.
Для меня оно не звучало неправильно, но я взяла себе это на заметку. Не хотела, чтобы Моисей думал, что я бестолковая.
— Все в этом городе произносят его неправильно. Моя бабушка произносит его неправильно! Это просто бесит, — проворчал Моисей.
Сегодня он был не в лучшем настроении. Но я не имела ничего против того, чтобы он выражал свое недовольство, лишь бы он разговаривал со мной.
— Хорошо. Я поправлю свою грамматику. Хочешь сказать что-нибудь еще, что тебе не нравится во мне? Потому что думаю, это еще не все, — произнесла я.
Он вздохнул, но проигнорировал мой вопрос, задавая свой собственный:
— Почему ты здесь, Джорджия? Твой отец знает об этом?
— Я принесла тебе ланч, Эйнштейн. И мой ответ «нет» на второй вопрос. Зачем ему это? Я не отмечаюсь каждый раз, когда катаюсь на лошади.
— А он в курсе, как ты прыгаешь тут через заборы?
Я пожала плечами.
— Я сижу в седле с тех пор, как научилась ходить. Не такое уж большое дело.
Он на время оставил меня в покое, но откусив сэндвич пару раз, снова начал дразнить.
— Джорджи-Порджи, ну и нахалка! Всех мальчиков перецеловала и побросала. Что это за имя такое — Джорджия?
— Мою прапрабабушку звали Джорджия. Первая Джорджия Шеперд. Мой папа зовет меня Джордж.
— Ага. Я слышал. Это просто отвратительно.
Я чувствовала, что начинаю закипать, и действительно захотела плюнуть в него, сидя верхом на лошади и глядя вниз на его аккуратно подстриженную голову правильной формы. Он поднял на меня глаза и скривил губы, и это еще больше разозлило меня.
— Не смотри на меня так. Я не пытаюсь обидеть тебя. Но Джордж — ужасное имя для девушки. Черт, да для кого угодно, кто не является королем Англии.
— Я думаю, оно подходит мне, — обидевшись, произнесла я.
— Да неужели? Джордж — это имя для человека с консервативным британским акцентом или для человека в белом напудренном парике. Тебе лучше надеяться на то, что оно тебе не подходит.
— Ну и сексуальное имя мне уж точно не подходит. Я никогда не была сексуальной девчонкой.
Я сильно пришпорила Сакетта и резко натянула поводья, более чем готовая уйти. Я поклялась себе, что больше не повезу Моисею ланч. Он был придурком, и меня это окончательно достало.
Но когда я отъезжала, мне показалось, что я услышала, как он крикнул вслед:
— Просто продолжай повторять себе это, Джорджи-Порджи. Я тоже буду продолжать повторять это себе.
Я привезла ему ланч на следующий день.
Моисей
— Знаешь, а ты ей нравишься, — поддразнивая, улыбнулась мне Джиджи.
Я только хмыкнул в ответ.
— Ты нравишься Джорджии, Моисей. И она такая хорошая девочка, милая и красивая. Почему бы тебе не уделить ей немного внимания? Это все, что она хочет.
Джиджи подмигнула мне, и я ощутил, как теплое чувство, которое я держал под контролем и гордился этим, распространяется в моей груди и вниз к животу.
Может сейчас Джорджия и хотела только внимания. Но это бы не продолжилось долго. Если бы я уделил ей внимание, она бы захотела проводить больше времени со мной. И если бы я проводил с ней время, она могла бы захотеть, чтобы я стал ее парнем. И если бы я был ее парнем, она бы захотела, чтобы я был нормальным. Она бы захотела, чтобы я был нормальным, потому что она была нормальной. Но понятие «нормальный» было так далеко от меня, что я даже не знал, где его искать.
И все же…
Я думал о том, как она выглядела, когда спала, а я рисовал на потолке в ее комнате. Я взглянул вниз через рейки лесов, и она лежала прямо подо мной, обняв подушку. Я будто дрейфовал над ней, мое тело на шесть футов выше ее. Ее волосы цвета пшеницы, растущей в полях вокруг городка, были распущены и рассыпались по плечам. Они не были жесткими или редкими. Ее волосы были шелковистыми, густыми и волнистыми из-за косы, которую она носила весь день. Она была высокой, но не такой высокой, как я, и стройной, с золотистой кожей и темно-карими глазами, которые резко контрастировали с ее светлыми волосами. Моя полная противоположность. У меня были светлые глаза и темные волосы. Может, если бы нас поставили вместе, наши физические странности сгладились. Мой желудок сжался от этой мысли. Никто не стал бы сводить нас вместе. Особенно я.
Я осознал, что наблюдаю, как она спит, на время забыв о рисовании. Человек в углу комнаты, который делился своими мысленными образами истории Джорджии, наполнившими мой мозг и появляющимися под моими руками, исчез. Я сомневался, смогу ли я вызвать его снова. Я еще не закончил.
Но я не пытался его звать. Вместо этого я долго и пристально смотрел на Джорджию. Я наблюдал за девушкой, которая была, бесспорно, такой же упертой, как и призраки в моей голове. И в кои-то веки мой разум был полон образов и снов, вызванных моим собственным воображением. И первый раз за всю свою жизнь я заснул с умиротворением внутри меня и с Джорджией подо мной.
Джорджия
До того как Лаки попал к нам, с ним вообще никто не работал. У отца не было достаточно времени, чтобы тренировать его, зато у меня его было предостаточно. У меня был талант, все так говорили. Поэтому я проводила с ним по несколько часов каждое утро, чтобы он привык ко мне, удостоверяясь, что я единственная, кто кормит его, единственная, кого он видит день за днем. Он убегал, когда я подходила ближе, капризно топтался с ноги на ногу, когда я отрезала ему желанный путь, и в большинстве случаев раздражался из-за моего присутствия. До того как я смогла набросить веревку на его голову, и он позволил вести его по кругу, прошел месяц. Еще две недели, и мы были в узде, и он позволил притягивать его голову в мою сторону, когда я стояла сбоку от него.
— Вот так, малыш. Ты дашь мне свою голову?
Я улыбалась, пока говорила, стараясь не выказывать торжества. Вы тренируете лошадь посредством утомления, не боли. Лошадь не хочет заходить в коневоз? Не заставляйте ее силой. Просто скачите вокруг прицепа снова и снова, пока она не начнет тяжело дышать. Затем снова попытайтесь вести ее по рампе. Она не хочет идти? Продолжайте скакать. В конечном счете, лошадь поймет, что давление ослабнет, когда она окажется в прицепе и сможет там отдохнуть. Таким образом, она будет взбираться по трапу охотнее с каждым разом.
Я слегка проявила нетерпение. Мой отец всегда говорил, что когда ты работаешь с людьми или животными, проявление нетерпения — худшая ошибка, которую ты можешь сделать. Но я выросла слегка самонадеянной. Лаки давал мне свою голову, и я хотела всего остального. Я сжала в кулаках его гриву и вытянулась всем телом так, чтобы мой живот слегка касался его сбоку. Он оставался неподвижным, дрожа от волнения, и я чувствовала, как эта дрожь эхом отдавалась в моем желудке, предвкушение охватило все мое тело, делая меня глупой.
— Мы же друзья, не так ли, Лаки? — прошептала я. — Давай немного пробежимся. Всего лишь маленькая пробежка.
Он не отстранился, и я приняла кратковременное замешательство за согласие. Одним быстрым движением я взобралась на него, и как только моя попа ударилась о его спину, наша связь разорвалась, и мои внутренности сжались от понимания, что он не готов. Но было уже чертовски поздно. Я сидела верхом, вцепившись руками в гриву. Со мной все было бы в порядке, реши он скинуть меня. Я знала, как правильно падать. Вместо этого он бросился вперед, мчась по полю вместе со мной, прижатой к его спине. Мы перемахнули через забор, разделяющий наши земли и участок Джин Пауэлл, и я сделала все возможное, чтобы наши тела стали одним целым, но это было невероятно тяжело — оставаться верхом на лошади без седла. Они гладкие, лоснящиеся и сильные, и мои бедра просто вопили от усилия, чтобы удержаться верхом на коне. Мы перепрыгнули еще один забор, и я осталась сидеть, но мои руки дрожали, и я была напугана тем, что Лаки может навредить себе. Лошади ломают ноги, и это не просто быстрая поездка в отделение скорой помощи, большой гипс и костыли. Это конец. Я думала не о себе. Я думала о том, как сильно я ошиблась в своем решении, и как далеко толкнула его. И я не знала, как это исправить.
После третьего прыжка через забор он приземлился жестче, и я начала соскальзывать. Я ругалась такими словами, которые в жизни не произносила, изо всех сил дергая Лаки за гриву и пытаясь выровняться. Но это не остановило мое падение, и я сильно ударилась о землю. Моему плечу и бедру досталось больше всего, когда я грохнулась, уставившись в голубое небо.
Если бы я не была занята попыткой втянуть воздух в мои легкие и вернуть к жизни конечности, то могла бы заметить, где я находилась. Только когда Моисей присел на корточки рядом со мной, вглядываясь в мое лицо, я осознала, что Лаки сбросил меня.
Он не спросил, все ли со мной в порядке. Какое-то время он вообще не произнес ни слова. Мы просто смотрели друг на друга, и я обратила внимание, что его дыхание было таким же затрудненным, как и мое. Было приятно думать, что он бежал, чтобы убедиться, не смертельно ли я ранена.
— Ох, блин, — вздохнула я, пытаясь сесть.
Моисей откинулся назад и наблюдал, как я стряхивала грязь со своего правого бока и морщилась, когда проводила рукой по плечу, от которого почти до локтя тянулась царапина. В остальном же все было в порядке. Ничего не было сломано, но я точно знала, что завтра все будет адски болеть. Отряхивая себя сзади и вглядываясь в горизонт, я встала на ноги без какой-либо помощи со стороны Моисея.
— Ты видел, куда он убежал? — спросила я, бросив взгляд в сторону поля.
— Нет, — в конце концов ответил он. — Я был слишком занят, наблюдая за твоим падением.
— До этого я немного скакала верхом на нем, — произнесла я в свою защиту. — Мы перепрыгнули два забора.
— Для тебя это нормально?
— Что именно?
— Ездить верхом без седла, мчаться сломя голову на лошади, которая явно не хочет, чтобы ее объезжали.
— Он дал мне свою голову. Я посчитала, что он готов. Я ошиблась.
— Дал свою голову?
— Да. Не важно. Это конный термин. Когда лошадь позволяет контролировать свою голову, тяни ее, чтобы контролировать тело, двигайся в этом направлении и все, она — твоя. Но Лаки никто не объезжал. Необходимо еще немного времени, чтобы добиться его расположения.
Моисей сжал губы и насмешливо приподнял брови, и на минуту я подумала, что он собирается засмеяться. Казалось, я производила на него такой эффект.
— Заткнись, — произнесла я.
Он засмеялся, как я и предполагала.
— Я ничего не сказал!
— Но ты подумал об этом.
— О чем?
— О чем-то грязном. Я могу видеть это по выражению твоего лица.
— Не-а. Это не грязь. Просто я черный.
— Ха-ха.
— Тебя никогда не скидывали?
Он поднялся на ноги и встал рядом со мной.
— Меня скидывали множество раз, — отрезала я, отвернувшись.
Я начала идти в том направлении, откуда появилась, решив не бродить вокруг в поисках Лаки, а вернуться обратно, взять грузовик и колесить по окрестностям, пока не найду его.
— Это ты пытаешься сделать со мной? Ты хочешь, чтобы я так же, как лошадь, дал тебе свою голову? — он произнес мне вслед.
Я остановилась. Моисей никогда не давал мне много. Я подталкивала его день за днем, неделя за неделей с тех пор, как он разрисовал мою комнату, так же, как я подталкивала Лаки. Лаки приблизился, Моисей — нет.
— Ничего мне от тебя не надо, — солгала я.
— Поэтому ты приносишь мне ланч каждый день, шпионишь за мной и приходишь домой к моей бабушке каждый вечер.
Я почувствовала себя, будто снова падала. Но на этот раз вред был нанесен не моему плечу. Мое сердце болело так, словно я получила удар копытом в грудь.
— Мне не нужна твоя голова, Моисей. Просто я думала, может, тебе необходим друг.
— Я не позволю тебе залезть в мою голову, Джорджия. Ты не захочешь видеть то, что творится в ней.
— Хорошо. Просто прекрасно. Тогда я позволю заглянуть в мою, — произнесла я, поворачиваясь к нему.
Не знаю, куда делась моя гордость. Мне бы следовало плюнуть на него и послать к черту, а не раскланиваться перед ним.
— Что-то мне подсказывает, что в твоей голове ничего нет. Я видел, как тебя ударили и скинули, и думаю, ты вернешься за добавкой, как только найдешь свою лошадь.
— Пошел ты в задницу, Моисей.
— Это первая сказанная тобой вещь, которая меня заинтересовала.
Я ахнула от изумления, и он рассмеялся. Снова. Я знала, что он пытался рассердить меня и заставить убежать в слезах. Но я была не из плакс. Он был прав лишь в одном. Я могу получить удар и быть сброшенной, но я вернусь за добавкой.
Поэтому я сделала то, что до этого никогда не совершала. Я развернулась и пошла обратно в его сторону, взяла в ладони его лицо и жестко поцеловала. Возможно, это был самый худший поцелуй в истории злых поцелуев. Это было ужасно. Прежде я никогда никого не целовала, мои губы были сжаты в жесткую линию, глаза крепко зажмурены, а руки также цепко сжимали его лицо, как до этого сжимали гриву Лаки.
Он отстранился, но не слишком далеко, и его резкое дыхание касалось моих губ.
— Осторожней, Джорджия. Тебя могут скинуть.
— Ах ты сукин…
А затем его губы вернулись, поглощая мои слова злости, и я почти тотчас забыла, какой же он придурок. Он не был нетерпеливым или напористым, или грубым — не как я. Он не торопился.
Одной рукой он придерживал мою голову, а другой провел по изгибу моей талии и положил на поясницу. Но когда я попыталась взять инициативу на себя, он прикусил мою губу.
— Остановись, — с шипением произнес он. — Позволь мне вести.
И я позволила.
Он вел меня по кругу снова и снова, вверх и вниз, пока мои ноги не превратились в желе, а глаза не закатились, и я прислонилась к нему, потому что не было сил держаться на ногах.
Но когда он поднял голову и тихо засмеялся, я с трудом открыла отяжелевшие веки и медленно вернулась на землю.
— Ну и ну…
Стряхнув туман в голове, я повернулась и увидела точку, за которой Моисей следил глазами.
Лаки прогуливался по полю, будто вовсе не напугал меня до смерти.
— Видишь? В тот момент, когда ты перестала преследовать его, вот тогда он захотел тебя. Он ревнует и думает, что ему нашли замену.
Наши взгляды столкнулись. Отстранившись от него, я попыталась вести себя так, будто меня целовали сотни раз сотни разных парней.
Моисей скользнул глазами к моему рту, и я засунула руки в карманы, чтобы не было соблазна снова кинуться на него и доказать, что я могу вести так же хорошо, как и он.
Как будто прочитав мои мысли, Моисей кивнул в сторону коня.
— Продолжай. Ты выучила свой урок. Он не хочет, чтобы его объезжали.
Я развернулась, сразу потеряв все желание поцеловать его снова. Стиснув зубы и сжав руки в кулаки, я шла к своей лошади широкими шагами.
Лаки наблюдал за мной. Он не уклонился и не отступил, когда я приблизилась, без малейшего колебания схватила его гриву и одним махом вскочила на него. Он встал на дыбы, кружился и гарцевал, но я была готова и удержалась.
И он сдался.
Когда я погнала его обратно в сторону дома, то не могла не оглянуться. Моисей застыл на месте с выражением полнейшего изумления на лице. Теперь была моя очередь смеяться.
5 глава Моисей
Я спал на втором этаже прямо напротив комнаты Джи. В старом доме не было системы кондиционирования, и к концу дня в комнатах наверху была духота. Но Джи никогда, казалось, так не считала, ей всегда было холодно. Каждую ночь я открывал окно, смачивал футболку водой, прежде чем надеть, а затем включал маленький поворотный вентилятор в углу комнаты на полную мощность, направив прямо на себя. Только так я мог спать, не потонув в бассейне собственного пота.
Все лето температура в Юте била все рекорды, но первая неделя августа была просто невыносимой. Уже четвертую по счету ночь я лежал в кровати посреди ночи, настолько несчастный, что обдумывал, не принять ли мне еще один душ, чтобы остыть, когда услышал, как кто-то зовет меня по имени.
Я сел в кровати, прислушиваясь.
— Моисей!
Я выключил вентилятор и стал ждать.
— Моисей!
Я подбежал к окну и, взглянув вниз, увидел стоявшую под ним Джорджию, одетую в шорты и топ. Через ее шею было перекинуто полотенце, а на плече висела полосатая пляжная сумка.
Она весело помахала мне рукой, как будто ее присутствие в пляжной одежде имело какой-то смысл.
— Я собиралась тайком пробраться в твой дом и подняться в твою комнату, но подумала, что если ты спишь голым, то я могу смутить тебя.
Я ошарашено смотрел на нее. Она не пыталась говорить шепотом или каким-либо образом изменить свой голос. Я оглянулся в сторону комнаты Джи. Коридор между нами был темным, и не было видно света под ее дверью. И все же я приложил палец к губам и покачал головой. Понятия не имею, как она вообще узнала, какая комната моя.
— Я собираюсь пойти к водонапорной башне. Пойдем со мной. Чертовски жарко, чтобы уснуть, — произнесла она, совершенно не стараясь понизить голос.
— Тише! — зашипел я на нее.
Джорджия только улыбнулась и покачала головой.
— Чем скорее ты спустишься сюда в шортах и с ключами от своего джипа, тем скорее мы сможем поехать, и тем скорее я заткнусь. Мы не можем взять Мирт. Она разбудит всю округу.
Я хмыкнул, и это был не самый привлекательный звук. Джорджия улыбнулась, очевидно, хорошо понимая, что если кто и будет в опасности от проснувшихся соседей, или, по крайней мере, моей бабушки, так это она.
— Черт побери, слишком жарко, чтобы спать, — вздохнул я.
И ее улыбка стала значительно шире.
— Встретимся снаружи, — прошептала она.
О, сейчас она была тихой. Вот теперь, когда она добилась своего.
Я никогда не был на водонапорной башне, но Джорджия показывала мне путь, пролегающий по узкой мощеной дороге к югу от города, которая проходила вдоль полей, пересекала множество железнодорожных путей и привела нас к большой металлической башне с лестницей сбоку. Знак предупреждал, что вошедшие посторонние будут привлекаться к уголовной ответственности, и сетчатый забор с замком на воротах еще больше препятствовал тому, что мы собирались сделать, но Джорджия нисколько не беспокоилась об этом.
— Перелезть через забор довольно легко. Я делала это кучу раз. Водонапорная башня качает воду из пруда вверх по каньону, где я обычно плаваю, когда нахожусь в отчаянии. Но я не могу плавать здесь в течение дня, потому что меня поймают и накажут по всей строгости закона, — Джорджия притворно вздохнула. — Но прошлым летом я приходила сюда раз в неделю — каждый раз в это же время — и никто даже не узнал. Это мой личный приватный бассейн.
От мысли, что Джорджия приходила к темной водонапорной башне поздней ночью абсолютно одна, никому об этом не сообщив, у меня по рукам побежали мурашки. Я просто кивнул головой и последовал за ней из джипа. Я был рад, что надел кроссовки, раз уж нам придется взбираться по сетчатому забору. Она протянула мне свою сумку, вскарабкалась по воротам и перемахнула через них так, будто, и правда, делала это сотни раз. Я перекинул сумку через плечо и перелез без проблем. Она, не замедляясь, уверенно поднялась по лестнице башни, что-то болтая всю дорогу и наполняя темноту веселым разговором.
Маленькая дверь открылась внутрь узкого выступа, который шел по кругу вдоль всей башни. Джорджия проскользнула внутрь, и я последовал за ней, оставляя дверь позади нас широко открытой. Мысли быть запертым в водонапорной башне в течение многих дней побудили меня подпереть ее своей обувью и неоднократно проверить ручку.
— Она запирается снаружи, глупый. И замок сломан, вот почему у нас в распоряжении все это.
Джорджия вытащила большой светодиодный фонарь из своей полосатой сумки, которая по-прежнему висела на моем плече, и включила его, освещая внутреннюю часть башни, похожую на пещеру со скрытыми бассейнами.
— А теперь закрой дверь, чтобы никто не заметил свет.
Я немедленно послушался.
— Круто, правда?
Должен признать, это было действительно круто. В свете фонаря мы отбрасывали тени на стенах, и Джорджия немного потанцевала перед ним, что заставило нас обоих засмеяться.
— Ты упадешь, — предупредил я, когда она демонстрировала элементы хореографии Майкла Джексона из «Триллера», вытянув вперед руки, как зомби, и двигаясь на носочках.
Выступ был недостаточно широким для танцев, но Джорджия, по всей видимости, была с этим не согласна. Я рывком снял свою футболку через голову, бросил ее на наши полотенца и уставился вниз на черную гладкую, как стекло, поверхность, ожидая дальнейших инструкций. Я не прыгал первым.
Джорджия стянула футболку и отбросила в сторону шорты, обнажая все тело, кроме небольших участков, прикрытых светло-голубым бикини, и я забыл о воде или том факте, что под водной гладью, возможно, живет существо, которое любит полакомиться темным мясом. Джорджия могла бы спасти меня. Я бы с радостью позволил ей это, если бы она была одета в этот комплект. Ее тело было изящное и подтянутое с поразительными изгибами и выпуклостями там, где они и должны быть у девушки. Но самым интересным было то, что она казалась совершенно равнодушной к этому. Будто она совершенно нормально относилась к тому, как выглядит ее тело, и не считала необходимым красоваться или позировать передо мной, или искать моего одобрения.
Она потянулась за моей рукой, но я отдернул ее, не желая, чтобы Джорджия тащила меня в воду прежде, чем я подготовился бы к этому.
— Мы пойдем вместе. Первый прыжок всегда самый лучший. Вода ощущается просто потрясающей, сам увидишь.
Я не уступал, и она ждала, продолжая держать руку вытянутой.
— Давай же, Моисей. Я позволю тебе вести, — произнесла она.
Ее вкрадчивый голос отражался от металлических стен. Этот звук был более заманчивый, чем у любого певца в любом ночном клубе по всему округу. Внезапно, мне стало необходимо оказаться в воде, или я бы опозорился в своих тонких шортах. Я схватил ее руку и без предупреждения нырнул, потянув ее за собой в эту непроглядную глубину. Вопль Джорджии заглушился, когда вода накрыла мою голову, и я выпустил ее руку, чтобы выплыть на поверхность.
Мы оба вынырнули, отплевываясь, я со страхом, она со смехом, но у меня не заняло много времени, чтобы отбросить этот страх и начать смеяться вместе с ней. Она подстегивала меня, брызгаясь водой, разговаривая и играя среди мелькающих теней, которые танцевали на стенах. Мы плавали долгое время, не беспокоясь о позднем часе, не опасаясь, что нас обнаружат, и, как ни странно, чувствуя себя непринужденно, рядом друг с другом.
Только когда я оперся руками о выступ, болтая ногами в воде, чтобы дать им отдохнуть, я заметил как свет, отражающийся от воды, оставлял на стене передо мной переливающееся сияние. Я вытянул руку, чтобы прикоснуться к ней, проводя пальцем по водному отражению, задаваясь вопросом, как бы я мог воссоздать это сияние с помощью красок. Джорджия подплыла ко мне, удерживаясь за выступ, и наблюдала, как мой палец вырисовывает невидимые линии.
— Когда ты рисуешь, ты знаешь, что изобразишь, прежде чем начать, или ты просто позволяешь своему сердцу взять верх? — спросила она мягко.
Это был хороший вопрос, милый вопрос, и то, какой милой она была, что-то раскрыло внутри меня. То, что я сдерживал большую часть времени. Я по-прежнему тщательно подбирал слова, не желая, чтобы она все обо мне знала, не желая разрушить момент отвратительной правдой, но еще я не хотел лгать и погубить воспоминания, когда этот момент пройдет.
— Есть так много вещей, которые я вижу… и которые не хотел бы видеть. Образы, которые наполняют мой мозг, и о которых я бы предпочел не думать. Галлюцинации, видения или, может, чрезмерно живое воображение. С моим рассудком может быть что-то не так, но это не только моя голова. С небесами тоже что-то не так, и иногда я могу видеть другую сторону.
Я украдкой посмотрел на Джорджию, желая знать, не напугал ли ее своим признанием. Но она не выглядела испуганной. Она выглядела заинтригованной, полностью увлеченной. Прекрасной. Поэтому я, воодушевившись, продолжил рассказывать.
— Когда я был меньше, я был сильно напуган. Когда я гостил у Джи, она пыталась рассказывать мне истории, чтобы успокоить. Истории из Библии. Она даже рассказала мне о ребенке по имени Моисей. Ребенке, который был найден в корзине, прямо как я. Вот так я и получил свое имя, ну ты знаешь.
Джорджия кивнула. Она знала. Все это знали.
— Джиджи рассказывала мне истории, чтобы заполнить мою голову хорошими вещами. Но только когда она начала показывать мне иллюстрации, все изменилось. У нее была книга по изобразительному искусству на религиозную тематику. Кто-то оставил ее в церкви в качестве пожертвования, и Джи принесла ее домой, чтобы никто в церкви не увидел все те изображения белых обнаженных людей и не оскорбился. Она закрасила все обнаженные части черным маркером.
Джорджия засмеялась, и я почувствовал, как воздух застрял в моем горле. Ее смех был глубокий и мягкий, и это заставило мое сердце в груди раздуваться, как шар, все сильнее и сильнее, пока мне не пришлось украдкой сделать несколько вдохов и выдохов, чтобы успокоить его.
— Значит, тебе нравятся картины? — Джорджия побуждала меня к дальнейшему разговору после того, как я оставался неподвижным и молчал слишком долго.
— Да.
Джорджия снова засмеялась.
— Но не с обнаженными людьми, — я почувствовал себя нелепо и даже ощутил, как мое лицо начало гореть. — Мне нравится красота. Цвет. Страдание.
— Страдание? — голос Джорджии повысился.
— Страдание было тем, что никак не связано со мной. Страдание мог увидеть каждый. Не только я. И я не ожидал, что все это можно прогнать.
Взгляд Джорджии легко, словно шепот, коснулся моего лица и почти сразу отстранился, следя за моими движущимися пальцами.
— Ты когда-нибудь видела лицо в Пьете (прим. пер. — от итал. pietá — милосердие, в изобразительном искусстве сцена оплакивания Христа Богоматерью) ? — я хотел, чтобы она снова смотрела на меня, и я получил, что хотел.
— Что такое Пьета? — спросила она.
— Это скульптура Микеланджело. Скульптура, изображающая Деву Марию с Иисусом на руках. Ее сыном. После того, как он умер.
Я сделал паузу, задумываясь о том, почему я вообще рассказывал ей это. Я всерьез засомневался, интересно ли ей. Но в любом случае я продолжил.
— Ее лицо, лицо Девы Марии… оно такое прекрасное. Такое умиротворенное. И настолько же мне не нравится остальная часть скульптуры. Но лицо Марии изысканно. Когда я не могу выдерживать бардак, творящийся в моей голове, я думаю о ее лице. И я так же наполняю свои мысли другими вещами. Я думаю о цвето- и светопередаче Мане, о деталях Вермеера. Вермеер изображает свои картины в мельчайших деталях — маленькие трещины в стенах, пятно на воротнике, один единственный гвоздь. И в этих маленьких вещах столько красоты. Совершенная заурядность. Я думаю об этих вещах и выталкиваю образы, которые не могу контролировать, вещи, которые не хочу видеть, но вынужден видеть… все время.
Я прекратил говорить. Я почти задыхался. Мой рот ощущался странно, онемело, будто я превысил ежедневный лимит слов, и мои губы и язык были ослаблены от такой нагрузки. Я не помнил, когда в последний раз говорил так много за один раз.
— Совершенная заурядность…
Джорджия вздохнула и подняла свою руку, проводя по влажной дорожке, которую я сделал своим пальцем, будто тоже могла рисовать. А затем посмотрела на меня с серьезным видом.
— Я самая заурядная девушка, Моисей. Я знаю, что так и есть. И я всегда буду такой. Я не умею рисовать. Я не знаю, кто такой Вермеер или Мане, раз уж на то пошло. Но если ты считаешь, что заурядность может быть прекрасной, это дает мне надежду. И, может быть, иногда ты будешь думать обо мне, когда тебе будет необходимо сбежать от боли в своей голове.
Ее карие глаза казались почти черными в приглушенном свете, такого же цвета, как и вода, в которую мы были погружены, и я машинально вытянул руку, чтобы хоть за что-то держаться, что-то, что не даст мне утонуть в них. Правая ладонь Джорджии по-прежнему была прижата к стене рядом с моей рукой, и я поймал себя на том, что очерчивал контур ее пальцев, как ребенок, обводящий их цветным мелком, вверх-вниз и обратно, пока не остановился у основания ее большого пальца. А затем я продолжил, позволяя своим пальцам кружиться вверх по ее руке легкими, как перышко, движениями, пока не достиг ее плеча. Я очертил тонкие кости ее ключицы, мои пальцы скользнули на противоположную сторону и вернулись вниз по другой руке. Когда я достиг ее ладони, то проскользнул своими пальцами между ее пальцев, крепко сцепляя их. Я ждал, что она наклонится, прижмется своими губами к моим, будет вести, как она склонна это делать. Но она оставалась неподвижной, держа меня за руку под водной гладью и наблюдая за мной. И я сдался. В нетерпении.
Ее губы были влажные и прохладные, и я догадывался, что мои ощущаются также. Но жар внутри ее рта приветствовал меня, как теплые объятия, и я погрузился в мягкость со вздохом, который смутил бы меня, если бы затем не последовал ее собственный вздох.
Джорджия
Мы с Моисеем наблюдали, как мои родители проводят терапевтическую сессию с небольшой группой наркоманов из реабилитационного центра Ричфильда, находившегося примерно в часе езды южнее Левана. Каждые две недели подъезжал фургон, и молодые люди толпой выходили из него — дети, начиная с моего возраста и до двадцати с небольшим. И в течение двух часов мои родители выводили их в круглый загон и давали им взаимодействовать с лошадьми в ряде мероприятий, разработанных, чтобы помочь детям восстановить связь с их собственными жизнями.
Я помогала в сеансах с детьми, страдающими аутизмом, и детьми, которые ездили на лошадях в качестве физической реабилитации, но если клиенты были моего возраста или старше, то моим родителям не нравилось вовлекать меня в консультации, даже если это была просто работа с лошадьми. Поэтому я побрела к Кейтлин, предполагая, что Моисей, должно быть, закончил с работой, и уговорила его пойти на задний двор с парой банок «Колы» и двумя кусками лимонной меренги4, с которой Кейтлин была счастлива расстаться. Я нравилась ей, и я это знала. И она была невероятно полезна в маневрировании Моисеем, когда он притворялся, что не хочет моей компании или лимонной меренги, хотя мы оба хорошо знали, что он хочет и то, и другое.
Мы с Моисеем не слышали разговоры с того места, где расположились, вытянувшись на задней лужайке Кейтлин. Зато у нас был неплохой обзор, и я знала, что мы не находились достаточно близко, чтобы привлекать внимание моих родителей, хотя и могли наблюдать за проведением занятий. Проявляя свое любопытство, я пыталась разглядеть, кто из детей по-прежнему болтался без дела, а кто закончил девяностодневную программу или уже был освобожден. Я вела мысленный список тех, кто выглядел скверно, а кто делал успехи.
— Как ты называешь их? Разные окрасы? Существуют ли различные названия? — неожиданно спросил Моисей, следя глазами за лошадьми, бродившими вдоль ограды.
В руках он держал кисть для рисования, будто схватил ее по привычке. Он вертел ею между пальцев, как барабанщик из рок-группы крутит своими барабанными палочками.
— Существует множество мастей и их оттенков. Я имею в виду, все они лошади, разумеется, но каждая цветовая комбинация имеет свое название. — Я указала на рыжеватую лошадь в углу. — Вот тот рыжий — Мерэл. Он светло-гнедой (прим. пер. — тёмно-рыжая с черным хвостом и черной гривой), Сакетт — соловый (прим. пер — паламино — желтовато-золотистая с белыми гривой и хвостом). Долли — темно-гнедая, и Лаки — вороной.
— Вороной?
— Да. Он черный с синеватым отливом, — с готовностью ответила я.
— Ну, это достаточно просто, — Моисей слегка засмеялся.
— Ага. Существуют серые, вороные, бурые, белые окрасы. Реба — чубарая (прим. пер. — в небольших овальных пятнах, образуется на основе рыжей, гнедой, вороной, буланой, соловой и других мастей), серая с пятнами на крестце. Все же в конной терапии нам не очень нравится как-то разделять их по окрасу. И мы не зовем лошадей по имени. Мы даже не говорим клиентам, какие из лошадей жеребцы, а какие кобылы.
— Почему? Не политкорректно? — саркастически заметил Моисей.
Он снова засмеялся, и я с любопытством посмотрела на него. Мне было приятно, что он выглядел заинтересованным, даже можно сказать расслабленным. Если бы я только могла уговорить его пойти в загон с лошадьми.
— Потому что ты хочешь, чтобы клиент отождествлял себя с лошадью. Хочешь, чтобы он сам дал лошади прозвище. Если она демонстрирует определенное поведение, модель которого ты хочешь сформировать у клиента, то ты не хочешь, чтобы у него сложилось какое-либо предвзятое мнение о том, кто или что есть лошадь. Лошадь должна быть тем, в ком нуждается клиент.
Я говорила прямо как моя мама и мысленно гладила себя по спине за то, что смогла объяснить что-то, что слышала всю свою жизнь, но никогда не выражала словами до этого момента.
— Но это не имеет никакого смысла.
— Ладно, например, давай поговорим о твоих проблемах с матерью.
Моисей стрельнул в меня глазами, как бы говоря: «Не суйся сюда!». Конечно же, я сунулась.
— Скажем, ты находишься на терапевтическом сеансе, где обсуждаешь свое отношение к матери. И лошадь начинает проявлять определенные черты поведения, которые объясняют или твое поведение, или поведение твоей матери. Если бы мы уже прозвали эту лошадь Горди и сказали, что это жеребец, то, возможно, ты не смог бы отождествить свою мать с этой лошадью. В терапевтической сессии лошади получают только те имена и прозвища, которые им дают клиенты.
— Поэтому ты не хотела бы, чтобы я заметил, что вон та лошадь с соловым окрасом, та, что с белой гривой и бронзовым туловищем, выглядит так же, как ты, и что она все время всем надоедает?
— Сакетт? — я была возмущена больше от имени Сакетта, чем от своего собственного. — Сакетт не надоедливый! И Сакетт — конь, что только доказывает мою точку зрения о предвзятом мнении. Если бы ты знал, что он — это «он», а не «она», то ты не смог бы сопоставить его с Джорджией и наговорить этих гадостей. Сакетт — мудрый! И как бы серьезно не обстояли дела, ты всегда можешь рассчитывать на Сакетта, который будет прямо в самой гуще событий.
Я слышала обиду в собственном голосе и, сердито взглянув на Моисея, начала свою атаку.
— А Лаки такой же, как ты, — произнесла я.
Моисей просто уставился на меня безразличным взглядом, но я с уверенностью могла сказать, он наслаждался собой.
— Потому что он черный?
— Нет, тупица. Потому что он влюблен в меня, и каждый день притворяется, будто не хочет иметь со мной ничего общего, — бросила я в ответ.
Моисей растерялся, и я сильно ударила его кулаком в живот, отчего у него перехватило дыхание, и он попытался схватить меня за руки.
— То есть ты хочешь, чтобы клиенты не обращали внимания на окрас лошадей. Это даже не в человеческой природе.
Моисей сжал мои руки над моей головой и пристально смотрел в пылающее лицо. Когда он понял, что я не собираюсь продолжать махать кулаками, то ослабил хватку, вернув взгляд в сторону лошадей, и продолжил говорить.
— Все только и говорят, что о цветовой слепоте. И я понимаю это, правда. Но, может, вместо того, чтобы страдать цветовой слепотой нам следует воспевать цвет во всем его многообразии. Это, своего рода, раздражает меня, что мы должны игнорировать наши различия, будто не замечаем их, хотя видеть их не значит что-то негативное.
Я только и могла, что смотреть в изумлении. Я не хотела отводить от него взгляд. Он был таким красивым, и я любила моменты, когда он разговаривал со мной, когда становился философом, как сейчас. Я любила это так сильно, что даже не хотела ничего произносить. Я просто хотела ждать, скажет ли он еще что-нибудь. После нескольких долгих минут тишины он опустил свой взгляд на меня, обнаружив, как я уставилась на него.
— Мне нравится твоя кожа. Я люблю цвет твоих глаз. И я должен просто игнорировать это? — прошептал он, и мое сердце понеслось галопом к круглому загону, перемахнуло через забор и примчалось ко мне обратно в головокружительном восторге.
— Тебе нравится моя кожа? — тихо произнесла я, остолбенев.
— Да, — признал он и снова перевел взгляд на лошадей.
Это было самое приятное, что он когда-либо говорил. И я просто лежала, погрузившись в тишину, наполненную счастьем.
— Если бы тебе пришлось рисовать меня, какие краски ты бы использовал? — я должна была узнать.
— Коричневый, белый, золотистый, розовый, персиковый, — вздохнул он. — Я бы поэкспериментировал.
— Ты нарисуешь меня? — это было тем, что я отчаянно желала.
— Нет, — он снова вздохнул.
— Почему? — я старалась выглядеть так, будто меня это не задело.
— Легче рисовать вещи, которые в моей голове, чем вещи, которые вижу глазами.
— Ну, тогда нарисуй меня по памяти.
Я приподнялась и села, прикрыв рукой его глаза.
— Вот так. Закрой глаза. А теперь изобрази меня. Ну вот. Видишь меня? Я молодая соловая кобылка, все время действующая на нервы.
Его губы изогнулись, и я знала, что он хотел засмеяться, но я по-прежнему держала руки поверх его глаз.
— Теперь продолжай держать их закрытыми. В твоих руках уже есть кисть. А вот холст, — я поднесла его руку с кисточкой к своему лицу. — А сейчас рисуй.
Он отдернул руку к своему колену, продолжая держать кисть, обдумывая. Я убрала руку с его глаз, но он все еще держал их закрытыми. Затем он поднял руку и мягко заскользил сухой кистью по моему лицу.
— Что это?
— Мой лоб.
— Какая часть?
— Левая.
— А здесь?
— Моя щека.
— Здесь?
— Подбородок.
Мне было щекотно, но я не позволяла себе и шелохнуться. Моисей очертил край моего подбородка и провел от него прямую линию вниз к моей шее. Я сглотнула, когда кисть скользила вдоль моего горла и еле ощутимым прикосновением опускалась к моей грудной клетке там, где открывалась моя футболка. У футболки был аккуратный V-образный разрез прямо над грудью, и Моисей остановился, прижимая кисть к моей коже точно на уровне сердца. Но он продолжал держать глаза закрытыми.
— Если бы я должен был изобразить тебя, я использовал бы все цвета, — неожиданно произнес он почти с сожалением, будто был уверен, что не может нарисовать меня, но очень хочет этого. — У тебя бы были темно-красные губы, персиковая кожа и черные, как смоль, глаза с лиловым оттенком. А в твоих волосах были бы золотые, белые и голубые пряди, а кожа слегка окрашена в карамельно-кремовый оттенок с добавлением розового, затененная светло-коричневым.
Когда он говорил, то двигал кистью и так, и эдак, будто действительно рисовал красками в своей голове. А затем он остановился и открыл глаза. Мое дыхание застряло где-то между сердцем и головой, и я сконцентрировалась на дыхании, стараясь при этом не выдать себя. Но он знал. Он знал, какое влияние оказывает на меня. Он бросил кисть и поднялся на ноги, разрушая очарование момента, созданное его ласковыми штрихами, взмахами и нежными словами. Моисей направился обратно в дом, и я могла поклясться, как услышала его бормотание, когда он покидал меня, лежащую на траве:
— Я не могу нарисовать тебя Джорджия. Ты — живая.
6 глава Моисей
Джорджия не стала бы держаться подальше. Я сделал все, что в моих силах, чтобы заставить ее уйти. Мне не нужно было, чтобы она связала меня и покушалась на мою свободу. Я оставил ее, как только смог, она не входила в мои планы. Я обращался с ней, как с дерьмом, большую часть времени. А она просто игнорировала это. Это не расстраивало ее и не заставляло отступить. Проблема была в том, что мне нравилось целовать ее, нравилось ощущение ее волос на моих руках и ее тела, напирающего на меня и находящегося в моем личном пространстве, требующего внимания и получающего его каждый проклятый раз.
И она заставляла меня смеяться. А я не был любителем похохотать. Я сквернословил больше, чем улыбался. Жизнь просто не была веселой. Но Джорджия была крайне забавной. Смех и поцелуи не облегчают задачу убедить кого-то в том, что ты хочешь, чтобы он ушел. И она просто бы не ушла.
Я думал, что после той ночи на родео, когда ее связали и запугали, она избавится от своей дерзости. Терренс Андерсон, не имеющий ничего, кроме оскорблений в адрес Джорджии, определенно избавился от своей дерзости, когда я, спустя несколько дней после фестиваля, загнал его в угол и убедился в том, чтобы он уяснил, что маленького мальчика, которому нравятся веревки, порежет на ломтики человек, которому нравятся ножи. Правда в том, что я действительно хорошо обращался с ножами — я мог метать их и попадать точно в цель с двадцати шагов. И я удостоверился, что Терренс знает об этом. Я продемонстрировал ему большой нож, который взял с кухни Джиджи и слегка украсил его щеку, оставив метку в том же месте, где кровоточила щека Джорджии.
Он сказал, что не делал этого. Но судя по тому, как бегали его глаза, это мог быть он. Даже если так, он все равно был придурком, поэтому я не испытывал мук совести, что пустил ему кровь. Единственное, что огорчало меня, это то, что мне вообще пришлось пугать его. Проблемы Джорджии не были моими проблемами. Моей проблемой была сама Джорджия. Как в тот момент, когда она была решительно настроена помочь мне чинить забор, болтая и заставляя меня смеяться, а потом злила меня, потому что заставляла смеяться.
— Я не могу доделать работу, когда ты рядом. И собирается дождь, а я еще даже не подошел к концу. Эта секция в заборе та еще дрянь, и ты не помогаешь.
— Хнык, хнык, хнык, — вздохнула Джорджия. — Мы с тобой оба знаем, что я просто потрясающа в ремонте заборов.
Я засмеялся. Снова.
— Ты отстой в ремонте заборов! И ты не принесла перчатки, поэтому мне пришлось дать тебе свои. И теперь мои руки выглядят, как игольчатый валик, из-за всех этих проклятых заноз. Ты не помогаешь.
— Ну, все, Моисей. Назови мне пять значимых вещей, — сказала Джорджия так, будто потребовала отжаться, словно сержант-инструктор по строевой подготовке, рявкающий команду.
— Пять значимых вещей?
— Пять значимых вещей о сегодняшнем дне. О жизни. Вперед.
Я просто угрюмо смотрел на нее.
— Хорошо. Тогда я первая. Это легко. Первое, что приходит в голову — пять вещей, за которые я признательна. Бекон, влажные салфетки, Тим Макгро, тушь для ресниц и розмарин, — произносит она.
— Довольно странный набор, — произнес я.
— Что ты говорил мне о красоте в мелочах? Как имя того художника? Вермеер?
— Вермеер был живописец, не просто художник, — возразил я, нахмурив брови.
— Живописец, который изображал гвозди, пятна и трещины в стенах, верно?
Я был впечатлен тем, что она запомнила.
— Это игра с пятью значимыми вещами чем-то походит на это. Находить красоту в заурядных вещах. И только одно правило — признательность. Мои мама и папа используют ее все время. Нытье не допускается в моем доме. Приемные дети усвоили это очень быстро. В любое время, когда ты испытываешь жалость к себе или разражаешься тирадой о том, как отстойна жизнь, ты незамедлительно должен назвать пять значимых для тебя вещей.
— Я могу назвать пять значимых вещей. Пять вещей, которые действуют мне на нервы, — я саркастически улыбнулся, довольный своей игрой слов. — И факт того, что ты надела мои перчатки на вершине этого списка. За ним следуют твои раздражающие списки и тот факт, что ты назвала Вермеера художником.
— Ты сам дал мне свои перчатки! И да, это раздражает, но в этом на самом деле что-то есть. Это отвлекает тебя, даже если всего лишь на минуту. И это останавливает нытье. У меня была одна приемная сестра, которая каждый раз называла одни и те же пять пунктов. Туалетная бумага, спагетти, шнурки, лампочки и храп ее матери. Когда она приехала к нам, у нее были только шлепанцы и больше ничего. Первый раз мы купили ей обувь. Мы достали для нее пару с флуоресцентными зелеными шнурками и розовыми сердечками на них. Она ходила и смотрела вниз на эти шнурки.
— Храп ее матери?
— Это означало, что она была все еще жива.
Меня немного подташнивало. Дети по всему миру терпели слишком многое от людей, которым следовало бы быть умнее. А затем эти же дети становились взрослыми и повторяли по кругу то же самое. Я, вероятнее всего, поступал бы также, если бы у меня были дети. Еще одна причина не иметь их. Джорджия продолжала, пока я обдумывал, сколько же людей действительно имею отстойную жизнь.
— Моя мама предлагает детям рассказать ей о пяти вещах, которые волнуют их, пять вещей, высказаться о которых они испытывают потребность. Они пересчитывают их на пальцах, — Джорджия схватила меня за руку и начала считать каждый пункт на моих пальцах, чтобы продемонстрировать. — Допустим... Я устала. Я скучаю по маме. Я не хочу находиться здесь. Я не хочу идти в школу. Мне страшно. Что угодно. Затем они сжимают пальцы в кулак и избавляются от этих вещей, выбрасывают их.
Джорджия демонстрирует движение, сгибая мои пальцы к ладони и сжимая в кулак таким образом, чтобы я мог бросить воображаемый скомканный шар из моих жалоб.
— Затем она заставляет их назвать пять значимых вещей. Это помогает изменить фокус и напоминает им, что даже если жизнь очень плоха, это не значит, что плохо будет всегда.
Она смотрела на меня, все еще держа мою руку, и ждала. А я уставился на нее в ответ.
— Поэтому поделись этим со мной, Моисей. Пять вещей. Начинай.
— Я не могу, — незамедлительно произнес я.
— Конечно же, можешь. Я могу назвать пять вещей для тебя, но это не сработает с таким же успехом. Признательность работает лучше всего, когда ты сам чувствуешь ее.
— Отлично. Тогда ты это сделаешь — назовешь пять значимых для меня вещей, — парировал я и вырвал свою руку из ее ладони. — Думаешь, что знаешь меня?
Я говорил мягко, но мою кожу покалывало от гнева, который я не мог успокоить. Джорджия думала, что все поняла, но Джорджия Шеперд не страдала достаточно, чтобы понять все дерьмо об этой жизни.
Джорджия снова упорно схватила меня за руку и, подняв ее, оставила нежный поцелуй на каждом кончике пальцев за каждый пункт из списка.
— Глаза Джорджии. Волосы Джорджии. Улыбка Джорджии. Индивидуальность Джорджии. Поцелуи Джорджии, — она хлопала глазами. — Видишь? Несомненно, пять значимых для Моисея вещей.
Я действительно не мог поспорить с этим. Все эти вещи очень значимы.
— Ты очень хорошего мнения о себе, ага? — произнес я, тряся головой, и улыбаясь неожиданно для самого себя.
Мои пальцы покалывали там, где их касались ее губы. Я хотел, чтобы она сделала это снова. И каким-то образом она это поняла и притянула мою руку обратно к своему рту.
— А эти — мои, — она поцеловала мой мизинец. — Глаза Моисея.
Она переместилась к моему безымянному пальцу.
— Улыбка Моисея.
Другой поцелуй в кончик среднего пальца.
— Улыбка Моисея.
Ее губы были такими мягкими.
— Мастерство Моисея.
Она закончила на моем большом пальце и нежно прикоснулась губами к подушечке.
— Поцелуи Моисея.
Затем прижалась ртом к моей ладони.
— Это пять вещей, которые значимы для Джорджии на сегодняшний день. Они были такими вчера и будут завтра, пока твои поцелуи не надоедят мне. Затем я должна буду придумать что-нибудь еще.
Джорджия
Мы все таращились. И хотя шла только вторая неделя нового учебного года, а он был новым учеником, все знали Моисея. Или слышали о нем. Для начала, он не был белым в маленькой школе с преимущественно белыми детьми, так что он выделялся. Плюс к этому, он был красив. Но не поэтому мы таращились. Моисей находился в моем кабинете английской литературы, рисуя на доске, а он даже не был зачислен на этот курс. Мы вернулись с ланча и застали его здесь. Две больших доски заполнены рисунками, и это было за пределами того, что ученики когда-либо видели. За исключением меня. Я знала, на что он способен.
Моисей резко остановился, будто разрываясь между тем, чтобы закончить свой шедевр, и тем, чтобы сбежать из комнаты. А затем появилась мисс Мюррей, и бегство больше не стало возможным вариантом. На его смуглой щеке красовалось черное пятно, и торцы ладоней тоже были запачканы, будто он использовал их в качестве инструмента, чтобы тушевать и создавать чувственный образ позади него. Он переминался с ноги на ногу, испытывая неловкость, а его широко открытые глаза выражали тревогу, их золотистый цвет делал его похожим на загнанное в угол животное. И он определенно был загнан в угол. Мисс Мюррей стояла в дверном проеме, обводя глазами школьную доску. Когда я взглянула на преподавателя, чтобы понять, накричат ли на него или нет, или того хуже, вышвырнут из школы, я заметила, как по ее лицу текут слезы, а руки прижаты к губам. Это было довольно странной реакцией.
Мисс Мюррей на самом деле не любила кричать. Обычно она была очень серьезной и жесткой. Она была хорошим учителем, не злилась и не становилась эмоциональной, когда дети доставляли неприятности или дерзили, и я искренне ценила это качество. Старшая школа и так была достаточно безумна и без учителей, добавляющих драмы. Когда мисс Мюррей не была счастлива, то обычно смотрела на тебя пристальным взглядом и нагружала домашней работой. Она не кричала.
Это было хорошо. По-видимому, Моисей осознал этот факт, потому что бросил маркер, зажатый в руке, и быстро отошел, глядя из стороны в сторону, будто планируя побег.
— Ну и что это? — заговорил Чарли Морган, неспособный промолчать и держать свой язык за зубами.
Обычно я ненавидела то, что он никогда не может заткнуться. Но теперь я не испытывала ненависти. Я была рада. Рада, потому что тоже хотела знать.
Чарли указал на доску.
— Это водопад?
Когда Моисей не ответил, Чарли продолжил.
— Позади водопада, это люди, верно? — засмеялся Чарли. — Они целуются! И не похоже, что на них есть какая-то одежда.
Несколько моих одноклассников засмеялись, но мы все пристально смотрели, наши взгляды были притянуты к воде, льющейся со скал вниз и окружающей двух людей, которые были почти незаметны в серебристом водопаде. Если бы я бегло взглянула, стирая границы реальности черных линий и неромантичной белой доски, то смогла бы представить, что изображение настоящее, что люди позади воды живые и дышащие, что они действительно целуются, а мы все вглядываемся сквозь брызги, наблюдая за тем, как разворачивается интимное любовное свидание. И они определенно были обнаженными. Я почувствовала, как запылали мои щеки, и отвела глаза. От рассматривания рисунка Моисея я чувствовала, как стягивает кожу, а мое тело ныло от вездесущей потребности, которая имела непосредственное отношение к Моисею. Это заставляло меня думать о ночи на водонапорной башне, и поцелуях, которые мы разделили с ним, и тепле, которое еще долгое время сохранялось в моем животе после того, как мы разошлись.
— Это ты нарисовал? — заговорил кто-то другой позади меня.
По голосу было похоже на Кирстен, но я не стала поворачивать голову, чтобы убедиться в этом.
— Получилось очень хорошо. Ты потрясающий художник!
— Студенты! — мисс Мюррей, наконец, обрела голос, хотя он и дрожал, будто она все еще плакала. — Я хочу, чтобы вы покинули класс. Возьмите свои вещи. Используйте время для работы над эссе к этой пятнице. Моисей, пожалуйста, останься.
Работать над эссе было для меня и вполовину не так интересно, как мисс Мюррей, плачущая над рисунком обнаженных людей на доске, сделанным никем иным, как Моисеем Райтом. Моим Моисеем. Также оказавшимся самым странным человеком, которого я когда-либо встречала. Но свободное время лучше, чем обучение, и в той ситуации у меня не было другого выбора, поэтому мы все неохотно поднялись и стали выходить друг за другом. Я была самой последней, и перехватила взгляд Моисея, когда за мной закрывалась дверь. Он выглядел так, словно хотел позвать меня обратно, словно хотел объясниться. Но затем дверь захлопнулась, и я осталась по другую сторону. Тем не менее, я услышала, как мисс Мюррей задала Моисею очень странный вопрос.
— Как ты узнал? — спросила она. — Как ты узнал о Рэе?
***
Моисей был временно отстранен. Очевидно, мисс Мюррей не понравилось, что он рисовал на школьной доске обнаженных людей, целующихся под водопадом. На самом деле, я была немного удивлена. Это не выглядело, как какое-то злое намерение, но я считала, что это было слегка эротично для классной комнаты. Мои щеки снова начинали гореть, и я задавалась вопросом, о чем вообще думал Моисей? Это было для привлечения внимания? Учебный год только начинался, май был еще очень далеко, и все, что я смогла вытянуть из сопротивляющегося Моисея — он не мог позволить себе пропустить хоть что-нибудь. Он был старше, но не имел достаточное количество баллов, чтобы окончить школу, если только не надрывал бы задницу. И быть отстраненным только привело бы к обратным результатам.
Я была уверена, что его бабушка имела возможность настоять и все уладить, чтобы вернуть его. Но Моисей не мог оставаться в стороне от проблем, и в следующие два месяца происходило то одно, то другое. Он разрисовал еще одну конюшню в городе черной, серебристой и полосками золотой краски. Это выглядело так ярко, будто всю северную часть поглотила черная дыра, оставившая за собой неистовый ураган. Позже я выяснила, что в ту конюшню тридцать лет назад ударила молния, и она сгорела дотла, при этом один человек погиб. Мужчина пытался вывести своих лошадей, и его поглотило пламя. Рисунок не выглядел таким уж привлекательным, когда я знала историю, что стояла за ним.
В конце концов, конюшню восстановили, а жена погибшего мужчины снова вышла замуж. Но на Шарлотту Баттерс, его вдову, художественные способности Моисея не произвели никакого впечатления. Она удостоверилась, чтобы каждый в городе знал, что по ее мнению, это жестокая шутка, хотя я сомневалась, что это было простым совпадением. Было бы обидно закрашивать что-то такое внушающее трепет, но Шарлотта Баттерс кипела от злости, и бабушка Моисея смягчила ее, пообещав, что Моисей все исправит, а также докрасит оставшуюся часть конюшни в качестве возмещения причиненного ущерба. Никакого водоворота красок и Сикстинской капеллы на этот раз. Просто обычная красная конюшня и множество часов на стремянке. Конечно же, я составляла ему компанию, даже если он пытался довести меня до того, чтобы я ушла. Как обычно.
На дворе был октябрь, но, несмотря на резкий холодный ветер, солнце еще согревало землю. У нас было несколько не по сезону теплых деньков, достаточно теплых, чтобы покраска конюшни после школы не была абсолютно непривлекательным занятием, особенно, если это значило, что я могла видеться с Моисеем. Хочет ли он видеть меня или нет. У нас с ним были совершенно странные отношения. В одну минуту он говорил мне убираться подальше, а в другую целовал меня так, будто не хотел никогда отпускать.
Сказать, что я была смущена и сбита с толку, это еще мягко сказано. Когда я появилась, чтобы помочь ему, одетая в поношенные джинсы и майку, которая выдержала тысячу стирок, он лишь раз взглянул на меня и вернулся к своему списку правил, что было небольшой крайностью, учитывая, что мы всего лишь красили конюшню. После того, как он закончил составлять исчерпывающий список инструкций и параметров, я шумно вздохнула и подняла свою кисть, лишь для того, чтобы он забрал ее из моих рук и просто повторил то, что я только что сделала.
Когда я запротестовала, он перебил меня.
— Мое место работы — мои правила.
— То есть тут твои правила. Твои законы?
— Да. Закон Моисея, — самодовольно улыбнулся он.
— Я считала, что Закон Моисея — это десять заповедей.
— Не знаю, наберется ли у меня так много.
— Ну, тогда это штат Джорджии. И в Джорджии у нас совсем другие законы.
Поэтому, когда ты находишься в Джорджии …
— Когда я нахожусь в Джорджии? — спросил он так тихо, что я чуть не пропустила это мимо ушей.
Я покрылась румянцем, поняв двусмысленность сказанной мной фразы. Но будучи человеком, который никогда не отступает, я разбушевалась.
— Ха. Размечтался.
Я попыталась продолжить красить, но он оттолкнул меня от банки с краской.
— Ты просто крутишься вокруг меня, потому что любишь нарушать правила. И не думай, будто я не знаю, что у твоих родителей есть несколько правил, когда дело касается нас. Ты сводишь их с ума, находясь рядом со мной. Особенно свою маму. Она боится меня.
Что ж, это была правда. А он не был глупым. И это было определенно привлекательно. Но когда он терял контроль над собой, рисуя как одержимый, создавая невероятные вещи, которые появлялись откуда-то из глубин этих янтарно-зеленых глаз, к которым я не могла подобраться достаточно близко, я хотела, чтобы он нарисовал меня. Я хотела стоять прямо перед ним и позволять облачать меня в краски, быть одним из его творений. Хотела быть частью его мира. Хотела соответствовать. Это было иронично, впервые в жизни, но если гармонировать означило поглощать его мысли, засесть у него в голове, тогда я хотела такой гармонии. Может, потому что мне было семнадцать, может, это была первая любовь или первая страсть. Или это просто был жар. Но я отчаянно хотела его, и это снедало меня. За всю свою жизнь я не хотела ничего так сильно. И даже представить бы не смогла, что когда-либо захочу что-то с такой же силой.
— Почему я тебе нравлюсь, Моисей? — раздраженно спросила я, уперев руки в бока.
Я устала от того, что он все время отталкивал меня, от незнания, что он хочет на самом деле.
— Кто это сказал? — ответил он тихо, посмотрев на меня.
Его слова осадили меня, но глаза, наоборот, давали надежду. И они говорили, что я ему нравлюсь.
— Это один из твоих законов? Не испытывай симпатий к Джорджии?
— Не-а. Это — не окажись вздернутым.
От его слов мне стало плохо.
— Вздернутым? Ты говоришь о линчевании? Это ужасно, Моисей. Может, мы и говорим, как деревенщины. Я могу сказать «увидала» вместо «увидела», путать слова. Может, мы и жители маленького городка с соответствующей манерой поведения, но ты можешь быть черным или любого другого цвета, и никому здесь нет до этого дела. Сейчас не шестидесятые, и мы уж точно не на Юге.
— Но это Джорджия, — тихо ответил он, обыгрывая мое имя, как до этого делала я. — А ты сочный джорджийский персик с ворсистой розовой кожицей, который я не надкушу.
Я пожала плечами. Он кусался, и это было проблемой. Его слова вызывали желание наклониться и вцепиться зубами в его левое мускулистое плечо и тоже укусить его. Я хотела укусить его так сильно, чтобы выразить все свое чувство разочарования, но при этом достаточно нежно, чтобы он позволил мне сделать это снова.
— Что еще? Какие у тебя законы?
— Рисуй.
— Хорошо. Похоже, что этому ты следуешь беспрекословно. А еще?
— Держись подальше от блондинок.
Он всегда пытался уколоть меня. Всегда старался залезть мне под кожу.
— Не только от Джорджии, но и от всех блондинок? Почему?
— Я не люблю их. Моя мать была блондинкой.
— А отец был черным?
— Есть предположение, что блондинки не могут родить черных детей без чьей-либо помощи.
Я закатила глаза.
— И ты еще считаешь, что у нас предвзятое мнение.
— Ох, у меня определенно предвзятое мнение. Но на то есть свои причины. Я никогда не встречал блондинку, которая бы мне нравилась.
— Ну, что ж, тогда я перекрашусь в красный.
По лицу Моисея расплылась такая широченная улыбка, что я подумала, оно треснет пополам. Это было неожиданно для меня, и уж чертовски неожиданно для него, потому что он нагнулся и, уперев руки в колени, зашелся таким смехом, будто прежде никогда не смеялся. Я схватила кисть, которую он забрал у меня до этого и провела длинную красную полосу вдоль своей косы. Он тяжело дышал, засмеявшись еще сильнее, и отрицательно качал головой. Вытянув руку, он потребовал кисть.
— Не делай этого, Джорджия, — быстро и бессвязно пробормотал он, от смеха в уголках его глаз выступили слезы.
Но я продолжала проводить кистью по волосам, и он бросился ко мне, пытаясь забрать ее, но я увернулась и уперлась в него спиной, создавая преграду между ним и кисточкой в моей руке. Я держала ее как можно дальше перед собой, но Моисей был выше, он с легкостью обернул меня руками и выдернул ее из моих пальцев. На моих ладонях осталась краска, и я, развернувшись, вытерла их о его лицо, и он стал похож на воина племени Апачи. Он вскрикнул, и тут же, используя кисть в своей руке, повторил движение, проводя по моему лицу. Я нагнулась и, найдя банку с краской, погрузила пальцы в красную жидкость. И с ухмылкой повернулась к нему.
— Я всего лишь стараюсь следовать законам, Моисей. Как там было? Рисуй? — я злобно улыбнулась, и Моисей схватил меня за запястье.
Я тряхнула рукой, и маленькие красные капли покрыли его футболку крошечными красными точками.
— Джорджия, тебе лучше бежать, — Моисей по-прежнему улыбался, но блеск в его глазах заставлял мои колени подгибаться.
Я мило улыбнулась, глядя в его лицо.
— Почему я должна это делать, Моисей, когда я хочу, чтобы ты поймал меня?
Его улыбка стала холодной, но глаза, наоборот, наполнились теплом. А затем, все еще держа мое запястье одной рукой, другой он схватил меня за косу, скользкую от краски, и притянул к себе.
На этот раз он позволил мне вести.
Его губы были мягкие, позволяли мне задавать темп. Я впивалась в них, вцепившись в его футболку, и желала, чтобы вообще не было никаких законов. Никаких правил. Чтобы я могла делать все, что захочу. Чтобы я могла лежать внутри темного амбара и притягивать его к себе. Чтобы я могла делать все те вещи, которые хотело мое тело. Чтобы я могла окрасить его тело в красный, и он бы мог использовать свое тело, чтобы окрасить в ответ мое так, что не было бы никаких различий, никакого черного и белого, никаких сейчас и потом, никакого преступления, никакого наказания. Только ярко-красный, как мое ярко-красное желание.
Но законы существовали. И правила тоже. Законы природы и законы жизни. Законы любви и законы смерти. И когда ты нарушаешь их, наступают последствия. И нас с Моисеем, как и целый поток обреченных влюбленных, что ушли до нас и что придут на смену нам, касались эти законы, неважно, придерживались мы их или нет.
7 глава Моисей
Даже запах был опьяняющим. Это вызывало головокружение и усиливало грохот в голове и тяжесть в груди. Яркие всплески красного и желтого, водоворот серебристого, полосы черного. Мои руки летали, распыляя и перемещаясь, поднимаясь вверх и смешивая. Было слишком темно, чтобы разглядеть, действительно ли я создал то, что видел в своей голове. Но это не имело никакого значения. Не для меня. Но это многое значило для девушки. Девушки, которая нуждалась в ком-то, кто видел ее. Чтобы я нарисовал ее картину, показал бы миру ее лицо. И затем, может быть, она бы ушла.
Я периодически видел ее, начиная с середины лета, с той ночи на родео, когда нашел связанную Джорджию и отвез ее домой. Именно тогда я начал замечать Молли. Она написала свое имя жирными курсивными буквами. Я видел это имя на тесте по математике.
Она показала мне тест по математике — кто бы мог подумать, — вверху которого стояла резко очерченная отметка «отлично». Я подозревал, что она гордилась этим. Или когда-то гордилась. Прежде.
Молли была немного похожа на Джорджию — со светлыми волосами и улыбающимися глазами. Но она показывала мне вещи и места, которые ни о чем не говорили мне, такие, как математический тест. Подсолнухи, растущие вдоль дороги, по которой я никогда не ездил, беспокойное небо и капли дождя на окне с занавесками в желтую полоску, руки женщины и идеально подрумяненный яблочный пирог с умело выпеченной верхней корочкой.
А затем мой рисунок осветился откуда-то сзади — два луча фар пролили свет на туннель. Я бросил баллончик, который держал в руке, и соскользнул вниз по наклонной бетонной стене. Баллончики с краской, подвешенные на самодельном поясе, ударялись о мои ноги и лязгали друг о друга, как цепи, когда я бежал.
Но огни преследовали меня, заключая в ловушку между двух лучей света, и я споткнулся и упал. Баллончики болезненно врезались мне в живот и бедра, а гравий впился в кожу на ладонях. Машина вильнула и затормозила, и я на время был освобожден от яркого слепящего света, когда фары мелькнули над моей головой. Я тут же снова вскочил на ноги.
Но что-то было не так с моей левой ногой. Вскрикнув, я снова упал, когда боль прорвалась сквозь адреналин.
— Моисей?
Это была не полиция и не убийца девушки. А я был совершенно уверен, что ее убили. Была некая торжественность и свежесть в ее красках, которые я только что видел. Так бывает, когда смерть насильственная и внезапная. Когда смерть произошла недавно.
— Моисей? — прозвучало снова.
Я обернулся, поднимая руку вверх, чтобы закрыться от света фонарика, который был на одном уровне со мной, и понять, чей это голос доносился с той стороны.
— Джорджия?
Какого черта она делает здесь в час ночи, когда рано утром вставать в школу? Мой внутренний монолог звучал, как у родителя, и я немедленно остановил себя. Это было абсолютно не мое дело, что она делала, так же как и ее не касалось, чем занимался я. Такое впечатление, что я произнес это вслух, потому что она тут же спросила:
— Что ты делаешь?
Джорджия тоже говорила, как родитель, и я не ответил ей. Как обычно.
Морщась, я сделал усилие, чтобы встать на ноги, даже когда понял, что из моей ноги что-то торчит. Стекло. Длинный осколок стекла воткнулся в мое колено.
— Почему ты делаешь это?
Ее голос был печальным. Не осуждающим. Не взбешенным или настороженным. Просто печальным, словно она не понимала меня, но очень этого хотела.
— Почему ты повсюду рисуешь на частной собственности других людей?
— Это государственная собственность. Никому нет дела.
То, что я сказал, было глупо, но я не смог бы все ей объяснить. Так же, как не мог объяснить это любому другому. Поэтому и не стал.
— Шарлотте Баттерс есть дело. Мисс Мюррей точно есть дело.
— Поэтому ты не сидишь ночью дома, обеспечиваешь общественную безопасность от рисования? — спросил я.
Местность вокруг была окружена только полями с длинной золотистой пшеницей, или что там росло в Юте. Неподалеку от съезда с автострады располагался небольшой деловой центр, но он больше походил на крошечный остров в море золота.
— Не-а. Я видела, как ты уехал. Я наблюдала, как ты направлялся в сторону Нифай.
Я тупо уставился на нее.
— Свет твоих фар ударил мне в окно, когда ты выезжал. Я еще не спала.
В этом не было никакого смысла. Я рисовал уже как минимум час.
— Я колесила по окрестностям, пока не нашла тебя. Я заметила твой джип на обочине дороги, — тихо закончила она.
Ее честность поразила меня. В Джорджии не было никакой хитрости. И когда она пыталась скрыть свои чувства, я видел прямо сквозь нее. Она была как прозрачное чистое стекло. И как стекло, ее честность резала меня.
Проклиная все на свете, я выдернул осколок из колена, и тактика отвлечения внимания сработала, потому что глаза Джорджии метнулись в сторону моей раны. Она посветила фонариком, чтобы лучше рассмотреть, и тоже выругалась, когда увидела кровь, казавшуюся черной в лунном свете, и пропитавшую мои брюки.
— Ничего особенного, — пожал я плечами.
Но было действительно больно.
— Пошли. У меня под сиденьем есть аптечка.
Джорджия махнула мне рукой с фонариком. Круг света сделал петлю, когда она развернулась, ожидая, что я последую за ней. Что я и сделал.
Она рывком открыла дверь, достала из-под пассажирского кресла оранжевую пластиковую коробку и выжидающе похлопала по сидению.
— Сможешь залезть?
Я проворчал:
— Это всего лишь царапина. Тебе не придется проводить ампутацию или что-то в этом роде.
— Ну, она безумно кровоточит.
Я закатал штанину, и Джорджия занялась игрой в доктора, пока я смотрел на ее белокурую макушку и удивлялся в миллионный раз, какого черта она продолжает крутиться возле меня. Что ее привлекало? Девушка любила вызов, и это было легко заметить. Я наблюдал, как она скакала верхом на той черной лошади через заборы и поля, летала так, словно принадлежала небесам. Я наблюдал, как она обхаживала и терпеливо добивалась расположения жеребца, пока он не стал настолько очарован, что бежал к ней, стоило только позвать. Я не был животным и не хотел быть ее следующим завоеванием, но я абсолютно уверен, именно им я и был.
Это мысль разозлила меня и, как только Джорджия закончила, я опустил штанину, вышел из кабины и направился к своему джипу, не сказав ни слова. Она семенила позади меня.
— Иди домой, Джорджия. Ты нарушаешь еще один мой закон: не преследуй меня.
— Это твои законы, Моисей. Я не согласна ни с одним из них.
Я слышал ее шаги и остановился против своей воли. Повсюду было разбросано разбитое стекло и пивные банки. Этот туннель неделями был местом постоянных сборищ. Дети из старшей школы напивались здесь гораздо чаще, чем в любом другом месте в городе, если пустые банки и бутылки считать свидетельством этого факта. Я не хотел, чтобы она поранилась. Я пошел обратно и взял ее за руку, провожая обратно к ее грузовику.
— Иди домой, Джорджия, — повторил я, но на этот раз постарался произнести это чуть более доброжелательно.
Я открыл водительскую дверь этого ржавого корыта, которое она звала Мёртл, потому что это рифмовалось с «Тёртл» (прим. ред. — черепаха) и характеризовало то, как быстро оно ездило.
— Почему ты нарисовал ту девушку? На автостраде. Почему ты это сделал? Что это значило?
Ее голос был печальным, словно она чувствовала себя преданной. Я только не мог догадаться, кто ее предал.
— Я видел ее изображения, поэтому и нарисовал, — с легкостью ответил я.
Это была почти правда. В действительности я не видел ее изображения, не в том смысле, как это прозвучало. Не на листовке, хотя одна и висела на доске объявлений возле почты. На самом деле я видел ее в своей голове.
— Тебе понравилось, как она выглядела?
Я пренебрежительно пожал плечами.
— Она милая. Это печально. Мне понравилось изображать ее.
Правда. Она была милой. Это было печально. И мне действительно понравилось изображать ее.
— Ты знал ее?
— Нет. Я знаю, что она мертва.
Джорджия выглядела шокированной. Даже в темноте, залитой лишь лунным светом, я мог заметить, как сильно огорчил ее. Думаю, я хотел расстроить ее. Хотел, чтобы она боялась.
— Как?
— Потому что дети, изображенные на листовках, обычно уже мертвы. Она откуда-то отсюда, верно?
— Не совсем. Она из Санпита. Но это такой же маленький город, как и этот. И странно, что она просто исчезла без следа. Она уже вторая девушка, пропавшая подобным образом за последний год. Всё это пугает, понимаешь?
Я кивнул. Имя девушки было Молли. И она определенно была мертва. Она продолжала показывать мне различные вещи. Но не о ее смерти. О ее жизни. Теперь я надеялся, что она оставит меня в покое. Это продолжалось уже достаточно долго. Понятия не имел, почему она вообще приходила ко мне. Обычно, существовала какая-либо связь. Я никогда прежде не встречал Молли. Но я надеялся, что теперь она уйдет. Нарисуй их, и они уйдут. Это был способ признать их. И обычно этого было достаточно.
— Итак, ты находишься здесь посреди ночи, чтобы рисовать ее. Это тоже странно, — храбро произнесла Джорджия, удерживая мой взгляд.
Я снова кивнул.
— Ты боишься, Джорджия?
Она просто смотрела на меня так, словно пыталась залезть ко мне в голову. Моя маленькая заклинательница лошадей, пытающаяся и меня приворожить. Я потряс головой в попытке очистить мысли. Она не была моей заклинательницей лошадей. Она вообще не была моей.
— Да. Я боюсь. Я боюсь за тебя, Моисей. Потому что любой увидит это. Полиция увидит это. И люди будут думать, что ты что-то сделал той девушке.
— Так думают везде, где я появляюсь, Джорджия. Я привык.
— Ты всегда рисуешь мертвых людей?
Ее голос ударил меня, словно кнут. Я ощутил, как правда, которую держал в секрете, со свистом хлестнула меня по лицу.
Я отступил, ошеломленный, что она так легко разгадала эту часть меня. Я шел к своему джипу, не желая ничего, кроме как бежать, бежать, бежать не останавливаясь. Почему я не мог просто убежать? У меня было еще семь месяцев до окончания школы, но я работал над своим аттестатом и копил деньги. Семь месяцев. А затем, несмотря на то, как сильно я любил Джи, несмотря на то, как ранила мысль, что я никогда больше не увижу Джорджию, я покину этот забавный маленький городок со всеми его любопытными жителями вместе с их подозрительностью, назойливостью и болтливостью. И я буду двигаться вперед, рисуя, где бы я ни проезжал. Я не знал, как бы я выживал, но выживал и был бы свободен. Настолько свободен, насколько не был никогда.
Джорджия быстро шла за мной.
— Ты нарисовал моего дедушку на стене конюшни. Он был мертв уже двенадцать лет. Мне было пять, когда он умер. Ты также нарисовал молнию на стене конюшни Шарлотты Баттерс. Ее муж погиб во время бури в той самой конюшне, когда в нее ударила молния. Ты нарисовал мужчину по имени Рэй на доске в классе мисс Мюррей, и я выяснила, что ее жениха звали Рэй. Он погиб во время несчастного случая за две недели до их свадьбы. До этого ты разрисовывал стены внутри старой мельницы. Их я тоже видела. Я не узнала лица людей, которых ты изобразил, но они все тоже мертвы, так ведь?
Не было никакой возможности, чтобы я мог ответить ей, не рассказывая всей правды. Я хотел рассказать ей всё, но знал, что лучше этого не делать, поэтому просто продолжал идти.
— Моисей! Подожди! Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, не уходи от меня!
Она расстроенно закричала, чуть ли не плача, и я почти слышал, как у нее на глазах наворачиваются слезы. Мое сердце заныло, сила воли разбилась вдребезги. Я сделал лишь одну вещь, которая, как я знал, заставила бы ее забыть о своих вопросах, заставила бы ее забыть о подозрениях на мой счет. Заставила бы забыть нас обоих.
Я позволил ей поймать меня.
И когда она это сделала, я обернулся и обнял ее так крепко, что наши сердца слились друг с другом и нашли общий ритм. Мое билось в ее груди, и ее ускорялось в ответ напротив моей грудной клетки, бросая мне вызов, как она всегда делала. Я целовал ее губы снова и снова, позволяя цвету ее рта наполнить мой беспокойный разум, заглушая все картинки в своей голове, пока не останется только Джорджия, только радужные поцелуи и лунный свет, только тепло. Я прикасался к ее телу, согревая руки о теплую кожу, пока ее вопросы просто не унесло порывом ветра. И девушка, которую я нарисовал в бетонном туннеле, подняв лицо к небу, оставила нас одних.
Джорджия
Я сбежала из школы прежде, чем день закончился, и взяла Мёртл, чтобы проехаться мимо автострады так, чтобы я могла взглянуть на рисунок при дневном свете, пока Моисея не заставили закрасить его.
Это было так красиво. Девушка смеялась вместе с неизвестным поклонником. Ее лицо было поднято будто бы к солнцу, а волосы развевались вокруг плеч. Это почти заставило меня ревновать, и я стыдилась своих низких чувств. Но Моисей видел ее именно такой. Как это возможно, я не знала. Но он был художник, а она была его музой, хоть и на короткое время. И мне это не нравилось. Я хотела быть его музой, и только я. Я хотела, чтобы мое лицо было в его голове.
Я сидела, пристально разглядывая улыбающуюся девушку, в которую вдохнули жизнь с помощью баллончиков с красками на стене одинокого туннеля, и на гениальность современного Микеланджело. Или, может, Ван Гога. Не был ли Ван Гог сумасшедшим? Девушка, которую нарисовал Моисей, была так полна жизни, что я уверена, она не могла умереть. Но Моисей думал иначе. И от этой мысли мой живот скручивало, а ноги ощущались как холодное желе. Не потому, что она была мертва, это было ужасно, а потому, что Моисей, казалось, знал это наверняка. Ни один человек, смотрящий на это, вероятно, не решил бы, что Моисей высмеивает чье-то горе, или что его искусство жестоко. Но это было странно. И никто не знал, что с ним делать. Он никогда не отпирался, что это не его рук дело. Но он также и не защищал себя.
И прошлая ночь. Прошлой ночью я была напугана и зла, и сбита с толку. Он казался таким недосягаемым. Таким удручающе отдаленным! Поэтому, когда он неожиданно обернулся ко мне и поцеловал, держа так крепко, что между нами не осталось никакой дистанции, что-то внутри меня поддалось ему. И когда он бросил вниз свою куртку, мы опустились на землю — сплетение рук и губ, и обременительная одежда, раскиданная по сторонам, открывающая что-то, что удерживало нас порознь. Я не возражала, и он не остановился.
Я выросла на ферме в окружении лошадей. У меня было очень отчетливое и красочное представление о механизмах этого действия. Но ничто не подготовило меня к чувствам, к нужде, к интенсивным ощущениям, к силе, к сладкой агонии. Мы были поглощены происходящим так примитивно и так дико, что наши сердцебиения превратились в оглушающий стук метронома, отмечающий время этого знаменательного момента. Я была настолько переполнена изумлением, что не могла отвести взгляд. Я не могла даже закрыть глаза.
— Моисей, Моисей, Моисей, — кричало мое сердце, а губы эхом повторяли за ним.
Его глаза были так же широко открыты, как, должно быть, и мои, дыхание поверхностное, и когда его губы не прижимались к моим губам, они раскрывались от тяжелого дыхания, пока мы цеплялись друг за друга, ладони переплетены, а взгляды сосредоточены. Тела двигались в ритме, древнем, как земля, на которой мы лежали.
Я знала себя достаточно, чтобы понимать, что позднее я не стала бы гордиться отсутствием у себя сдержанности. Мне бы не понравилось заваленное мусором бетонное сооружение поблизости и сорняки под спиной. Я знала, что какое-то время не смогла бы смотреть своему отцу в глаза. Но я также знала, что этот момент был полностью неизбежен.
Я стремительно неслась к нему с той секунды, как увидела Моисея. Мои родители были религиозными людьми, набожными. Я считала, что и сама была такой же. Я росла, постоянно посещая церковь, неделя за неделей, слушая наставления во избежание блуда. Но никто не рассказал мне, как это ощущается. Никто не рассказал мне, что сопротивление равносильно попытке дышать через соломинку. Тщетно. Невыполнимо. Нереально.
Поэтому я отбросила соломинку в сторону и наполнила легкие кислородом, наполнила легкие Моисеем, втягивая его большими глотками воздуха, неспособная замедлиться или сфокусироваться на чем-то еще, кроме следующего вдоха.
Может быть, я могла бы держаться от него подальше. Может, мне следовало бы держаться подальше. Но прошлой ночью я не смогла. Прошлой ночью я не стала. И когда наступил день, сидя под постепенно исчезающим солнцем октябрьского полудня, рядом с другой девушкой, чье лицо смотрело вниз на меня, и которая была нарисована моим возлюбленным, мальчишкой, завладевшим моим телом и душой, я жалела, что этого не сделала.
8 глава Моисей
Полиция допросила меня. Это был уже не первый раз, когда полиция допрашивала меня по поводу одного из моих рисунков. Я не дал никаких подтверждений. Почти ничего не сказал. Мне нечего было им сказать, а у них ничего на меня не было. Правда в том, что я ничего не знал. Я знал лишь, что она не была живой. Живые люди не приходят в любое время навестить меня и не вторгаются в мои мысли. Я просто сказал им, что услышал о пропаже Молли и захотел нарисовать что-нибудь для нее. Это было правдой. Своего рода. Правда не была тем, что большинство людей хотели бы услышать. Людям нравилась религия, но они не хотели проявлять веру. Религия была утешающей со всей своей структурой и правилами. Это вызывало у людей чувство безопасности. Но вера не была безопасной. Вера была тяжелой и вызывала неудобство, заставляла людей проходить через трудности. По крайне мере, так говорила Джиджи. А я верил Джи.
Моя бабушка стремительно ворвалась в полицейский участок. Ее седые вьющиеся локоны развевались, а выражение лица предвещало неприятности. Не мне, к счастью, а офицеру полиции, который не позвонил ей, пока меня допрашивали. Мне было восемнадцать. Они не обязаны были звонить, но очень быстро отступили под ее гневом, и в течение часа меня выпустили с условием, что я закрашу свой рисунок. Я надеялся, что Молли не вернется, когда я сделаю это.
Как только мы зашли в дом, Джиджи сорвалась на меня.
— Почему ты продолжаешь делать это? Раскрашивать стены и конюшни и разрисовывать школьные доски? Ты заставил мисс Мюррей плакать, добился того, что тебя арестовали, а теперь это? Прекрати все это! Или, черт тебя дери, сначала спроси разрешение!
— Ты знаешь почему, Джиджи.
И она действительно знала. Это был маленький грязный секрет моей семьи. Мои галлюцинации. Мои видения. Таблетки, на которых я сидел большую часть своей жизни, сделали это в сто раз хуже. Это были лекарства, предназначенные для людей с абсолютно другими проблемами, и когда одно средство не работало, они пробовали что-то новое. Я провел всю свою жизнь, переходя из одного кабинета врача в другой — под опекой государства, враг государства. Ничего не помогало, и только когда я стал жить у Джиджи, я, наконец-то, освободился от медикаментов. Никто даже не задумывался, что, может быть, это не были галлюцинации. Они не думали о том факте, что, может, это было именно тем, о чем я говорил.
— Я не могу спрашивать разрешения, Джиджи. Потому что тогда мне придется давать объяснения. И люди могут сказать мне «нет». И где бы я тогда оказался? — По моему мнению, это был обоснованный аргумент. — Простить обычно легче, чем дать разрешение.
— Только если тебе пять! Не когда тебе восемнадцать и у тебя судимость. Ты закончишь свою жизнь в тюрьме, Моисей.
Бабушка была расстроена, и это заставляло меня чувствовать себя куском дерьма.
Я беспомощно пожал плечами. Эта угроза не была для меня чем-то новым и особо не пугала меня. Я не считал, что это было бы хуже чем то, как я живу сейчас. В тюрьме множество бетонных стен, по крайней мере, я так слышал. Но Джиджи там бы не было. И Джорджии. У меня не было бы возможности увидеть ее снова. Однако она считала меня сумасшедшим, поэтому я не знал, почему меня это волновало.
И все же волновало.
— Это было бы пустой тратой времени, Моисей. Такой огромной потерей времени! Твое мастерство впечатляющее. Оно удивительное. Ты мог бы устроить свою жизнь благодаря своему дару. Хорошую жизнь. Просто рисуй картины, ради всего святого! Тихо рисуй, сидя в углу! Это было бы потрясающе! Почему ты должен разрисовывать конюшни и мосты, стены и двери?
Джи всплеснула руками, и мне было жаль, что я не мог все ей объяснить.
— Я не могу. Я не могу остановиться. Рисование — единственная вещь, которая делает это сносным.
— Что именно делает сносным?
— Безумие. Безумие в моей голове.
— Моисей был пророком, — начала она.
— Я не пророк! И ты уже рассказывала прежде эту историю, Джи, — перебил я.
— Но я не думаю, что ты ее понял, Моисей, — настаивала она.
Я смотрел на свою бабушку, на ее круглое лицо, на любящую улыбку, в ее бесхитростные глаза. Она была единственным человеком, рядом с которым я никогда не чувствовал себя бременем. Или психом. Если она хотела снова рассказать мне о младенце Моисее, то я ее выслушаю.
— Моисей был пророком. Но так было не всегда. Сначала он был ребенком, младенцем, брошенным в корзине, — снова начала Джиджи.
Я вздохнул. Я действительно ненавидел историю о том, как получил свое имя. Она было полной лажей. Ничего милого и романтичного. И это не было библейской историей. И даже не голливудской. Это была история Джиджи. Поэтому я молчал и позволял ей рассказывать.
— Они убивали всех еврейских новорожденных мальчиков. Они были рабами, и фараон беспокоился, что если еврейская нация слишком разрастется, то они восстанут против него. Но мать Моисея не могла позволить ему быть убитым. Поэтому, чтобы спасти его, она должна была отпустить его. Она положила его в корзину и отпустила его, — повторила Джи с особой выразительностью.
Я ждал. Это не то место, где она обычно заканчивала.
— Так же, как тебя, дорогой.
— Что? Ты говоришь о том, что я недоразумение из корзины, полный неудачник? Ага, Джиджи. Я это знаю.
— Нет. Это не то, что я имела в виду. Хотя твоя мать была неудачницей. Она испортила свою жизнь. Она погрязла так глубоко и стала настолько подавленной, не было никакого шанса, что она смогла бы заботиться о тебе. Поэтому она отпустила тебя.
— Она оставила меня в прачечной.
— Она спасла тебя от самой себя.
Я снова вздохнул. Джиджи любила мою мать, что говорило о ней, как о снисходительном и сочувствующем человеке. Я же не любил свою мать, и я не был ни снисходительным, ни сочувствующим.
— Не ломай свою жизнь, Моисей. Теперь ты должен найти способ спасти себя. Никто не сможет сделать этого за тебя.
— Я не могу контролировать это, Джиджи. А ты ведешь себя так, будто могу.
В тот самый момент, когда я говорил, тепло начало подниматься вверх по моей шее, а кончики пальцев ощущались так, словно были прижаты к стакану со льдом. Это ощущение я знал слишком хорошо, и то, что в любом случае последует за ним, хочу я того или нет.
— Они не оставят меня в покое, Джи. И это сведет меня с ума. Это сводит меня с ума. Я не знаю, как так жить.
Джиджи стояла, обернув руками мою голову, и притягивая к своей груди, словно могла стать преградой между мной и всем, что уже есть внутри меня. Я продолжал прижиматься к ней лицом, крепко закрыв глаза, и старался думать о Джорджии, о прошлой ночи, о том, как Джорджия отказывалась отводить взгляд, о том, как мое сердце чуть не взорвалось, когда я почувствовал ее освобождение. Но даже Джорджии было не достаточно. Молли вернулась. Она хотела показать мне мысленные образы.
— Моисей разделил воды Красного моря. Эту историю ты ведь тоже знаешь? — настойчиво говорила бабушка, каким-то образом понимая, что я боролся с чем-то, что она не могла видеть. — Ты знаешь, как он разделил море, чтобы люди могли перейти через него?
В ответ я лишь захрипел, когда, мелькающие образы проносились в моей голове один за другим, будто девушка, которая держалась поблизости, открыла в моей голове книгу в тысячу страниц и заставила их переворачиваться с головокружительной скоростью. Я застонал, и Джиджи сжала меня крепче.
— Моисей! Ты должен сомкнуть море так же, как это сделал Моисей в Библии. Моисей разделил воды так же, как и ты можешь это сделать. Ты разделяешь воды, и люди переходят. Но ты не можешь позволить любому пройти, когда ему заблагорассудится. Ты должен сомкнуть море. Ты должен сомкнуть море и смыть все картинки волной!
— Как? — застонал я, перестав бороться.
— Какого цвета вода? — настаивает она.
И я постарался представить, как бы выглядела эта вода, поднимающаяся громадной стеной и удерживаемая невидимой рукой. Тотчас череда картинок, которые Молли пихала в мой череп, замедлилась.
— Вода белая, — выдавил я из себя. — Вода белая, когда в ярости.
Неожиданно я разозлился от того, что в моих висках пульсировало, а руки тряслись. Я так устал, не иметь ни минуты покоя.
— Что еще? Вода не всегда в ярости, — настаивала Джиджи. — Какие еще цвета?
— Вода белая, когда она в ярости. Красная, когда садится солнце. Голубая, когда она спокойна. Черная, когда наступает ночь. Она прозрачна, когда падает вниз, — я лепетал, но мне было хорошо.
Я сопротивлялся в ответ, и в моей голове прояснилось. Разум стал чистым, точно как эта вода.
— Поэтому позволь воде падать. Позволь ей обрушиться. Позволь ей струиться через твою голову и сквозь твои глаза. Вода чиста, когда смывает боль, прозрачна, когда очищает. Вода не имеет цвета. Позволь ей унести прочь все цвета.
Я почти мог почувствовать это — как рушатся стены, внутри которых я крутился так же, как в водах прибоя, когда мне было двенадцать, и я пошел к океану. Волны хлестали меня. Но находясь среди них, я не видел никаких картинок. Никаких людей. Не было ничего, кроме воды, отсутствия кислорода, сырости и силы природы. И мне это нравилось.
— На что похож ее звук, Моисей? На что похож звук воды?
Ниагара. Она звучит, как водопад. Я слышал звук водопада на Гавайях, обрушивающийся вокруг мисс Мюррей и мужчины, которого она любила. Рэй. Рэй показал мне сквозь падающую воду. Она была такой громкой, что было не слышно ни одного звука, кроме воды. Тогда она ревела в моей голове. И теперь снова ревела.
— Она звучит, как лев. Она звучит, как буря.
— Итак, позволь стене звука упасть вокруг тебя.
Джиджи говорила мне прямо на ухо, и все равно я едва мог слышать ее, словно мы тоже стояли внутри водопада, который был настолько громким, что заглушал все остальные звуки.
Я позволил себе потеряться в этом звуке. Потеряться самым лучшим способом.
Освободиться от самого себя, от своей головы. От мысленных образов.
Я видел, как те самые огромные стены воды удерживались рукой Бога, который мог решить все проблемы, который уже сделал это однажды, когда просил один Моисей, задолго до моего рождения. И я попросил его сделать это снова. Я попросил Бога освободить воду. И Молли полностью исчезла.
Джорджия
Моисей окончательно перестал ходить в школу после того, как копы вывели его из класса из-за рисунка, украшавшего туннель под автострадой. Я держалась подальше от него на протяжении четырех недель. Почти целый месяц я держала дистанцию. И он ни разу даже не заговорил со мной. Я не знала, почему он вообще должен был это делать. Есть ведь правила, касающиеся такого рода вещей? Если вы занимались сексом, то потом хотя бы звоните или заходите. А если забираете чью-то девственность самым изумительным способом, то не идете просто заниматься своими делами. Или может он так и решил сделать.
Но я знала, что он чувствовал в ту ночь тоже, что и я. Я точно это знала. Я не могла быть единственной. И те чувства сломили меня. Вожделение, непреодолимое желание пройти это до конца, позволить ему накрывать меня собой и заставлять делать все те вещи, которые я поклялась больше не делать, все это возобладало надо мной. Я была совершенно жалкой, и в среду перед Днем благодарения я не могла больше выносить этого. Я поехала к старой мельнице и нашла там его джип, припаркованный возле старой задней двери. Он, должно быть, уже закончил с уборкой, на выполнение которой его наняли. Но сейчас он все равно был здесь, и я нацарапала записку на обороте талона из сервиса, который нашла в бардачке Мёртл, и в ней говорилось:
«Моисей,
Встретимся в конюшне, когда закончишь.
Джорджия».
Я не хотела писать свое имя, но я была не настолько самонадеянной, чтобы допустить, что без подписи он поймет, что это я. Затем я положила записку под дворники текстом вниз. Если он не заметил бы ее, когда выйдет, то смог бы практически прочитать через стекло, садясь на водительское сиденье.
Затем я поспешила обратно домой, чтобы проследить за тем, что я благоухаю, как роза, у меня свежее дыхание и чистое белье. И я старалась не думать о том, насколько была безнадежной и жалкой, насколько разочарованной в себе, что наложила немного туши на ресницы, уставившись в собственные глаза и нарочно не глядя на себя.
Я прождала в конюшне целый час. Мой отец заходил один раз, и я почти выдала себя, оборачиваясь с огромной улыбкой только для того, чтобы увидеть его вместо Моисея. Меня тут же наполнил страх, что отец узнает о том, что произошло, и разочарование, что Моисей все еще не пришел. Надвигалась буря, и когда становилось холоднее, на ночь мы заводили лошадей внутрь. Лаки и Сакетт вместе с Долли, Ребой и Мерл — лошади, которых мои родители используют исключительно для конной терапии — уютно устроились в индивидуальных стойлах, и все они были вычищены лучше, чем когда-либо. Они были моим прикрытием, и папа купился на это. И я чувствовала себя шлюхой, когда он направился обратно в дом, не имея ни одной беспокойной мысли в своей седеющей голове, думая, что его дочка-сорванец была в безопасности от соседского мальчишки. Как ни прискорбно, но, похоже, так и было. Но он не был в безопасности от меня. К тому же, я испытала недостаточно стыда, чтобы заставить меня покинуть конюшню.
Он не пришел. Я прождала до полуночи и, в конце концов, укуталась в одно из одеял, которые расстелила на соломе и, как я себя убеждала, на которые мы могли бы присесть, пока разговаривали, и в одиночестве уснула в конюшне.
Я проснулась в тепле и комфорте под скомканным одеялом, на котором я спала, от звука дождя по жестяной крыше и шевеления лошадей, окруженная запахом чистой соломы. Было не очень холодно. Конюшня была уютной и прочно сколоченной, и я включила обогреватель, прежде чем провалиться в сон. Единственный свет исходил от голой, без абажура, лампочки, и она мягко освещала пол, когда я открыла отяжелевшие веки и обдумывала, пойти ли в дом и заползти в кровать или просто остаться на месте. Я спала в конюшне и прежде, много раз. Но в те разы я приносила с собой подушку, и на мне не был надет впивающийся в кожу кружевной бюстгальтер, и джинсы, которые были слишком узкими, чтобы заменить пижамные штаны.
Это произошло, когда я приподнялась, вытряхивая солому из волос, и увидела Моисея, просто сидящего в самом дальнем углу на низкой скамейке, которую мой отец использует для подковки лошадей. Он был настолько далеко от лошадей, насколько мог, и, к счастью, ни одна из них не казалась особенно встревоженной его присутствием. Но я была, всего на мгновение, и у меня вырвался испуганный крик.
Он не извинился, и не засмеялся, и даже не завел разговор о пустяках. Он просто с осторожностью смотрел на меня, как будто я пригласила его понаблюдать за тем, как сплю.
— Который час? — прошептала я скрипучим голосом, с ощущением тяжести на сердце.
Он просто заставлял меня чувствовать эту тяжесть.
— Два.
— Ты только что вернулся?
— Нет. Я пошел домой. Принял душ. Отправился в кровать.
— Значит, ты ходишь во сне? — произнесла я легким беззаботным тоном.
— Чего ты хочешь, Джорджия? Я подумал, что ты закончила со мной.
Ах. Вот оно. Вспышка гнева. Сдержанная, мимолетная. И я упивалась этим. Моя мама всегда говорила, что негативные эмоции лучше, чем отсутствие каких-либо эмоций вообще. Обычно она говорила это о взятых на воспитание детях, которые вели себя импульсивно. Но, по-видимому, это применимо и к семнадцатилетним девушкам, которые влюблены в парней, не отвечающих взаимностью. Эта мысль привела меня в ярость.
— Ты любишь меня, Моисей?
— Нет.
Его ответ прозвучал незамедлительно. Демонстративно. Но в любом случае он встал и направился ко мне. И я наблюдала за тем, как он подошел, скользя по нему голодным взглядом, мое сердце превратилось в огромный, испытывающий нужду узел в груди.
Моисей присел на корточках рядом с квадратными тюками, которые я превратила в любовное гнездышко. Но он сказал, что не любит меня, поэтому моя постель нуждается в ком-то с другим именем. Я снова легла и обернула одеяло вокруг плеч, неожиданно почувствовав холод и невероятную усталость. Но он последовал за мной, нависнув надо мной, его руки опирались по обе стороны от моей головы, когда он смотрел, как я наблюдаю за ним. А затем он сократил расстояние и целомудренно поцеловал меня. Один раз, второй.
А потом снова, уже не так сдержанно, с большим давлением и интенсивностью.
Я сделала глубокий вдох и обернула руки вокруг его шеи, позволяя ему проникнуть в меня. Я впитывала его аромат — сильный резкий запах краски смешанный с запахом мыла и мятных леденцов с красными полосками, которые его бабушка держала в чаше на кухонном столе. И чего-то еще. Что-то, чему я не могла дать название, и это была та его неизведанная часть, которую я хотела больше всего. Я целовала его, пока не смогла почувствовать ее вкус в своем рту, и когда этого стало недостаточно, я выжимала ее ладонями рук и терлась своей кожей о его, и тогда он опустился губами к моей шее и прошептал мне в ухо:
— Я не уверен, что ты хочешь от меня, Джорджия. Но если это именно то, тогда я согласен.
***
Когда солнце начало проталкивать розовые лучи сквозь маленькое окно конюшни, выходящее на восток, Моисей откатился от меня и стал натягивать одежду, устремив взгляд на окно и рассвет. Был ноябрь, и солнце поднималось медленно. Должно быть, уже больше шести. Пора собираться. Мои родители скоро должны быть на ногах, вероятно мама уже была. Ужин в честь Дня благодарения — важное событие. Моисей и я почти не разговаривали в те часы, что он оставался со мной. Я была удивлена, что он вообще остался, и даже поспал несколько часов, прежде чем разбудить меня поцелуями и прикосновениями теплых рук, заставляя осознать, что ни при каких условиях я бы не смогла прожить без него.
Он оставался совершенно безмолвным, и теперь его молчание было больше, чем я могла вынести. Я задавалась вопросом, как он научился отталкивать слова, подавлять их, не чувствовать того, как они роятся в голове и умоляют быть произнесенными. Я сказала себе, что теперь могу это сделать. Я могла бы быть такой же тихой, как он. По крайней мере, пока он не уйдет из конюшни. Но когда он направился к двери, слова вырвались сами по себе.
— Я думаю, ты действительно любишь меня, Моисей. И я люблю тебя в ответ, хотя было бы проще не делать этого, — поспешно произнесла я.
— Почему было бы проще этого не делать? — тихо бросил он в ответ, как будто до этого без колебаний не сказал, что не любит меня.
Он мог бы сказать, что не любит меня, но ему не особенно нравилось, когда ему говорили, что он не достоин любви.
— Потому что ты думаешь, что не любишь меня. Вот почему.
— Это один из моих законов, Джорджия. Не любить.
— Но в Джорджии нет такого закона.
— Только не начинай, — вздохнул он.
— Что заставило бы тебя полюбить меня, Моисей? Что заставило бы тебя направиться в Джорджию? — я выгнула брови, будто все это было просто одной забавной шуткой. — Я говорила тебе, что перекрашусь в красный. Я говорила, что позволю тебе проникнуть в мою голову. И я отдала тебе все, что у меня есть.
Я почувствовала, как внезапно мой голос надломился, и на глазах навернулись слезы, словно от этих слов прорвало дамбу. Я тут же отвернулась и заняла себя, сворачивая одеяло, которое теперь пахло, как он. Я сворачивала и разглаживала, и затем поднялась на ноги, в то время как Моисей неподвижно стоял буквально в шести футах от меня. По крайней мере, он не ушел, хотя какая-то часть меня этого бы хотела.
— Ты расстроена.
— Да. Думаю, так и есть.
— Вот почему у меня есть этот закон, — прошептал он почти что нежно. — Если ты не любишь, тогда никому не станет больно. Так легче уйти. Легче терять. Легче отпускать.
— Тогда, может, тебе следует обзавестись еще несколькими законами, Моисей.
Я повернула голову и лучезарно улыбнулась ему, неуверенная, насколько хорошо у меня это получилось. Мое лицо горело, и я догадывалась, что глаза тоже. Но я тараторила с напускным весельем:
— Не целовать. Не прикасаться. Не трахать.
Но я не считала, что мы трахались. Я назвала происходящее между нами так, как оно выглядело, и это слово ощущалось, словно кислота на моем языке. Для меня это не было чем-то таким. Это была любовь, не секс. Или, может быть, и то, и другое. Но, по меньшей мере, оба.
— Ты нашла меня, Джорджия. Ты преследовала меня. Ты хотела меня. А не наоборот, — произнес Моисей.
Он не повышал голос. Он даже не звучал расстроенно.
— Я не нарушил ни один из своих законов. Ты нарушила свои. И из-за этого ты злишься на меня.
Он был прав. Он был абсолютно прав. А я так сильно ошибалась.
— Увидимся позже, хорошо? — тихо сказала я, не осмеливаясь взглянуть на него. — Вы с Кейтлин придете на празднование Дня благодарения, так ведь? Мы начинаем есть рано, поэтому можем есть весь день.
Я гордилась тем, что сохраняла самообладание. Я презирала себя, что не надрала его задницу.
— Да. В одиннадцать, верно?
Пустяковый разговор никогда еще не казался таким притворным. Я кивнула, а он ждал, наблюдая за мной. Он начал произносить мое имя, но затем вздохнул и развернулся. И, не сказав ни слова, покинул конюшню.
— Рассвет, запах соломы, обед в честь Дня благодарения, горячий душ, новый день.
Я шепотом произнесла свой список значимых вещей, стараясь не позволить слезам пролиться, стараясь не думать о том, что будет дальше, и как я переживу следующие несколько часов.
9 глава Моисей
— Бабушка!
Она не двигалась.
— Джиджи!
Я встряхнул ее и похлопал по щекам. Но ее голова лишь была накренена в сторону, а глаза оставались закрытыми. Она лежала на кухонном полу, не двигаясь. Рядом с ней валялись три толстых осколка от разбитого стакана, заостренные островки в большом бассейне с окрашенной кровью водой. Она ударилась головой, когда упала, и кровь смешалась с водой из ее стакана. Крови было немного. Казалось, будто бабушка умерла прежде, чем коснуться земли.
Пролитой крови было мало. Для смерти нужно намного больше.
Когда я пришел домой накануне ночью, я отправился прямиком в ванную комнату, а оттуда сразу в свою комнату. Я лежал в кровати, стараясь сопротивляться мыслям о Джорджии. Она в течение месяца держалась в стороне, а теперь она хочет меня? Это разозлило меня. Но я до сих пор хотел увидеть ее. Я так сильно хотел ее увидеть. В конце концов, я сдался, натянул на себя джинсы и рубашку и выскользнул из дома, стараясь не разбудить Джи.
Что если она пролежала там всю ночь?
Я прижался головой к ее груди, и ждал, так сильно желая, чтобы ее сердце возобновило свой стук напротив моего уха. На ощупь она была холодной. И ее сердце оставалось тихим. Она была холодной. Не осознавая своих действий, я побежал за одеялом и накрыл ее, надежно подоткнув его.
— Джиджи!
Я закрыл глаза, нуждаясь в том, чтобы она сказала мне, что делать. Я мог видеть мертвых людей. Я видел их все время. Мне было необходимо увидеть Джиджи. Мне было необходимо, чтобы она рассказала, что случилось. Я нуждался в ней, чтобы она забрала меня с собой.
Я взял свои кисти. Собрал все краски. Я сидел рядом с ней и ждал, когда же она сможет вернуться ко мне. И когда она это сделает, я заполнил бы все стены ее изображениями. Я бы нарисовал каждый день в ее жизни до этого мгновения — этого ужасного последнего дня — и она рассказала бы мне, какого черта я должен был теперь делать. Я открылся, широко, словно зияющий каньон с острыми краями и крутыми обрывами. Я разделил воду, и когда сконцентрировался, стены из воды поднялись настолько высоко, что я не мог разглядеть, где они заканчивались. Любой желающий мог пройти. Неважно, кто. Кто угодно. Главное, чтобы они привели Джи обратно.
Но я не чувствовал Джиджи. Я не видел ее. Я видел свою мать. Я видел дедушку Джорджии, видел девушку по имени Молли и мужчину по имени Мэл Баттерс, который умер в своей конюшне. Его лошади были рядом с ним, и он был счастлив. Его счастье теперь насмехалось надо мной, и это приводило меня в ярость, когда я проносился мимо его образов длинных дорог и летних закатов. Он тотчас отошел. Я чувствовал Рэя, мужчину, который любил мисс Мюррей. Он беспокоился о ней, и это беспокойство серыми волнами пульсировало из него. Дела у нее шли неважно. Картина, которую мы создали для мисс Мюррей, не утешила ее.
Я ощущал все их жизни и их воспоминания, и я оттолкнул все это в сторону, пытаясь найти бабушку. Были также и другие. Люди, которых я чувствовал, образы, которые видел прежде, воспоминания, которые мне не принадлежали. Это были люди, приходящие ко мне на протяжении многих лет. Люди разных возрастов, разных цветов кожи. Здесь находились полинезийский мальчик и его сестра, Тео и Калиа, члены банды, погибшие в войне за влияние с похожей бандой гангстеров. С ними я общался почти целый год, прежде чем меня отправили жить с Джиджи. Меня возмущала потеря того чувства принадлежности, несмотря на то, что это было всего лишь фарсом. Я был возмущен этим так же, как и все те разы, когда меня насильно выселяли с места жительства. Брат с сестрой пытались замедлить меня, поделиться образами своего младшего брата, которого они покинули, но я продолжал бежать в поисках Джиджи.
Как и всегда, были наблюдатели, зернистые черные пятна, держащиеся по краям моего поля зрения всякий раз, когда я позволял себе погрузиться слишком глубоко. Я никогда не подходил к ним близко и не смотрел внутрь них. Они были абсолютно не прозрачны в отличие от людей, показывающих мне свои жизни. Я не был в этом уверен, но предполагал, что наблюдатели — мертвые, которые не смогли смириться, мертвые, которые не верили в загробную жизнь, поэтому отказывались видеть жизнь после. Даже если она светилась, словно море свечей, и сладко их манила. Возможно, они просто не могли это видеть.
Похоть, насилие и безрассудство, свойственные членам банды, многие из которых лишены всякого света, были выгребной ямой для наблюдателей, роем окружавших таких детей. Чем дольше я был в банде, тем лучше я мог разглядеть их. С момента приезда в Леван, они держались в стороне.
А затем появились люди, которых я не знал, к которым никогда не прикасался, и которые никогда не прикасались ко мне. Там было несколько поколений, стоящих спина к спине бесконечной линией, и они улыбались мне, словно я дома. Но я не мог найти Джиджи. А Джиджи была моим домом.
— Джиджи! — закричал я.
У меня пересохло в горле, оно настолько саднило, что я перестал нестись сквозь мир, который никто другой не был в состоянии увидеть. Моя голова больше не кружилась, но я был весь покрыт краской. Должно быть, я рисовал все то время, что искал свою бабушку. Стены дома Джиджи были покрыты изображениями, переходящими одно в другое, и не имеющими никакого смысла. Я нарисовал мужчину, и был уверен в том, что это мой прадедушка, муж Джиджи, с которым я никогда прежде не встречался. Я видел его в последние дни. Я заметил, как он мерцал, стоя прямо возле правого плеча Джи, будто бы ждал, когда она присоединится к нему. Теперь его лицо мелькало там среди остальных.
Было еще множество других. Я нарисовал наблюдателей, столпившихся по углам комнаты с пустыми глазами и скорбными лицами. И среди тех лиц, какие-то я узнавал, какие-то нет, были цепкие руки, горящие конюшни, грохочущие волны и молнии. Там также виднелось лицо моей матери, держащей корзинку, как будто ей было так необходимо продемонстрировать, кем она являлась. Можно подумать, я не знал. Я видел ее в своей голове сотни раз. Также на стене были изображены символы банды, словно Тео и Калиа предупреждали меня держаться от чего-то подальше. Красный переходил в черный, черный переходил в серый, серый переходил в белый, пока изображения не прерывались на том месте, где я теперь стоял.
— Моисей! Моисей, где ты?
Джорджия. Джорджия находилась в доме. Джорджия была на кухне. Я слышал, как она тяжело дышала, захлебываясь словами, сначала позвав меня, а затем лепетала в телефон, сообщая тому, с кем бы она ни говорила, что Кейтлин Райт «лежит на кухонном полу».
— Я думаю, что она умерла. Я думаю, что она мертва уже какое-то время. Я не могу сказать, что с ней случилось, но она очень, очень холодная, — говорила она в слезах.
Я удивился, как это возможно, ведь я накрыл Джиджи одеялом. Я хотел пойти к Джорджии. Ей было страшно. В отличие от меня, прежде она не видела смерть. Но в моей голове все кружилось, я был странным образом онемевшим, все еще удерживаемый где-то между землей, на которой я стоял, и Красным морем в своей голове.
Но затем она пришла ко мне, как всегда это делала. Она нашла меня. Джорджия обхватила меня руками и начала плакать. Она прижималась лицом к моей груди, не обращая внимания на пятна красного, лилового и черного на моей рубашке, которые измазали ей щеку.
— Ох, Моисей. Что случилось? Что здесь произошло?
Но я не мог заплакать вместе с ней. Я не мог сдвинуться с места. Я должен был сомкнуть воду. Джиджи не возвращалась со мной. Я не смог найти ее, и больше не был в состоянии оставаться. Не на том дальнем берегу, где были только цвета и вопросы.
Джорджия отстранилась. Ее лицо было испещрено полосами краски и выражало замешательство.
— В чем дело, Моисей? Ты рисовал. Почему? Почему, Моисей? И ты такой холодный. Как ты можешь быть настолько холодным?
У нее стучали зубы, словно ее действительно бросало в дрожь в моем присутствии.
Я безрадостно засмеялся. Я не был холодным. Я был в огне. Вдруг я задался вопросом, что если Джорджии показалось, что мои руки ледяные, потому что они были единственной холодной частью моего тела. Я горел. Пылал. Моя шея и уши были в огне, и в моей голове разбушевался ад. Поэтому я сконцентрировался на воде, на возвышающихся стенах прохода в моем разуме, прохода, который мне было необходимо закрыть. Я не ответил Джорджии. Я не смог. Я отстранился от нее, блокируя ее так же, как нашел свое спасение, заблокировав всех остальных.
— Вода белая, когда в ярости. Голубая, когда спокойна. Красная, когда садится солнце, черная в полночь. Вода прозрачна, когда падает. Прозрачна, когда течет сквозь мою голову и вытекает из кончиков пальцев. Вода чиста, она смывает все цвета, все образы.
Я не осознавал, что что-то произношу, пока Джорджия не прикоснулась ко мне. Я оттолкнул ее, нуждаясь в концентрации. Я смыкал воду. Стены начинали падать. Мне всего лишь нужно было сосредоточиться немного сильнее. Затем я почувствовал, как лед начал распространяться от моих ладоней вверх по рукам и спине, охлаждая шею и успокаивая мое дыхание. Я полностью погрузился в это ощущение. Облегчение было настолько великолепным, что мои ноги затряслись, и, в конце концов, я потянулся за Джорджией.
Теперь я мог касаться ее. Я больше ничего не хотел, кроме как держаться за нее. Но так же, как и образы в моей голове, Джорджия исчезла.
Джорджия
Когда я ворвалась в кухню, громко хлопая дверной сеткой, моя мама быстро развернулась, будто собираясь сделать мне выговор. Но, должно быть, она что-то увидела в выражении моего лица. Она с грохотом опустила миску с картофелем.
— Мартин! — она позвала папу, в то время как я поплелась к ней.
Мама старалась сохранять в духовке все в теплом состоянии. Когда Моисей и Кейтлин не появились в одиннадцать, мы слегка удивились. Кейтлин Райт была не из тех, кто опаздывает. Вообще. К 11:15 моя мама стала звонить ей домой. Но гудки все продолжались и продолжались, и мама начала волноваться об остывшей индейке и размякшем картофеле. Поэтому я вызвалась пробежаться и узнать, не нуждается ли миссис Райт в какой-либо помощи, и поторопить их с Моисеем. Она настаивала на том, что принесет пироги на десерт, хотя моя мама возражала, говоря, что они наши гости.
Я не хотела идти. Я чувствовала раздражение и усталость, и не нуждалась в том, чтобы видеться с Моисеем раньше, чем должна была. Я уже не знала, как бы мы сидели напротив друг друга без того, чтобы алая «А» не появилась на моей груди (прим. пер. — алая буква «A», прикреплявшаяся на грудь прелюбодейки, как символ позора; от слова adulteress — прелюбодейка; женщина, совершающая адюльтер).
Моисей бы прекрасно это перенес. Он бы просто ничего не говорил. А я бы покрылась испариной, ерзала, не в состоянии почувствовать вкус того, что ела. Это разозлило меня и придало храбрости, когда я вылетела из дверей. Искусственный снег, который мы получили за ночь, хрустел под моими ботинками. Мои джинсы «Вранглер» были строгими и чистыми, моя лучшая блузка сидела в обтяжку, а волосы тщательно приведены в порядок и уложены великолепными волнами. Я даже нанесла макияж. Принарядилась ради Дня благодарения только для того, чтобы никто меня не увидел. Это грубо — опаздывать на ужин в честь Дня благодарения, и я ускорила шаг, приблизившись к маленькому кирпичному серому дому Кейтлин, и с топотом поднялась вверх на крыльцо.
Я постучала несколько раз и затем вошла, выкрикивая:
— Миссис Райт? Это Джорджия.
Первое, что я заметила, это запах. Как будто пахло скипидаром. Краски. Пахло красками. И в воздухе не доносился никакой аромат пирогов. Должно было пахнуть пирогами.
Я тотчас остановилась.
Перед входной дверью пролегало маленькое фойе. Было достаточно места для вешалки с одеждой, маленькой скамейки и лестничного пролета. С левой стороны располагалась крошечная комната для отдыха, с правой — столовая, которая вела на кухню. Ближе к задней части дома находилась большая гостиная, которую муж Кейтлин Райт пристроил сорок лет назад. В нее можно было попасть через кухню или через крошечную комнату отдыха. Комнаты первого этажа создавали широкий бесформенный круг вокруг мизерного фойе с лестницей, ведущей к ванной комнате и трем маленьким спальням второго этажа. Я подняла глаза на лестницу, сомневаясь, что осмелюсь подняться по ней.
В доме было так тихо.
Затем я услышала еле уловимый звук, похожий на шуршание. Один раз, второй, третий. Затем звук шагов. И еще раз. Я практически сразу распознала, откуда доносятся звуки. Закрыв глаза, я прислушивалась к ним несколько ночей подряд, когда Моисей раскрашивал мою комнату.
— Моисей?
Позвав его, я переступила порог маленькой столовой. Три шага и я увидела ее. Кейтлин Райт лежала на кухонном полу, накрытая стеганым одеялом, которое выглядело так, словно его стащили с ее кровати.
— Кейтлин?
Мой голос перешел на визг. Мне следовало бы броситься к ней. Но это было так странно. Предполагаю, я не имела понятия, что видела. Поэтому я подошла на цыпочках, как будто она на самом деле спала, а я посягала на ее странный дневной сон.
Я опустилась на колени рядом с ней и слегка откинула одеяло, из-под которого выглянули седые кудри, но ее лица я увидеть не смогла.
— Миссис Райт?
Я произнесла снова, а затем до меня дошло. Она не спала. И это не было реальным. Должно быть это я спала.
— Кейтлин?
Я пронзительно закричала, отскакивая и падая на задницу, и подсознательно поймала себя на мысли, как что-то острое скользнуло по моей руке, почти впиваясь. Я отдернула руку и с воплями вскочила, словно смерть кусалась и собиралась сделать со мной то же самое. Задняя часть свежевыстиранных джинсов была мокрой. Я села в воду, а на полу было стекло. Это было всего лишь стекло. Не смерть. Но Кейтлин Райт была мертва, и кто-то накрыл ее, зная это.
Я схватила полотенце со столешницы и поняла, что открыла пироги — красивые пироги, размещенные в ряд. Всего их было четыре. У яблочного пирога не хватало куска. Я на секунду уставилась на эту недостающую часть, задаваясь вопросом, попробовала ли Кейтлин свою выпечку перед смертью. Неожиданно происходящее стало реальным и еще более трагичным, и я отвернулась, заматывая кровоточащую руку, и устремилась к старому телефону на стене. Я должна была перешагнуть через ее тело, чтобы достать до телефонной трубки, и вот тогда меня затрясло.
Я набрала 911, как всех нас учили поступать в чрезвычайных ситуациях. Прозвучало всего несколько гудков, прежде чем оператор ответила, задавая мне деловым тоном всевозможные вопросы. Одним духом я выпалила ответы на них, даже когда мои мысли возвращались к тому ужасу, который по-прежнему стоял перед глазами. Где Моисей? Я могла почувствовать запах краски. Я могла почувствовать запах, и я слышала кого-то. Краски означали Моисея. Я отложила телефон, оператор продолжала говорить, спрашивая меня о чем-то, о чем я уже отвечала. Затем на одеревеневших ногах я прошла сквозь маленькую дверь, которая вела в гостиную. Задняя часть моих джинсов была мокрая, рука кровоточила, а сердце замерло в груди.
Он был весь в краске — голова, руки и одежда измазаны в синем и желтом, облиты красным и оранжевым, в брызгах лилового и черного. Он все еще был одет в ту же одежду, что и утром, когда оставил меня, и в тоже время ничто не выглядело как прежде. Его рубашка была незаправленной, довольно странно. Но это не было самым странным. Не настолько. Стены так же были покрыты краской, но не просто беспорядочным скоплением случайных рисунков.
Это было маниакально и гипнотизирующе, это был контролируемый хаос и помешательство на деталях. Моисей рисовал прямо на картинах и окнах. Занавески были в мазках краски, соединяя изображения, словно он не мог остановиться и отдернуть их в сторону. Судя по раскрашенному пространству стен, он занимался этим часами. Граффити, лошади и люди, которых я прежде никогда не видела, изображены на них. Здесь были коридоры, тропинки, дверные проемы и мосты, словно Моисей бежал от одного места к другому, рисуя каждую необъяснимую вещь, которую видел. Лицо женщины, склонившееся над корзиной для белья, было нарисовано на стене. Ее длинные, светлые волосы развевались вокруг нее, а корзина была наполнена младенцами. Это было и прекрасно, и причудливо. Одно изображение переходило в другое, не имея никакой закономерности. И Моисей стоял там с вытянутыми по бокам руками, уставившись на еще белый участок стены напротив него.
А затем он перевел взгляд на меня. Его глаза были пустыми и с такими темными кругами под ними, в сравнении с которыми его сверкающая кожа казалась бледной. Все его лицо было покрыто полосками краски, что делало его похожим на утомленного воина, вернувшегося с битвы только для того, чтобы обнаружить разорённый дом.
И я побежала к нему.
С того времени я так много раз мыслями возвращалась к тому моменту. Проигрывала в голове, как зацикленная. То, как я побежала к нему. То, как наполненная сочувствием обхватила его руками, не испытывая никакого страха. Я держалась за него, пока он стоял там и дрожал, что-то бормоча себе под нос. Думаю, я попросила его рассказать, что произошло. Я точно не знаю. Я лишь помню, что он был холодный, ледяной на ощупь, и я спросила его, не замерз ли он. А Моисей засмеялся, это был всего лишь краткий, саркастический смешок. А затем он оттолкнул меня с такой силой, что я, споткнувшись, упала на пол. Моя поврежденная рука оставила кровавое пятно на светлом ковре. Повсюду было буйство красок, и мой кровавый отпечаток руки выглядел непримечательно. Совершенно непримечательно.
Моисей схватился руками за голову, заслоняя глаза, и повторял что-то насчет воды снова и снова. Губы были единственной частью, которую я могла видеть, и я наблюдала за тем, как они двигаются, произнося слова:
«Вода белая, когда в ярости. Голубая, когда спокойна. Красная, когда садится солнце, черная в полночь. Вода прозрачная, когда падает. Прозрачная, когда течет сквозь мою голову и вытекает из кончиков пальцев. Вода чиста, и она смывает все цвета, все образы».
Я больше не могла это вынести. Оператор 911 сказала мне ждать. Но я не могла ждать. Я не могла оставаться в этом доме больше ни секунды.
И самый первый раз в жизни, я убежала от него.
10 глава Моисей
Я проснулся в комнате с мягкими стенами. Не в камере. В комнате. Но с тем же успехом она могла быть и тюрьмой.
Когда я очнулся, они забрали мою одежду, запротоколировали раны и отметины на моей коже и выдали мне бледно-желтую форму и носки, чтобы было в чем ходить. Меня проинформировали, что я могу получить свою одежду обратно, если буду следовать правилам. Множество разных людей приходило осмотреть меня: доктора, невропатологи, психиатры с небольшими медицинскими картами. Все они пытались поговорить со мной, но я был слишком оцепеневшим, чтобы разговаривать. И, в конце концов, они уходили.
На протяжении трех дней я находился в своей комнате наедине с едой, которую мне приносили, несколькими карандашами для письма и разлинованным блокнотом. Никто не хотел, чтобы я рисовал. Они хотели, чтобы я говорил. Писал в блокноте. Писал и писал. Чем больше я писал, тем счастливее они становились, пока не прочитали то, что я настрочил, и не пришли к выводу о моем негативном отношении и нежелании сотрудничать. Но слова давались мне тяжело. Если бы они позволили мне рисовать, я смог бы выразить свои мысли и чувства. Мне дали указание вести дневник всех своих чувств. Меня просили объяснить, что произошло в доме моей бабушки в День благодарения. Вроде бы есть такая песня о бабушке и Дне благодарения? Уверен, что была, и я по нескольку раз писал ее слова в блокноте, который они предоставили мне.
«Мимо речки в лесной чаще бабушка плутала. Но полиция ее спасла и меня увезла из этого долбанного города, наполненного бледнолицыми».
Это было бессердечно — писать такое о своей бабушке. Но они не имели никакого права что-либо знать о Джи. И я держал ее при себе. Если я должен вести себя как придурок, чтобы они отстали от меня, то так тому и быть.
За всю мою жизнь она была единственным верным и надежным человеком. И она ушла. А я не смог ее найти. Ее не было с остальными, которые ждали меня на другой стороне, желая пройти. И я не знал, какие испытывал чувства по этому поводу. Впервые в жизни Джи оставила меня.
Карандаши, которыми я должен был писать, длинною были не больше пары дюймов. Я едва мог держать их между указательным и большим пальцем. Вероятно, это сделано для того, чтобы затруднить их использование в качестве оружия против самого себя или кого-то еще. И карандаши были тупыми.
После моей попытки шокировать их своей неуместной веселостью, я больше ничего не написал. На третий день я прекратил рисовать на стенах. Когда с карандашами было покончено, и от них ничего не осталось, я сел на матрас в углу и стал ждать.
Пришло время обеда и санитар по имени Чез, крупный чернокожий мужчина с намеком на гавайский акцент в голосе, был легок на помине. Я предполагал, что они поручили меня ему, потому что он был крупнее, а его кожа темнее. Всегда очень осмотрительны в этом плане. Назначить черного мужчину другому черному мужчине. Типичный менталитет белых. Особенно в Юте, где на тысячу жителей приходился всего один черный. Или что-то в этом роде. На самом деле, я не имел никакого представления, сколько чернокожих проживало в Юте. Я только знал, что их было не так уж и много.
Чез от изумления встал как вкопанный, и поднос с моим обедом шлепнулся на пол.
Джорджия
Они забрали Моисея в очень далекую больницу. Два часа пути из Левана до Солт-Лейк. Они увезли Моисея и его бабушку в одной машине скорой помощи, и я очень боялась за него, но потом поняла, что он не был в сознании. Они сказали, что он сопротивлялся.
Они сказали, что понадобилось три мужчины, чтобы удержать его. И они вкололи ему успокоительное.
Я услышала слово «сумасшедший». Псих. Убийца. Да, и это слово тоже. И они забрали Моисея.
Все только и говорили о том, что он убил свою бабушку, съел кусок пирога, приготовленного ко Дню благодарения, а затем раскрасил весь дом. Но даже несмотря на то, что я была напугана тем, что увидела, я не верила в это.
Они провели целое расследование ее смерти, но никто так ничего мне и не сообщил.
Моисей не смог присутствовать на похоронах бабушки. Зато смогла вся ее многочисленная семья, и они плакали так, словно сами убили ее. Они сидели на скамьях в часовне Левана, но не было ни воспевания, ни восхищения достойно прожитой жизнью, хотя Кейтлин Райт заслуживала этого. Она пережила большинство своих друзей, но не всех. Присутствовал весь город, хотя мой злой разум обвинял многих, кто желал занять первые ряды на разворачивающуюся перед ними драму под названием «Моисей Райт». Мать и сын — два сапога пара. Моисей возненавидел бы такое сравнение.
Джози Дженсен играла на фортепиано, и это была единственная вещь, которую я хорошо запомнила. «Аве Мария», предложенная специально в честь Кейтлин. Джози была своего рода знаменитостью в городе из-за ее музыкальных способностей. Она была всего на три года старше меня, и я ей восхищалась. Она воплощала в себе все, чего не было у меня. Спокойная, добрая. С хорошими манерами. Женственная. Музыкально одаренная. Но теперь у нас было кое-что общее. Мы обе обрели любовь, а затем потеряли ее, хотя обо мне этого никто не знал. Нас видели с Моисеем вместе, но ни единая душа не догадывалась о том, что я на самом деле чувствовала.
Люди все еще продолжали говорить о Джози, хоть и делали это качая головой и с печалью в глазах. Восемнадцать месяцев назад Джози Дженсен потеряла своего жениха в автомобильной катастрофе. Так же, как мисс Мюррей, но Джози была помолвлена с местным парнишкой, и ей было только восемнадцать, когда это случилось. На какое-то время город просто сошел с ума. Поговаривали, что Джози впала в безумие, пока все не улеглось. Хотя безумие — понятие субъективное. Вы можете обезуметь от горя, но не быть безумцем в широком смысле этого слова.
Моя мама записала меня на уроки фортепиано к Джози, когда мне было тринадцать. И я старалась только лишь для того, чтобы прийти к выводу, что не все мы рождены с похожими талантами, и игра на пианино никогда не станет моим. Я задавалась вопросом, что если Моисей нарисовал где-нибудь в городе жениха Джози? Но от этой мысли мне становилось плохо.
Через неделю после похорон шериф Доусон пришел к нам домой, чтобы официально сообщить мне, что у них нет ни одной версии, кто бы мог связать меня в последнюю ночь фестиваля. Мы не были удивлены. Нас удивило лишь то, что он, в принципе, заглянул к нам, чтобы рассказать об этом. У них заняло несколько месяцев, чтобы выяснить, что они не имеют никаких зацепок помимо Терренса Андерсона, который был чист. Даже при том, что шериф Доусон не смог бы каким-либо образом доказать это, он казался уверенным, что случившееся было всего лишь неудавшейся шуткой.
У меня не было сил беспокоиться об этом. В моей жизни произошла новая трагедия, и та ночь на фестивале стала малозначительной в сравнении с тем, как Моисею вкололи успокоительное и увезли. Это была мелочь по сравнению с Кейтлин Райт, которая лежала на кухонном полу, укрытая одеялом, пока ее пироги невинно стояли на столешнице. Это не имело значения по сравнению со смятением, в котором я прибывала.
Это случилось, когда шериф Доусон сидел на нашей кухне, так же, как после происшествия на фестивале, — я узнала, что бабушка Моисея умерла от инсульта. Никакого убийства. Инсульт. Родители от облегчения плюхнулись на стулья, даже ни разу не взглянув на меня, и не имея ни малейшего понятия, что эти слова значили для меня. Естественные причины. Моисей не причинял ей вреда. Он всего лишь обнаружил её так же, как нашла её я, и справился с этим тем способом, каким справлялся со смертью. Он нарисовал ее.
— Теперь они отпустят его? — спросила я.
Мои родители и шериф Доусон удивленно посмотрели на меня, словно забыли, что я была здесь.
— Я не знаю, — уклонился от ответа шериф Доусон.
— Моисей — мой друг. И, вероятно, я его единственный друг в целом мире. Он не убивал Кейтлин. Почему он не может вернуться домой?
Эмоции просачивались сквозь мои слова, и родители ошибочно приняли их за посттравматический стресс. В конце концов, я видела смерть совсем близко.
— В действительности, у него нет дома, куда бы он мог вернуться. Хотя я слышал, что Кейтлин оставила ему свое жилье и все, что в нем. Ему уже восемнадцать, насколько я знаю, поэтому он вправе сам принимать решения.
— Он больше не в больнице. Он не пострадал. Поэтому где он? — потребовала я.
— Я точно не знаю.
— Нет, знаете, шериф. Ну же. Где он? — настаивала я.
— Джорджия!
Моя мама хлопнула меня по руке и приказала успокоиться.
Шериф Доусон накинул на голову свою ковбойскую шляпу, но затем снова снял её. Он выглядел напряженным, и ему не хотелось ничего мне говорить.
— Он в тюрьме?
— Нет. Он не там. Они забрали его в другое учреждение в Солт-Лейк-Сити. Он в психиатрической клинике.
Я непонимающе уставилась на него.
— Это больница для душевнобольных, Джорджия, — мягко произнесла мама.
Родители встретили мой ошеломлённый взгляд сдержанными лицами, а шериф Доусон резко встал, словно вся эта ситуация вышла за пределы его компетенции. Я тоже вскочила, мои ноги дрожали, а живот скручивало от тошноты. Я сумела добраться до ванной, не побежав, и даже смогла запереть дверь позади себя, прежде чем меня вырвало пирогом, который мама мне навязала, когда отрезала кусок для Шерифа Доусона. Пирог напомнил мне о Кейтлин Райт и успокоительных.
Моисей
— Ты можешь рассказать мне, что означают рисунки?
Я тяжело вздохнул. Доктор с азиатской внешностью, одетая в свитер цвета бронзы и в очках, придающих ей заносчивый вид, и в которых, вероятнее всего, она не нуждалась, рассматривала меня поверх оправы. Её карандаш был наготове, чтобы сделать записи о моем психическом расстройстве.
— Тебе необходимо поговорить со мной, Моисей. Тогда будет намного легче для нас обоих.
— Вы хотите, чтобы я рассказал вам о том, что случилось в доме моей бабушки. Вот что там произошло, — я взмахом руки указал на стену.
— Она умерла? — спросила доктор, пристально разглядывая сцену смерти моей бабушки.
— Да.
— Как она умерла?
— Я не знаю. Она лежала на кухонном полу, когда я вернулся домой в то утро.
Мне следовало знать, что она умрет. Я видел знаки. Вечером накануне её смерти, я видел, как он парил возле неё. Мертвый мужчина, который выглядел так же, как человек на свадебной фотографии Джи. Мой прадедушка. Я видел его дважды. Пока она спала в своём кресле, он стоял прямо позади её правого плеча. И я увидел его снова прямо за ней, пока она раскатывала коржи для пирогов в среду днем, когда я отправился на старую мельницу, чтобы закончить демонтаж. Он ждал её.
Но я не рассказал это доктору. Хотя, возможно, следовало. Я бы мог сказать ей, что позади её плеча кто-то стоит, ожидая, когда она тоже не умрет. Может быть, это напугало бы её, и она оставила бы меня в покое. Но, на самом деле, за ней никто не стоял, поэтому я попридержал свой язык, в то время как она ждала, когда я заговорю.
Она с минуту что-то писала в записной книжке.
— Как ты себя чувствовал при этом?
Я хотел рассмеяться. Она что, серьезно? Как я себя чувствовал?
— Печально, — произнёс я со скорбным выражением лица и нахмурив брови, не выдавая своих истинных чувств на её нелепый шаблонный вопрос.
— Печально, — сухо повторила она.
— Очень печально, — я поправил свои слова, произнося их таким же безучастным тоном.
— Какие мысли пронеслись в твоей голове, когда ты увидел ее?
Я встал со стула, подошёл к стене и прислонился к ней, полностью заслоняя бабушку от её беспристрастного взгляда. На минуту я закрыл глаза, устанавливая кратковременную связь, немного раздвигая воду, всего лишь до небольшой щели. Я сфокусировался на голове женщины с черными блестящими волосами, стянутыми в идеальный низкий хвост.
Доктор задала мне ещё несколько вопросов, но я концентрировался на том, чтобы поднять воду. Я хотел найти что-нибудь, что заставит доктора бежать, кричать. Что-нибудь подходящее.
— У вас была сестра-близнец? — неожиданно спросил я, когда образ двух маленьких азиатских девочек с косичками и в одинаковых платьях внезапно возник в моей голове.
— Ч-что? — ошеломлённо спросила она.
— Или, может быть, кузина такого же возраста. Нет. Нет. Она — ваша сестра. Она умерла, верно?
Я скрестил на груди руки и ждал, позволяя образам открыться моему сознанию.
Доктор сняла свои очки и хмуро уставилась на меня. Я должен был дать ей это. Не так-то просто было испугать её.
— Сегодня у тебя был посетитель. Её имя Джорджия Шеперд. Её нет в твоём списке. Хочешь поговорить о Джорджии? — парировала она, пытаясь сбить меня с толку.
Моё сердце дрогнуло, когда я услышал её имя. Но я оттолкнул мысли о Джорджии и нанёс удар в ответ.
— Что вы чувствовали, лишившись сестры? — спросил я, не разрывая с доктором зрительного контакта. — Она была такой же невменяемой, как я? По этой причине вы захотели работать с сумасшедшими людьми?
С безумным взглядом я наградил её улыбкой Джека Николсона. Она резко встала и, извинившись, вышла.
Это был первый раз, когда я делал что-то подобное. Это было необычно и странным образом удивительно. Я перестал бы беспокоиться, поверят ли мне. Раз я не имел шансов выбраться из психушки, то мне было все равно. По крайней мере, здесь я был в безопасности. Джи ушла. Джорджия тоже. Я был уверен в этом. И это единственное, что я мог бы теперь сделать для неё. Она видела, как они заталкивали меня в машину скорой помощи. Я боролся. Но когда перед глазами все стало плыть, а мир закружился, я заметил её напуганное, измазанное краской лицо. Она плакала. И это была последняя вещь, которую я видел прежде, чем мир вокруг меня погас.
А теперь я был здесь. И это меня больше не волновало. Моя ненормальность вышла наружу. Джорджия дразнила меня, говоря, что я чокнутый, и поэтому мой талант смог проявиться — неиссякаемый, выдающийся и жестокий.
И так продолжалось в течение следующих двух недель. Сложней всего было, когда психотерапевт или доктор никого не теряли. Были и такие люди. И в таком случае я не имел никого на другой стороне, чтобы использовать против них. Сказать, что весь этаж был потрясен, значит, ничего не сказать.
Они пытались вылечить мое сумасшествие с помощью медикаментов так же, как делали это всю мою жизнь, но лекарства только делали меня еще более чокнутым и практически вводили в ступор. Ничего, что они пробовали, не заставляло меня перестать видеть вещи, которые я мог видеть. И я начал рассказывать им абсолютно все, что мог видеть. Я делал это не из любви или сожаления. Я так поступал, потому что мне уже было на все глубоко наплевать. И я не соблюдал деликатность, сообщая им это. Я обрушивал слова на их голову в стиле Джорджии. Глядя прямо в лицо, рассказывая все, как оно есть.
Джорджия
У моей мамы были связи в системе опеки, и она нашла для меня Моисея. Я не думаю, что она хотела искать его. Но какие бы на то не были причины — может, чрезмерное сочувствие к попавшим в беду детям или из уважения к Кейтлин Райт — она разыскала его. Наши имена должны были внести в список для того, чтобы повидаться с ним. В этот список были включены врачи, ближайшие родственники и люди, которых Моисею разрешили добавить.
В первый раз мама поехала со мной, и мы ждали снаружи служебных помещений, пока не произнесли наши имена и не пригласили в помещение для организации встреч на другом этаже. В здании было несколько уровней с электронными замками и кодами доступа. Но мы смогли добраться не дальше стойки регистрации посетителей. Мы не были родственниками, и Моисей не внёс в свой список ни одного имени. Я задалась вопросом, навещал ли его кто-то из семьи. Я в этом сомневалась. Мама похлопала меня по руке и сказала, что может это и к лучшему. Я кивнула, но знала, что для Моисея так не было лучше. Я должна была попытаться без нее.
Я прогуляла школу и поехала на своей Мёртл в Солт-Лейк, когда предприняла новую попытку вторжения. Или организации побега из тюрьмы. Я бы увезла его, если бы он позволил. У меня заняло три часа, чтобы добраться туда на этом проклятом грузовике. Мне пришлось ехать по крайней правой полосе, вдавливая педаль в пол. Мёртл тряслась даже сильнее, чем я. Мы тщательно обсудили это, и я похвалила Мёртл за рывок вперед, объясняя, что там нечего бояться. Мы не станем торопиться. Машины и грузовики проносились мимо меня с несметным количеством гудков и гневно высунутых кулаков. Но я сделала это. Я снова приехала на следующей неделе и на следующей, каждую неделю в течение месяца. Неделя за неделей, Мёртл никогда не выходила из строя, а Моисей никогда не позволял мне войти.
Наконец, на седьмую неделю в зону регистрации посетителей пришла женщина и проводила меня в уединенную комнату для встреч. Я обратила внимание, как семьи направлялись в такие же комнаты. Мой пульс подскочил, а ладони начали потеть в предвкушении. У меня были большие надежды на то, что я смогу увидеть Моисея. Мне необходимо было увидеть его. Мне необходимо было поговорить с ним.
— Джорджия?
Дама опустила взгляд на свой планшет для бумаг и улыбнулась мне, хотя я могла сказать, что она хотела скорее покончить с этим. Если она была терапевтом или психологом, то ей следовало бы поработать над своим равнодушным лицом. Она проявляла нетерпение и была раздражена, от чего между ее бровей пролегала маленькая складка. Может быть, это из-за того, что я была одета в ковбойские сапоги и джинсы, а волосы были заплетены в длинную косу. Возможно, я выглядела так, что от меня легко избавиться, отмахнуться и прогнать.
— Да? — отозвалась я.
— Тебя нет в списке Моисея.
— Да, мэм. Именно это они мне и сказали.
— В таком случае, почему ты продолжаешь приезжать?
Она снова улыбнулась, при этом посмотрев на свои часы.
— Потому что Моисей — мой друг.
— Кажется, он так не считает.
Боль, которая теперь была моим постоянным компаньоном, разрослась в моей груди еще больше. Я смотрела на доктора в течение долгой секунды. Такая чопорная в своем маленьком белом халате. Готова поспорить, ей нравилось носить этот халат. Вероятно, в нем она чувствовала себя могущественной. Я задалась вопросом, хочет ли она задеть меня, или она просто из тех врачей, которые чувствуют себя комфортно, сообщая плохие новости.
— Джорджия?
Полагаю, она ждала от меня ответа на свое высказывание. Я боролась с навязчивым желанием потереть ладони о джинсы — моя нервная привычка. Деним успокаивал меня.
— Он никогда так не считал. Он всегда отталкивал меня. Но у него больше никого нет.
Мой голос не звучал твердо, и, кажется, ей это понравилось.
— У него есть мы. Мы очень хорошо заботимся о нем. И он добился значительного прогресса.
Это было хорошо. Значительный прогресс — это хорошо. Боль в моей груди слегка ослабла.
— И что дальше? — я расправила плечи. — Куда он направится отсюда?
— Теперь это решать Моисею.
Какая поразительная неопределенность.
— Могу я написать ему письмо? Можете передать ему письмо от меня? Это допустимо?
— Нет, Джорджия. Ему разрешено пользоваться телефоном. Он мог бы позвонить тебе. Он этого не сделал, не так ли?
Я покачала головой. Нет. Он не позвонил.
— Он непреклонен. Он не хочет видеться или общаться с тобой. И мы соблюдаем пожелания, когда можем. Он мало что держит под контролем, и это то, что он хочет.
Я не стану плакать перед этой женщиной. Не стану. Я вытащила из сумочки письмо, которое перед этим написала Моисею, швырнула его на стол прямо перед докторшей и встала. Она могла бы передать его Моисею, выбросить или прочитать своим монстроподобным детям в качестве сказки перед сном. Они могли бы хорошо посмеяться над моей болью. Все, включая Моисея. Что бы ни решила доктор, все было в ее руках. Я сделала все, что могла. Я направилась в сторону двери.
— Джорджия? — позвала она у меня за спиной.
Я замедлила шаг, но не повернулась.
— Он знает, где найти тебя, верно?
Я потянула на себя дверь и открыла ее.
— Может быть, он придет к тебе. Может быть, когда его выпишут, он придет к тебе.
Но он не пришел. Ни тогда, ни еще долгое, долгое время.
11 глава Моисей
Они перевели меня в другую комнату без мягких стен, что было хорошо, потому что мне бы не хотелось рисовать на пространстве над ними. Они говорили мне прекратить рисовать. Но за исключением тех случаев, когда мне связывали за спиной руки, что, очевидно, не одобрялось с тех пор, как меня не признали буйным, я не собирался останавливаться. Они приносили мне чистые листы бумаги и разрешали рисовать вместо того, чтобы писать, пока я рассказываю им о том, что я рисовал, и пока не трогаю стены. Мне не нравилось интерпретировать свои рисунки. Но это было лучше, чем рассказывать истории, которыми было легче поделиться в рисунках.
В конечном счете, они позволили мне посещать групповые сеансы. Это было мое второе или третье занятие, когда Молли решила вернуться. Неожиданно она оказалась там. Я видел боковым зрением, как она мелькала, та, кто, как я думал, ушла. Та, по которой я не скучал. Та, что заставляла меня думать о Джорджии. И это делало меня еще более раздражительным, чем обычно. Я начал искать способ, чтобы меня отправили обратно в мою комнату.
В группе было полно уязвимых людей, которых я бы мог терроризировать. Взрослые всех возрастов с самыми разными видами расстройств и проблем. Их боль и отчаяние были пульсирующей темнотой в моей голове, не имеющие ни цвета, ни света, чтобы вселить надежду или дать шанс на спасение. Мне было восемнадцать, но к некоторым восемнадцатилетним явно относились все еще как к подросткам, зависящим от мнения докторов. Когда же привезли меня, то поселили со взрослыми. Вероятно, дети размещались этажом ниже. Я был благодарен за то, что меня не разместили с ними. Рядом с детьми было бы сложно вести себя бездушно.
Доктор Ноа Анделин, психолог с аккуратной ухоженной бородкой, которую он, скорее всего, носил, чтобы казаться старше, проводил групповые занятия. Он гладил свою бороду, когда думал о чем-нибудь, и это придавало ему вечно печальный вид. Он был слишком молод, чтобы быть доктором, и слишком молод, чтобы быть таким серьезным. И печальным. У него были самые грустные глаза, которые я когда-либо видел. Я испытывал неловкость рядом с ним. И из-за него тоже было сложно вести себя жестоко. Но это было необходимо. Чтобы остаться одному, я должен быть бездушным. Я докучал терапевтам и санитарам, когда мог, а когда не смог бы, то докучал бы пациентам, которые доставали кого-нибудь еще. Как это ни печально, но именно они были теми, кто потерял больше всех. Обычно я держал свой язвительный язык за зубами и отталкивал их мертвых. Я был засранцем, но я не был задирой.
Переход был широко раскрыт, и я сидел, внимательно наблюдая, выискивая информацию, которой мог бы воспользоваться, когда Молли прекратила парить и закружилась прямо перед моими глазами, ее светлые волосы рассыпались по ее плечам. Она показывала мне все те же самые вещи, что и до этого. Я чуть не застонал вслух. Это было не тем, что мне нужно. Но затем она зависла на краю круга между двумя мужчинами напротив и выжидающе уставилась на меня.
— Кто знает девушку по имени Молли? — ляпнул я, не подумав.
Доктор Анделин остановился на полуслове.
— Моисей? Ты хочешь что-то сказать?
Его голос был мягким, как и всегда. Таким мягким и добрым. Это вызвало во мне желание схватить его за грудки и впечатать в стену. У меня было чувство, что где-то глубоко внутри него полыхал пожар. Он старался скрыть свое телосложение под нелепым твидовым пиджаком с накладками на локтях, как у профессора колледжа из сороковых годов. Ему не хватало только курительной трубки. Но он не был хлипким. Я оценил его габариты. Это было свойственно для меня. Кто может причинить тебе вред? Кто представляет физическую угрозу? И Ноа Анделин с печальными глазами и аккуратной маленькой бородкой мог бы сделать и то, и другое, я был убежден в этом.
Как только я произнес слова, то почувствовал себя тупицей. Молли не имела отношения ни к кому из присутствующих. Она была там из-за меня… хотя я понятия не имел, почему.
— Что ты сказал?
Вопрос прозвучал от мужчины, находящегося слева от Молли. Мужчины, который выглядел примерно на мои годы, едва ли достигнувший возраста, чтобы находиться во взрослом отделении. Его зеленые глаза проницательно смотрели на меня, хотя поза была расслабленной, а руки спокойно лежали на коленях. Я мог разглядеть длинный неровный шрам, пролегающий от ладони до середины предплечья. Глядя на него, было ясно, что мужчина очень сильно не хотел жить.
— Молли. Ты знаешь девушку по имени Молли? Мертвую девушку по имени Молли?
Мне следовало бы позаимствовать немного доброты и мягкости у доктора Анделин, но я не сделал этого. Я просто спросил, как есть.
Парень соскочил со своего стула и понесся через круг прямо туда, где сидел я. Я был захвачен врасплох, и у меня не было времени подготовиться, прежде чем его руки вцепились в мою рубашку, рывком поднимая меня на ноги. Я оказался нос к носу с огнедышащим зеленоглазым монстром.
— Ты сукин сын! — выплюнул он мне в лицо. — Лучше тебе рассказать, как, черт возьми, ты что-то знаешь о моей сестре?!
Его сестре? Молли была его сестрой? В моей голове все закружилось, когда он снова толкнул меня, но в этот момент он не хотел получить никаких ответов. Он просто хотел сбить меня с ног. Мы оба повалились назад, опрокидывая мой стул, и я забыл о Молли и наслаждался тем чувством, когда выкинул все из головы.
Мы ударились об пол, колотя друг друга кулаками, а люди кричали вокруг нас.
Я едва не захохотал, когда ударил его в живот, и он незамедлительно ответил мне ударом кулака, поймав взглядом ухмылку на моих губах, на которых оставил кровавый след. Я и забыл, как сильно мне нравилось драться. Очевидно, что брат Молли так же наслаждался этим, потому что понадобились Чез и еще трое других мужчин, чтобы разнять нас. Я отметил тот факт, что Ноа Анделин не раздумывая вмешался в драку и теперь сидел у меня на спине, прижимая мое лицо к полу, чтобы усмирить. Комната превратилась в хаос, но среди перевернутых стульев и мельтешащих ног персонала, пытающегося вывести остальных клиентов из комнаты, я мог видеть брата Молли, находящегося в таком же положении, как и я. Его голова была повернута в мою сторону, а щека прижата к полу, покрытому серым линолеумом.
— Как ты узнал? — произнес он, глядя прямо на меня.
Оглушающий шум вокруг нас слегка затих.
— Как ты узнал о моей сестре?
— Тэг. Хватит! — рявкнул доктор Анделин, все его добродушие иссякло.
Тэг? Что это еще за имя такое?
— Уже больше года прошло, как моя сестра пропала без вести, а этот сукин сын ведет себя так, словно что-то знает о ней? — Тэг проигнорировал доктора Анделин и продолжал. — Думаете, я собираю заткнуться? Подумайте еще раз, док!
Нас обоих подняли на ноги, и доктор Анделин дал распоряжение остаться Чезу и другому санитару, которого я не узнал. Всем остальным он приказал уйти. Полная брюнетка-терапевт по имени Шелли тоже осталась, она болталась где-то позади, делая вид, что собирается задокументировать встречу, пока доктор Анделин поднимал и ставил три стула в центр зала, приказывая нам сесть. Чез стоял рядом с Тэгом, а другой санитар рядом со мной. Ноа Анделин сел ровно между нами. Рукава его рубашки были закатаны вверх, а на губе виднелось немного крови. Похоже, что я попал в него во время инцидента. Чез протянул ему платок, доктор Анделин взял его и промокнул губу, прежде чем пристально посмотреть на нас, выпрямившись на своем стуле.
— Моисей, хочешь ли ты объяснить Тэгу, что ты имел в виду, когда спрашивал, знает ли кто-то девушку по имени Молли?
— Мертвую девушку по имени Молли! — прошипел Тэг.
Чез похлопал его по плечу, напоминания ему успокоиться, и Тэг грязно выругался.
— Я не знаю, его ли она сестра. Я не знаю его. Но на протяжении почти пяти месяцев время от времени я видел девушку по имени Молли.
Они все уставились на меня.
— Видел ее? Ты имеешь в виду, что у тебя были отношения с Молли? — спросил доктор Анделин.
— Я имею в виду, что она умерла, и я знаю, что она мертва, потому что последние пять месяцев я был способен видеть ее, — терпеливо повторил я.
Лицо Тэга почти комично выражало ярость.
— Как ты видел ее? — голос доктора Анделин был невыразительным, а взгляд холодным.
Я скопировал его тон и направил скучающий взгляд в его сторону.
— Так же, как могу видеть вашу мертвую жену, доктор. Она продолжает показывать мне автомобильный козырек и снег, и крупную гальку на дне реки. Не знаю почему. Но, вероятно, вы можете сказать мне.
У доктора Анделин отвисла челюсть, а цвет лица стал серым.
— О чем ты говоришь? — потрясенно произнес он.
Я ждал момента использовать это на нем. И сейчас было самое подходящее время, чем когда-либо. Может быть, его жена ушла бы, и я смог бы сфокусироваться на том, чтобы избавиться от Молли раз и навсегда.
— Она следует за вами по всему помещению. Вы очень сильно скучаете по ней. А она беспокоится о вас. Она в порядке… а вот вы — нет. Я знаю, что она ваша жена, потому что она показывает мне, как вы ждете ее в конце прохода между рядов. День вашей свадьбы. Рукава вашего смокинга слишком короткие.
Я старался быть дерзким, заставить его выйти из роли психолога. Я копался в его жизни, чтобы не дать ему ковыряться в моей голове. Но дикая печаль, исказившая его лицо, заставила меня сбавить скорость и смягчить голос. Я не мог сохранять свою позицию вопреки его боли. На мгновение я почувствовал стыд и опустил взгляд на свои руки. На несколько ударов сердца в комнате стало тихо, как в морге. Подходящее выражение для того момента. Мертвые были повсюду.
А затем доктор Анделин заговорил.
— Моя жена, Кора, ехала на машине домой после работы. Они считают, что она была на время ослеплена солнцем, отражавшимся от снега. Иногда здесь на берегу такое случается. Ее вынесло на дорожное ограждение. Ее машина оказалась в русле реки, перевернувшись вверх дном. Она… утонула.
Он выдавал информацию обыденным тоном, но его руки дрожали, когда он поглаживал свою бородку.
Где-то в течение этого трагического рассказа ярость Тэга испарилась. В замешательстве он переводил сочувствующий взгляд с меня на доктора Анделина. Но с Корой Анделин не было покончено. Словно она знала, что я привлек внимание доктора, и не теряла времени.
— Арахисовое масло, кондиционер для белья Downy, Гарри Конник-младший, зонтики…
Я сделал паузу, потому что следующий образ был очень личным. Но потом я все равно сказал это.
— Ваша бородка. Она любила чувствовать ее, когда вы…
Я должен был остановиться. Они занимались любовью, и я не хотел увидеть жену этого мужчины обнаженной. И его самого я тоже не хотел видеть обнаженным. А я мог его видеть ее глазами. Я резко встал, остро нуждаясь в движении. Слишком много информации, Кора Анделин. Слишком много.
Санитар занервничал и тут же надавил на мои плечи, призывая меня сесть. Я обдумывал наброситься на него и вздохнул. Момент упущен, никто больше не хотел драться. Даже Тэг, который выглядел так, словно его разум превратился в чистый белый лист. Он смотрел на меня с ошеломленным выражением лица.
Но доктор Анделин ушел в себя, его голубые глаза были полны его собственных воспоминаний и чего-то еще. Признательность. Его глаза были наполнены признательностью.
— Это были ее любимые вещи. Она шла вдоль прохода на нашей свадьбе под песню Гарри Конника. И, да. Мой смокинг был немного коротковат. Она всегда смеялась над этим и говорила, что это так на меня похоже. И ее коллекция зонтиков была неконтролируемой.
Его голос надломился, и он опустил глаза на свои руки.
Атмосфера в комнате была настолько наполнена сожалением и интимностью, что если бы остальные пятеро присутствующих были способны видеть то, что видел я, они бы отвели взгляд, чтобы оставить влюбленных наедине. Но я был единственным свидетелем того, как жена Ноа Анделин вытянула руку и провела ею по склоненной голове мужа, прежде чем мягкие линии ее неустойчивой формы слились с трепещущим светом уходящего дня. В комнате находились окна, выходящие на запад, и хотя у меня были свои причины не любить Юту, но закаты к ним не относились. Кора Анделин стала частью заката. Я не думал, что когда-нибудь увижу ее снова. И мне даже не пришлось рисовать.
— Если ты знаешь все это о жене доктора Анделин, тогда я хочу, чтобы ты рассказал мне о Молли, — прошептал Тэг, выпрямившись на стуле и бросая взгляд то на доктора Анделин, то на меня.
Ноа Анделин поднялся на ноги. Я не смотрел на его лицо. Если я расстроил его, то не хотел этого видеть. Я был немного разочарован собой. Где был тот засранец, которым я поначалу решил быть?
— Тэг. Обещаю, мы вернемся к этому. Но не сегодня. Не сегодня.
Он кивнул санитарам, которые казались такими же потрясенными, и нас всех вывели из комнаты.
Джорджия
Я скучала по странным вещам. По его губам и зеленым глазам, и тому, каким милым он мог быть, даже не осознавая этого. Я скучала по ровной гладкой коже его горла, по тому месту, куда зарывалась носом, когда была близко к нему. Я скучала по тому, как кружилась кисть под его пальцами, и как уголки его губ слегка приподнимались, когда он улыбался. Я скучала по мелькающей полоске белоснежных зубов и дьявольском огоньке в его глазах. Так его бабушка называла это. И она была права. Его глаза порочно блестели, когда он был расслаблен или смеялся, или дразнил меня в ответ. Я отчаянно скучала по всем этим вещам.
Самым худшим было то, что я не могла горевать по нему. Я должна была скрывать все свои чувства, в чем я никогда не была хороша. Как говорили в моей семье: «Джорджия несчастна, все несчастны». И я не была счастливой. Я была подавленной. Весь город до сих пор был в шоке по поводу смерти Кейтлин, и даже несмотря на то, что Моисей не задушил ее во сне и не перерезал ей горло, все вели себя так, словно он это сделал. Мои родители были не лучше. Моисей был странным. А странных людей легче подозревать. Странность была пугающей и непростительной. Но я осознала, что по этому его качеству я скучаю тоже — он был странным и удивительным и полностью отличался от всех, кого я знала. И он ушел.
Меня пригласили на бал для старшеклассников, который проводился в последнюю субботу января. И из всех людей именно Терренс Андерсон был тем, кто пригласил меня. Полагаю, он решил, что ему стали нравиться высокие девушки. Или, может быть, он просто хотел заставить ревновать Хейли после того, как они расстались сразу же после начала учебного года. Я подумывала отказать ему. Одному Богу известно, сколько отговорок у меня было. Но мама сказала, что это демонстрация плохих манер, и что я должна быть благодарна за то, что после всего это, наконец, произошло — люди стали двигаться дальше. Я начала истерически смеяться над этим, и мама отправила меня в мою комнату, уверенная, что я заболела. Я плакала до тех пор, пока не уснула, но и на следующий день чувствовала себя не лучше.
Я приняла приглашение Терренса на танцы, но я надела черное платье, потому что у меня был траур, и самые высокие каблуки, какие только смогла найти, чтобы заставить его чувствовать себя глупо. Если он собирался использовать меня, то пусть будет так. Но я не собиралась облегчать ему задачу. И в тот вечер, сидя на скамейке в спортивном зале старшей школы, наблюдая за танцующими парами и, вдобавок, находясь рядом с негодующим Терренсом, я скучала по Моисею еще сильней. Было не сложно представить, как бы он выглядел в смокинге или элегантном костюме. Я бы могла надеть четырехдюймовые каблуки, и он все равно был бы выше меня. И у меня было чувство, что ему бы понравилось мое черное платье, и то, как преобразилось мое тело.
Терренс только и делал, что пялился на мою ставшую более полной грудь, и я осознала, что мой план привел немного не к тем результатам. Из-за каблуков моя грудь оказалась практически на уровне его глаз. В конечном счете, я сняла их и смирилась с неизбежностью танцевать босиком и представлять, что Терренс Андерсон — это Кенни Чесни. Кенни был парнем небольшого роста, знаменитым исполнителем кантри, и он был довольно горяч. К сожалению, я обнаружила, что мои вкусы резко изменились, и ковбои, и певцы кантри, хоть и горячие, уступили место эксцентричным художникам в психиатрических больницах.
12 глава Моисей
Но в ближайшее время мы так и не вернулись к этому. Во всяком случае, не с доктором Анделин. Из-за драки Тэга и меня изолировали на три дня. Ни одному из нас не разрешалось выходить из своих комнат, и я снова вел дневник рисунков, делясь своими «мыслями и чувствами» с помощью рисования. Доктор Анделин принес мне пачку альбомов для рисования и черчения. Хорошего качества. Не то что бумага для печати. Он также принес восковые карандаши. Я не думал, что он спросил разрешения. Я считал, что таким образом он благодарил меня. Такого рода невербальная признательность мне нравилась гораздо больше, чем все, что он мог бы сказать, особенно начиная с того момента, как я не сделал ничего, чтобы он был доволен. Но я позаботился о том, чтобы выразить благодарность по-своему.
Я рисовал и рисовал, пока мои пальцы не свело судорогой, а глаза уже не могли сфокусироваться. И когда я закончил, повсюду были страницы с зарисовками и портретами. Зонтики и галька в ручье, Ноа Анделин с маленькой аккуратной бородкой, смеющийся, со страницы смотрящий на женщину, которая ушла, но не была забыта. Когда в его следующий визит я показал рисунки доктору, он с благоговением взял их и разглядывал на протяжении всего сеанса, не проронив ни слова. И это был самый лучший сеанс.
На третий день нашей изоляции Тэг проскочил в мою комнату и прикрыл дверь.
Я зло уставился на него. Мне казалось, что двери закрывали на замок. Я даже не проверил, чтобы убедиться в этом. Я чувствовал себя тупицей из-за того, что в течение трех дней просидел за незапертой дверью.
— Они прогуливаются вдоль коридора каждые несколько минут и все. Это было до смешного легко. Мне следовало прийти раньше, — произнес он и сел на мою кровать. — Я — Давид Тэггард, кстати. Но ты можешь звать меня Тэг.
Он больше не вел себя так, словно нарывался на драку, и это слегка разочаровывало.
Если он не хотел драться, в таком случае, я хотел, чтобы он ушел. Я тут же вернулся к рисунку, над которым работал. Я чувствовал, что Молли была там, прямо позади воды, ее изображение мелькало за стеной, и я тяжело вздохнул. Я устал от Молли. Но сильней я устал от ее брата. Они оба были невероятно упрямы и несносны.
— Ты сумасшедший сукин сын, — заявил он без всяких предисловий.
Я даже не поднял головы от рисунка, который чертил небольшим кусочком воскового карандаша. Я старался растянуть свои запасы. Они заканчивались слишком быстро.
— Именно это люди говорят о тебе. Что ты сумасшедший. Но я не куплюсь, чувак. Больше нет. Ты не псих. У тебя дар. Безумный дар.
— Безумство, сумасшествие. Не означают ли они одно и то же?
Безумство и гениальность идут бок о бок друг с другом. Мне было интересно, о каком даре он говорил. Он никогда не видел моего состояния, когда я рисовал.
— Не-а, приятель, — произнес он. — Не одно и то же. Сумасшедшим людям необходимо находиться в месте вроде этого. Ты же не принадлежишь ему.
— Думаю, что, вероятно, принадлежу.
Он засмеялся явно удивленный.
— Ты думаешь, что ты сумасшедший?
— Думаю, я чокнутый.
Так говорила Джорджия. Но, кажется, не обращала на это внимания. До того момента, пока заскоки не вышли за грань, и она не столкнулась с одним из них и пострадала.
Тэг наклонил голову, выжидая, но когда я не стал продолжать, он кивнул.
— О’кей. Может быть, мы все чокнутые. Или выжившие из ума. Уж я-то точно.
— Почему? — я поймал себя на том, что спросил его.
Молли снова парила поблизости, и я стал рисовать быстрее, обреченно заполняя страницу изображением ее лица.
— Моя сестра умерла. Я сам виноват. И пока я знаю, что случилось с ней, я никогда не буду в порядке. Я так и останусь выжившим из ума.
Его голос был настолько тихим, что я не был уверен, предназначалась ли последняя часть для того, чтобы я ее услышал.
— Это твоя сестра? — неохотно спросил я.
Я показал свой альбом.
Тэг уставился в изумлении. Затем встал. Потом снова сел. И, в конце концов, кивнул.
— Да, — он с трудом сглотнул. — Это моя сестра.
И он рассказал мне все.
Как оказалось, отец Давида Тэггарда, техасский нефтепромышленник, всегда хотел обзавестись ранчо. Когда Тэг начал влипать в неприятности и напиваться каждую неделю, его отец оставил бизнес, продал свою долю за миллионы и, помимо всего прочего, приобрел пятьдесят акров земли в Санпит-Кантри, Юта, откуда мама Тэга была родом, и перевез туда семью. Он был уверен, что если сможет держать Тэга и его старшую сестру Молли подальше от прежнего круга общения, то ему удастся привести все в порядок. Отец Тэга считал, что для всей семьи перемены пошли бы на пользу. Свободное пространство, много работы, чтобы всех занять, и подходящие и благоразумные люди, окружающие их. Понадобилось много денег, чтобы обеспечить весь процесс.
Но дети не делали успехов. Они взбунтовались. Старшая сестра Тэга Молли сбежала, и больше о ней ничего не было слышно. Младшие девочки-близнецы, в конце концов, последовали за матерью обратно в Даллас, где она подала на развод. Так вышло, что Даллас ей нравился больше, и она винила мужа в исчезновении старшей дочери. Остались только Тэг и его старик. И куча денег, пространства и рогатого скота. Тэг прилагал все усилия, чтобы оставаться трезвым, но когда он не пил, то утопал в чувстве вины и, в конечном счете, попытался покончить с собой. Несколько раз. Что привело его в одну психиатрическую лечебницу со мной.
— Она исчезла. Мы даже не знаем почему. Она справлялась лучше всех остальных. Я думаю, она приняла немного моего дерьма. Я не только пил. У меня были тайники с таблетками повсюду. Я не знаю, почему она взяла их. Может быть, ее проблемы были серьезней, чем я думал. Может, она приняла их, чтобы мне не досталось.
Я ждал, давая ему возможность выговориться. Я знал о том, как она умерла не больше него самого. Это было не тем, чем мертвые хотели бы делиться. Они хотели показывать свои жизни. А не свои смерти. Всегда.
— Она мертва, так ведь? Ты можешь видеть ее, а это значит, что она умерла.
Я кивнул.
— Мне нужно, чтобы ты сказал мне, где она, Моисей. Нужно, чтобы ты выяснил это.
— Это так не работает. Я не вижу всю картину целиком. Только обрывки. Я даже не всегда знаю, к кому именно имеют отношение эти люди. Если я в группе, это может быть кто угодно. Они не разговаривают. Совсем. Но даже, если это не так, то я не могу слышать их. Они показывают мне разные вещи. И я даже не всегда знаю почему. Фактически, я никогда не знаю почему. Я просто рисую.
— Но с доктором Анделин ты знал!
— Его мертвая жена крутилась возле него в течение всего группового сеанса! И она показывала мне, как они занимались сексом, ясно? Не сложно было догадаться!
Я все больше становился взволнованным, и Тэг двинулся ко мне, словно готовый затеять драку.
— Они показывают мне обрывки воспоминаний, и у меня не всегда получается истолковать их. Я вообще этого не делаю, знаешь ли. Я не Шерлок Холмс.
Он толкнул меня, и я подавил в себе желание ответить.
— Итак, ты утверждаешь, что видел мою сестру прежде и понятия не имеешь, что она моя?
— Я видел Молли задолго до того, как встретил тебя!
Озарение словно ударило меня обухом по голове.
Я увидел Молли задолго до того, как встретился с Давидом Тэггардом.
И это не имело никакого смысла. Подобного никогда прежде не случалось. Появление мертвых людей всегда являлось результатом моего контакта с теми, кто был близок им.
— Она ушла. Я нарисовал ее лицо в туннеле, и она ушла.
Я видел ее в ночь смерти Джи. Но это не считается. В ту ночь я видел лицо каждого умершего, который когда-либо появлялся в моей жизни, начиная с рождения. Я только не увидел Джи.
— И она вернулась?
— Да. Но я думаю, она вернулась из-за тебя.
— И что она делает?
Теперь Тэг кричал, находясь на грани срыва, и с пылающими зелеными глазами сжимал в кулаках свои темные волосы. Я знал, что он хотел кинуться в драку. Не потому, что в действительности был зол на меня, а потому что понятия не имел, что делать со своими эмоциями. И я его понимал.
— Она показывает мне разные вещи. Так же, как делают все остальные.
Я понизил голос и продолжал смотреть спокойным взглядом. Было немного странно обсуждать это с кем-то еще.
— Пожалуйста. Пожалуйста, Моисей.
Неожиданно глаза Тэга наполнились слезами, которые он сдержал, и я подавил в себе порыв броситься на него с кулаками, спихнуть вниз и колотить до тех пор, пока он бы снова не стал прежним Тэгом, который хотел избить меня и называл сукиным сыном.
Я отвернулся от него и опустился на корточки, опираясь о стену, и мои глаза наткнулись на рисунок Молли, чьи глаза смотрели с листа из альбома для рисования, который я бросил на пол. Она улыбалась мне в ответ — душераздирающая иллюзия долгой и счастливой жизни. Я закрыл глаза и накрыл голову руками, блокируя Тэга и смеющееся лицо его мертвой сестры. И я пробудил воду.
Я сфокусировался на Молли Тэггард и на ее развевающихся светлых волосах таких же, как у Джорджии. Я тут же потерял концентрацию и ощутил уже так знакомую мне резь в животе, которая появлялась всегда, когда бы я ни позволял себе вспоминать о ней. Но с мыслями о Джорджии туннель, который я разрисовал, возник прямо у меня перед глазами — место, где я забрал девственность Джорджии и необратимо потерял часть себя.
Незамедлительно у меня возникла потребность рисовать, и я зло выругался, крича Тэгу бросить мне альбом и карандаш. Это было не совсем то, в чем я нуждался. И все же это лучше, чем ничего. Мои руки стали ледяными, а шея, наоборот, горела. В своей голове я наблюдал, как полоса земли становилась бледной и размытой, а вода разделилась пополам и вытянулась в две возвышающиеся стены, не оставляя не единой капли на влажной земле.
Они заставили закрасить рисунок Молли в туннеле. Департамент шерифа снабдил меня галлоном (прим. пер — примерно 3,78 л) светло-серой краски, под которой скрылась печальная правда, что дети исчезают бесследно, и мир — пугающее место. И пока я смотрел, краска начала слезать, словно невидимые руки стерли ее, снова открывая Молли, и изогнутые линии, и сверкающие глаза, и улыбку, которая, как теперь я мог заметить, была такой же, как у Тэга. Мы не замечаем очевидных фактов, пока нас не ткнут в них носом.
А затем образы начали заполнять мой разум. Все те же образы, которыми Молли насыщала меня.
— Она всегда показывает мне этот долбаный математический тест!
Мои руки замелькали, и я сделал набросок теста с именем Молли, написанным сверху ровным плавным почерком.
Тест по математике улетучился, словно Молли вырвала его из моих рук. Я не проявлял должного уважения за отметку «А» красного цвета, обведенную в кружок. По всей видимости, Тэг был не единственным членом семьи с характером. Обведенная в круг «А» превратилась в звезду. Всего лишь в простую золотую звезду, которая затем трансформировалась в ночное небо, усеянное вспыхивающими и разрывающимися звездами, словно Молли смотрела на световое шоу. Оно было настолько великолепно и насыщенно цветом, что я выругался, что в моей руке всего лишь карандаш, и попросил Тэга дать мне что-нибудь еще.
Затем Молли показала мне поля, которые выглядели в точности как те, что окружали автостраду, и я еле сдержал проклятия от разочарования. Вместо этого я зарисовал длинные золотистые колосья пшеницы, подбирая оттенок, соответствующий цвету волос Молли, в то время как она заполняла мой разум до тех пор, пока пшеница не превратилась в заросли сорняков возле бетонного тоннеля.
— Остановись! Моисей! — Тэг тряс мое плечо и хлопал меня по лицу. — Какого черта, чувак. Ты рисуешь на стенах! — где-то на фоне звучал голос Тэга. — Хотя мне насрать, что ты рисуешь на стенах.
Но связь была потеряна, и я находился в каком-то оцепенении. И был зол. Я отступил на шаг от усеянного звездами неба передо мной, размытого и затененного, и только наполовину законченного.
Я тяжело дышал, и Тэг тоже, словно он вместе со мной перешел на другую сторону и бегал в поисках своей сестры сквозь поля, которые простирались в никуда и не имели для меня абсолютно никакого смысла.
Он опустил взгляд на рисунки, которые я разбросал по полу, и начал по одному поднимать их.
— Тест по математике? С оценкой «А», обведенной в круг?
— Она красная. Оценка написана красным.
У меня не было возможности проиллюстрировать это с помощью простого карандаша.
— А это эстакада в Нефи?
Я кивнул.
— Нефи всего в часе езды от Санпит. Ты ведь знал об этом?
Я снова кивнул. И Нефи был в пятнадцати минутах севернее Левана. Все дети из Левана ездили на автобусе в школу Нефи. Это был практически один город. И я не собирался приближаться ни к одному из них. Тэг мог просить и умолять, а его обозленные зеленые глаза хоть лопнуть, но я по-прежнему не собирался обратно.
— Что насчет полей?
— Эти поля окружают эстакаду. Там есть стоянка для грузовиков, пара заправок, дешевый мотель и закусочная дальше от съезда, но это все. Это всего лишь поля и автострада, и, пожалуй, на этом все.
— А это что?
Тэг указал на стену, где мой карандаш удручающе недостоверно передал все буйство цветов и вспышек света.
Я пожал плечом.
— Фейерверк?
— Это был праздник в честь четвертого июля, — прошептал Тэг.
Я снова пожал плечом.
— Я не знаю, Тэг. Я не знаю ничего, кроме того, что она показала мне.
— Почему она просто не может сказать тебе, где она?
Тэг снова начал раздражаться.
— Это то же самое, что спросить меня, почему я не могу жить в океане. Или почему я не могу выжать тысячу фунтов (прим. пер. — 453 кг), или почему я не могу летать, черт возьми. Я просто не могу. И никакая концентрация, обучение или внимание к деталям не сделают эти вещи возможными. Это так, как оно есть!
Я поднял свой альбом и осознал, что вырвал из него все до последней страницы, включая рисунки, не имеющие ничего общего с Молли Тэггард. Те страницы тоже были разбросаны по всей комнате. И ни одна не осталась не заполненной. Я начал собирать их, удрученный тем, что мне снова придется перекрашивать стены. Тэг следовал за мной по пятам, по-прежнему вцепившись в страницы, которые подобрал с пола.
— Должно быть, она там, — тихо произнес он, и я остановился, обернувшись в его сторону. Его глаза горели, а плечи были расправлены в сторону.
— Может, так и есть.
Я беспомощно пожал плечами. Я не хотел иметь ничего общего с этим.
— Но можешь представить, если они найдут ее? Особенно, если я укажу им это направление? Они бросят мою задницу в тюрьму. Ты понимаешь это? Они решат, что это сделал я.
Я не сказал «убил» ее. Это казалось слишком равнодушным, чтобы сказать ему такое в лицо, хотя мы оба знали, о чем говорили.
Неожиданно дверь в мою комнату распахнулась, и Чез ворвался внутрь. Его обычно дружелюбное лицо было искажено от тревоги, лишая его неугасающей белозубой улыбки. Облегчение быстро сменило тревогу, когда он понял, что крови нисколько не пролилось, и ни один из нас не лежал на полу выведенным из строя.
— Мистер Тэггард, вы не должны быть здесь! — произнес Чез недовольным тоном.
Затем он заметил мой рисунок, сделанный восковым карандашом, и выругался.
— Только не снова, приятель! Ты же делал такие большие успехи.
Я пожал плечами.
— У меня закончилась бумага.
Чез повел Тэга из комнаты, и тот не возражал, но возле двери он остановился.
— Спасибо, Моисей.
Чез выглядел удивленным из-за таких перемен, но, тем не менее, потянул Тэга, из комнаты.
— Я возьму вину на себя за рисование на стене. Уверен, все поверят мне.
Тэг подмигнул, а мы с Чезом оба рассмеялись.
13 глава Моисей
Тэг был не единственным, у кого завелась привычка прокрадываться в мою комнату для приватного сеанса. Среди людей пошла молва о том, что я мог делать. Что я мог видеть. Что я мог нарисовать. Кэрол, психиатр в возрасте пятидесяти лет, которая никогда не выглядела напряженной и была замужем за своей работой, лишилась своего брата, покончившего с собой, когда ей было двенадцать. Это привело к тому, что она связала свою работу с умственными заболеваниями. Тот самый брат начал показывать мне роликовые коньки и потрепанную набивную игрушку в виде кролика с одним ухом. И я сказал ей о том, что видел. Поначалу она не поверила мне, поэтому я рассказал, что ее брат любил картофельный салат, пурпурный цвет, Джонни Карсона5 и умел исполнять только одну единственную песню на своей укулеле (прим. пер. — гавайский четырёхструнный щипковый музыкальный инструмент, внешне схож с гитарой), которую играл каждую ночь перед тем, как она отправлялась спать. Somewhere Over the Rainbow6 называлась та песня. На следующий день Кэрол отменила прием нейролептиков.
Баффи Лукас была деловитым ассистентом врача-психиатра, которой следовало бы выступать на Бродвее. Она пела, пока работала, и пела песни Ареты Франклин7 лучше самой Ареты Франклин. Она лишилась обоих родителей одного за другим в течение трех месяцев. Когда я спросил ее, отдала ли мама ей лоскутное одеяло, сделанное из ее концертных футболок, она остановилась на середине песни, а затем звонко расцеловала и взяла с меня обещание ничего не утаивать от нее.
Люди приходили и приходили, и они приносили подарки. Бумагу и восковые карандаши, акварель и цветные мелки, и спустя пару месяцев моего пребывания доктор Джун принесла мне письмо от Джорджии. Я чем-то угодил доктору Джун, и полагал, что таким образом она пыталась вознаградить меня. Я не намеревался ей угождать. Доктор Джун мне не особо нравилась. Она увидела рисунок Джиджи. Я намеревался спрятать его, но так и не смог заставить себя убрать от посторонних глаз. Это был набросок мелком. Простой и прекрасный, такой же, какой всегда была Джи. На рисунке она склонялась над ребенком, хотя я убеждал себя в том, что этим ребенком был не я. Джун пристально разглядывала его, а затем подняла на меня глаза.
— Красиво. Трогательно. Расскажи мне о нем.
Я потряс головой.
— Нет.
— Хорошо. Я расскажу о том, что вижу, — произнесла доктор Джун.
Я безразлично пожал плечами.
— Я вижу ребенка и женщину, которые очень сильно любят друг друга.
Я снова пожал плечами.
— Это ты?
— А разве похож на меня?
Она перевела взгляд на набросок, а затем снова на меня.
— Похоже на ребенка. Когда-то ты был ребенком.
Я не ответил, и она продолжила.
— Это твоя бабушка? — спросила она.
— Полагаю, что такое возможно, — признал я.
— Ты любил ее?
— Я никого не люблю.
— Ты скучаешь по ней?
Я вздохнул и задал свой собственный вопрос:
— А вы скучаете по своей сестре?
— Да, конечно, — она кивнула, отвечая мне. — И я думаю, что ты скучаешь по своей бабушке.
Я кивнул.
— Ладно. Я скучаю по своей бабушке.
— Это здравое рассуждение, Моисей.
— Отлично.
Зашибись. Я излечился. Аллилуйя.
— Она единственная, по кому ты скучаешь?
Я хранил молчание, неуверенный, к чему она ведет.
— Она продолжает приходить.
Я ждал.
— Джорджия. Каждую неделю. Она приезжает. И ты не хочешь увидеться с ней?
— Нет.
Неожиданно я почувствовал себя дурно.
— Ты можешь сказать мне, почему?
— Джорджия думает, что любит меня.
Я вздрогнул от этого признания, и глаза доктора Джун слегка расширились. Я дал ей немного пищи для размышлений, всего лишь ложку из блюда под названием «душа», и у нее потекли слюнки.
— Но ты не любишь ее? — произнесла она, пытаясь не подавиться собственной слюной.
— Я никого не люблю, — незамедлительно ответил я.
Разве я уже не говорил об этом? Я сделал глубокий вдох, стараясь успокоиться. Меня радовало, и в тоже время беспокоило, что Джорджия была настолько упорной. И меня беспокоило, что мне это было приятно. Меня беспокоило, что мой пульс ускорялся, а ладони становились влажными. Меня беспокоило, что при упоминании ее имени, перед глазами тут же мелькало целое буйство красок, напоминающее о калейдоскопе поцелуев с Джорджией, навсегда оставшихся в моей памяти.
— Понимаю. И почему? — спросила доктор Джун.
— Просто не люблю и все. Думаю, я не в своем уме.
Чокнутый.
Она кивнула, почти соглашаясь со мной.
— Как думаешь, смог бы ты полюбить кого-нибудь однажды?
— Я этого не планирую.
Она снова кивнула и настойчиво продолжила еще какое-то время, но, в конце концов, ее время вышло. Она получила только одну ту ложку, и это меня радует.
— На сегодня достаточно, — произнесла она, быстро поднимаясь с папкой в руках.
Она вытащила конверт из файла и аккуратно положила его на стол передо мной.
— Она хотела, чтобы я передала это тебе. Джорджия. Я сказала ей, что не стану этого делать. Я сказала, что если бы ты хотел связаться с ней, то так бы и поступил. Думаю, ее это задело. Но ведь это правда. Не так ли?
Я почувствовал вспышку гнева, что Джун вела себя грубо по отношению к Джорджии, и снова беспокойство, что мне было до этого дело.
— Но я решила отдать его тебе, и позволить самому выбрать, хочешь ли ты прочитать его или нет, — она пожала плечом. — Решать тебе.
Сеанс с доктором Джун давно закончился, а я еще долгое время пристально смотрел на то письмо. Я был уверен в том, что именно этого она и ждала. Она думала, что я сдамся и прочту его, и я тоже был в этом уверен. Но она не понимала моих законов.
Я бросил письмо в мусорное ведро и собрал рисунки, которые просматривала доктор Джун. Сверху был один из набросков Джи, и изображение сплетенных фигур заставило меня остановиться. Я достал письмо Джорджии из ведра, аккуратно распечатал его, и вытащил одну единственную страницу с текстом, написанным от руки, не позволяя себе сосредотачиваться на извилистых буквах и «Д», первой букве ее имени, в самом низу. Затем я заботливо свернул рисунок с изображением Джи, так же заботливо, как на наброске Джи склоняется над ребенком. Над ребенком, которым не был я, по крайней мере, больше нет.
Этим ребенком теперь могла бы быть Джорджия, а Джи могла бы приглядывать за ней. Затем я взял этот набросок и засунул в конверт. Я написал адрес Джорджии на другой стороне, и когда тем вечером Чэз принес мне ужин, я попросил его удостовериться, чтобы конверт был отправлен.
Я сунул письмо Джорджии под матрас, где не смог бы видеть его, где не смог бы ощущать его присутствие, и мне не пришлось бы признавать его существование.
Джорджия
Его имя не стояло в левом углу, но на конверте было указано «Монтлейк», и слова, написанные на обратной стороне, были выведены его рукой. Джорджии Шепард, почтовый ящик номер пять, Леван, Юта, 84639. У нас с Моисеем была дискуссия по поводу Левана и номеров почтовых ящиков, и, по-видимому, Моисей не забыл об этом. Единственное, для чего в домах Левана имели почтовые ящики, это газета «Дейли Геральд», на которую было подписано большинство жителей, воскресные комиксы и купоны. «Дейли Геральд» доставлялась разносчиками газет, ходившими по домам. Фактическая почта доставлялась в маленькое почтовое отделение из кирпича, расположенное на главной улице, и распределялась по витиевато украшенным, запирающимся на ключ ящикам. Моя семья имела один из первых номеров, потому что унаследовала свой почтовый ящик по линии Шепардов.
— Значит твоя семья типа леванской знати? — дразнил Моисей.
— Да. Мы, Шепарды, правим этим городом, — ответила я.
— Кто же владеет ящиком под номером один? — тут же поинтересовался он.
— Бог, — произнесла я, нисколько не усомнившись в своих словах.
— А ящиком под номером два? — он смеялся, задавая вопрос.
— Пэм Джекмэн.
— Которая живет ниже по улице?
— Да. Водитель автобуса — профессия, которая высоко ценится в нашем городе.
Я даже не улыбнулась.
— А ящики три и четыре?
— Сейчас они не заняты. Они ждут законных наследников, которые достигнут соответствующего возраста, чтобы унаследовать свои почтовые ящики. Однажды мой сын унаследует ящик под номером пять. Это будет радостный день для всех Шепардов.
— Твой сын? Что если у тебя будет дочь?
Его глаза обрели тот самый суровый взгляд, от которого я чувствовала холодок в животе. Разговоры о детях заставляли меня думать о том, чтобы делать детишек. С Моисеем.
— Она будет первой женщиной-наездницей быков, которая получит национальный титул. Она не будет жить в Леване большую часть времени. Ее братьям придется позаботиться о семейном имени и линии Шепард… и нашем почтовом ящике, — произнесла я, стараясь не думать о том, как бы сильно я наслаждалась, делая маленьких наездниц с Моисеем.
Когда мама передала мне письмо, ее взгляд был напряженным, и я с уверенностью могла сказать, что она хотела бы просто выбросить его и держать Моисея как можно дальше. Но она этого не сделала. Она принесла его в мою комнату, тихо положила на туалетный столик и ушла, не проронив ни слова. Самая лучшая часть в открывании какого-либо долгожданного письма или посылки, это момент до того, как ты узнаешь, что там. Или то, о чем в них говорится. Я ждала месяцами от Моисея хоть чего-нибудь, молилась получить хоть самую малость. Я знала, как только я вскрою его, то либо наполнюсь надеждой, либо получу сокрушительный удар и никогда уже не оправлюсь. И я оттягивала этот момент.
В итоге все закончилось тем, что я отправилась в долгую поездку, взяв письмо с собой и спрятав его внутри пальто так, чтобы оно не помялось. Был февраль, и мы наконец-то дождались снежного циклона после пары очень холодных месяцев, наполненных сухим воздухом. Шел слух, что они нашли останки Молли Тэггард недалеко от тоннеля, где Моисей нарисовал ее. Люди снова начали шептаться и снова пялились на меня, все время стараясь сделать вид, что они не пялятся. Отсутствие снега дало возможность для работы поисковым собакам, чтобы обнаружить ее, но я была рада, что период засухи наконец-то закончился.
Пустынный белый мир с радостью мной приветствовался, и когда я и Сакетт были далеко от всего и всех, я вытащила письмо и очень аккуратно открыла его, будто могла ненароком разорвать что-то важное. Может быть, мой собственный период засухи был закончен раз и навсегда. Я вытянула свернутый кусок бумаги для рисования и бережно развернула, пряча конверт обратно в свое пальто. С трясущимися руками я рассмотрела рисунок. Я не знала, что мне с ним делать.
Он был красивым, но более абстрактным, чем я ожидала. Я хотела конкретики. Я хотела слов. Я хотела, чтобы он сказал мне, что возвращается ко мне. Что он не может находиться вдали от меня. Но я не получила ничего конкретного. Я получила рисунок. Как это похоже на Моисея.
На нем была изображена женщина, но это могла быть любая женщина. Был изображен ребенок, и это мог быть любой ребенок. Женщина была сотворена из витиеватых линий и намеков. Грудь, бедра, обнимающие руки и согнутые ноги окружали и ограждали дитя с проблеском темных волосков. Я смотрела на него долгое время, не зная, что и думать.
Было ли это символично? Преследовало ли какую-то цель? Было ли это его признание в утрате своей бабушки? Пытался ли он сказать мне, что понимает, через что я проходила? Я не знала, как бы он смог. И поэтому я пристально разглядывала прекрасное, немного сбивающее с толку послание от мальчишки, который с самого начала держал меня в недоумении. Через некоторое время мои руки замерзли, Сакетт стал беспокойным, и я направилась обратно домой.
Я поместила рисунок в рамку и повесила на стену, желая ощутить хотя бы капельку умиротворения от взгляда на него, от осознания того факта, что Моисей вообще подумал обо мне. Но, по большей части, я ощущала страх и неподготовленность к тому, что ждало меня впереди. Я по-прежнему была неспособна полностью отказаться от Моисея Райта. Мама взглянула на рисунок и отвернулась, а папа только покачал головой и вздохнул. А я приготовилась к долгому ожиданию.
Моисей
В неглубокой могиле, засыпанной сверху камнями и мусором, в пятидесяти ярдах от того места, где я нарисовал ее улыбающееся лицо, были обнаружены останки Молли Тэггард. Тэг сказал, что стоянка грузовиков, находящаяся неподалеку, называлась «Круг А». Неоновый знак с названием заведения представлял собой красную «А» внутри круга — точно так, как на листке Молли по математике. Я никогда не обращал на нее внимания, проезжая туда и обратно через горный хребет между Леваном и Нефи. Я сотни раз проносился рядом с этой стоянкой и никогда не замечал связи. Был слишком погружен в то, что происходило в моей собственной голове, и явно не являлся Шерлоком Холмсом. Дальняя сторона стоянки упиралась в простирающееся поле, которое переходило в небольшие холмы, а они перерастали в горный хребет, который тянулся вдоль восточной части города и уходил дальше на юг на сотни миль вперед. Между тех холмов вклинилась учебная площадка для игры в гольф, и каждый год примерно четвертого июля возле первой метки для мяча запускали фейерверк. И красную «А», и фейерверк было легко заметить со стороны эстакады, где я нарисовал образ Молли, отмечая место ее упокоения и даже не подозревая об этом.
Тэг плакал, когда рассказывал мне об этом. Сильные, сокрушающие рыдания заставляли его плечи трястись, а мой желудок болезненно сжиматься так же, как это было в ту ночь, когда Джорджия призналась, что любит меня. «Я думаю, ты действительно любишь меня, Моисей», — произнесла она с подкатившими к горлу слезами. — «И я тоже тебя люблю». Я не очень хорошо воспринимал слезы. Я не плакал и не знал, почему другие люди это делали. И Тэг оплакивал свою сестру так, как в моем представлении мне бы следовало оплакивать Джи. Но я не ревел, поэтому просто ждал, когда буря утихнет, и Тэг утрет с лица слезы и закончит свой рассказ.
Тэг рассказал своему отцу обо мне. И по какой-то причине — отчаяние, уныние или, может быть, желание успокоить своего непреклонного сына — Давид Тэггард-старший нанял человека с собакой-ищейкой, чтобы исследовать зону, которую описал Тэг. Она быстро уловила ее запах, и они нашли ее останки. Вот так просто. Была вызвана полиция, и не прошло много времени, как они заявилась в психушку, разыскивая меня. Прежде мне уже задавали вопросы по поводу Молли Тэггард, но теперь у них было тело. Тело, которое было найдено подозрительно близко к месту эффектной демонстрации моего творчества.
Шериф Доусон приехал с еще одним мужчиной. Его помощник был полным, с бледным, одутловатым лицом и рыжими волосами, и по возрасту не намного старше меня. Он ехидно улыбался мне, очевидно, играя роль мерзкого напарника в своем излюбленном полицейском представлении. Своей рыхлой комплекцией и огненными волосами он напоминал мне хмурого пончика.
Шериф Доусон задал мне все те же самые вопросы и еще несколько новых. Он знал, что Давид Тэггард был пациентом учреждения, в котором меня разместили. Он также знал, что именно Тэг рассказал своему отцу, и что затем его отец передал эти слова поисковой команде. И он знал, что вся эта информация поступила от меня. Но в конечном итоге выяснилось следующее. Молли Тэггард была объявлена пропавшей в июле 2005-го года. В июле 2005-го я жил в Калифорнии со своим дядей, его несчастной женой и их избалованными детьми. В июле 2005-го я целый месяц отбывал срок в учреждении для несовершеннолетних преступников по делу, связанному с бандитской группировкой. И это было неоспоримое доказательство. Как только речь зашла об алиби, мое было неопровержимым. Шериф уже это знал из нашего предыдущего разговора в октябре, когда я нарисовал лицо Молли рядом с эстакадой и был задержан для дачи показаний. Но я предполагал, что он или кто-то еще в правоохранительных органах не перестанут верить в то, что в чем-то я все-таки был замешан. То же самое я сказал Тэгу.
— У тебя были какие-либо дальнейшие контакты с Джорджией Шепард? — спросил шериф Доусон уже после того, как закрыл свою папку с файлами и приготовился уходить. Немного странный вопрос после всех остальных, касающихся Молли Тэггард.
— Нет, — сказал я.
Шериф не смотрел мне в глаза, продолжая копаться в толстой пачке бумаг перед собой. Из-за того, что он склонил голову вниз и был без шляпы, я мог разглядеть, как сквозь тусклые волосы просвечивала розовая кожа.
— Вы были друзьями, если я правильно помню, — он продолжал держать голову опущенной, переворачивая следующую страницу.
— Не совсем.
Он вскинул глаза.
— Нет?
— Нет.
Шериф Доусон метнул взгляд в сторону низкого пухлого помощника. Тот ухмыльнулся. Жар возрос в моей груди, и я захотел заглянуть в это жирное лицо. Я не понимал, что означал этот взгляд, но явно что-то скверное скрывалось за ним.
— Хм-м. Но ты был там в ту ночь, когда на нее напали на фестивале, верно? Ты отвез ее домой, убедившись, что с ней все в порядке.
Я ждал. Жар в моей груди распространился до самых ушей. Все это он и так уже знал.
— Мы так достоверно и не выяснили, что произошло в ту ночь.
Он снова сделал паузу и неожиданно захлопнул файл.
— В связи с этим, не было ли у тебя каких-либо видений о том, что могло там случиться? Может быть, фотопортрет или отпечаток пальца на каком-нибудь ангаре? Ну ты понимаешь, что-нибудь, что мы могли бы использовать, чтобы прижать этого мерзавца? Нам не особенно нравятся люди, обижающие наших девушек. Было бы очень здорово привлечь к ответственности того, кто причинил Джорджии вред.
Я ничего не сказал. Я навредил Джорджии. И был уверен, что именно на это он и намекал. После всего случившегося, она была той, кто вызвал полицию в то утро, когда Джи умерла. Она была той, кто стоял снаружи в ожидании приезда скорой помощи. Она была той, кто выяснил, куда меня направили, и приняла тщетные усилия, чтобы увидеться со мной. Но я не считал, что шериф подразумевал именно это. Очевидно, что он считал, что это я связал ее, псих, каким я и был.
Но я ее не связывал. И у меня не было никаких «видений» о том, кто это сделал. Поэтому я сохранял молчание и продолжал сидеть на месте, в то время как он поднялся вместе со своим помощником-пончиком и направился к двери.
— Моисей? — более молодой мужчина вышел, а шериф Доусон приостановился, положив руку на дверную ручку и поместив свою ковбойскую шляпу обратно на свои редкие волосы. — Я слышал, тебя выпускают через несколько дней.
Я слабо кивнул, подтверждая его слова. Он кивнул в ответ и поджал губы, рассматривая меня.
— Что ж, хорошо. Каждый заслуживает право начать все с чистого листа. Но я не думаю, что тебе следует возвращаться в Леван, Моисей, — произнес он, делая шаг в сторону коридора. — Все мы можем получить второй шанс и начать все с чистого листа.
Он вышел, позволяя двери между нами захлопнуться.
14 глава Моисей
Они освободили нас обоих от изоляции, и, к большому моему удивлению, между мной и Тэгом зародилось что-то похожее на дружбу. Может быть, сказалась наша молодость. Может быть, это из-за Молли. Может быть, из-за того, что мы оба находились в психиатрической больнице, и ни один из нас не особо-то хотел покидать ее. Или, как заметил Тэг, потому что мы «опустились так низко, и нет желания карабкаться вверх». Или, может быть, потому, что Тэг своим говором, юмором и образом ковбоя немного напоминал мне Джорджию. Он был моей абсолютной противоположностью. Они бы нашли общий язык, я был уверен в этом. Эта мысль странным образом вызывала во мне ревность, и я еще раз поражался тому, что Джорджия вообще когда-либо хотела меня.
Обычно Тэг мог резко развеселиться и тут же быстро впасть в ярость, он быстро прощал и отпускал обиды. Он ничего не делал наполовину, и иногда я задумывался, а не была ли психушка лучшим местом для него, просто чтобы сдерживать. Но у него также была и плаксивая сторона. Однажды ночью, когда погасили свет, как и всегда незаметно прокравшись по коридору, он пришел ко мне в поисках ответов, которые никто из персонала не смог бы дать ему, ответов, которые, как он думал, есть у меня.
Тэг сказал, что у меня подходящее имя.
— Моисей был пророком или что-то в этом роде?
Я лишь закатил глаза. По крайней мере, мы не обсуждали тот факт, что меня нашли в корзине для белья.
— Мо-и-сей! — Тэг произнес мое имя глубоким голосом, подражающим голосу Бога, напомнив мне старый фильм Чарлтона Хестона «Десять заповедей»8. Джиджи любила Чарлтона Хестона. Я провел Пасху вместе в тот год, когда мне исполнилось двенадцать, и у нас был марафон фильмов с Чарлтоном Хестоном, который вынудил меня возжелать измазать красной краской каждую дверь и сжечь каждый куст в Леване. А ведь я и так размазывал краску по всему Левану. Это все вина Чарлтона Хестона.
Тэг рассмеялся, когда я рассказал ему это. Но смех постепенно стих, когда он резко упал на мою кровать, уставившись в потолок. Затем он обратил внимание на меня, смерив взглядом.
— Если я умру, что случится со мной?
— Почему ты думаешь, что умрешь? — спросил я, говоря, как доктор Анделин.
— Я здесь, потому что пытался покончить с собой несколько раз, Моисей.
— Да. Я знаю, — я указал на длинный шрам на его руке. — А я здесь, потому что рисую умерших людей и выбиваю все дерьмо из каждого, с кем контактирую.
Он ухмыльнулся.
— Да. Я знаю, — но его улыбка тут же померкла. — Когда я не напиваюсь, жизнь просто размалывает меня, пока я не перестаю здраво рассуждать. Так было не всегда. Но сейчас происходит именно так. Жизнь просто отстой, Моисей.
Я кивнул, осознав, что слегка улыбаюсь, вспоминая, как Джорджия читала мне лекции каждый раз, когда я говорил что-то похожее.
— Смех Джорджии, волосы Джорджии, поцелуи Джорджии, остроумие Джорджии, длинные-длинные ноги Джорджии, — пробормотал я.
Я чувствовал себя комфортно рядом с Тэгом и, к своему большому смущению, перечислил список вслух.
— Что?
Я чувствовал себя глупо, но все же ответил честно:
— Пять значимых вещей. Я перечислял пять значимых вещей. Кое-кто обычно делал это всякий раз, когда я жаловался на то, как плоха жизнь.
— Джорджия?
— Ага.
— Она твоя девушка? — спросил он.
— Она хотела бы ею быть, — признался я, но никогда не признался бы, как же я сам ее хотел.
— А ты этого не хочешь? Даже несмотря на ее волосы, ее поцелуи, и ее длинные-предлинные ноги? — он улыбнулся, и это понравилось мне вопреки самому себе. Но я больше ничего не сказал по поводу Джорджии.
— Ты все еще хочешь умереть? — спросил я, меняя тему разговора.
— Поживем-увидим. Что будет потом?
— Большее. Что-то большее. Это все, что я могу тебе сказать. Это не конец.
— И ты можешь видеть, что произойдет дальше?
— Что ты имеешь в виду? Я не могу видеть будущее, если ты об этом.
— Ты можешь видеть другую сторону?
— Нет. Я вижу только то, что они хотят, чтобы я увидел, — произнес я.
— Они? Кто они?
— Любой, кто проходит, — отмахнулся я.
— Они шепчут тебе? Разговаривают? — Тэг тоже говорил шепотом, будто мы говорили о чем-то сакральном.
— Нет. Они никогда ничего не говорят. Они только показывают мне разные вещи.
Тэг содрогнулся и потер заднюю часть шеи, будто пытаясь стереть мурашки, которые подползали вверх по его спине.
— И как же ты понимаешь, что они хотят? — спросил он.
— Все они хотят одно и то же.
И, как ни странно, они своего добивались.
— Что? Что они хотят?
— Они хотят говорить. Они хотят быть услышанными.
Я никогда не выражал это словами, но ответ казался правильным.
— Значит, они не разговаривают, но хотят говорить?
Я кивнул один раз, подтверждая, что Тэг был прав.
— Почему они хотят говорить?
— Потому что к этому они привыкли…? — колебался я.
— Это то, к чему они привыкли, когда были живы? — Тэг закончил за меня.
— Да.
— И как же они общаются?
— Мыслям не требуется плоть и кости.
— Ты слышишь их мысли? — недоверчиво спросил он.
— Нет. Я вижу их воспоминания в своих мыслях.
Я предположил, что это звучало даже более странно, но это было правдой.
— Ты видишь их воспоминания? Всех их? Ты видишь всё? Все их жизни?
— Иногда кажется, что так и есть. Это может быть поток цвета и мысли, и я могу только выхватить случайные вещи, потому что все обрушивается на меня слишком быстро. И фактически я могу видеть только то, что понимаю. Я уверен, им не понравилось, если бы я мог видеть большее. Но не все так просто. Это субъективно. Обычно я вижу отдельные фрагменты и отрывки. И никогда всей картины. Но я неплохо справился с фильтрованием, и когда добился успехов, то это стало больше походить на воспоминания и меньше на одержимость.
Я улыбнулся против своей воли, а Тэг в изумлении покачал головой.
— А есть ли здесь мертвые прямо сейчас? — Тэг начал вращать головой, глядя то направо, то налево, словно, если бы он повернулся слишком быстро, то нечаянно спугнул бы призрака.
— Определенно, — солгал я.
Поблизости никого не было, ничего, что бы могло нарушить тишину, кроме кустарника за моим окном, ветки которого стучали и царапали стекло, и скрипа обуви на каучуковой подошве по линолеуму, когда кто-то торопливо проходил мимо моей двери.
Брови Тэга взметнулись вверх, и он ждал, когда я скажу ему больше.
— Мерлин Монро считает, что ты горяч. Прямо сейчас она дует тебе в ухо.
Тэг тут же начал прочищать ухо, словно в его ушной канал залетел жук и копошился там, пытаясь выбраться наружу.
Я засмеялся, удивляя сам себя, и удивляя Тэга. Обычно он был тем, кто дразнился, а не я.
— Ты прикалываешься надо мной? — засмеялся Тэг. — Так и есть! Проклятье. Я бы не стал возражать, если бы Мерлин действительно захотела ошиваться здесь.
— Да. На самом деле это не работает в подобном ключе. Я вижу только тех людей, кто связан с кем-то, с кем я контактирую или имел контакт. Я не вижу случайных мертвых.
— То есть, когда ты сказал Чезу, что его дедушка оставил кое-что для него, его дедушка показал тебе завещание?
— Он показал мне часть своего воспоминания, как он зашел в банк, как он увидел его, когда приблизился. Затем он показал мне депозитную ячейку.
Мне нравился Чез. Он был сильным, но при этом неизменно жизнерадостным, всегда что-то напевающим и заслуживающим доверия при любых обстоятельствах. Изо дня в день он работал с очень буйными людьми и никогда не терял своей доброжелательности и самообладания.
Когда его дедушка продолжал пытаться проникнуть, я сопротивлялся. Мне нравился Чез, и мне не нужно было оружие против него. У меня не было ни малейшего желания обидеть его. С тех пор как меня приняли, у меня все лучше получалось сдерживать стены воды вокруг себя. Мне нечем было заняться, кроме практики и посещения бесконечных сеансов психотерапии, которые не имели особого воздействия, хотя, что удивительно, и не причиняли вреда. Но постоянный контакт с Чезом, казалось, усиливал связь его дедушки со мной, и я мог ощущать его присутствие на другой стороне, и то, как он ждал возможности пробраться. Поэтому я позволил ему пройти, но только ему одному, подняв стены совсем немного, но как раз достаточно для него.
Дедушка Чеза любил его. Поэтому я рассказал Чезу то, что видел, то, что его дедушка продолжал показывать мне. И Чез слушал, а его глаза становились огромными на его черном лице. На следующий день он не вышел на работу. Но еще днем позже он пришел и поблагодарил меня. И после этого он заплакал. Он был большим, словно гора, черным парнем. Гораздо больше меня. Гораздо сильней меня. Но он рыдал как ребенок и обнимал меня так крепко, что я не мог дышать. И я понял, что это не всегда должно быть оружием. То, что я могу делать, не обязательно должно причинять людям боль.
— Моисей? — Тэг вытянул меня из размышлений.
— Да?
— Не пойми меня неправильно… но, если ты знаешь, что есть что-то большее, и это не что-то плохое, не пугающее, что это не зомби-апокалипсис, и там нет огня и серы… по крайней мере, если судить по твоим словам, тогда почему ты здесь?
Его голос был таким тихим и пронизанным эмоциями, я был убежден, что бы я ни сказал, ему ничего не поможет. Пророк или нет, я не был уверен, знал ли я ответ. Я задумался на минуту, и, наконец, у меня появился ответ, который казался правильным.
— Потому что я по-прежнему буду собой, — отозвался я. — И ты по-прежнему будешь собой.
— Что ты имеешь в виду?
— Мы не можем сбежать от самих себя, Тэг. Здесь, там, на другом конце света или в психиатрической лечебнице в Солт-Лейк-Сити. Я — Моисей, а ты — Тэг. И это никогда не изменится. Поэтому выясним ли мы это здесь или там, но нам все равно придется с этим справляться. И смерть ничего не изменит.
***
Останки Молли Тэггард были доставлены в Даллас для погребения, Давид Тэггард решил выставить ранчо на продажу, и нам с Тэгом обоим была назначена выписка из «Психиатрической больницы «Монтлейк». У меня было немного денег и одежда, хотя я и не нуждался в ней в течение своего пребывания там. Моя одежда была упакована в коробки и отправлена в «Монтлейк», когда собственность моей бабушки была разделена между ее детьми, по крайней мере, та ее часть, которую она не оставила мне.
Спустя примерно две недели, как я поступил в больницу, адвокату позволили увидеться со мной. Он рассказал мне о бабушке. Рассказал, что она умерла от естественных причин, это был инсульт. А затем он поведал, что она оставила мне десять акров земли в северной части города, свой дом, машину и все сбережения на ее счете, которых было не так много. Мне не нужен был дом Джиджи, когда ее не было в нем. Джиджи не ждала моего возвращения. Шериф дал ясно понять, что никто не хотел, чтобы я возвращался. Я спросил адвоката, могу ли продать дом.
Адвокат считал, что никто не купит его. Земля бы продалась — он уже нашел покупателя — но никому не был нужен дом. Маленький город и трагедия вроде этой всему причина. Я попросил его заколотить дом ради меня, что он и сделал. Когда со всеми делами было покончено, двери и окна дома заколочены, похороны Джи оплачены, мои медицинские счета — та часть, которую не покрывал штат — приведены в порядок, земля, мой «джип» и старая машина Джиджи проданы, адвокат принес мне ключи от ее дома и чек на пять тысяч долларов. Это было больше, чем я ожидал, больше, чем у меня когда-либо было и недостаточно, чтобы убраться как можно дальше.
Я предполагал, что моя многочисленная семья теперь любила меня еще меньше, чем раньше, и я знал, что мне были не рады в любом из их домов, что было хорошо. Я не хотел находиться здесь, и это правда. Но я не знал, куда мне податься. Так что, когда Тэг поднял эту тему в ночь перед нашей выпиской, у меня было не так много причин, чтобы остаться.
— Когда выберешься отсюда, куда пойдешь?
Тэг задал мне вопрос за обедом, уткнувшись глазами в свою еду и положив руки на стол. Он мог съесть почти наравне со мной, и я был уверен, что персонал кухни «Монтлейка» насладится маленькой передышкой после нашего отъезда.
Я не хотел обсуждать это с Тэгом. На самом деле я вообще ни с кем не хотел обсуждать это. Поэтому я сосредоточил взгляд на окне левее головы Тэга, давая понять, что разговор закончен. Но Тэг был настойчив.
— Тебе уже восемнадцать. Официально ты не находишься больше в лапах системы. Поэтому куда ты собираешься отправиться, Мо?
Я не знаю, почему он считал, что мог так называть меня. Я не давал на это своего разрешения. Но это было в его стиле. Влезать в мои дела. Подобно тому, как Джорджия обычно делала. Я мельком взглянул на Тэга, а затем пожал плечами, словно это было не так важно.
Я находился здесь несколько месяцев. В Рождество, в Новый год и на протяжении всего февраля. Три месяца в психиатрическом заведении. И я желал того, чтобы остаться.
— Поехали со мной, — сказал Тэг, бросив салфетку и оттолкнув поднос.
Я вскинул на него изумленный взгляд. Я помнил звуки рыданий Тэга, вопли, эхом отражавшиеся от стен коридора, в тот день, когда его привезли и поместили в психиатрическую лечебницу. Он поступил почти на месяц позже меня. Я лежал в своей кровати и слышал, как персонал пытался справиться с ним. На тот момент, я еще не знал, что это был именно он. Только позже я сложил два и два, когда он рассказал мне, что его привело в «Монтлейк». Я размышлял о том, как он напал на меня, размахивая кулаками, о его яростном взгляде в тот момент, о том, как он почти слетел с катушек от боли и душевных переживаний на сеансе с доктором Анделин. Тэг прервал поток моих мыслей, продолжая разговор:
— У моей семьи есть деньги. Мы больше ничего не имеем, зато у нас есть куча денег. А у тебя ни хрена нет.
Я сохранял равнодушие, ожидая продолжения. Это было правдой — у меня ни хрена не было. Тэг был моим другом, первым настоящим другом, помимо Джорджии. Но я не хотел связываться с заморочками Тэга, хорошие они или плохие, а у Тэга было полно и того, и другого.
— Мне нужен кто-то, чтобы быть уверенным, что я не покончу с собой. Мне нужен кто-то достаточно крупный, чтобы удержать меня, если я решу напиться. Я найму тебя, чтобы проводить со мной каждую минуту бодрствования, пока я не пойму, как оставаться трезвым и не иметь желания перерезать себе вены.
Я наклонил голову набок, приведенный в замешательство.
— Ты хочешь, чтобы я сдерживал тебя?
Тэг засмеялся.
— Да. Бей меня по лицу, кидай на землю. Выбивай из меня все дерьмо. Просто убедись, что я трезв и жив.
На мгновение я задумался, смог бы я сделать это ради Тэга. Я был крупным и сильным, но и Тэг не был таким уж щуплым. Бить его, кидать на землю. Удерживать, пока желания напиться или умереть не пройдут. Удивительно, но больше эта идея не казалась столь привлекательной. Должно быть, нерешительность отразилась на моем лице, потому что Тэг продолжил.
— Тебе нужен кто-то, кто верит тебе. Я верю. Должно быть, надоедает быть всегда окруженным людьми, которые считают тебя психически больным. Но я знаю, что это не так. Тебе нужно куда-то пойти, а мне нужен кто-нибудь, кто бы пошел со мной. Это хорошая сделка. Ты хочешь путешествовать, а мне все равно больше нечем заняться. Единственное, в чем я хорош, это драки, а драться я могу где угодно, — он улыбнулся и пожал плечом. — Честно говоря, прямо сейчас я не доверяю себе и не знаю, что могу натворить, если останусь один. И если я вернусь домой в Даллас, то напьюсь. Или умру. Поэтому я нуждаюсь в тебе.
Он сказал это с такой легкостью. «Я нуждаюсь в тебе». Я удивлялся, как такое возможно, что парень вроде Тэга, который дрался шутки ради, мог кому-либо признаться в таком. «Я нуждаюсь в тебе» звучало как «я люблю тебя», и это пугало меня. И это нарушало один из моих законов. Но в тот момент, в то важное утро, когда свобода была у меня в кармане, я должен был признать, что, вероятно, тоже нуждался в Тэге.
Мы были бы странной парочкой. Темнокожий художник и белый ковбой. Это было похоже на начало одной из тех шуток, когда трое мужчин заходят в бар. Но нас было только двое. И Тэг был прав. Мы оба находились в тупике, оба — потерянные. У нас не было ничего, что бы удерживало нас, и не было цели. Я хотел лишь свободы, а Тэг не хотел оставаться в одиночестве. Мне нужны были его деньги, а ему — моя компания. Печально, как и обычно это бывало.
— Мы просто будем двигаться вперед, Моисей. Как ты тогда сказал? Здесь, там, на другом краю света… мы не можем убежать от самих себя. Поэтому мы будем держаться вместе, пока не найдем себя, хорошо? Пока не поймем, как разобраться в себе.
Джорджия
Я не знала, как сообщить новости родителям и как признаться, что они были правы, а я нет. Я не была взрослой. Я была беспомощной маленькой девочкой, какой никогда не хотела быть. Я всегда открыто смеялась над этим качеством. Всю свою жизнь я была стойкой. Я проявляла стойкость и силу, равную парням. Но я не была такой сильной. Я была слабой. Такой чертовски слабой.
Я проявила слабость, и моя слабость породила дитя. Дитя, у которого не было отца. Может, Моисей и не покидал меня. Как он мог, если никогда не принадлежал мне? Хотя я чувствовала себя брошенной. Брошенной и такой одинокой. Но в его оправдание я могла сказать, что, может быть, он был более одинок, может быть, он был тем, кого действительно бросили, но я не могла думать о нем, было легче злиться.
Моисей стал безликим человеком. Для меня это был единственный вариант, чтобы я смогла справиться. Я стерла его образ из воспоминаний и отказывалась думать о нем. К сожалению, безликий мужчина и я породили безликого ребенка, который рос и рос внутри меня, пока уже стало невозможным скрывать его. И я разразилась слезами, то, что я делала так много раз, и рассказала маме, что было между мной и Моисеем. Она села на мою кровать, слушая меня. Джорджия Шепард, та, которая всегда была стойкой, волевой и самоуверенной, превратилась в нерешительную, дрожащую женщину, ведущую себя, как ребенок. Когда я закончила, моя мама была такой тихой. Шокированной. Она не обняла меня. Когда я осмелилась посмотреть ей в лицо, она просто сидела, уставившись на стену, на которой Моисей нарисовал мужчину, превращавшегося в коня. Я задавалась вопросом, стала ли я кем-то другим в ее глазах.
Даже несмотря на ее шок и равнодушную реакцию на мое признание, открыться было облегчением. После месяцев наедине со своим секретом, которые были самыми ужасными в моей жизни, месяцев страха и отчаяния, беспокойства за Моисея, за себя, но больше всего за ребенка, чье лицо я отказывалась представлять, все это я обрушила на нее, не заботясь о том, что перевернула ее мир вверх дном. Я просто не могла больше выносить это.
Когда мы рассказали папе, он был единственным, кто растопил сердце моей мамы. Он встал, подошел ко мне и заключил в объятия. И моя мама расплакалась. В тот момент я поняла, что все будет хорошо, в тот момент я оставила надежду на то, что Моисей вернется.
Часть 2
15 глава
Семь лет спустя
Джорджия
Напротив лифтов вдоль всей стены собралась целая толпа, из-за чего было сложно разобрать, кто ожидал лифта, чтобы подняться наверх, а кто просто наблюдал. Кто-то рисовал на стене. Я не могла разглядеть художника за работой, но количество людей в толпе наводило меня на мысль, что рисунок стоил того, чтобы взглянуть на него. Если, конечно, у меня было бы время или желание стоять посреди больницы и смотреть за тем, как сохнет краска. Прозвучал звуковой сигнал, сообщая, что лифт приехал, и толпа ожидающих слегка сдвинулась, разделяя ожидающих и наблюдателей. Когда двери открылись, я терпеливо дожидалась момента, пока опустеет кабина лифта, и я смогла бы протиснуться внутрь и молча стоять рядом с другими людьми, преодолевая этажи до постели своего отца.
Неделей ранее у моего папы диагностировали рак, и его врач предпринял решительные действия. Накануне отцу вырезали опухоль желудка, врач был настроен оптимистично и давал хорошие прогнозы на излечение рака. Они вырезали большую часть, опухоль не разрасталась, и ему назначали курс химиотерапии, чтобы удалить оставшиеся клетки. Но мы все были напуганы. Мама очень переживала, и я провела ночь вместе с ней и отцом, несмотря на то, что должна была находиться дома, заниматься хозяйством и присматривать за лошадьми. В больнице от меня было мало толку, это уж точно.
Я ускользнула ранним утром и вернулась в номер отеля, в котором мы с мамой на самом деле не особо нуждались, учитывая, что мы обе дремали в креслах в папиной палате. Но мне нужен был душ, сон и немного пространства, чтобы вздохнуть. И после того как получила желаемое, я вернулась, готовая сменить маму, на случай, если бы удалось убедить ее пойти и заняться тем же самым.
Больницы вызывали у меня головокружение и лифты тоже. Поэтому я нашла место в самом дальнем углу, назвав свой этаж девочке, которая любезно нажала нужную кнопку, и стала ждать, когда за молчаливыми посетителями закроются двери. Нас развлекали инструментальной версией песни Friends in Low Places Гарта Брукса, которая в определенный момент моей жизни заставила бы меня вопить в порыве ярости и скандировать текст так громко, что посетителям в лифте было бы невозможно ее слушать. Но в тот день она просто заставила меня вздохнуть, удивляясь тому, куда же катится этот мир.
Двери лифта начали скользить по направлению друг к другу, и мои глаза поднялись к сигнальным лампам, означающим остановку, когда между дверьми мелькнула чья-то рука, и они разошлись от такого посягательства. Мои сапоги добавляли мне роста, делая выше моих природных пяти футов девяти дюймов (прим. пер. — примерно 1,76 см), и я стояла прямо посередине, прислонившись спиной к зеркальной стене кабины. Люди тут же расступились, освобождая место еще для одного человека, но ничего не загораживало мой взор и мое лицо, когда Моисей Райт шагнул в лифт. В течение нескольких секунд, а может даже больше, мы стояли в пяти футах (прим. пер. — примерно 1,5 м) друг от друга лицом к лицу. Двери захлопнулись за его спиной, но он не отводил взгляда. Он выглядел потрясенным, даже шокированным. Я хотела, чтобы он повернулся лицом к двери, как это делают нормальные люди. Но он никогда не был нормальным. И он так и остался неподвижным, уставившись на меня, поэтому я прервала зрительный контакт и сосредоточила взгляд в точке соединения потолка и стены в правом углу, концентрируясь на дыхании, чтобы не начать кричать.
Лифт слегка подпрыгнул перед остановкой, и двери снова открылись, позволяя людям передвигаться и меняться местами. Я сделала шаг влево, когда пространство освободилось, отодвигаясь как можно дальше от Моисея, чтобы грузный мужчина в бейсбольной кепке разделял нас. Моисей передвинулся в противоположный от меня угол, однако я отказывалась повернуть голову и посмотреть, так же ли усердно он игнорирует меня, как я его.
Этаж за этажом шарканье и перемещение людей продолжалось, пока они входили и выходили, а я задавалась вопросом, кого Моисей пришел навестить здесь, и в тоже время молилась о том, чтобы мы не вышли с ним на одном этаже. Когда мы достигли верхнего этажа, Моисей по-прежнему стоял в углу. Вместе с еще двумя посетителями я последовала к выходу, уверенная, что Моисей идет прямо позади меня. От этого моя спина напряглась настолько сильно, что я не была уверена, смогу ли вообще идти. Но его не было.
Когда двери лифта закрылись за мной, я украдкой оглянулась через правое плечо, желая знать, не упустила ли я момент, когда он вышел. Но там никого не было кроме меня. Загорелась стрелка вниз, лифт зашумел и начал спускаться. Мне стало интересно, не доехал ли он до самого верха, только чтобы заставить меня испытывать неудобство.
Прошло почти семь лет. Целая жизнь. Или две. Или три. Его жизнь, моя жизнь, наши жизни. И все три изменились до неузнаваемости. Хотя он не очень сильно изменился. Он по-прежнему был Моисеем. Может, стал чуть выше. Возможно, более мускулистым. И, определенно, гораздо старше. Хотя двадцать пять лет — не такой уж большой возраст. Его волосы по-прежнему были очень коротко стрижены, гладкие и жесткие, подчеркивающие правильную форму головы. Мало что изменилось в его внешности — все те же глаза, широкий рот, черты лица и угловатый подбородок. Все это было именно таким, как я запомнила. Точь-в-точь, как я запомнила, несмотря на то, что я редко позволяла его образу всплывать в моих воспоминаниях. В конечном счете, я должна была освободиться от него. Должна была сделать его таким же безликим, как люди на рисунке, который он прислал мне, на рисунке женщины с ребенком, который стал мне очень дорог, и в тоже время насмехался надо мной каждый раз, когда я на него смотрела.
Он исчез бесследно. Просто испарился. Они увезли его тем утром в День благодарения, и кроме этого рисунка я ничего не получала от него и ничего не слышала. Он просто уехал. И из-за всего этого, из-за того, что прошло так много времени, мне, наверное, должна была бы потребоваться минута, чтобы узнать его, отреагировать. Но этого не случилось. Один взгляд, и мое сердце словно оглушительно ударило в гонг, звук которого громко отдавался в моей голове и распространялся до самых конечностей, заставляя меня дрожать и осматриваться вокруг в поисках стула. Но там не было ничего, кроме бесконечных коридоров и вереницы дверей, и я сползла вниз по стене, ударившись задницей об пол, и прижала свои длинные ноги к вздымающейся груди, чтобы было куда положить голову. Моисей Райт. У меня было такое чувство, что я встретила призрака. А я не верила в призраков.
Моисей
Мой гость был одет в пижаму с Бэтменом и без обуви. Он был маленьким, но я провел не так много времени с детьми, чтобы знать наверняка насколько маленьким. Ему могло быть где-то от трех до пяти, хотя я бы предположил, что скорее меньше, чем больше. Его волосы представляли собой копну темных кудряшек, а карие глаза были серьезными и слишком большими для детского лица. Он просто стоял у подножья моей кровати, и когда я утомленно взглянул на него, наклонил голову и посмотрел на меня так, словно я был той самой причиной, по которой он там находился. Мою шею опалило жаром, и я рефлекторно зашевелил пальцами, желая, чтобы в них оказался карандаш, мелок, хоть что-нибудь, чтобы покончить с этим как можно скорее. Прошло уже достаточно много времени. Я почти начал верить в то, что мои стены непроницаемы, не считая случаев, когда я намеренно приподнимал их.
Я рано уснул под успокаивающий шум дождя, тихо барабанящего по железной крыше, и ветра, заставляющего стены склада слегка дрожать. Я нашел это место почти два года назад, оно подошло мне. Оно находилось в деловом центре Солт-Лейк-Сити, расположенное вблизи Центрального вокзала в заново отстроенном районе, который задержался где-то на границе между реставрацией и разрушением. Справа за углом размещался приют для бездомных, а слева — люксовый спа-салон. В двух кварталах севернее стоял ряд многоквартирных домов, построенных в начале 1990-х годов, в двух кварталах южнее — торговый центр. Эта часть города представляла собой нагромождение всего, что только можно, совершенно сбивая с толку, и потому сразу приносила ощущение комфорта. Часть склада была переделана в офисные помещения, но благодаря жилому массиву, разместившемуся впритык, у владельцев появилась возможность организовать квартиры на каждом этаже.
Я взял квартиру на самом верхнем этаже, а также все свободное пространство, что прилагалось к ней, заполняя все доступные стены и балки рисунками, которые, как я уже понял, было легко продать, особенно, когда они персонализированы. Люди приезжали ко мне со всего мира. Я общался с их умершими близкими, рисовал то, что видел, и люди уезжали домой с подлинником Моисея Райта. И я быстро на этом разбогател.
Я сделал себе репутацию. У меня был лист ожидания в милю длинной и секретарь в придачу. Поначалу моим секретарем был Тэг. К тому же это была его идея. Мы путешествовали по Европе, когда случилась неприятность, и в поезде, пока мы спали, украли все наши вещи. К тому времени, как мы сошли с поезда во Флоренции, я заработал тысячу евро, а Тэг наслаждался возней с богатенькой итальянкой, потерявшей мать годом раньше. Девчонка свободно говорила по-английски, и она в буквальном смысле забросала меня деньгами, когда я выпалил одним духом целый список вещей, узнать которые я бы никак не смог, если только ее мать не показала бы их мне. Что она и сделала в рисунках пастелью, наполненных цветом, очень похожих на пейзаж за окном поезда. Итальянка плакала на протяжении всей нашей «сессии» и расцеловала меня в обе щеки, когда я закончил. Но, конечно же, Тэг был именно тем, кто перепихнулся. Тем не менее, я сделал набросок девушки, танцующей в волнах прибоя, такой, какой мама запомнила ее лучше всего.
Поначалу я был так напуган, неохотно распахивая двери, особенно когда у меня возникло ощущение, что я наконец-то обрел немного свободного пространства и немного контроля. Я рассказал Тэгу, насколько силен был мой страх.
— Я наконец-то могу их блокировать. Не все время, но впервые в моей жизни мертвые не находятся везде, куда бы я не посмотрел. Я могу блокировать их воспоминания, их образы, их просьбы. Я достиг больших успехов в этом. Впервые в жизни у меня появилось ощущение контроля, — произнес я.
— Но?
— Но так мне сложней рисовать. Канал закрыт, и мой разум так же заглушается. Я не могу рисовать. Посмотри, когда я обрушиваю стены, я гашу все цвета, смываю их. А мне нужен цвет, чтобы рисовать. Я хочу рисовать. Мне нужно рисовать, Тэг. Я не знаю, что мне делать. Это палка о двух концах.
— Так контролируй это. Используй. Когда жарко, я включаю кондиционер. Когда становится холодно, я его выключаю. Нельзя поступить так же? Позволь цветам наполнять тебя, когда ты рисуешь. Когда нет — отстранись от них.
Тэг небрежно пожал плечами, словно это было самой простой вещью на планете. Это вызвало у меня смех. Пожалуй, я бы мог поэкспериментировать.
— Да. Хорошо. Но если я начну рисовать вещи, которые не следует, и меня обвинят в убийстве или ограблении, или какой-нибудь парень придет за мной, потому что я сделал рисунок его умершей жены, занимающейся сексом с кем-то еще, то ты должен будешь вытащить меня из тюрьмы… или психушки.
— Ну, ты же не станешь утверждать, что мы не делали этого раньше, верно? Жестокость и искусство. Выигрышное сочетание.
Тэг засмеялся, но я мог заметить, что настроен он серьезно. В скором времени у нас появилась работа, где только можно.
Я рисовал на стене в Брюсселе, на двери часовни в маленькой французской деревушке, сделал портрет в Вене, несколько натюрмортов в Испании, и, как и в старые добрые времена, оставил рисунок и на стене конюшни в Амстердаме. Не все проходило успешно. Нам приходилось срываться с нескольких мест, но чаще всего Тэг находил кого-нибудь говорящего по-английски, чтобы интерпретировать то, что я нарисую, и люди приходили в восхищение. А затем рассказывали своим друзьям.
В итоге все закончилось тем, что я стал трудиться в Европе, получая деньги за то, что создавал иллюстрации, открывал себя тому, что всегда считал проклятьем. Но, что более важно для меня, я увидел все произведения искусства, посмотреть которые всегда мечтал. Я любил заполнять голову изображениями, не имеющими никакого отношения ко мне или мертвым. Пока однажды я не осознал, что жизнь подражает смерти, особенно в произведениях искусства. Все искусство прошлого тесно связано со смертью — художники умирают, а их творчество остается, как доказательство мира живых и мира мертвых. Это осознание было впечатляющим. Я не чувствовал себя таким одиноким или странным. Порой, глядя на что-то поистине грандиозное, мне даже казалось, что все художники общались с духами.
Мы провели четыре года, путешествуя, и делили мой заработок с Тэгом. Без него я не смог бы заниматься этим. Его харизма и поддержка в каждой ситуации заставляли людей верить нам. Если бы я ездил один и рисовал образы умерших, то напомнил бы людям об инквизиции и, привязанный к столбу, был бы сожжен, как колдун, или отправлен в психиатрическую лечебницу. Не раз образы «Бедлама»9 крутились в моей голове, пока мы три месяца жили в Англии. Харизма Тэга притягивала людей, но вот его внимание нуждалась в концентрации. А Тэг не был хорош в концентрации на чем-либо кроме следующей работы, следующего представления, следующего доллара. Когда мы вернулись в Штаты, то продолжили то, чем занимались в Европе, посещая один большой город за другим, рисуя то для одного богатого мецената, то для другого. Тэг всю свою жизнь был богатым ребенком, богатым техасцем. Это немного отличалось от богачей-ньюйоркцев, но обеспеченные детишки везде одинаковые. И он уютно чувствовал себя везде, тогда как я нигде не чувствовал комфорта. Но надо отдать ему должное, он заставлял меня чувствовать себя увереннее, чем когда-либо, и с его помощью я тоже стал богатым парнем. Мы провели следующий год, посещая один штат за другим, одну достопримечательность за другой, одного скорбящего за другим, пока однажды не решили, что пришло время дать людям возможность приходить к нам самим.
Тэг устал играть в менеджера Моисея Райта, и у него были свои собственные мечты о крови и славе (буквально), и я устал от постоянного отсутствия места жительства. Всю свою жизнь я скитался, и убедился, что готов для чего-то большего. Мы очутились в Солт-Лейк-Сити, там, где все началось, и по каким-то причинам остаться здесь казалось правильным. Я вернулся, как и обещал доктору Анделин, который следил за тем, как мы с Тэгом разъезжаем по всему миру, оставаясь в живых и, по большей части, не влезая в неприятности. Я согласился сделать рисунок на стене в «Монтлейке», что-нибудь обнадеживающее и успокаивающее, чтобы они могли указывать на него и говорить: «Видите? Сломленный ребенок нарисовал это, и вы тоже сможете!»
Ноа Анделин был так счастлив видеть нас. Его неподдельное удовольствие нашими успехами, нашей дружбой и мягкая забота о нашем благополучии привели сначала к ужину, а позже на той же неделе мы пропустили по стаканчику. И именно доктор Анделин был тем, кто надоумил нас по поводу квартир в здании склада, полагая, что это могло бы нас заинтересовать.
Я беспокоился, что Тэгу придется сидеть на одном месте, хотя он нуждался в движении так же, как я нуждался в рисовании, и путешествие на протяжении нескольких лет удовлетворяло всем нашим нуждам, поддерживая нас обоих в здравом уме. Но Тэг арендовал этаж подо мной, вместо арт-студии он превратил свободное пространство квартиры в тренажерный зал и увлекся местной тусовкой, устраивающей бои, сочетая боевые искусства, бокс и рестлинг. Активность позволяла ему оставаться трезвым и сфокусированным. Вскоре он только и делал, что говорил о поединках, линии одежды для бойцов под названием «Команда Тэга» и собирал спонсоров, чтобы открыть новое помещение для местных бойцов, где те могли бы тренироваться для соревнований UFC (прим. пер. Ultimate Fighting Championship (Абсолютный бойцовский чемпионат) — спортивная организация, базирующаяся в Лас-Вегасе, США, и проводящая бои по смешанным единоборствам). Пока я рисовал, он молотил кулаками, пока я поднимал воды, он поднимал шум, и мы устроились каждый на своем этаже, держа своих монстров в узде.
Мы очень близко подошли к тому, чтобы найти самих себя, и оба учились, как с этим жить. И теперь, находясь в собственной постели, в своем собственном жилье, окруженный своими собственными вещами и живя собственной жизнью, меня разбудил Бэтмен, который у подножия моей кровати. И этот маленький нарушитель спокойствия вызвал у меня раздражение. Я перевернулся и сконцентрировался на воде, на том, чтобы она хлынула на меня сверху, и этот мальчик, мой маленький гость, ушел бы. Ранее в больнице я явно прихватил с собой кого-то отставшего. Пожимать руки, давать автографы и пытаться рисовать, в то время, как вокруг собирается толпа, было для меня наименее любимой работой.
Мне не нравилось рисовать в больницах. Я видел вещи, которые видеть не хотел. Я всегда мог сказать, кто именно из тех людей не выживет. Не потому что они выглядели более нездоровыми, чем другие. Не потому что я видел их медицинские карты или случайно услышал болтовню медсестер. Это было легко понять, потому что умершие, связанные с ними, всегда парили поблизости. Без исключения умирающие будут с компаньоном возле своего плеча. Так же, как это было с Джи, прежде чем она умерла.
Несколько лет назад я расписывал стену в детском отделении больницы во Франции. Вереница детей, пациентов, больных раком, наблюдали со своих кроватей, как я создавал бурлящий карнавал, дополненный танцующими медведями и клоунами, выполняющими «колесо», и слонами в полном облачении. Но я видел умерших, стоящих плечом к плечу с тремя детьми, но не для того, чтобы утащить их в ад или еще что-то более зловещее. Это не напугало меня. Я понимал, почему они были там. Когда придет время, а это случилось бы скоро, у тех детей был тот, кто встретит их и радушно примет дома. К тому времени, как я закончил стенную роспись, эти трое детей умерли. Это не вызвало у меня страха, но мне это не понравилось. Больницы были наполнены умершими и умирающими.
Рисунок, который я сделал для доктора Анделин и «Психиатрической больницы «Монтлейк» поспособствовал созданию еще нескольких по всей долине. Онкологический центр обратился ко мне около месяца назад, оказав небольшое давление и слегка заломив руки, и я, в конечном счете, согласился пожертвовать свое время и талант и сделать еще один рисунок на стене, наполненный надеждой и счастьем. Это принесло с собой немалое внимание общественности. Внимание, которого я не хотел, и в котором не нуждался. Но Тэг искал спонсоров для своего клуба, и когда он сказал мне, что один из самых главных покровителей больницы был в его списке, я позаботился о том, чтобы этот покровитель узнал, что моя цена за роспись — пожертвование в «Команду Тэга». Но этот рисунок на стене оставил на мне отпечаток.
Я устал. Просто невероятно. И, может быть, изнеможение сделало меня более уязвимым перед привидением маленького мальчика и воспоминаниями, которые лучше не ворошить. Встреча с Джорджией спутала все мои мысли и вернула обреченность, которую ощущал прежний Моисей. Моисей, который не мог себя контролировать. Моисей, который полностью растворялся в рисовании. Я ни за что не хотел бы возвращаться в Леван, или к Джорджии, или к прошлым временам. Я никогда не хотел возвращаться, поэтому на все эти годы я завалил камнями воспоминания о Джорджии и похоронил их на дне моря. Но каждый раз, когда я разделял воды и позволял проникать воспоминаниям других людей, мои собственные воспоминания, связанные с ней, поднимались на поверхность, и я думал о ней. Я вспоминал о том, как желал ее и ненавидел, как хотел, чтобы она оставила меня в покое, и, в тоже время, никогда не отпускала. И я скучал по ней.
И когда я скучал по ней, то составлял список вещей, которые ненавидел. Пять ненавистных мне вещей. У нее всегда было пять вещей, за которые она была благодарна, а у меня — ненавистных. Я ненавидел ее невинность и ее легкую жизнь. Я ненавидел ее провинциальную речь и провинциальные взгляды на жизнь. Я ненавидел то, как она думала, что любит меня. Это было хуже всего.
Но было в ней и то, к чему я не испытывал ненависти. Так много вещей, которые я бы не смог возненавидеть. Ее огонь, ее склонность к упрямству, то, как ее ноги оборачивались вокруг меня, ее глаза, сконцентрированные на мне, требующие, чтобы я дал ей все, в то время как я старался взять ее и не влюбиться. Она хотела всего этого. Все до последнего, скрытого уголка моей души.
Она по-прежнему была такой же красивой.
Я вытащил подушку из-под головы и простонал в нее, пытаясь подавить воспоминания об ошеломленном выражении лица Джорджии и широко раскрытых карих глазах, впившихся в мои. Она повзрослела, ее бедра и грудь округлились чуть больше, а лицо, напротив, стало худощавым, из-за чего сильнее выступали скулы. Словно юношеская полнота покинула ее лицо и обосновалась в более подходящих местах. Она стала женщиной, с прямой осанкой и твердым взглядом. Даже в тот момент, когда она увидела меня и узнала, то не дрогнула и не ретировалась.
Но встреча со мной потрясла ее. Так же, как потрясла меня. Я понял это по тому, как она стиснула губы и сжала пальцы. Я понял это по тому, как она вздернула подбородок, а ее глаза вспыхнули. А затем она, отрешившись, отвела взгляд. Когда лифт остановился, и двери открылись, она вышла, больше не удостоив меня вниманием. То, как двигались ее длинные, обтянутые джинсами ноги было одновременно и мучительно знакомо, и совершенно ново. Двери закрылись, но я не вышел, несмотря на то, что мы достигли верхнего этажа. Я пропустил свой этаж. Я не хотел уходить. Поэтому вместо этого позволил уйти ей. Самое малое, что я мог сделать. Я не знал, почему она там была и что делала. И она не улыбнулась и не обняла меня, как делают старые друзья, случайно встретившие друг друга через много лет.
Я был рад этому. Ее подлинная реакция говорила о большем. Она отражала мою собственную. Если бы она улыбнулась и затеяла бессмысленную болтовню, мне бы пришлось записаться на прием к доктору Анделин. На несколько приемов. Это бы подкосило меня. Воспоминания о Джорджии неотступно преследовали меня больше шести лет, и, судя по ее лицу, когда я шагнул в лифт, она тоже помнила меня. Было в этом какое-то утешение. Слабое, но — утешение.
Я приподнял подушку и выглянул из-под нее, чтобы посмотреть, ушел ли он. И с облегчением выдохнул. Маленькая мышь улетела. Засунув подушку под голову, я перевернулся на другую сторону.
Грязно выругавшись и резко подскочив на кровати, я отшвырнул подушку. Он не ушел. Он просто переместился. Он переместился так близко, что я мог рассмотреть длину его ресниц и изгиб верхней губы, и то, как загнулись края липучки на его черном плаще.
Он улыбался, демонстрируя ряд маленьких белых зубов и ямочку на правой щеке. Я тут же пожалел о вырвавшемся из меня потоке брани, а затем снова выругался теми же самыми словами и с той же громкостью.
Я почувствовал, как надвигающиеся чужие мысли словно щекочут мой разум, и я вскинул руки в знак капитуляции.
— Прекрасно. Покажи мне свои картинки. Я нарисую парочку и прилеплю их на свой холодильник. Я не знаю, кто ты, поэтому не могу послать их твоим родным, но давай, вперед. Дай мне увидеть их.
Воспоминания, похожие на крылья бабочки, сначала лишь слегка толкались, но затем расправились в полную силу и ворвались в мой разум, заполняя мою голову образами белой лошади, чья задняя часть была покрыта черными и коричневыми пятнами, словно какой-то художник начал заполнять белое пространство, но отвлекся и ушел, не закончив свою работу.
Лошадь тихо ржала и скакала галопом вдоль маленького загона, и я почувствовал удовольствие, которое испытывал этот маленький мальчик, наблюдая за тем, как она трясет своей белой гривой и топает изящными ногами.
Калико10. Я узнал ее кличку, когда он позвал ее. Лошадь пустилась рысью по загону, а затем подошла ближе. Так близко, что ее вытянутая морда, представшая у меня перед глазами, стала просто огромной. Я почувствовал ее дыхание напротив своей ладони, и осознал, что мог не только слышать то, что мальчишка говорит ей, как он уже этого сделал, но и мог ощутить взмах его руки, словно это была моя собственная, когда он двигал ею от пятна между ее глаз до сопящих ноздрей, которые толкались в мою грудь. Не в мою грудь. В его. Воспоминание, которым он поделился, было таким отчетливым, таким прекрасным, будто я сидел на изгороди вместе с ним, и осязал и слышал все те же самые вещи, что когда-то видел он.
— Самая умная и самая быстрая лошадь во всем округе кактусов.
Я снова услышал голос мальчика в своей голове, когда пробирался сквозь его воспоминания, видя не просто отдельные кадры, а целый видеоролик. Звук был приглушенный, словно домашнее видео на слишком низкой громкости. Но он был там, был частью воспоминаний — тонкий голосок, комментирующий происходящее.
А затем воспоминание, как и бабочка, запорхало и рассеялось, и на мгновение мой разум был пуст и отключен, словно сломанный экран телевизора.
Иногда мертвые показывали мне совершенно странные вещи — вещи, которые не имели никакого смысла. Листовки, или насаждения, или миску с картофельным пюре. Я редко понимал, что они хотели сообщить. Только то, что они хотели о чем-то рассказать. Спустя время я пришел к заключению, что обыденные вещи не были такими же обыденными для них. Вещи, которые они показывали мне, всегда отражали какое-то воспоминание или момент в жизни, так или иначе, имеющее для них большое значение. Насколько именно большое, я не всегда знал, но становилось ясно, что самые простые вещи были самыми важными, а предметы сами по себе были совсем не так уж важны. Мертвые не заботились о земельной собственности или деньгах, или наследстве, которое передавали из поколения в поколение. Но они крайне беспокоились о людях, которых покинули. И эти люди притягивали их обратно. Не потому что мертвые не привыкли, а потому что близкие, которые любили их, не свыклись. Мертвые не были злыми или потерянными. Они точно знали, что произошло. Это живые не имели ни малейшего представления. Большую часть времени я сам ничего не понимал, и пытаться разгадать, что мертвые хотели от меня, утомляло. И мне не нравились умершие дети.
Ребенок пристально смотрел, ожидая от меня чего-то. Взгляд его насыщенно карих глаз был пронзительным и серьезным.
— Нет. Я не хочу участвовать в этом. Я не хочу, чтобы ты находился здесь. Уходи, — произнес я решительно, и тут же другой образ ворвался в мой разум. Несомненно, это была реакция ребенка на мой отказ. На этот раз я зажмурил глаза и яростно сопротивлялся, мысленно рисуя обрушивающиеся вниз стены воды, накрывающие открытые земли, и участок суши, который был каналом, позволяющим людям переходить с одной стороны на другую. У меня была сила, чтобы разделить воды. И у меня была сила, чтобы соединить их снова. Именно так, как говорила мне Джи, как сделал Моисей в Библии. Когда я открыл глаза, маленький мальчик исчез, смытый в Красное море. Море, где скрыто все, что я не хотел видеть.
16 глава Моисей
Но, очевидно, Илай смог удержаться на поверхности воды. Его так звали. Я увидел его имя, написанное на светлой поверхности неровными, едва разборчивыми буквами. ИЛ ай.
Воды, которые я призвал, не поглотили Илая. Он возвращался снова и снова. Я даже пытался уезжать, как будто бы это сработало. Здесь, там, на другом конце земли — нет пути убежать от себя… или от мертвых. Об этом мне напомнил Тэг, когда я жаловался ему, закидывая вещи в багажник своего грузовика. Грузовик был новым и пах кожей, вызывая желание нестись и нестись, и никогда не останавливаться. Я ехал с открытыми окнами и долбящей музыкой, чтобы усилить свои стены. Но как только я направился в сторону Солт Флэтс к западу от долины, посреди дороги возник Илай. Его черный плащ колыхался на ветру, и казалось, будто этот несчастный маленький мальчик-летучая мышь, стоящий в центре пустой автострады, на самом деле был живым. В итоге я развернулся и поехал домой, пребывая вне себя от такого вторжения, и удивляясь, как, черт побери, ему удавалось найти меня, куда бы я ни пытался убежать.
Он показывал мне книгу в потрепанной обложке с загнутыми уголками страниц, слабый и приглушенный голос женщины, читающей слова написанной в ней истории, в то время как Илай переворачивал страницы. Илай сидел на ее коленях, прижав голову к ее груди, и я мог ощущать объятия этой женщины, словно тоже там находился. Он показывал мне лошадь, Калико. И образ того, как ноги, обтянутые джинсами, мелькают возле стола, будто он сидит под ним, в своей маленькой крепости. Случайные вещи, которые ничего не значили для меня и были всем для него.
Когда он разбудил меня в три часа ночи неясными образами закатов и прогулками на лошади, и того, как он сидит перед женщиной, чьи волосы щекочут его щеку, когда он поворачивает голову, я откинул покрывало и начал рисовать. Я работал, как безумный, отчаянно желая избавиться от ребенка, который не оставил бы меня в покое. Картину, которая вертелась в моей голове, я придумал сам. Илай не делился деталями, и я сам создал образ того, как они могли бы выглядеть: белокурая мама и ее темноволосый сын, его голова прижимается к ее груди, он сидит на лошади впереди нее, а все вокруг наполнено цветами. Пара на той лошади устремляется вдаль к закату, переливающемуся над холмами. Это напоминало технику Моне, словно смотришь через волнистое стекло — краски насыщенные, но расплывчатые, различимые и в тоже время неуловимые. Таким же был мой способ держать зрителей на расстоянии, позволяя им выражать признательность, но при этом не быть назойливыми, наблюдать, но не принимать участие. Это напомнило мне о том, как я сам относился к мертвым и образам, которыми они делились. Это был мой способ борьбы. Это был мой способ оставаться невредимым.
Когда я закончил, то отступил, уронив руки. Моя рубашка и джинсы были забрызганы краской, плечи невероятно напряжены, а руки болели. Когда я обернулся, Илай пристально разглядывал мазки, которые один за другим создавали жизнь. Застывшую на месте, но все-таки жизнь. Этого должно быть достаточно. Прежде всегда так и было.
Но когда Илай снова посмотрел на меня, то наморщил лоб, а выражение его лица стало расстроенным. И он медленно покачал головой.
Он показал мне мягкое сияние лампы, похожей на ковбойский сапог, и то, как она отбрасывала свет на стену, куда был направлен его взгляд. Я мог различить очертания женщины и наблюдал за тем, как ее силуэт наклоняется и целует ребенка перед сном.
«Спокойной ночи, вонючка Стьюи!» — произнесла она, уткнувшись носом в его шею.
«Спокойной ночи, жадина Бейтс!» — весело ответил он.
«Спокойной ночи, скунс Скитер!» — тут же выпалила она.
«Спокойной ночи, грубиянка Боунс!» — сдавленно засмеялся Илай.
Я не понимал прозвищ, но они вызвали у меня улыбку. Любовь струились из воспоминания так же, как вода льется из труб. Но я по-прежнему отталкивал это, закрываясь от такого трогательного проявления привязанности.
— Нет, Илай. Я не могу дать тебе это. Я знаю, что ты нуждаешься в своей маме. Но я не могу дать тебе этого. Я не могу дать ей этого. Но я могу дать тебе кое-что другое. Ты поможешь мне найти ее, и я отдам ей это, — я указал на подсыхающий рисунок, который создал для этого упертого ребенка. — Я могу отдать ей твой рисунок. Ты поможешь мне это сделать. Он — от тебя. Я могу отдать его. Ты можешь отдать его ей.
В ответ на мое предложение Илай просто смотрел на меня в течение нескольких долгих мгновений и без всякого предупреждения исчез.
***
— Красиво, — Тэг указал подбородком в сторону мольберта с установленным на нем холстом. — Отличается от всего, что ты обычно делаешь.
— Да. Потому что это возникло не в его голове, а родилось в моей.
— Ребенок?
— Да.
Я провел руками по коротко стриженым волосам на своей голове, испытывая тревогу и сам не зная почему. Илай не возвращался. Может быть рисование, в конечном счете, сработало.
Тэг забрел ко мне без предупреждения, без приглашения, прямо как в старые добрые времена, и я был благодарен за это вторжение. Он поднимался ко мне, когда ему нужен был партнер для тренировок, или что-нибудь из моего холодильника, или что-нибудь из моих художеств, чтобы временно разместить у себя на видном месте и впечатлить женщину, которую он пригласил на вечер.
Судя по его виду, он уже потренировался, и я не стал выплескивать на него накопившуюся досаду. Его волосы на концах были влажными, вьющиеся и прилипшие к шее и лбу, а пот от тренировки пропитал футболку, отчего та прилипала к груди. Тэг выглядел довольно хорошо, зализывая волосы назад и одевая дорогой костюм, когда занимался делами бизнеса, и, тем не менее, он всегда походил на какого-то неандертальца из-за носа, сломанного слишком много раз, и всегда чересчур длинных, косматых волос. Я не знаю, как он вообще мог выносить жар, имея столько волос на голове. Я никогда не мог, от этого я задыхался. Может, это было связано с тем фактом, что каждое столкновение с мертвыми обжигало мою шею, вызывая головокружение, и мое тело горело с такой силой, словно печка.
Тэг потянул край футболки и вытер лицо, одновременно забирая мою миску с хлопьями и большой стакан с апельсиновым соком. Он расселся за моим кухонным столом так, словно мы были пожилой женатой парой, и уткнулся в еду без дальнейших комментариев по поводу картины, которую я рисовал полночи.
У Тэга лучше получалось быть другом, чем у меня. Я редко спускался к нему. Я никогда не ел его еду и не разбрасывал потную одежду по полу. Но я был благодарен за то, что он так делал. Я был благодарен за то, что он приходил ко мне, и я никогда не выражал недовольства по поводу пропадающей еды и рисунков или валяющихся носков, которые не были моими.
Я расправился со своей миской хлопьев и оттолкнул ее в сторону, снова сосредоточив взгляд на мольберте.
— А почему блондинка? — спросил Тэг.
Я почувствовал, как мой лоб нахмурился, и в ответ лишь пожал плечами.
— А почему нет?
— Ну, мальчик… он — черный. Мне просто интересно, почему ее ты сделал блондинкой, — рассудительно произнес Тэг, запихивая в рот еще одну огромную ложку.
— Я — темный… и моя мама была блондинкой, — ответил я, как ни в чем не бывало.
Тэг остановился, его ложка застыла в воздухе на середине пути. Я наблюдал за тем, как колечко «Черио» сделало отчаянный прыжок к свободе, шлепаясь обратно в миску и оставаясь невредимым еще на несколько секунд.
— Ты никогда не рассказывал мне об этом.
— Разве?
— Нет. Я знаю, что мама оставила тебя в прачечной. Я знаю, что у тебя была дерьмовая жизнь, пока ты рос. Я знаю, что ты жил со своей бабушкой, пока она не умерла. Я знаю, что ее смерть принесла полнейшую неразбериху, а следом появился я, — подмигнул он. — Я знаю, что ты способен видеть вещи, которые другие не могут. И я знаю, что ты можешь рисовать.
Моя жизнь в двух словах.
Тэг продолжил:
— Но я не знал, что твоя мама была блондинкой. Не то чтобы это так важно. Просто ты такой темный, поэтому я предположил…
— Да.
— Значит… на этом рисунке ты и твоя мама? Разве она не была родом из маленького городка?
— Нет. То есть… да. Она была из маленького города. Белая девушка из провинциального города, — в этот раз я сделал акцент на слове «белая», чтобы прояснить ситуацию. — Но нет. На рисунке изображен Илай и его мама. Но я думаю, что это не то, что он хотел.
— Холмы. Закат. Это напоминает мне Санпит. Санпит казался мне красивым, когда я не мучился от похмелья.
— Леван тоже.
Я пристально разглядывал рисунок. Ребенок вместе со своей мамой верхом на лошади по имени Калико. Высокая женщина сидит, наклонившись в седле, ее светлые волосы имели лишь бледные очертания на фоне более яркого розового и красного — цветов уходящего солнца.
— Она похожа на Джорджию, — задумчиво рассуждал я.
Женщина на моем рисунке со спины выглядела как Джорджия. Я почувствовал, как внезапно сдавило грудь, и встал, направляясь прямо к картине. К картине, которую создал в порыве отчаяния, заполняя ее персонажами из своей собственной головы. Не из головы Илая. Это никак не было связано с Джорджией. Но мое сердце грохотало, а дыхание стало поверхностным.
— Она выглядит как Джорджия, Тэг, — снова произнес я уже громче и услышал панику в своем голосе.
— Джорджия. Девчонка, которую ты никак не можешь забыть?
— Что?
— Ой, да ладно тебе, мужик! — со стоном высказался Тэг, наполовину смеясь. — Я уже давно тебя знаю. И за это время ты ни разу не заинтересовался женщиной. Ни одной. Не знай я тебя лучше, решил бы, что ты в меня влюбился.
— Я видел ее в прошлую пятницу. Я встретил ее в больнице.
Я даже не мог возразить ему. Меня тошнило, а руки тряслись так сильно, что я закинул их за голову, сцепив в замок, чтобы скрыть дрожь.
Тэг выглядел ошеломленным не меньше моего.
— Почему ты ничего не сказал?
— Я увидел ее. Она увидела меня. И… теперь я вижу маленького ребенка.
Я бросился в свою спальню вместе с Тэгом, следующим за мной по пятам, и охвативший меня ужас гудел по венам, словно я накачался чем-то токсичным.
Я стащил свой старый рюкзак с полки шкафа и начал рывком доставать из него вещи. Мой паспорт, восковой карандаш, завалявшийся арахис, кошелек с какой-то валютой, которая так и не была потрачена.
— Где оно? — бушевал я, расстегивая карманы и обыскивая каждое отделение старой сумки, словно наркоман в поисках таблеток.
— Что ты ищешь? — увлеченный и в то же время обеспокоенный Тэг стоял в стороне и наблюдал, как я растерзываю на части свой шкаф.
— Письмо. Письмо! Джорджия написала мне письмо, когда я был в «Монтлейке». И я никогда не открывал его. Но сохранил! Оно было здесь!
— В Вене ты положил его в один из тех тубусов, — непринужденно ответил Тэг и сел на мою кровать, опершись локтями о колени и наблюдая за тем, как я теряю остатки самообладания.
— Откуда, черт тебя подери, ты знаешь об этом?
— Потому что ты повсюду таскался с этим конвертом. Тебе повезет, если он еще не развалился.
Я уже зарывался глубже в шкаф, доставая тубусы со скрученными в рулон работами, которые накопил за время путешествия и все никак не мог оформить их в рамку и выставить. Со всех уголков света мы отправляли вещи отцу Тэга, и он складывал их в комнате для гостей. Когда мы осели, он привез их нам. Четыре года путешествий и покупок, и все это добро полностью заполнило кузов его прицепа для перевозки лошадей. Мы быстро сдали все в складское хранилище, особо не заинтересованные разбираться с этим. К счастью, тубус, о котором упомянул Тэг, все еще должен был находиться где-то в моем шкафу, потому что Тэг был прав. Я всегда держал письмо при себе, повсюду носил с собой, словно дорогой сердцу медальон, который я даже никогда не открывал. Может, из-за того, что оно никогда не открывалось, было неправильным держать его где-то в стороне.
— Оно было в маленьком… — начал Тэг.
— Ты читал его? — прокричал я, лихорадочно роясь в вещах.
— Нет. Не читал. Я хотел. Думал об этом.
Чтобы сберечь его, я положил письмо обратно в конверт, когда уезжал из «Монтлейка». Я нашел тубус, уверенный, что он был именно в нем, и сорвал крышку зубами, бросаясь на колени и вытряхивая содержимое, словно ребенок в Рождественский день. Конверт беспрепятственно выскользнул и приземлился на мои колени. И как тот ребенок в Рождество, который что-то открыл и не мог решить, нравится ли ему это, я точно так же смотрел на конверт.
— Оно выглядит так же, как и всегда. Каждый раз ты просто сидел и смотрел на него, — произнес Тэг, растягивая слова.
Я кивнул.
— Хочешь, чтобы я прочитал его? — сказал он более любезно.
— Я кретин, Тэг. Ты ведь знаешь об этом? Я вел себя как придурок тогда, с Джорджией, и я нисколько не изменился.
— Ты беспокоишься о том, что я больше не буду любить тебя после того, как прочту его?
В его голосе слышался намек на улыбку, и это помогло мне дышать.
— Хорошо. Да. Прочитай его, потому что я не могу.
Я протянул ему письмо, борясь с желанием заткнуть пальцами уши.
Он открыл конверт, развернул листок бумаги, заполненный написанными Джорджией словами, и какое-то время просто молча смотрел на него. А затем он начал читать.
«Дорогой Моисей, я не знаю, что сказать. Я не знаю, что чувствовать. Единственное, что я знаю, что ты там, а я здесь, и я еще никогда за свою жизнь не была так сильно напугана. Я продолжаю приходить к тебе и продолжаю жить, не видя тебя. Я волнуюсь за тебя. Я волнуюсь за себя.
Увижу ли я тебя снова когда-нибудь?
Боюсь, что ответ — нет. И если это так, то ты должен знать, что я чувствую. Может, однажды ты будешь способен поступить также. Мне бы очень, очень хотелось узнать, что чувствуешь ты, Моисей.
Итак, начнем. Я люблю тебя. Правда. Ты пугаешь меня, и очаровываешь, и заставляешь одновременно желать сделать тебе больно и исцелить тебя. Это странно, что я хочу сделать тебе больно? Я хочу причинить тебе такую же боль, какую ты причинил мне. И несмотря на это, мысль о твоих страданиях вызывает страдания у меня. Есть ли в этом какой-то смысл?
Второе. Я скучаю по тебе. Я очень по тебе скучаю. Я могла наблюдать за тобой весь день. Не потому, что ты внешне красив, хотя так оно и есть, не потому, что ты можешь создавать красивые вещи, что ты и делаешь, а потому, что есть в тебе что-то, что притягивает меня и дает уверенность в том, что если бы ты только впустил меня, если бы ты только любил меня в ответ, у нас была бы прекрасная жизнь. И я бы действительно хотела, чтобы у тебя была прекрасная жизнь. Больше, чем все остальное, я бы хотела этого для тебя.
Я не знаю, прочтешь ли ты это. И если прочтешь, то не знаю, напишешь ли ты мне ответ. Но мне необходимо, чтобы ты знал, что я чувствую, даже если это написано в жалком письме, которое пахнет как Мёртл, потому что оно несколько месяцев пролежало в ее бардачке.
Даже если просто выслушаешь и затем забудешь, я надеюсь, что когда ты выпишешься, то позволишь сказать тебе это лично.
Пожалуйста.
Джорджия
П.С. Пять значимых для меня вещей? Они не изменились. Даже несмотря на все, что случилось, я по-прежнему благодарна за это. Просто решила, что ты должен знать».
В течение нескольких долгих секунд мы сидели в тишине. Я не мог проронить ни слова. Письмо мне ничего не рассказало на самом деле. Но в тот момент Джорджия была в комнате вместе с нами, ее присутствие было таким же реальным и согревающим, как ее карие глаза и обжигающие поцелуи. Ее слова практически прыгали со страницы и возвращали меня в прошлое, словно засасывая в воронку, а она стояла передо мной и ждала, когда же получит от меня ответы. Как это ни странно, после всех этих лет, у меня по-прежнему не было ни одного.
— Чувак, — присвистнул Тэг. — Ты, и правда, придурок.
— Я еду в Леван, — заявил я, удивляя сам себя и заставляя Тэга отпрянуть в изумлении.
— Зачем? Что происходит, приятель? Я что-то пропустил?
— Ничего. То есть… Я думал, может… — я остановился. Я не знал, о чем думал. — Забудь.
Отмахнувшись от своих мыслей, я забрал письмо из рук Тэга и свернул его. И продолжал сворачивать все больше и больше, пока оно не превратилось в пухлый маленький квадрат. А затем сжал его в ладони так, словно мог бы запросто выбросить его прочь, выбросить прочь все те вещи, что меня беспокоили. Я мог бы посчитать их на пальцах, точно так же, как мама Джорджии обычно делала вместе с детьми, взятыми ею на воспитание, и я мог выбросить все это прочь.
— Я не могу думать ясно. Я не очень хорошо спал последние пару дней. И встреча с Джорджией… — мой голос затих.
— Итак, ты собираешься в Леван. И я поеду с тобой.
Тэг вел себя так, словно все уже было решено.
— Тэг…
— Мо.
— Я не хочу, чтобы ты ехал.
— Ты ведь терроризировал именно этот город, верно?
— Я никого не терроризировал, — возразил я.
— Когда речь заходит о том, чтобы украсить этот городишко, думаю, ты не совсем то, что они имели в виду, Моисей.
Я засмеялся против воли.
— Я должен поехать вместе с тобой, чтобы убедиться, что тебя не прогонят вилами.
— Что если она не захочет говорить со мной?
— Тогда тебе, возможно, придется переехать туда на какое-то время. Повсюду таскаться за ней, пока она не захочет. Она проявила упорство по отношению к тебе, как мне показалось. Как много раз ты прогонял ее? Как много раз она продолжала возвращаться?
— У меня все еще есть дом бабушки. Не сказать, что мне негде остановиться, или что у меня нет причин быть там. Все эти годы я платил налог на него.
— Тебе необходима моральная поддержка. Я сыграю Рокки Бальбоа и пару дней поупражняюсь с тракторными покрышками и цыпочками. Если Леван чем-то похож на Санпит, то там полно и того, и другого.
17 глава Моисей
Мы пересекли границу штата недалеко от Нефи и выехали на старую автодорогу, соединяющую Нефи и Леван. Ридж — так она была названа. Просто двухполосный участок дороги, ведущий в никуда, и окруженный полями, растянувшимися по обеим сторонам. Мы проехали мимо «Круга А» с большим красным знаком, который возвышался достаточно высоко, чтобы его было заметно и над туннелем, и в миле от шоссе, он сообщал дальнобойщикам и утомленным водителям, что спасение близко.
— Моисей, разворачивайся.
Я вопросительно взглянул на него.
— Я хочу увидеть его. Это ведь произошло здесь?
— Ты о Молли?
— Да. О Молли. Я хочу увидеть туннель.
Я не стал спорить, хоть и не знал, на что там было смотреть. Моего рисунка давно нет, исчезнувший и забытый. Как и Молли. И ее не стало давно. Исчезнувшая и забытая. Но Тэг ее не забыл.
Я развернулся и нашел проселочную дорогу, которая простиралась через поле, выходила к туннелю и тянулась дальше к холмам. Там по-прежнему валялись разбитые бутылки и упаковки из-под фаст-фуда. На боку лежал сломанный CD-плеер с торчащими из недостающего динамика проводами, который, судя по марке и модели, был брошен там уже довольно давно. Не желая проткнуть осколками шины, я свернул к небольшому придорожному карьеру, расположенному неподалеку, как и в ту ночь давным-давно. Это было тоже время года, такой же октябрь — не по сезону теплый, но, как и ожидалось, прекрасный. На более низких холмах была повсюду разбросана листва, а небо было таким голубым, что я хотел запечатлеть этот цвет своей кисточкой для рисования. Но той ночью оно было темным. Той ночью Джорджия пошла за мной. Той ночью я потерял голову и, может быть, что-то еще.
Тэг пробирался через заросли, продолжая идти дальше к полю той же дорогой, которой, должно быть, следовали собаки, уткнувшись носом в землю. Он остановился один раз и оглянулся вокруг, осматривая холмы и оценивая удаленность от автострады, определяя расстояние от туннеля до начала коммерческих зданий, плотно расположенных между въездом и выездом на магистраль, и пытаясь разобраться в том, что не имело совершенно никакого смысла.
Я отвернулся и направился к стенам из цемента, что удерживали автостраду. Было всего две стороны: одна, наклонялась вправо, и другая, наклонялась влево, и я прислонился спиной к той, что, как и прежде, была обращена к солнцу, закрыл глаза и ощутил, как тепло просачивается сквозь мою кожу.
— Подожди! Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, не уходи от меня! — в отчаянии кричала она.
Я мог слышать страх в ее голосе, дрожащий от слез. Она боялась меня, но продолжала преследовать. Она по-прежнему преследовала меня. Эта мысль заставила меня споткнуться, заставила остановиться. И я обернулся, позволяя ей схватить меня. И я тоже схватил ее, держал в своих руках так крепко, что все пространство между нами стало пространством вокруг нас, над нами, но никакого пространства не осталось внутри нас. Я чувствовал удары сердца под мягкостью ее груди, и мое собственное начало биться в такт ее. Я раскрыл ее губы своими, нуждаясь увидеть цвета, ощутить, как они поднимаются по моему горлу, заполняют мой разум, мелькая как огни сигнальной ракеты. Я целовал ее снова и снова, пока не осталось никаких секретов. Ни ее, ни моих, ни Молли. Только тепло, и свет, и цвет. И я не мог остановиться. Я не хотел останавливаться. Ее кожа напоминала шелк, а вздохи — сатин, и я не мог отвести взгляда от выражения удовольствия на ее лице или отрешиться от ее просьб, призывающих двигаться дальше.
Волосы Джорджии, рот Джорджии, кожа Джорджии, глаза Джорджии, длинные- длинные ноги Джорджии.
Любовь Джорджии, доверие Джорджии, слепая вера Джорджии, крики Джорджии, долгое-долгое ожидание Джорджии.
А затем крики страсти превратились во что-то другое. Какая-то печаль слышалась в этом звуке. И слезы. Джорджия согнулась пополам от рыданий. Ее волосы развевались вокруг нее, из глаз текли потоки воды, изо рта вырывались рыдания. Ее длинные-длинные ноги больше не оборачивались вокруг меня, она опустилась на колени, умоляя, и плакала, плакала, плакала…
Я открыл глаза и сел прямо, неуверенный, были ли это мои собственные воспоминания или что-то совершенное иное. Я чувствовал себя плохо, дезориентированным, будто дремал слишком долго и получил тепловой удар. Я потер шею вспотевшими руками. Но это не могло продолжаться так долго. Тэг все еще бродил по полю в поисках знака, который привел бы его к очищению, или пути, ведущего к понимаю причин, почему так вышло. Поморщившись от лучей заходящего солнца и снова повернувшись к бетонной стене, я дал Тэгу время самому понять, что не существовало ни того, ни другого.
Илай сидел у противоположной стены. Его коротенькие ножки в пижаме Бэтмана прижимались к груди, будто он приготовился к долгому-долгому ожиданию. Капюшон покрывал его темные кудряшки, и маленькие кусочки ткани, пришитые для имитации ушей летучей мыши, придавали ему дьявольский вид, что полностью противоречило его ангельскому мальчишескому лицу.
Я громко выругался, громче, чем намеревался, и звук эхом отразился от бетонных стен и привлек внимание Тэга. Он обернулся и вопросительно вскинул руки.
— Пора ехать, Тэг. Я больше не могу здесь находиться, — прокричал я, уходя прочь от маленького мальчика, который навязчиво делился все теми же образами белой лошади с цветными пятнами на задних конечностях, скачущей галопом. Затем толстая веревка закрутилась в воздухе, образуя идеальной формы петлю, которая была накинута на шею лошади и туго натянута рукой незнакомца. Лошадь трясла гривой, тихо ржала и носилась рысью. Эти образы неприятно крутились в моей голове. Я не знал, как освободить ее.
— Он продолжает показывать мне белую лошадь, — пробормотал я, когда мы с Тэгом снова забрались в мой грузовик и направились к автостраде, уносящей нас от одного жестокого разочарования и ведущей к другому. Я не хотел находиться там. И догадывался, что и Тэг тоже. — Он продолжает показывать мне белую лошадь с большими неровными цветными пятнами на задней части. Одна и та же лошадь снова и снова. Как одна из тех, что на картине, которую я нарисовал.
— Пегая.
— Что?
— Она называется пегая. Такой вид лошади. Из-за ее окраса. Пегая.
— Пегая.
Мне вдруг стало интересно, что если образ лошади был чисто символическим. Может, все, что ребенок хотел от меня, это рисование. Может, я просто все понял неправильно.
***
Тэг шагал позади, следуя за мной через входную дверь в дом, представший перед нами абсолютно пустым. В нем не было ни мебели, ни посуды, ни ковров на полу. Ничто не напоминало о моей бабушке, жившей в этом доме. Казалось, он и не принадлежал ей. В нем совершенно не чувствовался присущий ей запах. Дом был пыльным, пронизывающе сырым и нуждался в тщательном проветривании. Он был просто пустым домом. Я в нерешительности стоял у входа, глядя вверх по лестнице, повернулся сначала направо, затем налево, разведывая обстановку, пока наконец-таки не двинулся через обеденную зону на кухню, где не осталось ничего, кроме занавесок в красную полоску, которые висели на маленьком окне над раковиной. В гостиной тоже остались занавески. Никому не нужны были ни те, ни другие. Но я прекрасно знал, что, скорее всего, это было связано с тем фактом, что они стали жесткими из-за краски, а не из-за их устаревшего рисунка.
Никто не закрасил стены.
Я резко остановился, чувствуя Тэга за своей спиной. Я слышал, как у него перехватило дыхание, как будто воздух застрял в горле, а затем последовал медленный выдох, сопровождающийся потоком слов, которые даже я бы не произнес.
Я нашел свою бабушку примерно в 6:45. Я помню, во сколько это произошло, только потому, что на площадке перед лестницей висели часы с птицей, которая куковала каждый час и пела через полчаса. Но каждые четверть часа и без четверти птичка высовывала голову и громко щебетала, сообщая, что время неумолимо движется вперед. Предупреждая, что близится тот самый час.
В то утро я заторможенный вошел через дверь, желая поскорей добраться до своей постели, где бы я мог выспаться и избавиться от страсти и любви, что липли к моей коже, и та птичка пронзительно закричала, словно спрашивая меня: «Где ты пропадал?» Я подпрыгнул, а затем рассмеялся сам над собой и, шагнув в гостиную, позвал ее: «Джи!»
— Джи! — произнес я снова, и мой голос эхом разнесся по пустому дому.
Я не намеривался рассказывать все начистоту, но Тэг оттолкнул меня и направился в сторону стен, покрытых вихрем красок и сплетенных завитков. Это было все равно, что находиться на крутящейся карусели внутри циркового шатра, а все вокруг были клоунами. Краска была слишком яркой и производила сильное впечатление, один цвет сливался и переходил в следующий, одно лицо превращалось в другое, подобно изображению движущейся машины на фотографии, ничто не захвачено полностью — эффект, вызванный искаженной перспективой.
Я обнаружил Джиджи утром в 6:45. Джорджия отыскала меня в 11:30. Я рисовал почти пять часов подряд, оставляя на стенах изображения всего и ничего. Раздался бой часов, и сладко пропела птичка, когда я разминал руки, поднимая и опуская их, закончив рисунок лица, не имеющего ничего общего с лицом, которое я хотел видеть. А потом в дом зашла Джорджия. Бедная Джорджия.
— Это Молли, — сдавленно произнес Тэг, положив руку на изображение его сестры, смотрящей через плечо и подзывающей меня идти следом. Золотистая краска ее волос расплывалась, словно река, и сливалась с волосами еще нескольких девушек, держащихся рядом с ней.
Я смог только кивнуть. Все было словно в тумане. Я не помнил большинство из этого. Я мало что помнил в деталях. Это казалось сном, и у меня были лишь обрывки мыслей и образов.
— Кто все эти люди? — прошептал Тэг, блуждая взглядом от одного искаженного рисунка к другому.
Я пожал плечами.
— Кое-кого из них я знаю. Некоторых я помню, но что касается большинства — их я совсем не знаю.
— Тебе нравятся блондинки.
— Нет, не нравятся, — возразил я, медленно покачав головой.
Тэг вскинул брови и многозначительно посмотрел на девушек, окружающих Молли, и на расположенный рядом рисунок моей матери, держащей в руках корзину, заполненную младенцами.
Я только покачал головой. Я не мог объяснить происходящее на другой стороне. Я просто рисовал то, что видел.
— Мо?
— Да?
— Это выглядит очень странно. Ты ведь понимаешь?
Я кивнул.
— Я не осознавал этого. Не совсем. Не в тот момент. Я даже не видел этого. Я просто полностью погрузился. Но да.
Мы оба еще какое-то мгновение не сводили взгляда со стены, пока я уже не мог больше этого вынести.
— Итак, как думаешь, красный диван сюда подойдет? — произнес я. — Потому что я как раз подумываю об этом.
Тэг начал смеяться, резкий звук оглушительного веселья развеял неразбериху и неотступающее ощущение ужаса, царящее в комнате. Он покачал головой, словно меня уже было не спасти.
— Ты больной, чувак. В самом деле.
Я рассмеялся вместе с ним и толкнул его, нуждаясь в контакте. Он тоже пихнул меня в ответ, и я, попятившись назад, схватился за него. Мы оба боролись, стараясь занять более удобную позицию, чтобы повалить другого на задницу. Мы врезались в стену, и все закончилось тем, что мы разрушили изображение, покрывающее занавески, стянув их и позволив угасающему свету проникнуть в пропитанную красками комнату. Но стены были именно тем, что должно было исчезнуть, а не занавески. Я не стал бы спать в том доме до тех пор, пока стены снова не стали бы белыми.
Джорджия
Возле старого дома Кейтлин Райт стоял припаркованный грузовик. На протяжении двух дней он то уезжал, то приезжал. Передняя дверь была открыта нараспашку, а на откидном борте багажника стояло несколько банок с краской, а также лежала лестница, тряпки и еще целая гора разных вещей. Грузовик был черным, сияющим и совсем новым. Когда я выглядывала сквозь окно, как любопытная провинциальная девчонка, коей и была, то могла разглядеть кожаные сиденья кремового цвета и ковбойскую шляпу на приборной панели. Водить такой грузовик было не в стиле Моисея. И я знала, что он никогда не надел бы такую шляпу.
Но насколько мне было известно, Моисей все еще оставался владельцем дома. Мой желудок нервно сжался, но я отказывалась признавать это. Вероятно, он находился там, чтобы прибраться в доме, и затем уехать. Вероятно, он хотел продать его. Вот и все. Скоро он бы снова уехал, а я смогла бы продолжить заниматься своими делами. Но вот мой желудок мне не верил, и я провела эти дни в нервном возбуждении, выполняя каждый пункт своего списка дел и не испытывая чувства удовлетворения ни от одного из них. Папа вернулся из больницы, и кроме оставшейся слабости, в целом чувствовал себя хорошо. Мама проявляла чрезмерную заботу о нем, что вызывало у него раздражение, и я просто старалась держаться подальше от дома.
Но держаться подальше от дома означало каждые десять минут смотреть в сторону задних окон дома Кейтлин. В то утро, когда я взяла Лаки прогуляться вдоль западного пастбища, расположенного вплотную к заднему двору Кейтлин Райт, то обратила внимание, что окна больше не были прикрытыми. В течение многих лет занавески были плотно задвинуты, а теперь их не стало, а окна были открыты нараспашку, словно кто-то решил проветрить помещение. Я могла слышать играющую музыку, и на протяжении всего дня, как мне казалось, мельком видела Моисея и кого-то еще. Я была взволнована и рассеяна, и лошади это чувствовали, что не очень хорошо, особенно, во время работы с лошадью по имени Кас (прим. пер. от анг. cuss — проклятие; наказание; ругаться матом).
Я объезжала эту лошадь для Дейла Гарретта, и Кас был большим скакуном с еще большим высокомерием. Его кличка полностью характеризовала мнение его владельца о нем. Глава обратился к моему отцу, и папа без промедления передал Касса мне. Забавно. Здоровые парни округа не хотели приглашать девушку для объездки их лошадей, так как это задевало их мужское достоинство. Конечно же, все знали, что если вы зовете доктора Шепарда — моего отца — для объездки вашей лошади, на самом деле вы получаете Джорджию Шепард, но обращение через него помогало подсластить пилюлю. Меня это не волновало. В конечном счете, они мирились с этим. Я их подавила, прямо как прежний Кас. Я получала чрезмерное удовольствие в покорении непокорных.
Мы находились в круглом загоне, и я управляла Касом, гоняя его на корде, но не для того, чтобы обуздывать, а для того, чтобы мы привыкли друг к другу. Я стояла в центре загона с веревкой в руке и размахивала ею, используя в качестве кнута, но не прикасалась к лошади, а только лишь заставляла изменить направление и уважать мое личное пространство. Время от времени я вставала перед ним и заставляла разворачиваться, вынуждая бежать, если он хотел увильнуть от наказания, оттесняла его. В этом не было ничего нового. На прошлой неделе я уже несколько раз пускала его рысью, и в этот день я была готова перейти ко второй базе. Кас позволил мне приблизиться, и я вращала веревкой в медленном темпе, просто разговаривая с ним по мере того, как приближалась к его плечу. Пока все шло хорошо.
Кас тяжело дышал и не сводил с меня взгляда, но не отодвинулся. Я осторожно накинула конец веревки на его шею и сняла ее, затем повторила это действие снова, но уже чуть жестче, и он слегка задрожал. Я передвинула веревку на другую сторону, поглаживая ею его шею, давая ему привыкнуть к прикосновениям, к веревке возле горла, чтобы уменьшить его восприимчивость, а после, с большой осторожностью, медленно ослабила петлю на шее, позволяя ей свободно опуститься на его плечи. Я выжидала, держа короткий шнур в своих руках и ожидая, когда он скажет мне «нет».
— В скором времени он будет умолять Джорджию связать его, — послышался голос за моей спиной.
Кас отскочил и заржал, резко дергая головой и потянув меня за собой. Скользящая веревка обожгла мои ладони прежде, чем я успела выпустить ее из рук, позволяя ему отбежать в сторону.
— Вижу, некоторые вещи никогда не меняются, — я отряхнула саднящие руки и обернулась. Мне не нужно было видеть лица, чтобы узнать его. Возможность покончить со всем этим вызвала почти облегчение.
Моисей стоял с наружной стороны загона на нижней рейке ограждения, а его руки опирались на верхнюю. Рядом с ним находился мужчина с зубочисткой в зубах, в той же позе, что и Моисей. Но на этом сходство между ними заканчивалось.
— Животные по-прежнему недолюбливают тебя? — произнесла я, оставшись довольной проявленным самообладанием.
— И не только животные. Моисей производит такой же эффект и на большинство людей, — незнакомец улыбнулся и протянул руку через забор. — Собственно, думаю, что я его единственный друг.
Я подошла к ним и приняла его протянутую для рукопожатия руку.
— Привет, Джорджия. Я — Тэг.
В его голосе слышался техасский акцент, и он выглядел так, что мог бы с легкостью справиться с Касом, если бы только захотел. Он напоминал хорошего деревенского парня с повадками бывшего заключенного, которые он показывал, просто чтобы вы осторожно себя с ним вели. Слегка хулиганский вид был ему к лицу, несмотря на нос, который не помешало бы выпрямить, и волосы, которые не помешало бы подстричь, но зато он обладал ослепительной улыбкой и крепким рукопожатием. Я недоумевала, как вообще так вышло, что он оказался другом Моисея.
А затем я встретилась взглядом с Моисеем. Эти золотисто-зеленые глаза причиняли боль, но выглядели все такими же прекрасными на фоне его темного лица. И так же, как неделю назад в переполненном лифте, у меня подкосились ноги, от чего я поневоле задумалась, это земля так наклонилась или всего лишь исказилось мое восприятие пространства. Возможно, я не отводила взгляд слишком долго, но он также неотрывно смотрел на меня, наклонив голову набок, словно ему тоже необходимо было выровнять равновесие.
Мужчина рядом с Моисеем прочистил горло, испытывая неловкость, а затем, слегка рассмеявшись, что-то пробормотал себе под нос, но я не смогла разобрать.
— Что происходит у Кейтлин? Ты продаешь это место? — спросила я, отводя взгляд от Моисея и отворачиваясь.
Моя веревка все еще висела вокруг шеи Каса, поэтому я стянула еще одну со столба ограждения рядом с Тэгом. Кас держался дальней стороны загона, будто ему дали перерыв.
— Может быть. Сейчас мы пока просто прибираемся в нем, — тихо ответил Моисей.
— Почему? — засомневалась я. — Почему сейчас?
Я без малейшей улыбки снова взглянула на него, не желая вести светскую болтовню с огромной ошибкой своей жизни. Таким он был — огромной ошибкой. Я хотела знать, почему он находился здесь. И я также хотела знать, когда он уедет. Я шла к Касу по кругу, заставляя его тихо ржать и подрагивать, вызывая желание убежать, но было очевидно, что он не хотел приближаться к незнакомцам, стоящим у ограждения.
— Время пришло, — с легкостью произнес Моисей, словно время имело большее значение, чем я когда-либо.
— Я бы заинтересовалась его покупкой, если ты примешь решение о продаже.
В этом был смысл. Я обдумывала покупку этого дома уже довольно давно, но не хотела искать Моисея, чтобы сделать ему такое предложение. Но вот он вернулся. И если Моисей его продает, то было бы разумно купить дом, который граничил с землями родителей.
Он не ответил, и я равнодушно пожала плечами, словно для меня не имело никакого значения, что он будет делать с домом. Я начала идти к Касу, оставляя двух нежеланных гостей заниматься тем, чем бы им ни заблагорассудилось.
— Джорджия?
Я вздрогнула, когда Моисей произнес мое имя, а затем Тэг выругался, сказав протяжно «охренеть», что вообще не имело для меня никакого смысла.
— Джорджия? Эта лошадь принадлежит вам? — резко спросил Моисей.
— Кто? Кас? Нет, я всего лишь объезжаю его.
Я не подняла взгляда, услышав вопрос, и продолжала наступать на Каса.
— Нет. Не эта лошадь.
Голос Моисея звучал как-то странно, и я все-таки вскинула голову, устремив взгляд мимо круглого загона и маленькой арены для верховой езды туда, где паслись наши лошади.
Они были далеко, полдюжины лошадей или около того, включая Сакетта и Лаки, которых мы использовали исключительно в иппотерапии и больше нигде. Лаки оказался самым милым и кротким парнем во всем мире. И полностью прирученным.
— Пегая. Пегая ваша? — спросил Тэг, и его голос тоже был напряженным.
— Калико? Да. Она наша.
Я кивнула, находя глазами эту красивую лошадь с белой гривой и яркими пятнами, и мое сердце екнуло, как и всегда, когда я смотрела на нее.
Внезапно Моисей зашагал прочь от загона, покрывая расстояние между нашей земельной собственностью и задней частью его дома, ни разу не оглянувшись и даже не сказав «увидимся позже».
Мы с Тэгом наблюдали за тем, как он удалялся, и я озадаченно посмотрела на друга Моисея.
— Я бы спросила тебя, в чем его проблема, но я перестала заботиться об этом уже очень давно.
Я настигла Каса и схватила веревку, висящую вокруг его шеи, немного жестче, чем сделала бы в другой обстановке. Он встал на дыбы и заметал головой, что заставило меня сожалеть о своих поспешных действиях. Мне удалось снять веревку с его шеи, но не обошлось без проворных скачков, чтобы избежать зубов и копыт.
— Ради его же блага, я надеюсь, что это неправда, — искренне ответил Тэг, и его слова озадачили меня еще больше. Но он, оттолкнувшись от забора, вел себя так, словно понимал Моисея. — Было приятно с тобой познакомиться, Джорджия. Ты совершенно не похожа на ту, что я ожидал увидеть. И я этому рад.
Я никак не отреагировала на его слова, только смотрела, как он удалялся. Он отошел на двадцать футов, когда обернувшись через плечо, произнес:
— Будет тяжело объездить его. Не уверен, что старина Кас хочет, чтобы его объезжали.
— Да, да, да. Все остальные говорят мне то же самое, пока я их не объезжу, — парировала я.
Я услышала, как Тэг рассмеялся, когда заново начала упражнения с Касом.
18 глава Моисей
Вы могли бы подумать, что, видя мертвых всю свою жизнь, я должен был возненавидеть кладбища. Но это не так. Мне они нравились. Они были тихими. Они были безмятежными. И умершие были спрятаны под землей аккуратными рядами. За ними ухаживали. И следили. Ну, по крайней мере, их тела были спрятаны. Мертвые не скитались по кладбищам. Ведь здесь не было их живых родных. Зато их притягивало горе тех, кого они любили, страдание тех, кого они любили. Прежде я много раз видел, как блуждающий умерший человек неотступно шел по пятам за своей женой или дочерью, сыном или отцом. Но в тот день на кладбище Левана не блуждал ни один мертвый.
В тот день я увидел только одного человека, и на мгновение мое сердце сжалось, когда глаза наткнулись на светловолосую голову и тонкую фигуру, склонившуюся над соседней могилой. Но потом я понял, что это была не Джорджия. Это не могла быть Джорджия. Я видел лошадь и слышал, как Джорджия зовет Калико, а потом пришел прямо сюда. К тому же женщина была немного ниже Джорджии и, может, чуть старше, а ее светлые волосы, затянутые в небрежный узел, ниспадали волнами. Она оставила маленький букет на надгробной плите, на которой было написано крупными буквами «Жанель Пруитт Дженсен», и направилась в сторону высокого мужчины, ожидающего на краю кладбища. Когда женщина подошла к нему, то он наклонился и поцеловал ее, словно утешая, и это заставило меня немедленно отвести взгляд. Я не собирался пялиться на них. Но они были поразительной парой — темнота и свет, нежность и сила. Я мог бы без труда нарисовать их.
Кожа мужчины была такой же темной, как моя, но мне он не казался черным. Может, коренной житель. Высокий и поджарый, своим внешним видом он наводил меня на мысль об армии. Женщина была худенькой и изящной, одетой в бледно-розовую юбку, белую блузку и сандалии. И когда они повернули в сторону выхода, а я взглянул на ее профиль, то осознал, что знал ее.
Когда я был маленьким, Джиджи заставляла меня ходить в церковь всякий раз, как я приезжал в гости. В одно из таких воскресений на органе играла девочка. Мне тогда было около девяти, а ей всего тринадцать или, может быть, четырнадцать лет, но то, как она играла, это было что-то. Ее звали Джози.
Ее имя всплыло в моей памяти, прозвучав голосом моей бабушки, и я слегка улыбнулся.
Музыка, которую исполняла Джози, была трогательной и красивой. Но самое главное, она вызывала у меня ощущение безопасности и спокойствия. Джи сразу же подметила это, и мы начали ходить в церковь каждый раз, когда Джози там репетировала, и слушали, сидя в самом дальнем ряду. Иногда она играла на фортепиано, но чаще всего на органе. Но что бы это ни было, я сидел смирно. Я помнил, как Джи вздохнула и произнесла: «Эта Джози Дженсен настоящее музыкальное чудо».
А после этого Джи сказала мне, что я тоже был чудом. Она прошептала мне на ухо, в то время как музыка Джози играла на фоне, что я создавал музыку, когда рисовал, так же, как Джози создает музыку, когда играет. И то, и другое было даром, нечто особенным, и это следовало беречь. Я совсем забыл обо всем этом. До этого дня. Женщину звали Джози Дженсен, а могила, которую она посещала, должно быть, принадлежала ее матери.
Потерявшись в воспоминаниях о ее музыке, я наблюдал за тем, как пара удалялась, пока в последний момент Джози не остановилась и не обернулась. Она что-то сказала стоящему рядом мужчине, который оглянулся, посмотрев на меня, а затем кивнул.
Женщина пошла обратно в мою сторону, обходя надгробные плиты, пока не остановилась в нескольких футах от меня. Она мило улыбнулась и протянула руку в знак приветствия. Я принял ее и быстро пожал, прежде чем отпустить.
— Моисей, правильно?
— Да. Джози Дженсен, верно?
Она улыбнулась, видимо ей было приятно, что я ее тоже узнал.
— Теперь я Джози Йейтс. Моему мужу, Самюэлю, не нравятся кладбища. Заморочки навахо. Он приходит вместе со мной, но остается ждать под деревьями.
Навахо. Я оказался прав.
— Я просто хотела сказать тебе, как сильно мне нравилась твоя бабушка. Точнее, прабабушка, да? — я кивнул, в то время как она продолжила. — У Кейтлин была черта, благодаря которой ты чувствовал, что все будет хорошо. После того как умерла моя мама, когда я была маленькой, она была одной из тех леди в церкви, кто присматривал за моей семьей, и она также присматривала за мной, обучая меня разным вещам и позволяя возиться на своей кухне, когда мне нужно было понять, как приготовить то или другое блюдо. Она была удивительной.
Голос Джози звучал искренне, и я кивнул, соглашаясь.
— Она была такой. И она всегда вызывала во мне похожие чувства, — я сглотнул и неловко отвел взгляд, понимая, что разделил с незнакомцем важный и интимный момент. — Спасибо, — произнес я, на краткое мгновение встречаясь с ее взглядом. — Эти слова много для меня значат.
Она кивнула в ответ, улыбнувшись немного грустно, и снова развернулась.
— Моисей?
— Да?
— Ты знаешь, кто такой Эдгар Аллан По?
Я озадаченно вскинул брови. Я знал, кто он, но вопрос был странным. Я кивнул, и она продолжила.
— Он кое-что написал, что я никогда не забывала, и эти слова мне очень нравятся. Можешь спросить моего мужа. Я обрушила на него потоки слов и музыки, пока он не попросил пощады и не женился на мне, — она подмигнула. — Эдгар Аллан По сказал много прекрасных вещей и много шокирующих, но они часто идут рука об руку.
Я ждал, недоумевая, что она хотела от меня услышать.
— По сказал: нет утонченной красоты без некой необычности в пропорциях, — Джози склонила голову и оглянулась на своего мужа, который не сдвинулся ни на миллиметр. Затем она пробормотала, — я считаю, что твоя работа странная и прекрасная, Моисей. Как диссонирующая мелодия, которая разрешается в консонанс, когда ты слушаешь ее. Я просто хотела, чтобы ты это знал.
Я слегка потерял дар речи, удивляясь, где и когда она увидела мою работу, ошеломленный тем, что она вообще знала обо мне и не побоялась приблизиться. Конечно, в пятидесяти футах стоял ее муж, и я сильно сомневался, что кто-то станет приставать к Джози Дженсен, когда она под его присмотром.
А затем они ушли, и не осталось никого, кроме меня. За историческим кладбищем Левана, казалось, хорошо следили. Оно было не очень большого, но достаточного, размера и постоянно расширялось, когда город рос и хоронил умерших. Оно было обращено на запад, возвышаясь над остальной частью долины у подножия Так-Аувэй Хил, и выходило на сельскохозяйственный район и пастбище. С того места, где я стоял, можно было увидеть старую автостраду — длинная серебряного цвета полоса пересекала поля настолько далеко, насколько позволяли разглядеть глаза. Вид давал ощущение спокойствия и безмятежности, и мне нравилось то, что прах Джи покоился именно в таком месте.
Я шел вдоль рядов надгробных плит, минуя маму Джози, пока не достиг длинной линии Райтов, по меньшей мере, четырех поколений из них. На мгновение я остановился возле надгробия Джиджи, в благоговении приложив руку на выгравированное имя, но затем двинулся дальше на поиски причины, по которой я сюда пришел. Новые плиты, старые плиты, плиты с глянцевой поверхностью и с матовой. Цветы, венки и свечи украшали множество могил. Я недоумевал, для чего люди это делали. Их умершим близким не нужно было это фуфло. Но, как и все остальное, это больше касалось живых. Живым было необходимо доказать себе и другим, что они не забыли. И в маленьком городе, как этот, всегда существовало своеобразное состязание, проходящее на кладбище. Это был их образ мышления: я люблю сильнее других, я страдаю больше других, и поэтому я буду устраивать показуху каждый раз, когда прихожу сюда, чтобы все это знали и жалели меня. Я понимал, что был циником. Однозначно, я был сволочью. Но такое поведение людей мне не особо нравилось, и уж точно я не считал, что мертвые нуждались в этом.
Я обнаружил длинный ряд могил Шепардов и почти засмеялся над именем одного из них. Варлок Шепард (прим. пер. от англ. warlock — чернокнижник, ведьмак, злой колдун.). Ну и имечко. Варлок Райт — может, следовало мне дать такое имя. Раньше меня называли колдуном. Я изучал надгробия и осознал, что там было захоронено пять поколений предков Шепардов, их жены покоились рядом с ними. Я нашел первую Джорджию Шепард и вспомнил тот день, когда дразнил Джорджию по поводу ее имени. Джорджи-Порджи. А затем — еще одно поколение, хотя было пропущено то, что должно было следовать перед ним. Надгробная плита около двух футов в длину и двух футов в ширину, простая и ухоженная, стояла в самом конце ряда. С каждой стороны было по пустому участку травы, будто бы предназначенному для тех, кто последует дальше.
Илай Мартин Шепард. Родился 27 июля 2007, умер 25 октября 2011. Это все, что было написано.
На плите была выгравирована лошадь. Лошадь, которая выглядела так, будто ее задняя часть покрыта пестрыми пятнами. Пегая. Возле надгробного камня в ярко-желтой вазе стоял пышный букет полевых цветов. В моей голове пронеслось воспоминание Илая о том, как женщина поет песню: «Ты мое солнце…», и я поймал себя на том, что произнес эти слова вслух. Упоминания имени Джорджии не было на этом надгробии, но я точно знал, испытывая тошноту и шок, что она была матерью Илая.
Я посчитал месяцы в обратном порядке только, чтобы удостовериться. Девять месяцев до июля две тысячи седьмого года — это октябрь две тысячи шестого.
Джорджия была матерью Илая. А я был отцом Илая. Должен был быть им.
Джорджия
Я родила Илая двадцать седьмого июля две тысячи седьмого, за месяц до того, как мне исполнилось восемнадцать. До трех месяцев никто не знал, что я беременна. Я бы скрывала этот факт и дальше, но облегающие джинсы, которые я носила ежедневно, не застегивались, и мой плоский живот больше не был достаточно плоским, а стройные бедра достаточно стройными, чтобы втиснуться в тесный, безжалостный деним. Но ужас моего трудного положения не ограничивался только беременностью, он был связан и с тем фактом, что Моисей был отцом, а имя Моисея стало проклятьем, произносимым с шипением везде, куда бы я ни пошла.
Мы с родителями обсуждали вариант отдать ребенка на усыновление, но я не смогла так поступить. Я не могла поступить так по отношению к Моисею. Все, что между нами было, потеряло бы значение. Моисей мог никогда не узнать о своем ребенке, и мог навечно остаться один, но с его ребенком этого бы не случилось. И даже несмотря на то, что порой я его ненавидела, представляла безликим мужчиной, не знала, где он и чем занимался в данный момент, я не могла отдать его ребенка. Я не могла этого сделать.
В тот день, когда родился Илай, речь уже не шла обо мне, или Моисее, или о том, чтобы оставаться сильной или быть нерешительной. В мгновение ока, все остальное потеряло значение, кроме Илая. Мальчика, который был зачат во время кружащего вокруг хаоса. Мальчика, который был так похож на своего отца, что когда я только взглянула на его крошечное личико, то сразу безумно полюбила, что полностью разрушило чувство сожаления о его зачатии и превратило в пыль. Беззащитный, чтобы навредить нам, как бумага против пламени моей преданности и самоотверженности, которая переполняла мое сердце и увековечила прекрасное лицо моего ребенка на скрижалях истории, отныне он не безликий, отныне о его появлении не сожалеют.
— Как ты его назовешь, Джорджия? — прошептала моя мама, слезы текли по ее лицу, когда она смотрела, как ее дочь стала матерью. Она постарела за несколько месяцев с тех пор, как я облегчила душу, все ей рассказав. Но благодаря бесценной новой жизни, превратившей больничную палату в некое сакральное место, она выглядела спокойной. Я задумалась, отражалась ли на моем лице такая же умиротворенность. Мы все будем в порядке. У нас все должно быть хорошо.
— Илай.
Моя мама улыбнулась и покачала головой.
— Джорджия Мари, — засмеялась она. — Как Илай Джексон, наездник быков?
— Как Илай Джексон. Я хочу, чтобы он взял жизнь за рога и насыщенно ее прожил. А когда он станет самым лучшим из когда-либо живших наездников быков, даже лучше, чем его тезка, все будут скандировать имя Илая Шепарда.
Я заранее спланировала свой ответ, и он звучал чертовски хорошо, потому что я была искренней. Но Илая я назвала не в честь наездника быков. Это было всего лишь удачное совпадение. Я назвала его Илаем ради Моисея. Никто не хотел думать о Моисее. Никто не хотел говорить о нем. Даже я. Но мой ребенок был и его ребенком. И я не могла притворяться, будто это не так. Я не могла полностью вычеркнуть его.
Я долго и упорно думала о том, какое же имя дать своему малышу. Я прошла УЗИ на двадцать первой неделе и знала, что будет мальчик. Я выросла на книгах Луиса Ламура11 и была уверена, что родилась не в то время. Если бы у меня была девочка, я бы назвала ее Энни. Как Энни Оукли12, как в «Энни получает ваше оружие»13. Но это был мальчик, и я не могла дать ему имя Моисей.
Я рылась в Библии, пока не нашла стих в Исходе, где Моисей рассказывает о своих сыновьях и их именах. Самого старшего звали Гирсам. Глядя на это имя, я поморщилась. Может быть, оно и было популярно во времена Моисея, как Тайлер, или Райн, или Майкл в наши дни, но я не могла поступить так со своим ребенком. Имя второго сына было еще хуже — Елиезер. В священном писании Моисей сказал, что он назвал его Елиезер, потому что «Бог отца моего был мне помощником и избавил меня от меча фараонова».
В книге детских имен, которую я купила и досконально изучила, говорилось, что имя Елиезер означает «Бог помощь» или «Бог есть его помощь». Мне это понравилось. Я считала так: Моисей был спасен от меча Дженнифер Райт. И, может, был спасен для того, чтобы мой сын смог прийти в этот мир. Я была молода, что я понимала? Но имя казалось подходящим, потому что я не сомневалась, что мне понадобится вся помощь, какую я только смогу получить — от Бога и от всех остальных.
Илай (прим. пер. — имя героя Илай с англ. Eli составлено из первых букв имени Елиезер — Eliezer) Мартин Шепард. Илай, потому что он был сыном Моисея, Мартин в честь моего отца, Шепард, потому что он был моим.
Я завершила последний учебный год, имея огромный живот в связи с беременностью, и окончила школу вместе со своим классом. Я никогда не отвечала на вопросы, никогда не говорила о Моисее. Я позволяла людям судачить, а моему среднему пальцу отвечать вместо меня, когда требовалось ответить. В конце концов, люди свыклись с этим. Но они все знали. Стоило лишь взглянуть на Илая, чтобы все понять.
У Илая были такие же карие глаза, как и у меня, и мама говорила, что у него моя улыбка, но все остальное было от Моисея. Его волосы представляли собой копну черных кудряшек, и мне было любопытно, выглядели бы волосы Моисея также, если бы он их отрастил. Они всегда были подстрижены настолько коротко, что походили на щетину. Мне было интересно, что подумал бы Моисей, увидев Илая. Узнал бы он себя в нашем сыне? Но я сразу отталкивала эти мысли подальше и притворялась, что мне нет до этого никакого дела, снова представляя Моисея безликим человеком, чтобы не начинать их сравнивать.
Но в других аспектах Илай походил на меня. Он был полон энергии и начал ходить в десять месяцев. Следующие три с половиной месяца я только и гонялась за ним. Он смеялся и убегал, и никогда не стоял без движения, кроме тех случаев, когда наблюдал за лошадьми. В такие моменты он вел себя тихо и спокойно, как я и просила его. И он смотрел так, словно в мире не было ничего лучше и ничего прекрасней, и не существовало никакого другого места, где бы он хотел находиться. В точности, как его мама. И кроме детских рисунков, свойственных всем малышам, и случающихся иногда беспорядков, когда он с наслаждением повсюду размазывал еду, больше он не демонстрировал никаких наклонностей к рисованию.
Хотя я не могла все время оставаться дома и заботиться о нем. Моя мама сидела с ним три раза в неделю, пока я час добиралась на север в Университет долины Юты, который был моим планом еще до того, как Илай изменил мои приоритеты. Мечты о родео и стремление быть в баррел-рейсинге лучшей в мире отошли в сторону. Я решила пойти по стопам своих родителей — лошади и терапия. В этом был смысл. У меня хорошо получалось ладить с животными, особенно с лошадьми. Я бы могла заниматься любимым делом и, может быть, со временем научилась бы чему-нибудь, что помогло бы мне свыкнуться с моими отношениями с Моисеем. Я привыкла к своей жизни в Леване. У меня не было планов отсюда уезжать. Это было замечательное место, чтобы растить Илая среди людей, которые его любили. Оба моих родителя были родом отсюда, и их родители тоже, за исключением одной из бабушек, которая преодолела весь хребет, приехав из Фортейн Грин, что по другую сторону холма, в нашу долину. На кладбище предки пяти поколений Шепардов покоились рядом со своими женами. Пять значимых. И я была уверена, что однажды и я буду лежать здесь.
Но Илай меня опередил.
19 глава Моисей
Я не переставал думать об этом. Я не вернулся в дом Джи и не рассказал Тэгу о том, что увидел на кладбище. Меня переполнял бушующий гнев, но он был всего лишь маской, за которой скрывался тихий ужас от осознания правды. Я поехал прямо к Джорджии и широкими шагами обошел вокруг ее дома, направляясь к загонам и хозяйственным постройкам, расположенным позади него. Ее больше не было в круглом загоне. Конь, которого она звала Кас, пасся на пастбище, пощипывая траву недалеко от забора, и как только я приблизился, тут же навострил уши. Он резко заржал и встал на дыбы, словно я был хищным зверем. Я наблюдал, как Джорджия наливает воду в корыто, и так же, как и Кас, она резко вскинула голову и, окаменев, с беспокойством наблюдала за тем, как я приближался.
— Чего ты хочешь, Моисей?
Напрягая мышцы, она перетащила охапку сена ближе к забору и потянулась за вилами, чтобы распределить ее между лошадьми, которые с опаской наблюдали за мной, не желая приближаться, даже если их ужин был подан. Ее голос был жестким и грубым, но на самом деле я слышал в нем панику. Я пугал ее. Я был крупным мужчиной и наводил страх. Но дело было не в этом. Не по этой причине она боялась. Она боялась меня, потому что убедила себя в том, что никогда меня не знала. Я был незнакомцем. Я был ребенком, который рисовал картинки, в то время как его бабушка лежала мертвой на кухонном полу. Я был психом. Некоторые даже считали, что это я убил свою бабушку. А некоторые думали, что я убил много людей. Я не знал точно, что думает Джорджия. Но в тот момент мне было все равно.
— Чего ты хочешь? — повторила она, когда я забрал вилы из ее рук и закончил за нее работу. Я нуждался в отвлечении. Ее руки бессильно упали по бокам, и она сделала шаг назад, явно неуверенная в том, что происходит.
— У тебя был сын.
Я продолжал ворошить сено и сгребать его частями к забору, не глядя на нее, пока говорил. Я никогда не смотрел на членов семьи, обращающихся ко мне. Я просто продолжал говорить, пока меня не прервут, или не накричат, или не зарыдают и не начнут умолять продолжить. Обычно этого было достаточно. Мертвые оставляли меня в покое, когда я доставлял сообщение. И я был свободным до тех пор, пока в следующий раз один из них снова не потревожил бы меня.
— У тебя есть сын, и он продолжает показывать мне образы. Твой сын… Илай? Я не знаю, что именно он хочет, но он не оставит меня в покое. Он не оставит меня в покое, и поэтому я здесь. Может, для него этого будет достаточно.
Она не прервала меня, не накричала и не убежала. Она просто стояла, обняв себя руками, а ее глаза были прикованы к моему лицу. Я мимолетно встретился с ней взглядом и снова отвел его в сторону, сосредоточившись на точке прямо поверх ее головы. С сеном было покончено, поэтому я оперся на вилы и стал ждать.
— Мой сын мертв.
Голос Джорджии звучал неразборчиво, словно ее губы превратились в камень, и она не могла без труда произнести ни слова. Я еще раз быстро взглянул на ее лицо. Она же, напротив, полностью оцепенела. Ее лицо было настолько неподвижным, что напоминало скульптуры из моих книг. В приглушенном свете золотистого полудня ее кожа казалась гладкой и бледной, прямо как мрамор. Даже ее волосы, заплетенные в длинную косу, перекинутую через плечо, выглядели бесцветными и тонкими и напоминали мне о тяжелой веревке, не раз показанной мне Илаем, которая кружилась в воздухе и забрасывалась извилистой петлей через голову лошади с цветными пятнами.
— Я знаю, что он мертв, — спокойно произнес я, но давление в моей голове усиливалось в геометрической прогрессии. Вода поднялась, пульсировала, и полк людей был близок к тому, чтобы прорваться.
— Тогда как он может тебе что-то показывать? — жестко спросила Джорджия.
Я старался сдержаться и встретился с ее взглядом.
— Ты знаешь как, Джорджия.
Она резко затрясла головой, упорно отрицая, что знает хоть что-то о подобных вещах. Она отступила на шаг и метнула взгляд налево, словно приготовившись бежать.
— Ты должен оставить меня в покое.
Я подавил в себе гнев. Я отталкивал его так сильно, только чтобы не толкнуть ее. А я хотел этого, хотел стереть с ее милого личика это выражение отрицания, тыкать ее головой в грязь, пока рот ею полностью не забьется. И вот потом она смогла бы приказать мне уйти. В таком случае я бы это заслужил. Вместо этого я сделал, как она и просила, развернулся и начал уходить, игнорируя маленького мальчика, который семенил позади меня, отчаянно посылая в мой мозг образы своей матери и пытаясь без слов вернуть меня.
— Как он выглядит? — окликнула она меня, и отчаяние, звучавшее в ее голосе, настолько противоречило ее непринятию, что я остановился, как вкопанный. — Я говорю о том, раз ты можешь видеть его, то опиши, как он выглядит.
Илай неожиданно возник прямо передо мной, прыгая вверх-вниз, улыбаясь и указывая пальцем в сторону Джорджии. Я обернулся по-прежнему злой, по-прежнему непреклонный, но все же готовый продолжить. Илай снова оказался напротив меня, стоя между мной и загоном для лошадей. Я посмотрел на него, потом снова на Джорджию.
— Он маленький. У него темные вьющиеся волосы и карие глаза. Такие же, как у тебя.
Она вздрогнула, вскинув руки и прижав их к груди, словно побуждая сердце продолжать биться.
— Его волосы слишком длинные. Кудряшки падают на глаза. Ему нужно подстричься.
Маленький мальчик смахнул с лица упавшую прядь, словно понимал, что я говорил его матери.
— Он ненавидел подстригаться, — мягко произнесла она, но тут же поджала губы, будто жалея, что поддержала разговор.
— Он боялся ножниц, — добавил я.
Воспоминание Илая о стрекотании ножниц возле его ушей заставило мое собственное сердце забиться сильнее. Зрительные образы быстро мелькали из-за ужаса, который испытывал Илай, а ножницы были раза в два больше, чем его голова. Они походили на разинутую пасть тираннозавра Рекса, тем самым доказывая, что память не всегда была точной. Затем образ сменился на другой. Праздничный пирог. Он был шоколадным, а в середине — пластиковая фигурка лошади, вставшей на дыбы. Вокруг нее мерцало четыре свечи.
— Ему четыре, — произнес я, твердо полагая, что это именно то, что Илай пытался мне сказать. Но я и так знал — видел даты на могильной плите.
— Сейчас ему было бы шесть.
Она вызывающе дернула головой. Я ждал. Ребенок выжидающе посмотрел на меня, а потом оглянулся на свою маму.
— Ему все еще четыре, — сказал я. — Дети ждут.
Ее нижняя губа задрожала, и она зажала ее зубами. Джорджия начинала верить мне. Или так, или она начинала меня ненавидеть. Или, может, уже возненавидела.
— Ждут чего? — ее голос был таким тихим, что я едва разобрал вопрос.
— Ждут кого-то, кто бы взрастил их.
Боль, отразившаяся на ее лице, была такой сильной, что я почувствовал вспышку вины за то, что загнал ее в угол. Она не была готова к разговору со мной. Но и я тоже не был готов к такому. Что касается меня, то это было преимуществом.
— Он бы долго тебя ждал, — тихо произнесла она, делая несколько шагов в мою сторону и останавливаясь. Ее поза выражала агрессию, руки были сжаты в кулаки. Горюющая мать исчезла. Теперь она стала обиженной женщиной. А я был тем мужчиной, который заделал ей ребенка, а потом уехал из города.
— Так вот как ты решила все выставить? — я хрипло выдохнул, весь мой гнев снова вернулся, так много гнева, что я хотел начать вырывать из земли столбы ограждения и швырять колючую проволоку.
— Выставить что, Моисей? — огрызнулась она. Я также огрызнулся ей в ответ.
— Факт того, что у нас был сын. У меня был сын! У нас был общий ребенок. И он умер. И я никогда не знал о нем. Я так его и не узнал, Джорджия! Я ни черта о нем не знал. И ты собираешься бросить это дерьмо мне прямо в лицо? Как он умер, Джорджия? А? Скажи мне!
Я знал. Я был почти уверен, что сам это знал. Илай продолжал показывать мне грузовик. Старый грузовик, принадлежащий Джорджии, — Мёртл. Что-то случилось с Илаем в этом грузовике.
Ярость цветными полосками и зигзагами застилала мне глаза. Я почувствовал, как вода начала разделяться, расступаться, и цвета другой стороны начали просачиваться через канал. Я закрыл глаза руками и, наверное, выглядел таким же безумным, каким чувствовал себя, потому что в тот момент, когда я убрал руки, Джорджия уже перепрыгнула через забор и начала бежать. Ее ноги быстро преодолевали расстояние, будто она думала, что я тоже убью ее. И вместо того, чтобы привести в замешательство, ее побег разозлил меня еще сильнее. Она ответит мне. Она расскажет мне. И она сделает это сейчас. Руки и ноги пульсировали, яростный взгляд сосредоточен на ее узкой спине и светлых волосах, выбившихся из косы. Минуя забор, я последовал за девушкой, убегающей от меня, словно я был монстром.
Я дернул Джорджию вниз и повернулся так, чтобы принять ее вес на себя. Мы жестко приземлились, ее голова врезалась в мое плечо, моя голова ударилась о землю, но это нисколько не заставило ее угомониться. Она отбивалась от меня, пинаясь и царапаясь, как дикое животное, и я, перекатившись, навалился на нее сверху, зажал ее руки между нашими телами, а ноги придавил своими.
— Джорджия! — взревел я, прижавшись своим лбом к ее лбу и контролируя каждую ее часть тела. Я мог ощутить, как она задыхалась, кричала, сопротивлялась изо всех своих сил.
— Прекрати! Ты поговоришь со мной. Ты поговоришь со мной. Прямо. Сейчас. Что случилось с ним?
Я ощутил, как заледенели мои руки, и начала гореть шея, и это напомнило мне о присутствии Илая. Я знал, что он наблюдал за нами, наблюдал за тем, как я удерживал его мать. И мне было стыдно. Я не хотел смотреть на него, и я не мог отпустить ее. Мне было необходимо, чтобы Джорджия мне все рассказала. Я переместился так, чтобы не раздавить ее, но по-прежнему прижимался к ее лбу, контролируя ее голову. «Когда лошадь дает тебе свою голову, она — твоя». Слова Джорджии шепотом промелькнули в моей голове. Она не давала мне свою голову, я взял ее сам.
— Говори.
Джорджия
— Мам! Я ухожу! — шагая вдоль кухни, прокричала я и прихватила с холодильника ключи.
— Я тоже хочу пойти.
Илай вскочил с пола, где аккуратно строил загон для скота из фигурок «Линкольн логс» (прим. пер. — детский конструктор, представляющий собой различные наборы деталей для строительства миниатюрных бревенчатых домиков) и побежал к двери, разбрасывая маленькие фигурки во все стороны. Я уже искупала его и одела в его любимую пижаму в виде костюма Бэтмена, даже прикрепив маленький черный плащ, чтобы он мог спасать Готэм между ремонтами загонов. Я подхватила Илая и покружила в воздухе, а он сцепил свои маленькие ножки вокруг моей талии, а ручки — вокруг моей шеи.
— Нет, малыш. Не в этот раз. Ты останешься с бабушкой и дедушкой, хорошо?
Лицо Илая сморщилось, а глаза увлажнились как по заказу.
— Я хочу пойти! — он слезливо запротестовал.
— Я знаю, но меня допоздна не будет дома, и тебе не будет весело, приятель.
— Будет весело! Мне нравится не спать допоздна! — он крепче сжал ноги, а руки были похожи на тиски вокруг моей шеи.
— Илай, прекрати, — засмеялась я. — Дедушка сказал, что посмотрит Джона Уэйна и ковбоев вместе с тобой. И готова поспорить, что бабушка сделает попкорн. Хорошо?
Илай категорично замотал головой, и я видела, что он не собирался идти мне навстречу. В последнее время я слишком часто оставляла его.
— МАМ! Помоги! — я повысила голос настолько, чтобы она услышала меня, где бы ни находилась.
— Ступай, Джордж! Мы заберем его.
Папин голос донесся из задней части дома, и я пошла с Илаем на руках, пока не достигла родительской комнаты. Папа лежал, растянувшись на кровати, с пультом в руке, без обуви, но ковбойская шляпа по-прежнему покоилась на его голове. Он встретил нас с улыбкой и похлопал по кровати, уговаривая Илая присоединиться к нему.
— Ну же, маленький дикарь, посиди с дедом. Давай поищем хорошее ковбойское шоу.
Илай отпустил мою шею и неохотно соскользнул вдоль моего тела, опускаясь на кровать одиноким маленьким комочком. Он опустил голову, давая понять, что несчастлив, но, по крайней мере, он с этим смирился. Я быстро поцеловала его в макушку и тут же отошла, чтобы он не смог снова за меня ухватиться. Его руки были, как липкие щупальца.
— Мы смотрим шоу о ковбоях, мамочка. Мамам вход запрещен.
Илай надулся, отстраняясь меня, как я отстранилась от него, затем скрестил руки и всхлипнул, и я со вздохом посмотрела на папу.
— Спасибо, пап, — произнесла я тихо, и он мне подмигнул.
— Ты слышала его. Никаких мам. Уходи, девочка, — повторил он с улыбкой.
За считаные секунды я вылетела из дома через заднюю дверь, обошла цыплят и двух маминых цесарок Дейму и Эдну и, поправляя волосы, дернула за ручку, чтобы открыть дверь Мёртл. Когда она закрылась, я повернула ключ, и старый грузовик, оживая, загрохотал, а из динамиков громко затрубило радио с песней Гордона Лайтфута If You Could Read My Mind. Я любила эту песню и на секунду замерла, прислушиваясь к ней. Эта станция всегда играла старые песни в стиле кантри. Иногда я сама чувствовала себя деревенской старушкой. Мне было двадцать два года, но в последнее время я ощущала себя на все сорок пять. Тяжело вздохнув, я сползла вниз и опустила голову на руль, позволяя песне захлестнуть меня. Всего лишь на минуту. Я ненавидела оставлять Илая. Это всегда было тяжелым испытанием. Но в тот момент, мне просто нужно было перевести дух. В моей жизни не было тишины. Больше никогда. Не было времени, чтобы отдышаться.
В тот день я просто хотела побыть молодой и красивой и, может быть, потанцевать с парочкой симпатичных ковбоев, притвориться, что мне не о ком беспокоиться, кроме себя одной, даже сделать вид, что я ищу мужчину, как это делали другие девушки. Хотя я в действительности не искала. Илай был единственным мужчиной в моей жизни. Но в тот день мне хотелось, чтобы задуманное мною осуществилось, хотя бы на короткое время. И, может быть, группа сыграла бы эту песню. Я бы заказала ее.
Гордон закончил петь о своем желании читать мысли, и следующая по списку песня была о мамах, не позволяющих своим детям стать ковбоями, когда вырастут. Я слегка рассмеялась. Мой малыш уже был ковбоем. Слишком поздно.
Я еще раз вздохнула и подняла голову с руля. Я посмотрела в зеркало заднего вида, опустила вниз козырек и посмотрела на свое отражение, нанесла немного блеска и причмокнула губами, а затем включила заднюю передачу и начала движение. Пора ехать. Девчонки уже должно быть на месте, а я опаздывала. Как обычно.
Казалось, будто я наехала на бордюр. Раздался глухой удар, а за ним последовал скачок. Не очень сильный удар, и не такой сильный скачок, но что-то произошло. Я выругалась и снова посмотрела в зеркало заднего вида, задаваясь вопросом, что, черт возьми, я переехала.
Я вылезла из грузовика, и шина мгновенно привлекла мое внимание. На нее был намотан черный кусок чего-то. Мусорный пакет? Я ударила мусорный бак? Я захлопнула дверь грузовика и сделала шаг вперед. Всего один единственный шаг. И меня мгновенно озарило, что это. Это был плащ Илая. Плащ-накидка Бэтмена, принадлежащий Илаю, был намотан на покрышку.
Плащ Илая. Плащ Илая, в который он был одет в тот момент. Но Илай был внутри. Илай сидел с моим отцом и смотрел шоу про ковбоев. Я упала на колени, в отчаянии протискиваясь дальше, и уже знала, что я там увижу. Я не могла смотреть. Но должна была посмотреть…
Моисей
Когда Джорджия закончила, я скатился с нее и сел. Она не двигалась и продолжала держать руки скрещенными на своей груди там же, где я их прижимал, пока она рассказывала. Ее голос звучал кричащим шепотом в моих ушах. Ее волосы почти полностью выбились из косы и в беспорядке разметались вокруг головы. Она будто сошла с картины Артура Хьюза, которая мне так нравилась, — «Леди Шалотт». Джорджия выглядела так же, как леди Шалотт: руки сцеплены, волосы веером рассыпаны вокруг нее, взгляд отрешенный.
Но теперь ее глаза не были безучастными. Они были закрыты, и слезы стекали по ее щекам. Грудь поднималась и опускалась так, словно Джорджия только что пробежала марафон. Я прижал руку к своему колотящемуся сердцу и отвернулся от нее, неспособный подняться на ноги. Неспособный ни на что, кроме как положить голову на колени.
А затем Илай показал мне остальное.
Голова Джорджии лежала на руле старого пикапа, а из окон лилась музыка. Я смотрел на нее под странным углом, словно сидел на земле перед ржавым бампером. Волосы Джорджии были длинными и гладкими, сияющими и чистыми, будто она только что высушила их и собиралась в какое-то особенное место. Она открыла глаза и опустила козырек вниз, чтобы проверить, как накрашены губы, а затем сомкнула их и потерла друг об друга, и вернула козырек на место. Ракурс изменился, словно глаза, через которые я смотрел, изменили позицию. Я глядел на заднюю часть грузовика, на откидной борт, который нависал надо мной. Было по-прежнему высоко. Затем картинка покачнулась, словно я попробовал вскарабкаться. Загрохотал двигатель, и ракурс снова изменился — резко, неудобно. Колеса, ходовая часть.
А потом возникло лицо Джорджии, заглядывающее под грузовик. Ужас исказил его. С раскрытым ртом и дикими глазами Джорджия выглядела жутко. У нее было нечеловеческое выражение лица, а затем она закричала: «Илай, Илай, Илай…»
Я почувствовал, как ее крик, отражаясь, прошел сквозь меня, когда связь неожиданно разорвалась, и проникающие в мозг образы исчезли. Но Илай не ушел. Он просто склонил голову на бок и ждал. Затем он улыбнулся — медленно, печально — будто зная, что то, что он показал, причинит мне боль.
И я уронил голову на руки и зарыдал.
Джорджия
Это был один из самых ужасных звуков, которые я когда-либо слышала. Моисей плакал. Его спина тряслась, словно от жуткого смеха, голова покоилась на руках, будто бы он не мог поверить в то, что я ему рассказала. Как это ни странно, когда он скатился с меня, то выражение его лица было отрешенным, застывшим, как гранитная стена. Затем он слегка наклонил голову, словно прислушиваясь к чему-то… или о чем-то задумавшись. А потом он издал наполненный ужасом, душераздирающий вопль и, закрыв глаза руками, полностью потерял контроль. Я даже не была уверена, почему именно он плачет. Я не значила для него ничего. Это было очевидно.
Он всегда был таким холодным и отстраненным, способным уехать без малейшего намека на то, что его волнует разлука. Он не знал Илая. Он никогда не знал о его существовании. Я пыталась рассказать ему. Я приезжала в то проклятое учреждение неделя за неделей, пока мне недвусмысленно не дали понять, что мне не рады. Я написала ему письмо, которое никто бы не доставил. А потом он просто исчез почти на семь лет.
Он не знал об Илае. В этом он был прав. Это должно было позволить легче пережить такие новости. Но судя по тому, как он рыдал, убитый горем, для него это было совсем нелегко.
Я не осмелилась успокоить его. Он бы не захотел моих прикосновений. Я была такой же, как его мать. Я не позаботилась о своем ребенке точно так же, как она не позаботилась о Моисее. Я ненавидела себя почти так же, как Моисей ненавидел меня, и я чувствовала, как эта ненависть волнами исходит от него. Но это не остановило меня от того, чтобы плакать вместе с ним.
Я была почти удивлена, что слезы продолжали идти. День за днем. Бесконечный поток. Мое горе было глубоким подземным источником, который постоянно бурлил и расплескивался, и я рыдала вместе с Моисеем, заливаясь слезами, глядя на чистое голубое октябрьское небо над моей головой. Оно тянулось бесконечно и исчезало за горами, которые окружали мой город, как молчаливые стражи, не дающие никому из нас защиты. Красивые горы. Бесполезные горы. Октябрь всегда был моим любимым месяцем. А потом он забрал Илая, и я его возненавидела. Октябрь приподнес мне подсолнухи — в знак примирения, как мне казалось. Я отнесла их на его могилу, и снова возненавидела октябрь.
И вот подсолнухи тянулись вдоль поля, поросшего травой, а я, не шевелясь, лежала рядом со своей старой любовью, уставившись в пустое небо, проживая еще один пустой день. Моисей так и сидел рядом со мной, согнувшись, и оплакивал сына, которого никогда не знал. Он скорбел открыто, отчаянно, и ничего, что бы он мог сделать, не удивило бы меня больше этого. Его горе стекало вниз и просачивалось в почву под нашими ногами, и то, что он скорбел, смягчило мое сердце. Через какое-то время он повалился на спину возле меня, и, хотя его губы дрожали, а дыхание было прерывистым, всхлипы затихли, и ни одной слезинки больше не пролилось.
— Почему ты здесь, Моисей? — прошептала я. — Почему ты вернулся?
Он чуть заметно повернул голову и встретился со мной взглядом. Злость прошла, и даже ненависть, хотя я не была уверена в том, исчезла ли она навсегда или только на какое-то время. Я неотрывно смотрела в его глаза, и он, должно быть, видел то же самое на моем лице — никакой злости. Отчаяние, принятие, мука, но никакой злости.
— Он привел меня обратно, Джорджия.
20 глава Джорджия
Я провела всю ночь, глядя в потолок своей старой комнаты и вспоминая ту ночь, когда Моисей лежал на спине и разрисовывал стены, пока я не уснула под буйство красок, и белый конь не проник в мои сны.
«Ты боишься правды, Джорджия. А люди, которые боятся правды, никогда не находят ее».
Это сказал мне Моисей, когда лежал рядом со мной и смотрел вверх на голубое небо, которое на самом деле не было голубым. Цвета не существовало. Мой учитель по естественным наукам рассказывал, что восприятие цвета — это просто результат того, как наши глаза воспринимают электромагнитные волны, содержащиеся в пучке света.
Поэтому лгало ли голубое небо, заставляя меня поверить в то, что оно нечто иное? Лгал ли мне Моисей, когда сказал, что Илай привел его обратно? Пытался ли он заставить меня поверить, что он совершенно другой? Он был прав в том, что я боялась. Но я боялась не правды. Я боялась поверить во что-то, что разрушит меня, если в итоге окажется ложью.
Иногда перед рассветом, и только в это время, мне снова снился тот сон. Но вместо белой лошади я видела пегую Илая — Калико. И когда я смотрела в ее глаза, то могла видеть в них своего сына. Словно он, как и слепой мужчина из истории, превратившись в лошадь, мчался к облакам, в голубое небо, которое на самом деле не было голубым, и уже никогда бы не вернулся.
В то утро, сидя за завтраком, я рассказала родителям о возвращении Моисея. Лицо папы побледнело, а мама отреагировала так, словно я призналась, что реинкарнация Теда Банди14 мой новый парень. Несмотря на мои протесты, она незамедлительно позвонила шерифу Доусону, который пообещал ей, что остановится возле дома Кейтлин Райт и нанесет маленький дружелюбный визит новому домовладельцу. Я сомневалась, что шериф Доусон радушно поздравит Моисея с возвращением в наш город, даже если его приезд временный, а я не сомневалась, что так оно и было.
— Ох, Джордж, — пробормотал мой папа, в то время как мама нервно переговаривалась с шерифом. — Тебе придется рассказать ему. Тебе придется рассказать ему об Илае.
Во мне тут же вспыхнули вина и стыд, но я проглотила их, кромсая остывший тост на кусочки достаточно маленькие, чтобы раздать этот жалкий паек легиону мышей.
— Я рассказала ему. Вчера. Всё рассказала.
Я подумала о яростном столкновении, произошедшим днем ранее, и решила больше ничего не говорить.
Отец уставился на меня, потрясение и неверие отражались на его лице. Он вытер рот, а я раскрошила еще один кусок тоста, и мы вместе слушали, как мама выражала беспокойство по поводу возвращения Моисея Райта и того, какое напряжение оно вызовет в округе.
— Как? — заявил мой отец. — Как он воспринял это? Я думал, что он надолго уехал. Неожиданно он возвращается, и он в курсе всех дел? — отец повысил голос, и мама резко посмотрела в его сторону.
— Мартин, успокойся, — она хотела усмирить его, убирая телефонную трубку от лица, чтобы избавить шерифа Доусона от драмы, разворачивающейся по другую сторону линии.
— Мауна, мне вырезали несколько раковых клеток, но я не лишился яиц, поэтому хватит обращаться со мной, как с дрожащим инвалидом! — выпалил он в ответ, на что мама поджала губы.
Он снова посмотрел на меня и вздохнул.
— Я знал, что этот день настанет. Я знал это. Я хотел, чтобы ты позволила мне быть рядом, когда будешь рассказывать ему. Этот разговор не мог быть легким, — он выругался, а затем безрадостно рассмеялся. — Ты самая стойкая девушка из всех, кого я знаю, Джордж. Но было нелегко.
От его сочувствия у меня на глазах навернулись слезы, и я оттолкнула свою тарелку, заставляя башню из хлеба покачнуться и опрокинуться. Я не хотела начинать плакать с самого утра. Если бы я начала делать это с утра, то уже к обеду стала бы разбитой, а у меня не было времени на эмоциональное похмелье.
— Нет. Нелегко. Ни для меня, ни для него.
Отец насмешливо вскинул брови и сел обратно в свое кресло, чтобы посмотреть мне в глаза.
— Я не волновался насчет Моисея. Ты единственная, о ком я беспокоюсь в этом разговоре.
Я кивнула и направилась к двери. Мой отец имел право на гнев. Полагаю, мы все имели. Я толкнула дверь с проволочной сеткой и задержалась на крыльце, чтобы прочувствовать, как щиплется прохладный воздух. Это тут же привело мои мысли в порядок.
— Как он воспринял это, Джордж? — отец последовал за мной и стоял в дверном проеме. — Когда ты рассказала ему, как он отреагировал?
Я могла заметить, что он по-прежнему злился и не был готов прекратить раздувать пламя. Гнев утомлял. Не зависимо от того, было ли у меня право на это, было ли у отца право на это, но внезапно я засомневалась, что хочу и дальше продолжать испытывать злость.
Я сконцентрировалась на том, чтобы наполнить легкие кислородом — один раз, второй, третий — прежде чем ответила ему:
— Он плакал, — я спустилась с крыльца и направилась к конюшне. — Он плакал.
Моисей
— То есть ты просто уедешь? — вскинув руки, произнес Тэг.
— Покраска закончена. Скоро привезут ковер. У меня даже есть покупатель. Нет причин оставаться, — я сложил неиспользованные галлоны с краской в свой грузовик и вернулся обратно в дом, составляя мысленный список того, что еще необходимо сделать, прежде чем я смогу убраться подальше из этого города.
— Ты выяснил, что у тебя был сын. С девушкой, в которую, как ты говоришь, не был влюблен, но которую не можешь выбросить из головы. Ты также узнал, что твой сын — ее сын — погиб при трагических обстоятельствах.
Я игнорировал Тэга и сворачивал оставшуюся ветошь. Ковровое покрытие должны были привезти сюда через час. Как только его уложат, женщина, которую я нанял, чтобы прийти и навести порядок, смогла бы приступить к уборке. Вообще-то, мне следовало бы позвонить ей и узнать, не сможет ли она начать в этот же день с кухни и ванной комнаты, просто чтобы ускорить процесс.
— Все это ты узнал вчера. Сегодня ты пережил это. Завтра ты уезжаешь.
— Я бы уехал сегодня, если бы мог, — резко ответил я.
Я не видел Илая на протяжении двадцати четырех часов с тех пор, как он показал мне, как умер.
— Джорджия знает о твоем отъезде?
— Она сказала мне оставить ее в покое. К тому же, она мне не верит.
Это заставило Тэга умолкнуть, и его шаги замедлились. Он провел всю ночь, с пристрастием выпытывая у меня детали, но об этом факте я забыл упомянуть. Я не рассказал ему, что мы были в поле, оба эмоционально истощенные, как лежали на спине и смотрели в небо, потому что не могли посмотреть друг на друга. Я не рассказал Тэгу, что Джорджия ответила на мои слова о том, что Илай привел меня обратно.
***
— Единственное, что не дало мне сломиться, это правда, — произнесла она.
Я молчал, не понимая значения ее слов, и ждал, что она объяснит мне.
— Люди говорили «он в лучшем месте», или «ты увидишься с ним снова», или «он на небесах». Что-то в этом роде. Но это только ранило меня. Это заставляло меня чувствовать себя недостаточно хорошей для него, так, словно ему было бы лучше без меня. И это сыграло свою роль в том, что я и так подозревала — я не была достаточно хорошей для него. Я была молодой и глупой, и я не была достаточно заботливой.
Ее боль ощущалась в воздухе так явственно, словно была осязаемой, и когда я попытался вздохнуть, она заполнила мои легкие, мое горло сжалось, а грудь отчаянно нуждалась в кислороде. Но Джорджия не остановилась.
— После несчастного случая единственное, что я считала истиной, это то, что Илай мертв. Я убила его. И с этим мне придется жить всю оставшуюся жизнь.
Джорджия решительно посмотрела на меня. Огонь, свойственный ей прежде, снова зажегся в глазах, будто она ждала, что я стану с ней спорить. Но препирательство было последним, что бы я стал делать. Я уже давно уяснил, что люди думают то, что хотят думать, верят в то, во что хотят верить, и никакие разговоры не изменят их мнение. Поэтому я встретил ее пристальный взгляд и ждал.
— Он мертв, Моисей. Такова истина. Я жива. И это истина. Я не собиралась убивать его. Еще одна истина. Я бы отдала ему свою жизнь, если бы могла. Я поменялась бы с ним местами, если бы могла. Я бы сделала все, что угодно, только бы вернуть его обратно. Отдала бы все, что есть. Пожертвовала бы всем, чем угодно. Кем угодно. И это тоже правда.
Внезапно Джорджия замолчала и сделала глубокий вдох, который был дрожащим и прерывистым, словно ее горло сжалось слишком сильно, чтобы она могла вздохнуть полной грудью. Она разорвала зрительный контакт, повернув голову так, словно мое кажущееся принятие ее правды слегка ошеломило ее.
— Поэтому, пожалуйста, не лги мне, Моисей. Это все, что я прошу — не лгать мне. И я не стану лгать тебе. Я расскажу тебе все, что ты захочешь знать. Но не лги мне.
Она думала, что я вру ей. Она думала, что все это было безумством, и она не верила, что я мог видеть Илая. Она хотела, чтобы я сказал ей правду. Но что делать, когда все называют твою правду ложью?
— Ты боишься правды, Джорджия. Люди, которые боятся правды, никогда ее не находят, — сказал я ей. Но она не смотрела на меня, снова уставившись в небо, давая понять, что разговор окончен. Я подождал еще несколько долгих минут и, в конце концов, поднялся на ноги, оставляя ее, леди Шалотт, владычицу озера, лежать на траве. У меня тряслись ноги, и, уходя прочь, я чувствовал себя выжатым, как лимон.
***
— Я сделал все, ради чего приехал сюда, — сказал я Тэгу, несмотря на то, что понятия не имел, было ли это правдой, но звучало хорошо. Если это было именно тем, в чем нуждался Илай. Что, по его мнению, я должен был увидеть и сделать, в таком случае все завершено. Закончено. Я лишь хотел уехать, и чем скорее, тем лучше.
— Мы не закончили с покраской, — Тэг предпринял еще одну попытку, я же продолжал собирать вещи.
— Наверху есть еще один рисунок на стене. Или ты забыл про него? — спросил Тэг.
— Я ничего не рисовал наверху. Я был чертовски измотан, но я также уверен, что не поднимался на второй этаж.
Я спустился по той лестнице и вышел из дома прямиком в сторону конюшни, где и нашел Джорджию. И после этого я больше ни разу по ней не поднимался.
— Пошли. Я покажу тебе, — Тэг нетерпеливо взбежал по лестничному пролету, и я без всякого энтузиазма последовал за ним. Я до смерти устал смотреть на дела своих рук. Мой желудок стянуло узлом, как рыболовную сеть, стоило мне ступить в дом Джи. И это ощущение не ослабевало. Но когда Тэг открыл дверь моей старой комнаты и указал на стену, я осознал, что это не было моей работой, о которой я забыл.
На стене все еще красовался схематичный рисунок.
— Может, я ошибаюсь, но мне кажется, что это состряпал Моисей Райт. Похожий стиль… но не закончено до конца, — сказал Тэг, прищуриваясь и поглаживая подбородок, будто бы и в самом деле изучает произведение искусства.
— Это была Джорджия.
— Да неужели? — издеваясь, произнес он удивленно, и я рассмеялся, погружаясь в воспоминания.
Наступила последняя суббота перед началом учебного года. Джорджия так и не появилась возле забора, как делала это ежедневно во время обеда. К тому времени, как я все сделал, я убедил себя, что это и к лучшему. Скатертью дорога. Я все равно ее не хотел. Я с топотом поднялся вверх по лестнице в ванную комнату, испытывая ярость, от которой дым шел из ушей, и, стискивая зубы, принял душ, только чтобы войти в свою комнату в одном полотенце, обернутом вокруг бедер, и замереть от изумления.
Джорджия оставила рисунок на моей стене.
Он выглядел, как комикс, нарисованный детской рукой, состоящий из схематичных изображений человечков и облаков с текстом.
У женской фигурки были длинные светлые волосы и ковбойские сапоги, а у мужской — яркие зеленые глаза, кисточка и совсем никаких волос. На одном кадре неуклюжие схематичные человечки держались за руки, на другом — целовались, а в финале девушка — Джорджия — бьет парня, то есть меня, по голове.
— Что за черт… — тихо произнес я.
— Классный прикид! — весело прощебетала Джорджия, которая сидела посередине моей кровати скрестив ноги.
Я в неверии покачал головой и указал на дверь.
— Выйди.
Она засмеялась.
— Я закрою глаза.
Я заворчал и устремился к комоду. Одной рукой я собрал одежду и прошествовал прочь из комнаты, с грохотом захлопнув дверь ванной, словно рассердился по-настоящему, хотя это было не так. Я был в восторге увидеть ее.
Я вернулся полностью одетый и, скрестив на груди руки, встал в дверном проеме и начал пристально рассматривать ее ужасные каракули.
— Ты злишься на меня? — она наморщила лоб и больше не улыбалась, а ее взгляд стал обеспокоенным. — Я думала, ты посмеешься. — Она пожала плечами. — Я сказала Кейтлин, что хочу сделать тебе сюрприз. И она ответила «Вперед!». Я так и сделала. Я воспользовалась твоими красками, но вернула все на место.
— Почему ты бьешь меня по голове?
— Это наша история. Мы встречаемся. Ты меня спасаешь. Я целую тебя. Ты целуешь меня в ответ, но ведешь себя так, будто я не нравлюсь тебе, даже когда я знаю, что нравлюсь. Поэтому я вбиваю в твою голову немного здравого смысла. И да, это прекрасное чувство, — она дерзко ухмыльнулась, и я снова вернул взгляд на ее рисунок. Это, и правда, слегка ударяло в голову.
— Этот рисунок ужасный.
Он был ужасным. И забавным. И очень в стиле Джорджии.
— Ну, не все мы можем быть Леонардо Ди Каприо. Ты рисовал на моих стенах, я разрисовала твою. И ты даже не должен платить мне. Я просто стараюсь подружиться с тобой на почве искусства.
— Ты имеешь в виду Леонардо да Винчи?
— Его тоже, — она снова улыбнулась и легла на спину, похлопывая по кровати рядом с собой.
— Ты могла бы, по крайней мере, нарисовать мне бицепсы. Он вообще не похож на меня. И почему я говорю: «Не делай мне больно, Джорджия!»?
Я шмякнулся на кровать и намеренно частично приземлился на нее сверху. Она заерзала и, задыхаясь, стала пододвигаться, пытаясь освободить себя от моего умышленного давления.
— Ты прав. Может, мне стоило написать эти слова так, будто их произношу я, — она захихикала. Но взгляд ее темных глаза заставил меня опустить голову и зарыться лицом в ее шею, чтобы мне не пришлось думать о неизбежности ее страданий.
Она погладила меня по голове, и я вздохнул напротив ее кожи.
— У нас получается дружить на почве искусства? — прошептала она мне на ухо.
— Нет. Давай дружить по причине кое-чего другого, что у тебя действительно хорошо получается, — пробормотал я в ответ и почувствовал, как ее грудь вибрирует от смеха.
— Она хотела дружить со мной посредством искусства, — произнес я, слегка улыбаясь.
Тэг фыркнул от смеха и подошел к схематичным рисункам. Он провел пальцем по сердцу, которое Джорджия нарисовала над целующимися фигурками.
— Мне она нравится, Мо.
— Она всегда могла заставить меня смеяться. И она была права, — признался я.
— Насчет чего?
— Я всегда вел себя, будто бы она мне не нравилась, несмотря на то, что это было не так.
— Представьте себе, — беззлобно произнес Тэг. Но его глаза нашли мои, когда он развернулся и вышел из комнаты.
— Мо? — позвал Тэг, пока спускался по лестнице.
— Да?
Я осознал, что еще не готов расстаться с этим рисунком на стене, и стоял, наслаждаясь им, словно открыл для себя призрачного Пикассо, украсившего мою бывшую комнату.
— У нас гость, но ты не спеши. Гость не женского пола.
Когда я снова вышел наружу, Тэг стоял, прислонившись к внедорожнику с надписью «Департамент шерифа округа Джуэб» на двери, и разговаривал с шерифом Доусоном так, словно они были просто парой ковбоев, которые, сидя в седле, трепались друг с другом после долгого дня. Шериф Доусон не сильно изменился. Может, только появилось немного больше морщинок вокруг его голубых глаз, которые были абсолютно холодными, когда он нацелил свой взгляд на меня. И это тоже не изменилось.
— Несколько лет назад не занимались ли вы с моим отцом бизнесом, связанным с лошадьми? — Тэг просто продолжил непринужденно болтать, притворяясь, что не заметил, как накалилась атмосфера, или того факта, что шериф больше его не слушал.
Шериф Доусон мельком взглянул на него.
— Э, да. Да, было такое. Но это было гораздо раньше, чем несколько лет назад. Я подковал нескольких его лошадей и продал ему пару аппалузских верховых, которые ему понравились.
— Все верно. Мы с вами немного поговорили о родео. Раньше я немного занимался ловлей быков без лассо, когда не устраивал дебош. А вы участвовали в командном заарканивании?
— Иногда. Я набрасывал лассо на ноги. Но большего успеха я добился в заарканивании телят.
Шериф говорил спокойным ровным тоном, но умение Тэга вести непринужденный разговор не могло отвлечь его внимание, и когда я направился в его сторону, то он вообще перестал обращать внимание на Тэга.
— Ты продаешь землю? — прямо спросил шериф. Он не протянул руку для приветствия, и я не предложил ему свою.
Я пожал плечами. Я не был обязан давать ему какие-либо объяснения.
— Тэг говорит, вы занимались покраской. Это хорошо. Люди могут не то подумать, если увидят, что ты нарисовал по всему дому.
Тэг слегка переместился, и на его лице отразилось выражение, которое я прежде уже видел несколько раз.
— Вы здесь с какой-то конкретной целью, шериф? — сдержанно спросил я.
Мне было интересно, знал ли он о беременности Джорджии, когда пришел в «Монтлейк», чтобы допросить меня по поводу Молли Тэггард. Это был февраль, и о положении Джорджии хоть кто-нибудь, да знал. Это проливало свет на ехидные комментарии и небольшие отступления, которыми он обменивался со своим жирным помощником. Шериф Доусон был близким другом семьи Джорджии. У меня не было сомнений, что он знал все насчет Илая. Если на то пошло, я не сомневался, что и весь город знал. Я вдруг задался вопросом, относились ли к моему сыну с презрением или опасением из-за меня, из-за того, что я сделал. Относились ли так же и к Джорджии? От этой мысли мои руки заледенели, а живот неприятно скрутило.
— Я здесь всего лишь для того, чтобы узнать о твоих планах, — откровенно признался он.
Лицо Тэга снова исказилось.
— Неужели?
Я засунул руки в карманы и постарался не думать о том, как люди могли обращаться с Джорджией, когда узнали, что она носит моего ребенка. Я пытался не думать о том, как люди могли смотреть на нее и Илая, когда они бывали в обществе. Я старался не думать о том, как люди перешептывались или пристально наблюдали за тем, не станет ли Илай таким же, как я.
— Джорджия достаточно настрадалась. И вся ее семья тоже. Они не нуждаются в том, чтобы ты еще добавил им страданий, снова вызывая лишние разговоры и неприятности.
Я не мог поспорить ни с чем из этого, но меня взбесило, что он вдруг стал выступать в роли представителя их семьи.
— Джорджия красивая девушка, вы так не считаете? — выпалил Тэг. — Она с кем-то встречается? Черт, шериф, не вижу на вашем пальце кольца. Вы когда-нибудь думали подставить ей свое плечо, чтобы она могла выплакаться на протяжении всех тех трудных времен? Вы старше ее на двадцать лет, но некоторым девушкам нравятся мужчины постарше, не так ли?
Я еще никогда так не хотел ударить своего друга в лицо, как в тот момент. А ведь за время нашего путешествия несколько раз дело доходило даже до драки. Я хотел стереть с лица Тэга эту самодовольную ухмылку, и в этом я был не одинок. У шерифа Доусона покраснели уши, и в его участливом и беспокоящемся выражении лица государственного служащего проскользнуло что-то еще.
— Для меня это кажется немного странным, шериф, но я всякого повидал. Провинциальная жизнь — она такая. Черт, все связаны родственными отношениями со всеми. Все про всех знают. Я даже не отсюда родом и то знаю слишком много.
Шериф глядел на Тэга, прищурив глаза, и, хотя он сохранял на лице благодушную улыбку, я мог заметить, что он совсем не в восторге от мнения Тэга. Тэг присел возле внедорожника, абсолютно расслабленный, совершенно не беспокоясь о том, что нажил себе нового врага.
Мы все обернулись, когда грузовик службы доставки вырулил из-за угла, подпрыгивая то на одной выбоине, то на другой. Привезли ковровое покрытие. Шериф Доусон вернулся в свой внедорожник и захлопнул дверь к тому времени, как с рывками и толчками подъехал грузовик доставки.
— Если бы вы уделили столько же времени тем выбоинам, сколько уделяете Моисею, мне кажется, весь город был бы счастлив, — Тэг продолжил говорить, тем не менее, отойдя от машины, когда шериф Доусон завел ее, включил задний ход и начал отъезжать.
— Вы правы в одном, мистер Тэггарт, — выкрикнул шериф Доусон из окна. — Все друг друга знают. И всем все известно по поводу Джорджии и Илая. И Джорджия заслуживает намного, намного лучшего.
Сквозь ветровое стекло он встретился со мной взглядом, покачал головой, словно не верил, что у меня хватило наглости вернуться, и уехал.
21 глава Моисей
Наемная уборщица, которой оказалась молодая девушка, могла прийти только на следующий день, хотя я и постарался подкупить ее более высокой оплатой. Ей было семнадцать, и ее парень участвовал в футбольной игре, которую она не хотела пропустить.
Я сорвал листовку с ее координатами с доски объявлений, которая висела в местном магазинчике на маленькой заправочной станции, стоящей на перекрестке, где разветвляется старое шоссе. Одна дорога вела на юг в сторону Ганнисона, другая — на запад к старой угольной шахте и еще дюжине крохотных точек на карте, которые с натяжкой можно было бы назвать городами.
Мы кинули наши спальные мешки на новый ковролин в предвкушении провести нашу первую ночь в доме, и последнюю, если все пошло бы по плану. Три предыдущие ночи мы спали снаружи на траве, и было несколько холоднее, чем нам бы хотелось. Тэг бросил шутливый комментарий по поводу того, чтобы поспать в амбаре Джорджии, чтобы оставаться в тепле, но взгляд, которым я его одарил, заставил его немедленно заткнуться. Я рассказал Тэгу о том утре, когда умерла моя бабушка. Он знал, что последнюю ночь я провел с Джорджией в амбаре. Он знал, что я пришел домой и нашел свою мертвую бабушку на кухонном полу. Ночь, проведенная в амбаре, была последними мгновениями жизни до. Они были последними мгновениями с Джорджией. Поэтому шутки о том, чтобы переночевать в нем, были неуместны.
Это произошло после того, как мы съели пару банок супа и почти целую булку хлеба — режущий ухо звон дверного звонка пронесся по пустому дому. Я почти ожидал шерифа Доусона снаружи вместе с группой горожан, вооруженных факелами. Но на пороге с нерешительным выражением лица стояла Джорджия и прижимала к груди большую книгу.
— Я подумала… подумала, — она запнулась и замолчала, затем сделала глубокий вдох и встретилась со мной глазами.
Она твердо произнесла каждое слово, не позволяя себе снова замяться.
— У меня есть фото Илая. Я подумала, может быть, ты хотел бы взглянуть на них.
Она протянула мне большую книгу, и я понял, что это был фотоальбом. Он был по меньшей мере пять дюймов толщиной, переполненный страницами и с распухшим переплетом. Я просто уставился на альбом, не прикасаясь к нему, и ее руки медленно опустились. Ее челюсть сжалась, а взгляд стал жестким, когда я, наконец, поднял на нее глаза. Она думала, что я отталкиваю ее. Снова.
— Да. Я бы хотел посмотреть их. Ты посмотришь их вместе со мной? — мягко спросил я. — Я хочу, чтобы ты рассказала мне о нем. Я хочу историй. Подробностей.
Она кивнула и нерешительно шагнула внутрь, когда я шире открыл дверь, приглашая ее войти. Ее взгляд наткнулся на голые стены и новый ковер, и она заметно расслабилась.
— Я хотела ее часы, — произнесла она.
— Что?
Я смотрел в упор на ее гладкие длинные волосы и то, как они спускались по плечам, вниз по спине и заканчивались в нескольких дюймах выше талии.
— Часы с кукушкой, которые всегда у нее были здесь. Мне они очень нравились, — объяснила она.
— Мне тоже.
Мне было интересно, где они теперь. Я надеялся, что они не лежат где-то в коробке.
— Хоть что-то осталось в доме?
Я покачал головой.
— Только рисунки.
Как только эти слова слетели с моих губ, я пожалел, что произнес их. Я не знал, что такого было в Джорджии, но она всегда оказывала на меня подобный эффект. Она разрушала мои защитные барьеры, и желание говорить правду вылезало наружу со всеми своими недостатками и пестрыми цветами.
Джорджия просто так же откровенно посмотрела на меня, словно пытаясь разгадать, что я замыслил, но затем пожала плечами и отступила. Мы медленно прошли вдоль кухни, и я извинился за недостаток мебели. В конце концов, мы расположились в столовой, прижавшись спинами к стене и положив книгу к себе на колени. Тэг был занят делами на кухне и с улыбкой поприветствовал Джорджию, задав вопрос про Каса.
— Тебя сегодня сбросили, Джорджия?
— Не-а. Я редко оказываюсь сброшенной. Зато у меня хорошо получается выжидать.
— Не займет много времени, прежде чем он даст тебе свою голову, — пробормотал я. Джорджия резко посмотрела на меня, и я еще раз мысленно отругал себя.
— Мне бы хотелось понаблюдать за тобой время от времени. Мы с Моисеем посмотрели весь мир, но уже довольно давно я не проводил время с лошадьми. Может, ты дашь мне прокатиться до того, как мы уедем, — Тэг улыбнулся и снова подмигнул ей, прежде чем извиниться и направиться к входной двери. От моего взгляда не укрылось, что Джорджия вздрогнула при упоминании о нашем отъезде.
— Я еду в Нефи, чтобы немного развеяться и, возможно, сыграть в бильярд. Тот кабак так и остался на Мейн?
— Да. Хотя мы не называем его кабаком, Техас. Это немного преувеличено. Мы называем его бар. Но там в дальнем конце есть стол для бильярда, и, если тебе повезет, найдется кто-нибудь в состоянии стоять на ногах, чтобы сыграть, — сухо произнесла Джорджия.
— Ты это слышал, Моисей? Она уже дала мне прозвище. Тэг — Моисей: один — ноль, — он загоготал и успел выйти через парадную дверь прежде, чем я смог ответить.
Джорджия засмеялась, но я хотел пойти следом за ним и швырнуть его задницу на землю. Тэг не всегда понимал, когда нужно закрыть свой рот.
Но едва он ушел, я бы с радостью пожелал, чтобы он вернулся.
Без него в доме было слишком тихо, и мы с Джорджией застряли в пустой комнате, не зная, что сказать, и одновременно желая сказать слишком многое. Это казалось до странности правильно и в тоже время ужасно неправильно сидеть рядом с ней, вытянув ноги, касаться друг друга плечами и находиться с ней бок о бок. Глубоко вздохнув, Джорджия дрожащей рукой открыла альбом и заполнила тишину фотографиями.
Там были фото уставшей Джорджии с растрепанной косой, которая пустым взглядом смотрела в объектив и слегка улыбалась. Черноглазый младенец с пухлым лицом и в крошечной синей шляпе сидел у нее на руках. Там были фото морщинистых ножек, и миниатюрных кулачков, и голых ягодиц, и копны черных волос, сфотографированные крупным планом. Все зафиксировано до мельчайших подробностей, словно каждая деталь была отмечена и отпразднована.
Мы переворачивали страницы, и время шло дальше. Визжащий младенец со сморщенным личиком стал улыбающимся малышом с двумя зубами и слюной на подбородке. Два зуба превратились в четыре, четыре — в шесть, и Илай отпраздновал свой первый день рождения, получив торт, который по размеру был больше него самого. На следующем снимке у него была сахарная глазурь в кулаках, а на голове — бант. На последующем фото бант уже исчез, а его место заняли шарики глазури.
— Он был очень неряшливым ребенком. Я не могла сохранять его в чистоте и, в конце концов, сдалась и позволила ему этим наслаждаться, — Джорджия говорила шепотом, глядя вниз на улыбающегося малыша. — В этот день рождения мы подарили ему первую пару ботинок. Он не снимал их. Он кричал, когда я пыталась стянуть их с него.
Она перевернула страницу и указала на фотографию. Илай спал в своей кроватке. Он лежал попой, завернутой в пеленку, вверх и подмяв под себя руки. И на нем были одеты ботинки. Я засмеялся, но мой голос дрогнул, и я быстро отвел взгляд. Я чувствовал, как она мельком посмотрела мне в лицо, но перевернула страницу и продолжила.
Празднования Рождества, Пасхи и Четвертого июля. Фотографии с Хэллоуина, на которых Илай держал мешок со сладостями и был одет только в плащ и трусы, напомнили мне о его пижаме в виде костюма Бэтмена — пижаме, в которой он был всегда, где бы я его ни видел.
— Ему нравился Бэтмен?
Она резко посмотрела на меня.
— Была ли у него пижама в виде костюма Бэтмена?
— Да. Была, — кивнула она. Ее лицо было таким же белым, как свежевыкрашенные стены позади нас. Но она перевернула следующую страницу, не сказав больше ни слова.
Дальше следовали фото вылазок с палатками, и парадов, и постановочные снимки, на которых его волосы были приглажены, а рубашка чистой, что было редкостью для повседневных фото. Он чувствовал себя комфортно перед объективом, и страницы были наполнены его улыбкой.
— Он выглядит счастливым, Джорджия, — это было скорее утверждение, нежели вопрос, но Джорджия, кивнув, все равно ответила мне.
— Он был счастливым ребенком. Я не знаю, насколько я поспособствовала этому. Он был полон озорства, полон веселья, полон всех самых лучших вещей, даже несмотря на то, что я не всегда это ценила. Иногда я просто хотела, чтобы он посидел на месте. Понимаешь?
Ее голос наполнился грустью, и она постаралась улыбнуться, но улыбка дрогнула и соскользнула с лица, и Джорджия покачала головой, как будто подчеркивая этим свои признательные слова.
— Я говорила, что не буду лгать тебе, Моисей. И правда заключается в том, что я не была самой лучшей матерью в мире. Я столько раз мечтала просто иметь хоть секунду, чтобы вздохнуть. Я слишком уставала. Я старалась работать, и ходить на учебу, и заботиться об Илае. И я мечтала о тишине. Так много раз я просто хотела поспать. Я просто хотела побыть одной. Знаешь, как говорят: будь осторожен в своих желаниях?
— Джорджия, остановись.
Я не понимал, почему она придает столько значения тому, чтобы я знал эту «правду». Как будто она чувствовала себя недостойной какого-либо уважения.
— Мне кажется, что ты справлялась просто отлично, — произнес я мягко.
Она проглотила комок в горле и внезапно захлопнула альбом, сбрасывая его с колен и вскакивая на ноги.
— Джорджия, — запротестовал я, тоже поднимаясь на ноги.
— Я больше не могу смотреть. Я думала, что смогу. Тебе придется закончить одному.
Она не смотрела на меня, и я знал, что она едва сохраняла самообладание. Ее рот был напряжен, а руки сжаты так же сильно, как и челюсть. Поэтому я кивнул и не погнался за ней, когда она побежала к двери. Затем я сполз обратно на пол и взял альбом в руки, крепко стиснув его, но так и не нашел в себе сил его раскрыть. Я тоже больше не мог смотреть.
***
Образ Джорджии с улыбкой на лице и весельем в карих глазах, со светлыми волосами, развевающимися так, словно она скакала верхом на лошади, которую я не мог видеть, замерцал и стал более отчетливым. Но она не была верхом на лошади. Она прыгала на кровати, которая была укрыта джинсовым одеялом, отделанным тесьмой, и усеянным изображениями лассо. Я наблюдал за ней глазами Илая, когда она еще раз взлетела вверх и опустилась вниз, а затем плюхнулась рядом с ним. Хихиканье Илая вызвало боль в моей груди, словно я смеялся и не мог отдышаться. Джорджия улыбнулась мне, и будто бы поцеловала меня на ночь, а я словно смотрел на нее снизу-вверх, лежа на подушке, которая сбилась в кучу где-то сбоку. Затем Джорджия наклонилась и поцеловала мое лицо. Поцеловала лицо Илая.
— Спокойной ночи, вонючка Стьюи! — произнесла она, уткнувшись носом в его шею.
— Спокойной ночи, жадина Бейтс! — весело ответил он.
— Спокойной ночи, упрямец Дэн! — тут же выпалила она.
— Спокойной ночи, грубиянка Боунс! — сдавленно засмеялся Илай.
***
Я проснулся, вздрогнув от того, что моя шея затекла, а щека была влажной из-за слюны, стекающей изо рта на фотоальбом, оставленный Джорджией. Я уснул, цепко держа его в руках, а в итоге он оказался на полу у меня под головой. Я задумался о том, что разбудило меня: дискомфорт или сон о Джорджии, целующей Илая на ночь. Но поднявшись на ноги, я тут же испытал слишком знакомое ощущение непрошенных гостей. Мои пальцы согнулись и начали холодеть, но я оттолкнул прочь всепоглощающее желание заполнить свежевыкрашенные стены чем-нибудь еще. Чем-то живым. Или тем, что когда-то таким было.
Я осторожно проверил воду, сопротивляясь порыву что-то сотворить, и посмотрел сквозь мерцающие стены, пытаясь мельком взглянуть на того, кто ждал по другую сторону. Я хотел снова увидеть Илая. Я боялся того, что он не возвращался.
Первый человек, о ком я подумал, была Молли. У нее были такие же волосы, но когда я позволил водам рассеяться, то смог увидеть, что это была другая девушка. Я позволил ей перейти, прижимаясь спиной к стене и с любопытством наблюдая за ней. Она совсем ничего мне не показала, не посылала никаких образов своих близких или отрывков из ее ушедшей жизни. Она просто прошла к самой дальней стене гостевой комнаты, к стене, которую мы с Тэгом покрыли белой краской. Мы закрасили все стены, уничтожив все, что на них было.
Она прислонилась к стене рукой, почти как к мемориалу. Это напомнило мне людей, внимательно изучавших имена солдат, высеченные на стене мемориала ветеранов вьетнамской войны, который мы с Тэгом посетили в Вашингтоне, округ Колумбия. Эта стена гудела от скорби и воспоминаний, и притягивала умерших, чьи близкие приходили туда.
Девушка медленно провела пальцами по свежей краске, а затем оглянулась и посмотрела на меня. И на этом все. А затем она и вовсе исчезла.
Раздался яростный звонок, и я начал бродить по комнате в поиске телефона. Прежде, чем ответить, я проверил, который час, и сразу понял — хороших новостей не жди.
— Моисей? — его голос отражался эхом, словно он стоял в пустом холле.
— Тэг. Три часа ночи. Где ты?
— Я в тюрьме.
— Ну, Тэг, — я застонал и провел рукой по лицу. Мне не следовало отпускать его. Но Тэг довольно долго держал себя в руках, и пиво давно не сбивало его с пути.
— В Нефи. Я облажался, Мо. Я играл в бильярд, потягивал пиво, болтал с местными парнями. Джорджия была права, все были пьяны в стельку, но и выигрывать было проще. Все шло хорошо. Потом эти парни начали обсуждать пропажу девушек. Это привлекло мое внимание, и я спросил, что за пропавшие девушки. Один из них принес мне листовку, которая была прикреплена к стене. Девушка, которая пропала без вести, была юной светловолосой девчонкой, может, лет семнадцати. Последний раз ее видели в Фонтейн Грин прямо по другую сторону холма четвертого июля. Это напомнило мне о Молли, Мо. Они сказали, что, по слухам, она была своего рода сумасбродной. То же самое люди говорили и о Молли, будто она сама была виновата в собственной смерти.
Голос Тэга повысился, и я мог слышать, как все та же давняя боль заполняет его мрачную голову.
— Затем парень, сидящий у бара, оживился и упомянул о том, что ты вернулся в округ. Они все начали строить предположения, что это ты все эти годы забирал всех тех девчонок. Они сказали, что их было несколько. Все они помнили рисунок в туннеле. Один из них даже знал, что именно ты сказал полиции, где найти Молли. Мне не следовало ничего говорить, Мо. Но я не такой. Понимаешь?
Да. Я понимал. И застонал, зная, что последует дальше. Мое лицо горело, а дыхание участилось. Я знал, что меня ненавидели, но не знал всех причин, почему.
— Следующее, что я понял — один из стариков направляет кий мне в голову.
Я снова застонал. Тэг любил драки. Я был почти уверен, чем все это закончилось.
— В итоге, теперь я оказался здесь — в окружной тюрьме. Шериф Доусон был так рад меня видеть, он лично допрашивал меня. По правде говоря, я провел последние два часа, отвечая на вопросы о том, где я был четвертого июля, как будто я имею отношение к исчезновению девушек. А потом мне стали задавать вопросы о тебе. Не знаю ли я, где ты был четвертого числа? Вот ведь дерьмо, — выплюнул Тэг с отвращением. — У меня был бой в тот вечер, помнишь? Поэтому, к счастью, я смог предоставить им довольно подробную информацию о месте нахождения и времени для нас обоих. Мне придется заплатить штраф и, уверен, владелец «Грязных обезьян» захочет, чтобы я оплатил ущерб. Что я и сделаю. Но твой грузовик все еще там, припаркован на Мейн. Поэтому тебе нужно приехать и забрать меня утром.
— «Грязные обезьяны»?
У меня начинала болеть голова.
— Ну или как оно там называется. Может «Белозадая цыпочка», но звучит как-то унизительно, — Тэг задумался, прежде чем продолжить освещение событий. — Все это липа. Они отпустят меня, но не раньше завтрашнего утра. Они говорят, что я выпил слишком много, и сегодня ночью мне придется спать в клетке. И мне велено не покидать округ в течение сорока восьми часов.
Я мог сказать, что Тэг нисколько не был пьян. Я видел его пьяным. Я вытаскивал его из бара прежде, извивающегося и матерящегося, выпившего несколько бутылок пива, и нынешнее его состояние было совершенно на это не похоже.
— Что ты хочешь от меня? — спросил я. — Если мой грузовик стоит на Мейн в Нефи, то каким образом я смогу забрать тебя?
— Не знаю, чувак. Узнай, может ли Джорджия тебе помочь. Я надеюсь, что он все еще там. Шериф Доусон поднял много шума на счет того, чтобы конфисковать его, что-то говоря об обыске.
— Я даже еще не приобрел этот грузовик в июле. Я купил его в августе, помнишь? Что, черт возьми, они думают найти там?
— Точно. Я забыл об этом! — Тэг выругался, и я услышал, как кто-то говорит ему, что время вышло.
Я произнес несколько отборных словечек, которые Тэг повторил со мной в унисон, и сказал ему, что придумаю что-нибудь и буду там утром, чтобы забрать его.
Но утро я встретил, не имея никакого решения. Я мог бы пойти к Джорджии, но решил, что лучше украду велосипед и прикачу домой с Тэгом, сидящем на руле, чем попрошу Джорджию помочь мне вытащить моего друга из тюрьмы.
Я уже был в отчаянии к тому времени, как уборщица прибыла на старом белом фургоне, демонстрируя мне нервную улыбку. Я бросил беглый взгляд на ее тачку и предложил девушке пятьсот долларов за то, чтобы она разрешила мне съездить на ее машине до Нефи. Она широко раскрыла глаза от удивления и охотно согласилась, так рьяно кивая своей крашеной блондинистой головой, что большой розовый бант соскользнул прямо ей на глаза. Я пообещал, что верну фургон к тому времени, как она закончит уборку в доме, и направился к двери.
22 глава Джорджия
Мне показалось, я увидела Моисея за рулем белого фургона Лизы Кендрик. Он проехал мимо нашего дома, повернув голову в сторону, как будто не хотел, чтобы я заметила его. Я только-только вернулась из почтового отделения и вылезала из своего маленького пикапа «форд», когда фургон проскочил мимо. После смерти Илая, я больше никогда не садилась за руль Мёртл. Папа продал ее какому-то другу из Фоунтейн Грин, чтобы мне больше никогда в жизни не пришлось видеть ее. Может, это и было излишне драматично, но, как любезно заметил папа, «чтобы исцелиться, ты должна сразиться во множестве битв, но это не одна из них, просто продай этот грузовик». Именно так я и сделала.
Я наблюдала за тем, как фургон замедлился, прежде чем повернуть и направиться к автостраде. Он двигался на север в сторону Нефи. Это могло означать все, что угодно. Но, учитывая, что Тэг уехал прошлым вечером на грузовике Моисея, то не трудно догадаться, что туда же направлялся и Моисей. Но в фургоне Лизы?
Я захлопнула дверь и пошла к дому Моисея, не заботясь о том, что вела себя, как любопытная соседка. Я хотела забрать фотоальбом. И теперь, чтобы сделать это, мне не пришлось бы встречаться с Моисеем лицом к лицу. Он спрашивал меня по поводу пижамы Илая… его пижамы «Бэтмен». На минуту мне показалось, что он хочет задеть меня. Но он не мог знать, что в день смерти Илай был в той самой пижаме. Он никак не мог этого знать. Тем не менее, это потрясло меня, и я не задержалась надолго. Но мне было интересно, продолжил ли Моисей просматривать страницы после того, как я ушла.
Парадная дверь была не заперта, и я, глядя наверх, подала голос, как только вошла:
— Эй! — мне показалось, что я слышала шум бегущей воды. — Привет?
Вода перестала шуметь, и сверху громко раздался женский голос:
— Минутку!
— Лиза? Это ты?
Лиза Кендрик вышла из-за угла к лестнице, вытирая руки о тряпку. Волосы на ее голове торчали в разные стороны.
— О, боже! Джорджия, ты меня напугала! — она обмахнула свое лицо влажной тряпкой. — От этого пустого дома у меня мурашки по коже.
— Ты разрешила Моисею взять твой грузовик? — спросила я, игнорируя комментарий по поводу дома. Городу пора бы уже забыть об этом.
— Да, разрешила. Мне следовало сказать «нет»? — девушка-подросток тут же начала кусать губы от беспокойства. — Его друг забрал его грузовик, как мне кажется. Ему просто нужно было добраться до Нефи, и он предложил мне пятьсот баксов. Но мама устроит мне взбучку, если с фургоном что-то случится. Но он сказал, что скоро вернет его! Мне не следовало разрешать забирать машину. От него у меня тоже идут мурашки, если честно. Он горячий, но странный. Что-то вроде Джонни Деппа из «Пиратов». Однозначно горячий, но чудаковатый.
Она тараторила без остановки, и это уже стало меня утомлять.
— Уверена, что все в порядке. Не буду тебе мешать. Я только заскочила, чтобы забрать кое-что, что оставила прошлым вечером.
Лиза широко распахнула глаза, и я могла заметить, как сильно ей хотелось знать, что же я оставила в жутковатом доме горячего чудаковатого парня, но она сдержалась, развернулась и пошла обратно в ванную комнату, хоть и медленно.
— Я не возражаю, если ты останешься. Мне не нравится находиться здесь одной, — добавила она. — Моя мама сказала мне, что я не могу взяться за эту работу. Но когда я сказала ей, сколько он платит, она сдалась. Но я должна звонить ей каждые полчаса. Что если она заедет сюда, а фургона нет? — из-за тревоги ее голос повысился. — У меня будут большущие неприятности.
— Я уверена, что все будет хорошо, — повторила я, помахав ей рукой, и сбегая через арку подальше от девушки.
Меня поражало, что люди все еще говорили о Моисее Райте. Несомненно, мама Лизы не поделилась с дочерью тем фактом, что у нас с Моисеем была своя история. На мою долю выпало немало обсуждений, когда родился Илай. Люди быстро сделали выводы о том, кто был отцом моего ребенка. Но, может быть, потому что я никогда ничего не говорила, держала голову низко опущенной и просто жила своей жизнью, разговоры затихли, и люди перестали пялиться на Илая, когда мы выходили на улицу. Я глупо полагала, что мне никогда не придется говорить о Моисее. Но когда Илаю исполнилось три, он пошел в садик, и у него появились вопросы. А мой сын был таким же упертым, как и я.
— А дедуля — мой папа? — спросил Илай, зачерпывая ложкой макароны с сыром и пытаясь засунуть их в рот, прежде чем маленькие лапшички не выскользнут из нее. Он отклонил мое предложение помочь ему, и, если будет и дальше двигаться такими темпами, то точно умрет от голода.
— Нет. Дедуля — мой папа. Он твой дедушка.
— Тогда кто мой папа?
Вот он — вопрос, который прежде еще ни разу не возникал. Никогда за три года. И он повис в воздухе, вопрос, на который нужен был ответ. И сколько бы я ни уклонялась от ответа, сколько бы ни отмалчивалась, ничто не избавило бы меня от этого.
Я тихо прикрыла холодильник и налила Илаю стакан молока, медлила, оттягивала время.
— Мама! Кто мой папа?
Сдавшись, Илай бросил ложку и зачерпнул макароны рукой. Сплющенные, они висели по бокам его маленького кулачка, но они так и не достигли его рта.
— Твой отец — Моисей, — наконец-таки ответила я.
— МО-И-СЕЙ! — Илай засмеялся, произнося каждый слог с одинаковой выразительностью. — Забавное имя. И где этот МО-И-СЕЙ?
— Я не знаю, где он.
Илай перестал смеяться.
— Как так? Он пропал?
— Да, так и есть.
И этот факт по-прежнему вызывал боль в моем сердце.
Илай на какое-то время замолчал, зачерпывая руками еще больше пасты. Я подумала, что, может, он уже потерял интерес к обсуждению. Я наблюдала за тем, как ему, наконец, удалось прижать несколько оранжевых макаронин к своим губам. Он улыбнулся, довольный собой, радостно пережевывая и громко проглатывая, прежде чем снова спросить.
— Может быть, я могу найти его? Может быть, я могу найти МО-И-СЕЯ? Я хороший искатель.
«Он вернул меня обратно». Так сказал Моисей. Может, после всего случившегося Илай нашел его. Эта мысль обескуражила меня, и я оттолкнула воспоминания подальше, когда вошла на кухню и схватила фотоальбом с кухонного стола. На мгновение я задержалась, обдумывая, стоит ли мне оставить что-нибудь для него. Я знала, что были еще копии или похожие фото, поэтому с некоторыми из них я могла бы расстаться. Но я не хотела начинать растерзывать свой альбом. И я не хотела оставлять стопку дорогих сердцу фотографий на столе, чтобы Лиза и Тэг заметили их. Я не могла этого сделать. А затем я поняла, как мне стоило поступить — сделать альбом и для Моисея тоже. Я бы сделала копии тех снимков, которых не было, подписала бы даты и приложила бы к фотографиям описание событий. Так что он бы получил все детали, о которых просил, и которые хотел.
Приняв решение, я схватила альбом и развернулась в сторону входной двери. Мой взгляд скользнул по стенам гостиной, которые мгновенно привлекли мое внимание. В середине дальней стены на расстоянии примерно три четверти от пола виднелся рисунок под облупившейся краской. И это не был просто маленький пузырек из-за попавшего воздуха. Это был круг размером с мою ладонь, края белой краски отгибались в сторону, открывая находящиеся под ней темные завитки.
Я приблизилась к пятну и подняла руку, чтобы попытаться пригладить края и приклеить их на место, задаваясь вопросом, что же здесь произошло. Это напомнило мне о том, как мама перекрашивала кухню, когда мне было десять лет. Краска не менялась с семидесятых годов, и когда она попыталась нанести поверх нее новое свежее покрытие бледно голубого цвета, краска точно так же облупилась. Это было как-то связано с масляной и водной основой, хотя мне, как ребенку, не было до этого дела. Мне просто нравилось снимать длинные отслаивающиеся полоски краски со стен, в то время как мама сетовала о потраченном попусту времени. В итоге было принято решение обработать стены каким-то растворителем, и, на всякий случай, родители их даже зашкурили.
Я дернула за один краешек, не в состоянии удержаться, и еще один сегмент остался у меня в руках.
Там оказалось лицо.
Под куском, который я оторвала от стены, показался глаз, часть узкого носа и половина рта, растянутого в улыбке. Я потянула еще немного дальше, полностью открывая лицо. Я помнила этот рисунок. Я видела его всего лишь один раз, в то ужасное утро. И я никогда больше не заходила внутрь дома. До прошлого вечера. И прошлым вечером стены выглядели безукоризненно. Девственно чистыми.
Это была не Молли. Я не знаю почему, но это успокоило меня.
Люди обсуждали случившееся, особенно когда останки Молли Тэггард были найдены недалеко от эстакады. Они говорили, что Моисей причастен к этому. Они строили предположения, что это как-то связано с бандами, что он привел за собой людей, которые творили насилие. Я просто продолжала держаться от всех подальше. Я просто оставалась молчаливой. И я старалась не верить в то, что они говорили. Я старалась сосредоточиться на жизни внутри меня и тех днях, что ждали меня впереди. И в глубине души я держала дверь открытой и ждала, что он вернется.
Прошлым вечером стена была безупречной и девственно чистой, а теперь в море белого цвета виднелось лицо. Я отвернулась от стены и, прихватив с собой свой фотоальбом, вышла из дома.
Моисей
Молодая уборщица сидела на крыльце, когда я вернулся в Леван вместе с Тэгом, который ехал позади за рулем моего грузовика. К счастью, мой грузовик не эвакуировали, а Тэга выпустили после внесения денег. Она встала, когда я вышел из фургона, и поспешила по тропинке в мою сторону.
— Могу я идти, мистер Райт? Я закончила.
Я кивнул и, потянувшись за бумажником, вытащил семь стодолларовых банкнот и вложил их в ее дрожащие руки. Коротко кивнув и крепко сжав свой непредвиденный доход и ведро с моющими принадлежностями, Лиза Кендрик устремилась к своему фургону так, словно за ней гнались собаки. Она запрыгнула внутрь и завела двигатель, в то время как мы с Тэгом уставились ей вслед, слегка удивленные ее испуганным поведением. Она на несколько дюймов опустила окно и затараторила в спешке:
— Ее имя Сильви. Сильви Кендрик. Моя кузина. Она часто сидела со мной, когда я была маленькой. Она жила в Ганнисоне. Она исчезла восемь лет назад, — произнесла Лиза Кендрик. — Это произошло очень давно, и мне было всего девять, но я уверена, что это она.
Я понятия не имел, о чем она говорила, и уже начал задавать вопрос, когда она врубила задний ход и, рванув с места, помчалась по моей подъездной дорожке так, словно у нее сдали нервы.
***
— Нам придется зашкурить ее или сделать еще что-то в этом роде.
Мы с Тэгом стояли и разглядывали лицо, которое смотрело на нас с белоснежной стены, лицо, которого не было здесь еще день назад. Из того, что сказала Лиза Кендрик, когда уносилась прочь, я сделал вывод, что оно принадлежало Сильви Кендрик.
— Что-то не так с этим домом, Моисей.
— Дело не в доме, Тэг, а во мне.
Тэг бросил на меня взгляд и покачал головой.
— То, что ты видишь вещи, которые другие люди не могут, не делает тебя проблемой, Мо. Это всего лишь значит, что остается меньше секретов. И это может быть опасно.
Я подошел к стене и прижался рукой чуть выше лица, как это сделала девушка прошлой ночью. Она прикоснулась к стене, требуя, чтобы я посмотрел на нее.
— Думаю, нам надо убираться отсюда, Моисей. Нам надо заштукатурить это, нашлепать еще один слой краски на эту стену, и нам нужно уезжать. У меня плохое предчувствие по поводу всего этого, — настаивал Тэг.
Я покачал головой.
— Я пока не могу уехать, Тэг, — я отвернулся от стены и посмотрел в лицо своему другу.
— Вчера ты хотел уйти. Ты все распланировал и был готов уехать, — убеждал меня Тэг.
— Эта девушка знала ее. Лиза, девушка, которая занималась уборкой. Она увидела это лицо, она вспомнила его. И это привело ее в ужас. Она сказала, что это была ее кузина. Но она исчезла восемь лет назад. Как это связано со мной? Какое отношение я имею ко всему этому? Я уверен, что видел ее прошлой ночью из-за знакомства с Лизой. Вот как это работает.
— Но ты нарисовал ее еще до знакомства, — возразил Тэг.
— И я нарисовал Молли до того, как встретил тебя, — ответил я, снова обращая свой взгляд на стену.
Тэг ждал, что я еще что-то добавлю, и когда я этого не сделал, он вздохнул.
— Молли и та девчонка, — он указал на стену, — и теперь еще одна. Три мертвых девушки в течение десяти лет — это не так уж примечательно. Даже для Юты. И мы оба знаем, что это не имеет никакого чертового отношения к тебе. Ты просто невезучий сукин сын, который видит мертвых людей. Но местные уже решили, что ты каким-то образом в этом замешан. Я слышал тех парней прошлой ночью, и ты видел, как та девчонка удрала отсюда, словно ты был Джеком Потрошителем. Тебе не нужно переживать все это дерьмо, Мо. Ты не заслужил такого, и тебе это не нужно, — повторил он.
— Но мне нужна Джорджия.
Вот. Я признался в этом. Я понял это в тот момент, когда она появилась прошлым вечером, прижимая к груди фотоальбомом. Она слегка приоткрыла дверь и протянула мне оливковую ветвь.
Тэг не мог выглядеть еще более удивленным, даже если бы я отхлестал его этой ветвью по лицу. Я тоже ощутил себя так, словно меня ветер сбил с ног, и осознал, что задыхался от нехватки воздуха.
— Похоже, что схематичная фигурка вбила в твою голову немного здравого смысла, — присвистнул Тэг. — Просто опоздала на каких-то семь лет.
— Я не могу убежать на этот раз, Тэг. Я должен довести дело до конца. Что бы это ни значило. Может быть, все закончится тем, что я примирюсь со своими скелетами. Помирюсь с Джорджией. Познакомлюсь со своим сыном единственным способом, который у меня есть.
Я не мог думать об Илае без чувства, будто попал под проливной дождь. Но вода всегда была моим другом, и я решил, что, может быть, пришло время дать ей пролиться.
— Я не могу остаться, Мо. Я бы хотел, но у меня такое чувство, что если я буду ошиваться здесь с тобой слишком долго, то только стану помехой. Есть в этом месте что-то, что мне не по душе.
— Я понимаю. Я и не жду, что ты останешься. Я могу побыть здесь какое-то время. Дом нуждается в ремонте, нежели просто в покраске и новом ковровом покрытии. Долгое время он стоял пустым. Ванная комната совсем старая, необходима новая крыша, двор выглядит отстойно. Поэтому я собираюсь привести его в порядок, а затем подарить Джорджии, чтобы компенсировать расходы во время беременности и родов, алименты за четыре года, расходы на похороны, а также боль и страдания. Черт, возможно, одного дома будет недостаточно.
— Солт-Лейк в двух часах езды отсюда, даже меньше, учитывая, как я вожу. Ты ведь позвонишь мне, если я тебе понадоблюсь?
Я кивнул.
— Я тебя знаю, Мо, ты не позвонишь, — он запустил руку в свою шевелюру и вздохнул.
— Я позвоню, — пообещал я, хотя в глубине души понимал, что, вероятнее всего, Тэг был прав. Вряд ли это понадобится.
— Хочешь совет? — спросил Тэг.
— Нет, — ответил я.
Он лишь закатил глаза.
— Отлично. Мой совет — не медли, Моисей. Не осторожничай. Действуй настойчиво и быстро. Женщины вроде Джорджии привыкли держать все под контролем. Но ты сломил ее, Мо, а затем оставил. Я знаю, на то у тебя были свои причины. Я понимаю это. Но она не позволит тебе укротить ее снова. Поэтому тебе придется взять ее. Не жди, когда она попросит сама, потому что этого не случится.
— Мы не о лошадях говорим, Тэг.
— Конечно, нет, черт тебя побери. Это ее язык, Мо. Поэтому лучше тебе выучить его.
23 глава Моисей
В тот вечер Джорджия снова пришла, постучав в дверь, держа что-то в руках, но на этот раз это был не фотоальбом. Я постарался не огорчаться. Я хотел посмотреть еще, но когда вернулся домой, то альбома уже не было на кухонном столе. Без сомнений, Джорджия приходила и забрала его.
Она пихнула в меня тарелкой с брауни и впопыхах произнесла:
— Я забрала фотоальбом.
Я кивнул, держа брауни в руках.
— Видел.
— Я просто хотела, чтобы ты знал, я соберу альбом и для тебя тоже. У меня очень много фотографий.
— Я был бы этому очень рад. Даже больше, чем домашним брауни.
Я попытался улыбнуться, но вышло как-то натянуто, и попросил ее подождать, в то время как сам положил пирожные на кухонный стол и вернулся к ней на крыльцо. Хотел бы я знать правильные слова, чтобы заставить ее остаться.
— Не я испекла их. Я о брауни. Повар из меня ужасный. Единственный раз, когда я попыталась испечь брауни, Илай надкусил его и все выплюнул. А он ел жуков. Я была уверена, что пирожные получились не так уж плохо, пока сама не попробовала. Они были отвратительными. Мы стали называть их «фрауни» вместо «брауни» и скормили козам. Чудо, что Илай выжил после такого (прим. пер. — игра слов от англ. frown — морщиться)
Она резко замолчала с шокированным выражением на лице. Я хотел обнять ее и успокоить, сказать, что все хорошо. Но это было не так, потому что Илая не было в живых.
Джорджия спустилась по лестнице и постаралась взять себя в руки, бодро улыбаясь.
— Но не беспокойся. Я принесла те брауни от Свэти Бетти. Она готовит лучшую выпечку во всем штате Юта.
Я не помнил никого по имени Свэти Бетти, и у меня были сомнения, что с таким именем, как Свэти Бетти, пирожные вышли бы на вкус лучше, чем фрауни Джорджии. По правде говоря, я был более чем уверен, что позволил бы Тэгу съесть их все.
— Ты должна попробовать снова как-нибудь, — предложил я, в то время как она развернулась, чтобы уйти. Я говорил о ее фрауни, но на самом деле имел в виду совсем другое. И, возможно, она это знала, потому что просто махнула рукой, не замедляя шаг.
— Спокойно ночи, вонючка Стьюи, — крикнул я ей вслед.
— Что ты сказал? — ее голос был резким, она остановилась, но не обернулась.
— Я сказал спокойной ночи, вонючка Стьюи. Теперь ты говоришь «спокойной ночи, жадина Бейтс».
Я услышал, как она ахнула, а затем повернулась в мою сторону, прижимая пальцы к губам, чтобы скрыть то, как они дрожали.
— Он продолжает показывать мне, как ты целуешь его перед сном. Всегда одно и то же.
Я ждал.
— Он показывает тебе… это? — она прерывисто прошептала.
Я кивнул.
— Это из его книги. Он… он любил эту книгу. Очень сильно. Я читала ее, наверное, тысячу раз. Я обожала эту книгу, когда была маленькой, и она называлась «Калико, чудо-лошадь».
— Он назвал свою лошадь…
— Калико. В честь лошади из книги, да, — закончила Джорджия.
Она выглядела так, будто вот-вот упадет в обморок. Я подошел к ней, взял за руку и осторожно подвел ее обратно к лестнице. Она позволила мне это и не отпрянула, когда я сел рядом с ней.
— И кто же этот вонючка Стьюи? — я осторожно подтолкнул ее к разговору.
— Вонючка Стьюи, жадина Бейтс, подлец Скитер, грубиян Боунс, хитрюга Пьезон. В этой книге все они были Головорезами.
Джорджия произнесла «Пьезон» с выговором, как у Моряка Попая15, и это невольно заставило меня улыбнуться. Она улыбнулась в ответ, но было очевидно, сколько горя и печали вызывали эти воспоминания, и ее улыбка спала, словно ту смыло потоком воды
— Если они были плохими парнями, тогда кто был хорошими? — спросил я, пытаясь снова вытянуть из нее ответы.
— Они не были плохими парнями, они были Головорезами. Так называлась их банда. Вонючка Стьюи и Головорезы.
— И никакой ложной рекламы.
Джорджия захихикала, и потрясение, которое отразилось на ее лице после того, как я назвал ее вонючка Стьюи, немного отступило.
— Никакой. Просто и однозначно. Точно знаешь, что получаешь.
Я задался вопросом, был ли какой-то скрытый смысл в ее высказывании, и стал ждать, что она прояснит мне это.
— Ты изменился, Моисей, — прошептала она.
— Как и ты.
Она вздрогнула, но затем кивнула.
— Так и есть. Иногда я скучаю по старой Джорджии. Но для того, чтобы вернуть ее, я должна была бы вычеркнуть Илая из своей жизни. А я ни за что не променяла бы Илая на старую Джорджию.
Я смог только кивнуть, не желая думать о старой Джорджии и старом Моисее, о той страсти, что мы разделили. Воспоминания прочно засели в моей голове, и возвращение в Леван вызвало во мне желание пережить все заново. Я хотел целовать Джорджию, пока ее губы не стали бы болеть. Я хотел заняться с ней любовью в амбаре и плавать вместе с ней в водонапорной башне, но больше всего я хотел забрать снова и снова накатывающую на нее печаль.
— Джорджия?
Она по-прежнему отводила глаза.
— Да?
— Ты хочешь, чтобы я уехал? Ты сказала, что не будешь лгать мне. Ты хочешь, чтобы я уехал?
— Да.
Ни малейших колебаний.
Я чувствовал, как ее ответ пронзил мою грудь, и был удивлен той боли, что отразилась в ней словно эхо. Да. Да. Да. Слово насмехалось надо мной. Это напомнило мне о том, как я таким же образом отверг ее в ту ночь в амбаре.
— Ты любишь меня, Моисей? — спросила она.
— Нет, я уже говорил тебе.
Нет. Нет. Нет.
— Да. Я хочу, чтобы ты уехал. И нет. Я не хочу, чтобы ты уезжал, — в спешке добавила она с разочарованным вздохом. Она резко вскочила на ноги, взмахнув руками, а затем скрестила их на груди в защитном жесте.
— Если уж я говорю правду, тогда и то, и другое верно, — тихо добавила она.
Я тоже встал, подавляя в себе импульс удрать, сбежать и рисовать, как я делал всегда. Но Тэг сказал, что мне придется завоевывать ее. Он говорил не медлить. И я собирался прислушаться к его совету.
— Я не знаю, что является правдой в данный момент, Моисей. Я не знаю, — произнесла Джорджия, и я знал, что не мог убежать на этот раз. И я не стал бы этого делать.
— Ты знаешь правду. Просто она тебе не нравится.
Я никогда не думал, что увижу, как Джорджия Шепард чего-то боится. Я тоже был напуган. Только я боялся, что она в самом деле хотела, чтобы я уехал. И я не думал, что смог бы держаться подальше. Не в этот раз.
— Что на счет тебя, Моисей? Ты хочешь уехать?
Джорджия бросила мои слова мне же в лицо. Я не ответил. Я просто изучал ее дрожащие губы и обеспокоенные глаза и протянул руку, чтобы прикоснуться к ее тяжелой косе, перекинутой через правое плечо. Она ощущалась теплой и плотной в моей ладони, и я крепче сжал ее пальцами, нуждаясь за что-то уцепиться. Я был так рад, что она не остригла косу. Джорджия изменилась, но ее волосы остались прежними.
Моя левая рука была обернута вокруг ее косы, а правой я скользнул вдоль ее талии, привлекая Джорджию ближе к себе. И я снова почувствовал это — то же чувство возбуждения, что зародилось в самом начале. То же самое притяжение, которое превратило в хаос наши жизни. Ее жизнь даже больше, чем мою. И я знал, что и она это чувствовала.
Ее ноздри трепетали, а дыхание стало прерывистым. Ее спина напряглась под моими пальцами, и я шире их растопырил, стараясь охватить как можно больше ее тела без необходимости сдвигать руку. Она смотрела на меня резким взглядом, не моргая, но не сопротивлялась.
А затем я наклонил голову и захватил ртом ее губы, прежде чем она бы смогла что-то сказать, прежде чем я бы смог подумать, прежде чем она бы смогла убежать, прежде чем я бы смог видеть. Я не хотел видеть, я хотел чувствовать. И слышать. И вкушать. Но ее рот наполнил мой мозг спектром цветов. Так же, как это было всегда. Розовый. Цвет ее поцелуя был розовым. Как закат — нежно-розовый с прожилками золотого. Вихрь розового отблеска закружился перед глазами, и я крепче прижал свои губы к ее губам, выпуская из рук ее волосы и тело, чтобы взять ее лицо в ладони, чтобы удержать цвета, чтобы не дать им погаснуть. А затем она приоткрыла губы, и цвета начали превращаться в потоки красного и золотистого, пульсируя в моей голове, словно ее язык мягкими движениями разжигал пламя на своем пути.
Все цвета резко потухли, словно воздушный шар проткнули иголкой, когда Джорджия внезапно, почти что яростно вырвалась из моих рук. И не сказав ни слова, она развернулась и побежала, унося с собой цвета, оставляя меня задыхающимся и пропитанным чернотой.
— Будь осторожен, Моисей, — с сожалением произнес я вслух самому себе. — Тебя вот-вот сбросят.
***
У нас была всего одна машина на двоих, поэтому следующим утром мне пришлось отвезти Тэга обратно в Солт-Лейк. Я провел там два дня. В первый день я разбирался со своим расписанием, чтобы освободить следующий месяц, а с теми, кто все же настаивал на встрече, договаривался принять их в Леване. Я был уверен в том, что даже если люди еще не судачили, то скоро начнут, когда я буду проводить свой художественно-спиритический сеанс в столовой своей бабушки.
На следующий день я занялся покупками в мебельном магазине, чтобы обставить дом самым необходимым. Я не собирался спать на полу и бесконечно сидеть, опершись о стену, поэтому купил кровать, диван, стол и четыре стула, стиральную и сушильную машину, и комод. Я потратил довольно приличную сумму денег, и магазин предложил мне бесплатную доставку до самого Левана, на что я с радостью согласился. Помимо мебели я взял с собой немного одежды, кое-какие принадлежности для рисования и чистые холсты, и картину, которую нарисовал для Илая, еще когда даже не подозревал о том, кем он был на самом деле. Я собирался отдать ее Джорджии. Она поделилась своими фотографиями со мной. Я собирался поделиться с ней своими рисунками, если, конечно, она мне позволит.
Поездка обратно в Солт-Лейк оказалась результативной еще по одной причине — вернулся Илай. На секунду я увидел его в зеркале заднего вида, когда отъезжал от дома Джиджи. Ударив по тормозам и резко дернув руль, я тут же развернул грузовик, тем самым вызывая у Тэга кучу вопросов, на которые не мог ответить. Но Илай так и не появился снова, и я, в конце концов, сдался и снова направился в сторону города, надеясь, что видел его не в последний раз. Следующим утром, когда я загружал некоторые из своих картин в грузовик, мне показалось, что я краем глаза заметил, как он наблюдает за мной. А позже вечером он появился в футе от моей кровати, так же, как и в первый раз, будто мой отъезд из Левана вынудил его на вторжение.
Как и прежде, он показывал мне бегающего по полям Калико, как Джорджия читала ему и укутывала в одеяло, но в этот раз он показал несколько новых вещей. Куриный суп с лапшой, которая была такой крупной, что едва виднелся бульон. И он показал мне, как сжимает и разжимает пальцы ног, погрузив их в грязь, словно ему очень нравилось это ощущение. Я знал, что это его пальчики, потому что они были коротенькими и похожими на детские. И я наблюдал за тем, как он писал свое имя одним маленьким пальчиком, аккуратно выводя буквы в темной земле. Затем я наблюдал, как его руки сооружали цветную башню, всячески стараясь защелкнуть кусочки Лего один поверх другого.
Это были самые случайные вещи — короткие обрывки из жизни маленького мальчика. Но я наблюдал за происходящим, закрыв глаза, позволяя ему наполнять картинками мой разум. Я впитывал эти образы, стараясь лучше понять его. Я не хотел пропустить ничего важного, хотя все это и так казалось мне важным. Каждая маленькая деталь имела жизненно важное значение. Я засыпал в мечтах, как помогаю ему строить стену, сделанную из миллиона цветных пластиковых кубиков, стену, которая не позволила бы ему уйти навсегда, как это произошло с Джи.
Джорджия
После потери Илая, я пришла к лошадям, и без исключения каждая лошадь, к работе с которой я приступала, просто ложилась посередине загона. Сакетт, Лаки или любая другая из них. Это было неважно. С какой бы лошадью я не начинала работать или взаимодействовать, ложилась, словно она слишком устала, чтобы заниматься чем-то еще, кроме как спать. Я знала, они отражали мои чувства. Первое время, когда это происходило, я тоже просто ложилась на землю. Я не могла изменить то, как себя чувствовала. Самоанализа было недостаточно. Горе было слишком тяжелым. Но когда я заставляла себя встать на ноги, лошадь тоже вставала.
На протяжении первого года были дни, когда я не могла заставить Калико сдвинуться с места. Он просто стоял спиной к ветру, совершенно неподвижный. Я думала, что он был подавлен, потому что скучал по Илаю. Но со временем я поняла, что он отзеркаливал меня. Я больше не лежала на полу, но и не двигалась вперед. Поэтому я начала больше работать, чуть лучше заботиться о себе и старалась делать один шаг за другим, хоть они и были небольшими. Даже если все это было только ради того, чтобы Калико стал снова управляемым.
Последние несколько месяцев мои лошади начали толпиться возле меня, прижиматься ко мне и тыкать в меня носом. Я посчитала, что они чувствовали мою потребность в прикосновениях и желание прикасаться самой. Любая мать скажет вам, что ребенок поглощает все ее внимание и пространство с момента зачатия, и с годами это не меняется. Это была одна из тех вещей, по которой я скучала. Я даже жаждала этого.
Илай умер, и я получила все то пространство, которое, как я считала, хотела. Не просто немного свободно пространства, а пространство космических масштабов. Даже галактических. И я окунулось в него, испытывая муки, и жаждала наступления тех дней, когда все это перестанет существовать.
Теперь лошади окружали меня, поглощая пространство, и я приветствовала их тяжелые тела и пихающие носы, и то, как они натыкались на меня и следовали за мной по пятам. Это давало мне исцеление, даже когда я отталкивала их, моля о свободном месте. Но они знали лучше. Очевидно, мое тело говорило об одном, в то время как губы произносили совсем другое.
Я позволила Моисею поцеловать меня. И в тот момент, полагаю, мое тело и губы говорили в унисон. Конечно, я отстранилась, но не сразу. Сначала я позволила ему меня целовать. Я раскрыла губы для него и поцеловала в ответ. И сегодня лошади снова окружали меня, словно я маяк, посылающий сигнал. Они толпились вокруг и были беспокойными, подражая гудению, которое я чувствовала под своей кожей, и отражая мое нервозное состояние. Сакетт отказывался встречаться со мной взглядом и свесил голову, словно в чем-то провинился. Глядя на него, я осознала, что мне было стыдно за себя саму.
Я позволила Моисею поцеловать себя, а у него не было на это никакого права. Он спросил, хочу ли я, чтобы он уехал. Мне не следовало колебаться. Мне следовало потребовать, чтобы он уехал, а вместо этого я позволила ему целовать меня, словно девчонка, не имеющая гордости и правил, по которым он был под запретом. Теперь он уехал, а дом Кейтлин заперт. Моисея не было уже два дня. Никаких объяснений. Никаких прощальных слов. Все, что я знала, что не увижу его снова еще лет семь. Я ощутила, как задрожали мои губы, а на глазах навернулись слезы, и внезапно Сакетт положил голову мне на плечо.
— Черт побери, Сакетт. Пропади оно все пропадом. В Джорджии пора ввести несколько новых более суровых законов. С этого самого момента любой по имени Моисей находится под запретом. Никаких визитов, никакого пересечения границ. Ничего. Никто по имени Моисей в Джорджию не допускается.
Я провела предыдущую ночь за своим ноутбуком, стараясь откопать всю возможную информацию, какую только смогла бы найти на Моисея Райта. Он не был зарегистрирован в Фейсбуке или Твиттере. Впрочем, как и я. Но мы создали веб-сайт и страницу в Фейсбуке, а также аккаунт в Твиттере для наших занятий Лечебной Верховой Ездой, и я часто посещала социальные сети под этим предлогом. Но когда я нашла в «Гугле» Моисея Райта, то была потрясена тем, что обнаружила. Канал BBC сделал специальный выпуск о нем, и по всему «Ютуб» были размещены видео его художественных сеансов с клиентами, хотя камера обычно была направлена на холст, словно Моисей не хотел светить свое лицо на экране. Газета «Таймс» разместила заметку о нем и его способности «рисовать от имени мертвых», и журнал «Пипл» написал небольшую статью о «сверхъестественных и выдающихся способностях Моисея Райта».
Я осознала, что он сделал себе имя и был своего рода знаменитостью, хотя, казалось, приложил все силы, чтобы по возможности оставаться в тени. О чем Тэг мельком упомянул в разговоре? Что они путешествовали по всему миру? Судя по количеству информации, доходящей со всех уголков земного шара, я не сомневалась в том, что все это было правдой.
В сети были размещены сотни фотографий его рисунков, и всего несколько с ним самим. Несмотря на это, мне удалось найти пару его снимков на каком-то торжестве по сбору средств для госпиталя. Моисей стоял между Тэгом и еще одним мужчиной, которого звали, если верить подписи снизу, доктор Ноа Анделин. Мне снова стало интересно, как Моисей и Тэг познакомились. Их дружеская связь была глубокой, и это легко было заметить. И я поняла кое-что еще. Мне было не просто стыдно, я ревновала.
— Ты по-прежнему разговариваешь со своими лошадьми.
Я вздрогнула, и Сакетт отодвинулся, не одобряя вспышку импульса, прошедшего по моему телу, и того факта, что мои пальцы дернули его гриву.
В дверях амбара вырисовывался силуэт Моисея, держащего в руках что-то похожее на большой холст.
До этого я не осознавала, что все еще разговаривала с Сакеттом, и я быстро перебрала в уме все, что сказала. Я надеялась, что произнесла только унизительную тираду по поводу Моисея, запрещенного в Джорджии.
О, Боже, неистово молю тебя, ты можешь заставить слепого прозреть, а глухого услышать, поэтому я не так уж о многом прошу, просто заставь этого мужчину забыть все, что он только что увидел и услышал.
— И что Сакетт думает насчет новых более суровых законов в Джорджии?
Я подняла глаза к стропилам: «Эй, спасибо за оказанную поддержку, Господь Бог».
Не глядя на Моисея, я ослабила подпругу, закрепленную под животом Сакетта, и сдернула седло и лежащее под ним одеяло с его спины. Я была слегка удивлена, что он помнил, как зовут Сакетта.
Моисей сделал несколько шагов внутрь амбара, и я смогла разглядеть маленькую улыбку на его губах. Я решительно похлопала Сакетта по крупу16, давая понять, что я закончила, и он пустился рысью с явным желанием убежать.
— Ты вернулся, — произнесла я, отказываясь показывать гнев, чтобы не смущать себя еще больше.
— Я отвез Тэга домой. У него были большие планы по поводу тренировки к следующему бою в стиле старой школы, как Рокки, но он обнаружил, что это привлекательно только в фильмах. К тому же, из меня выходит неважный Аполло Крид (прим. пер. — Аполло Крид — вымышленный персонаж серии фильмов «Рокки»).
— Тэг — боец?
— Да. Смешанные боевые искусства. У него отлично получается.
— Ага, — я не знала, что еще сказать. Я ничего не понимала в спорте. — А не умер ли Аполло Крид в одном из фильмов?
— Да. Черный парень всегда умирает от рук белого.
Я закатила глаза, и он заулыбался, заставляя меня улыбаться вместе с ним, пока я не вспомнила, что сбита с толку и рассержена тем, что он поцеловал меня, а потом уехал из города. Все это слишком сильно напоминало о прошлом. Улыбка соскользнула с моего лица, и я отвернулась, занимая себя тем, что стала отряхивать потники (прим. пер. — войлок, подкладываемый под седло).
— Так почему ты вернулся? — я продолжала отводить глаза. Он какое-то время молчал, и я закусила губу, чтобы не начать лепетать из-за сложившейся неловкой тишины.
— Над домом нужно еще поработать, — наконец, ответил он. — И я подумываю изменить имя.
Я в замешательстве вскинула голову и наткнулась на его самодовольную ухмылку.
— Да?
— Я слышал о новом законе в Джорджии. Никто по имени Моисей не может наведываться в гости. Поэтому я думаю, что не помешает сменить имя.
Я просто покачала головой и засмеялась, испытывая смущение и одновременно с удовлетворением отмечая скрытый смысл, который он вложил в свои слова.
— Заткнись, Аполло, — сказала я, и теперь настала его очередь смеяться.
— Отличный выбор. Аполло, значит. В Джорджии нет каких-либо законов, касающихся парней по имени Аполло?
— Нет, — тихо произнесла я, все еще улыбаясь. Такой Моисей мне нравился. Это был именно тот Моисей, который мне и раньше нравился. Моисей, который поддразнивал и острил, провоцировал и раздражал, и в то же время заставлял меня любить его.
— Я кое-что тебе принес, — сказал он, разворачивая полотно и держа перед собой так, чтобы я его видела.
Я могла только смотреть, не отрывая глаз.
— Мне помог Илай, — тихо произнес он.
Я не могла отвести взгляд, даже когда его слова вызвали во мне неприязнь. Я не хотела, чтобы Моисей был таким. Я хотела Моисея, который улыбался и поддразнивал. Я не хотела Моисея, который говорил о мертвых так, словно он был лично с ними знаком.
— Впервые я увидел его после встречи с тобой в лифте больницы. Я не знал, кем он был. Это не навело меня ни на какую мысль, пока я не отошел от рисунка и не увидел тебя, верхом на лошади, и перед собой ты держала Илая. И по-прежнему я ничего не понял. Я только знал, что должен приехать сюда и найти тебя.
На этом он прекратил говорить. Мы оба знали, что случилось дальше.
— Я хочу, чтобы рисунок был у тебя, — мягко настоял он.
Когда я не пошевелилась, чтобы взять холст, он положил его рядом со стойлом и оставил меня наедине с подарком от моего сына.
24 глава Джорджия
Каждый день появлялись все новые картины. Одна была оставлена на переднем сиденье моего незапертого грузовика, другая подпирала одну из полок стеллажа в амбаре.
И на всех был изображен Илай. Илай, сидящий на заборе, с таким милым и важным лицом. Я припоминала момент, похожий на этот, словно Моисей взял фото и превратил его в предмет живописи. Но у него не было никаких фотографий, ведь я забрала их. И не существовало ни одного снимка, хотя бы отдаленно напоминающего то, что создал на своих картинах Моисей: в деталях изображенная кудрявая голова Илая, склоненная во время чтения потрепанной желтой книжки перед сном, взгляд насыщенных карих глаз, сосредоточенных на его лошади, маленькие ножки Илая в грязи, и его палец, выводящий буквы его имени в бурой земле. Вихрь широких мазков и яркий цвет были отличительной особенностью Моисея — даже грязь выглядела великолепно — и я не могла решить, нравятся ли мне эти картины, или я их ненавижу.
На одной из них изображалась я. Я улыбалась, глядя вниз на повернутое ко мне лицо Илая, и я была прекрасной. Настолько неузнаваемой. Это была Пьета с Джорджией Шепард в главной роли, и я была любящей матерью, взирающей на своего сына. Мама нашла эту картину, когда вышла на улицу, чтобы убрать листья. Моисей оставил холст, прислонив его к лестнице на крыльце. Я была всего в двух шагах от мамы, но она заметила картину первой. И в течение пяти минут она просто держала ее в руках, пристально рассматривая в агонии и изумлении, а слезы градом текли по ее лицу. Когда я попыталась успокоить ее, то она слегка покачала головой и вошла обратно в дом, не способная произнести ни слова.
Возвращение Моисея было невероятно тяжелым для моих родителей, и я понятия не имела, как улучшить ситуацию, и вообще следовало ли мне что-то предпринимать или нет. И я не знала, помогают ли в этом его работы. Но картины Моисея были именно такими — восхитительными и ужасными. Восхитительными, потому что они претворяли воспоминания в жизнь, смягчая горечь смерти. Но картины Моисея были наполнены жизнью и напоминали нам о том, что мы потеряли.
Я помнила, как Моисей говорил об искусстве, о боли и страдании, и теперь я понимала, что он имел в виду. Его картины наполняли меня такой сладостной мукой, что предвещала нечто плохое, если я отвернусь. Поэтому я ловила себя на том, что мой взгляд постоянно возвращался к картинам.
Помимо того, что он оставлял свои работы именно в тех местах, где бы я точно не пропустила их, Моисей держался в стороне и наблюдал за мной на расстоянии. Я видела, как он стоял у забора, разделяющего задний двор Кейтлин и наш земельный участок, на другой стороне пастбища. Он всегда поднимал руку, чтобы поприветствовать меня, но я не отвечала ему. Мы не были дружелюбными соседями, но я все равно была благодарна ему за этот жест. Я размышляла о бесстыжем поцелуе, о том, как его рука держала мою косу, о его поддразниваниях в амбаре и воздерживалась от дальнейшего контакта, хотя он делал все, чтобы я видела его каждый день.
Большую часть времени, когда я проводила сеансы терапии, мама или папа присоединялись к нам в качестве помощников. Они либо наблюдали за лошадью, пока я уделяла внимание посетителям, либо наоборот. Но у папы был запланирован еще один цикл химиотерапии, и мама уезжала вместе с ним. Они собирались на несколько дней остановиться в Солт-Лейк у моей старшей сестры вместе с ее детьми, прежде чем вернуться обратно. Мама не хотела уезжать, пока Моисей жил по соседству. Мне пришлось прикусить язык и напомнить самой себе, что как постелешь постель, так и поспишь. В буквальном смысле. Я слишком долго жила в этом доме. Я полагалась на своих родителей, пока был жив Илай, и когда он умер, и теперь только я сама виновата, что, будучи двадцатичетырехлетней, меня опекают, словно мне семнадцать.
Как это ни удивительно, но именно папа был тем, кто убедил маму, что я уже однажды смогла пережить Моисея и переживу его снова. Мне не особо понравился его выбор слов, но я держала язык за зубами. Папа был крайне молчалив после нашего утреннего разговора на следующий день после моей самой первой встречи с Моисеем. Приближалась годовщина смерти Илая, заставляя нас сжиматься и задерживать дыхания от сильного желания, чтобы это обошло нас стороной. Возвращение Моисея именно в этом месяце из всех возможных ощущалось как какое-то предзнаменование. И не самое лучшее. Мама нервничала, папа, наоборот, был задумчивым, а я разваливалась на части, если уж быть честной с самой собой.
Возможно, хорошо, что у меня появилось несколько дней для себя, и что в загоне была бы только я одна. Лошади настраивались на мою волну, и им совсем не нравилось мое настроение. У меня заняло добрый час, чтобы почистить их щеткой, вычистить им копыта, при этом стараясь привести мысли в порядок и справиться с собственным стрессом, прежде чем приступить к сеансу с небольшой группой, с которой я встречалась каждую неделю.
Но моя тревога вернулась с новой силой, когда под конец моих занятий неподалеку замелькал Моисей. Я не хотела привлекать внимание к нему или себе, и когда поняла, что он не собирался заговаривать со мной или прерывать меня, то спокойно завершила сеанс и попрощалась с группой, которая разместилась в фургоне реабилитационного центра, а затем уехала. Я вернулась в загон, надеясь, что Моисей уже ушел, но он остался, словно специально ждал меня. Заметив, что я иду, он перебрался через забор и направился ко мне.
Его лоб был нахмурен, и я старалась не придавать значения тому, как у меня перехватило дыхание и дрожали руки, когда наблюдала за его приближением. Он по-прежнему привлекал меня на самом примитивном уровне. А я этого не хотела. Я боялась такой реакции на него и презирала себя за это.
— Он продолжает показывать мне разные вещи, — произнес он, качая головой, даже не задумываясь о том, чтобы поприветствовать меня или просто поболтать сначала о пустяках. Это было так похоже на старого Моисея, и я не хотела ни о чем его расспрашивать. Я не хотела знать, о чем он вообще говорил.
— Илай продолжает показывать мне разные вещи, — повторил он, и я почувствовала, как смягчилась, даже когда мое сердце екнуло. Я не могла сопротивляться тому, как разговоры об Илае притягивали меня, даже если они исходили от мужчины, которого я по-настоящему хотела ненавидеть.
— Например, какие? — не в состоянии ничего с собой поделать прошептала я.
— Его пальцы ног в грязи, куриный суп с лапшой, лего, сосновые шишки и Калико. Всегда Калико, — он небрежно пожал плечами и засунул руки в задние карманы. — Как ты думаешь, что он пытается мне сказать?
Неожиданно я поймала себя на том, что улыбалась. Это были очень странные вещи. Это были странные и в то же время самые прекрасные и ужасные вещи. Я улыбалась, а мои глаза наполнялись слезами. Я отвернулась, давая себе немного времени, чтобы решить, смогу ли я принять эту новую правду или нет.
— Джорджия?
Моисей ждал, пока я сделаю несколько долгих, ровных вдохов, чтобы обрести голос.
— Это он любит больше всего. Он говорит тебе о значимых для него вещах, — мой голос надломился, и мои глаза нашли его.
Секунду его лицо ничего не выражало, а затем его челюсть слегка приоткрылась, словно в его голове прозвенел гонг. Он выглядел ошеломленным, даже изумленным.
— Это он любит больше всего. Он говорит о значимых для него вещах, — повторил он, будто самому себе. — Я думал, он пытался что-то передать мне. Может, что-то сообщить.
А затем Моисей начал смеяться.
— Что? Что смешного?
Было сложно устоять перед его сбивающим с толку весельем, и я поняла, что тоже улыбалась, даже когда вытирала слезы на глазах.
— Вот, что все они пытаются сказать мне. Я никогда не понимал этого прежде. Случайные предметы. Повседневные вещи. Это всегда сводило меня с ума, — он подавился собственными словами, пытаясь говорить сквозь смех. И сказанное было не так уж забавно. На самом деле в этом вообще не было ничего веселого.
Я просто покачала головой, все еще улыбаясь в ответ на его задыхающийся смех.
— Я не понимаю.
— Ты знаешь, сколько раз я рисовал самые что ни на есть заурядные вещи? Обыденные вещи, казалось, бессмысленные, но для тех людей — мертвых людей — они имели большое значение. Пуговицы и вишня, красные розы и хлопковые простыни на бельевой веревке. Как-то раз я нарисовал картину с изношенными кроссовками для бега, — он завел за голову сцепленные руки, его смех затих, когда осознание правды дошло до его разума. — Я всегда лишь предполагал, что все это имело большое значение, которое я не мог уловить. Их семьи любят все эти вещи. Они приходят встретиться со мной, я рисую все, что бы ни показали мне их близкие. Они уходят счастливые, я получаю деньги. Но я никогда не понимал, и у меня всегда было ощущение, что я что-то упускаю.
Я больше не улыбалась. Мою грудь так сильно сдавило, и я не могла решить, было ли это от радости или от боли, что наполняла ее.
— Я упускал что-то важное, ведь так?
Моисей покачал головой. Он повернулся, как будто не мог поверить, что собрал пазл, который на самом деле никогда не был какой-то загадкой.
— Они говорят мне о вещах, по которым скучают. Они говорят мне о значимых для них вещах. Так же, как и Илай, не так ли, Джорджия?
Моисей
Всепоглощающая боль волнами накатывала внутри меня. Поначалу она была незначительной, как легкий дискомфорт в спине или усталость в ногах. Я игнорировал ее, притворяясь, что у меня еще есть время, что было еще слишком рано. Но шли часы, опустились сумерки, и жар с улицы проник в мой живот, и я начал срывать с себя одежду, пытаясь избежать этой обжигающей боли. Я сгорал заживо. Я попытался убежать от нее, когда наступила небольшая передышка, и она ослабела, словно на несколько минут потеряла мой след. Но она всегда находила меня снова, и волна напряжения и боли подкатила с новой силой.
Но хуже боли был неясный страх, охвативший мою кипящую голову. Я молился так усердно, как только умел. Я молил о прощении и искуплении, о силе и шансе начать все сначала. Но больше всего я молил об укрытии. Но у меня было такое чувство, что мои молитвы не поднимались выше бурлящего воздуха над моей головой.
Это приносило боль. Это приносило такую нестерпимую боль. Мне просто было необходимо, чтобы это прекратилось.
Поэтому я стал умолять о помиловании. Хоть что-нибудь, что унесло бы меня прочь хоть на минуту, что-нибудь, что помогло бы мне спрятаться. Всего на одну минуту. Что-нибудь, что дало бы мне одно последнее мгновение покоя, что-нибудь, что помогло бы мне встретиться лицом к лицу с тем, что ждало меня впереди.
Но мне не было даровано никакого укрытия, и когда туман рассеялся, а жар отступил, я смотрел вниз на его лицо и понимал, что мое распутство и грехи никогда не будут белыми, как снег.
***
Тяжело дыша, я проснулся в испуге. Боль, испытанная во сне, по-прежнему пронизывала мой живот, от чего я прижимал согнутые ноги и руки к своей груди.
— Какого черта это было? — простонал я, садясь в своей постели и вытирая пот со лба. Это было похоже на сон об Илае и Стьюи Стинкере, который мне снился прежде. Сон, который не был сном. А затем я проснулся и увидел девушку, в которой Лиза Кендрик признала свою кузину. Она прошлась по моему дому и прикоснулась к стене. И я установил связь.
Но сейчас я не ощущал никакой связи. Не в этот раз. Я встал с кровати и побрел в ванную, чтобы умыть лицо и прополоскать горло холодной водой, пытаясь остудить распространившийся по коже жар, который всегда возникает во время эпизодов вроде этого.
Эта боль, что была во сне, не принадлежала мне. Там была женщина. Девушка… и она родила ребенка. Ее мысли и ее агония, а затем младенец, который кричал и плакал, в то время как она смотрела на него, держа на руках. Все это говорило о рождении ребенка.
Смотрела на него? Полагаю, что был прав. Она думала о младенце, как о мальчике.
Возможно, это был Илай, показывающий мне свое рождение, так же, как он показывал мне свой ритуал перед сном. Но было в этом что-то неправильное. Глаза, которыми я наблюдал, не могли принадлежать Илаю. И в моей голове были не мысли Илая.
Хотя все, что связано с Илаем, было не сравнимо ни с чем, что я испытывал раньше. Связь была другой. Более интенсивной, более детальной. Поэтому, может, и такое было возможно.
Но было в этом что-то не так. Илай показывал мне образы и виды со стороны, касающиеся его и соответствующие его пониманию. Будучи младенцем, только что появившимся на свет, он не мог видеть с такого ракурса. Я находился на месте Джорджии, словно смотрел ее глазами, чувствовал ее эмоции, ее боль. Ее отчаяние. Она была полна страха и отчаяния. Я ненавидел это. Я ненавидел тот факт, что она чувствовала себя такой одинокой. Рождение Илая должно было стать праздником. Но во сне не было ни радости, ни празднования. Только страх. Только боль.
А, может быть, это был всего лишь сон.
Такое тоже возможно. Может, я настолько сильно хотел переписать историю, что мое подсознание воссоздало момент, который подпитывал мою вину и мое сожаление, и перенесло меня туда, в комнату к Джорджии, когда Илай появился на свет.
Я вытер пот со своей шеи и, не включив ни одного светильника, спустился вниз, нуждаясь в стакане воды или, может, чем-нибудь покрепче.
Накануне я оставил включенной лампу в гостиной. Всю стену, на которой обнаружилось лицо девушки, я полностью заштукатурил. Прошлой ночью я снова покрасил ее, закрашивая Молли, и Сильви, и остальных безымянных безликих девушек позади них толстым слоем желтой краски. Я хотел, чтобы комната была желтой. Больше никакого обыденного белого. Я устал от белого.
Я достал пиво из холодильника и держал банку у своего лица, разглядывая яркую, покрытую масляной краской стену, к счастью, лишенную каких-либо лиц умерших людей. Пока что. Я собирался закрасить остальные стены, когда наступит утро.
Мой взгляд метнулся в сторону, когда я подумал о еще одном участке, который необходимо было покрасить. Краска на дальней стене покрылась пузырями.
— Вот дерьмо!
Я боялся этого, боялся, что другие стены тоже придется штукатурить. Но прошло больше недели, прежде чем краска на задней стене облупилась. На других стенах не было никаких признаков того, что краска потрескалась или облупилась. Я подошел к смежной стене и провел рукой по волнистой поверхности. И в этот же момент краска слезла словно оберточная бумага, которую разорвали и разбросали по сторонам.
На меня смотрело лицо матери с печальными глазами и слегка грустной улыбкой. И я понял, кто послал мне этот сон. Во сне я смотрел не глазами Джорджии, и те воспоминания не принадлежали Джорджии. Они принадлежали моей матери.
***
Это было странно. С тех пор, как приехал в Леван, я рисовал как безумный. Хотя я контролировал себя, обходя стороной заброшенные здания и амбары, и горные склоны, и ограничивался только холстами. Каждый день был еще один рисунок об Илае. Я не мог остановиться. Некоторые из них я оставил для Джорджии, желая поделиться ими с ней так же, как она разделила со мной фотографии. Я почти боялся, что она влетит ко мне и швырнет мне их в лицо и обвинит в том, что я издеваюсь над ее болью. Но ничего такого она не сделала. Я почти желал этого, только чтобы иметь повод бороться с ней. Повод, чтобы увидеть ее.
Я поцеловал ее, а потом несколько дней после этого сомневался в разумности своих действий. Тот поцелуй был словно живой, похожий на пульсирующую фуксию в моей голове. Может, это вынуждало меня рисовать. Илай приходил и уходил, показывая мне все те же мимолетные образы и отрывки из своей жизни вместе с Джорджией. Но впервые мои рисунки были не для умерших, и даже не для Илая. Они были для меня. Я хотел увековечить его навсегда именно таким. И хотел, чтобы Джорджия помнила его только таким.
Но сон о моей матери выбил меня из колеи, как и стены, на которых никак не держалась краска. Несколько дней я только занимался домом и отложил рисование в сторону. Я не хотел начинать призывать дух матери в своих рисунках. Я еще раз полностью зашкурил все стены в гостиной, покрыв их всеми доступными средствами для предварительной обработки старых стен, какие только были в наличии в «4D’s» — строительном магазине в Нефи. Новое желтое покрытие, казалось, держалось, и я переключил внимание на другие дела, занимаясь физической работой, с которой мог справиться самостоятельно, нанимал персонал для всего остального, наблюдал за Джорджией издалека и задавался вопросом, как я собираюсь преодолеть пропасть, возникшую между нами.
На время я прекратил рисование, хотя Илай не переставал делиться со мной образами. Но он начал показывать мне новые вещи. Цветы. Облака. Кексы. Сердечки. Рисунки, прикрепленные к холодильнику магнитами в форме букв. Это все еще были его любимые вещи, насколько я мог судить. Образы были ясными и быстро сменяли друг друга. Красные объемные сердца, кексы, покрытые белой взбитой глазурью, и обилие разноцветных цветов, что даже не верилось, что маленький мальчик мог такое вообразить. Я не думал, что это были значимые для него вещи. На этот раз я был более чем уверен, что он пытался мне что-то сказать. Я поймал себя на том, что разговаривал с ним, с мальчиком, который то появлялся, то исчезал из моего поля зрения, никогда не задерживаясь надолго. Я не придавал этому большого значения, но в любом случае общался с ним.
Я провел субботу, занимаясь демонтажем ванной, унитаза и раковины в старой ванной комнате Джиджи, рассказывая Илаю о том, как я впервые увидел Джорджию. Я был маленьким. Конечно не таким маленьким, как Илай, но я был довольно юным. Может быть, лет девяти или десяти, и это было мое первое четкое воспоминание, связанное с ней. Она уставилась на меня, как и остальные дети в церкви. Но ее взгляд был другим. Она смотрела так, словно умирала, как хотела поговорить со мной. Словно ей очень хотелось заставить меня заговорить с ней. И она улыбалась. Я не улыбнулся в ответ, но я отчетливо помнил ее улыбку.
В ответ Илай послал мне образ Джорджии, которая улыбалась, держа его за руки, и кружила снова и снова, пока они оба не рухнули на траву, и мир не завертелся у них над головами. Из этого воспоминания я сделал вывод, что он тоже не забыл ее улыбку.
И тогда я рассказал Илаю о том, как Джорджия впервые заговорила со мной. Как Сакетт встал на дыбы в конюшне и сбросил ее на землю. И что во всем этом была только моя вина. Я рассказал Илаю, что в тот момент я понял — Джорджия не была в безопасности рядом со мной.
Реакция Илая озадачила меня. Он показал мне, как в день его смерти Джорджия с перекошенным от ужаса лицом кричала его имя, заглядывая под грузовик. Это было его самое последнее воспоминание о лице матери, прежде чем он покинул этот мир.
— Илай, не делай так! — выкрикнул я, прижав кулаки к глазам и обрушив голову на только что установленную раковину. Я физически и ментально отстранился, не понимая, почему Илай захотел снова мне показать это.
Он тут же прекратил, но меня затрясло. Я выругался и с минуту расхаживал взад-вперед, потирая голову руками, пытаясь унять нервную дрожь и стереть этот ужасный образ, стоящий перед глазами. А затем я снова обрел дар речи.
Я сказал ему, что Джорджия не была в безопасности рядом со мной. И Илай не был в безопасности. Даже рядом с тем, кто с радостью бы умер вместо него. А она охотно бы это сделала. С радостью. Я знал это. И я думаю, что и Илай тоже это знал. Я тер затылок, глядя на маленького мальчика в черно-голубой пижаме, который стоял так близко, что я мог бы прикоснуться к нему, если бы это было возможно. И он смотрел на меня в ответ, держа при себе свои мысленные образы, в то время как я размышлял над тем фактом, что, возможно, никто из нас не был в безопасности. Не по-настоящему. Даже среди людей, которых мы любим. Даже среди людей, которые любят нас.
— Итак… кексы, сердечки, цветы. Что это значит, Илай?
Я увидел, как Илай грязными руками хватает несколько неказистых обветшалых одуванчиков и протягивает их своей маме, а Джорджия восклицает так, словно в его руках охапка роз. Затем я увидел маленькую серебристую форму для выпечки, наполненную грязью, преподнесенную со счастливой улыбкой. И снова Джорджия охает и ахает от предложенного подарка и даже делает вид, что откусывает огромный кусок.
Форма для выпечки растворяется, превращаясь в новый образ того, как Илай рисует сердечки. Страшненькие и с неровными контурами они больше походили на перевернутые вверх ногами треугольники по форме напоминающие женскую грудь, чем на сердечки. Он рисовал их на белом листе бумаги самыми разными цветами, написав свое имя неровными буквами, и протянул листок Джорджии в знак своей любви.
Внезапно все образы исчезли, а я так и остался стоять и глазеть на Илая, держа гаечный ключ в руке и потирая затылок, где уже начала созревать шишка.
— О! Понял, — посмеиваясь, я состроил гримасу. — Цветы, кексы, сердечки. Ты даешь мне совет. Очень мило. — Я снова засмеялся. — Я преподнес ей несколько картин, но полагаю, ты считаешь, что мне следует сделать нечто большее.
Я увидел себя, обнимающего и целующего Джорджию. Я затаил дыхание и наблюдал за происходящим, словно кто-то снял нас на камеру. Она стиснула мои руки своими, когда я обрушился на ее рот. Я наблюдал за тем, как медленно провожу руками вверх по ее спине и обхватываю ее лицо ладонями. Она не отстранилась и несколько долгих секунд, не отпускала. Более того, откинув голову назад под моим натиском и закрыв глаза, она отвечала на мой поцелуй.
— Илай, — выдохнул я, находясь в замешательстве от того факта, как я вообще смог бы снова поцеловать Джорджию, когда Илай наблюдал за нами и впитывал каждую деталь, как губка, а я даже не подозревал о его присутствии.
Когда я поцеловал Джорджию, то боялся, что Илай вообще никогда не вернется. Но он определенно видел, как я ее целую.
И он видел, как Джорджия убежала после этого поцелуя, в то время как я стоял и потрясенно смотрел ей вслед.
— Ладно, приятель. Этого достаточно.
Я призвал воду, чтобы оградиться от этой маленькой наглядной демонстрации, не особо желая получать от него помощь в романтических делах. Воздвигнув ментальные стены, я потерял его и осознал, что находился один в старом доме и бормотал себе под нос что-то о том, как же мне воспользоваться идеями Илая и при этом сделать так, чтобы он не подглядывал за нами.
25 глава Моисей
В Леване было особо нечем занять себя, если вы не ездили на лошади. Или на машине. Или не наслаждались природой. Или общением с друзьями. Так как я не имел ничего из этого, я все чаще стал наблюдать за Джорджией. Иногда я наблюдал за ней из окна второго этажа, надеясь, что она не сможет заметить меня. А иногда — со старой веранды, шлифовкой которой занимался. Это давало мне повод тайно следить за Джорджией, пока она изо дня в день работала с лошадьми и людьми в большом круглом загоне. Казалось, она выполняла всю работу вместо своих родителей, и это ее вполне устраивало.
Ее кожа стала загорелой, а волосы посветлели от солнца еще больше. Ее тело было стройным и подтянутым. У нее были сильные ноги и руки с длинными пальцами, которые крепко держали поводья, длинные волосы, длинные ноги. И она обладала безграничным терпением и упорством. Казалось, она никогда не теряла бдительность и самообладание, работая с лошадьми. Она подгоняла их, подталкивала к действию, добивалась своего с помощью уговоров и выматывала их. Она и меня лишала сил снова и снова. Я не мог отвести от нее взгляд. Джорджия была одной из тех девушек, которые не должны были когда-либо привлекать меня. И она была не в моем вкусе. Я концентрировался на этом аргументе, когда приехал в Леван почти семь лет назад и увидел ее — повзрослевшую, улыбающуюся, сидящую верхом и дразнящую меня — пока мне не пришлось стать ближе к ней. В то лето она полностью сосредоточилась на мне, словно я был всем, чего она когда-либо желала. И та исключительная настойчивость стала моей погибелью.
Наш сын обладал той же настойчивостью. Он часто сидел неподалеку, расположившись высоко на заборе, будто его дух помнил эту позу, хотя у него не было физической формы, чтобы принять ее. Он пристально смотрел на свою мать, на лошадь, которую она тренировала, и я задавался вопросом, часто ли Илай навещает свою маму таким образом. Я размышлял о том, как взаимосвязь животного и женщины, связь женщины и ребенка сливаются вместе в этом тихом загоне и создают оазис умиротворения и спокойствия, который покорил бы любого, кто зашел бы туда.
Было странно видеть женщину и ее ребенка и знать, что она совершенно не подозревала о его присутствии, о том, что он наблюдает за ней и парит совсем рядом, словно ее собственный маленький ангел-хранитель.
Я положил на землю свои инструменты и побрел в сторону Джорджии, чтобы понаблюдать за ее работой, желая быть ближе к ней, ближе к ним обоим, даже если бы она предпочла, чтобы я оставался как можно дальше.
Когда я забрался на забор рядом с Илаем, казалось, он даже не обратил на меня внимания, словно пребывал где-то между мирами. Но вот Джорджия меня заметила и слегка напряглась, словно размышляя над тем, чтобы убежать. Но затем она выпрямила спину и расправила плечи, и я знал, что она говорила себе, что это ее «чертова собственность, а Моисей может катиться в ад». Я мог заметить это по ее вздернутому подбородку и тому, как она рывками дергала веревку, которую держала в руках. Это вызвало у меня улыбку. К счастью, она не сказала мне катиться в ад. Она даже не сказала, чтобы я уходил.
Поэтому я сел на забор, приковав взгляд к женщине и лошади, которую она пыталась расположить к себе. Но не прошло много времени, как воспоминания Илая стали такими яркими, что у меня не осталось выбора, кроме как обратить все внимание на них.
« — Мамочка, а как разговаривают лошади?
— Малыш, они не разговаривают.
— А как тогда ты понимаешь, что он хочет?
— Он хочет того же, что и ты. Он хочет играть. Он хочет любви. Он хочет есть, спать и бегать.
— И он не хочет заниматься скучной домашней работой?
— Нет. Он не хочет заниматься скучной домашней работой».
Я видел ее лицо, словно смотрел на нее сверху вниз, сидя верхом на лошади, и она мило улыбалась мне, подняв голову. В ее голосе слышалось веселье. Она положила руку мне на ногу. Не на мою ногу, на ногу Илая. Илай показывал мне это воспоминание. Должно быть, он ехал верхом, а Джорджия вела его лошадь по кругу. Световой период был тем же, что и в реальности; закат окрашивал западные холмы, загон окутан золотой дымкой, земля испещрена тенями и лучами солнца.
Я затряс головой, пытаясь отделить сцену в моей голове от того, что видел перед глазами, но Илай еще не закончил.
«— А Калико любит меня?
— Конечно! — засмеялась Джорджия, но вот Илай был абсолютно серьезен.
— Я тоже ее люблю. Но как мне сказать об этом, если она не умеет говорить?
— Покажи ей.
— Как показать? Изобразить руками большое сердце? — Илай изогнул свои пальчики в форме, едва похожей на сплющенное сердце. Он накренился в маленьком седле, и Джорджия мягко отчитала его.
— Держись, сынок. И нет. Не думаю, что Калико поймет, если ты покажешь фигурку сердца. Ты показываешь ей свою любовь, когда ухаживаешь за ней. Заботишься о ней. Проводишь с ней время.
— Я должен много баловать ее?
— Это было бы здорово.
— И я должен приносить ей яблоки? А еще она любит морковь
— Только не слишком много. Ты же не хочешь, чтобы она заболела от любви».
— Моисей!
Джорджия стояла снизу, вцепившись руками в мои ноги, словно пытаясь удержать меня на заборе, в то время как я потерял равновесие, как и Илай, когда изображал сердце пальцами. Я схватился за столб рядом с собой и соскользнул вниз внутрь загона, задевая своим телом Джорджию. Мы оба вздрогнули от этого прикосновения, но никто из нас не отстранился. Лошадь, с которой она работала, Касс, отошла к противоположной стороне загона, предоставляя нам с Джорджией уединение. Остались лишь закат, лошади и воспоминания Илая.
— Черт побери! Не делай так! Я думала, ты упадешь!
Ее лицо находилось так близко, что я мог разглядеть золотистые крапинки в ее карих глазах и маленькую морщинку между бровей, которая была свидетельством ее беспокойства. Я слишком долго и пристально смотрел, и морщинка беспокойства сменилась хмурым взглядом.
— Моисей? — спросила она с подозрением в голосе.
Я отвел глаза от ее лица и увидел Илая, который все также высоко сидел на заборе. Легкий бриз колыхал его кудряшки, словно ветер знал о его присутствии и чествовал по случаю возвращения домой.
— Он здесь, Джорджия. И когда он рядом, я, своего рода, теряюсь в нем.
Джорджия отпрянула, словно я принес змею и предложил ей, но не смогла удержаться и просканировала взглядом близлежащую территорию.
— Спасибо, что не дала мне упасть, — добавил я тихо.
Я чувствовал себя дезориентированным и все еще ощущал эффект пребывания в двух местах одновременно, который вызывал головокружение. Воспоминания Илая захватили меня полностью, и возвращение в настоящее было резким и сбивающим с ног. Это не походило ни на что из испытанного мною прежде — маленькое окно в его жизнь, уже закончившуюся и такую непродолжительную. Я хотел остаться в его голове на весь день. Мне вдруг стало интересно, что если и лошади, и девушки разговаривали на одном языке любви? И я инстинктивно понял, что Илай пытался помочь мне с Джорджией, объяснял мне, как ухаживать за ней.
— Он все еще здесь? — спросила Джорджия, прерывая мои размышления.
Ей не нужно было пояснять, кого именно она имела в виду, но сам факт того, что она задала такой вопрос, удивил меня. Я не знал, с каких пор она стала верить мне, но и не собирался спорить на этот счет. Я оглянулся и посмотрел туда, где сидел Илай, но он уже исчез. Его концентрация внимания была, вероятно, типичной для четырехлетнего ребенка, и он мелькал туда-обратно без всякого предупреждения. Я покачал головой.
— Нет.
Джорджия выглядела почти разочарованной. Она пристально осматривала местность позади меня, от загона до самых холмов, которые растянулись к западу от Левана, а затем просто сразила меня наповал.
— Хотела бы я иметь такой же дар, как у тебя. Хотя бы на один день, — прошептала она. — Ты можешь видеть его, а я больше никогда его не увижу.
— Дар? — я поперхнулся словом. — Я никогда не думал об этом, как о даре. Никогда, — возразил я. — Ни разу.
Джорджия кивнула, и я знал, что до этого момента она тоже не рассматривала это, как какой-то дар. На самом деле, она даже не знала, что думать по этому поводу. Я охранял свой секрет, позволяя ей считать меня чокнутым. Даже сумасшедшим. И тот факт, что теперь она, казалось, верила мне, по крайней мере, в какой-то степени, вскружил мне голову и одновременно вызывал тошноту. И я задолжал ей больше честности, чем мог дать.
— Впервые за всю свою жизнь я благодарен за то, что могу разделять воду. Джи называла это так — разделять воду. И я благодарен, потому что это все, что у меня есть. Все, что мы с Илаем получили. У тебя было четыре года, Джорджия, а у меня есть только это.
Я не говорил сердито. Я не испытывал злости. Но она не была единственной, кто страдал, и порой знание, что ты страдаешь не один, утешает. Как бы печально это не звучало.
Вздрогнув, Джорджия закусила губу, и я понимал, что сказанное мной было тяжело слышать.
— Ты помнишь ту девушку, которую я нарисовал в тоннеле? — произнес я, стараясь говорить как можно более деликатно и попытаться объяснить ей.
— Да, — Джорджия кивнула. — Молли Тэггард. Она была всего на несколько лет старше меня. Ты знаешь, они нашли ее. Вскоре после того, как ты покинул город. Кто-то убил ее.
Я тоже кивнул.
— Я знаю. Она была сестрой Тэга.
Глаза Джорджии широко распахнулись, и она остолбенела, словно полностью осознав происходящее. Но я не хотел говорить о Молли. Не в данный момент. Мне нужно было, чтобы Джорджия услышала меня. Я протянул руку и, взяв за подбородок, повернул ее голову к себе, удостоверившись, что Джорджия внимательно слушает меня.
— Но знаешь, что? Я больше не вижу Молли. Она пришла, а потом исчезла. И так происходит каждый раз. Никто не бродит слишком долго. И однажды Илай тоже исчезнет.
Джорджия снова вздрогнула, и ее глаза наполнились слезами, которые она мужественно пыталась сдержать. Мы оба стояли, не произнося ни слова, борясь с эмоциями, которые сотрясали нас с того момента, как наши взгляды встретились в переполненном лифте почти месяц назад. Джорджия сдалась первой, и ее голос дрожал, когда она честно призналась мне в ответ:
— Знаешь, я плачу каждый день. Я плачу каждый проклятый день. Я никогда не плакала. А теперь не проходит и дня, чтобы я не тонула в собственных слезах. Иногда я закрываюсь в туалете, чтобы притвориться, что это не происходит снова. Однажды настанет тот день, когда я не буду плакать, и какая-то часть меня считает, что это будет худший день из всех. Потому что Илай уже уйдет по-настоящему.
— А я никогда до этого не плакал.
Она ждала.
— На самом деле, это был первый раз.
— Первый раз?
— Здесь, в поле. Первый раз на моей памяти, когда я что-либо когда-либо оплакивал.
В тот день я опустил воды, чтобы все это прекратилось, чтобы спрятаться от образа Джорджии с перекошенным лицом, кричащей имя Илая, и впервые влага просочилась через мои глаза.
Джорджия задохнулась от изумления, и я отвел взгляд от ее недоверчивого лица. Я почувствовал, как вода задрожала и задвигалась внутри меня, снова начиная подниматься. Что со мной происходило?
— Ты думаешь, твои слезы удержат его рядом? — прошептал я.
— Мои слезы означают, что я думаю о нем, — также шепотом ответила она, находясь все еще так близко ко мне, что я мог наклониться и поцеловать ее, не делая ни единого шага.
— Но все твои воспоминания не могут быть только грустными. У него нет ни одного такого. И он думает только о тебе.
— Обо мне?
— Ну, о тебе и Калико. И о Вонючке Стьюи.
Джорджия засмеялась, снова икая от навернувшихся слез. Она резко отступила назад, и я знал, что она уже была готова отстраниться от меня.
— И что ты обычно делаешь? Когда тебе хочется заплакать, что ты обычно делаешь? — в моем голосе слышались нотки отчаяния.
— Что? — спросила Джорджия.
— Назови пять значимых вещей, Джорджия.
Она поморщилась.
— Чтоб тебя, Моисей.
— Я размышлял об этом с тех пор, как ты сказала, что Илай показывал мне свои любимые вещи. Ты удивишься, как много раз на протяжении последних семи лет я ловил себя на мысли, что составляю маленький список приятных мне вещей. Это все твоя вина.
— Я была еще той занозой в заднице, верно? — она снова рассмеялась, но в этом звуке не чувствовалось много радости. — Я выводила тебя из себя. Сновала возле тебя, словно понимала происходящее. Я ничего не знала. И ты знал, что я ничего не знаю. Но все равно я тебе нравилась.
— Кто сказал, что ты мне нравилась?
Она сдавленно засмеялась, вспоминая наш разговор возле изгороди много лет тому назад.
— По твоим глазам было видно, что я нравлюсь тебе, — Джорджия дала мне прямолинейный ответ. А затем она нервно заправила за ухо выпавшую прядь волос, словно не могла поверить в то, что флиртовала со мной.
— Давай же. Пять значимых вещей.
— Хорошо. Эм. Черт, прошло уже много времени.
С минуту она молчала. Я мог с уверенностью сказать, что она действительно обдумывает, что именно сказать. Она вытерла ладони о джинсы, словно пытаясь стереть дискомфорт, который выражало ее лицо и тело.
— Мыло.
— Хорошо, — я постарался не улыбнуться. Это была совершенно непредвиденная вещь. — Мыло. Что еще?
— Маунтин Дью. Со льдом и соломинкой.
— Так трогательно, — я мягко поддразнил Джорджию, пытаясь вызвать у нее улыбку. Она улыбнулась совсем немного, зато перестала тереть ладони.
— Носки. Носить ковбойские сапоги без носок — отвратительно, — с уверенностью заявила она.
— Этого я не знал. Но да, понимаю, — кивнув, согласился я.
— Итого пять, — произнесла она.
— Лед и соломинка не считаются. Они относятся к Маунтин Дью. Продолжай. Еще два.
Она не спорила против исключения двух вещей из ее списка «Пяти значимых вещей», но сохраняла молчание в течение долгого времени. Я ждал, размышляя, не наскучила ли ей эта затея. Но затем она сделала глубокий вдох и, глядя на свои руки, прошептала:
— Прощение.
Горечь подступила к моему горлу, и это чувство было одновременно и чуждо, и знакомо.
— Твое или мое? — спросил я, мне просто необходимо было это знать. Я задержал дыхание, стараясь совладать со своими эмоциями, и наблюдал за тем, как она засовывает руки в карманы и, кажется, собирается с мужеством.
— Нас обоих, — ответила она. Сделав тяжелый вдох, она встретилась со мной взглядом. — Ты простишь меня, Моисей?
Возможно, она искала прощение за то, что произошло с Илаем, потому что сама все еще не простила себя. Но я не винил ее в случившемся с ним. Я любил ее за то, что она родила Илая, и я хотел сказать ей, что мне не за что ее прощать. Но это была не вся правда, потому что было много других вещей, за которые я бы хотел попросить прощения. Никто не хотел меня с того самого дня, как я родился. Но Джорджия меня хотела. И потому что она хотела меня, когда никто другой не желал, я сразу же стал подозрительным. Я не доверял ей. И я всегда был настроен неприязненно по отношению к ней.
— Я прощаю тебя, Джорджия. Можешь ли ты простить меня?
Джорджия кивнула еще до того, как я успел договорить.
— Я уже простила. Я не осознавала этого, но за последние пару недель у меня было много времени, чтобы все обдумать. Думаю, я простила тебя в тот момент, когда увидела Илая. В момент, когда он родился. Он был так прекрасен. Просто маленький шедевр. Ты дал ему жизнь. Мы оба дали ему жизнь. Как я могла не любить тебя, даже совсем чуть-чуть, когда увидела его?
Я боялся заговорить и выдать голосом свое волнение, поэтому просто кивнул, принимая ее прощение. И она улыбнулась. Я был слишком переполнен эмоциями, чтобы улыбнуться ей в ответ, боясь, что даже если совсем чуть-чуть приоткрою рот, все мои старые заскоки выплывут наружу. Вместо слов, чтобы выразить свою благодарность, я мягко прикоснулся к ее щеке, а затем позволил своей руке упасть.
— Теперь пять значимых вещей, — произносит она. — Твое прощение. И мое.
***
Получив прощение, я не растратил этот шанс впустую. Я приносил цветы. Я устраивал ужины и покупал кексы. И я продолжал рисовать. Не сердца, а сюжетные картины. Я считал, что сердечки были бы явным намеком. Родители Джорджии уехали, что облегчало задачу, и три вечера подряд я оказывался перед ее входной дверью. И она всегда позволяла мне войти. Я не оставался у нее настолько долго, насколько хотел. И я не целовал ее. Но она позволила мне войти, и это было все, о чем я мог просить.
Я получил ее разрешение раскрасить стены в крытой зоне, которая была пристроена к амбару. Зимой все ее сеансы терапии проходили бы там, и я хотел закончить работу прежде, чем изменится погода. Сюжет был тем же, что и на рисунке в ее спальне. Джорджия сказала, что ее работа — это процесс перевоплощения, преобразования, и она
подумала, что история о слепом мужчине, освободившем себя благодаря превращению в коня, идеально подходила для того, чем они занимались вместе с родителями.
Наклонившись, я перемешивал краску, когда Джорджия юркнула за мою спину и хлопнула меня по заду. Сильно. От чего я пошатнулся и заляпал свою обувь краской.
— Ты только что шлепнула меня по заднице? — я потирал больное место, не просто удивленный, а абсолютно сбитый с толку.
— Она попалась мне под руку. И это довольно сложно — не смотреть на нее.
— Это еще почему? — очень не по-мужски пропищал мой скептический голос.
Илай наблюдал за нами. Его маленькие плечи тряслись, а рука прикрывала рот, как будто он смеялся. Жаль, что я не мог услышать его. Я хотел ответить Джорджии тем же и шлепнуть ее по заднице, но подумал, что, вероятно, вести себя так на глазах у своего сына неуместно. И эта мысль заставила мое сердце сжаться в груди.
— Эта задница отлично выглядит. Вот почему.
Если честно, голос Джорджии не звучал особо счастливо по этому поводу. Но она была сама собой. Джорджией, которая слегка взбалмошна, предельно прямолинейна и полна жизни.
— Правда?
— Не будь таким удивленным. Мне нравится, как она выглядит. Я никогда не могла сопротивляться тебе. Для меня ты был как наркотик.
— Свое собственное «дитя крэка»? — я ухмыльнулся, взволнованный ее признанием в том, что она не могла мне сопротивляться.
Неожиданно я увидел образ Джорджии, щекочущей Илая, который заливался смехом, пытаясь убежать от нее. Извиваясь, ему удалось высвободиться, и он тут же пошел в атаку и устремил к ней свои маленькие пальчики, когда она развернулась и стала убегать. Она пронзительно завизжала от натиска его цепких щекочущих рук.
«Прекрати, ты, маленький негодник! Моей попе щекотно!»
Илай обернул руки вокруг ее талии и впился зубами в ее левую половинку попы, которая была прямо на уровне его глаз. Джорджия вскрикнула и засмеялась, плюхаясь на свою кровать, и, подхватив его под мышки, увлекла за собой и крепко зажала в тисках. Его лицо раскраснелось из-за смеха, а кудряшки растрепались из-за статического электричества, когда они хихикали и щекотали друг друга, и каждый пытался одержать победу над другим. Джорджия предприняла попытку быть серьезной, произнося «ты не можешь кусать мою попу, Илай, это неприемлемо» непреклонным тоном, но они почти тут же оба разразились хохотом.
— Моисей? Ты опять это делаешь, — мягко произнесла Джорджия.
Я снова сосредоточил взгляд на Джорджии. Воспоминание, которым поделился Илай, вызвало улыбку на моем лице.
— Ты отключился. Снова пребывал в мечтах.
— Я думал о твоей заднице, — честно ответил я.
Я подошел к ней, игнорируя семенящего возле меня малыша. Джорджия рассмеялась во весь голос, и я одной рукой схватил ее за талию, а другой не на шутку начал щекотать.
У Илая были самые лучшие идеи.
Мы с Джорджией повалились на солому, сваленную в кучу возле стены, которая разделяла амбар и манеж, и Джорджия боролась со мной в ответ, пронзительно визжа и пытаясь тоже пощекотать меня. Но я не особо боялся щекотки, и не прошло много времени, прежде чем она стала задыхаться и умолять, выкрикивая мое имя. Это был самый лучший звук во всем мире, и это определенно не вызывало у меня смех.
— Пожалуйста, перестань! — воскликнула она, вцепившись в мои руки.
В ее волосах была солома, в моих волосах была солома, наша одежда растрепалась, мы раскраснелись и выглядели так, будто занимались нечто большим, чем просто щекотали друг друга, когда ее отец зашел в амбар.
Вот дерьмо.
Один взгляд на его лицо заставил меня отдернуть руки и отступить назад, осознавая по ярости, исказившей черты его лица, что именно ждало меня дальше. У меня были огромные неприятности. Даже Илай скрылся в ужасе. Минуту назад он был тут, а в следующую — уже исчез, и согревающий водный поток, соединяющий нас, резко высох. Джорджия стояла спиной к своему отцу, и когда я отдернул руки, она слегка оступилась и ухватилась за меня. Я осторожно отодвинул ее в сторону и без возражений и предостережения позволил ее отцу подойти.
Я даже не поднял руки. Хотя мог бы. Я мог бы с легкостью уклониться от кулака, неуклюже встретившегося с моей челюстью, но я просто смотрел на него. Потому что я это заслужил.
— Папа! — Джорджия встала между нами. — Папа! Не надо.
Он проигнорировал ее и пристально смотрел мне в глаза. Его грудь тяжело поднималась, губы были сурово сжаты, а руки тряслись, когда он указал на меня:
— Только не снова, Моисей. Мы впустили тебя, а ты перевернул дом вверх дном. И что хуже этого, были жертвы. Это не повторится снова.
Затем он посмотрел на Джорджию. Гораздо хуже злости по отношению ко мне было разочарование, которое сквозило в его взгляде, обращенном на нее.
— Ты — женщина, Джорджия. Не ребенок. Ты больше не можешь вести себя так.
Прямо на глазах она поникла и стала полностью опустошенной.
— Вы можете бить меня сколько вам захочется, мистер Шепард. Я заслужил это. Но не разговаривайте с Джорджией подобным тоном, иначе я надеру вам задницу.
— Моисей!
Глаза Джорджии вспыхнули, а спина снова выпрямилась. Хорошо. Она могла злиться на меня. Злость лучше опустошенности.
— Ты думаешь, что можешь приехать сюда, а потом снова убраться подальше, избежав наказания? Ты думаешь, что тебе просто все сойдет с рук? — произнес Мартин Шепард охрипшим от возмущения голосом.
— Мы уже не те, что были раньше, мистер Шепард. Я тоже был одной из тех жертв. И ничего мне не сошло с рук. Ни я, ни Джорджия не избежали наказания. Мы заплатили. Так же, как и вы. И мы все продолжаем расплачиваться.
Он отвернулся с отвращением на лице, но я заметил, как задрожали его губы, и мне было жаль этого мужчину. Я бы тоже испытывал к себе неприязнь, если бы был на его месте. Но хорошо, что мы выговорились.
— Мистер Шепард? — тихо произнес я.
Он не остановился. Я задумался о том, что Джорджия дала мне, о пяти значимых вещах, о прощении.
— Я хочу извиниться перед вами, мистер Шепард. Правда. И я надеюсь, однажды вы сможете простить меня.
Отец Джорджии оступился. Видимо была какая-то сила в этом слове.
— Я надеюсь, вы сможете простить меня, потому что это происходит по-настоящему. Я и Джорджия. Между нами всё по-настоящему.
26 глава Джорджия
Всю вторую половину дня в маленькой крытой арене я проводила занятия по иппотерапии с группой детей с поведенческими проблемами, которых привезли из Прово, что в часе езды севернее Левана. Эта группа была меньше, чем обычно, максимум человек шесть, и со всеми ними я уже работала прежде. Когда я закончила, уже начинало садиться солнце, а Моисей завершал отделку в крытой арене. После неловкой ссоры в то утро я последовала за своим отцом, когда он покидал амбар, чтобы убедиться, что с ним все в порядке, и еще мне нужно было перевести дыхание.
«Это происходит по-настоящему. Я и Джорджия. Между нами всё по-настоящему», — сказал тогда Моисей.
И мое глупое сердце сделало сальто и со шлепком приземлилось в бурлящий живот. Это происходило. Я верила ему. И внезапно мне стало немного страшно. Поэтому я пошла следом за своим бедным папой, уходящим из амбара, чтобы помочь ему справится с тем, что он увидел свою дочь, играющую в щекотку, и Моисея, вернувшегося в мою жизнь. Но это произошло днем раньше, а теперь мы находились там, одни в тишине замкнутой арены. Я только что закончила занятия, а Моисей раскрашивал длинную стену, которая тянулась от арены до конюшни. И я не знала, что сказать.
— А ты хороша в этом. Я кое-что слышал. Ты производишь впечатление, — непринужденно произнес он, и я тупо уставилась на него, не понимая, о чем именно он говорит. Мой мозг все еще был сосредоточен на мыслях о щекотке и эмоциональном разговоре с отцом.
— Терапия. Дети. Все это. Ты молодец, — объяснил Моисей с маленькой улыбкой на лице.
Похвала доставила мне удовольствие, и я отвернулась, чтобы скрыть радость. Я была слишком сговорчивой, слишком эмоционально зависимой. И мне не особо это нравилось. Но Моисей казался искренне заинтересованным, спрашивая меня о разных вещах, и я поймала себя на том, что охотно рассказывала ему о своей работе, в то время как снимала седла с лошадей и чистила их щеткой.
— Во время сеансов лошади отражают энергетику людей. Ты заметил, насколько Джозеф был подавлен? Каким был молчаливым? А ты заметил, как Сакетт просовывал свою голову и практически клал на его плечо? Ты обратил внимание, какой агрессивной была Лори? Она толкнула Лаки, и он тут же пихнул ее в ответ. Не сильно, но таким образом он остался в ее личном пространстве. Ты видел? Это субъективно, вот что я поняла. Есть свои плюсы в том, чтобы противостоять животному весом тысяча двести фунтов, вести его, управлять им, ездить верхом. Это невероятным образом дает людям жизненные силы, которых они лишились под натиском наркотиков, алкоголя, беспорядочных половых отношений, болезни, депрессии или, если речь идет о детях, то под давлением тех, кто имел над ними власть, кто контролировал их жизни. Мы много работаем с детьми, страдающими аутизмом. Лошади раскрывают таких детей. Все, что сдерживается внутри них, оказывается на поверхности. Даже жест, слабое раскачивающееся движение, контакты с людьми на самом элементарном уровне. Это похоже на то, что мы чувствуем, когда ходим. Словно мы сливаемся с чем-то настолько сильным, настолько большим, что на мгновение сами обретаем это ощущение главенства.
— Я думал, ты хотела стать ветеринаром. Разве не таков был план? — сдержанно спросил Моисей, очищая свои кисточки, когда я закончила заниматься лошадьми.
— Я выросла, наблюдая за тем, как мои родители занимались с лошадьми и работали с людьми. И после смерти Кейтлин и твоего отъезда я больше не хотела участвовать в родео. Я даже не хотела становиться ветеринаром. Я хотела выяснить, как раскрыть тебя, ведь я видела, как многим другим людям действительно была оказана помощь.
— Раскрыть меня?
Моисей выглядел шокированным.
— Да.
Я открыто посмотрела ему в глаза, но не смогла удержать взгляд. Если честно, то это было трудно. И до невозможности интимно.
— Поэтому я сделала именно это: получила степень по психологии. А затем и степень магистра, — я небрежно пожала плечами. — Может, однажды, ты будешь звать меня доктор Джорджия. Но, по правде говоря, я не заинтересована выписывать рецепты. Лучше я буду тренировать лошадей и помогать людям. Не представляю, как бы я выжила последние два года без своей работы.
С минуту он хранил молчание, и я не осмеливалась поднять на него глаза.
— Лошади действительно настолько разумные? — спросил он, и я охотно позволила ему сменить тему. Я не особо хотела говорить о себе.
— Я думаю, разумные это не совсем подходящее слово, хотя они умные. Они невероятно чуткие. Они подражают, реагируют. И нам просто нужно наблюдать за ними, чтобы найти ключ к самим себе. И по этой причине лошади могут стать мощным инструментом. Из слепого страха лошадь ускачет на полмили прочь. Ничего больше. Они ни о чем не думают, пока бегут. Они просто реагируют. Собаки, кошки, люди — мы все хищники. Но лошади являются жертвами, не хищниками. И по той причине, что они жертвы, они руководствуются инстинктами, эмоциями, чувством страха. Они тонко настроены на обостренные чувства и эмоции, откуда бы они ни исходили. И лошади реагируют соответствующим образом.
Моисей кивнул, словно соглашаясь с тем, что я сказала. Он пошел в мою сторону, и лошади совершенно никак на него не отреагировали. Он был спокоен. Они были спокойны.
— Иди сюда, — настояла я, попросив его подойти ближе. Внезапно, мне захотелось, чтобы Моисей сам все увидел.
— Джорджия, ты же помнишь, что случилось в прошлый раз, — запротестовал Моисей, но его голос по-прежнему оставался мягким.
— Держи меня за руку.
Он протянул руку и переплел свои пальцы с моими, прижимая свою ладонь к моей ладони, и я шагнула в сторону лошадей.
— Ты боишься, Моисей?
Я впервые задумалась об этом, когда подтрунивала над ним, чтобы он погладил Сакетта. Но теперь я не дразнилась. Нисколько. Я хотела узнать, как он себя чувствует.
— Нет. Но я не хочу напугать их, — он посмотрел на меня. — Я не хочу напугать тебя.
— Я не боюсь, — тут же ответила я.
Я услышала, как позади меня тихо заржал Лаки, а Сакетт фыркнул, словно выражая сомнение в правдивости моего заявления.
— Нет, ты боишься, — произнес Моисей.
— Да, — со вздохом призналась я. — Для меня это важно. Поэтому я нервничаю.
Как только я в этом призналась, страх покинул меня. Я потянулась к другой руке Моисея, и мы встали лицом друг к другу, взявшись за руки.
— Мы просто постоим вот здесь, и ты будешь держать меня за руки, — сказала я.
Моисей опустил голову, прижавшись подбородком к груди, и сделал глубокий вдох.
— Что? — тихо спросила я.
— Я чувствую себя ребенком. Я не хочу чувствовать себя ребенком, находясь рядом с тобой.
— Я таким тебя не считаю.
И это чистая правда.
Его руки крепко сжали мои, и этот контакт был настолько опьяняющим, что я захотела закрыть глаза, чтобы окружающее пространство перестало вращаться.
— Хорошо. Тогда я не хочу, чтобы ты рассматривала меня, как человека, которого нужно исправить.
Я кивнула головой, но почувствовала, как от огорчения сдавило грудь и зажгло глаза, и была благодарна за то, что арена, посередине который мы стояли, была затененной. Солнце почти село. Лишь изредка пробивались золотистые лучи заката, отбрасывая по периметру солнечные зайчики. Но в центре, где мы стояли, было темно, и я могла ощутить, как позади меня ждали лошади. Упорно ждали. Они всегда ждали. Их тихое фырканье было для меня утешением.
— Я никогда не хотела исправить тебя. Ни за что. Не в том смысле, который ты имеешь в виду.
— Тогда что?
— В те времена я всего лишь хотела, чтобы ты смог полюбить меня в ответ.
— Чокнутый и все остальное?
— Не говори так, — запротестовала я, испытывая ту же боль, что и всегда, когда думала о том, как началась его жизнь.
— Это правда, Джорджия. Ты должна смириться с тем, кто я есть. Так же, как сделал это я.
Его голос был таким низким и тихим, что мне пришлось следить за движением его губ, чтобы не пропустить ни слова.
И снова я почувствовала присутствие лошадей за своей спиной. Я ощутила движение, а затем легкий толчок, а потом и еще один, более сильный.
— Калико хочет, чтобы ты придвинулась ближе, — прошептал Моисей.
Я шагнула чуть ближе. Калико толкнула меня еще раз, пока наши с Моисеем тела не разделяло всего несколько дюймов. Калико качнула головой возле моего плеча и тихонько фыркнула, всколыхнув своим дыханием выпавшую прядь моих волос. Глаза Моисея были расширенными, но дыхание оставалось размеренным, а руки продолжали держать мои.
Затем Калико обошла вокруг нас и остановилась прямо за спиной Моисея. Она замерла, склонив голову, глаза ее были полуприкрыты. Моисей ощущал ее, но не мог видеть. Я почувствовала, как задрожали его руки, наблюдала за тем, как он тяжело сглатывает, переводя взгляд от меня к Сакетту, который топтался поблизости. А затем Сакетт оказался за моей спиной, прижимаясь ко мне боком, поддерживая меня, как будто они с Калико замыкали круг, встав голова к хвосту, и отгоняли мух подальше. Моисей и я стояли между ними, защищенные этими массивными телами, в укромном полумраке стремительно сгущающихся сумерек.
— Могу я кое-что спросить у тебя? — произнесла я шепотом. Мое сердце колотилось так сильно, что, казалось, Моисей мог почувствовать вибрацию, отдающуюся в мои руки.
— Конечно, — его голос был таким же тихим, как и мой.
— Ты когда-нибудь любил меня?
Возможно, было нечестным спрашивать такое, когда два детектора лжи весом под тысячу двести фунтов зажимали нас между собой, но я больше не могла сдержаться.
— Я любила тебя. В глубине души я знаю, что ты не веришь, что это так. Ты не веришь, что я могла, но я любила тебя.
— Джорджия.
Мое имя практически стоном слетело с его губ, и я почувствовала, как слезы наполняют глаза и быстро стекают по щекам, стремясь, наконец, освободиться от напряжения в моей голове. Он порывисто обнял меня, привлекая ближе к себе, словно пегая лошадь, стоящая за его спиной, придала ему силы.
— Почему ты не держалась от меня подальше? — сдавленно произнес он. — Столько раз я говорил тебе уходить. Но ты не послушалась. И не дала уйти мне. И я причинил тебе боль. Я виноват в сложившейся ситуации. Я. Ты знаешь, что я потерял всех, кого любил? Каждого. И только у меня появилась надежда, мысли, что, может, с тобой все могло бы сложиться по-другому, умирает Джи. И это доказало, что я был прав. Я не собирался позволить тебе приблизиться ко мне. Я находился в больнице для душевнобольных, Джорджия! В психиатрической лечебнице. На протяжении трех месяцев. И я не хотел, чтобы это каким-либо образом затронуло тебя. Я не пытался причинить тебе боль, я пытался спасти тебя. Я не вернулся, потому что пытался уберечь тебя… от меня! Ты понимаешь это?
Я отчаянно помотала головой, уткнувшись в его грудь и пряча лицо, а мягкий хлопок его футболки впитывал мои слезы. Тогда я этого не поняла. Ведь я считала, что он отвергает меня, отталкивает, как делал всегда. Тогда я не осознавала всего, но теперь мне все стало понятно. И это знание собрало осколки моей души и снова скрепило их вместе. Слова Моисея исцеляли, и я тоже обняла его, держа в объятиях так же, как и он меня,
больше не сопротивляясь. Его тело ощущалось твердым, сильным, крепким, таким долгожданным, и я позволила себе прильнуть к нему так, как никогда не делала раньше, испытывая спокойствие и уверенность, что он не даст мне упасть. Лошади передвинулись, и я чувствовала, как подрагивал Сакетт, словно осознавая мое облегчение. Калико тихо заржала и слегка провела носом по плечу Моисея, и я внезапно поняла, что не единственная, кто дрожал.
— Рисуй. Уходи и никогда не оглядывайся. Не люби, — произнес Моисей, уткнувшись в мои волосы. — Это были мои законы. Я решил, что как только стану свободным, буду подальше от школы, подальше от системы, я исчезну. Я ничего не хотел так сильно, как рисовать и бежать. Рисовать и бежать. Потому что только две эти вещи делали жизнь более или менее сносной. А потом появилась ты. Ты и Джи. И я начал подумывать о том, чтобы нарушить одно правило или даже два.
Мое сердце колотилось в груди, пока Моисей с трудом выдавливал из себя слова, и я сжала губы, чтобы подступающее к горлу рыдание не вырвалось в неподходящий момент и не заглушило слова, которые я так отчаянно хотела услышать.
— В конце концов, Джорджия, я нарушил только один. Я полюбил, — произнес он просто, четко, недвусмысленно.
Он любил.
А затем Калико зашевелилась и умчалась навстречу последним лучам уходящего солнца, пробивающимся сквозь дальнюю дверь, выходящую к загону. Сакетт последовал за ней, двигаясь медленным шагом и обнюхивая землю перед собой, оставляя нас с Моисеем наедине в объятиях друг друга, словно здесь их работа была закончена.
— Кто ты, Моисей? Ты другой. Я никогда не думала, что смогу снова полюбить тебя, — слезы заливали мое лицо, но я не вытирала их. — Ты не знал, как любить. А я не знаю, как вести себя с таким Моисеем.
— Я знал, как любить. И я полюбил тебя. Я просто не знал, как показать тебе это.
— И что же произошло? — спросила я.
— Илай. Илай направил меня. И он показывает мне, как это делать, — тихо ответил Моисей.
Он так и стоял, уткнувшись в мои волосы, и я была благодарна за это. Мне нужно было время, чтобы понять, как реагировать. Я знала, если посмотрю на него с жалостью или со страхом, или даже с недоверием, все, что мы построили, мгновенно разрушится. Я так же понимала, что если я захочу любить его, по-настоящему любить, а не просто желать или нуждаться в нем, то должна буду принять его таким, какой он есть.
Поэтому я прижалась губами к шее Моисея и прошептала:
— Спасибо тебе, Илай.
Я услышала, как Моисей резко вздохнул, а потом он крепче обнял меня.
— Я любил тебя тогда, Джорджия, и я люблю тебя сейчас.
Я прочувствовала рокочущий звук каждого слова и прикоснулась своими губами к его, чтобы смаковать их приятное послевкусие. Не было в мире ничего слаще. Он поднял меня, и я крепко обвила его руками и ногами. Вцепившись одной рукой в мои бедра, а другой перехватив меня за спину, Моисей целовал меня так, словно у него было время всего мира, и он бы предпочел находиться именно здесь, чем в любом другом месте на земле. Когда, наконец, он поднял голову, оторвав губы от моего рта, и прикоснулся к моей шее, я услышала его шепот:
— Глаза Джорджии, волосы Джорджии, губы Джорджии, любовь Джорджии. И длинные-длинные ноги Джорджии.
27 глава Джорджия
Чтобы избавиться от переизбытка энергии, я бегала по вечерам. Но когда я выходила на пробежку, у меня не было никакого желания останавливаться ради светских бесед. И я не хотела, чтобы люди видели, как подпрыгивает моя грудь, или отпускали ехидные комментарии по поводу моего неравномерного загара. Мои руки и лицо стали коричневыми из-за того, что я работала на улице почти целый день, но я носила джинсы, и поэтому ноги даже и близко не были того же оттенка. Все маленькие города были похожи на Леван, и люди в них подмечали малейшие детали, обращали внимание на каждую мелочь, обсуждали и судачили между собой. Поэтому я избегала город и бегала внизу вдоль полей, мимо водонапорной башни или мимо старой мельницы, когда не могла уснуть. А в тот день я не могла уснуть.
Возвращение родителей домой и резкое изменение отношений между мной и Моисеем взволновали и выбели меня из колеи. Я хотела быть с Моисеем. Вот и все. И я была более чем уверена, что он тоже этого хотел. Но так же, как и семь лет назад, Моисей и я мчались вперед со скоростью света, перейдя за несколько дней от прощения к желанию быть вместе навечно. Тем не менее, я не могла поступить так снова. Мой отец был прав, ведь я стала женщиной, матерью и должна соответствовать. Я больше не могла вести себя подобным образом, поэтому пожелала Моисею спокойной ночи и рано ушла домой, как подобает хорошей воспитанной девушке. Но от этого я не испытала ни капли радости. Несомненно, пришло время съезжать от мамы с папой.
Я бежала во всю прыть. В каждой ладони у меня было по маленькому карманному фонарику, свет от которых прыгал туда-сюда из-за ритмичного движения рук. Моим родителям не нравилось, что я бегала в одиночестве, но я была уже достаточно взрослой, чтобы не спрашивать у них разрешения потренироваться. Единственную опасность среди полей могли представлять скунсы, бродячие койоты да изредка встречающиеся гремучие змеи. Однажды мне даже пришлось одну перепрыгнуть, но она была мертва. Правда я не знала об этом, пока не заметила ее на том же самом месте на следующий вечер. Скунсы не представляли смертельной опасности, а койоты меня боялись, поэтому, кроме змей, меня ничего больше не беспокоило.
Луна была довольно полной, поэтому в фонариках не было особой необходимости. Пробежав три мили из своих пяти, я приблизилась к старой мельнице, окутанной мягким белым светом, и это зрелище заставило меня взглянуть на знакомое место новым взглядом. Старая мельница выглядела точно такой же, как и раньше. Мне стало интересно, почему Джереми Андерсон нанял Моисея вычистить ее и снести старые перегородки, если после этого ничего не собирался с ней делать. Окна все так же были заколочены, а сорняки стали выше. Но место не выглядело таким, словно за семь лет его забросили. Кто-то за ним все-таки приглядывал.
Всякий раз, пробегая мимо, я вспоминала вечер в канун Дня благодарения семилетней давности, вечер, когда я ждала Моисея снаружи, а потом струсила и оставила ему записку. Но я никогда не останавливалась возле этого места и игнорировала чувство утраты и тоски. Но теперь, когда Моисей вернулся и снова появился на горизонте, я поймала себя на том, что на мгновение остановилась отдышаться вместо того, чтобы как обычно пронестись мимо. С тех пор, как неделю назад на стене в доме Кейтлин я увидела изображение лица, проглядывающее из-под облупившейся краски, я все время думала о стенах старой мельницы и о рисунках Моисея. Что-то не давало мне покоя. Я не знала, сохранились ли они еще. Все это великолепие было скрыто внутри темного пыльного здания с заколоченными окнами, и никто не смог бы увидеть его. Но однажды кто-то все-таки захотел бы взглянуть на эти рисунки. И если говорить обо мне, то это однажды для меня наступило в тот самый момент. Я выбрала тропинку, что тянулась через старую парковку к задней двери, которой обычно пользовался Моисей, и которая, скорей всего, была надежно заперта.
Я проверила заднюю служебную дверь, и она была закрыта, как я и предполагала. Как и в ту самую ночь. Но когда я провела рукой над дверной коробкой, то оказалось, что ключ лежал именно там, где Моисей всегда оставлял его, закончив свою работу. Не поверив своим глазам, я осторожно подхватила его пальцами, а затем просунула в замочную скважину над дверной ручкой и провернула, по-прежнему не веря в то, что он действительно открыл дверь. Она отворилась с визгом уставших ржавых петель, но я, не раздумывая, шагнула внутрь. Не знаю, почему я не смогла пройти мимо. Просто не могла. Я находилась там, с фонариками в руках и с намерением кое на что взглянуть.
Прямо за дверью располагался ряд небольших офисов, а затем шла комната бо́льшего размера, которая, возможно, являлась своего рода комнатой отдыха. Внутри было гораздо темнее без падающего с неба лунного света, и я держала свои фонарики на вытянутых руках, словно парные световые сабли, чтобы ни на что случайно не натолкнуться. Чем дальше я шла, тем больше было изменений. Здание стало выглядеть по-другому. Моисей демонтировал все маленькие рабочие места в хозяйственной части, и я приостановилась, описывая большой круг по стенам своими фонариками, пытаясь сориентироваться. Насколько я помнила, рисунки располагались на дальней стене, в самом дальнем углу от главного входа, словно Моисей старался быть скрытным и не привлекать к себе внимания.
Это мысль вызвала у меня легкую улыбку. Моисей мог быть каким угодно, но только не незаметным. Шестимесячное пребывание Моисея в Леване в две тысячи шестом году было сродни нескончаемому фейерверку, который переливался всевозможными цветами, грохотал, периодически переходя в небольшой пожар и оставляя после себя клубы дыма.
Я продолжала тщательно освещать стены фонариками, снова и снова, чтобы убедиться, что ничего не пропустила. Луч фонарика в правой руке выхватил из темноты что-то, сваленное в кучу у самой дальней стены, и я подпрыгнула от неожиданности. Фонарик выпал из моей руки. Когда я попыталась нащупать его, то он отскочил и покатился в сторону темной фигуры. Затем он остановился, и луч света устремился именно в том направлении, куда я следовала, освещая только бетонный пол и пару ног.
Я взвизгнула, вцепившись сильнее в оставшийся фонарь, и стала водить им вверх и по кругу, чтобы иметь возможность разглядеть, с чем я имела дело. Или с кем. Я снова закричала, когда поток света упал на чье-то лицо и, дернувшись, осветил еще чью-то склоненную голову, а потом вздернутый подбородок. Но лица так и остались неподвижными, и после страха пришло облегчение от осознания, что я обнаружила рисунки Моисея, состоящие из кружащихся фигур и переплетенных тел, разбросанных на участке стены десять на двадцать футов. Я наклонилась и подняла упавший фонарик, радуясь, что моя неуклюжесть не лишила меня дополнительного источника света.
Он был причудлив и фантастичен — рисунок Моисея. Он был гораздо более целостным, чем изображения на стенах Кейтлин Райт, наполненные трагизмом и состоящие из размашистых линий. Этот трагизм был не в сюжете, он исходил от руки Моисея. Он испытывал страх, которым был пропитан каждый мазок кисти. А вот рисунок в мельнице отличался. Он вызывал восторг, изумление и представлял собой отдельные маленькие зарисовки, сумбурно разбросанные по стене. Вся картина в целом была сумбурной. Это напомнило мне о нашем с Моисеем обсуждении пяти значимых вещей и вызвало дорогие сердцу воспоминания, и я задумалась, что если я просто смотрела на пять значимых вещей, смешавшихся с дюжиной других участников, изображенных на стене. Я наводила фонарик на каждый набросок, пытаясь каким-то образом связать его со следующим, и задавалась вопросом, возможно ли, что рисунок выглядит по-новому просто из-за темноты и сложности полностью осветить его весь разом. Кое-что из нарисованного мне было знакомо. Но Моисей явно добавил и новые детали. Я видела его художество в октябре, а Моисей уехал только в конце ноября, и за это время рисунок стал больше.
А затем я нашла ее. Лицо, мысль о котором не выходила у меня из головы на протяжении двух недель.
Я направила оба фонарика на ее лицо, чтобы разглядеть лучше, а она с укоризной смотрела на меня сверху вниз. Свет причудливо переливался над ней, словно у нее был нимб над головой. Я почувствовала легкую дурноту, и меня затрясло более чем слегка, когда я поняла, что она мне знакома. Это было тоже лицо, что и на свежевыкрашенной стене, которое я увидела, когда пришла к Моисею забрать фотоальбом. Возможно, из-за ракурса или выражения лица, но на стене дома Кейтлин Райт она не показалась мне знакомой, но выглядела узнаваемой здесь. Я встречалась с ней. Однажды.
Звук старых петель привлек мое внимание, прокатившись по практически пустому помещению, и какую-то долю секунды я не могла понять, что это за шум. Затем я осознала, что задняя дверь, дверь, через которую я проскользнула всего минуту назад, открывалась. Я оставила ключ в замке.
Моисей
Леванская церковь, построенная в тысяча девятьсот четвертом году, представляла собой красивое старое здание из светлого кирпича с устремленной ввысь колокольней и широкой дубовой дверью. За прошедшие годы ее слегка отреставрировали, и, на мой взгляд, витражное стекло не было бы лишним, но мне она нравилась. Это место всегда заставляло меня думать о летних днях, проведенных с Джи, когда я был ребенком, и о звуках органа, которые разносились над общиной, пока я выходил через двойные двери и направлялся домой, стремясь к движению, отчаянно желая освободиться от галстука и снять блестящие черные туфли.
Я чувствовал беспокойство. Тревогу. Я не виделся с Джорджией с прошлого дня, и кроме короткого текстового сообщения, в котором я написал пять значимых для меня в тот день вещей, и смайла от нее в ответ, мы больше не общались.
У меня был клиент, проделавший долгий путь до Левана ради сеанса. И я провел весь день, рисуя женщину, которая спала, сидя за столом, сжимая в руках очки для чтения, в окружении разбросанных в беспорядке книг. Ее рот был слегка приоткрыт, волосы аккуратно обвивали щеку, а симпатичное лицо покоилось на худой руке. Мужчина рассказал мне, насколько часто она засыпала в такой позе: погружаясь в свои сновидения среди книг, не успевая добраться до их постели. Предыдущей весной его жена внезапно скончалась, и ему было одиноко. Богатый и одинокий. Богатые и одинокие были моими лучшими клиентами, но я сочувствовал ему во время нашей беседы, и я не вел себя резко и прямолинейно, как обычно, когда взаимодействовал с вещами, которые видел.
— Я не обращал внимания на знаки. Все эти предупреждающие знаки был у меня перед глазами. Но я просто не хотел замечать их, — произнес он.
Та женщина умерла от сердечной недостаточности, и он был уверен, что смог бы предотвратить это, если бы был более дальновидным.
Он ушел, не взяв рисунок с собой, что было нормальным. Я добавил несколько финальных штрихов, и через несколько дней, когда рисунок высох бы полностью, я смог бы отправить его своему посетителю. Тем не менее, он ушел счастливым. Я бы сказал, даже довольным. Но сам я не испытывал ни счастья, ни удовольствия, и как бы я того ни хотел, но все равно отправился на прогулку в надежде избавиться от избытка энергии, которая гудела внутри меня. Я хотел проверить, дома ли Джорджия или, может, где-то поблизости. Я отправил ей сообщение, но не получил на него ответа. И, как оказалось, я шел мимо церкви. Сухие листья метались возле моих ног, словно целый батальон мышей, пересекая дорогу, где их подхватывал ветер и уносил прочь.
Мой клиент что-то говорил о надвигающемся шторме. Ночь не была особенно холодной, ведь на дворе все еще стоял октябрь. Но для Юты такое было не редкость. Снегопад в один день, и яркое солнце на следующий. Дома возле церкви были украшены по случаю Хэллоуина. Привидения колыхались на ветру, большие тыквы стояли на крыльце, летучие мыши и пауки ползли по окнам и свисали с деревьев. И когда заиграл орган, это было настолько в духе Хэллоуина, что я даже слегка подпрыгнул от неожиданности, а затем выругался, когда понял, что это за звук.
На церкви уже зажгли фонари, а у дверей часовни стоял припаркованный пикап. Я остановился, чтобы послушать, и буквально после нескольких аккордов уже знал, кто именно играет. Я поднялся по широкой лестнице и толкнул большую дубовую дверь, надеясь, что она открыта, надеясь незаметно прошмыгнуть внутрь, проскользнуть на лавку и немного послушать, как играет Джози. Двери с легкостью распахнулись, и я вошел в фойе. Мой взгляд тут же приковала блондинка, сидящая за органом, и мужчина на самой дальней скамье, ближе к фойе. Ее игра была чем-то настолько прекрасным, что у меня на руках волосы вставали дымом, а по спине пробегали мурашки.
Я узнал его. Это был муж Джози, с которым я встретился на кладбище. Я присел на край скамьи, на которой сидел он. Мужчина разместился прямо посередине, вытянув руки по бокам, скрестив ноги, и глядел на свою жену. Когда я присел с краю, он перевел взгляд на меня и слегка кивнул — едва заметное движение — и я решил, что он мне нравится. Мне не хотелось разговаривать, мне хотелось послушать.
Музыка была настолько благозвучной и приятной, что мне захотелось, чтобы Илай тоже был там, просто, чтобы я мог смотреть на него, пока слушал. Но он держал дистанцию целый день, и я скучал по нему. А музыка заставляла меня скучать по нему еще сильнее. Когда Джози закончила играть отрывок, то оторвала взгляд от клавиш и подняла голову, слегка заслонив глаза рукой. Только помост был освещен, а остальная часть церкви оставалась в полумраке. Она радостно окликнула меня:
— Моисей? Это ты? Добро пожаловать! Самюэль, это Моисей Райт, художник, о котором я тебе рассказывала. Моисей, а этой мой муж Самюэль Йейтс. Не волнуйся, Моисей, Самюэль не кусается.
Самюэль наклонился в мою сторону, протягивая правую руку, и я встал и подошел к нему, чтобы пожать ее. Я сел обратно в нескольких футах от него, и Джози сразу же начала играть что-то новое, давая нам с Самюэлем возможность побеседовать между собой, но, казалось, ни один из нас не был расположен к этому. Но он заинтересовал меня. Может, потому что был в ладах с самим собой, был безумно влюблен в свою жену и так сильно не вязался с этим городом, в котором мы оба оказались. Когда он заговорил, я принял это с одобрением.
— Ты здесь, чтобы рисовать? — просто спросил он.
В его голосе звучал легкий намек на что-то экзотическое. Модуляция или ритм, что натолкнуло меня на мысль, что его родной язык — это язык племени навахо. А может у него просто была такая манера разговаривать. Определенно этот мужчина обладал особой энергетикой. Я предположил, что он мог быть чертовски пугающим, хотя и про меня люди говорили то же самое.
— Нет. Просто послушать.
— Это хорошо. Мне нравятся эти стены такими, какие они есть.
Его слова прозвучали с долей юмора, и я улыбнулся, подтверждая их.
— Она часто делает это? — я наклонил голову в сторону Джози, сидящей за органом.
— Нет. Мы не живем здесь. Мой дедушка умер несколько недель назад. Мы вернулись по случаю его похорон, и чтобы помочь моей бабушке Нетти с кое-какими делами. Завтра мы уезжаем обратно в Сан-Диего. Джози играет ради меня. Я влюбился в нее в этом здании. Сидя прямо вот здесь, на этой скамейке.
Его откровенность удивила меня.
— И я тоже влюбился в нее здесь, — произнес я тихо, и его взгляд метнулся ко мне. Я покачал головой. — Мне было десять. Не беспокойся. Просто ее музыка делала присутствие в церкви чуть более сносным. Но даже тогда я положил взгляд на другую маленькую блондинку.
— Джорджия Шепард чертовски хорошая наездница.
Значит Джози рассказывала ему и о нас с Джорджией тоже.
— Да, так и есть.
— Мой дедушка был закоренелым консерватором. Увлечение родео, занятие скотоводством, женщине место на кухне. Такого рода человеком он был. Но даже ему пришлось признать, что в ней было что-то большее. Джорджия ездит на лошади, как моя бабуля из племени навахо. Бесстрашно. Грациозно. Как музыка, — кивнул он в сторону Джози. Несколько минут мы сидели молча, просто слушая, прежде чем он снова заговорил.
— Мне жаль, что так случилось с твоим мальчиком, — его голос прозвучал искренне и успокаивающе, и все, что я мог сделать — не уронить голову, рыдая. Вместо этого я встретил его взгляд и кивнул.
— Спасибо.
Я осознал, что простое сочувствие Самюэля было настолько же сокрушающим, насколько и желанным. Илай был моим мальчиком. И я лишился его. Его потеря произошла совсем недавно. Для меня он умер не два года назад. Он умер три недели назад. Для меня он погиб в поле за домом Джорджии, когда она рассказывала о том ужасном дне, и когда я сам увидел, как все произошло. И каким-то образом слова этого мужчины подтвердили реальность случившегося. Я и не думал, что нуждался в этом.
— Ты вернулся, чтобы все исправить.
Это было утверждение, не вопрос.
— Да.
— Ты вернулся, чтобы забрать то, что по праву принадлежит тебе.
— Да, — снова согласился я.
— Мне пришлось сделать то же самое. Я почти упустил свой шанс с Джози. Я почти потерял ее. Думал, у меня еще есть время. Не повторяй моей ошибки, Моисей.
Я кивнул, не зная их истории, но тем не менее желая прислушаться к его словам. Я послушал музыку еще немного и встал, больше не в силах спокойно сидеть, даже не смотря на звучащую красивую мелодию и приятную компанию. Мне было необходимо увидеть Джорджию. Я еще раз протянул руку Самюэлю, и он тоже встал, чтобы пожать ее, соблюдая все формальности. Ростом он был так же высок, как и я, и наши глаза находились на одном уровне, когда я выразил ему свои соболезнования.
— Сожалею о смерти твоего дедушки. Ты будешь скучать по нему. Но у него все хорошо. Ты и так это знаешь, верно?
Самюэль наклонил голову, рассматривая меня. Мне бы хотелось опустить последнюю фразу, но я мог ощущать присутствие его деда, словно теплый покров, и я хотел отблагодарить Самюэля единственным способом, который знал.
— Да. Я верю в это. Мы рады, что он больше не страдает. Мы знали, что его конец близок, и у нас была возможность подготовиться.
Мое сердце начало колотиться, а ладони вспотели. Я почувствовал, как от тревоги, которая не оставляла меня целый день, отяжелели руки и ноги, когда слова Самюэля и моего клиента загремели в моей голове. «Я почти потерял ее. Я думал, у меня есть время. Мы знали, что конец близок. Я не хотел обращать внимания на знаки. Все предупреждающие знаки были у меня перед глазами».
Я выбежал из церкви, промчавшись вниз по лестнице, не беспокоясь о том, что Самюэль и Джози Йейтс действительно посчитали меня психом, как и утверждали слухи. Я пробежал по газону и рванул в сторону дома, стараясь не думать, что действительно означали все эти знаки.
Я думал, что Илай находился рядом ради меня. Я думал, что он там, чтобы вернуть меня к Джорджии. Но я вернулся, а Илай не ушел. Илай по-прежнему кружил рядом со мной. Он кружил рядом с Джорджией. Точно так же, как мой прадедушка парил возле Джи перед тем, как она умерла. Точно так же, как смерть окружала детей в отделении для больных раком. Все повторялось.
Что если Илай явился ради Джорджии?
А после этого появилась девушка. Блондинка. Все те девушки были блондинками. Мертвые девушки-блондинки. Джорджия была блондинкой. Даже моя мать, моя мать пыталась предупредить меня. Эти знаки… Я видел их, и не хотел замечать их. Я должен был догадаться! Это — моя жизнь, и она всегда была такой.
Я в ужасе бежал, ругая себя почем зря, пока не добрался до дома Джорджии. Я промчался по подъездной дорожке мимо ее маленького грузовичка и забарабанил в двери, словно безумец, каким и являлся. Когда никто сразу же не подошел к двери, я кинулся к другой стороне дома, где находились, насколько мне было известно, окна спальни Джорджии. Я только знал, что они изменили интерьер, и мне предстояло увидеть что-то неприятное, но я был в отчаянии. Я прижался лицом к стеклу и постучал, надеясь, что хоть кто-нибудь услышит. Между реек жалюзи я мог кое-что разглядеть. Настенный рисунок невообразимого цвета, который я сделал много лет назад, сразу бросился мне в глаза, и я удивился, как Джорджия вообще высыпалась в этой комнате.
— Джорджия! — закричал я, как безумный.
На прикроватном столике горела маленькая лампа, но в комнате никого не было. Я побежал обратно к переднему дворику, решительно настроенный попасть внутрь, и неважно открыты для меня двери или нет.
Джорджия пошатываясь шла по подъездной дорожке, одетая в шорты для бега и футболку, ее волосы, убранные в хвост, были намокшими от пота.
— Моисей?
Облегчение в ее голосе было равносильно облегчению, которое испытал я, увидев ее. Я пересек газон в три широких шага и порывисто обнял Джорджию, зарываясь лицом в ее взъерошенные волосы, не беспокоясь о своей бурной реакции. Еще ни разу в жизни я не испытывал такого облегчения от того, что ошибся.
— Я так испугался…
Мы начали говорить одновременно, и я слегка отстранился, глядя на нее сверху вниз.
— Я так испугалась, — она заговорила снова, и я убрал одну руку со спины Джорджии, чтобы смахнуть волосы с ее лица. Ее щека была в чем-то измазана, глаза широко раскрыты, а зубы стучали. Я понял, что она дрожала и сжимала меня руками так, словно пыталась удержаться от падения.
— Джорджия?
Мауна Шепард стояла в дверном проеме, крепко сжимая в руках скалку. Мельком меня посетила мысль, занималась ли она стряпней или же схватила ее, чтобы защититься от мужчины, барабанящего в ее дверь.
— Ты в порядке, Джорджия? — спросила она, переводя взгляд то на свою дочь, то на меня.
— Да, мама, в порядке. Я прогуляюсь с Моисеем недолго. Не жди меня, — ее голос был твердым, но тело продолжало дрожать, и меня снова охватил страх. Что-то случилось. Я не был полностью неправ.
Немного подумав, Мауна Шепард кивнула Джорджии.
— Хорошо. Ты знаешь, что делаешь, девочка, — она обратила внимание на меня. — Моисей?
— Да, мадам?
— С меня уже достаточно сердечных приступов. Либо порадуй меня, либо уходи. Ты меня понял?
— Понял.
— Отлично. Время бы тоже не помешало. Дай нам всем немного времени, особенно Мартину.
Я кивнул, но ничего не ответил. Я был не согласен давать им время. Оно никогда не было моим другом. А еще я ей не доверял.
28 глава Джорджия
Я продолжала прижиматься к Моисею, пока мы шли. Он не заставлял меня говорить, а просто обнимал левой рукой за плечи и при каждом нашем шаге касался губами моих волос. Что-то случилось. Не только со мной, но и с Моисеем тоже. По моей спине бегали мурашки, и это ощущение все никак не прекращалось. Мы добрались до парадного крыльца, и я вдруг осознала, что не в силах смотреть на то, что внутри дома. Я знала, что Моисей рисовал. Я была уверена, что он перекрасил облупившийся участок. Он работал в доме с тех пор, как приехал две недели назад. Но я боялась оказаться лицом к лицу перед этой стеной.
— Детка, на улице холодно, — тихо произнес Моисей, убеждая меня зайти внутрь, когда я замешкалась, и такое проявление нежности пошатнуло мой контроль.
— Давай просто присядем на минутку, ладно? — прошептала я, сползая вниз на ступеньку крыльца.
Ветер в тот день был переменчив, на какое-то мгновение дул порывами, а затем стихал. Это напомнило мне о попытках заставить Илая лечь спать, когда он был еще малышом. Он все никак не хотел сдаваться, стремясь двигаться до победного, вплоть до последней секунды, затем совсем немного дремал, только чтобы набраться сил сесть и снова начать играть. На следующий день исполнится два года, как я потеряла его. Воспоминания должны были причинять страдания, но я вдруг осознала, что нахожу в них покой и утешение.
— Я не плакала сегодня, — вдруг осознала я, и Моисей все-таки поддался и сел рядом со мной.
Размер и тепло его тела заставили меня прижаться к нему, и я прислонила голову к плечу Моисея. Он провел своей большой рукой по моим волосам и прижал ее к лицу. Повернув голову, я оставила поцелуй на его ладони и почувствовала, как он задрожал. Затем Моисей обнял меня обеими руками, и я уткнулась лицом в его грудь, а он прижался головой к моей голове.
— Если ты не перестанешь быть таким милым, то я побью свой собственный рекорд, — прошептала я, — и снова начну плакать.
— Слезы умиления не считаются, — также шепотом ответил он, и я почувствовала, как у меня защипало глаза, как я и предполагала. — Джи любила повторять, что слезы счастья выражают нашу признательность. У нее даже была такая вышивка крестиком, а это о многом говорило. Я считал это глупым, — я слышала улыбку в его голосе.
— Ох, значит Джи верила в пять значимых вещей.
Я прижалась губами к его горлу, желая быть к Моисею как можно ближе.
— Джи верила во все хорошее, — он нежно прикоснулся щекой к моим волосам и зарылся в них носом.
— Особенно в тебя.
— Даже в меня, — произнес Моисей, поднимая руку к моему подбородку. — Что случилось, Джорджия? Почему ты была так напугана?
— Я сделала кое-что глупое. Испугалась и побежала домой, как маленькая девочка.
— Расскажи мне.
— Нет. Это неважно. Но ты тоже был напуган. Почему?
Моисей помотал головой, словно не зная, с чего начать.
— Я чувствую себя так, словно что-то теряю. Или упускаю. Или, может, это страх никогда ничего не иметь. Я лишился Илая прежде, чем вообще узнал, что он был моим. И какая-то часть меня уверена, что история повторяется. Это некий шаблон, Джорджия и… — он остановился, словно не мог подобрать правильных слов, и я почувствовала нотку отчаяния в его голосе.
— Это происходит сейчас, Моисей, — прошептала я, напоминая ему о том, что он говорил прежде. — Ты и я. Мы вместе.
Он слегка улыбнулся и прижался своим лбом к моему лбу.
— Тут холодно. Пойдем внутрь. Побудь со мной немного, — тихо произнес Моисей, и я задрожала, но не от холодного воздуха, а из-за отчаянной просьбы, прозвучавшей в его голосе.
Я хотела. Мне было это нужно. Но я не могла выбросить из головы ее лицо.
— Девушка… Девушка, которую ты нарисовал на стене, она все еще там? — спросила я таким же приглушенным голосом. Я повернула голову и уставилась на входную дверь, размышляя о стенах, находящихся за ней. — Я узнала ее.
— Молли? — спросил он. Я могла бы с уверенностью сказать, что удивила его, даже озадачила.
— Нет, не Молли. Девушка позади Молли.
Минуту Моисей сидел неподвижно, а затем встал, потянув меня за собой. Крепко держа за руку, он повел меня в дом следом за собой. Несмотря на то, что мое сердце колотилось, а ноги дрожали, я позволила ему сделать это. Мы шли по дому, пока не остановились в центре комнаты, глядя на стены, которые находились на разных стадиях шлифовки и покраски. Ее лицо все еще было слегка заметно. Моисей спокойно посмотрел на него, а затем опустил подбородок, глядя на меня сверху вниз. Его зеленые глаза были прикрыты, выражая беспокойство. Я упивалась его взглядом, не желая слишком долго смотреть на девушку со стены.
— Лиза Кендрик, девушка, которая убирала мой дом, сказала, что ее имя Сильви. Это ее двоюродная сестра, — произнес Моисей. — По всей вероятности, она исчезла летом перед тем, как я переехал к Джиджи. Хотя она была не отсюда. Мне кажется, Лиза сказала, что она жила в Ганнисоне.
Я кивнула, а мое сердце одолела грусть.
— Я не знала, как ее звали, но я помню ее. Она посещала терапевтические занятия, которые вели мои родители, а затем перестала ходить. Я слышала, как мои родители обсуждали это, но не задумывалась, что с ней могло что-то случиться. Это была девяностодневная программа, проводившаяся в Ричфилде для детей, которые имели проблемы с наркотиками. И она была одной из тех детей. Я подумала, что она выглядит знакомо, когда заметила ее лицо на стене в тот день, когда пришла забрать свой фотоальбом. И это не давало мне покоя.
Моисей напрягся, словно знал, что я готовилась рассказать кое-что еще.
— Я помнила о твоих рисунках в старой мельнице. Я все время бегаю мимо нее. Там ты тоже нарисовал ее, Моисей. Твои рисунки все еще там, — я поторопилась закончить и видела, как расширились его зрачки. Он смотрел сквозь меня, словно пытаясь воскресить в памяти детали ушедших дней.
— Я даже не знал, кто владелец мельницы. Джи нашла для меня эту работу и все организовала. Я просто приходил туда и получал плату, хотя фактически денег я не получал, если так подумать, — он пожал плечами. — Я хотел закрасить все рисунки на стене. Говорил себе, что так и сделаю, но… мне не хватило времени. — Это мысль вызвала у него беспокойство, и он хмуро посмотрел на меня. — Поверить не могу, что они все еще там. И поверить не могу, что ты пошла туда одна, да еще в темноте.
— Об этом я не подумала. Знаешь, это лишило меня покоя. Я все думала о том, что девушка показалась мне знакомой, но может всего лишь потому, что она была просто симпатичной блондинкой, как и все остальные девушки.
— Они все были блондинками? — спросил Моисей, но звучало это так, будто он скорее ждал подтверждения, нежели информации.
— Насколько мне известно, да.
— Сколько всего их было? — ошеломленно спросил Моисей. — Я нарисовал только трех.
На самом деле он нарисовал больше трех девушек, просто у других не было видно лица.
— Мама с папой разговаривали с шерифом Доусоном в прошлом июле, когда пропала девушка из Пэйсона. В общей сложности пропаж было несколько. Восемь или девять. И все они произошли за последние десять или двенадцать лет. Не знаю, что было до этого, но, кажется, шериф Доусон считал, что их могло быть и больше за пределами Юты.
— И они полагают, что все пропавшие связаны? — голос Моисея звучал покорно, словно он и так знал, что я собираюсь сказать.
— Все блондинки. Все примерно одного возраста. Все пропавшие из маленьких городков Юты. Все исчезновения произошли в двухнедельный период в июле.
— Ты блондинка, — зловеще и тихо произнес Моисей.
Я ждала, когда он продолжит. Его губы были вытянуты в резко очерченную прямую линию, а глаза не отрывались от моих.
— Кто-то попытался схватить тебя, Джорджия. Тем летом. В июле. Кто-то пытался тебя схватить. Я думаю, этот человек пробежал прямо мимо меня. Он налетел на меня, Джорджия. Я вернулся, чтобы найти тебя, из-за твоего дедушки. Я видел, как он стоял на обочине дороги. И он показал мне, как ты падаешь. Поэтому я вернулся. Еще я видел его на ярмарке, в амбаре и в углу твоей комнаты, пока рисовал.
— Он был в углу моей комнаты? — испуганно вскрикнула я.
— Он показал мне, что нарисовать. Все те образы на стенах твоей спальни это то, как он видел ту историю. Ты никогда не обращала внимание, что мужчина, превращавшийся в лошадь, походит на твоего дедушку? Он ассоциировал себя с этой историей так же, как и все мы ассоциируем себя с персонажами, которые нам нравятся. Это был его способ приглядывать за тобой. И мне понравилась эта идея. Он и прежде приглядывал за тобой.
Я уставилась на Моисея, странным образом взволнованная и в то же время ошеломленная. Я не могла решить, какая из эмоций больше соответствует, когда вдруг вспомнила как Моисей сказал, что Тэг — брат Молли Тэггард. Это было так странно — эта связь. Мне не верилось, что я забыла об этом.
— Молли Тэггард? — напомнила я.
— Молли, девушка по имени Сильви и ты! Ты подходишь под описание, Джорджия, — Моисей резко соскочил с места и начал мерить комнату шагами. — Сегодня я испытал такой страх. Все начинает складываться воедино! Я вижу ее — Сильви — я видел ее дважды. Она не дала мне закрасить свое долбаное лицо! Я трижды обрабатывал ту стену, и она выглядит нормально два или три дня, а затем краска облезает прямо на том месте, где ее лицо! И у меня такое подозрение, что это происходит из-за Лизы. Суть в том, что Лиза не жила здесь. Я не знал Лизу. Поэтому у меня не было причины рисовать Сильви. Так же, как и не было причины рисовать Молли, если уж на то пошло. Я не встречался с Тэгом до того, как покинул Леван! И понятия не имею, кто все остальные девушки! — Моисей разразился тирадой, не переставая расхаживать из стороны в сторону, от чего у меня голова пошла кругом.
— Как ты думаешь, что это значит? — спросила я.
Он остановился и стал тереть руками свои скулы, покрытые щетиной. Я представила, насколько это могло быть успокаивающе, и мне захотелось, чтобы он был ближе, и сделать то же самое, но Моисей все никак не унимался.
— Единственное, что мне приходит на ум, то, что у меня был контакт с человеком, который их убил. Эта связь идет от убийцы. А не от членов их семей. Члены семей просто связующее звено, помогающее им повернуться, чтобы говорить, — в раздумье пробормотал Моисей и посмотрел на меня безумным взглядом. — И этот человек хотел тебя.
— Может…
Моисей решительно закачал головой.
— Нет. Это единственное объяснение.
— Или это был Терренс Андерсон, — решительно закончила я. Пришло время рассказать оставшуюся часть.
Моисей снова прекратил мерить комнату шагами и бросил на меня настороженный взгляд.
— Сегодня я зашла в мельницу. Стояла в углу, разглядывала твои рисунки и чувствовала неслабое потрясение от того, что узнала ту девушку, когда вдруг услышала, как открываются двери. Двери, через которые я сама только зашла. Я опустилась на корточки, выключив фонарики, и поползла вдоль стены в направлении выхода.
Я опустила взгляд на свои руки и только тогда заметила, какими грязными они были. И колени тоже. В мягком свете лампы мои ноги выглядели точно так же, как у Илая, когда я сажала его в ванну каждый вечер.
— Кто это был? — Моисей больше не ходил из стороны в сторону.
— Терренс, — я вздрогнула. Поначалу это шокировало меня, пока не появилась возможность все обдумать. — Его семья владеет мельницей. На данный момент уже на протяжении ста лет. Отец Терренса унаследовал ее от своего отца, когда мистер Андерсон старший умер несколько лет назад. Насколько я знаю, они используют ее просто в качестве склада. Кстати, у них там есть генератор, и когда Терренс включил одну из этих высоких штуковин, которые используются для освещения на стройплощадках, я оказалась полностью на виду. Но он стоял ко мне спиной, перебирал вещи в противоположном углу, и я проползла, пока он меня не видел. Он оставил дверь приоткрытой, а снаружи стоял пикап с работающим двигателем. У него один из тех больших дизельных фургонов, который работает очень громко. Это и еще тот факт, что дверь была открыта, позволили мне с легкостью выскользнуть оттуда так, чтобы Терренс меня не услышал. Потому что дверь скрипела как ворота в Ад.
Моисей выругался себе под нос и присел у моих грязных коленок, словно осматривая меня на наличие повреждений. Должно быть, выглядела я довольно непривлекательно.
— Думаешь, Терренс бы навредил тебе, если бы заметил?
— Нет. Я так не думаю. Просто не хотела, чтобы он застукал меня за незаконным проникновением. И он по-прежнему вызывает у меня мурашки. Так было всегда.
Внезапно Моисей встал и сгреб меня в охапку, отчего я взвизгнула. Мне пришлось обхватить его за шею, когда он зашагал вдоль кухни и начал подниматься по лестнице. Происходящее в точности напомнило мне сцену из моего любимого фильма «Тихий человек», когда герой Джона Уэйна подхватывает на руки героиню Морин О’Хара, и я запротестовала так же громко, как и она.
— Моисей! — закричала я. — Что ты делаешь?
— Собираюсь набрать тебе ванну, — прямо ответил он и усадил меня на сиденье унитаза, словно я не была взрослой женщиной ростом в сто семьдесят пять сантиметров и весом в шестьдесят три килограмма, которая в состоянии набрать себе ванну. Только в своем собственном доме. Он наклонился и включил воду, как мне показалось, над совершенно новой ванной. Она была глубокой, стояла отдельно на больших латунных ножках, и имела изогнутую форму. Вся ванная комната выглядела по-новому и явно как-то по-женски. Не похоже, чтобы это был выбор Моисея.
— Ванна просто великолепна, — выпалила я, не отрывая взгляд от пара и пузырьков, образовывавшихся под сильной струей, когда Моисей что-то капнул в воду.
— Я знал, что тебе понравится, — непринужденно ответил он. — Это все твое.
— Что?
— Дом. Он твой. Если хочешь, конечно. А если нет, то я продам его, и ты сможешь потратить эти деньги на то, чтобы построить что-нибудь, что тебе больше по вкусу.
Онемев, я уставилась на него. Он посмотрел на меня в ответ и выпрямился, проверив воду рукой и вытерев ее о свои джинсы. Аккуратным движением он начал снимать резинку с моих волос. Они были тяжелыми, а резинка тугой, поэтому, когда он полностью стянул ее и пропустил пряди между пальцами, распутывая их, я с благодарностью вздохнула и прикрыла глаза от удовольствия.
— Джорджия, я хочу заботиться о тебе. Я не могу заботиться об Илае. Но я могу позаботиться о тебе.
— Мне это не нужно, Моисей. Мне не нужен кто-то, кто будет наполнять для меня ванну или относить по лестнице наверх. Хотя я и не жалуюсь.
Мне не на что было жаловаться. Его руки в моих волосах и поднимающийся пар, который нас окутывал, вызывали во мне желание затащить Моисея в ванну, неважно, одетые мы или нет, и погрузиться в глубокий сон, находясь в тепле и безопасности, становясь более умиротворенной, чем когда-либо прежде.
— Мне не нужен твой дом, Моисей, — тихо произнесла я.
Его руки замерли в моих волосах.
— Я подумал, что будет нужен.
Я затрясла головой, и он крепче сжал мою голову. Несколько секунд Моисей просто молчал, но не отстранялся и медленно перебирал пальцами мои волосы, приглаживая и убирая их за спину.
— С этим домом все в порядке, Джорджия, — произнес он в конце концов. — В этом все дело? Он не доставляет никак неприятностей. Не место приносит проблемы. Их приносят люди. Я, — произнес он смиренным голосом, и я бросила на него такой же смиренный взгляд.
— Нет. Это не так, Моисей. Мне не нужен твой дом. Мне нужен ты.
29 глава Моисей
Я оставил ее в ванной комнате, из-под закрытой двери которой просачивались тепло и благоухание. Я слышал тихое шуршание и всплески воды, когда Джорджия двигалась, и осознал, что держу в руках кисточку для рисования, пристально вглядываясь в темноту через окно своей старой комнаты. Я обратил внимание, что в окнах дома Джорджии все еще горел свет, и надеялся, что ее родители не мечутся в панике из-за того, что она находилась рядом со мной. Какой-то фургон стоял с незаглушенным двигателем на углу между нашими домами. Большой дизельный фургон, похожий на тот, который водит Терренс Андерсон, судя по описанию Джорджии. Эта мысль вызвала во мне тот же тошнотворный ужас, который я испытал, когда она мне рассказывала, как ползла по грязному полу, старясь, чтобы он ее не заметил.
Пока я наблюдал, фургон сорвался с места и неторопливо двинулся вниз по дороге, повернув в следующем квартале, где я уже не мог его видеть. Даже несмотря на появление Терренса Андерсона, разумом я полностью находился рядом с Джорджией по другую сторону стены. Я представлял волосы, зачесанные на макушку, длинные руки и ноги, распростертые на белом фарфоре ванной, темные ресницы, слегка приоткрытые пухлые губы, но я подавил в себе порыв начать рисовать каждую мельчайшую деталь, которую мой разум с готовностью предоставил. Если уж Вермеер смог найти красоту в трещинах и пятнах, то я мог только представить, что создам, глядя на поры ее кожи.
Если бы я только знал, как сделать Джорджию частью своей жизни, или как стать частью ее жизни, может, тогда тревога, которую я чувствовал, отступила бы. Меня всегда нелегко было любить. Некоторые краски перекрывают все остальные, а некоторые просто не смешиваются.
Но я хотел попытаться. Я так сильно хотел попытаться, что у меня затряслись руки, и кисточка выпала из пальцев. Я подхватил ее и подошел к установленному в углу мольберту. Холст взывал ко мне, и я начал смешивать немного одной краски, немного другой. Что я говорил Джорджии так много лет назад? Какие цвета я бы использовал, чтобы нарисовать ее? Светло-оранжевый, золотистый, розовый, белый. Маленькие тюбики, которые я купил оптом, были подписаны причудливыми названиями, но я помнил наизусть цвет краски в каждом из них.
Широкий мазок кисти создал линию ее шеи на холсте передо мной, маленькие извилистые полосы спускались вниз, создавая изгиб тонкой спины, и появился бледный завиток пряди на золотистой коже. Но я придал больше цвета ее образу, добавляя розовые, голубые и коралловые пятна, которые были похожи на лепестки в ее волосах.
Я почувствовал, как Джорджия подошла ко мне сзади, и остановился, вдыхая ее запах, прежде чем повернуть голову и взглянуть на нее. Она снова надела свои тренировочные шорты, вместо пыльной толстовки на ней был тонкий белый топ, а ноги остались босыми.
— Я хотел нарисовать тебя, — промолвил я с целью объясниться.
— Зачем?
— Потому что, потому что, — я спешно искал причину, только чтобы Джорджия не стояла неподвижно, а я бы на нее не пялился. — Потому что Илай хочет, чтобы я тебя нарисовал.
Это была не совсем ложь.
— Правда? — ее голос прозвучал слабо, и она взглянула на меня почти застенчиво.
Было странно видеть ее такой смущенной.
— Я помню, ты хотела, чтобы я нарисовал тебя. Раньше.
— Я хотела много чего, Моисей.
— Я знаю.
Я был решительно настроен дать ей то, что она хотела. Все и вся, что было в моих силах.
— Илаю нравилось рисовать?
Я никогда не спрашивал у нее, походил ли он хоть чем-нибудь на меня. Я надеялся, что нет.
Она начала качать головой, но потом остановилась и рассмеялась. И в тот момент я увидел вспышку забытого воспоминания, словно заглянул внутрь ее головы. Но оно шло не от нее. Илай сидел на подоконнике, скрестив ноги, и улыбался так, словно скучал по мне. По нам обоим. И глаза Джорджии наполнились теплом, когда она рассказала мне о том эпизоде, даже не подозревая, что я уже видел его в ярких красках у себя перед глазами.
— Было поздно. С самого рассвета я была на ногах и за весь день не присела ни на минуту. Илай плакал. Мама с папой уехали. Уже пора было ложиться спать, а Илай все еще не поужинал и не помылся, и я была готова расплакаться вместе с ним. Я подогрела остатки спагетти и открыла банку персиков, пытаясь успокоить Илая, который хотел на ужин куриный суп с лапшой. Он хотел домашний суп с толстой лапшой, но я сказала ему, что его нет, и что я приготовлю суп на выходных. Или бабушка приготовит, потому что у нее он получается лучше, чем у меня. И я постаралась угодить Илаю оставшимися спагетти. Но он их не хотел. Я проявила упорство, посадив его за стол и наполнила тарелку, пытаясь убедить, что это именно то, что он хочет. Я поставила перед ним стакан молока и его любимую тарелку в форме трактора, наполненную лапшой с соусом с одной стороны и кусочками персиков с другой.
Она замолчала, и ее губы слегка задрожали. Но она не заплакала. И Илай продолжил с того момента, где она остановилась. Илай показал мне, как он взял тарелку и перевернул над головой. Сок вперемешку с персиками вытек ему на волосы, сползая вниз по пухлым щекам и шее. Потрясенная Джорджия просто тупо уставилась на него. Выражение ее лица было почти комичным от того, насколько сильно она пришла в ярость. Затем она опустилась прямо в лужу на кухонном полу и начала перечислять вещи, за которые была благодарна. Так же, как некоторые люди считают до десяти, когда пытаются удержать себя от того, чтобы взорваться. Илай знал, что у него большие неприятности. Из-за его тревоги воспоминание стало расплывчатым, будто у него подскочило сердцебиение, пока он наблюдал за тем, как его мама пытается не потерять самообладание.
Ракурс изменился, когда он сполз со своего стула и засеменил к Джорджии. Он сел перед ней и, не теряя ни секунды, начал руками счищать соус для спагетти с волос и вытирать его об ее щеку. Очень, очень аккуратно.
Она отпрянула, что-то бормоча, но он снова потянулся за ней, вытирая руку о другую щеку Джорджии.
«Не двигайся, мамочка. Я рисую тебя, — потребовал он. — Как мой папа».
Джорджия застыла, а Илай продолжал размазывать испорченный ужин по всему ее лицу и рукам, словно он точно знал, что делает. Она молча наблюдала за ним, и ее глаза медленно наполнялись слезами, которые стекали по лицу вместе с каплями соуса для спагетти и расплющенными персиками.
— Он хотел нарисовать меня, — произнесла Джорджия, и я отграничил себя от Илая, чтобы быть с ней в тот момент. — Он хотел нарисовать меня. Прямо как ты. Он знал, как тебя зовут. Он знал, что это ты выполнил рисунок на моей стене. Он знал, что рисунок, который я вставила в рамку и повесила в его комнате, тоже твой. И тот, что ты отправил мне после того, как уехал. Но это был первый раз, когда он сделал что-то подобное. Или сказал что-то в этом роде.
Я не знал, что ответить. Знание того, что Джорджия не утаила от Илая то, кем я был, лишило меня дара речи.
— Это было незадолго до его смерти. Прямо перед ней. За день или два. Странно. Я совсем об этом забыла. Прежде он никогда не проявлял какой-либо склонности к рисованию, так что это было совершенно неожиданно. Но я не думаю, что хочу, чтобы ты рисовал меня, Моисей, — прошептала Джорджия, разглядывая изящную спину и склоненную голову, которые я только начал создавать.
— Нет?
Я не был уверен в том, что смог бы согласиться с этим заявлением. Когда она стояла так близко, все, что я хотел сделать, это провести линии ее фигуры и затеряться в ее цветах.
— Нет, — она продолжала обводить взором рисунок. — Я не хочу быть одной. Мне бы хотелось, чтобы ты нарисовал нас. Меня и себя, — она подняла взгляд и посмотрела мне прямо в глаза. — Вместе.
Я притянул Джорджию, прижимая спиной к своей груди так, чтобы она стояла лицом к холсту, и начал делать набросок. Ее голова разместилась между моим плечом и подбородком, и я прижался щекой к ее лбу. Я обнял ее левой рукой, подняв правую для выполнения поставленной задачи. У меня заняло меньше минуты, чтобы добавить на рисунке свой профиль — всего лишь лицо, склоненное к ней, и шея. Получилось схематично, всего лишь контуры и намеки, но это были мы, и моя рука порхала над холстом, добавляя новые детали к образам нас обоих.
Я забыл про Илая, сидящего на новой кровати. Я купил ее, чтобы заменить узкую односпальную кровать, на которой спал всякий раз, когда приезжал к Джи. Я полностью растворился в ощущении близости Джорджии и в картине перед собой. А когда Джорджия повернулась в моих объятиях и подняла на меня сияющий взгляд, я забыл и о картине тоже.
Я не помнил, как отложил кисточку в сторону или как закрутил колпачки масляных красок. Я точно не помнил, как мы пересекли комнату, или как полночь перешла в утро. Я помнил только то, какого это ощущать близость и прижиматься губами к ее губам.
Поцелуй не был жестким или торопливым. Он не включал в себя блуждающие по всему телу руки или соблазнение. Но он был наполнен обещанием. Искренностью. И я не принял никаких попыток, чтобы получить что-то еще, кроме этого.
Хотя мог бы.
Воспоминание о том, каково это потерять голову от распаляющего жара, словно искрилось между нами. Но я больше не хотел воспоминаний. Я хотел будущего. Я наслаждался движением наших ртов, прикосновением губ, сплетением языков, ощущением того, как руки Джорджии обнимают мой торс. Цвета, возникшие у меня перед глазами, переливались, переходя от бледно-лилового к пурпурному и темно-синему.
И когда это произошло, я отстранился, чтобы окончательно не забыться. Губы Джорджии продолжали тянуться к моим, словно она еще не закончила, веки оставались прикрытыми. Ее глаза были подобны темному шоколаду, и я хотел снова затеряться в этих темных омутах. Но мы с Джорджией были не одни.
И когда я посмотрел сквозь ее взъерошенные волосы, отстраняясь от сладких губ, на ребенка, который молча наблюдал за нами, то вздохнул и ласково попрощался с ним. Маленьким мальчикам пора было ложиться спать. Я мысленно воздвиг водную стену и прошептал.
— Спокойной ночи, вонючка Стюи.
Джорджия вся напряглась в моих руках.
— Спокойной ночи, жадина Бейтс, — осторожно добавил я.
— Спокойной ночи, упрямец Дэн, — тихо произнесла Джорджия, и у нее задрожали губы, когда она сжала пальцами мою футболку в отчаянной попытке сохранить самообладание. Я крепче обнял ее, выражая признательность за ее веру и за ее усилия.
— Спокойной ночи, Илай, — сказал я и почувствовал, что он ускользнул.
Я лежал в темноте, слушая дыхание Джорджии рядом со мной, и надеялся, что Мауна и Мартин Шепард не лежали в тот момент без сна, беспокоясь о своей дочери, которая познала любовь и все потеряла. Она сказала принести ей радость или уходить. И я действительно не намеревался никуда уходить.
Мы с Джорджией проговорили несколько часов, лежа в темноте моей комнаты и наблюдая за тем, как лунный свет проливался на схематичные рисунки, которые она оставила на стене. Казалось, Джорджия была благодарна, что у меня рука не поднялась закрасить его, и что я пообещал утром нарисовать следующую главу той истории. Она положила голову мне на плечо. Я касался, но не соблазняя, целовал, но не вкушая поцелуй, держал в руках, не овладевая, вот так мы провели нашу первую ночь вместе после семи лет разлуки, и это существенно отличалось от того, что было в прошлом. Может, из-за нашего стремления сделать все правильно или нежелания повторять ошибки прошлого. И, возможно, из-за понимания, что даже если мы не могли видеть его, Илай находился рядом. Что касалось меня, то я постоянно чувствовал его присутствие. И на тот момент этого было достаточно, чтобы просто держать Джорджию в объятиях, подавив полыхающий внутри меня пожар.
Когда после полуночи прошел час, а затем и второй, и я упомянул о том, чтобы проводить ее домой. Джорджия только обняла меня за талию и положила голову мне на грудь, что определенно означало «нет». А я особо и не спорил. Наоборот, я погладил ее по волосам и почувствовал, как Джорджия засыпает, оставляя меня наедине со своими мыслями и страхами, которые лишь углублялись с каждым часом. Мне было интересно, что если то, как я чувствовал себя, было просто побочным эффектом любви. Теперь я обрел ее, я осознал, что нуждался в ней, и я боялся потерять ее.
На рассвете я выполз из кровати и, натянув ботинки и куртку, направился из комнаты, планируя уйти не дальше задней двери. Мне было необходимо закончить начатое, и если действительно на горизонт надвигался снег, то я хотел все завершить в ближайшее время. Когда я покидал комнату, то мельком увидел рисунок, который начал предыдущей ночью — изображение Джорджии со стороны изящной спины и моей головы, склоненной над ней. Я был готов сделать больше. Был готов украсить стены нашими рисунками, лишь бы убедить себя в том, что Джорджия принадлежит мне, а я ей. И, может быть, тогда я бы избавился от чувства страха.
Утро выдалось холодное. Холоднее, чем предыдущее, и я обдумывал, не вернуться ли внутрь за перчатками. Но я думал слишком долго, а мои руки уже на два шага опережали голову. Я работал быстро, чтобы не замерзнуть. Меня окутывал пар от дыхания, когда я приступил к работе на веранде. Выравнивать все шероховатости странным образом оказывало на меня терапевтический эффект. Выглянуло солнце, не принося с собой тепла.
Оно взошло над холмами на востоке, и его лучи крадучись двигались по темной долине, заставляя меня оторвать взгляд от веранды, чтобы понаблюдать за его восхождением. С опозданием раздался крик петуха, вызывая у меня смех своими никудышными усилиями. Я услышал фырканье лошадей в ответ на кукареканье и оглядел поле, заметив лошадей Джорджии, скопившихся неподалеку. Калико отделилась от остальных и снова тихонько заржала, покачивая головой и вытягивая ноги, словно знала, что я наблюдаю за ней. Она побежала галопом через поле, затем развернулась и поскакала обратно, встряхивая гривой, словно с благодарностью приветствуя рассвет. Сакетт присоединился к ней, гоняясь по пятам и игриво подталкивая ее, и я улыбнулся, когда вспомнил, как однажды сравнил эту пегую лошадь с Джорджией. Несколько минут я наблюдал за тем, как они резвятся, прежде чем мой взгляд приковало нечто, на что я раньше не обращал внимания. Возможно, это случилось из-за того, что все мое внимание всегда было сосредоточено на Джорджии, пока она работала с лошадьми, или из-за того, что единственный раз, когда я оказался в непосредственной близости к Калико, она стояла позади моей спины. На бедре Калико стояло клеймо, и оно отличалось от клейма Сакетта.
Я поставил вниз ведро с краской, положил кисточку сверху и прошел вдоль заднего двора Джи, чтобы посмотреть поближе. Сакетт и Калико наблюдали за тем, как я приближаюсь к ним. И хотя Калико вскидывала голову, бегая рысью по кругу, ни один из них не убежал от меня. Прогресс на лицо. Но когда Калико притормозила возле забора, разделяющего нас, я встал как вкопанный. На левом боку Калико было клеймо в виде прописной «А», обведенной в круг. Точно такая же «А», как на тесте Молли по математике. Точно такая же, как на вывеске стоянки для грузовиков, граничащей с полем, где нашли останки Молли. Я почувствовал, как у меня волосы встали дыбом, а желудок еще сильнее сжался в узел. Илай все показывал и показывал мне Калико. С самого начала. И я не мог не задаться вопросом, что если это была не просто сильная привязанность к животному.
Я намеривался зайти внутрь и подняться к Джорджии, но вместо этого вытащил свой телефон из кармана и набрал номер Тэга в надежде, что он услышит звонок в семь утра вторника и ответит. Он не всегда был ранней пташкой.
— Мо, — Тэг ответил после третьего звонка, и я был уверен, что он уже давно не спал. Его голос звучал взвинчено, обычно таким он становился после пары часов в зале, где Тэг кого-то колотил.
— Тэг.
— Теперь, когда мы вспомнили имена, что дальше?
— У Калико, лошади Илая, клеймо на заднице, которое отличается от клейма остальных лошадей Джорджии. Почему так может быть?
— Они купили ее уже после того, как ту клеймили, — просто ответил Тэг. И я кивнул в ответ, хотя он и не мог меня видеть.
— У Калико клеймо в виде обведенной в круг буквы «А», Тэг. Круг с большой «А» внутри.
Я ждал, веря, что он понимал всю важность сказанного.
Несколько долгих ударов сердца Тэг сохранял молчание, но я не нарушал тишину, понимая, что шестеренки крутятся в его голове.
— Это может быть простым совпадением, — в конце концов, ответил Тэг, но я знал, что он в это не верил. По своему опыту я был уверен, что это не было совпадением. Да и Тэг провел со мной достаточно времени, чтобы тоже понимать это.
Я выругался, используя несколько любимых словечек Тэга, и услышал страх и растерянность в этом восклицании.
— Что происходит, чувак? — спросил Тэг.
— Я не знаю, Тэг. На данный момент у меня есть мертвая мать, показывающая странные сны, еще больше умерших девушек, появляющихся на моей стене, сын, пытающийся мне сказать что-то, чего я не понимаю, и женщина в моей кровати, которую я боюсь потерять.
Я начал тереть лицо, неожиданно почувствовав усталость и испытывая единственное желание просто остаться в постели вместе с Джорджией. Я не смог бы потерять ее, если бы не отходил от нее ни на шаг.
— Что еще Илай показывает тебе? Кроме лошади.
Я был благодарен Тэгу за то, что он никак не прокомментировал мои слова о женщине в моей постели. Хотя и знал, что он хотел. Я практически слышал, как испытываемая им сдержанность трещала на телефонной линии.
— Всё. Да что угодно, — вздохнул я. — Он показывает мне все подряд.
— Но чаще всего. Что он тебе показывает?
— Калико, Джорджию. Дурацкого вонючку Стьюи и его Головорезов.
— Что за головорезы? — резко бросил он.
— Нет, не в этом смысле. Это название книги, которую Джорджия всегда читала Илаю.
Но даже когда я произнес это, я не был в этом столь уверен. Я расхаживал из стороны в сторону, пока говорил, и пошел обратно через двор. Джорджия стояла в проеме раздвижных стеклянных дверей, держа в одной руке чашку кофе, а другой придерживая одеяло, которым я ее укрыл. Взъерошенные волосы были рассыпаны на ее плечах, а лицо все еще оставалось сонным. И этого было достаточно, чтобы мои колени подогнулись, а все мысли о головорезах вылетели из головы.
— Я должен идти, Тэг. Женщина в моей постели проснулась.
— Везучий сукин сын. До скорого, Мо. И не забудь спросить у нее, откуда взялась та лошадь.
30 глава Джорджия
Илаю никогда не нравился какой-то один конкретный цвет. Он все никак не мог определиться, и каждый день менял свое мнение по поводу любимого цвета: то оранжевый, то насыщенно красный, как яблоко, то голубой, как небо, то зеленый, как сельскохозяйственная техника фирмы «Джон Дир». На желтом он задержался на целую неделю, так как это был цвет заката, но потом все-таки передумал и заявил, что самый лучший цвет это коричневый, потому что у Илая, меня и Калико карие глаза. А еще грязь тоже коричневая, а Илай действительно любил копошиться в грязи. Но всякий раз, когда кто-нибудь спрашивал, какой его любимый цвет, он всегда отвечал что-то новое, пока однажды не сказал «радужный».
В прошлом году в годовщину его смерти я купила пятьдесят больших шаров самых разных цветов, какие только смогла найти, чтобы не мучиться с их транспортировкой, арендовала баллон с гелием и провела небольшую закрытую церемонию, в загоне запустив их в небо. Я думала, это позволит мне чувствовать себя лучше, но, когда я отпустила воздушные шары и наблюдала за тем, как они поднимались все выше и выше, меня охватило горе. Я смотрела, как эти хрупкие маленькие шарики ярких жизнерадостных расцветок улетали прочь, становились для меня недостижимыми и уже больше никогда не вернутся.
Я не знала, что предпринять в этот год. Мне понравилась идея посадить деревья, но время года было неподходящим. Также мне понравилась идея сделать пожертвование в его честь, но у меня не было лишних средств. К рисунку на амбаре Моисей добавил изображение Илая, который сидел верхом на белой лошади, поднимающейся к облакам. Голова его была запрокинута назад, маленькие ручки вскинуты вверх, а босыми ногами он держался за прекрасное существо. Моисей уже почти закончил, и рисунок выглядел потрясающе. Мои родители ни слова не сказали по этому поводу. Но как-то раз я заметила папу, который стоял и с удивлением разглядывал рисунок, а по его щекам текли слезы. Мой отец все еще винил себя за смерть Илая. Вины хватало на всех. Но то, как он смотрел на тот рисунок, улыбаясь сквозь слезы, натолкнуло меня на мысль, что он начинает отпускать ситуацию. И, может быть, этого было достаточно. Все мы двигались дальше, Моисей вернулся обратно, возможно, этого было достаточно, и не было необходимости в каких-то грандиозных поступках, говорящих о том, что мы не забыли.
Тем утром, когда я покидала Моисея, настаивая на том, что могу дойти до угла дома и без сопровождения, он прижал меня к себе, нежно поцеловал и сказал, что будет по мне скучать. А затем наблюдал за тем, как я ухожу, словно я была воздушным шаром, а он жалел, что меня отпустил.
— Джорджия! — внезапно позвал он, и я обернулась с улыбкой на лице.
— Да?
— Откуда у вас появилась Калико?
Это был настолько неожиданный вопрос, совершенно не соответствующий взгляду Моисея, полному желания, что пару секунд я просто изумленно таращилась на него, совсем запутавшись в своих мыслях.
— Мы купили ее у шерифа Доусона. А что?
***
В доме было необычайно тихо, когда я проскользнула в дверь, через холл неслышно пробралась в свою комнату и подготовилась к наступившему дню. Дверь в комнату родителей была заперта, и для 8.30 утра вторника это было довольно странным. Но я только порадовалась такой удаче, не желая оправдываться, почему не пришла ночью домой.
Этого разговора все равно было бы не избежать, и нужно было принимать решение. Но не в тот самый момент.
У меня выдалось напряженное утро, расписанное по часам. С десяти утра до полудня я провела сеанс терапии с детьми, больными аутизмом, а после этого побеседовала с несколькими высшими чинами авиационной базы ВВС Хилл, которые были заинтересованы в проведении иппотерапии для пилотов, борющихся с посттравматическим синдромом, а также членов их семей. База располагалась в Огдене в двух с половиной часах езды от Левана, и я была не уверена, как буду выполнять работу, если они захотят, чтобы я приезжала к ним несколько дней в неделю. Но я хотела это выяснить, и меня начала посещать мысль, что такое предложение — настоящая удача. К тому же у Моисея была квартира в Солт-Лейк, который находился от Огдена всего в тридцати минутах езды, что позволило бы сделать поездку на работу и обратно несколько дней в неделю менее трудоемкой, да и облегчило бы жизнь Моисею, раз уж мы хотели быть вместе. Леван был прекрасным местом, чтобы жить в нем, но только не для Моисея. Я просто не могла представить, что он бы захотел переехать в старый дом Кейтлин и провести здесь остаток жизни, рисуя картины и наблюдая за тем, как я тренирую лошадей и провожу занятия с людьми. Но вот появилась возможность для нас с ним делать и то, и другое.
В три часа должен был приехать Дейл Гаррет, чтобы забрать Каса. Вспыльчивое животное было уже достаточно подготовлено к возвращению домой. И я ждала с нетерпением, чтобы показать Дейлу его успехи. Но вот наступило три часа дня, мои занятия и встречи, запланированные на день, закончились, а Дейл не проявил никакого желания обсуждать Каса. Хотя он и приехал на своем пикапе с прикрепленным к нему прицепом для перевозки животных, явно готовый забрать Каса домой, но на добрых двадцать минут остался сидеть в кабине и разговаривал по телефону, заставляя меня ждать, чем вызвал удивление. Когда я, в конце концов, направилась к его фургону, Дейл поднял палец вверх, жестом указывая мне остановиться, и я встала, скрестив руки на груди, и стала ожидать, когда он завершит вызов, чувствуя себя, мягко говоря, взбешенной. Когда он вылез из машины, я поздоровалась и тут же развернулась в сторону конюшни, где Касс ждал, чтобы продемонстрировать свои навыки. Дейл не терял времени даром и тут же поделился со мной тем, что было у него на уме.
— Слышала новости о девчонке Кендрик?
Я напряглась, но продолжила идти. Наш с Моисеем разговор прошлой ночью крутился у меня в голове. Мы говорили о Кендрик, но я и подумать не могла, что Дейл по какой-либо причине упомянет ее.
— О Лизе?
— Да. О ней. Маленькая блондинка примерно лет семнадцати.
Я вся съежилась внутренне, но сохранила нейтральное выражение лица.
— Да. И нет, я ничего не слышала.
— Нашли ее фургон на обочине дороги к северу от города, дверь нараспашку. Прошлой ночью она покинула дом своего парня в Нефи, но так и не вернулась домой. Ее родители обнаружили это только этим утром. Позвонили парню, обзвонили ее друзей, всех соседей и, в конечном счете, обратились в полицию. Весь город поставлен на уши.
— Не может быть, — ахнула я.
— Да. Невероятно, — он посмотрел на меня в упор. — Люди снова говорят о тебе, Джорджия. Это чертовски несправедливо, но твое имя навсегда будет связано с ним.
Подняв брови, я поджала губы.
— О чем ты говоришь, Дейл?
— Никто не бездельничает на этот раз. Ходят слухи, что уже проверили фургон на наличие отпечатков пальцев. Это лишь предварительные результаты, но кто-то проболтался, что по всему фургону отпечатки Моисея Райта.
Моисей
Я задремал, перед этим закончив шлифовать веранду. В течение всего утра я то и дело косился взглядом на загоны и надворные постройки Джорджии, замечая ее то там, то тут, и это помогало мне расслабиться и приглушало назойливое чувство беспокойства, которое я никак не мог стряхнуть с себя. Когда у меня заболела спина, а руки еле двигались от усталости, я решил сделать перерыв, приготовил перекусить и забрался в ванну, которую занимала Джорджия прошлой ночью. Я скучал по ней и размышлял над тем, как отнесу ее туда как можно скорее. Тепло и плескание воды принесли умиротворение, к тому же до этого я не спал всю ночь. Мои глаза отяжелели, мысли замедлились, и я закончил принимать ванну в каком-то ступоре. Выбравшись из удушливого помещения, я неторопливо натянул джинсы и плюхнулся на живот поперек кровати, уткнувшись лицом в подушку, на которой прошлой ночью спала Джорджия.
Я мгновенно погрузился в сон.
А когда проснулся, пистолет был приставлен к моей голове.
— Это оказалось слишком легко. Я не знал, как все провернуть. Думал, мне придется пристрелить тебя сразу же, как только зайду через парадную дверь.
Мне стало интересно, почему он не сделал этого, а решил выстрелить мне в спину, пока я сплю. Ведь это было бы сложнее объяснить. Но я был убежден в том, что у него имелось объяснение. Он был одет в униформу, состоящую из отглаженных темно-коричневых брюк и рубашки. Так официально. И у меня возникло ощущение, что номинально я уже был мертв.
— Вы здесь, чтобы арестовать меня или убить, шериф? — непринужденно поинтересовался я. Я держал руки поднятыми, в то время как он сопровождал меня вниз по узкой лестнице, приставив пистолет к моей спине. Я не знал, куда мы направляемся. Но для улицы я был одет неподходяще — без обуви и с голым торсом. Мой внешний вид не соответствовал той версии, которую, возможно, он придумал.
Мы прошли вдоль кухни и остановились.
— Возьми один из тех ножей. Хотя лучше возьми всю подставку, — проинструктировал он, кивая в сторону набора ножей с черными ручками, которые я купил для дома.
Не сдвинувшись с места, я пристально уставился на него, не собираясь ему помогать убить меня.
Он выстрелил в шкаф для посуды рядом с моей головой. Взгляд его был решительным, а рука, которой он стрелял, даже не дрогнула.
— Бери нож! — повторил он, повышая голос, держа палец на спусковом крючке в ожидании, чтобы я подчинился.
Мгновение я взвешивал его слова. Мое сердцебиение ускорилось, пульс подскочил, всплеск адреналина вызвал желание схватить эти ножи, как он и сказал, и начать метать их в него. Я потянулся к подставке и вытащил самый длинный и острый нож из всех, расслабленно держа его в руке. Очевидно, племянник шерифа не рассказал ему о моем умении хорошо владеть ножами.
— Ты хочешь, чтобы я кинул его в тебя, шериф? Может, слегка порезать тебя, тогда все будет выглядеть так, будто ты был вынужден это сделать? Ты пришел сюда арестовать меня за то, что мне не совсем ясно, и я наступаю на тебя с ножом, поэтому тебе приходится выстрелить в меня. Таков твой план? А тебе не следует зачитать мне мои права или сказать, почему я арестован?
— Я здесь, чтобы допросить тебя в связи с исчезновением Лизы Кендрик, — произнес он, не отрывая взгляда от ножа и продолжая держать палец на курке; он ждал, что я пошевелюсь, тогда бы он смог нажать на него. — Когда ты будешь мертв, я найду ее здесь. Связанную и накачанную наркотиками. И никто не станет задавать мне вопросов, никого не будет волновать твоя смерть.
Я не знал, то ли он свихнулся, то ли я опять что-то упустил.
— Ты имеешь в виду Сильви Кендрик? — спросил я, у меня голова пошла кругом.
— Я имею в виду Лизу. Это была такая удача, что прошлой ночью я заметил, как она шла вдоль улицы. И я знал, что в тюрьму за Давидом Таггертом ты приезжал на ее фургоне. Как все складно получилось, просто маленькое чудо.
— Это ты убил мою мать? С этого все началось, шериф? — тихо спросил я, пытаясь соображать как можно быстрее.
— Я не убивал ее. Я ее любил. Я любил ее так сильно. А она была шлюхой. Ты знаешь, каково это быть влюбленным в шлюху? — он засмеялся, но этот звук больше походил на всхлип, и он тут же остановился, стиснув зубы, все также твердо держа руку. Кажется, я ударил по больному, действительно по больному месту. — Ты совершенно не похож на меня. Я просто поверить в это не мог, когда увидел тебя. Крошечное тельце, подключенное к куче аппаратов. Я думал, что, должно быть, они допустили ошибку. Я думал, что ты мой, — произнес он и левой рукой хлопнул себя по груди. — Я думал, что ты мой, но я другого цвета, ведь так?
Еще один приступ смеха заставил меня отшатнуться, на дюйм приблизившись к двери, и крепче ухватиться за нож. Он угрожающе сделал шаг ко мне, но разговор был еще не закончен.
— Ты уж точно не от меня! Я был таким дураком. Это же так очевидно, что Дженни спала со всеми подряд. Я бы отдал ей все, чего бы она ни захотела. Это все в голове у меня не укладывалось. А ты понимаешь хоть что-нибудь? — Джейкоб Доусон в замешательстве перевел взгляд на меня, явно желая, чтобы я сказал то, чего он так и не постиг за двадцать пять лет. — Она была испорченной. Я думал, что смогу исправить ее, но она не могла избавиться от этого дерьма. Она не могла удержаться. Так же, как Молли Тэггард и Сильви Кендрик. Она напомнили мне ее. Симпатичные девушки, но такие испорченные. Они причиняют боль своей семье. Я оказал им услугу. Они шли по тому же пути, что и Дженни: принимали наркотики, сбегали из дома, эгоистичные сучки. Я оказал им услугу. Спас их от самих себя, а их семьи избавил от еще большей боли.
— Сколько еще их было? Скольких еще девушек вы спасли? — спросил я, пытаясь скрыть сарказм, пронизывающий мой голос. — И что насчет Джорджии? Это ведь были вы? Бросились в бегство. Вы пытались забрать Джорджию. Она совсем не подходит под это описание, шериф. Так же, как и Лиза Кендрик.
— В мои планы не входило хватать Джорджию. Она стояла ко мне спиной, и я принял ее за кое-кого другого. Но когда ты появился и освободил ее, то, по правде говоря, оказал мне большую услугу. Я бы возненавидел себя за то, что навредил Джорджии. И с Лизой тоже все будет в порядке. Она ничего не вспомнит. Я накачал ее такой дозой наркоты, что ей повезет, если она вспомнит хотя бы собственное имя.
Я ничего ему не ответил. Он был худым и жилистым, не слишком высоким и намного уступал мне в размере. Я возвышался над ним и превосходил его в весе, вероятно, килограмм на двадцать пять. Но у него был пистолет. И шериф был абсолютно не в себе.
Горечь, вина, извращенная логика и годы попыток держать свои грехи под замком, прятать свое истинное лицо от людей, которые любили его и доверяли ему, медленно поглотили его человечность, разум и тот свет, что отделял от тьмы, которая уже ждала его. И вот он стоял в кухне моей прабабушки на том самом месте, где она покинула этот мир, и показал мне, кто он есть на самом деле. Должно быть, хотел облегчить свои страдания. Но он сделал это не ради оправдания, не ради того, чтобы позлорадствовать или объясниться. Он сделал это, потому что собирался убить меня, если черные пятна, которое я заметил краем глаза, можно было посчитать как предзнаменование. И они были там, ждали, чтобы утащить его за собой.
— Я полагал, что ты просто издевался надо мной все это время. Ты нарисовал лицо Молли Тэггард в тоннеле, и я понял, что ты каким-то образом узнал. Я понял, что ты, должно быть, видел меня на родео в ту ночь. Но ты никогда ничего не говорил и вел себя так, словно ничего не знал. Но потом я увидел стены. После смерти Кейтлин, — его взгляд мелькнул в сторону гостиной, в сторону той стены, которую ни один из нас не мог видеть с того места, где мы стояли. — Все те рисунки на стенах. Девушек. Ты нарисовал девушек! И по-прежнему ничего не говорил. Я не понимал, чего ты хочешь. Я пытался остановиться. Я хотел, чтобы люди думали, что это был ты. Но потом я увидел ее. Четвертого числа я увидел ее. В этот же день умерла Дженни, а она выглядела как Дженни. Она улыбнулась мне, как обычно улыбалась Дженни. И она была пьяна. Пьяна в стельку. В ту ночь я проследил за ней до ее дома и похитил.
Я не знал, о ком конкретно он говорил, но подозревал, что о той самой девушке, которая с июля считалась пропавшей без вести, фото которой Тэг увидел на флаере, висящем в баре в Нефи.
— А затем прошлой ночью я приехал со своим племянником на старую мельницу, он занес туда какие-то вещи, а я ждал его в фургоне и вдруг увидел, как оттуда крадучись выскальзывает Джорджия Шепард и убегает так, словно ее что-то до смерти напугало. Мы с Терренсом подъехали к ее дому, и я увидел, как вы с ней в обнимку направляетесь к тебе. Она все знает? Ты рассказал ей обо мне?
Я ждал, не понимая, чего он хочет, неуверенный, какое это имеет значение. Но у меня не было настроения вести интимные разговоры.
— И почему девушки всегда хотят быть с какими-то отбросами? Дженнифер выбирала таких. Теперь Джорджия. Я не понимаю этого.
Я снова молча ждал. Насмешка от человека, который убил несчетное количество женщин, и при этом называл меня отбросом, никак не подействовала на меня.
— Я хотел посмотреть, что замыслила Джорджия. Что вы оба замыслили. Поэтому я вернулся к мельнице после того, как Терренс высадил меня. Я не был в ней с тех пор, как она закрылась тридцать лет назад. Не было на это причин. Представь мое удивление, когда я увидел твои рисунки на стене. Молли, Сильви, Дженни и другие, еще много-много других девушек. Не знаю, как ты обо всем догадался или чего ты хочешь, но ты вернулся в Леван, в то время как я сказал тебе держаться отсюда подальше. Я предоставил тебе отличную возможность просто уехать отсюда. А ты вернулся и снова начал рисовать.
На последних словах его голос повысился от нарастающего отчаяния, словно он, и правда, считал, что я играл с ним все это время. Игра в кошки-мышки, которая, в конце концов, сломила его. Он думал, что я вернулся в Леван из-за него, и предполагал, что рисунки в мельнице были свежими, считая их новой попыткой разоблачить его. И от этой мысли он окончательно съехал с катушек.
Мне не было страшно. И это казалось очень странным. Мое сердце колотилось так, что стало трудно дышать, но то была реакция моего тела. Что же касалось разума, той части меня, что видела того, что не видели другие, то я был в порядке. Я был спокоен. Люди боялись неизвестности, но для меня это неизвестным не являлось. Смерть не пугала меня. Меня пугала мысль оставить Джорджию на милость Джейкоба Доусона. Если он считал, что она обо всем знала, то он бы ее убил.
Я мог умереть, но Джейкоб Доусон должен был умереть вместе со мной. Я не мог позволить ему жить. Даже если Илай увидел бы, как я убиваю его.
А Илай бы увидел.
Он стоял слева от меня всего лишь на расстоянии вытянутой руки, одетый в свою пижаму в виде костюма Бэтмена, дополненного капюшоном и накидкой, и слегка мне улыбался. Его печальная улыбка заставила меня задуматься, как много от ребенка в нем осталось. У него больше не было тела, тела, которое могло бы вырасти, тела, которое бы свидетельствовало о прожитых годах и накопленном опыте. Но он не был четырехлетним маленьким мальчиком, который ждал, что кто-нибудь объяснить ему происходящее. Он все знал и пытался рассказать мне.
Все это время он держался рядом, чтобы забрать меня домой.
31 глава Джорджия
Это было похоже на приглушенный звук удара в цилиндре при запуске двигателя и не предвещало никакой беды. Но мы с Дейлом повернули головы в сторону звука, навострив уши и сосредоточившись.
— Это выстрел, — пробормотал он в раздумье, сосредоточив взгляд на задней части дома Кейтлин Райт. И я побежала.
— Джорджия! — прокричал Дейл Гаррет. — Остановись! Джорджия! Черт бы тебя побрал, девчонка!
Я не знала, бежал ли он следом за мной или доставал свой телефон, но я надеялась, что второе. Он был пожилым и толстым, и я не хотела, чтобы он убился, преследуя меня по полю.
Не знаю, сколько времени у меня заняло пересечь поле, добраться до загона и преодолеть забор через задний двор Кейтлин, но казалось, что прошли целые годы. Достигнув веранды, я бросилась к стеклянным раздвижным дверям, но они оказались запертыми. Я взвизгнула от разочарования и ужаса. Моисей провел большую часть дня на этой веранде, но он до сих пор закрывал эти чертовы двери, когда заканчивал. Я побежала вокруг дома. От страха все мои мысли смешались в кучу.
Белый «Шеви Тахо» с золотистой надписью «Департамент шерифа округа Джуэб» сбоку был припаркован прямо позади черного пикапа Моисея. Когда я завернула за угол и побежала в сторону входной двери, на подъездную дорожку влетел черный «Хаммер» и резко остановился, разбрасывая гравий из-под колес. Давид «Тэг» Тэггард выскочил из машины с пистолетом в руке, а его лицо выражало намерение убивать, и я чуть не рухнула на землю от облегчения.
Но это было до того, как я услышала второй выстрел.
— Останься здесь! — заорал Тэг и устремился к парадной двери.
Конечно же, я последовала за ним. Я должна была. И когда он ворвался внутрь, не мешкая ни секунды, первое, на что я обратила внимание, это был запах. Но пахло не краской и даже не пирогами. В воздухе витал запах пороха и крови. А затем Тэг снова закричал, и я почувствовала, как он резко оттолкнул меня, стреляя из пистолета один раз, потом другой. Раздался еще один выстрел, и пуля разбила окно столовой. Под звук разлетавшегося в дребезги стекла Тэг перешагнул что-то, а потом упал на колени. Сначала я подумала, что он ранен, и потянулась к нему. Его широкая спина загораживала мне обзор остальной части комнаты. А затем я осознала, что Тэг перешагнул через распластавшегося на полу шерифа Доусона. Его глаза были устремлены в потолок, из груди торчал огромный нож, а в голове зияла рана от пули.
А потом я увидела Моисея.
Он лежал на боку, на кухонном полу. Огромная лужа крови растекалась вокруг его тела. Тэг перевернул его, пытаясь остановить кровотечение, проклиная Моисея, проклиная Бога, проклиная самого себя.
И так же, как и много лет назад, когда умерла Джиджи, когда Моисей был весь в краске, а не в крови, когда смерть была на стенах, а не в его глазах, я бросилась к нему. И так же, как и прежде, я была беспомощна, чтобы сделать для него хоть что-нибудь.
Моисей
Там было светло, и я чувствовал себя в безопасности и прекрасно осознавал, кем я был и где находился. Илай стоял рядом, держа меня за руку. Там были и другие, которые стали приближаться ко мне. Сомневаюсь, что смог бы нарисовать их всех, если бы мне пришлось. Но, возможно, краска лучше слов отразила бы то место. Однако даже несмотря на бурную деятельность и постоянное свечение вокруг меня, все мое внимание было приковано к Илаю. Он приподнял подбородок и стал рассматривать меня, изучая мое лицо, а затем улыбнулся.
— Ты мой папа, — его голос был звонким и мелодичным, хотя теперь его было легче расслышать, он стал почти кристально чистым, я узнал его из воспоминаний, которыми Илай делился со мной.
— Да, — кивнул я, глядя на него сверху вниз. — Это я. А ты мой сын.
— Я — Илай. И ты меня любишь.
— Люблю.
— Я тоже тебя люблю. А еще ты любишь мою маму.
— Да, — прошептал я, всей душой желая, чтобы Джорджия была там с нами. — Мне ненавистна мысль о том, что она сейчас осталась одна.
— Она не будет одинокой навечно. Все пролетает так быстро, — осторожно, даже деликатно заметил Илай.
— Как ты думаешь, она знает, как сильно я люблю ее?
— Ты подарил ей цветы и извинился.
— Да.
— Ты целовал ее.
Я смог только кивнуть.
— Ты делал для нее рисунки и обнимал, когда она плакала.
— Да, — прошептал я.
— А еще смеялся вместе с ней.
Я снова кивнул.
— Все это и есть способ сказать, что ты любишь.
— Неужели?
Илай выразительно кивнул. На мгновение он затих, словно о чем-то размышляя, а затем заговорил снова.
— Иногда ты можешь выбрать.
— Что? — спросил я.
— Иногда ты можешь выбрать. Большинство людей выбирают остаться. Здесь очень красиво.
— И ты выбрал остаться?
Илай покачал головой.
— Иногда ты можешь выбирать, иногда — нет.
Я ждал, жадно впиваясь в него взором. Он выглядел так ясно, так отчетливо, был таким настоящим и прекрасным, что я захотел прижать его к себе и никогда не отпускать.
— Кто-нибудь пришел за тобой, когда ты умер, Илай? — произнес я чуть ли не с мольбой в голосе, мне нужно было это знать.
— Да. Джиджи. И бабушка тоже.
— Бабушка?
— Твоя мама, глупенький.
Я широко улыбнулся, потому что он напомнил мне Джорджию, но улыбка исчезла практически сразу.
— Не знал, что моя мама будет здесь. Она была не очень хорошим человеком, — ответил я тихо. Меня удивило, что он зовет ее бабушкой, словно она выполняла эту роль так же хорошо, как делала Джиджи по отношению ко мне.
— Некоторые люди хотят быть плохими. Некоторые — нет. Бабушка не хотела быть плохой.
Это была настолько фундаментальная идея, высказанная с такой детской непосредственной мудростью и с таким простым пониманием добра и зла, что я не знал, как отреагировать, кроме как спросить:
— Можно я обниму тебя, Илай?
Он улыбнулся и тут же оказался в моих объятиях, обняв меня за шею. Я прижался головой к его кудряшкам и почувствовал, как темные шелковистые пряди щекотали мой нос. Илай пах детской присыпкой, недавно скошенной соломой и свежевыстиранным бельем. Я уловил легкий аромат духов Джорджии, словно она так же, как и я, крепко обняла Илая прямо перед тем, как он покинул ее, захватив с собой частичку нее. Он был таким теплым, и щекотал меня завитушками волос, когда прижался своей мягкой щекой к моей.
Когда нам снится сон, мы не знаем, что спим. В наших снах наши тела имеют массу, мы осязаем, целуем, бежим, чувствуем. Наши мысли каким-то образом создают реальность. И здесь было что-то вроде этого. Я знал, что у меня не было тела так же, как и у Илая. Но это не имело значения. Я мог прикоснуться к Илаю, держать его в объятиях. Я обнимал своего сына. И я не хотел никогда покидать его.
Илай слегка отклонился и посмотрел на меня серьезным взглядом. Его карие глаза так походили на глаза его матери, что я хотел утонуть в них. Затем он убрал руки с моей шеи и взял в свои маленькие ладошки мое лицо.
— Ты должен сделать выбор, папа.
Джорджия
По пути в госпиталь Моисей умер. Именно это мне сказали позже. Нам не разрешили поехать вместе с ним. Поэтому мы с Тэгом запрыгнули в его «Хаммер» и помчались следом за машиной скорой помощи, побив все мыслимые скоростные рекорды, и влетели в приемной отделение, когда наконец-таки добрались до Нефи.
А потом мы ждали, вцепившись друг в друга, в то время как врачи пытались вернуть Моисея к жизни. Лицо Тэга стало бледным, а руки дрожали от омерзения, когда он рассказал мне, что считает, что это Джейкоб Доусон убил его сестру и, вероятно, остальных девушек тоже.
— Моисей звонил мне сегодня утром, Джорджия. Он интересовался клеймом Калико — буква «А», обведенная в круг. Это не давало мне покоя. В конце концов, я позвонил своему отцу и спросил его об этом. Так, на всякий случай. Вдруг он что-то знал. И он сказал мне, что это клеймо принадлежит Джейкобу Доусону. Мы купили у него пару лошадей тем летом, когда Молли исчезла. У лошадей было именно такое клеймо. Мой отец даже отдал одну из них Молли.
— «Ранчо Андерсон», — оцепенело сообщила я. — Мать Джейкоба Доусона была из семьи Андерсон. Она унаследовала ранчо, а ее брат мельницу после смерти их отца. Когда шерифу Доусону исполнилось двадцать один, она передала ему в управление ранчо и весь домашний скот.
В госпиталь приехала целая куча полицейских. Некоторые офицеры были из Департамента шерифа, некоторые — из полицейского управления города Нефи. И Тэга увезли на допрос. Меня тоже допросили, но в госпитале, и разрешили здесь остаться. Шериф был убит, и именно пуля Тэга убила его. А еще из его груди торчал нож, который, очевидно, принадлежал Моисею. Я беспокоилась и за Тэга, и за Моисея и боялась, что правда может никогда не открыться.
Затем приехали мои родители и в полголоса рассказали с долей неверия, что во внедорожнике Джейкоба Доусона нашли связанную и накачанную наркотиками Лизу Кендрик. Это обстоятельство перевернуло мир вверх ногами. По иронии судьбы именно Джейкоб Доусон когда-то сказал мне: «Никогда нельзя ослаблять бдительность рядом с животными. Как только ты думаешь, что понимаешь их, они делают что-то абсолютно неожиданное». Ему ли было не знать.
Когда у меня больше не осталось сил быть стойкой, я нашла маленькую часовню, уткнулась лицом в испачканные кровью ладони и шепотом заговорила с Илаем. Я рассказала ему о Моисее и нашей истории, о том, как он появился на свет, о том, что в нем было все лучшее от нас обоих. А потом со слезами на глазах я попросила, чтобы он еще раз вернул Моисея ко мне, если мог.
— Верни его, Илай, — молила я. — Если у тебя есть хоть какая-то сила в том месте, верни его.
Моисей
Еще в самом начале я сказал, что потерял его. В тот день, когда я встретил Илая, его уже не было. Я знал, что он умер. Я знал, но это по-прежнему причиняло боль. Невыносимую боль. Я лишился его не в том же смысле, как Джорджия. Но все же потерял. Потерял прежде, чем узнал. И я был к этому не готов.
И с каждым днем, когда я начинал любить его все сильнее и сильнее, когда я наблюдал за ним, когда он показывал мне свою короткую жизнь и огромную любовь, становилось все труднее. По правде говоря, несмотря на то, что это все, что у меня было, я бы с радостью выбрал для себя другую участь. Что угодно, только не это. Но именно это было дано мне. А я был не готов.
Я не могу описать, каково это прощаться. Каково это сделать выбор. К счастью, все решилось само, и мне не пришлось выбирать. Я держал своего мальчика в объятиях и слышал голос его мамы, доносящийся откуда-то издалека, и рассказывающий ему нашу с ней историю. Историю о том, как родился Илай, как он умер, и как он, будучи на том свете, примирил нас. И мы с Илаем слушали вместе.
Первые несколько слов в каждой истории всегда даются особенно тяжело. Ты произносишь их почти неохотно, через силу, но это обязывает завершить рассказ. Если ты начал, то обязан довести до конца.
А мы еще не закончили. Я и Джорджия, мы не закончили. Я понимал это. И Илай тоже.
— Ты должен идти, папа, — прошептал он.
— Я знаю.
Я почувствовал, что стал скользить, почти падать. Ощущение было схоже с тем, которое я испытывал, когда призывал воду.
— Спокойной ночи, вонючка Стьюи, — я услышал, как он произнес с улыбкой в голосе.
— Спокойной ночи, жадина Бейтс, — ответил я, мой язык настолько отяжелел, что я едва мог сказать хоть слово.
— Скоро увидимся, папа упрямец.
— Скоро увидимся, малыш, — прошептал я, а затем Илай исчез.
Джорджия
О нем рассказали в утренних десятичасовых новостях. В неблагополучном районе Уэст-Валли Сити в обшарпанной прачечной нашли корзину с младенцем, которого бросила наркоманка, и от которого ждали только одни проблемы. А двадцать пять лет спустя о нем поведали совсем другую историю — историю о Моисее Райте, художнике, который общался с мертвыми и разоблачил убийцу.
И с Тэга, и с Моисея сняли всю ответственность за смерть шерифа Джейкоба Доусона и их быстро освободили, когда на его земельной собственности нашли останки Сильви Кендрик и еще нескольких пока неопознанных девушек. Лиза Кендрик полностью выздоровела, и, хотя она не помнила, что ее похитил шериф Доусон, она хорошо помнила, как шла вдоль дороги, вспышку фар и подъехавшую сзади машину.
Согласно предположениям, в течение двадцати пяти лет Джейкоб Доусон убил более дюжины девушек в Юте и, возможно, ответственен и за аналогичные исчезновения девушек, соответствующих описанию, в соседних штатах. Учитывая, что он получил в наследство сорок гектаров земли, включая землю, которая граничила со стоянкой грузовиков и туннелем возле автомагистрали, где нашли Молли Таггерд, необходимо было прочесать огромную территорию. И, к сожалению, там обнаружили большое количество тел.
Весь Леван следил за этой историей. Люди смотрели репортажи, притворялись, будто владели инсайдерской информацией, выдумывали то, что им не было известно просто, чтобы почувствовать себя важными, ведь первое время Леван мелькал во всех новостях. История была громкая. Все любили истории так же сильно, как и младенцев.
И хотя людям понравилась история о малыше по имени Моисей, который вырос и стал своего рода провидцем, когда новостные камеры исчезли, и жизнь вернулась в привычное русло, это стало историей, в которую людям верилось с трудом. Как и говорил Моисей, если ты боишься правды, то никогда не найдешь ее. Но так было даже лучше. Мы не особо хотели, чтобы нас нашли.
Мы позволили людям верить в то, что они хотели, и принять это за истину. Мы позволили краскам побледнеть, а деталям стереться. И, в конце концов, люди обсуждали произошедшее, рассказывая, что именно так все и было. Несмотря ни на что, это была громкая история. История «до» и «после», получившая новое развитие, которая еще не окончилась. Пусть эта история с изъянами и недостатками, дикая и сумасшедшая, но, прежде всего, это история любви. Это наша история.
Эпилог Джорджия
— Не шевелись. Я почти закончил, — настойчиво потребовал Моисей, и я, вздохнув, снова положила голову на руку.
Он был одержим идеей рисовать меня. Мое тело во время беременности выглядело не особо привлекательно, но Моисей был с этим не согласен, считая мой округлившийся живот одной из пяти ежедневных значимых вещей наравне с моими ногами, моими глазами, моими светлыми волосами и с тем фактом, что моя грудь стала на целый размер больше.
Зачем нужен фотограф, когда твой муж — всемирно известный художник? Я только надеюсь на то, что когда-нибудь картина обнаженной Джорджии Райт не будет висеть в спальне старого богача или, что еще хуже, в музее, где тысячи глаз ежедневно будут разглядывать мои выдающиеся формы.
— Моисей? — тихо произнесла я.
— Да? — он на мгновение оторвал взгляд от полотна.
— В Джорджии введен новый закон.
— Противоречит ли он законам Моисея?
— Да. Противоречит, — призналась я.
— Хм. Ну, давай послушаем.
Он отложил кисть в сторону, вытер руки о тряпку и подошел к кровати, на которой я располагалась, прикрывшись простыней, словно рубенсовская Мадонна. Я узнала от него значение этого выражения и, казалось, он считал такие формы весьма привлекательными.
— Не рисуй, — распорядилась я строгим голосом.
Он навис надо мной, упираясь коленом в кровать, и обхватил мою голову сильными руками. Я слегка повернулась и подняла на него взгляд.
— Никогда? — улыбнулся Моисей.
Я наблюдала за тем, как опустилась его голова, и его губы едва коснулись моих губ. Но его золотисто-зеленые глаза по-прежнему оставались открытыми, и он следил за мной во время поцелуя. От этого у меня поджались пальцы на ногах, а ресницы затрепетали. Медленный смакующий поцелуй почти лишил меня рассудка.
— Нет. Только иногда, — вздохнула я.
— Только когда я внутри Джорджии? — прошептал Моисей, его рот изогнулся в ухмылке.
— Да. И ты нужен мне здесь часто. Все время. Многократно.
Он углубил поцелуй, поглаживая руками мой округлившийся живот, и малыш с энтузиазмом толкнулся, заставляя нас с Моисеем резко отпрянуть друг от друга и удивленно засмеяться.
— Там довольно тесно, — рассудительно произнес Моисей, но в его глазах плясали веселые огоньки. Он был счастлив, и мое сердце было настолько переполнено эмоциями, что я не могла вздохнуть.
— Здесь тоже тесно, — я положила руку на сердце, пытаясь не вести себя, как чересчур эмоциональная беременная дама. — Я люблю тебя, Моисей, — призналась я, взяв его лицо в ладони.
— И я тебя люблю, Джорджия, — ответил он. — До, после, всегда.
Моисей
Я старался не ждать чего-то особенного. Жизнь после смерти это одно, а рождение новой жизни это другое. Джорджия была спокойной. Прекрасной. Тертый калач — так она себя назвала. Но я пропустил первый раз и теперь боялся моргнуть и пропустить еще хоть что-нибудь. И я не был спокойным.
Тэг тоже не ощущал спокойствия. Ему пришлось ждать снаружи. Он был моим лучшим другом, но кое-что нельзя разделить даже с лучшими друзьями. К тому же я не рассчитывал на то, что Джорджия смогла бы родить и уберечь нас обоих от потери сознания.
Все, что я мог, это сидеть возле кровати Джорджии, держа ее за руку, и молиться Богу, Джи, Илаю, любому, кто готов был слушать, чтобы придали мне силы и самообладание. Силу, чтобы стать таким мужчиной, который нужен Джорджии, и самообладание, чтобы сопротивляться неподдельному желанию покрыть рисунками все стены в палате Джорджии.
Когда наша дочь появилась на свет, крича так, словно наступил его конец, я только и смог, что плакать вместе с ней. Я превратился в плаксу. Я столько лет контролировал воду, и вот теперь она взяла власть надо мной. Но как я мог не плакать? Она была такой прекрасной, совершенной, пышущей здоровьем. И когда врачи положили ее на грудь Джорджии, и Джорджия улыбнулась мне так, словно мы сотворили чудо, я смог только согласно кивнуть. Мы сотворили два из них.
— Кейтлин, — произнесла Джорджия.
— Кейтлин, — согласился я.
— Думаю, у нее могут быть твои глаза и твой нос, — заявила Джорджия, успокаивая нашу дочь, у которой определенно был не мой нос. По крайней мере, пока что. Но вот глаза были, как у меня. И как у моей матери. Это я мог признать.
— У тебя же папины глазки? — проворковала Джорджия.
— У нее будет твой цвет кожи. И волос, — я присоединился к обсуждению, обратив внимание на светлый пушок на крошечной головке Кейтлин и розовый оттенок ее кожи. Я уже обдумывал, какие краски использовать, чтобы максимально передать цвета и оттенки.
— У нее губы, как у Илая. Возможно, у нее будет его улыбка, — уголки губ Джорджии поднялись еще выше, от чего сердце замерло у меня в груди. Мы потеряли его. Мы потеряли Илая. И только его отсутствие омрачало этот момент.
— Надеюсь на это. Это была прекрасная улыбка, — произнес я. Наклонившись, я поцеловал Джорджию в губы. В губы, которые были точь-в-точь, как у Илая и как у маленькой Кейтлин.
— Мои волосы, твои глаза, улыбка Илая, имя как у прабабушки.
— И обаяние Тэга. Будем надеяться, что она станет такой же обаятельной, как Тэг.
Мы дружно засмеялись.
А затем Джорджия тихонько заговорила с нашей маленькой дочкой, поглаживая ее мягкую щечку.
— Это пять значимых вещей для тебя, Кейтлин. Пять, значимых сегодня и всегда.
Мы с Джорджией замолчали на какое-то время, взглядом изучая нашу малышку. Она уже прекратила плакать и обхватила мой палец своей маленькой ладошкой. Широко распахнув глаза, она смотрела куда-то мимо нас.
Мне стало любопытно, что же могло привлечь ее внимание, и я обернулся. Краем глаза я тоже увидел его. Буквально на мгновение. И на короткий миг мелькнула та самая улыбка.
Notes
[
←1
]
Баррел рейсинг или скачки вокруг бочек — программа родео, в которой участницам необходимо как можно быстрее проехать вокруг трех бочек, расставленных треугольником, не уронив их.
[
←2
]
Телевизионная игра, выходящая в США уже более 50 лет, цель которой — угадать цену товаров как можно более точно.
[
←3
]
Клятва верности флагу США — клятва американцев в верности своей стране, произносимая ими перед флагом США. Как правило, произносится в начале дня в государственных органах и учреждениях, напр., школах
[
←4
]
меренги — кондитерское изделие, напоминающее по составу пирожное безе и приготавливаемое без муки: из белков и сахара, с использованием в качестве начинки-прослойки взбитых сливок или варенья
[
←5
]
Johnny Carson, Джонни Карсон — американский журналист, телеведущий и режиссёр; родился 23 октября 1925 г. в Корнинге, штат Айова, наибольшую известность приобрёл в качестве многолетнего ведущего телепрограммы «Tonight Show» («Сегодня вечером») на канале NBC
[
←6
]
«Somewhere Over the Rainbow» с англ. — «Где-то над радугой» — классическая песня-баллада на музыку Гарольда Арлена и слова Эдгара Харбурга. Написанная специально для мюзикла 1939 года «Волшебник страны Оз», песня была исполнена Джуди Гарленд и стала её «визитной карточкой». Песня была удостоена премии «Оскар» в номинации «Лучшая песня к фильму».
[
←7
]
Арета Франклин — американская певица в стилях ритм-энд-блюз, соул и госпел. Наибольшего успеха достигла во 2-й половине 1960-х и начале 1970-х гг. Благодаря исключительно гибкому и сильному вокалу её часто называют «королевой соула».
[
←8
]
Чарлтон Хестон — американский актёр, лауреат премии «Оскар» (1960 г.), который семь раз избирался президентом Гильдии киноактёров и долгое время служил председателем Американского института киноискусства. Наиболее известен по фильмам «Бен-Гур», «Планета обезьян», «Печать зла», «Десять заповедей»; «Десять заповедей» (1956 г.) — фильм повествует о знаменитом библейском персонаже Моисее, о его рождении, возмужании, культовом исходе евреев из Египта
[
←9
]
от англ. Bethlehem — Вифлеем; официальное название Бетлемская королевская больница — англ. Bethlem Royal Hospital, первоначальное название — госпиталь святой Марии Вифлеемской — психиатрическая больница в Лондоне (с 1547 г.). Название Бедлам стало именем нарицательным, вначале — синонимом сумасшедшего дома, а позже — словом для обозначения крайней неразберихи и беспорядка
[
←10
]
Калико — кошачий окрас; сочетание черного и рыжего цветов, а также белого, являющегося преобладающим. Окрас располагается пятнами различных размеров и цветовой интенсивности
[
←11
]
Американский писатель, наиболее знаменитый и плодовитый автор вестернов
[
←12
]
Американская женщина-стрелок, прославившаяся своей меткостью на представлениях Буффало Билла
[
←13
]
музыкальная комедия 1950-го года о метком стрелке по имени Энни Оукли и её пути к славе вместе со своим возлюбленным и профессиональным соперником Френком Батлером
[
←14
]
Теодор Роберт (Тед) Банди — американский серийный убийца, насильник, похититель людей и некрофил, действовавший в 1970-е годы, жертвами которого становились молодые девушки и девочки
[
←15
]
Моряк Попай — герой американских комиксов и мультфильмов, обладающий своеобразным голосом и манерой речи: коверкает слова и «глотает» звуки.
[
←16
]
Круп – задняя часть лошади, состоящая из крестцовой и тазовой кости, а также покрывающих их мышц, фасций и кожных покровов




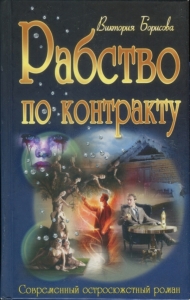
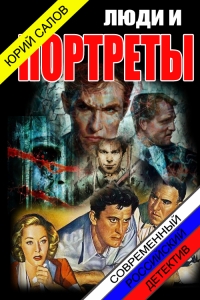
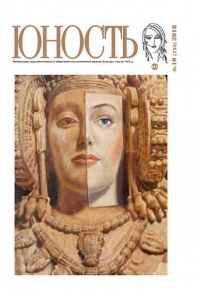


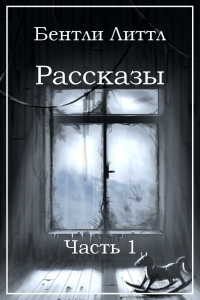

Комментарии к книге «Закон Моисея», Эми Хармон
Всего 0 комментариев