Мы родились сиротами Анастасия Баталова
Иллюстратор Анастасия Баталова
© Анастасия Баталова, 2018
© Анастасия Баталова, иллюстрации, 2018
ISBN 978-5-4493-7458-5
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
ГЛАВА 1
В её развевающихся волосах на солнце проскакивали золотые искорки. Длинные тонкие ноги с большими круглыми болячками на коленках так быстро мелькали при беге, что при попытке проследить их движение начинало рябить в глазах. Вместе с другими детьми она носилась по огороженной территории воспитательно-образовательного комплекса Норд с гипоаллергенным силиконовым браслетом на руке. Вся информация — дата рождения, особенности здоровья, группа крови и резус, непереносимость лекарственных препаратов — содержалась в миниатюрном микрочипе внутри браслета.
Форменная чёрная юбка-шорты, традиционная полосатая блуза — «матроска», ярко пламенеющий румянец на щеках, учащенное дыхание, возбужденно сверкающие глаза… Это и была Онки Сакайо, самая обычная девочка, может быть только слегка более агрессивная, заносчивая и своевольная, чем другие ребята.
Она остановилась перевести дух. Непроизвольно скрестила перед собою обнаженные до локтей золотистые от загара руки. Прошла несколько шагов вперёд, продолжая следить через плечо за ходом игры и вдруг натолкнулась на что-то коленкой.
— Ой, — воскликнула она непроизвольно, и прыжком подалась назад.
На земле сидел мальчик. Снизу вверх он смотрел на запыхавшуюся девочку своими большими внимательными глазами. Онки решила было, что он совсем не умеет говорить, слишком уж долго длилось это молчаливое разглядывание. На вид мальчугану она дала бы лет шесть-семь — мало кто к такому возрасту успевает научиться как следует взвешивать слова прежде, чем произнести их…
— Зачем ты меня пнула? — строго спросил малыш.
Его взгляд показался Онки не по годам вдумчивым, непривычно тяжёлым, глубоким. В поле зрения этих необычных серо-зелёных глаз она почувствовала себя стесненно.
— Я тебя не видела… Прости… — Онки немного растерялась.
Она ожидала всего чего угодно, громкого плача, бестолковой возни, которую обычно разводит обиженная малышня, прихода наставников, замечания, но только не этого спокойного и логичного вопроса. Маленький мальчик смотрел на неё как на равную и пытался разговаривать с ней как с равной.
— Надо всегда смотреть под ноги, а не то нос расшибешь, — назидательно подытожил он.
Скрытая насмешка почудилась Онки в этом трогательном детском мудрствовании.
— Что-то ты слишком умничаешь, — пробормотала она с неудовольствием. Надо же, какая-то мелюзга смеет её поучать! Это было очень неприятное открытие, но почему-то рядом с этим ребёнком Онки не ощущала себя так уверенно, как со всеми остальными. Она имела уровень А по всем предметам и поэтому слегка задавалась, а иногда даже позволяла себе кое-кого дразнить или отталкивать в столовой.
— Не только тебе одной можно быть умной, — рассудительно заметил мальчик. В его интонациях не чувствовалось ни досады, ни агрессии — он выглядел вполне расположенным к общению.
Это обстоятельство несколько удивило Онки. Она успела привыкнуть к тому, что скандальная слава отличницы-хулиганки вкупе с прочно приросшей к ней кличкой «буря» внушала младшим воспитанникам благоговейный ужас перед нею; и вот льстящая её самолюбию иллюзия оказалась развенчанной — она столкнулась с существом, которое со всей очевидностью являлось маленьким мальчиком, но при этом её не боялось, не робело перед нею и, казалось, вообще не испытывало к ней никакого почтения, несмотря на всю её «крутость», воспетую в школьных сплетнях.
— Да ты вообще откуда такой?.. — процедила Онки сквозь зубы, не скрывая лёгкого раздражения, вызванного тем, что временно она не ощущала себя полновластной хозяйкой положения.
— Я из первого класса, — ответил малыш деловито.
— Молодец, — изрекла Онки покровительственно и чуть насмешливо; так она всегда обращалась к тем, кто, с её точки зрения, находился существенно ниже по иерархии, — а я из трёхзвёздочного седьмого, обучаемого по специальной усложненной программе!
— Да знаю я, знаю… Онки Сакайо — великая и ужасная… — мальчик проговорил это с маленькой хитрой усмешкой, комично растягивая гласные, так, как будто он находил весьма забавным факт, что это имя зловещей тенью нависало над всей начальной школой.
Желание хвастаться дальше перед такой невосприимчивой аудиторией сразу отпало. Онки почувствовала себя безоружной и рассердилась.
— Ну а ты кто такой? — спросила она нарочито грубо.
— Меня зовут Саймон Сайгон. Запомни, пожалуйста, — в противоположность ей вежливо ответил малыш, не спуская с неё красивых серьёзных глаз.
— Вот ещё! — фыркнула Онки, — может, записать? Или у тебя визитки имеются? — она наигранно усмехнулась, всем своим видом выражая нетерпимость к заявленной важности его персоны.
— Зачем же так… — мальчуган испустил вздох, полный искреннего сожаления, — я с тобой, может, подружиться хотел… Наши девчонки из первого только про тебя и говорят, «хочу быть похожей на Сакайо из седьмого», «вы видели как Сакайо играет в футбол», «она такие прикольные страшилки сочиняет, вот бы тоже научиться…»
Онки стало стыдно. Действительно, и зачем нужно было язвить этому мальчику со странно мудрыми глазами? Он ведь ничего ей не сделал, и даже не разозлился, и не пожаловался наставникам на то, что она об него споткнулась. Но чем сильнее жгло Онки раскаяние, тем сильнее в ней закипало уязвленное болезненное самолюбие.
— Мою дружбу заслужить надо, — отрезала она, отворачиваясь.
— Мою тоже, — сказал Саймон ей в спину, — и теперь я вижу, что ты совсем не настоящая супергероиня, а просто-напросто чокнутая зазнайка… Я, кажется, разочарован.
Трудно было придумать более обидное для Онки высказывание. Девчонку чуть ли не трясло от гнева, и первое, что пришло в её взъерошенную золотую голову — прописать забывшемуся первоклашке хорошего тумака… Но мимо как раз проходил один из наставников и от этой идеи спешно пришлось отказаться.
Нарочно не удостоив мальчика взглядом, она побежала прочь, махнув другим девочкам в знак того, что уже опять продолжает играть. Настроение, однако, было сбито, Онки бегала без прежнего азарта и из-за внезапно напавшей на неё рассеянности несколько раз нарушила правила. Она пыталась исцелиться, попросту перестав думать о досадном инциденте, намеренно не смотрела в сторону «мелкого», активно жестикулировала, громко комментировала игру и смеялась, — всячески демонстрировала свою независимость и полное безразличие к случившемуся…
Хуже всего оказалось то, что спектакль этот не только не произвёл должного впечатления — он, похоже, вовсе не имел зрителей… Когда Онки разрешила наконец себе бегло взглянуть в сторону Саймона, тот невозмутимо продолжал заниматься своими непонятными малышковыми делами — сосредоточенно раскладывал на земле какие-то палочки и, скорее всего, совершенно о ней не вспоминал.
В столовой по обыкновению царила невообразимая суета. Против неё не помогал ни строгий временной регламент приёмов пищи для каждой возрастной группы воспитанников комплекса Норд, ни электронный раздатчик порций, ни деловито расхаживающие между рядами столов наставники. Несмотря на все эти меры хоть раз за день, но непременно кто-нибудь кого-нибудь толкал, закидывал хлебными шариками, разливал или рассыпал что-либо — словом, нарушал установленный порядок.
Очередь двигалась медленно. Дети проходили друг за другом вдоль длинной металлической стены электронного буфета, каждая секция которого выдавала порцию определённого блюда — супа, горячего, гарнира или десерта. Для получения порции нужно было поднести к считывателю свой наручный браслет. Электронный буфет фиксировал информацию с микрочипа и отмечал в системе, что данный воспитанник уже забрал свою еду. Размеры порций, а также доступные виды пищи регулировались в зависимости от возраста ребёнка и его физиологических особенностей, зафиксированных в системе. Таким образом формально контролировалась сбалансированность питания и исключалась возможность недоедания или обжорства. Но разумеется, дети благополучно научились обходить все эти досадные условности. Они менялись едой, если кто-то хотел, к примеру, котлету вместо гуляша или дополнительный салат, спорили друг с другом на то или иное блюдо, проигрывали и выигрывали еду, платили ею «долги чести» и тому подобное — можно было сказать, пища превратилась в своеобразную внутреннюю валюту Норда и наставники, к своему огорчению, оказались не в силах этому противостоять.
Онки Сакайо нетерпеливо протискивалась среди галдящей малышни и застенчиво пропускающих её ребят постарше ближе к электронному буфету. Краем глаза она заметила любимую потеху старшеклассниц, наставника Макса, прыщавого двадцатидвухлетнего студента с большими оттопыренными трогательно пушистыми ушами. Он гордо фланировал между рядами столиков в элегантном чёрном пиджаке, расколотом посередине ослепительным клином безупречно белой рубашки, аккуратно застегнутой на все пуговицы. За глаза весь Норд величал беднягу Лопоухом, а те, кто посмелее, больше, конечно, девчонки, иногда даже отваживались произносить эту кличку в его присутствии. Макс, не обделенный ни терпением, ни великодушием, не торопился обидчиц карать, только рассеянно моргал своими добрыми карими глазами и умиленно улыбался, вероятно, он полагал, что внимание противоположного пола пусть и в таком виде — великий дар, и принимать его всегда следует благодарно.
Рассказывали, будто Коре Маггвайер из десятого музыкального однажды удалось так прижать Лопоуха в уголке гардероба, что после этого при каждой встрече с нею он неизменно краснел; осмелевшая старшеклассница несколько раз ещё пыталась остаться с ним наедине где-нибудь в укромном местечке, но он искусно избегал подобных неловких ситуаций, а потом недвусмысленно дал девушке понять, что не намерен пятнать свою репутацию, и если она рассчитывает на какое-либо развитие отношений, то должна предложить помолвку… Было бы вполне закономерно и логично, если бы на этом всё закончилось. Нападение в гардеробе изначально задумано было Корой как не слишком добрая шутка, но, судя по всему, дело зашло чуть дальше намеченной черты… Вокалистка, первая гитара и идейная вдохновительница подросткового ансамбля «Птицы» прекрасно понимала: помолвка — весьма серьезный шаг, для этого нужны деньги, ответственность и, наверное, чувства гораздо более глубокие, чем те, что подвигли её в душной тесноте гардероба, ощупью пробираясь среди вешалок и поминутно утыкаясь в пахучие воротники осенних пальто, торопливыми жадными прикосновениями воровать чужое тепло, взволнованное учащенное дыхание и нежный бабочковый трепет маленькой жилки под тонкой чуть влажной кожей на шее… Кроме того, некоторые ребята замечали, как возле главных ворот неказистый на вид наставник Макс садился в чей-то дорогой автомобиль, а когда в Норд читать популярный курс древней истории приехала сама Ванда Анбрук, знаменитый профессор из Объединённого Университета, Макса видели с нею в парке. Впрочем, немногочисленные свидетели даже если бы очень захотели, не смогли бы пришить пышного шлейфа сплетен к этому наблюдению, ибо профессор Анбрук даже не пыталась взять юношу под руку — это была дружеская прогулка, не более — они шли бок о бок по красиво подсвеченной погасающими красками октября центральной аллее и о чём-то тихо говорили…
Так или иначе, благодаря всей этой истории неприметный наставник Макс сделался на какое-то время настоящей звездой, и чуть ли не весь Норд теперь алчно, точно подглядывая в замочную скважину, ожидал новых поворотов в его судьбе.
Механически вынув из раздатчика ещё тёплый после обработки паром пластиковый поднос для обеда, Онки встала в очередь. Лопоух больше не занимал её; с Корой Маггвайер из десятого музыкального она никогда особенно не дружила и даже пару раз жестоко с нею дралась — потому, вероятно, история её любовного фиаско не вызвала в душе Онки ни малейшего отклика.
Кто-то протиснулся через толпу сзади и коснулся её плеча. Девчонка вздрогнула.
— Привет, Сакайо. Не забыла про долг?
Это была Мидж Хайт из двенадцатого спортивного, которой Онки проиграла на прошлой неделе в карты десерт и две порции мяса. Пришло время платить по счетам.
— Лопоух нас пасет, — тихо сказала она, кивнув в сторону колонны, возле которой, простирая над столиками свой зоркий взгляд, расположился наставник Макс.
— Ты мне зубы не заговаривай, — недобро сощурилась собеседница, — он ничего отсюда не увидит.
— Как же! У него глаз-алмаз. В особенности на пищевые махинации. Недаром ему постоянно поручают дежурство по столовой… — Онки понимала, что выглядит сейчас так, как будто уклоняется от уплаты долга чести, это могло бросить тень на её репутацию, но именно сегодня она была особенно голодна после тренировки по волейболу, и перспектива переложить мясо в чужую тарелку отнюдь не представлялась ей заманчивой. Кроме того, только вчера она отсидела все перемены в Тамбуре за учиненную в физкультурном зале потасовку, и теперь хотя бы один день ей хотелось отдохнуть от своей нелегкой роли сорвиголовы, то есть не нарушать никаких правил, не драться ни с кем и не пререкаться с наставниками, а просто получить в буфете законную порцию обеда, спокойно поесть и подняться в кабинет математического анализа (по этому предмету, кстати говоря, намечалась контрольная)…
В этот момент Лопоух отделился от столба и неторопливо двинулся в сторону буфета. Онки Сакайо внутренне восторжествовала, наблюдая за изменениями на лице собеседницы. Это была крупная девушка семнадцати лет, смуглая, с несколькими тёмными волосками над губой и гладкой как полированное дерево чёлкой, доходящей до глаз.
Наставник Макс прошелся туда-обратно вдоль очереди, призывая ребят не толкаться и не задерживать друг друга, а заодно бегло оглядел их подносы на предмет недостатка или избытка еды. Онки и Мидж вызвали у него некоторые подозрения — он остановился чуть поодаль и демонстративно не обращал на них внимания, делая вид, что увлеченно помогает малышам убирать со стола.
Теперь Онки заметила любопытную подробность — в петлице безупречного пиджака Лопоуха гордо красовался нежный, ослепительно белый, как снег в лесу, свежий тюльпан… Мидж тоже увидела это непривычное украшение на узкой груди наставника Макса; она тут же закрыла рот, раскрытый, вероятно, для того, чтобы отпустить очередную гадкую шуточку в его адрес, и отвернулась так поспешно, будто увиденное отвратило её…
«Лопоуху предложили помолвку…» — пронеслось в голове у Онки, но она тут же перестала об этом думать: очередь наконец-то подошла, электронный буфет пискнул, просканировав микрочип, встроенный в её наручный браслет и вывел на сенсорный дисплей перечень доступных блюд. Получив порции, она уединилась со своим подносом за одним из самых дальних столиков в боковом закутке обширной столовой и с аппетитом принялась за суп. Мысли её занимала в этот момент одна весьма любопытная математическая головоломка: объемные изображения объектов неспешно дрейфовали по краю сознания Онки, менялись на ходу, вращались, демонстрируя себя то в одной, то в другой проекции, масштабировались легко и непринужденно — иногда эти умозрительные конструкции и вовсе становились размытыми, будто сбивался фокус снимающей их камеры, и не оставалось ничего, кроме густого аромата горячего горохового супа…
Чей-то возглас, короткая возня, грохот резко отодвигаемых стульев. «Да что такое, поесть нормально не дадут…» — с неудовольствием подумала Онки, поднимая голову.
Оказалось, что Кора Маггвайер, узнав о помолвке наставника Макса с профессором Вандой Анбрук публично выплеснула ему в лицо стакан компота. Банальная сцена ревности. Ничего интересного. Онки жадно надкусила круглый гречишный хлебец и отправила в рот очередную ложку с супом. Пусть. Этот мир имеет право плясать как ему заблагорассудится до тех пор, пока он не мешает ей подкрепляться после тренировки. Он не мешал.
Кора Маггвайер выбежала из столовой в сопровождении клавишницы, басистки и барабанщицы — своих верных задушевных и музыкальных подруг. Сиреневый галстук Лопоуха изменил свой цвет на фиолетовый под воздействием компота, он красноречиво снял его и положил в карман. Суета мало-помалу улеглась, всполошившиеся воспитанники Норда расселись по своим местам, и столовая снова загудела своим привычным ровным обеденным гулом — так ревёт двигатель автомобиля в самом оптимальном из своих рабочих режимов или шумит пчелиный улей, когда насекомые спокойно занимаются своим делом и ничто им не угрожает.
После занятий физической культурой раз в квартал спортивные педагоги измеряли рост воспитанников.
Онки Сакайо стояла на крашеном деревянном полу в белых носках. Перед нею маячил русый затылок её лучшей подруги Риты Шустовой — длинная изогнутая очередь тянулась через всё продолговатое помещение женской раздевалки к ростомеру.
— Кройцер, сто семьдесят три, выросла на три сантиметра, отлично! — монотонно объявляла накаченная девушка -мастер, — Дульчина, сто семьдесят, плюс пять сантиметров за полгода, молодчина, Ивлева — сто семьдесят пять…
— Это самая унизительная процедура, которую только можно придумать, — шепотом прокомментировала происходящее Онки, — сначала долго-долго стоишь в толпе, как в армии, уже не человек, не личность, а боевая единица, штука; потом тебя измеряют, сравнивают с каким-то воображаемым эталоном, признают соответствующей стандарту… или отбрасывают как брак.
— «Как брак»!.. Ну ты хватила! — шикнула в ответ Ритка, — мы же не детали на конвейере. Поверь мне, в армии ничего такого плохого нет… Ощущать себя одной из очень многих, частью огромного целого, иногда это даже приятно. Прекрасное чувство — единство со своей командой, с своей школой, со своей страной… патриотизм!
— Холмс, сто шестьдесят восемь, пять сантиметров в плюсе, — продолжала трещать девушка-мастер, — Ланцкая, — сто семьдесят один, не горби спину, а то кажешься намного ниже…
На белую доску под ростомером спокойно ступила Рита.
— Шустова… так, ну-ка что там у нас… Сто семьдесят три, плюс четыре сантиметра, сойдёт, ступай со Всеблагой и всеми её ангелисами!
Онки проводила подругу взглядом.
— Дальше-дальше, проходим, Сакайо, не зевай, чем порадуешь? — мастер небрежно хлопнула её по голове козырьком ростомера, — сто шестьдесят три, плюс два сантиметра. Занимайся усерднее, может, вытянешься ещё…
Раздевалка гудела, девчонки одна за другой сбрасывали с себя форму, наносили на кожу специальную моющую пену из баллончиков и проходили в душевые кабинки, которые, регистрируя присутствие, включались автоматически и поливали тело теплой водой со всех сторон.
— Ну что ты такая кислая, Онки, — с сочувствием поинтересовалась Рита, стягивая спортивную футболку.
— Я плохо расту, — сокрушенно выдохнула та, опускаясь на лавку.
— Да брось! Ты, на мой взгляд, слишком самокритична, совсем себя не щадишь. Нельзя быть первой во всем, это невозможно. Да и не нужно… Зачем тебе высокий рост, вот скажи?
Онки пожала плечами.
— Не знаю. Мне просто стыдно быть маленькой. Принято считать, что высокая девочка — это хорошо, это правильно… А я…
— Ой… Сдается мне, ты сама себе противоречишь, то ты утверждаешь, будто стандарты — вселенское зло, то сама стремишься им соответствовать, — Рита стояла совершенно голая возле автомата, выдающего по браслетам одноразовые баллончики с моющей пеной.
Онки закусила губу. Обиделась. Она всегда обижалась, особенно когда точно подмечали шероховатости, зазубринки, несовершенства её непростого характера, потом, конечно, остывала, осознавала… Но сначала обижалась. Даже на Ритку. Хотя, казалось бы, уж на кого точно не стоит, так это на неё… Веселая болтушка даже, порой, не замечала обид, поскольку сама не имела свойства обижаться, как ни в чём не бывало предлагала разломить пополам шоколадный батончик или сходить за компанию в кафе-мороженое. И противостоять её наивному обаянию было невозможно. Обида постепенно тускнела, истончалась, таяла, как весенний снег.
— Помнишь, что говорила профессор Анбрук на одной из первых лекций по истории цивилизации? — Внутри автомата что-то заскрежетало, затрещало, защелкало; спустя несколько мгновений его устрашающая утроба родила прямо в руке Ритке ожидаемый одноразовый баллончик пены для душа.
— Эти лекции, насколько я знаю, факультативные. Я первый раз попала только вчера… — нехотя выговорила Онки, продолжая дуться.
— Жаль, — баллончик в руках у Риты зашипел, и на её ладони моментально выросла невесомая белоснежная горка, — самые удивительные вещи она рассказывала как раз в начале, ты представляешь, — поставив ногу на лавку, Рита намазывала пеной бедро, — оказывается, раньше женщины в большинстве своём были гораздо ниже ростом, чем мужчины, да вдобавок, слабее их физически, и, что меня особенно поразило, у них в груди после рождения детей появлялось молоко, совсем как у сельскохозяйственных животных, и младенец одним только этим молоком питался, поэтому мать не могла оставлять его дольше чем на пару часов, не работала, пока он не вырастал, и жила на содержании у мужчины…
Онки, перешнуровывающая свои высокие спортивные ботинки, подняла голову. Ей стало любопытно, и обида от этого почти сразу забылась.
— Интересно…
— Раньше вообще всё было наоборот. Пока не началась переходная мутация половых хромосом, так выразилась сама Анбрук на лекции, даже армия состояла из мужчин, ты представляешь? — воодушевленно тараторила Рита, жестикулируя пенными руками, — И все генералы были мужчины, и ученые, и министры, и президенты…
— А женщины? — озабоченно хмурясь, спросила Онки. Её пальцы, растягивающие шнуровку, остановились.
Рита напряженно понизила голос.
— Честно говоря, мне в это даже не особо верится, но, если судить по лекциям профессора Анбрук, в былые времена на свете творились поистине ужасные вещи… Ты только вообрази, Онки, было время, когда женщинам не разрешалось даже получать образование! Это же чудовищно! Я и представить себе не могу большего унижения достоинства, чем намеренное отнятие у человека возможности развиваться! Ещё она очень интересно рассказывала про быт древних женщин, про их одежду, — Рита, произнося это накрыла ладонями соски, словно хотела зрительно нарастить себе бюст, — у них ведь была грудь больше и круглее, не такая как у нас, чтобы её поддерживать и бюстгальтеры шили другие, это нам достаточно топов из полимерного волокна, а им требовались корсеты с глубокими чашечками, профессор Анбрук их даже где-то достала, музейные экспонаты, и показывала аудитории… Я думаю тебя утешит тот факт, что средний рост взрослых архаических женщин, так по науке они называются, наши предшественницы, был всего-навсего сто семьдесят сантиметров…
Онки слушала молча, не перебивала и не переспрашивала, а потом, подняв на подругу серьёзный взгляд, спросила:
— А ты уверена, что эта Ванда Анбрук не из тех мошенников, что наживаются на сенсациях, сочиняя псевдонаучные анекдоты?
— Абсолютно. Она серьёзный учёный. Доктор исторических и социальных наук. Защищалась по теме «Патриархальный мир». Недавно вышла её книга с таким же названием… Впрочем, если тебе интересно, ты можешь написать ей. Она оставила адрес электронной почты для вопросов по курсу.
Рита произнесла последние слова обернувшись на ходу: вся высокая стройная и белая, в плотной шапочке для купания, она тут же исчезла за силиконовой занавесью, ведущей в душевые.
Онки поднялась к себе и привычным движением нажала на кнопку обстановки. Каждое помещение в Норде, предназначенное для проживания воспитанников, было снабжено специальной системой контроля режима дня — прививание детям и подросткам дисциплины автоматизировали — при нажатии кнопки комната в зависимости от времени суток трансформировалась, подсказывая ребёнку, чем именно ему следует в данный момент заниматься. Кровати по утрам издавали особый звуковой сигнал — это означало «пора вставать» — а специально для лежебок был разработан весьма остроумный механизм, наклоняющий кровать вбок в том случае, если некто оставался нежиться под одеялом дольше пятнадцати минут после звучания сигнала. А когда соня всё же вынужденно покидал свою кровать, она автоматически складывалась и, поднимаясь наверх, помещалась в предназначенную для неё нишу в потолке. Таким образом полностью исключалась возможность просыпания детьми занятий — время поднятия кроватей заносилось в программу управления комнатой и регулировалось в зависимости от расписания. Время отхода ко сну тоже было зафиксировано — когда оно наступало, первым делом автоматически складывался и задвигался в свою нишу компьютер, затем специальный сканирующий щуп, напоминающий торчащую из стены мифическую руку, бережно собирал по комнате и складывал в запирающийся ящик все мобильные устройства: телефоны, электронные книги, игровые панели и прочие мелкие гаджеты. После этого совершенно ненавязчиво зажигался свет в душевой, дверь туда гостеприимно приоткрывалась — вошедший туда воспитанник обнаруживал на полочке зубную щетку, полотенце и свежий баллончик моющей пены. Пока он осуществлял нехитрые гигиенические манипуляции, опускалась кровать, зажигался ночник, автоматически закрывались жалюзи на окне — «пора спать».
Сейчас огромное спроецированные на стену изображение циферблата часов показывало четыре — время выполнять домашнее задание, поэтому — Онки состроила недовольную гримаску — на компьютере открывались только учебные программы, и в сети были доступны только образовательные сайты. Это отсутствие выбора порою не могло не казаться угнетающим. Именно сейчас Онки хотелось войти в Игру. Она села к столу, подперев рукой голову. Уроки делать было лень, за окном распласталось нежно-голубое чистое осеннее небо. Онки взяла куртку и, не обратив внимания на учтивое предупреждение интерактивного наставника, что этот час отведен для занятий, тихо покинула комнату. Несмотря на позднюю осень на улице было ещё тепло. Огромный парк, предназначенный для прогулок воспитанников, был частью загородного музейного комплекса, в конце его главной аллеи располагался великолепный мраморный дворец; несколько лет назад он был закрыт для реставрации внутренних помещений, которую, по-видимому, так и не начали… Старшеклассники любили приходить в это готически прекрасное уединенное место, сидеть на широких ступенях парадной мраморной лестницы, читать стихи, бренчать на гитарах и познавать тайком сладость первых поцелуев.
Онки шла среди редеющих крон парковых деревьев. Силуэт дворца просматривался среди ветвей, башни, портик, изящная белая колоннада. Она рассчитывала побить одна в этот час, среди осенней тишины, гладкого камня, каштанов и кленов, практически лишенных листвы… Внезапно она остановилась. На дворцовом крыльце находились двое. Приглядевшись, Онки с удивлением узнала наставника Макса и профессора Ванду Анбрук. Оставшись стоять в полусотне шагов от мраморной лестницы, не решаясь ступить ни шагу дальше, девочка невольно стала свидетелем чужого уединения. Ванда в чёрной шляпке с пером, в длинном пальто, строго подпоясанном на тонкой талии, с изящной чёрной тростью в руке, стояла, подняв голову и глядя на Макса, стоящего на несколько ступеней выше; Онки не могла слышать, что они говорят, но судя по смущенно-радостному, розовому, как рассвет, румянцу на лице юноши беседа была интимной… Опавшие листья на широких мраморных ступенях — золотистые, оранжевые, красные — яркие пятна на белом — служили восхитительным обрамлением любовной сцене. Онки очарованно наблюдала. Профессор Анбрук поднялась чуть повыше, взяла руку Макса, поднесла к губам его тонкие пальцы… Влюблённые, разумеется, не замечали Онки, но смотреть дальше ей стало неудобно — девочка решила, что присутствовать при подобном инкогнито очень дурно… Она отвернулась и, стараясь не создавать шума, быстрым шагом пошла прочь по пустынной аллее. Увиденное навеяло мысли о недавнем безобразном скандале в столовой, о Коре Маггвайер, о неведомой неукротимой силе, давшей ученице десятого класса достаточно смелости для того, чтобы прилюдно облить наставника компотом. Отчего она выплеснула содержимое стакана ему в лицо с таким видом, словно по некоторому таинственному закону имела на это полное право? И почему он никак не отреагировал, не попытался защититься хотя бы словами? Получается, он тоже по каким-то причинам признавал за Корой право так поступить, и, вероятно, знал за собой вину, которая могла бы быть искуплена подобным унижением… Онки думала, но ничего не могла придумать. Впрочем, вскоре ей надоел этот личностный пасьянс, в котором явно не хватало карт. В голове нашлось некоторое количество более интересных мыслей. Вспомнив об Игре, она взглянула на часы — вот досада! — всего половина пятого и только в восемь, после ужина, можно будет в неё войти… Что же… Придётся делать уроки.
Игра представляла собою управляемый сон. С момента её внедрения в правительстве шли дискуссии о том, насколько велик риск нанесения вреда детской психике. Мнение большинства по этому вопросу склонялось то в одну, то в другую сторону, как верхушка дерева на ветру — в прессе проскакивали сообщения об увеличении количества случаев самоубийств подростков после начала массового использования Игры. Многие влиятельные люди, однако, заслуженные педагоги, психологи, звезды эстрады и кино высказывались о нововведении положительно; министерство образования придерживалось проверенного курса — сразу невозможно оценить влияние чего бы то ни было на общество, должно пройти время, вырасти хотя бы одно поколение, одним словом, «поживем-увидим».
В ходе каждого этапа Игры подросток получал задания, которые необходимо было выполнить для перехода на следующий уровень. Целью прохождения всех уровней была оценка потенциала игрока: определение его способностей, склонностей к тому или иному роду деятельности; все эти данные регистрировались компьютером и заносились в электронную анкету воспитанника, а впоследствии служили опорой при выборе профессии.
Игра стала обязательной для всех. Она постоянно совершенствовалась и дополнялась создателями. Существовало очень много разных версий Игры в зависимости от профиля, которому отдавал предпочтение подросток, к примеру: «Менеджмент», «Политика», «Бизнес», «Криминалистика и юриспруденция». Были разработаны специальные программы, дающие детям прочувствовать, что такое рабочие профессии — «Водитель», «Крановщик», «Повар». Время Игры строго регламентировалось, пропуск сеанса влек за собой наказание. Ежедневно кроме выходных ровно в восемь часов вечера бесшумно смещалась в сторону металлическая заслонка, стилизованная под обои, и из ниши в стене выдвигался небольшой ящик с интерактивной маской. Воспитанник надевал её, вставлял в уши специальные беспроводные звуковые капсулы и плюхался на свою кровать точно так же, как если бы ему нужно было лечь спать. Сначала было темно. Тихо. А потом со всех сторон начинала звучать нежная умиротворяющая музыка, и мягкие вибрации почти незаметных датчиков на висках и на лбу, словно волны, расслабляли, убаюкивали. Мягкий обруч, охватывающий голову воспитанника, регистрировал мозговую активность. Начиналась Игра. Благодаря легкому гипнотическому действию интерактивной маски и объемному звуку ушных капсул, у играющего создавалось полное ощущение реальности происходящего.
Онки нравилось играть. Всякий раз она с нетерпением ожидала момента, когда с лёгким щелчком размыкалась стена, и, постепенно выдвигаясь из углубления в ней наружу, словно язык изо рта доброго чудища, появлялся футляр с интерактивной маской.
Онки выбрала программу «Политика», у Риты была «Военная служба», у Коры Маггвайер — «Шоу-бизнес». Играть начинали в средних классах, с двенадцати-тринадцати лет — педагоги, психологи и министры сошлись во мнении, что это оптимальный возраст для диагностики способностей человека.
Дети много общались на тему Игры, рассказывали о своих переживаниях, обменивались опытом с теми, кто играл по аналогичной программе.
— Тактика ведения боя — это самое настоящее искусство! Стратегия крупной военной операции — тем более. Один просчет генерала может стоить тысяч жизней… — делилась своими наблюдениями Рита Шустова.
— Вот именно! — буркнула Онки, — Лажа эта твоя армия. Простых военных учат умирать и убивать, а тех, кто над ними, не вздрагивать, посылая на смерть. Это жестоко. А политики защищают людей. Они работают для того, чтобы лучше жилось простому народу.
Рита покачала головой.
— Разве в политике мало жестокостей? Когда решаются глобальные вопросы в масштабах целых государств, происходят перевороты и революции, думают ли стоящие у руля о том, как это отразится на судьбах конкретных людей? Тому, кто вращает огромные тяжелые шестерни и колеса, просто недосуг думать о мыши, случайно оказавшейся между зубцами…
Большинство войн, надо заметить, развязывают именно политики.
— Война — это никогда не свободное изъявление воли современного политика, а всегда его ошибка, — твердо сказала Онки.
— Ну вот… — Рита рассмеялась, — мы, оказывается, нужны, чтобы исправлять ваши косяки!
Онки угрожающе сдвинула брови — собиралась ответить, непременно как она любила, задвинуть что-нибудь веское и мощное. Произвести впечатление. Но как раз в этот момент мимо прошел Малколм из восьмого коррекционного — за ним тянулся лёгкий шлейф его негласной славы и модных духов — он считался самым красивым мальчиком в Норде. Осветив на несколько мгновений своим тонким белым личиком коридор, он исчез за поворотом.
Рита проводила Малколма мечтательным взглядом. Онки презрительно фыркнула.
— На самом деле мы говорим об одном и том же, — вернувшись к теме, подытожила будущая военная единица Шустова, примирительно коснувшись руки подруги, — и политиков, и генералов объединяет то, что им вверено огромное количество человеческих жизней. Власть, в каком виде бы она ни существовала, поневоле требует жестокости.
— Не жестокости, а объективности, — поправила Онки.
— Это, безусловно, разные вещи, но в некотором приближении сопоставимые. Объективность не знает сочувствия… Объективность в больших масштабах — это статистика… В расчет берется усредненное мнение абстрактного большинства, которое, случается, ни один живой человек, наугад выбранный из этого самого большинства, в чистом виде не разделяет…
— Если уж на то пошло, в армии статистика куда страшнее. Потери убитыми и ранеными — просто длинные электронные списки. А кто-то, дрожа, ведет по ним палец от фамилии до фамилии.
У Ритки, кажется, кончились аргументы. Как всегда, она не смогла доказать своей упрямой чудаковатой, но умной подруге, почему служить в армии — это честь для каждой девчонки…
— Неужели, если ты станешь когда-нибудь Президентом, тебе вообще не понадобятся вооружённые силы? — спросила она, обреченно уронив плечи.
— Надеюсь, что нет. Я сделаю так, что нигде и никогда не будет войны.
Рита подняла на подругу удивлённый взгляд.
— В первую очередь затем, чтобы тебя не убили, дуру, — добавила Онки с суровой улыбкой.
ГЛАВА 2
Профессор Ванда Анбрук ответила на письмо не сразу. Как настоящий ученый, она очень тщательно взвешивала свои мысли, и по возможности старалась не торопиться, обрабатывая корреспонденцию. Она подолгу обдумывала присылаемые вопросы, если находила их интересными, и отвечала всегда обстоятельно, подробно, желая осветить предложенную тему со всех сторон.
Нетерпеливая Онки уже давно потеряла последнюю надежду на ответ и успела даже несколько раз рассердиться на доктора Анбрук — «уж такая важная птица! конечно, она не будет писать ученице средней школы» — к тому времени когда, наконец, обнаружила в своём электронном почтовом ящике долгожданное послание.
«Уважаемая Онки, — писала Ванда, — вы спрашиваете меня о возможных причинах Гендерного Перехода, которые, как историк и антрополог, я могу вам осветить, к сожалению, весьма поверхностно. Этим невероятным явлением в масштабах всей цивилизации в настоящее время интересуются учёные самых разных направлений — от специалистов в области общественных наук до генетиков и врачей. Изменения происходили, как полагают многие исследователи, я в том числе, в течение очень долгого времени никак не проявляя себя, природа готовила свою великую революцию подпольно, она настойчиво шла к своей цели очень мелкими шажками, возможно, в течении целого тысячелетия, а сами изменения оказались настолько глубокими, что затронули саму структуру генома. Поэтому, собственно, о причинах Перехода гораздо более правильно было бы спрашивать биологов… Данное утверждение, однако, отнюдь не означает, как вам, вероятно, может показаться, что я имею намерение переадресовать ваш вопрос кому-либо, я лишь подчеркиваю, что мой ответ на него будет представлять собою личное мнение, а не объективную научную информацию. Насколько мне известно, в современной психологии существуют полуэмпирические теории влияния психических процессов на функционирование отдельных органов и систем, а также организма в целом, к примеру, мы имеем достаточное количество достоверно описанных случаев бесплодия, нервных заболеваний, заболеваний эндокринной системы и даже опухолей, имеющих психосоматическую природу. Мы имеем так же описания феноменов самостоятельного излечения организма внушением, молитвами, заговорами и прочими нестандартными и, мягко говоря, далекими от науки методами. Следовательно, мы не будем совершенно голословны, утверждая, что очень сильные психологические эффекты могут оказывать влияние на общее состояние организма, в том числе и на гены.
Одна из современных теорий объясняет начало Гендерного Перехода именно единичной спонтанной мутацией хромосомы у девочки, систематически подвергавшейся насилию; девочка впоследствие передала мутацию своим дочерям, те — своим; мутация оказалась биологически выгодной и потому со временем обрела устойчивость в популяции… Я могу запутаться в терминах, поскольку не являюсь специалистом в данной области, и заранее прошу у вас прощения.
Первые дети с мутировавшими половыми хромосомами начали появляться на свет уже в конце двадцать первого века, сначала это считали болезнью, у девочек она получила название СГД (синдром гендерного доминирования), а у мальчиков СУЕСА (синдром угнетения естественной сексуальной агрессии), но потом таких детей стало рождаться всё большее, и этот процесс невозможно было остановить. Некоторые медики в те далекие времена полагали, что СУЕСА просто-напросто одна из форм гомосексуализма, и даже пытались лечить мальчиков с помощью гипноза, изоляции и терапии определенными препаратами, но потерпели трагическую неудачу. Ведь СУЕСА, как выяснилось, не имел ничего общего со сменой сексуальной ориентации — она оставалась совершенно нормальной, но при этом коренным образом менялся характер полового влечения: юноши проявляли себя в отношениях более пассивно, начинали выказывать встречный сексуальный интерес к лицу противоположного пола только после получения от него первичных знаков внимания. Девочек с СГД тоже сначала пытались лечить, только в отличие от мальчиков врачи подозревали у них в первую очередь гормональные проблемы, поскольку все они вырастали высокими и, как казалось в те времена, чересчур развитыми физически, избыточный прирост мышечной массы объясняли неправильным функционированием эндокринной системы, но и это предположение оказалось ложным. СГД никак не отражался на здоровье организма, в том числе и репродуктивном, женщины с СГД даже легче переносили беременность, рожали быстрее и с меньшим количеством осложнений, чем их «нормальные» ровесницы. Единственным негативным, как считают многие исследователи, моментом Перехода стало полное исчезновение грудного вскармливания. Молочные железы у современных женщин остались только в виде рудимента, они не вырабатывают молока даже после естественных родов. В настоящее время структура СГД-хромосомы Х полностью расшифрована, уже точно известно, какие из её участков подверглись изменениям, наиболее подробно с этими исследованиями можно ознакомиться в Государственном Медицинском Университете Ост-Гард, где работает ведущий специалист в области сравнительного анализа современных и архаичных Х хромосом, директор инновационного проекта «Искусственный эндометрий», одна из величайших наших современниц, доктор биологических наук, профессор Афина Тьюри. Если у вас ещё остались вопросы, вы можете прослушать курс лекций, который она читает студентам-медикам, или скачать в электронном виде её всемирно известную научно-популярную книгу «Женщина. Раба и повелительница инстинкта»,
С уважением и благодарностью за ваш интерес, д-р исторических наук, профессор Объединённого Университета, Ванда Анбрук.»
Пробежав глазами письмо, Онки отправилась на футбол. Она немного опоздала, и все девчонки уже собрались на поле. Сегодня пришла играть даже Кора Маггвайер, вид у неё был всё ещё довольно мрачный, большие карие глаза сурово глядели из-под косой челки и сдвинутых бровей. Она сидела по-турецки на искусственной траве поля и напряженно наблюдала за группой девчонок, стоящих около ворот. В ожидании начала игры они что-то оживленно обсуждали. Мидж Хайт, та самая, которой Онки до сих пор не уплатила «долг чести» держалась рукой за боковую опору ворот и упиралась подошвой правой ноги в лежащий на земле мяч, слегка перекатывая его. Онки тоже засмотрелась на эту группку, которая, вероятно, считала себя элитой сборной команды Норда, в прошлом году они выиграли какой-то кубок и теперь ходили непомерно задрав носы по этому поводу; вопрос архаичных хромосом, однако, не выходил из головы у Онки, она размышляла о том, как мог бы выглядеть мир до начала Гендерного Перехода, и эти мысли так сильно занимали её, что она не заметила Коры, подошедшей к ней и опустившейся на землю рядом.
— Эй… — своим немного грубоватым сиплым голосом окликнула её Маггвайер.
— Да? — отозвала Онки с неподдельным удивлением. Рывком выдернутая из лабиринта своих размышлений, она меньше всего ожидала увидеть перед собою лицо этой старшеклассницы, с которой практически не общалась.
— Знаешь что, Хайт собирается с тобой «поговорить» сегодня. Поэтому шла бы домой потихоньку, уроки делать…
— Что?
— Стрела будет. Понятно тебе? — Кора недовольно отвернулась и сплюнула на траву.
— Почему ты меня предупреждаешь? — ещё больше удивилась Онки, все её отношения с гитаристкой составляли одни только драки, да и те давние; участие Коры было ей непонятно.
— Не слишком-то приятно собирать по всему полю чужие зубы, — лаконично ответила та.
— В таком случае это будут зубы Мидж, — ответила Онки, — ей показалось в эту секунду, что кто-то подговорил Кору подойти к ней, с целью поймать её на трусости. Дудки. Не на ту напали. Никуда она сейчас не уйдет. Это самый постыдный поступок — скрыться, получив предупреждение о стрелке. Тем не менее, Онки ощутила неприятную щекотку где-то в глубине живота, и, поневоле бросив взгляд в сторону Хайт и её команды, моментально оценила масштаб надвигающейся бури. Их было пятеро.
Кора Маггвайер, посмотрев туда же, длинно вздохнула.
Когда Мидж Хайт ленивым, преувеличенно значительным, лидерским поворотом головы обратилась в сторону Онки, та уже успела почувствовать давно знакомое, рвущееся наружу упругое возбуждение — сжатую до предела пружину внутри. Готовность драться казалась ей пульсирующим сгустком некой таинственной энергии, заряженным аккумулятором, избыточным давлением под поршнем… Этот всегда внезапный переход из нормального состояния в состояние готовности к драке, точно в атоме переход электрона на более высокую энергетический уровень, на какое-то время способен был совершенно лишать страха, даже разумного: бывало, что Онки, идя на поводу у агрессии, совершенно не соразмеряла свои силы с силами противника. Так было и сейчас. Она поднялась на ноги; твердо упершись подошвами кроссовок в искусственную траву футбольного поля, уверенно и почти гордо выпрямилась во все свои сто шестьдесят четыре сантиметра; слегка повела плечами, словно проверяя, готовы ли они к широкому размаху боевых ударов…
Мидж Хайт продолжала стоять на месте. На ней была глубоко вырезанная майка, демонстрирующая столь же привлекательную, сколь и устрашающую игру мускулов на её руках и спине. Сто девяносто два сантиметра роста красноречиво возвышали её над молчаливым пространством поля между нею и щупленькой тринадцатилетней Онки, которую, очевидно, одним ударом твердокаменной миндально-загорелой руки она могла отшвырнуть метров на пять. Мидж чувствовала эту свою силу, верила в неё, выходя навстречу противнице подобно могучему вожаку волчьей стаи, собирающемуся проучить очередного задиристого молодого волка.
А Онки Сакайо не во что было верить, кроме своих маленьких быстрых колючих кулачков и аномального, согласно заключению подросткового психолога, коэффициента агрессивности. У неё просто больше ничего не было.
Мидж сделала несколько ленивых лидерских шагов навстречу Онки. Её свита осталась стоять возле ворот.
— Будешь платить? С тебя уже три порции мяса. И каждый день будет прибавляться ещё по одной…
— На две я ещё согласна, — спокойно сказала Онки, — но три… Мы так не договаривались.
— Ты просрочила. Таковы правила, — с жестокой усмешкой отчеканила Мидж, резким движение головы откинув чёрную челку с глаза.
— Но я не знала… — Онки сразу почувствовала страх, как только осознала, что есть пусть мизерный, но все же шанс избежать драки, — если бы вы сразу сказали, я бы не села играть…
— Это не мои проблемы, — усмехнулась Мидж, — есть долг, есть платёж…
— Но где я достану вам сразу три порции? — голос Онки слегка задребезжал.
Мидж картинно повела плечами.
— И об том — не моя печаль. Где хочешь. Одолжи, украли, отними у кого-нибудь…
При этих словах Онки представились сначала испуганные глаза некого абстрактного малыша, у которого неожиданно вырывают тарелку, а потом, сразу же вслед за этим видением, необычайно чётко, стол для наставников, где стоят и ждут своих хозяев несколько дымящихся порций…
— Нет, — твёрдо сказала Онки, — либо две, причем одну завтра, а другую послезавтра, либо вообще ничего.
— Ты не в том положении, чтобы ставить мне условия, -Мидж делано рассмеялась.
Точка невозврата была пройдена. Теперь уже ничто не могло остановить накачку энергии для перехода от разговора к драке, Онки почувствовала, как почти приятная адреналиновая дрожь пробежала по позвоночнику. Сейчас начнётся.
— Я сказала — нет, — повторила Онки. Она слегка расставила ноги — это обычно прибавляло ей уверенности, давая ощущение, будто бы она прочнее стоит на земле.
Мидж сделала ещё один шаг по направлению к ней и едва заметно кивнула своей шайке.
…Пружина мгновенно расправилась, неудержимо рванулся вверх подталкиваемый избыточным давлением поршень, выпустил в пространство свой гневный квант возбуждённый атом.
Мидж била методично, основательно, без особой злобы, но крепко, не делая скидок ни на возраст соперницы, ни на ещё комплекцию.
Онки Сакайо лихорадочно металась в круге обступивших её старшеклассниц: один за другим наносила она свои короткие быстрые удары, била наугад, возмещая скоростью точность, старалась попасть хоть куда-нибудь, в живот или в грудь: рудименты молочных желез у девчонок с определённого возраста самое больное место — она слышала это от кого-то и не гнушалась этим пользоваться…
На голову сбоку обрушилась чья-то тяжёлая ладонь, так что в ушах у Онки зазвенело, что-то хрустнуло, в воздухе мелькнуло несколько кровавых брызг, но аномально высокий коэффициент агрессивности знал своё дело, Онки не замечала боли, как берсерк, свирепея все больше с каждым ударом, она колошматила высоченную мускулистую Мидж точно стальную стену и ещё кого-то, подвернувшегося под руку…
Но их было слишком много, её одолевали, шмыгая онемевшим носом, Онки уже ничего не видела и не понимала, она то пятилась, то снова отвоевывала позиции резкими отчаянными беспорядочными бросками вперёд…
Внезапно ей стало легче; она почувствовала, что кто-то ещё усердно работает кулаками рядом, давая ей возможность передохнуть, отбрасывая противника назад. Выручала её Кора Маггвайер. Онки боковым зрением, за миг до того, как потеряла сознание, успела это заметить: мелькнула в воздухе знакомая точеная крепкая рука и чётко втиснулся небольшой, но увесисый кулак в чьё-то крупное, упругое, глянцевое от выступившего пота тело…
Потом навалилась качающаяся мягкая чернота, Онки закружило, словно в водовороте, и откуда-то издалека донеслись до неё непривычно растянутые, будто бы надолго повисающие в пространстве, звуки голосов:
— Не дай бог убила, дура…
— Да брось ты паниковать, отлежится.
— Идемте отсюда…
Когда Онки пришла в себя, рядом сидела Кора. Небо медленно вращалось над головой, и первым, на чём удалось остановить взгляд неохотно разомкнувшихся глаз, были чужие плечи, тонкие, но рельефные, гладкие, будто выточенные из мрамора плечи, их полностью обнажала сильно вырезанная, как у Мидж, спортивная майка. Спереди на ней был принт — логотип известной футбольной команды и номер «22». Пропитавшись потом, майка прилипала к телу, обрисовывая едва заметно выпуклые рудименты молочных желез с круглыми плотными пуговками сосков.
— Вставай, — небрежно сказала Кора, — пошли.
Онки приподнялась, превозмогая боль. Ощущение собственной неуязвимости напрямую связано с концентрацией адреналина в крови, и поэтому теперь, когда азарт драки угас, беспомощность и слабость обрушились на неё лавиной; помятые ребра жгло под влажной от пота футболкой, в носу хлюпала кровь, костяшки пальцев помнили каждый нанесенный удар.
Кора Маггвайер молча помогла ей встать.
— Почему ты заступилась за меня? — спросила Онки. Ей было мучительно стыдно за свою беспомощность, особенно перед девчонкой, с которой ей случилось подраться в прошлом, хотя теперь Онки уже сомневалась в том, что тогда Кора делала это в полную силу: ведь если сегодня ей удалось пусть не раскидать, но хотя бы подержать в напряжении отмороженную шайку Мидж, то она кой-чего стоит…
— А как мне следовало себя вести? — спросила музыкантка с грубоватой насмешкой, — Стоять и смотреть как тебя бьют? В следующий раз я так и поступлю.
— Да нет… Я не то хотела… — сдавленно пролепетала Онки, — Спасибо.
— То-то же, — сказала Кора примирительно, — а то мне мои кости тоже не даром достались. И обидно рисковать их целостностью ради всяких задир с болезненным самолюбием.
Онки грозно шмыгнула расквашенным носом.
— А разве не так? Помнишь из-за чего ты в прошлом году со мной сцепилась-то? Нет? В том и дело. …Повода не было. Так. Выскребли из-под ногтя.
Онки действительно уже не помнила, как не помнила она и остальные девяносто пять процентов причин своих драк; сегодняшняя, пожалуй, оказалась тем редким исключением, когда Онки пришлось честно защищаться; обычно же аномально высокий коэффициент агрессивности попросту требовал внимания к себе: желание впечатать куда-нибудь кулак было продиктовано природной необходимостью, и уж если подворачивалось хоть какое-нибудь относительно правое дело, за которое следовало побороться, то грех было этим не воспользоваться.
— Так если ты меня недолюбливаешь, то почему защищаешь? — не унималась Онки, — ведь если мы с тобою однажды чего-то глобально не поделили, стало быть, мы враги?
— Только в том случае, если нам обеим всё ещё нужно то, чего мы не поделили, — иронично изогнув бровь, отвечала ей собеседница.
Онки тут же вспомнилась сцена в столовой: разгневанная Кора, изумленные лица, повернутые в одну сторону, точно множество экранов с идентичным изображением в гипермаркете электроники, Лопоух с пятном вишнёвого компота на груди, будто застреленный или проколотый насквозь шпагой…
— Но ведь ничего не забывается, и вряд ли ты будешь относиться к кому-либо с прежней симпатией после того, как он пропишет тебе в челюсть?
Кора сдержанно усмехнулась.
— Смотря за что. Добро и зло категории относительные, а потому конкретный на совесть отвешенный хук с одинаковой вероятностью может быть тождественно равен как одному, так и другому. Тебе, вероятно, не знакома притча о воробье, лисе и лошади?
Онки помотала головой.
— Держи, пригодится. Летел воробей зимой, замёрз, упал. Казалось, тут всё, и конец ему, да проходила в это время мимо лошадь, навалила большую кучу, на воробья прямо, а куча тёплая, отогрелся воробей и думает: «Вот, лошадь, зараза, вздумалось ей на меня насрать!» Негодует. Шла мимо лиса, увидела воробья, услыхала его причитания, помогла ему выбраться из кучи, перышки очистила ему, языком вылизала, а потом взяла его, да и проглотила. Благо так же часто бывает грубым, как зло — ласковым.
Кора глядела на тринадцатилетнюю девчонку, сосредоточенно сопящую окровавленным носом, со снисходительным умилением, как на маленького ребёнка, хотя сама была лишь двумя годом старше.
— Ты хорошо дерешься, — пробормотала Онки. Чувство благодарности обязало её сделать защитнице комплимент.
Кора только неопределенно махнула рукой в знак того, что не считает это сколько-нибудь примечательным достоинством.
Они медленно шли вдоль необозримого забора из металлической сетки, которым огорожены были корты, футбольное поле, похожее на цирковой шатер здание круглогодичного катка и прочие постройки спортивного комплекса. Заходящее солнце пробивалось между отдаленными корпусами Норда яркими вспышками, листва с деревьев облетела уже почти вся, но было тепло, тихо…
Случившееся неожиданно и стремительно сблизило Онки и Кору — словно стихийное бедствие одним рывком бросило их навстречу друг другу.
По неширокой мощеной тропинке вдоль кортов шли близко, иногда соприкасаясь плечами.
— За что, если не секрет, на днях ты облила… наставника Макса компотом? — Онки сначала хотела сказать «лопоуха», но потом решила, что это может обидеть Кору, ведь и горилле понятно: она к этому парню неравнодушна… Вообще говоря, Онки немного стыдилась своей бесцеремонности, но этот вопрос, однажды возникнув, уже долго ей досаждал, точно мясное волокно, застрявшее между зубами, а другого столь же удачного шанса задать его могло и не представиться.
Кора ответила не сразу. Она, вероятно, не ожидала столь стремительного вторжения в личную сферу. Подставив лицо солнцу и благодушно щурясь на него, она медлила с ответом, но молчание её не было неловким, оно носило характер скорее созидательный, будто бы Кора тщательно, как мастер, шлифовала и полировала ту фразу, которую собиралась произнести.
— Я не то чтобы мстила ему за какой-то поступок, ничего он мне не сделал, — ответила она, — а так, выдала небольшой кредит его будущему самоуважению…
Онки сперва внутренне возмутилась, но ничего не сказала. Ей вспомнилось то загадочно покорное выражение лица Макса, с которым он принял унижение.
— Он что-то пообещал тебе?
— Есть такие вещи, которые значат гораздо больше, чем любые обещания, — сказала она сухо.
— Тебе неприятно об этом говорить? — предположила Онки.
— Нет. Отчего же? Спрашивай. Я должна тренироваться не принимать это всерьёз. Меня, надо признаться, ужасно бесит, что все мои друзья избегают говорить со мною о Максе, с преувеличенной деликатностью обходят эту тему, подобно тому, как стараются не напоминать людям о смерти близких.
— Вероятно, они судят по себе, люди не любят вспоминать о своих поражениях… — Онки осеклась, слишком поздно сообразив, что произнесенная фраза могла задеть собеседницу.
Кора снисходительно хмыкнула.
— Я не считаю, что со мною произошло нечто особенное. В сущности, вообще ничего не было. Я просто надумала сама себе черти-чего. Ведь Макс действительно не давал мне никаких авансов, я не получала от него сигналов, могущих указывать на его взаимность… Ну… Кроме того раза в гардеробе… Он позволил себя поцеловать, но, возможно, на самом деле он этого не хотел, просто растерялся… А я воспользовалась… Единственный поцелуй, да и тот почти насильно. Не слишком надежный индикатор чувств, согласись. В столовой я повела себя как истеричка. И теперь мне чертовски стыдно.
Внутренне поколебавшись, «а стоит ли», Онки всё-таки рассказала Коре о том, что видела в парке.
— Я знаю, — ответила девушка, — профессор Анбрук неделю назад предложила ему помолвку. И он дал согласие. Они познакомились в прошлом году, она была приглашена читать в Объединенном Университете лекции вместо другой преподавательницы, которая, будучи уже очень пожилой, скоропостижно скончалась; Макс влюбился в Ванду сразу, и это так сильно бросалось в глаза, что вскоре стало очевидным всему потоку — он краснел, когда она на него смотрела, когда кто-нибудь невзначай произносил её имя в его присутствии, когда отвечал на её вопросы… Разумеется, профессор Анбрук не собиралась заводить никаких серьезных отношений со студентом, ей тридцать пять лет, у неё есть муж, она иммигрантка, на родине у неё идёт война, вдобавок возникли проблемы с документами, её почти выслали из страны, и остаться ей удалось лишь благодаря содействию какой-то невероятно влиятельной шишки; Ванда сначала игнорировала чувства юноши — Макс, надо заметить, круглый отличник, претендент на красный диплом — но накануне экзамена он, набравшись смелости, только представь себе, прислал ей электронное письмо с заявлением, что рассказывать билет будет только ей на ушко в её постели, а если она никак на письмо не отреагирует, то пусть ставит в ведомость «неуд», ведь его не волнуют с некоторых пор ни оценки, ни будущее, и он не придёт больше в Университет никогда, потому что не сможет видеть её, свою возлюбленную, которая его отвергла. Ванда, разумеется, не собиралась принимать такие абсурдные условия, она хотела только поговорить с Максом, успокоить его, вразумить… Она согласилась встретиться с ним наедине, и как-то так вышло, что Макс получил желаемое — профессор Анбрук провела с ним ночь… И вынуждена была, как честный человек, предложить ему помолвку.
— Ты же сказала, что у неё муж?
— Да… Но по законам её родины женщина может иметь несколько мужей. Об официальном браке речи, конечно, не идёт, Ванда и так здесь на птичьих правах — она продолжит содержать своего первого мужа — он у неё какой-то странный, вроде как больной — а жить станет с Максом…
— Он сам тебе это рассказал?
— Нет.
— А откуда тогда…?
— Мне сказала профессор Анбрук. Я нашла её номер телефона на сайте университета и позвонила. Моё сердце было полно гнева, я хотела предупредить её, что если она дурно поступит с Максом, то ей не миновать расплаты… Но она побеседовала со мной так спокойно и разумно, что мне совершенно расхотелось бросать ей вызов. Ванда мне даже понравилась. Она уверила меня, что ни за что не обидит Макса, обещала заботиться о нём так хорошо, как только возможно, и добавила в самом конце, чтобы я запомнила этот разговор, и, когда мне будет тридцать пять, если на мой сотовый позвонит девчонка, сходящая с ума по моему жениху, я говорила бы с нею так же, как она только что говорила со мной… Мудрая женщина.
Кора свернула в небольшой закуток между хозяйственными корпусами, жестом пригласив Онки последовать за ней. Там, возле глухой, без единого окошка, боковой стены, лежали штабелями накрытые плотной плёнкой доски. Забравшись на самый верх, Кора достала из вислоухой мягкой спортивной сумки сигареты.
— Будешь? — спросила она.
— Нет, — Онки поморщилась, — Я надеюсь ещё хоть немного вырасти.
— Дело хозяйское.
Держа дымящуюся сигарету в зубах, Кора принялась искать что-то в своей сумке. Достала оттуда несколько тетрадок, книгу по психологии, библиотечный толстый учебник по высшей математике, пропахший табаком и чужими руками, яблоко, планшетный компьютер, тюнер…
— Можно я посмотрю, что вы проходите? — осторожно спросила Онки, косясь на учебник математики. Изображенный на обложке знак интеграла пробудил в ней сильное эстетическое влечение.
— Да ради Бога, — махнула рукой Кора, — могу подарить, я всё равно в нём понимаю не больше, чем улитка, ползущая по странице. Мне нравятся звуки… — она мечтательно подняла взгляд, — я часто сажусь где-нибудь и просто слушаю, если долго слушать, то и в беспорядочной какофонии обыденности — шуме автомобилей, чужой болтовне, громыхании стройки — начинаешь различать отдельные удивительно прекрасные мелодии… Колебания воздуха, которые создают крылышки комара или дрожание древесного листа на ветру. Тонкое дребезжание рельса за несколько минут до того, как на горизонте появится поезд. Звуки, которые мы не слышим, брачные песни летучих мышей, например, пронзают пространство каждый миг… Ритм — один из самых совершенных языков, которым материальная Вселенная говорит с нами…
Тем временем Онки с неподдельным восхищением взвесила в руках толстый учебник, полистала его, любуясь вязью таинственных знаков, которыми пестрели страницы.
— Математика — тоже язык, — сказала она, — и не менее красивый, если его понимать.
Кора недоверчиво хмыкнула:
— Ну хорошо, если это язык, то признайся мне на нём в любви.
Онки задумалась, продолжая переворачивать страницы. Она уже не пыталась вникнуть в содержание, а только бессознательно поглощала атакующие её зрительные образы. И тогда, выскользнув из щели между листами книги, на землю спланировал сложенный вчетверо тетрадный листок.
Онки подобрала его. Внешние стороны этого листка остались чистыми, но на нем определенно что-то было написано, нажим писавшего на шариковую ручку сделал одну из его поверхностей слегка рельефной. Не задумываясь, она развернула листок.
— Не читай! — воскликнула Кора, привычный спокойный и чуточку небрежный тон в этот момент изменил ей.
— А что это? — Онки смотрела на листок, но ей не удавалось разобрать торопливый, нервный почерк писавшего, — письмо?
— Нет. Это стихи, — тихо призналась Кора, глядя в сторону.
— Для Макса? — осторожно спросила Онки.
— И да, и нет. Я написала ему, конечно, но знаю, что показать смогла бы разве только на смертном одре… Очень прошу тебя, не читай, — повторила Кора проникновенно и протянула руку, — дай сюда, я и сама стесняюсь их перечитывать… Просто храню зачем-то.
Онки вернула листок владелице. Прежде она никогда не задумывалась об этом — незачем было — а сейчас ей пришло в голову, что возникновение творческого вдохновения гораздо чаще бывает обусловлено болезненными, нежели радостными переживаниями.
— Я думаю спеть об этом песню, — сказала Кора, бережно убирая заветную бумажку в боковой карман сумки.
Разговор стал постепенно редеть, каждая из девочек постепенно погружалась в свои мысли. Онки ждали несделанные задания повышенной трудности. Уходя, она несколько раз оглянулась на свою новую подругу. Та продолжала сидеть на досках, удобно согнув длинные ноги в спортивных гетрах, прикрыв глаза и расслабленно запрокинув голову — слушала…
«Вот чудо в перьях…» — беззлобно удивилась про себя Онки.
Прикрывая рукой свой разбитый нос, Онки пересекала круглый двор, заключенный внутри правильного двенадцатиугольника образованного зданиями детского общежития Норд. Для каждой группы воспитанников — от семилетних первогодок, до семнадцатилетних учащихся последнего класса был предусмотрен отдельный огромный спальный корпус, разделенный на две равные половины секцией лифтовых шахт, одна половина заселялись девочками, а другая — мальчиками.
Во дворе была оборудована просторная игровая площадка, с кольцами, турниками, качелями и громадным, как настоящий замок, сооружением из прочного пластика, резины и дерева, предназначенным для ползания, лазания, пряток и прочих забав детворы.
Онки любила качаться на качелях. Обычно она распихивала по карманам изрядный запас леденцов, втыкала в уши беспроводные таблетки музыкального плейера и часами летала вверх-вниз на сверхпрочных канатах из полимерного волокна. Ей казалось, что на качелях легче думается, когда несешься со скоростью ветра — рассуждала она — и мысли начинают двигаться быстрее. Онки часто решала между землёй и небом усложненные задачки по математике.
Подойдя к качелям, она остановилась чуть поодаль. Они были заняты. Онки не могла вспомнить, где раньше она встречала этого маленького мальчика, по всей видимости первоклашку, который просто сидел на широкой доске, держась хрупкими ручками за канаты и почти не раскачивался, его тонкие ноги в больших кедах ещё висели высоко над землёй.
— Эй, — потребовала она, — освободи качели.
Ребенок не пошевелился, только поднял на неё пытливые зелёные глаза. Этот взгляд определенно был ей знаком. И под его мягким, но неотвратимым напором Онки устыдилась своей беспардонности.
— Всё равно тебе они не слишком нужны… — добавила она чуть более мирно.
— С тобой что-то случилось? — спросил мальчик участливо, он спрыгнул с качелей и направился к ней, — у тебя кровь… Ты дралась?
— Ну, быть может, — отвечала она небрежно, гордо шмыгнув расквашенным носом, — тебе-то что за печаль?
— Никакой печали, — не по-детски спокойно отразил он её невидимый удар, — хочешь платок?
Онки удивленно взглянула на него. Отнятая от лица ладонь действительно была у неё в крови.
— Возьми, — он протянул ей свой чистый, аккуратно сложенный вчетверо платочек, извлеченный из нагрудного кармана.
Онки, не поблагодарив, схватила его и приложила к носу.
— Драться нехорошо, — сказал мальчик.
— Но иногда это бывает нужно, — устало и как будто чуть виновато, словно вернувшийся к родне с большой войны солдат, произнесла Онки.
— Не нужно.
— Тебе не понять. Вы мальчики, вы другие. У вас нет постоянного стремления доказывать другим свою правоту.
— Кулаки всё равно не самый лучший способ.
— Да что ты меня постоянно поучаешь! — рассердилась Онки, — Я не могу вспомнить, когда и при каких обстоятельствах, но мы точно встречались с тобой прежде, умник.
— Это так, — согласился мальчик, — ты нечаянно пнула меня во дворе учебного корпуса, когда бегала со своими подругами. Меня зовут Саймон Сайгон, запомни, пожалуйста.
Онки неопределенно фыркнула. Нос у неё довольно сильно болел теперь, и она, готовая в любую секунду расплакаться, балансировала на самом кончике тонкой доски своего терпения — если бы не присутствие Саймона, то она давным-давно дала бы себе волю…
— У тебя хорошая память, — выговорила она с усилием, запрокидывая голову.
— Я знаю, — ответил он, — а у тебя, вероятно, не очень, раз ты забыла.
— Да у меня самая лучшая память в классе! — снова вспылила Онки, от негодования ненадолго забыв о своей боли, — я знаю все столицы всех стран, а также всех президентов нашей страны в хронологическом порядке их пребывания у власти, — хорохорилась она, — кроме этого я помню наизусть атомные массы всех элементов периодической таблицы.
— Ботаник, — сказал Саймон со спокойной улыбкой.
Это была, вероятно, шутка, и мальчик не имел намерения обидеть Онки, но она восприняла сказанное всерьёз. У неё чертовски сильно болел нос, поражение в драке не давало забыть о себе, а тут ещё и милюзга обзывается! Онки не выдержала.
— А за это ты ответишь! — воскликнула она, и, резко шагнув вперед, ударила Саймона по щеке.
На звук пощечины обернулись играющие неподалеку дети.
— Смотрите! — завопил кто-то из них, — она ударила мальчика! Бить слабых — самое последнее дело! Позор! Позор!
Онки повернулась и бросилась прочь. Глаза её заволокли слёзы. Вслед ей неслись обвинительные реплики и обидные слова. Она не могла видеть, чем в эту минуту занят был Саймон, но ей почему-то казалось, что он не метался, не плакал, а продолжал стоять там же, возле качелей, прикрыв ладонью покрасневшую щеку, и со спокойным достоинством смотрел ей вслед.
Поднявшись к себе Онки заперлась в умывальной и отняла от лица платок. Бросив его в раковину и открыв кран, она долго смотрела, как взбиваемая сильным напором пена становится розоватой, как наполняется раковина кровавой водой и постепенно расправляется в этом растворе, точно раненая птица, скомканный платок.
Онки прополоскала его и, отжав, вновь положила на переносицу, только уже в качестве охлаждающего элемента.
Она села в кресло и запрокинула голову. Мягкая прохлада влажного платка освежала и успокаивала. Полоща его, Онки успела заметить, что на одном из уголков нежно-голубой ниткой тонко вышиты инициалы владельца:
С.С.
Теперь, как бы сильно она ни захотела, вряд ли ей удастся ещё раз забыть это имя.
ГЛАВА 3
Рита и Онки сидели в столовой возле окна. До начала занятий оставались считанные минуты, поэтому просторное и светлое помещение быстро пустело: толпа воспитанников, задерживающихся у выхода, где всегда создавалась в такое время небольшая пробка, постепенно убывала, просачиваясь в двустворчатые двери как вода в сливное отверстие раковины. Все торопились в классы.
— Ты почему никуда не идёшь? У тебя свободный час? — спросила Рита, — Везучая! Я бегу сейчас на историю отечества!
— Нет, — ответила Онки мрачно. Она полулежала на столе, подперев подбородок сложенными стопкой руками.
— Нет? — удивилась Рита, — Плохо себя чувствуешь? Приболела? Я не помню, чтобы ты прогуливала раньше. Учетного робота не боишься?
Онки помотала головой.
— Что-то случилось? — спросила Рита озабоченно.
— Ничего.
— Ну… я же волнуюсь… Ты очень странно себя ведёшь. Должна быть какая-то причина…
Между бровей Риты собралась маленькая напряженная складочка. Она выглядела сейчас невероятно трогательно в своей тревоге за подругу, и если бы та не была эгоистично погружена в свои страдания, то, вероятно, смогла бы оценить это по достоинству…
— Да нет никакой причины, — Онки вытянула перед собой руки со сцепленными замком пальцами, — просто сама жизнь — по сути бестолковая беготня, что бы ты ни делал, всё равно умрёшь, и труды твои забудутся, начинания порастут плесенью, и дети твои, сколько бы ты их ни родил, тоже умрут…
Рита насторожилась.
— Что-то это мне напоминает… «Все суета сует и томление духа». Ты проиграла? — спросила она, понизив голос. Она слишком хорошо знала подругу, чтобы думать, будто подобные настроения у неё могли быть вызваны чем-нибудь, кроме поражения.
Онки кивнула.
— Что сказали? — спросила Рита, сочувственно положив руку ей на плечо.
Онки слегка поморщилась, она не выносила сентиментальных проявлений участия, но из уважения к подруге не отстранилась.
— «Присущие вашей личности качества и свойства не соответствуют выбранному вами профилю. Рекомендуемые направления: научная деятельность, высокие технологии, алгоритмизация и программирование. Не огорчайтесь!» — Онки злобно передразнила бесстрастный электронный голос Игры.
— Я сочувствую тебе. Но не стоит принимать это так близко к сердцу… Игра ведь может и ошибаться….
— Игра никогда не ошибается.
— Откуда ты знаешь?
Онки молчала.
— Послушай… — начала без надежды быть услышанной Рита, она уже смирилась с вынужденным прогулом отечественной истории и присела на край скамьи рядом с подругой, — Игра не задумывалась как нечто, делающее выбор за тебя, она лишь призвана слегка помочь сориентироваться в огромном множестве важных и нужных профессий, немного направить, задать вектор…
— Но я не хочу, — резко сказала Онки.
— Чего ты не хочешь?
— Ничего не хочу. Кроме этого.
Рита, понурив русую голову с толстой короткой косой, как-то уж больно обреченно вздохнула. Эх… Если уж этой Онки что-нибудь втемяшится в голову — всё, пиши пропало…
— С тех пор как Игра впервые появилась в образовательных учреждениях, прошло уже много времени, и если раньше она, возможно, и была тем, чем ты её назвала, направляющим началом, помощником, ну и тому подобное, то теперь Игра — это тест. Проверка. Теперь она ставит диагнозы и выносит приговоры. Ты наивная, если веришь, что нам подсовывают Игру просто так, для общего развития и облегчения нашей дальнейшей судьбы. Они хотят знать всё с самого начала, наш потенциал, наш потолок, определить однозначно, кто из нас имеет шанс подняться наверх, занять высокий пост, сделать научное открытие или создать гениальное произведение искусства, а кто не способен ни что, кроме как стать инкубатором для чужих детей…
— Онки, ты говоришь очень жестокие вещи, прямо как в страшных фантастических фильмах про будущее, — Рита встревоженно заглядывала подруге в глаза, — я тебе не верю… Зачем им нас фильтровать?
— Ты не понимаешь? — спросила Онки с грустью, — Это же так просто! Им это нужно, чтобы экономить ресурсы. Образование — очень ценная услуга. Оно требует больших и далеко не во всех случаях окупаемых экономических затрат. Это полив не проросших семян. Покупка кота в мешке. Никогда не знаешь, будет ли результат соответствовать тому, сколько усилий было в него вложено. Государству не выгодно учить бездарей, которым всё равно это не пойдет в прок. Оно не хочет терять деньги. Поэтому Игра нужна для того, чтобы выделить среди нас тех, кто сможет оправдать его финансовые вложения.
— Знаешь, Онки, — заключила Рита после продолжительной паузы, — ты прирождённый политик. Даже если ты меня сейчас вздумаешь побить за то, что этим своим утверждением я заронила тебе в душу семя надежды и беспардонно лишила тебя восхитительной возможности сдаться, то я не откажусь от своих слов. Я повторю их ещё раз…
Кора Маггвайер сидела на краю футбольного поля по-турецки и писала что-то в блокноте. Онки тихо подошла и встала над нею, но разговора не начала, решив подождать, пока её заметят.
— Чего тебе? — через некоторое время спросила Кора.
— Да так, ничего… Я просто, — Онки немного смутил неприветливый тон старшеклассницы, и она на некоторое время умолкла.
Невдалеке какие-то девчонки гоняли мяч, кто-то с кем-то спорил, одна грубо толкнула другую в грудь, та опрокинулась на короткую как стрижка призывницы мягкую вечнозелёную траву поля, группка стоящих рядом недовольно загудела…
Кора даже не подняла головы, чтобы посмотреть, так была увлечена своим занятием.
— Что ты делаешь? — спросила Онки.
— Пытаюсь сочинить песню, — ответила Кора, даже не взглянув в её сторону, глаза девушки были в этот момент закрыты, голова запрокинута, как будто бы она слушала таинственную мелодию, звучащую где-то внутри себя, — не мешай мне, пожалуйста, если есть какое-то дело, то говори быстро.
— Я проиграла, — отчаянно выдохнула Онки, попытавшись вложить в эту недлинную фразу всю свою досаду по этому поводу. Кора музыкантка — услышит.
— Ну и..? — старшеклассница удивилась до того, что ей пришлось открыть глаза. Теперь она, положив блокнот на колени, снизу вверх смотрела на стоящую Онки.
— Меня это очень огорчило… — робко пояснила та, в свою очередь удивившись, как можно было сразу не догадаться.
— Велика беда, — презрительно фырнула Кора, снова опустив глаза в блокнот, — не понимаю, чего ты так раскисла?
— А ты бы совсем не расстроилась на моём месте?..
— Не-а, — мотнув головой, Кора снова взглянула на собеседницу, — я и сама на днях продула с невероятно низким баллом, так представь себе, я даже обрадовалась, подумала, ну и слава Всеблагой, кончилась эта мутота по вечерам, будет оставаться больше времени на музыку.
— Так ведь если Игра признала тебя не годной, то, значит, ты не способна стать музыканткой…
— Хо-хо… — Кора положила блокнот на траву и взглянула на Онки насмешливо, — Между прочим, Игра — это так, на минутку, не один из ликов Всемогущей, а всего лишь дурацкий электронный тест.
— Но она ведь может оценивать наши таланты…
— Ты в это веришь? — удивилась Кора. — Конечно, Игра очень умная, но за то короткое время, которое нас проверяют, в принципе невозможно увидеть самое главное — силу нашего стремления к цели. Игра способна оценить уровень психологической устойчивости, интеллект, лексический запас, быстроту реакции, ответственность, честность — всё, что угодно… Кроме одного. Игра не может знать, насколько мы упорны, насколько мы готовы ломать самых себя ради того, чтобы стать теми, кем мы мечтаем стать… Игра не чувствует наши души.
— Куда она тебя направила? — спросила Онки.
— В службу охраны правопорядка, — отвечала Кора с саркастической усмешкой, — Игра полагает, что лучше всего я буду смотреться, выставляя подвыпивших военных из баров на Сент-Плаза и проверяя документы у толпящихся там вечно шлюханов.
— Но ведь столько людей верит результатам Игры…
— А ты? Лично ты? Веришь им? — музыкантка смотрела на неё пытливо, требовательно, твёрдо.
Онки молчала.
— Мне жаль тебя, если ты думаешь, что кто-то может знать о тебе больше, чем ты сама.
Кора, опустив голову, вернулась в блокнот, и стало ясно, что больше она уже ничего не станет говорить. Онки повернулась и медленно пошла вдоль ряда зрительских кресел, изредка оглядываясь на свою странную знакомую, та продолжила что-то писать, её фигура на фоне огромного футбольного поля становилась всё мельче по мере того, как Онки удалялась, направляясь к выходу.
Сказанное Корой ободрило её — в нескончаемом тоннеле отчаяния едва различимо забрезжил свет: «Всемудрая ей судья… Быть может, она права…»
Прошёл год
— Ненавижу спортивную подготовку, — сопя носом, Онки Сакайо расшнуровывала высокие беговые ботинки, — и своё тело тоже ненавижу. Оно постоянно меня подводит, такое слабое, неповоротливое… Иногда мне кажется, будто я совсем не такая как остальные. Ни одного норматива в этом году не сдала. Со мной что-то не в порядке, я больна или вообще …мутант, выродок… Вот скажи, Ритка, почему я не расту?
Рита Шустова с заметным усилием стаскивала с длинных стройных ног узкие спортивные лосины. Онки с завистью мерила взглядом подругины конечности, которые, по щедрому благословению Всемогущей, с каждым кварталом становились ещё длиннее…
— Я ведь самая маленькая. Карлик просто. Вот в тебе сегодня сколько намеряли?
— Сто семьдесят девять, — стоя на полу в носках, Рита как следует выпрямилась и с торжествующей улыбкой взглянула на подругу.
Онки готова была расплакаться от обиды.
— Ну а я всего сто шестьдесят семь! Это же такое унижение… Все смотрят на меня сверху вниз…
— Мне кажется, ты паникуешь. И придаешь этому слишком большое значение. Другие, я полагаю, думают о твоём росте гораздо меньше, чем ты сама.
— Ты как всегда меня утешаешь. Ложь во спасение. Ну не могу я поверить, будто никому из окружающих в голову ещё ни разу не приходила мысль: ха-ха, да она же недомерок!
— Это потому, что ты сама склонна подмечать чужие недостатки. — Рита подняла руки, чтобы распустить волосы, едва наметившиеся бугорки грудей приподнялись и заострились, — перестань беспокоиться по этому поводу, и, может быть, всё наладится. Вырастешь скачком, как гриб после дождичка, сразу на пол локтя… Ведь тебе ещё только четырнадцать.
Онки вздохнула.
— Ну а как насчет нормативов? Сама же видела, как я сегодня осрамилась на турнике… Это ж надо, подтянуться только четыре раза, когда на зачет необходимо пятнадцать?! «Да ты как мешок с картошкой!» — Онки передразнила грубоватый голос тренерши, — О, Пречистый и Всеблагая… Какой позор… — добавила она, с досадой отпихивая чьи-то ботинки, стоящие у скамьи, — иногда мне кажется, что спорт вообще придуман тщеславия ради, для того только, чтобы сильным дать возможность поглумиться над слабыми…
— А мне кажется, что для этого придумана математика! — рассмеялась Ритка, — банальность скажу, конечно, но у каждого свои таланты и особенности, — она сдернула с крючка полотенце, и вытянув вперёд губы, очень похоже передразнила гнусавый голос преподавательницы по аналитической алгебре, — «Вы знаете, Шустова, даже некоторые мальчики решают эти уравнения лучше вас… Интеллектуальный труд, как это ни прискорбно, не ваш конек…»
— Знаешь, что, Рита… Ты бы старалась учиться, — Онки резко посерьезнела, — среди старшеклассниц в последнее ходят разные жуткие слухи… Нам многое не говорят, Норд — детское учреждение, и поэтому не все радиостанции можно поймать, и не все сайты открыть. Но если собрать приёмник или написать прогу для обхода системы защиты детей от избыточной информации… Короче, идёт война. И сейчас лучше не попадать в армию. Даже набор в государственный резерв суррогатных матерей сократили, всех здоровых гребут в вооруженные силы…
— Знаю, — Ритка сняла резинку и мотнула головой, тяжелый сноп густых распущенных волос упал, накрыв половину её хорошенького молодого лица, — Мидж Хайт призвали. Я видела вчера во дворе общежития её и ещё нескольких девчонок из той компании в костюмах защитного цвета и с рюкзаками за плечами. Теперь, если ты не будешь наводить смуту, в Норде будет поспокойнее, да и государству прок: Мидж и её шайка — это же тонна отборнейшей мускулатуры!
Онки сняла через голову майку и процедила сумрачно:
— Не нравится мне всё это.
— Да брось, — Рита добыла из кармана спортивной сумки расчёску и решительно погрузила её в блестящую под лампами реку своих волос, — ничего твоей Хайт не станет, она же здоровая, точно горилла, пули от её груди отлетать будут, как от дверцы сейфа… Кто бы мог подумать, что ты такая сентиментальная — тревожишься за девчонку, которая неоднократно возила тебя носом по футбольному полю… Меня во всей этой истории другое волнует, — шутливые нотки разом пропали, и Ритина интонация стала мечтательной, — красавчик Малколм остался теперь без подруги… Я такую трогательную сцену наблюдала, пока они за ворота не вышли, чуть не расплакалась. Прямо как в фильмах. Он прильнул к Мидж так жалобно, так безнадежно, мне не слышно было, далеко стояла, но ждать, наверное, обещал… Повезло ей. Вернётся с настоящей войны. Героиней. Да ещё и в объятия к такому…
Онки взглянула на подругу, неодобрительно хмуря брови.
— Дура ты Ритка. Точно дура. И башка у тебя туго набита розовой романтической ватой. Вернётся твоя Мидж, если повезет, в заплатках вся, как старое одеяло, а Малколм завтра же на другой повиснет, как бес на краю кадила… Он не такой, чтобы ждать. Видно это.
Онки умолкла, будто устав от своего циничного монолога, опрокинутого на подругу ушатом ледяной воды. Открыла сумку, принялась что-то в ней искать. Потом встрепенулась и снова подняла глаза на Риту.
— Хоть Малколм и относительно свободен теперь, смотри мне, не вздумай мечтать о нём. Знаешь, сколько желающих? Каждый день рожей будешь футбольное поле вспахивать… Большая половина этих отмороженных девах из окружения Мидж на него облизывается. Белка уж точно. И теперь вот кошка за порог, крысы — к кормушке…
— Ну он же такой красивый… — Пробормотала, будто извиняясь, Рита.
Она выдавила пену из баллончика и, поставив ногу на лавку, принялась намазывать её. Ладони оставляли на гладкой незагорелой коже широкие белые следы.
— Такой красивый и такой тупой, — с удовольствием припечатала Онки, энергично словно тесто уминая спортивную форму в сумке, — я как-то услышала разговор нескольких преподавателей, они совещались, не перевести ли его на индивидуальную программу для неуспевающих.
— Он же мальчишка, — махнула рукой Рита, она распахнула дверцу в душевную, и раздевалка наполнилась шипением бьющей под напором воды, — да вдобавок Всеблагая одарила его поистине ангельским личиком… Ему совершенно не обязательно быть умным самому, всё у него и так устроится, если умную женщину найдёт.
— Не исключено, конечно, — проговорила Онки, качая головой, — да вот только умным женщинам дураки не слишком нужны, даже красивые… Умные, они с умом и выбирают. Взять вот, к примеру, наставника Макса. Все наши дуры рожи ему строили, мимо пробегая. «Лопоух! Лопоух!» А помолвлен он теперь с самой Вандой Анбрук, профессором Объединенного Университета. В то время как Мидж таскала Малколма по подворотням, порядочный юноша сидел дома, книжки читал.
— Ну… может, ты и права… — пожав плечами, Рита скрылась в густом мягком облаке пара, плывущего из душевой.
Онки, подойдя в отсутствии свидетелей к ростомеру, этому источнику её постоянных унижений, зачем-то изо всех сил дернула и отломила его пластиковый язычок, равняющийся по темени. Вряд ли это могло помочь горю, но на душе у неё немножко потеплело.
— Так тебе, чертова кочерга, — выговорила она сквозь непроизвольно расплывающуюся улыбку, и, швырнув отломанный кусок пластика в мусорное ведро, пошла мыться.
Мидж Хайт призвали в армию, но в закутке за служебными гаражами продолжало существовать организованное ею тайное казино, где сухими солнечными вечерами весны, лета и ранней осени воспитанницы старше двенадцати проигрывали друг другу одежду, мелочь, еду — всевозможные доступные им ценности. Наставники и администрация, конечно, имели общее представление о том, что там творилось, но не вмешивались, раз и навсегда решив между собой: в Норде должен существовать естественный отбор, обречённый пойти кривой дорожкой пойдет ею всё равно, рано или поздно, невозможно оберегать каждого, и, ладно уж, пусть подростки самостоятельно познают её, жизнь, жестокую, страшную, пока, правда, под милосердным колпаком родного интерната.
И казино никто не трогал. Даже рабочие, обслуживающие машины, старались лишний раз не проходить мимо — не смущать юных картежниц.
Как правило состав играющих постоянно менялся, но были и завсегдатаи. Собирались после занятий, садились на ломаный пенопласт вокруг «стола» — отломанной лакированной дверцы шкафа — и делали свои ставки. Иногда — если кто-то приносил — курили всей компанией — сигареты считались экзотикой и водились только у «элиты», у Коры Маггвайер они были потому, что она выступала со своим ансамблем в Атлантсбурге и ей время от времени удавалось их купить, у Мидж — потому, что она была наглая и ухитрялась доставать их через наставников-студентов, а все остальные стремились заработать авторитет, добывая иногда по пачке «для общака» всеми правдами и неправдами.
Теперь в «казино» заправляла Белка, она поставила себя главной, как первая после Мидж, как её равноценная замена. Иногда приходил покрасоваться Малколм, в модных шелковых рубашках; он всегда оставлял не застегнутыми две, а то и три последние пуговицы, намеренно обнажая столь лакомый для девичьих глаз кусочек открытой кожи там, где шея переходит в грудь — ослепительный уголок, способный превзойти гладкостью обрамляющий его шелк воротничка. Он приходил и садился подле Белки так же как садился раньше подле Мидж: словно скипетр, королевская мантия, корона или какой-либо другой вещественный атрибут власти, он своим расположением указывал, кто здесь хозяйка. Карты ему, однако, в руки не давали, азартные игры — удел девчонок, а парень может быть только украшением стола… Впрочем, он никогда с этим не спорил, и отведенная ему роль полностью устраивала Малколма.
Играющие теперь гораздо вольнее пялились на него, подмигивали, отпускали двусмысленные шуточки, потому что знали — уже не придётся за любое неосторожное слово или взгляд иметь дело с его подругой; Мидж, восемьдесят с лишним килограммов изящно кованого железа, не стала бы церемониться с посмевшей ступить на ее территорию.
Играли обычно в покер. Белка с каждым днём чувствовала себя всё более уверенно в унаследованной от Мидж роли босса — для полного соответствия не доставало одного последнего компонента, но, пожалуй, главного…
— Малколм, — сказала она как-то после игры, — я провожу тебя?
— Проводи, — ответил он, нисколько не удивившись, и даже для приличия не возмутившись этим предложением.
С тех пор они стали ходить вечерами вдвоем; она совала ему плюшевые игрушки, конфеты, какие-то цветки, скорее всего, из клумбы, но однажды ни с того ни с сего подарила тоненькую серебряную цепочку на шею. По меркам воспитанников Норда это был просто королевский подарок. «Украла в ювелирке на Сент-Плаза, когда ездили на экскурсию…» — шептались девчонки у неё за спиной. Вслух, однако, никто ничего не говорил. Белки боялись теперь почти так же, как раньше боялись Мидж.
А Малколм цепочку носил — нежно поблескивала она на фоне молочной кожи в обольстительной ямочке между ключиц — у Белки аж дыхание перехватило, когда она впервые заметила, что её подарок надет, — носит, значит, не отвергает её, не отказывает ей наотрез, есть, значит, у неё надежда…
Она ничего ему не предлагала, ждала, когда он сам каким-нибудь искусным намёком даст ей понять, что согласен вывести отношения на новый уровень. Малколм нравился Белке очень давно; и прежде, глядя, как Мидж алчно целует его, как бесцеремонно запускает ему под одежду свои длинные руки, или унизительно стоя «на шухере» возле дверей гаража, пока за этими дверями Мидж, сжимая Малколма, раскрасневшегося, растрепанного, в своих крепких грубых объятиях, читает с ним древнейшую книгу бытия, Белка испытывала чувства сходные с теми, что испытывает лев, запертый в клетке, в то время как шакал по другую сторону ряда толстых прутьев треплет добрый кусок мяса. Как известно, лидера сильнее всего ненавидит тот, кто дышит ему в спину. И это положение второго, следующего, оно тем сильнее унижает достоинство, чем более доверительным оказывается. Белка была единственной посвященной в «тайну гаража», тайну, хранить которую следовало любой ценой, ведь даже непроверенные гнусные слухи погубили бы окончательно и без того балансирующую на довольно скользкой опоре честь Малколма.
Вступить в близкие отношения до свадьбы — это большой позор для юноши. На оступившегося вряд ли посмотрит хорошая невеста. На всех торжественных мероприятиях: на банкетах в честь государственных праздников, на днях рождения, крестинах, поминках — всегда он должен будет носить на рубашке чёрный — и только чёрный, как дёготь — галстук, чтобы сразу люди видели его грех, чтобы никого он не посмел обмануть, выдав себя за честного…
Потерять репутацию очень легко — достаточно, к примеру, один раз не переночевать в общежитии или под крышей родительского дома — и всё, пойдёт дурная молва, соседи будут оборачиваться во дворе, шептаться за спиной, сочувственно покачают головами добрые знакомые — при этом совершенно не важно, где и с кем на самом деле провел ночь юноша — даже если он простоял под дверью, дрожа от холода, потому что опоздал на пять минут и не попал в общежитие — электронная дверь блокируется ровно в 23.00…
И никак нельзя оправдаться, ничего невозможно доказать, природа не предусмотрела никаких объективных признаков невинности у мужчины — и оттого за проклятой репутацией, которой можно лишиться в одночасье и по недоразумению, остается решающий голос в судьбе молодого человека…
Малколм был слишком хорош собой для того, чтобы его репутация могла оставаться безупречной. Слишком много возникало соблазнов и невероятно трудно оказывалось преодолеть их — ему писали письма, посылали цветы, заговаривали зубы, обещая вечную любовь, — лишь бы постоять несколько минуток где-нибудь под лестницей, тесно прижавшись, бесстыдно и неловко шаря руками там, где любопытно, торопливо терзая губами его нежные маленькие губы…
Малколм сначала ещё пытался сопротивляться, но пьянящий мёд лился непрерывным потоком, и с каждым новым искушением решимость бороться ослабевала, сдавая одну позицию за другой, позволяя девушкам всё больше и больше, с каждым разом он делал это всё охотнее, всё радостнее. Дело известное: дай осе попробовать сладкого вина, так она и будет кружить над бокалом да ползать по стенкам, покуда не утонет.
Юноша понимал, что рано или поздно пойдет по рукам, но мысль эта, к которой он постоянно возвращался, если не мог заснуть или надолго оставался один, в какой-то момент просто перестала его печалить…
Однажды Белка провожала Малколма в общежитие. Косые лучи заходящего солнца бросали в её крашеные красно-рыжие волосы темно-багровые, пурпурные, медные блики. Малколм шел рядом, он немного замерз в тонкой рубашке, и Белка набросила ему на плечи свою тяжелую кожаную косуху со стальными заклепками. На небосводе, огромном, персиковом, вырисовывались чёрные силуэты далёких корпусов. В вечерней тишине далеко разносились гул и потрескивание сварки — где-то ещё продолжался рабочий день. Путь их лежал вдоль длинного ряда гаражей, частично пустующих. На металлических дверях белой краской написаны были номера. В теплом воздухе улавливался слабый запах резины.
— Большой гараж, кстати, до сих пор не запирают… — Малколм сказал это как будто бы между прочим и так взглянул на Белку из-под пушистых ресниц, что у неё глухо стукнуло в груди, будто что-то оторвалось, потом упало вниз, в живот, рассыпалось там снопом горячих искр и долгим отзвуком загудело в бедрах.
Едва не вывернув ему руку, она втащила его в сырую влажную тьму. Дверь громко лязгнула, истончилась яркая полоска света с улицы. Резкими, нервными движениями Белка стала сдирать с юноши одежду, покрывая суетливыми поцелуями его плечи, шею, грудь, шепча непрестанно бессвязные междометия:
— О, Всеблагая помилуй меня… Мой… мой! Наконец-то…
— Осторожно только, постарайся не порвать ничего, а то в общаге заметят, — невозмутимо заметил ей Малколм; он немного помог взволнованной девушке, взяв на себя самые непокорные застёжки, его прелестная нагота нежно, словно луна, засеребрилась в полумраке…
— Ты как будто светишься в темноте… — восторженно прошептала Белка, — ты так прекрасен.
— Я замечал, — тихо отозвался юноша, — сначала думал, что мне кажется, а потом стали говорить другие…
Он скромно потупился.
— Не говори мне! — воскликнула она яростным шепотом, — Я не хочу ничего знать о других! Ты мой. Только мой…
Начиная с того дня каждый вечер будто бы ненароком Белка и Малколм отставали от всех, чтобы свернуть в тайный проход между гаражами и недолго побыть вдвоем. Только теперь никто не стоял «на шухере». Она оберегала его репутацию так ревностно, как только могла — не позволяла себе даже мелких вольностей — взять за руку, приобнять — если хоть кто-нибудь мог это видеть.
Их роман продолжался уже больше месяца, когда во время одного из таких тайных уединений случилось непредвиденное: Онки Сакайо, проходя мимо, услыхала престранные звуки, доносящиеся из приоткрытого гаража, ей показалось, что это дерутся коты, и она решила взглянуть.
Лязгнуло железо, жалобно скрипнули петли, Белку и Малколма хлестнуло ярким светом, они зажмурились, и тотчас, инстинктивно отпрянув друг от друга, обернулись.
Онки стояла в проеме двери — чёрная фигура на сияющем белом фоне, в первые мгновения её трудно было узнать.
Соскочив с пятнистого от слезающей краски капота старого автомобиля, Белка подошла ближе. Быстро одернув свою кожаную юбку, она выглядела почти прилично — лишь ярко полыхали щеки и немного растрепались короткие красные волосы. Малколм стоял столбом, растерянно щурясь от света. Спохватившись, он неловко попытался прикрыться руками — некоторые части тела, какими бы красивыми они ни были, не следует выставлять на всеобщее обозрение…
Онки Сакайо никогда ещё не видела раздетого юношу — её глаза широко открылись.
— Хватит греться у чужого огня, чего вытаращилась, извращенка малолетняя, — напустив на себя воинственную наглость, изрекла Белка и заслонила Малколма собой, — топай отседова, покуда зад не нажгли, и ты ничего не видела, тебе показалось, поняла?
— Я-то, может, и слепая, — скрепив руки на груди, со спокойной ехидцей ответила Онки, — или тупая, видела, да не врубилась, а вот Мидж… Она же как рождественскую конфету за вихры тебя подвесит, когда вернётся…
— Если вернётся, — поправила Белка с холодной усмешкой, — Война же… Или не знаешь?
— Ну ты и дрянь, — с удивленной гадливостью произнесла Онки, непроизвольно делая шаг назад, — она же твоя подруга… Вроде как…
— Да что ты об этом знаешь, — с едва уловимой горечью процедила Белка, — иди, иди, и только попробуй пикнуть кому-нибудь…
Онки ушла. В обрушившейся внезапно тишине — даже звуки далёкой сварки смолкли — слышно было, как бранились рабочие — широкие крепкие тётки в серо-синей униформе — в одном из соседних гаражей.
— О, Пречистый и Всеблагая… — горестно прошептал Малколм.
— Не дрейфь, — неубедительно бросила Белка, отвернувшись.
— Тебе-то хорошо, тебе ничего не будет… Ты девчонка. Вам всё можно… — с досадой бормотал он, сердито терзая непослушные рубашечные пуговицы.
— Ну, и что ты мне предлагаешь? — почувствовав обвинение, скрытое в его словах, с вызовом обернулась к нему Белка, — убить её монтировкой?
На следующие день Малколм подошёл к Онки в столовой: ресницы скромно опущены, аккуратно отглаженная белая рубашка застегнута на сей раз как полагается, под горло, а на груди — как он только не горит на нём, на бесстыднике! — красуется новый модный галстук — бледно-розовый фон расчерчен вдоль и поперёк нежно-серыми двойными линиями.
— Онки, — робко начал юноша.
— Я ничего не скажу, — неприязненно оборвала его она, — иди откуда пришёл, не мешай есть.
— Да я не о том поговорить хотел, — чуть слышно пробормотал он, про Малколма ходили слухи, будто бы он не краснеет вообще никогда, но сейчас… Онки показалось, что на щеках красавчика выступила легкая краска, — Мне сказали, ты обижаешь моего брата, — добавил он более решительно.
— Брата? — Онки едва не поперхнулась, — Что за ерунда? Все дети Норда выведены в рамках проекта «Искусственный эндометрий». Здесь ни у кого нет ни братьев, ни сестер, ни родителей.
— Ты недобрая, Онки Сакайо, — сказал Малколм грустно.
— Я просто люблю правду, — она с ехидной усмешкой покосилась на его воротник.
Он сразу всё понял, немного испуганным жалким движением поднял руку и положил её на галстук, как будто хотел его защитить…
— И что мне, по-твоему, теперь делать, публично признаться в своем падении, добровольно раздать цветные галстуки друзьям и нацепить чёрный?
Онки пожала плечами.
— Сам решай. Но я бы тебя в этом случае зауважала. Человек должен быть готов ответить за свои поступки. Никто ведь тебя насильно в тот гараж не тащил…
Малколм опустил взгляд. Возразить на честную крепкую как государственная печать реплику девушки ему было нечего. Повисла пауза, Онки нетерпеливо постукивала ручкой вилки по столу, ожидая, пока он уйдёт, чтобы продолжить есть. Употреблять пищу в присутствии малознакомого юноши казалось ей не слишком приличным.
— А брат у меня все-таки есть, — сказал Малколм тихо, но убежденно, — Мы так договорились с ним называть друг друга. Почти всем, кто старше четырнадцати, дают шефство над кем-нибудь из малышей, наверное, скоро и у тебя оно будет. Я по утрам помогаю брату собраться на занятия, мы иногда вместе делаем уроки или гуляем, ему пока ещё только восемь лет. Моего брата зовут Саймон Сайгон, — эти слова прозвучали особенно твердо, — моего названого брата.
— Смотри только, не води его в Белкино казино, — усмехнулась Онки.
— Ни за что! — горячо подхватил Малколм, — он даже не знает, что я там бывал… Я обманывал его, когда уходил, отговаривался разными делами… Он такой славный, чистый… Ты ведь больше не будешь обижать его?
Онки вспомнился тот бестолковый вечер, когда кто-то из кодлы Мидж, может быть, даже Белка, в общей свалке было не разобрать, разбил ей нос, а потом она, усталая и злая, ни за что ни про что влепила пощечину малышу около качелей… Как же это стыдно, Всеблагая помилуй…
— Хорошо, я попрошу у него прощения, — сказала она, глядя в сторону.
Малколм всё не уходил, он продолжал стоять около стола так, будто собирался сказать что-то ещё, но не знал, как начать, или стеснялся.
— Да сядь ты уж, а то мне неудобно… — буркнула Онки и, поднявшись, как требовал того этикет, отодвинула Малколму стул.
Тихо поблагодарив, он присел на краешек.
— Ну что ещё? — несколько мгновений спустя спросила Онки, теряя терпение, ей хотелось продолжить трапезу, — так и будешь сидеть, молчать и глазами лупать? С мной все эти фокусы с долгими томными взглядами не пройдут. Слишком ценно моё время, чтоб я гадала по полчаса, какого хрена тебе надо. Говори прямо, либо вали.
— Ничего, — быстро ответил он, задетый её грубостью, — ничего не надо.
Он поднялся, аккуратно задвинул за собой стол и быстро пошел по проходу, как обычно провожаемый охотничьими взглядами старшеклассниц и странно задумчивым почти печальным взглядом оставшейся за столом Онки Сакайо.
«И как ему только удается? Сначала с головою в омут и макушки не видать, а потом стоит по струнке как на молебне смотрит глазами Пречистого, точно это и не он вовсе…»
После недолгого разговора в столовой Онки начали иногда приходить в голову мысли о Малколме, особенно по вечерам, когда автоматическая программа соблюдения режима дня гасила в комнате свет; она ложилась, прикрывала глаза, и поневоле ей сразу же представлялось случайно увиденное в гараже, всего один момент, поразительно четкий кадр — полуодетый юноша возле капота старой машины: распахнутая рубашка, помятые волосы торчком, жаркие щеки, бисеринки пота, выступившего на лбу. Спущенные до колен джинсы…
Она решила, что обычай помолвки, наверное, потому так и устроен: девушка срывает и преподносит белый тюльпан юноше, с которым желает вступить в брак, союз духовный и физический, а он, если согласен, на следующий день тоже срывает и вставляет в петлицу тюльпан, только алый — ведь то, что она видела, оно больше всего похоже на цветок, на нежный бутон тюльпана; цветы, особенно такие прелестные и дорогие, следует дарить лишь тогда, когда действительно любишь человека.
ГЛАВА 4
Предсказание Малколма сбылось. Это случилось в середине осени, когда полностью завершилось комплектование групп первого года обучения. Онки получила сообщение на экран учебного компьютера: её вызывали в административный корпус, в кабинет классного наставника; он назначался один раз и курировал «своих» ребят до самого выпуска, знал все их характеры и способности, следил за успеваемостью и моральным обликом каждого, разговаривал с воспитанниками по душам, помогая решать как учебные, так и внутренние, личные, порой даже очень деликатные проблемы, столь часто возникающие у подростков. Это всегда был профессиональный педагог-психолог, в отличие от младших наставников, студентов, проходящих обязательную практику на территории воспитательно-образовательного комплекса.
В кабинете классного наставника на высоком мягком стуле, занимая собою меньше трети его площади и болтая в воздухе тощими ножками в непропорционально больших лакированных сандалиях, сидела семилетняя девочка.
— Познакомься, Онки, — сказал наставник, — это Аделаида. С сегодняшнего дня ты назначаешься её «шефом», старшим товарищем, помощником, как тебе больше нравится, это необходимо, ведь она ещё совсем маленькая, и только начинает учиться, ей непременно понадобятся твоя поддержка и участие. Ты, как я знаю, много общалась со старшими воспитанниками и круг своих новых обязанностей, наверное, примерно представляешь: утренние сборы, контроль приготовления уроков, любые прогулки дальше двора общежития, ну и, разумеется, защита от обидчиков. Вот запасной электронный ключ от комнаты Аделаиды, — наставник с негромким хлопком положил на стол белую пластиковую карточку с номером, — он будет храниться у тебя, не потеряй, пожалуйста. Если твоей маленькой подруге понадобится помощь, то ты всегда сможешь быть рядом. А сейчас идите прогуляйтесь вдвоем. Познакомьтесь поближе. Аделаида девочка подвижная, резвая, она чем-то похожа на тебя, Онки, и я надеюсь, что вы сумеете найти общий язык.
«О, Всемогущая… — думала Онки с досадой, — Только этого мне не хватало. Я совершенно не умею обращаться с детьми. Более того, я их не люблю, они капризные, упрямые, надоедливые, и тут вот, на тебе, пожалуйста, шефство над первоклашкой… И что мне, скажите на милость, с нею делать?»
Аделаида молчала. Обладательница большой круглой головы с толстыми черными косичками и при этом трудновообразимо тщедушного тельца, она напоминала леденец на палочке или только что выплывшего из икринки головастика. Вид у неё поначалу был довольно угрюмый.
— Слышь… Может поиграем во что-нибудь? — С заметной нерешительностью под маской напускной небрежности начала Онки.
— А во что?
— Ну… в города, — она задумалась, — или в морской бой… в синонимы, в ассоциации… Я знаю много разных игр, но для них нужна бумага, — она помолчала, а потом добавила заносчиво, — и мозги.
— Я не люблю. Это скучные игры. — безапелляционно заявила Аделаида, — давай лучше в салки, лови меня! — и как черный смерч она помчалась по километровому главному коридору в административном корпусе Норда, только ленты в косичках замаячили впереди как знамена.
И Онки ничего не осталось, кроме как побежать следом, на всех парусах, ещё быстрее, чтобы догнать это головастое, пучеглазое чудо, и хотя бы сказать ему, что по административному корпусу носиться нельзя, ведь — Всеблагая помилуй! — если уж кому-то влетит за это при случае, то, конечно, вовсе не глупенькой первоклашке, а ей, Онки Сакайо, четырнадцатилетнему подростку, который отныне отвечает не только за себя…
Но это были пока цветочки! В первые два часа Онки даже понравилось быть «шефом»: она увлеченно гонялась по двору за Аделаидой, которая, несмотря на возраст и хрупкое сложение отменно бегала — изловить её оказалось не так-то просто. Потом они поиграли в прятки и съели по мороженому, расщедрившись, Онки решила угостить свою подопечную. Веселье, да и только!
Настоящие проблемы начались на другой день, когда Онки попыталась причесать Аду перед уроками. Та наотрез отказалась это делать, при виде гребня ретировалась в ванную, заперлась на задвижку и корчила оттуда рожи сквозь прозрачное стекло. Представление продолжалось минут десять, до тех пор, пока Онки не осознала, что ещё немного, и они обе опоздают на занятия; потому пришлось тащить девчонку в учебный корпус нечесаную, за что Онки, разумеется, получила втык от классного наставника малышей.
На следующий день она оказалась хитрее: прихватила с собой огромные ножницы и, как только Аделаида заупрямилась, заявила, что немедленно острижет её наголо, да ещё и обреет, как призывницу, ведь не слишком-то приятно выслушивать нарекания от наставников, когда она сама, Онки, в сущности, ни в чем не виновата.
Девчонка неохотно подчинилась, и старшая подруга, отдавая должное её героизму, постаралась как можно ласковее, не сделав больно, расчесать прямые и жесткие, как конский хвост, густые чёрные волосы, распутать все колтуны и заплести более-менее приличные косы.
— Ненавижу расчесываться, — сказала Ада в конце, — но ты первая, кто делает это нормально. В детском боксе мне половину волос повыдергали.
Девочка сформулировала свою благодарность почти грубо, но тем не менее это была именно она. После конвейерного ухода, осуществляемого работниками детских боксов, которым приходится каждое утро расчесывать несколько десятков взъерошенных со сна головок, простое человеческое участие было принято Адой как великое благодеяние. Благодарность за маленькую услугу положила начало большой дружбе.
Все шло хорошо, Онки быстро привыкала к своим новым обязанностям, научилась распределять время так, чтобы его хватало и на учебу, и на занятие с первоклассницей, и даже оставалось немножко на себя. Но в начале зимы организм преподнес ей весьма неприятный сюрприз.
Несчастье случилось во время контрольной по математическому анализу. Онки внезапно почувствовала себя мокрой, да, да, именно мокрой, это так унизительно, особенно в аудитории, полной учеников, уставившихся в свои мониторы и усердно решающих задачи. Расставив поскорее, как Всемудрая на душу положила, «галочки» в тестовой форме, Онки отправила контрольную на проверку нажатием на поле «готово».
«Всё равно я не смогу ничего нормально ответить, пока не узнаю, что со мной…» — решила она и, попрощавшись с преподавателем, скорее побежала в общежитие.
Страшная догадка пронзила её сразу, ещё в учебной аудитории — где-то в районе солнечного сплетения прохладным пульсирующим комком притаилось недоброе предчувствие. Запыхавшись, Онки перешла на шаг. Быстрее. Быстрее. Оставалось пересечь двор, подняться на лифте, пройти по коридору…
Она уже чувствовала, что с нею произошло, но, не убедившись, отказывалась верить, всю дорогу до общежития бормотала, как будто просила, умоляла кого-то или что-то…
«Нет… нет… только не сейчас. Пожалуйста, только не сейчас…»
Онки заперлась в своей комнате, пустила воду в умывальной и быстро разделась.
Сквозь громкое шипение душа не было слышно настойчивых напоминаний виртуального наставника, что в данное время суток следует находиться в учебном корпусе.
На полу горкой лежали колготки, юбка, нижнее бельё…
…О, Пречистый и Всеблагая! Как много алого цвета. Он повсюду. И закат, и государственный флаг, и фонари на улочке Миртель возле Сент-Плаза, и тюльпаны для помолвки… Слишком много алого. Теперь Онки знала, что внутри она тоже алая, она видела это воочию…
В носу защекотало, но она скрепилась.
«Девчонкам нельзя плакать. Они должны быть сильными.»
Больше всего Онки хотелось в ту минуту броситься на свою кровать, злиться, орать в подушку, изо всех сил барабанить по ней кулаками, но это не представлялось возможным — в начале двенадцатого все кровати висели высоко под потолком… И Онки просто долго-долго стояла под острыми струями душа, убеждая сама себя, что она не плачет.
«Я так и останусь метр шестьдесят девять. Коротышка. Если и вытянусь, то разве только на сантиметр. Какая же обидная пощечина от судьбы! Спортивные мастера любят повторять, что после менархе уже не растут…»
На занятия Онки не пошла. Она немного посидела на широком подоконнике с книгой, но сосредоточиться на тексте было трудно, виртуальный наставник надоедал нравоучениями — это не радио, его не выключишь — мысли разбегались, и читать она бросила, спустилась вниз, побродила по двору — ей хотелось с кем-нибудь поговорить, но вот только с кем?
Ритка такая легкомысленная, Онки предчувствовала уже её дружеское похлопывание по плечу и какую-нибудь грубоватую шутку из разряда:
«Ну что, старина, ты теперь одна из посвященных, поздравляю!»
В этом вся Ритка с её армейской бесцеремонностью. А Онки хотелось другого. Гуляя, она проходила мимо футбольного поля, в этот час оно пустовало, и только одна единственная фигура вырисовывалась на фоне искусственного газона, кто-то сидел на земле, скрестив ноги и, склонившись, писал что-то в блокноте.
Кора Маггвайер.
Онки подумала, что именно ей и стоит довериться сейчас; она точно не станет ерничать, зубоскалить, спокойно выслушает и, возможно, даже сумеет ободрить — природа награждает творческую личность обычно не только проницательностью, способностью заглядывать в чужие души, но и особенной осторожностью, деликатностью, чувствительностью, позволяющей им, проникая в эти души, изучая их, не ранить, не вредить.
Онки рассказала Коре о своей беде.
Та выслушала очень внимательно и спокойно; запрокинув голову, посмотрела снизу-вверх и сказала:
— Ну не дура ли? И чего ты так расстроилась? Молодые амазонки в этот день получали свой первый меч и пояс воина; считалось, что первое кровотечение — знак, посылаемый девушке богами, одобрение свыше — отныне ей позволено убивать врагов в бою. Древние люди догадывались, что вместе с менархе приходит способность рожать детей, поэтому они подвели под этот факт привычные им категории и понятия. Боги, дескать, посредством каких-то ярких неожиданных явлений доносят до людей свою волю. «Дающая жизнь имеет право её забрать.»
— Как интересно ты рассказываешь…
— Это из книги Афины Тьюри. Я думала, ты читала… «Женщина. Раба и повелительница инстинкта». Бестселлер. Не просто текст, а настоящая революция в мировоззрении! Там на четырехстах страницах прославляется женское тело, рассказывается о его тайнах и особенностях, приводятся доказательства, что оно устроено гораздо сложнее, интереснее, чем мужское, является более совершенным и имеет больший потенциал. Словом, закрывая книгу, остаешься в полной уверенности, что женщины — высшая раса и лучшая часть человечества…
Онки опустилась на мягкую вечнозелёную траву рядом с Корой.
— Можешь рассказать ещё что-нибудь оттуда?
— Да я как-то не старалась запоминать, — отозвалась старшеклассница немного виновато, — западает обычно то, что особенно понравилось, я вообще читать не слишком люблю…
По футбольному полю прошел Малколм в сопровождении Белки и ещё каких-то девиц. По своему обыкновению вырядился он по самой последней моде — облегающий пуловер с воротничком-водолазкой, кокетливая жилеточка из какого-то длинного пушистого серого меха с тонкими белыми кисточками, узкие как змеиная кожа джинсы. Возле глаз он нарисовал себе жирные стрелки, отчего они казались чуть раскосыми. Волосы, тщательно уложенные гелем, стояли торчком.
Онки посмотрела ему вслед со странным приятным и печальным чувством.
— Да, недурен, — сказала Кора чуть насмешливо, тоже проводив Малколма взглядом, — ходят слухи, он многое позволяет девушкам… Лиска, наша барабанщица, рассказывала, что ей рассказывали, будто бы любая, с кем он согласился пойти в киношку, может спокойно запустить руку ему в штаны, когда погасят свет…
Онки почувствовала, что волосок, на котором висела последнее время репутация Малколма, судьба вручила в этот момент ей, и в её власти одним движением порвать его или удержать… Ведь она видела всё своими глазами. И больше всего на свете она любит правду…
— Рассказывала, что ей рассказывали… — передразнила Онки почти грубо, — что будет, если водку семь раз разбавить? И во рту противно, и в голову не дает. Множить сплетни — неблагодарное дело. Пока не доказано — нечего языками махать.
— Ты сегодня даже позже, чем обычно, — Рита зевнула, полулежа на учебном столе с сенсорной панелью для черчения, — обещала ведь сегодня прийти до начала, чтобы кое-что мне объяснить. Забыла?
— Ой, прости, Ритка… Я просто наряжала Аду, заставляла её уши вымыть, причесывала как следует, помогала ей привести в порядок одежду. Её отобрали для торжественного представления правительственной делегации нынче в полдень в приемном зале административного корпуса.
Рита удивленно встрепенулась.
— Повезло!
— Сама не понимаю, почему именно её. Вести себя не умеет, своевольная, непоседливая.
— А мою Анчу не взяли. Она очень хотела, да и я надеялась, что её выберут, такая спокойная, рассудительная девочка, аккуратная. Любо дорого смотреть.
— Возможно, им интересны как раз такие как Аделаида, инакомыслящие, — Онки усмехнулась, — а на вечер, как ты, конечно, помнишь, намечена беседа делегатов со старшими воспитанниками. Они проведут в Норде весь сегодняшний день. У них плотная экскурсионная программа.
— И что?.. — взволнованно спросила Рита, — тебя тоже выбрали?
— Я ещё не знаю.
— Как?! Ведь конверты нам раздали неделю назад…
— Я пока не распечатывала его.
— Ну ты даешь! Почему? Ведь если тебе выпала честь быть представленной таким высокопоставленным гостям, то нужно подготовиться.
— Обойдутся. Я решила, что лучше узнаю всё в последний момент, чтоб заранее не болела голова о том, что я им буду говорить, как сяду, как пройду мимо. Кроме того, я почти уверена, что меня не выбрали.
— Да, пожалуй, — вздохнула Рита, — очень немногих выбрали. У большинства в конвертах чистые листы вместо приглашений.
— У тебя тоже?
Рита кивнула.
— И зачем только они раздали конверты всем? Им бумаги не жалко?
— Для соблюдения секретности, — деловито пояснила Онки, — на самом деле мы не должны сообщать друг другу, кого из нас выбрали.
— Но почему?
— Чтобы мы не ссорились, наверное, — предположила Онки, — чтобы не гадали, чем лучше или хуже остальных те, кого они отметили. Ты ведь понимаешь, что делегация сюда пожалует не любопытства ради? Их визит связан с последним предложенным Народным Советом законопроектом «О повсеместном распространении центров альтернативной репродукции человека». Сенат ещё не утвердил его. Представителям власти нужно взглянуть на некоторых из нас, выбранных каким-то неизвестным образом, возможно, даже случайно. Они хотят понять, какие мы, дети, рожденные без матери, принять или опровергнуть утверждение о том, что поколение проекта «Искусственный эндометрий» более тупое, безвольное и бездуховное, чем любое рожденное естественным путем. В обществе сильны подобные настроения. Многие считают, что размножение людей — есть божественный промысел, и подменять этот невероятно сложный, выверенный миллионами лет эволюции процесс какими-либо суррогатами не только неэтично, а чуть ли не преступно…
Онки так увлеклась, что не заметила, как вошла преподавательница.
— Псссс… — сказала Рита.
Правительственный лимузин с тонированными стеклами остановился на подъездной дорожке возле административного корпуса. Девушка в черном костюме открыла дверцу. Навстречу новоприбывшим вышли директрисса Норда Аманда Крис и две её заместительницы.
— Сенаторана Роуз, сенаторана Гилберт, доброе утро. Мы рады приветствовать вас.
Высокопоставленные лица обменялись рукопожатиями.
Вслед за представительницами власти из машины вышла еще одна женщина.
— Здравствуйте, госпожа Тьюри. Ваш визит — это приятный сюрприз для нас.
— Здравствуйте, госпожа Крис. Мне представилась долгожданная возможность посмотреть, как идут дела на более поздних стадиях моего проекта.
Директрисса и госпожа Тьюри пожали друг другу руки. Официальная встреча. Ни одного лишнего слова и движения. В сопровождении охраны — четырех девушек в черных костюмах — гостьи поднялись по главной лестнице административного корпуса воспитательно-образовательной зоны Норд.
Афина Тьюри — это, наверное, первая по популярности после Президента женщина в стране. Биохимик по образованию, она основала и возглавляет самый масштабный проект альтернативной репродукции человека «Искусственный эндометрий». Кроме того, на её счету много других сенсационных открытий. Исследования, проводимые именно ею более двадцати лет назад, когда она ещё была рядовым постдоком на кафедре молекулярной биологии чахлого академического института в Атлантсбурге, легли в основу разработки уникального лекарственного препарата, выпускаемого в настоящее время практически всеми крупными фармацевтическими компаниями. Афина назвала своё детище «Пролифик». В те далёкие годы она, сидя на грошовом окладе младшего научного сотрудника и давясь в обеденный перерыв кислыми пирожками с лотка, даже в самых смелых мечтах не могла охватить масштабов того будущего, что было уготовано её трудам. Ею руководил один лишь бескорыстный и отважный интерес исследователя. Как истинный ученый, готовый пожертвовать во имя науки всем, включая жизнь, взвесив все возможные риски, первые инъекции Афина сделала себе сама, и только убедившись в действенности и безопасности полученного препарата, она заявила о своем открытии.
Открытие оказалось поистине великим. Прошло уже много лет, а Афина Тьюри до сих пор выглядела в точности так, как на последней фотографии в паспорте, сделанной, когда ей только-только исполнилось сорок. Таково было действие «Пролифика». Особые вещества — фолликулопротекторы, входящие в состав препарата — предохраняли от повреждения и несвоевременного развития примордиарные фолликулы в яичниках и сокращали количество фолликулов, вступающих в рост в каждом цикле, тем самым снижая скорость расходования овариального резерва и отсрочивая наступление менопаузы. Стремительно прославило «Пролифик» ещё и то, что он был гораздо дешевле и безопаснее тканевой гормональной терапии (пересадки женщине её собственных яичниковых тканей, криоконсервированных в молодом возрасте); к этой терапии дамы прибегали для поддержания организма в тонусе — нормализации кровяного давления, замедления возрастной деминерализации костей, сохранения тургора и цвета кожи, её упругости, качества волос — всего того, что привычно составляет женскую красоту — однако, позволить себе такую роскошь могли далеко не все. Забор материала, его хранение и трансплантация стоили немалых денег.
Открытие Афины изменило мир. Теперь любая уборщица или продавщица могла заполучить эликсир вечной молодости! Восторг, да и только!
Правда, по некоторым источникам, при длительном применении препарат провоцировал возникновение в организме злокачественных новообразований, но большинство производителей это решительно отрицало, а сама Афина, получая подобный вопрос в интервью, любила повторять полушутя-полусерьезно: «В мире нет ничего абсолютно бесплатного, и ещё никому не удавалось обмануть великий закон баланса противоположностей, а потому принимая решение о приеме какого-либо препарата, вы должны быть настолько сильно заинтересованы в результате, чтобы никакое побочное действие не смогло бы остановить вас.»
Сенаторана Анна Роуз и директрисса Аманда Крис неспешно прогуливались по парковой аллее в сопровождении многочисленной охраны делегатов.
— Госпожа Крис, можете ли вы гарантировать, что в воспитательно-образовательной зоне созданы оптимальные условия для развития интеллектуального и творческого потенциала молодого поколения?
— Разумеется, госпожа Роуз. Позвольте, я покажу вам комнаты. Они оснащены по самому последнему слову техники.
— Я не сомневаюсь. Но мне хотелось бы знать, как в Норде организовано общение с детьми, достаточно ли развита у них духовно-эмоциональная сфера. Обществу не нужно поколение роботов. Развивая маленького человека вне семьи, необходимо позаботится о том, чтобы он научился дружбе, пониманию, сочувствию, — сенаторана Роуз понимала, что общество нужно убеждать не в том, что первые дети выведенные искусственно живут в комфортных условиях и ни в чём не нуждаются, а в том, что они не являются хоть в каком-то смысле ущербными. Тогда проект, быть может, выдержит натиск враждебных мнений и получит шанс прижиться.
— Все наши усилия направлены на воспитание основных социальных навыков. Сегодня вы лично пообщаетесь с воспитанниками Норда, и сможете сделать вывод об эффективности нашей работы, — Аманда Крис держалась безупречно, она не выдавала волнения ни единым движением брови — долгие годы разнообразного руководства сделали своё дело. В шестнадцать лет, бросив школу, Аманда организовала свою фирму по производству печенья, полный провал на этом поприще ничуть её не смутил, и спустя год она попробовала ещё раз — создала предприятие, занимающееся устройством и обслуживанием корпоративов, у неё даже появились помощницы — девочки с которыми она училась. Постепенно Аманда набиралась опыта, бизнес её от раза к разу становился всё крупнее… С Афиной они познакомились в Университете. На заре создания проекта «Искусственный эндометрий» Аманда в него не верила, про себя посмеиваясь над «витающей в облаках» учёной подругой, у неё была тогда уже своя достаточно крупная фирма, производящая бытовую технику. Когда же Афина предложила ей всё бросить и возглавить один из сегментов её экспериментального проекта, финансируемого из бюджета государства, они чуть не поссорились. «Да ты что, сдурела? Какая из меня чиновница, я всю жизнь занимаюсь бизнесом… Ты втягиваешь меня в какую-то авантюру!» Правда, потом остыла, приняла предложение. Как раз так совпало, что в связи с экономическим кризисом её прибыли резко снизились, и Аманда, пока не стало совсем поздно, быстренько продала фирму. «Искусственный эндометрий» впоследствии она даже полюбила. Это был принципиально новый для неё вид деятельности, но настолько более приятный, мирный по сравнению с постоянными битвами за сделки, материалы, цены, что Аманда искренне кайфовала на работе и делала своё дело, что называется «с огоньком». Навыки, принесённые ею из мира бизнеса, тоже без дела не валялись.
Сенаторана Анна Роуз внимательно слушала и верила тому, что говорила Аманда. Эта женщина знала, как разговаривать с теми, от кого целиком и полностью зависит судьба дела, вверенного ей.
— А замечали ли вы, госпожа Крис, в процессе общения с воспитанниками, что их поведение отличается от поведения нормальных, в смысле естественно рожденных детей? Ведь насколько я знаю, до открытия проекта вы неоднократно принимали участие в работе благотворительного фонда «Доброе Слово», и вам приходилось много общаться со школьниками.
— Не замечала никаких отличий, сенаторана Роуз. Это обыкновенные дети.
— Афина, позвольте теперь задать вопрос вам. Как они появляются на свет? Плоды развиваются в инкубаторах? Расскажите более подробно о своей, самой первой стадии проекта.
— Охотно, сенатор. Зародыши развиваются в матке коровы. Обыкновенной сельскохозяйственной коровы.
— Коровы?! О, Всемогущая!
— Это не должно шокировать вас, — продолжала Афина, — корова была выбрана нами в связи с тем, что срок беременности у неё хорошо совпадает со сроком беременности у здоровой женщины, это первое, второе, размеры матки коровы позволяют одновременно выращивать до восьми полноценно развитых маленьких человечков. Это очень экономично. Кроме того, корова — животное спокойное, то есть риск травмирования для эмбрионов минимален.
— Позвольте, но ведь коровы так сильно отличаются от людей, они травоядные… Не сказывается ли это на развитии плодов?
— В действительности, госпожа Роуз, разница не такая уж большая. Все крупные млекопитающие очень близки друг к другу по структуре генома. А что касается пищи… В период столь необыкновенной беременности корова получает специальные комбикорма, разработанные в нашем институте, они содержат особые белки, поступающие непосредственно в кровь животного, такие белки распознаются тканями искусственного эндометрия, выращенного в коровьей матке и взаимодействуют с ними… я не буду вдаваться в детали… это все очень сложные биохимические процессы… Вас ведь интересует итог: в организме коровы создаются условия максимально приближенные к условиям в женском организме!
— Но, Афина… Вы уверены, что это этично? Большинство людей отпугивает именно моральный аспект проекта. Вот лично вы, — Анна Роуз повернулась к одной из заместительниц директриссы, довольно молодой ещё женщине, — вы хотели бы, чтобы вашего ребенка вынашивала корова?
— Не слишком, — немного робея перед сенатораной ответила та.
— Вот видите! Я не могу поверить, что подобный способ появления на свет никак не отражается на их интеллектуальных и духовных качествах. И большинство людей в нашей стране не может!
— Однако, законопроект всё же предложен Народным Советом. Кто, как не они, лучше всего отражают общественное мнение, — возразила Афина, — Среда, в которой вы вращаетесь, состоит из представителей крупного бизнеса, политиков, знаменитостей — все это более чем хорошо обеспеченные люди, а в Народном Совете большинство принадлежит социал-демократической партии, левым, и они стремятся удешевить альтернативную репродукцию, сделать её доступной среднестатистическим и даже малообеспеченным семьям. Закон всегда оставляет возможность выбора способа репродукции, и, к примеру, вы, госпожа Роуз, спокойно сможете нанять суррогатную мать, если захотите размножиться, или даже попробовать родить, если вам захочется приключений, никто не запрещает… Но подумайте о наших соотечественницах, добывающих на жизнь тяжелым физическим трудом. Для любой из них беременность равносильна потере работы. Квоты на материнство за государственный счёт ждут годами, а суррогатную мать по контракту могут позволить себе далеко не все. «Искусственный эндометрий» сделает родительство доступным для всех. Не понимаю, за что такое важное и нужное дело штурмуют со всех сторон! Речь ведь идет о предоставлении гражданам нашей страны дополнительных свобод…
— А сами суррогатные матери? Как государственные, так и от различных коммерческих фирм? — вмешалась сенаторана Гилберт, перед этим она активно обсуждала что-то с Амандой Крис, — Вы хоть представляете, какое количество рабочих мест мы потеряем, если примем этот закон? Они ведь на куски нас разорвут. Начнутся массовые беспорядки. Знаете ли вы, что штат государственных суррогатных матерей по численности превосходит действующую армию?
— Я понимаю вашу тревогу, госпожа Гилберт. Но народ и так недоволен. Малообеспеченные семьи в большинстве случаев имеют трудности с воспроизведением потомства. Они жалуются на очереди за квотами, на различные бюрократические препоны при оформлении этих квот… Разумеется, переход к повсеместному внедрению центров репродукции должен быть постепенным, увольнять действующих суррогатных матерей нужды нет, можно просто не набирать новых, дождаться естественного сокращения их числа. Вот, кстати, и моральный аспект выгодности проекта. Вам не кажется, дамы, что само наличие штата суррогатных матерей — не этично? Женщина — это свободное, высокоразвитое мыслящее существо, и оно не должно использоваться в современном обществе в качестве инкубатора. Таково моё глубокое убеждение. Кроме того, медицинский аспект. Знаете ли вы, какова средняя продолжительность жизни суррогатной матери? Она почти на двадцать процентов ниже средней. Это очень тяжелый труд. За свою жизнь суррогатная мать, работающая по контракту, вынашивает в среднем от восьми до двенадцати беременностей, в зависимости от общего состояния здоровья. У многих отказывают почки, сердце, печень, возникают осложнения, связанные с кровеносной системой, варикоз, нарушается обмен веществ. Вот вы бы хотели быть суррогатной матерью, госпожа Гилберт? А у многих просто нет выбора. Иначе их семьи будут голодать. Понимаете меня? Существующая система альтернативной репродукции нуждается в усовершенствовании, и в свете этого со стороны государства разумно было бы повернуться лицом к проекту…
— Спасибо, Афина, — Аманда Крис жестом предложила дамам остановиться, — Мы на месте. Сейчас мы встретимся с ними…
— Позвольте напоследок ещё один вопрос, — робко вступила в диалог молодая женщина-зам, — а что происходит потом с коровой?
Афина снисходительно улыбнулась.
— Ничего страшного, поверьте. Она продолжает существовать в своем привычном качестве сельскохозяйственного животного. Ей дают специальные препараты, под воздействием которых искусственный эндометрий отторгается и выводится из её организма. То есть проект милосерден даже по отношению к коровам.
Двери приемного зала распахнулись. В его центре возле импровизированной сцены полукругом стояли мягкие кресла для гостей. Дети, ерзающие на своих местах в ожидании торжественного события, помещались на стульчиках, установленных в несколько рядов вдоль стен.
— Добро пожаловать в Норд, дамы.
И сотни маленьких ладошек замелькали в воздухе, приветствуя, согласно полученным инструкциям, высокопоставленных гостий аплодисментами. В отличие от более старших воспитанников, получивших запечатанные конверты, из которых приглашения содержала лишь некоторая часть, малыши, отобранные для этих смотрин, были предупреждены заранее. Культурный руководитель регулярно собирал их в актовом зале, разучивая с ними стихи, песенки, постановочные сценки, и теперь они с трогательной старательностью, точно дрессированные обезьянки, продемонстрировали представительницам власти тщательно отрепетированный мини-спектакль по сюжету известной сказки.
— Они очень милы, не правда ли?
— Соглашусь с вами, и, главное, пока я не замечаю никаких явных признаков того, что они появились на свет из коровьей утробы. Живые, сообразительные, некоторые из них даже шалят… — произнося это сенаторана Роуз смотрела в сторону ряда стульев, где должны были смирно сидеть, ожидая своей очереди, дети, не задействованные в проигрываемой части представления, — значит, у них имеется самостоятельное мышление, — в поле её зрения как раз попала Аделаида, она не сидела, как полагается, а стояла коленками на своем стуле и, вытянув шейку, высматривала что-то в окне.
— Госпожа Крис, вы позволите? Я хотела бы поговорить с этой девочкой. Мне интересно, как они ведут себя в процессе общения.
— Разумеется, госпожа Роуз. Я сейчас позову её.
Девочка нисколько не испугалась, когда её попросили подойти к креслам, где сидели высокопоставленные особы. Она держала себя на удивление спокойно и свободно, несмотря на все усилия культурного руководителя, который, всячески призывая малышей в столь знаменательный день не баловаться и строго следовать инструкциям, внушил им едва ли не суеверный трепет перед делегатами.
— Здравствуйте, — сказала Ада, заправляя за ухо выбившуюся из косички прядь.
— Привет, — вложив в это слово всю ласковость, на которую только была способна, ответила сенаторана Роуз, — как тебя зовут?
— Ада.
— Очень приятно. Я — Анна-Генриетта Роуз, — представительница власти протянула девочке руку для пожатия совсем так же как протягивала её равным себе высоким особам.
Малышка, немного робея, приблизилась, и взяв руку сенатораны двумя своими аккуратно её покачала.
— А почему двумя? — удивилась та.
— Но ведь ваша рука такая большая, — со всей серьезностью пояснила Ада, — на такую руку одной моей не хватит…
Аманда Крис Крис и Афина Тьюри заулыбались.
— Что ты там увлеченно высматривала, в окне? Птиц? — снова обратилась сенаторана Роуз к девочке.
— Нет. За мной должна прийти моя сестра. Я её жду.
— Сестра?! — это заявление было настолько неожиданным для Анны Роуз, что её холодная выдержка большого политика, воспитанная годами подковерных игр, на миг изменила ей.
— Да! Она обещала встретить меня и скоро уже придет. Ей четырнадцать, она почти совсем взрослая.
— Очень хорошо иметь старшую сестру, не правда ли? — справившись с собой, ровным светским тоном спросила сенаторана Роуз, — ты ведь любишь её?
— Очень, особенно когда она меня не причесывает, — Ада немного подумала и добавила, — Нет. Вообще люблю. Всегда.
— Ты меня с ней познакомишь?
Малышка кивнула.
— Ну, а теперь ступай к своему месту, я очень рада была знакомству.
— Поразительно… — прошептала Анна Роуз, глядя в спину уходящего ребенка, — сиротка, рожденная коровой. Одна-одинешенька в целом мире. Как жестоко! Вот и миг незримого провала вашего проекта, Афина.
— Ошибаетесь, госпожа Роуз. Это — миг его славы. Способность проявлять родственные чувства к существу, генетически неродственному — признак нахождения на самой высокой ступени морально-этического развития. Это значит, что мы сумеем, в конечном итоге, построить общество, где человек человеку — сестра… Понимаете меня?
Выходя из приемного зала сенаторана Анна Роуз сразу заметила невысокую девушку-подростка, навстречу которой побежала Аделаида.
— Извините, дамы, но мне необходимо на это взглянуть, — она оставила своих спутниц и приблизилась к детям.
— Ну что, как всё прошло? Ты прочитала стишок? — спрашивала Онки у своей маленькой подруги, заботливо поправляя белые банты у неё на голове.
— Она разговаривала со мной… — загадочным шепотом сообщила ей Ада, привстав на цыпочки, чтобы Онки было лучше слышно.
— Ух ты, обалдеть! Не страшно было?
— А зачем меня бояться, я же не зверь какой? — подобрав для этого случая самую приветливую из своих улыбок, обратилась к девочкам возникшая подле них сенаторана Роуз.
От неожиданности Онки прижала Аделаиду к себе, и этот жест, невольный, инстинктивный, сразу выдал незаметную на первый взгляд глубину отношений между девочками, ведь в случае опасности живое существо всегда стремиться защитить тех, кого ощущает самыми близкими.
Анна Роуз почувствовала неловкость. Улыбка медленно растворялась на лице сенатораны, пока она разглядывала Онки; та, гладя по головке обнимающую её Аду, решительно подняла на представительницу власти взгляд, вопросительный, с легким оттенком недовольства — кто посмел вторгнуться в нерушимый союз двух сестер?
— Вы немного напугали нас, — сказала Онки. Она отвела глаза и с любопытством посмотрела куда-то за спину Анны Роуз — у противоположной стены широкого коридора, стараясь оставаться незаметными, прохаживались туда-сюда две девушки в черных костюмах, — мы тоже не звери, но вы же ходите повсюду в сопровождении охраны, — добавила она.
— Ты очень внимательная девочка, — заметила ей сенаторана, — дело в том, что я должна вести себя в соответствии с занимаемым постом. Есть определенные предписания для властей. Мне обязательно иметь личную охрану.
Аделаида и Онки жадно разглядывали девушек у противоположной стены.
— Думаешь, они вооружены? — шепотом спросила малышка.
— Уверена, просто оружие у них хорошо замаскировано, — так же тихо ответила ей Онки.
— Твоя маленькая воспитанница называет тебя сестрой, — продолжала сенаторана Роуз, — расскажите, пожалуйста, мне об этом более подробно, вы так играете?
— Да, — ответила Онки, — это что-то вроде ролевой игры, правда, не мы её придумали, мне рассказал о ней один мальчик… Она помогает нам не чувствовать себя одинокими, мы ведь знаем, что появились на свет в рамках специального проекта, знаем, что у нас нет родителей, и вообще никаких родственников нет, знаем, что каждый из нас возник в ходе случайного слияния двух здоровых гамет. Вот у вас есть власть, госпожа Роуз, почему вы не сделаете так, чтобы нас, искусственно выводимых, как-нибудь метили, соседние эмбрионы, скажем, или эмбрионы из яйцеклеток одной женщины… Чтобы у нас было хоть какое-то подобие родства между собой, условные ниточки, связывающие нас друг с другом.
— К сожалению, нет у меня такой власти, — задумчиво произнесла сенаторана, — я могу только проголосовать «за» или «против» данного проекта, вон, видишь ту женщину с рыжими волосами, — она указала взглядом на раскрытые двери приемного зала, возле которых стояли Элен Гилберт, Аманда Крис, её замы и Афина Тьюри, — это — руководитель проекта, я обязательно передам ей твои пожелания… Ты, кстати, получила приглашение на официальную беседу для старших воспитанников?
— Не знаю. Я пока не распечатывала конверт. Кроме того, какое теперь это имеет значение, если вы уже разговариваете со мной?
— Что правда, то правда. Спасибо, что ответила на мои вопросы.
Аманда Крис отделилась от своих сопровождающих и подошла к сенаторане Роуз и детям.
— Мне нравится эта девочка, — сказала Анна, обращаясь непосредственно к директриссе так, как будто бы воспитанниц уже не было здесь, — кто она?
Твердый звонкий голосок заставил обеих солидных дам на него обернуться.
— Меня зовут Онки Сакайо, госпожа Роуз. Запомните, пожалуйста.
Несколько дней спустя после посещения высокопоставленными особами образовательно-воспитательной зоны Норд, прибираясь у себя на письменном столе, она нашла тот самый белый нераспечатанный конверт, в котором могло содержаться приглашение на пресловутую официальную беседу для подростков. Так и не раскрыв, Онки скомкала его и выбросила в мусорную корзину.
Малколм, разумеется, не собирался ни в чём сознаваться — цветные модные галстуки, шейные платки, которых у него был полный шкаф, словно дивные тропические бабочки, каждое утро, сменяя друг друга и, казалось, не повторяясь, появлялись при белом цветке воротничка его ученической рубашки. Слухи слухами, но, как говорится, не пойман — не вор.
Мидж ушла в армию, а Белка, чей авторитет был не настолько высок, своими притязаниями не смогла отпугнуть всех претенденток на сердце красавца Малколма, и самые решительные из них частенько дарили ему плюшевые игрушки — они успели заполонить почти всю комнату юноши — приглашали его на танцы или водили в «ресторан» — так шутливо называли воспитанники детское кафе с мороженым, пышками и лимонадом на территории Норда — поскольку выходить за ворота без специальной увольнительной карточки категорически запрещалось, это кафе и собственный нордовский небольшой кинозал были самыми популярными местами романтических свиданий старшеклассников.
Онки безумно стыдилась своей новоприобретенной привычки — думать о Малколме перед сном — она считала это вполне естественное следствие наступления переходного возраста непростительной слабостью и всячески пыталась побороть. «Настырные гормоны пытаются диктовать мне свои условия? Вот уж — дудки!» Но чем больше усилий она прикладывала к такому странному перетягиванию каната, тем хуже у неё выходило. Разумеется, Онки ни с кем не делилась своими переживаниями и не предпринимала каких-либо попыток сблизиться с Малколмом, ей пока этого не требовалось, вполне достаточным казалось снова и снова разглядывать в подробностях случайную, но поразительно четкую фотографию в памяти: яркий свет из ворот гаража бесцеремонно вырывает из полумрака тело юноши, нежное, ослепительное; в наготе есть какая-то беззащитность, обезоруживающая, обескураживающая, её невозможно судить, оценивать, во всяком случае сразу, в тот миг, когда видишь, можно только раскрыть глаза — ещё шире, так широко и резко, что щеточки-ресницы невзначай кольнут подбровья — и смотреть, жадно, неистово, во все глаза…
В один из дней Малколм сам подошёл к Онки в столовой.
— Это правда, что у тебя уровень А по точным наукам?
— Вечно ты мешаешь мне есть, — буркнула Онки недовольно, отодвигая миску с салатом, — у меня, вообще говоря, уровень А по всем предметам, а почему ты спрашиваешь?
— Я… — Малколм покаянно понурил свою стильно убранную голову, — у меня… короче… проблемы… я по математике едва дотягиваю до уровня G, меня перевели в группу для малышей, сижу там, как дурак, с двенадцатилетними, да и то ни черта не понимаю… Мне нужна твоя помощь, Онки. Позанимайся со мной, пожалуйста…
— С какой радости? — осведомилась она пренебрежительно, — в Норде как в джунглях, естественный отбор, здесь каждый сам за себя, не можешь — иди мести улицы или торговать в супермаркет.
Её слова прозвучали жёстко — словно прокатилась по асфальту пустая жестяная банка.
— Но …ведь Рите же ты помогаешь? — робко заметил Малколм.
Онки подняла на него непонимающий взгляд.
— Рита — моя лучшая подруга. Кроме того, помощь я ей оказываю относительную, так, отвечу на пару вопросов, в репетиторы к ней я не нанималась.
Малколм так и стоял потупившись. Он молчал, но не уходил, Онки выжидающе барабанила по столу пальцами — говори, дескать, уже что-нибудь, или вали, чего встал?
— Рита подруга… Ну а я?
Он взглянул на неё как-то по-особенному, просительно и в тоже время многообещающе; в этом взгляде соединились его подкупающая, тешущая самолюбие слабость перед нею, потребность в помощи, и тайная власть, о которой он, вероятно, мог догадываться; должно быть, это было излюбленным его оружием — так смотреть, и, скорее всего, мало кому удавалось перед ним устоять…
Онки удивилась.
— Ты? Не знаю… Мы слишком мало знакомы, — она сохранила безразличный тон, но взгляд Малколма взволновал её — выстрел Амура, невидимая стрела, пущенная точно в цель. Он не мог быть уверен в том, что попал, но природная интуиция подсказывала: если повторить попытку, это вполне может произойти…
Малколм опустил свои длинные ресницы и снова поднял их; в его взгляде, будто в некой мифической субстанции перемешанной этим движением, что-то неуловимо переменилось; да, такие глаза как у него, загадочные, большие, аквамариновые, воистину могут стать оружием пострашнее термоядерной бомбы: одним взглядом способны они хоть разрушить, хоть воссоздать великую империю, хоть начать, хоть остановить войну — стоит только взглянуть в глаза нужному человеку, с этой опиумной нежностью, с этим лукавым обещанием всех земных блаженств за проданную душу…
Онки почувствовала себя не в своей тарелке; она отвела взгляд, но он как назло тут же уперся в узелок сиреневого галстука, потом скользнул по стройной шейке Малколма с едва заметным бугорком кадыка, по его точеному подбородку, скуле, остановился и чуточку задержался возле губ.
— Ладно, хрен с тобой, — грубовато подытожила Онки, — только у меня есть несколько условий.
— Как скажешь, так и будет.
— Так вот… Первое — заниматься мы будем по вечерам, больше времени у меня нет, потому придется немного потеснить разного рода потехи, — она красноречиво взглянула на него, — ты меня понял, я надеюсь, второе — мы будем говорить только о математике, и больше ни о чём, ни одного лишнего слова, ясно?
Малколм кивнул.
— И, наконец, последнее, но самое главное условие: не предлагать мне никакой награды. Я всё равно ничего не возьму. Мы договорились? Если да, то жди меня сегодня около семи в детском кафе, заказ оплачиваем пополам.
В это время к столику приблизился Саймон Сайгон. Ни Онки, ни Малколм прежде не замечали его — вполне возможно, что он давно уже стоял в стороне и наблюдал за ними — тихо, вдумчиво — и они оба — два силуэта — жили какой-то отдельной жизнью в непостижимом мире его воображения, двигались, отражаясь, словно в стеклянном ёлочном украшении, в глянцевой поверхности его крупных зрачков.
— Идем уже, а то ты опять опоздаешь на занятия… Горе мне с тобой, — посетовал Саймон с забавной в его лета важностью.
— Ой, да, совсем забыл. У меня же семинар по отечественной литературе… — с очаровательным удивлением спохватился Малколм, так, будто бы он никогда прежде ни о чем подобном не слыхивал, и оно его настолько мало волнует, что вообще не понятно, зачем при нём это упоминают.
— И ты ничего не прочитал, — немилосердно констатировал Саймон, — у него одни девчонки на уме, — пояснил он, обращаясь уже к Онки, — а ты что, тоже записалась в отряд его почитательниц? Поздравляю! Ты тысяча там… какая-то в списке, то есть первая от конца.
Онки немало удивило, что даже давешняя оплеуха не смогла отбить у этого странного мальчишки охоту говорит ей колкости. Но, надо отдать должное, меткие, поразительно точно ведь формулирует, гад, и не по годам много видит.
Демонстративно проигнорировав нелестное замечание, и намеренно глядя поверх русой головки Саймона, она обратилась к Малколму:
— С таким отношением к учебе далеко не уедешь.
Затем она, по-прежнему избегая смотреть в сторону Саймона, взглянула на часы и произнесла подчеркнуто деловито:
— Мне пора. Моё время, прошу заметить, дорого стоит.
И пошла прочь, чувствуя на своей спине неотрывные взгляды: недоуменный — Малколма, и спокойный, немного насмешливый — она была в этом абсолютно уверена — Сайгона…
И почему только её так и подмывает в его присутствии вести себя порой до смешного неестественно, что-то изображать, кидать понты, лезть вон из кожи? Кто он вообще? Что он такое?
ГЛАВА 5
К началу весны всеми доступными средствами: подтягиваниями на перекладине, употреблением минерального комплекса, украденного в кабинете медицинского сопровождения, и — да, да! — каждодневными утренними молитвами: просыпаясь заранее Онки вставала на колени возле кровати и шепотом обращалась неведомо к кому — ей удалось-таки выжать из своего организма ещё два несчастных сантиметра.
«Ну, пожалуйста, ну чего вам стоит, не знаю уж, кто вы там, феи, которые по ночам прилетают к детям и прикасаются к ним, чтобы они росли, росто-боги, осыпающие малышей невидимой волшебной пыльцой, или просто бездушные гормоны у меня в крови, я вас очень прошу, помогите мне, я так хочу вырасти…»
Холодный пол хищно вонзался в острые коленки Онки, она стояла так до боли, до ощущения покалывания в затекших членах, сложив ладони перед грудью в трогательном молитвенном жесте. В высокое окно заглядывала луна, поворачивая то одной, то другой щекой свое меланхолично-бледное лицо, но она, к сожалению, ничем не могла помочь босой девчонке в длинной ночнушке в мелкий голубой горошек.
— Сакайо, сто семьдесят ровно, — спортивная руководительница по своему обыкновению подтрунивала над воспитанницами, — не кисни, — она грубовато хлопнула девчонку по плечу, — армейские штаны всегда закатать можно, беда если коротки — враг сразу узнает нашу стратегическую тайну — носки в вооруженных силах белые… Ха-ха-ха!
Несколько девчонок подхватило её гортанный гогот.
Онки терпеть не могла эту самодовольную накачанную девицу, которая считала, что хорошая физическая форма — главное достоинство человека. Но, надо отдать должное, за своим телом она действительно следила: крупные — будто тучи — бицепсы туго натягивали рукава расстегнутой спортивной кофты, короткий облегающий топ не скрывал живота — пожалуй, таким прессом — «кубиками» — не так уж грешно кичиться…
— Да иди ты, — за все годы измерения роста и этих постоянных шуточек Онки огрызнулась впервые, достало, что называется.
Она повернулась и, глядя прямо в небольшие раскосые глаза спортсменки, единым духом выпалила:
— Я не виновата, что у меня такой рост, это генетика, мне просто не повезло; я не вписываюсь в ваши дурацкие стандарты, но это не значит, что я хуже, и ещё: я не пойду в армию, вообще никогда, я не ты, у меня есть мозги, я буду учиться в университете — в генеральном штабе такие нужнее, чем в качестве пушечного мяса…
Она спустилась с резиновой платформы ростомера и, не оглядываясь, пошла к своему шкафчику. Оторопевшая силачка смотрела ей вслед: никто ещё не отваживался так грубо ей отвечать, хотя она сама на правах старшей за малейшую проявленную слабость поливала девчонок грязью, гоняла их до седьмого пота, не делая никому поблажек, — в спортивном училище, а затем и в армии, ей внушали, что железная воля воспитывается только постоянными унижениями, и в своей педагогической практике она неотступно следовала этой формуле. Но сейчас, неожиданно столкнувшись с неприкрытым протестом, она не сумела повести себя верным образом: сдержаться, чтобы не уронить своё тренерское достоинство — ей в этом году стукнуло двадцать, она недавно только вернулась из армии и сама была почти девчонка.
— Ну-ну, — недобро процедила она вслед воспитаннице, во рту у которой только что обнаружился остренький язычок, — учи уроки усерднее, лупоглазая. Только учти — мальчики на ботанов не смотрят.
«Плюс один враг…» — с лёгкой досадой подумала Онки.
Покуда их старшие товарищи сидели за столиком голова к голове склонившись над учебником алгебры, Саймон Сайгон и Аделаида обычно либо играли во что-нибудь (им разрешалось побегать около кафе, далеко, разумеется от него не отходя), либо сидели и занимались каждый своим делом: Ада раскрашивала в альбоме военные самолеты, а Саймон, водя пальчиком по строчкам и бормоча себе под нос, читал детскую книжку.
Частые встречи постепенно примирили Онки и маленького воспитанника Малколма: их отношения стали гораздо ровнее, и, перестав непрерывно обмениваться шпильками, оба они заметили, что испытывают друг к другу отнюдь не неприязнь, а скорее напротив, симпатию, но какую-то особенную, колкую, как пузырьки лимонада, тревожную, готовую в любую минуту снова стать враждой…
— Прости, что я ударила тебя тогда, понимаешь… я… Я не хотела совсем… Просто так много всего произошло…
— Понятно, — серьезно ответил Саймон, — та оплеуха была адресована не мне.
— Вроде того, — Онки потупилась; до сих пор, вспоминая об этом, она чувствовала жгучий стыд.
— Забудем, — великодушно сказал мальчик, — я готов простить тебя.
Онки внимательно на него посмотрела; ему теперь шел девятый год, он был мал, но строение лица, форма глаз, благородное тонкокостное сложение, его запястье можно было легко обхватить двумя пальцами, — все это уже предвещало, что через несколько лет, когда он превратится из ребенка в юношу, то станет так же хорош как Малколм, если не красивее его… Но Онки Сакайо в свои четырнадцать видеть так далеко вперед пока ещё не могла; детям не свойственно заглядывать в будущее с той пристрастностью, с которой делают это взрослые, и потому живут они гораздо счастливее.
Зимы в Новой Атлантиде стояли из года в год теплые, влажные, ветреные. Снега почти не случалось, ну а если уж он выпадал, то держался мало — пронесла искристая белая комета над землею свой мягкий хвост и пропала.
Каждый малюсенький шажок на пути к знаниям давался Малколму тяжело, как скалолазу метр отвесной кручи — и малышам приходилось подогу сидеть в детском кафе в ожидании своих опекунов — за время занятия они успевали порядком заскучать. На улицу выходить не хотелось — слякотные зимние дни совершенно не располагали к прогулкам. Ада частенько дремала, положив голову на руки, а Саймон прислушивался от нечего делать к тому, что говорила Онки. Учитель из неё был никудышный: она порой выходила из себя, кричала на Малколма, обзывала его пнём, дубиной, идиотом, негодующе вращала глазами, раздувала ноздри, словно разгневанный бык — всячески выражала свое недовольство его успехами. А он только покорно опускал роскошные ресницы, склоняясь над тетрадкой, в которой аккуратным почерком выведено было очередное неверное решение элементарной, по мнению Онки, задачки и печально вздыхал…
— Ты слишком строга к нему, — как-то сказал ей Саймон наедине, — я никогда не видел, чтобы Малк плакал, но несколько дней назад… Я зашел к нему без предупреждения; а он… Он сидел за столом, подперев голову руками, над книгой, и плечи его вздрагивали…
— Ну, может, он ревел из-за какой-нибудь очередной девчонки, — отмахнулась Онки, — мало ли, а ты уже и меня сюда пришил…
— Нет, — возразил Саймон, разочарованный её несерьезностью, — не может быть, чтобы из-за девчонки. У него их столько, что половину из пулемета перестреляй, он и не заметит… Это из-за твоих уроков. Мне кажется, что его задевают некоторые твои высказывания.
— Какие, например?
— Ну, скажем, «тупица»… или «идиот»… Кому приятно?
Онки пожала плечами.
— Но ведь он сам виноват. Не знает математики. Уважение нужно заслужить.
— А мне кажется, что каждый человек достоин его по определению.
Саймон смотрел на неё пока ещё снизу-вверх своими большими глянцевыми глазами, в каждом из которых она отражалась, словно в сферическом зеркале. Две миниатюрные ювелирно точные копии Онки Сакайо. Ей пришла мысль, что, пожалуй, он прав: унижая Малколма она поступает почти так же, как поступала с нею спортивная руководительница, а в этом действительно нет ничего хорошего…
И вдруг пошел снег. Это было удивительно, ведь по календарю уже началась весна, да и снежинки падали необыкновенно крупные, медлительные, узорчатые. Одна из них опустилась на ресницы Саймона и долго не таяла — словно белая птица среди тёмных ветвей…
— Снежинки — это фрактальные структуры, — деловито сказала Онки, — они очень сложны, но в схеме их построения есть отчетливая закономерность — большое повторяется в малом. Словно вложенные друг в друга матрешки самые мелкие части, которые мы даже не в силах различить глазом, копируют более крупные. И получается такой красивый узор.
Саймон стер с лица несколько капель от растаявших снежинок и снова взглянул на Онки. Две её миниатюрные копии по-прежнему смотрели на неё из его расширившихся в сумерках зрачков словно из глубоких колодцев, большое повторялось в малом. Новая пышная снежинка опустилась на щеку мальчика и начала стремительно таять, разупорядочиваться, терять свою сложную фрактальную структуру, превращаясь в обычную воду. Волшебство исчезало на глазах.
Онки никогда в жизни ещё не делала ничего подобного; она несмело протянула руку и осторожно стерла с нежной прохладной щеки получившуюся капельку. Своим движением она погладила кожу Саймона, чуть дольше, чем требовалось, задержав на ней палец — странно было прикасаться к нему — приятно и боязно — совсем не так как к Аде, когда случалось стирать с её лица слезы, варенье или чернила — ведь он был мальчик — существо из другого непознанного загадочного мира, и это прикосновение стало первой в жизни Онки попыткой нарушить границу этого мира, и пусть ненадолго, всего на миг, заглянуть внутрь…
А Саймон будто бы даже не удивился. Он принял это прикосновение, столь впечатлившее Онки, как нечто вполне закономерное, правильное, логичное. Точно предчувствовал с самого начала, что однажды оно случится… Этому мальчику от рождения дано было необыкновенное тонкое интуитивное понимание жизни, непроросшим семенем лежало в глубине его детской души мудрое смирение перед незыблемыми вселенскими законами, согласно которым, рано или поздно всякое живое существо начинает влечь к его противоположности, и эта самая противоположность для него, Саймона, может найтись нежданно-негаданно в ком угодно, в том числе и в Онки Сакайо, а для неё — в нём.
Он только улыбнулся, почти незаметно, но очень ласково — инстинкт безошибочно подсказал ему, что именно так следует выразить в данной ситуации свое одобрение. Онки, словно опомнившись, немного резче, чем следовало бы, убрала руку. Граница между мирами дала небольшую трещину, начала потихоньку расходиться, допуская один мир внутрь другого, соединяя их, смешивая — в таком случае двоим не остается ничего иного, кроме как продолжать путь, углубляясь в неведомое с каждым шагом все больше и больше. Но ни тот, ни другой пока не были к этому готовы.
Афина Тьюри в полной мере соответствовала идеалу преданного служителя науки — «самоотверженная и бесстрашная искательница истины», если цитировать посвященные ей строки таблоидов — никому не пришло бы в голову сомневаться в этом — ведь для первых эмбрионов, выращенных в теле коровы по программе «Искусственный эндометрий» она взяла не чей-нибудь, а свой собственный генетический материал, себе первой ввела в вену никому тогда ещё не известный и непредсказуемый препарат — словом, эта женщина совершила немало беспримерных научных подвигов. Но, как говорится, никто из нас не совершенен. И Афина Тьюри не была начисто лишена человеческих слабостей да пороков. Слава, которую принес ей «Пролифик», открыла перед нею пути воплощения всех возможных земных желаний. Афина любила вкусную еду, коллекционные вина, молоденьких юношей, имела деньги и всё ещё оставалась хороша собою — высокая, чуть полноватая, с крупными чертами лица и повадками императрицы — она не видела причин в чем-либо себе отказывать. Жизнь её вступила сейчас в ту ослепительную пору, проживая которую, кажешься себе едва ли не божеством, обладая всем, невероятно трудно не выпустить почву из ног…
Во время осмотра детских общежитий образовательно-воспитательной зоны Норд краем глаза Афина Тьюри заметила Малколма, пересекающего двор с учебником и тетрадками под мышкой — он как всегда опаздывал на занятия: бежал, розовощекий, запыхавшийся — и чуть не столкнулся с одной из идущих немного на отшибе охранниц делегации.
Бровь Афины эффектно изогнулась и слегка приподнялась.
— Прошу вас, скажите, чтобы этот воспитанник подошел сюда, — вполголоса обратилась она к Аманде Крис.
— Как тебя зовут, детка?
— Малколм… — оробевший, он стоял перед нею, прижимая к груди свои тетрадки.
— Очень красивое имя, — Афина улыбнулась плотоядно и, окинув юношу с головы до ног придирчивым взглядом знатока и ценителя, нашла, что он весьма хорош. К мужскому полу она относилась примерно так же, как к изысканной еде или к дорогим напиткам: обычно она подолгу смотрела на просвет выдержанное вино в тонком бокале, любуясь игрой глубоких оттенков пурпура, прежде чем попробовать, растягивала удовольствие, предвкушая первый глоток…
— Спасибо, — пробормотал Малколм.
Афина протянула руку и, взяв его за подбородок, слегка повернула лицо юноши к свету.
— Хорош, — заключила она всё с той же с алчной улыбкой, обращаясь к своим спутницам, — не правда ли?
Сенатораны и директрисса Аманда Крис оставались на своих местах, чуть поодаль — они находили поведение госпожи Тьюри не слишком приличным, но, обладая безупречным светским тактом, ничего не собирались ей говорить.
— Можешь идти, — Афина отпустила Малколма и вернулась к своему обществу, — Так на чем мы остановились, прошу вас, госпожа Крис, продолжайте. Вы говорили о технологиях автоматизированного воспитания…
— Да, пожалуйста, — проглотив неприятный осадок, отозвалась директрисса, — в нашем детском общежитии в каждой комнате работает электронная система контроля режима дня…
После визита высокопоставленных гостей в Норд прошло немало времени — все успели уже позабыть о нём. Законопроект о повсеместном распространении центров альтернативной репродукции человека был отклонен сенатом и направлен в Народный Совет на доработку. Это на какое-то время позволило снизить напряжение в обществе; активистки движения в защиту суррогатного материнства, выступающие против сокращения количества рабочих мест, немного поутихли, значительно уменьшилось число забастовок и уличных беспорядков. Но тем не менее, это была лишь отсрочка, и большинство политиков ясно это понимало, существуют социальные процессы, которые происходят сами по себе, как течение реки, которое рано или поздно начинает подмывать плотину, в таких случаях власть практически бессильна; она может только выиграть время, дабы успеть аккуратно эту плотину разобрать — позволить истории идти своим чередом без значительных разрушений.
Так случилось, что Малколм, избалованный повышенным вниманием со стороны противоположного пола, обнаружив перед дверью своей комнаты огромную корзину цветов, не особенно удивился. Непривычный к логическим рассуждениям, он не сразу пришел к мысли, что роскошь присланного ему подарка совершенно не соответствует положению воспитанниц Норда и даже наставниц-студенток. Водрузив корзину на стол, он так бы и забыл о ней, если бы из пышной разнородной листвы не выпала скромная карточка с золотым теснением.
«Одна из бесчисленных почитательниц вашей красоты желала бы поужинать с вами на уютной террасе ресторана „Эльсоль“ в субботу. Около восьми часов вечера у главных ворот вас будет ждать лимузин, если, конечно, вы окажете мне честь своим положительным ответом.»
Текст был напечатан в карточке красивым готическим шрифтом, но, как ни странно, на ней не обнаружилось никакого намека на подпись — ни загадочных инициалов, ни интригующего псевдонима, ни контактных данных — вообще ничего.
«Как с того света…» — подумал Малколм. Несколько мгновений он повертел послание в руках, словно надеясь, что между строк или на глянцевой безупречно белой обратной стороне проступят вдруг нанесенные какими-нибудь волшебными чернилами опознавательные знаки таинственной отправительницы. Потом положил карточку на стол. Смятение, поселенное в его душе неожиданным знаком внимания, улеглось не сразу — ведь ещё никто и никогда не приглашал его в ресторан, находящийся в Атлантсбурге, ведь воспитанникам, чтобы очутиться за воротами, всегда требуется увольнительная карточка, которую выдают неохотно и не всем подряд… Да не просто в какой-нибудь ресторан, а в «Эльсоль»! Малколм слышал, что это одно из самых фешенебельных мест, и даже не всякий может туда попасть — столики заказываются заранее и на входе стоит контроль — в «Эльсоль» иногда захаживают очень важные персоны…
На всякий случай Малколм решил показать загадочное послание Онки — вот уж кто умный, и уж точно сможет дать совет, как верно на него отреагировать.
— Хм… И нигде не стоит подпись? — она задумчиво повертела карточку в руках, — в цветах точно не было больше никаких бумажек?
— Нет вроде… — ответил юноша, — но цветы судя по всему очень дорогие, — добавил он застенчиво.
— Ясен пень, не ромашек на обочине нарвала, — буркнула Онки, — простые девчонки по таким местам пацанов не таскают, тут важная птица перышко обронила…
— И что мне теперь делать? — доверчиво раскрыв свои большие обольстительные глаза спросил Малколм; с трогательной беспомощностью он подался лицом навстречу Онки.
Она взглянула на него с недоумением.
— Ты думаешь согласиться? — спросила девушка таким тоном, словно это самое согласие было чем-то вроде преступления, и взглянула на Малколма почти гневно.
— Я…Я не знаю…
— Ну тогда ты и впрямь дубина. По жизни. Либо тебе нравится продаваться. Одно из двух. Ведь это, — она пренебрежительно швырнула открытку на столик, — приглашение в тот же самый гараж, только подороже. Неужели тебе не ясно?
— Ну, может, ты и права… — робко согласился Малколм, — но ведь интересно же… кто…
— Да пусть хоть сама леди Президент! — воскликнула Онки, не скрывая негодования, — Ты ведь даже примерно не знаешь, кто она? …А по твоему заинтригованному виду, по этому томному подрагиванию ресничек — уже становится понятно, что ты… готов… Неужели у тебя совсем ничего в душе не шевелится, когда ты принимаешь ухаживания от девушек? Неужели правду говорят про тебя, что ты никому не отказываешь?
Малколм смущенно опустил голову, пальцы его бестолковыми взволнованными движениями гладили поверхность столика.
— Нет у тебя стыда, — гневно завершила свою тираду Онки.
— Ну, хочешь, я не пойду… — прошептал он виновато. Тонкая красивая рука юноши соскользнула со стола и нервно притронулась в нежной мочке уха.
— Причем тут я?! — с сердитым недоумением осведомилась девушка, — Мне наплевать, попрешься ты в этот валютный гараж или нет, я просто выразила свое мнение, — она подняла на него взгляд, твердый и ясный, как ледяные поля, — и не нужно пытаться переложить на меня ответственность за своё решение, хорошо?
Малколм покорно кивнул.
— Ну тогда я, наверное, никуда не пойду…
К столику приблизился Саймон.
— И куда это ты не хочешь идти? — требовательно спросил он, — О чем речь?
— Ты маленький, тебе ещё не положено знать такие вещи, — сурово отчеканила Онки.
Саймон взглянул на неё с обидой. Ему вспомнилась та минута, во время снегопада, когда Онки погладила его по щеке — мальчику показалось, что тогда между ними произошло нечто особенное, и теперь уже нельзя расторгнуть возникшую между ними особенную волшебную близость…
— Мне, пожалуй, пора, — она взглянула на часы, — нужно встретить Аду после музыки. Я ей обещала.
— Ну, Малки, ну скажи, про что вы с ней говорили, — накинулся Саймон на своего старшего товарища, как только Онки ушла, — клянусь, никому не разболтаю. Ты же меня знаешь.
— Я правда не могу сказать, Сэмми, — Малколм грустно склонил голову, — это действительно очень взрослые вопросы…
— Неприличные? — жадно спросил малыш.
— Не приставай, — ответил Малколм почти резко, — ты уже достаточно большой, чтобы понимать: просить пересказать чужой разговор наедине — не слишком красивый поступок.
Он встал из-за стола и направился к выходу из кафетерия. Саймон несколько мгновений стоял на месте, провожая его глазами, а потом засеменил следом. Странная мысль пришла в его детскую головку: раз они не говорят мне, то, значит, у них свидание, любовь, поцелуи — ведь именно такие вещи обычно скрывают от младших… И идя позади Малколма, глядя ему в спину, Саймон почти ненавидел его, сам не понимая за что…
Онки знала, что матери у нее нет. Знала так же верно, как про количество пальцев на руках и ногах, про закон тяготения, про звёзды — никакие они не искорки божественного костра, а раскаленные газовые шары, в недрах которых идут термоядерные реакции. Впрочем, может, у Всетворящей такой огромный был костер…
Но изначальное и твердое знание об отсутствии матери, не мешало Онки иногда видеть её во сне. Обычно она появлялась ненадолго, и не конкретным персонажем, а лишь смутным ощущением присутствия, большой тенью, заслоняющей всё небо, бесплотным существом, устращающе могущественным и в тоже время нежным…
Эти сны, туманные, фантасмагорические, наводили Онки на определенные и весьма конкретные размышления: ведь есть, наверное, где-то женщины — доноры тех яйцеклеток, что были использованы для зачатия детей из экспериментальной программы «Искусственный эндометрий». Хотя, скорее всего, были использованы замороженные ооциты от давно умерших, подписавших при жизни своё согласие на использование генетического материала в научных целях — так всегда поступают ученые, когда не хотят затрагивать морально-этические нормы. И поэтому они, воспитанники Норда, порождение самой науки и светлого коммунистического будущего, где все будет общим, даже дети, обречены программой «Искусственный эндометрий» на изначальное и абсолютное сиротство — никто из них никогда не сможет взглянуть в глаза своим родителям, поблагодарить их или осудить…
Афина Тьюри… Автор проекта, создательница машины для массового производства сирот — гений, почти богиня… Онки почему-то никогда не чувствовала благодарности за своё существование. А если уж Афина и представлялась ей в образе могущественной богини, то это всегда была только Кали — кровавая властительница жизни и смерти, карающее женское начало бытия. Нет, не любовь внушала общая мать умной сероглазой девочке и даже не страх… Другое сложное чувство, состоящее из многих противоречивых порывов, испытывала к ней Онки Сакайо — но было в этом критичном совершенно недетском чувстве все-таки больше отторжения, чем тепла.
Белку тревожило, что Малколм в последнее время стал уделять свиданиям с нею все меньше и меньше времени, но она не подавала вида — лидерская хулиганская гордость не позволяла ей этого, теперь ведь она полноправно заправляла нордовским «казино»… Не без труда укрепив свой авторитет среди «неправильных» воспитанниц, Белка заняла в их среде почти такое же прочное положение, какое занимала некогда Мидж — а где видано, чтобы настоящая пацанка хоть бровь наморщила из-за мальчишки? К ним следует относиться как к вещам: есть дела поважнее — не замечай, надоело — выброси.
На днях от Мидж Белке пришло письмо; она сообщала, что срок пребывания в учебке подошел к концу и теперь со дня на день на военно-транспортном самолете их должны перебросить на фронт, кроме того, Мидж интересовалась, как поживает Малколм, не изменяет ли он ей, «если изменяет — побей» значилось на вчетверо свернутом листке клеточной бумаги, второпях исписанном шариковой ручкой.
Отложив письмо, Белка долго сидела, задумавшись, на крыше брошенного за гаражами проржавевшего автомобиля. Что-то кольнуло её в сердце, когда она прочла слово «фронт» выведенное корявым почерком Мидж; пошел снег, мягкий и мокрый весенний снег, а она всё сидела, неторопливо покачивая длинными ногами в тяжелых берцах и думала…
Простая формула хулиганки: «если изменяет — побей» — ей впервые пришло в голову, что раз Малколм не сохранил верность Мидж, то он может так же запросто предать и её… Честность не выбирает лиц — человек либо порядочный со всеми, либо с легкостью обманет кого-угодно.
Она спрыгнула с автомобиля, оставив два больших следа на безупречно гладком свежем снежном покрове.
— Белка! — раздался за её спиной звонкий детский голосок.
От неожиданности она вздрогнула, и, досчитав про себя до трех, медленно обернулась — истинная пацанка не может позволить себе выглядеть испуганно.
Перед нею стоял Саймон Сайгон.
— Ты эээ… откуда здесь нарисовался? — с деланой небрежностью спросила Белка, поправляя заложенную за ухо папиросу, — ты ведь вроде как «мелочь на пристежке» у Малколма, так?
— Я должен сказать тебе одну вещь, — запрокинув головенку малыш без всякого страха глядел на огромную хулиганку в коже и заклепках.
Белка насторожилась.
— Валяй…
— Ты, наверное, знаешь, что Малк занимается математикой дополнительно.
— Ну, — Белка согласно кивнула.
— А ты знаешь — с кем? — эти слова в устах Саймона прозвучали совсем не по-детски многозначительно.
— Он сказал мне, что с одним другом…
— Так вот, — малыш победоносно вскинул носик, — друга этого зовут Онки Сакайо, они каждый день по вечерам встречаются в кафетерии, — выпалил он и улыбнулся с чувством глубокого удовлетворения содеянным.
Всеблагая свидетельница, Саймон не понимал, к чему это может привести.
За уютно светящимися электричеством окнами детского кафе клубился серым облаком вечер ранней весны, хмурый, ветреный, с мелкой моросью. И в глубине его, в густеющей мгле, стояла, зябко запахнувшись в свою косуху Белка. Она жадно вглядывалась в четкие скользящие тени, пока, наконец, не приметила двоих, сидящих там, в оранжевом квадрате, в тепле, склонившихся над чем-то и почти соприкасающихся головами…
«Это они».
— Здравствуй, Сакайо, — сказала Белка, угрожающе выступив из тьмы, навстречу выходящим из кафе ребятам.
— Здравствуй, — спокойно ответила Онки, моментально догадавшись, каким ветром принесло сюда эту девушку в коже и берцах, со стальным кастетом, которым она, как будто между прочим, поигрывала, с легким бряцаньем перебрасывая с пальца на палец тускло играющие в свете фонаря звенья.
— Я всё объясню, — Малколм сделал смелый шаг вперед, — мы тут просто занимались математикой…
— Отойди, мальчишка, — сказала Белка, грубо его оттолкнув, — я не с тобой разговариваю.
— Я могу сказать тебе то же самое, — произнесла Онки, стараясь не терять спокойствия.
Белка хмыкнула.
— Сакайо, мне не нравится, когда на моей территории топчутся чужие бараны, — проговорила Белка медленно, демонстративно играя цепью, — пока это только предупреждение, но если я ещё раз увижу хотя бы одного…
— Я продолжу наши занятия, — ответила Онки твердо, — а если ты не веришь, что в них нет ничего задевающего твои интересы, то это не мои проблемы.
— Хорошо же, — глаза Белки угрожающе сузились, — продолжишь, значит. Как будет тебе угодно, только тогда осторожнее ходи по вечерам тёмными улицами…
— Трусы нападают со спины, — с усмешкой заявила Онки.
— Хочешь поединок чести? — Белка красивым точным движением откинула красную прядь со лба.
Онки кивнула.
— Договоримся, — сказала Белка, мрачно кивнув в ответ. Она обвела глазами стоящих за спиной Онки детей.
— Здесь не время и не место.
— Прошу тебя, не нужно, — порывисто хватая Онки за руки, торопливо зашептал Малколм как только уверился, что Белка отошла далеко и уже не может слышать их, — она убьет тебя, я знаю, я видел не раз, они там обычно всегда дерутся до первой крови, но если «поединок чести»… Говорят, несколько лет назад было такое; девчонка крупно проигралась и стала подозревать другую в жульничестве во время игры, Мидж велела им решать дело поединком, и одна забила другую насмерть, случайно, разошлась слишком, а потом они все вместе пошли и вынесли тело за ограду, типа это она сама вышла и за воротами всё случилось…
— Я не мухлюю в карты и не беру чужого, — со спокойной улыбкой ответила Онки, — ты ведь хочешь, чтобы наши занятия продолжились? Вот, как говорится, и посмотрим, на чьей стороне Всемогущая.
Никто не знал, когда и кем установлена была в Норде традиция «поединков чести». Их правила в хулиганской среде передавались из уст в уста, от старших к младшим, и тайна эта ревностно охранялась от наставников и от непосвященных. Директрисса, разумеется, была в курсе, но за все время существования образовательной зоны ещё ни разу не удалось поймать за руку ни одну из участниц поединков. Места, лица и причины каждый раз менялись; наставникам доставалось обычно только стонущее тело в лазарете, которое на все вопросы неопределенно мотало перебинтованной головой.
Сам же «поединок» не представлял из себя ничего необычного. Это была банальная уличная драка один на один, только особенно жестокая. Всякий раз двое договаривались между собой до каких пор продолжаться будет борьба и когда будет объявлен победитель…
Онки Сакайо закрыла крышку компьютера у себя на столе и встала. Без пятнадцати шесть.
Белка, выходя из своей комнаты, в последний раз — на счастье — взглянула в зеркало около двери, привычным движением одернула не стесняющую движений ультракороткую кожаную юбку.
Над гаражами бушевало малиновое зарево заката. Снег казался синеватым, тихая прозрачность воздуха сладостно будоражила. С каждым вздохом прохладный воздух легко входил в молодую грудь, ровно стучало сердце. Онки Сакайо остановилась.
— Пришла, — сказала Белка, отделившись от темнеющего остова брошенного автомобиля, — молодец.
Она сделала несколько шагов навстречу сопернице. Снег тонко поскрипывал под широкими подошвами берцев.
— До первой крови? — спросила Онки.
Белка ответила легким движением головы. Звякнула стальная цепь у неё в руке, она размотала и бросила её в снег — при поединке запрещено было использовать любое оружие.
Онки разглядывала свою противницу внимательно: упрямую линию губ, лоб, волосы — первое правило любой драки — не присмотришься, не поймешь, откуда ждать первого удара — по краю сознания некстати промелькнула мысль: как же все-таки это глупо, стоять здесь им обеим, щурясь от напряжения, вглядываться друг в друга, чтобы не пропустить атаку — может, сейчас стоит просто сделать пару неосторожных шагов вперед, глядя в глаза, взять руку этой девушки и крепко её пожать?
Но Белка замахнулась…
Драка всегда представлялась Онки симфонией цвета: каждый удар — сгусток чего-то алого, летящий на неё — точно огненный снежок или комета. А когда удар уже нанесен — это чёрно-фиолетовое пятно: густая как битум, тупая, ленивая боль, которой не замечаешь, покуда продолжается бой…
Соперница оказалась намного сильнее. Онки почти поддалась отчаянию — её удары отлетали назад точно резиновые мячики от стены, а собственное тело сделалось уже тяжелым и мягким, налилось тягучей болевой смолой — по одному шагу она отдавала пространство, уворачиваясь от больших кулаков Белки…
— Остановитесь! Пожалуйста! Не нужно!
Над кладбищем ржавых автомобилей прокатился пронзительный возглас Малколма.
Он стоял на снежном холме в распахнутой куртке, разрумянившийся от быстрого бега, со взъерошенными волосами…
Девушки одновременно замерли, повернув головы в ту сторону, откуда донесся крик.
— Белочка, прошу тебя, — Малколм начал медленно спускаться с холма, приближаясь к ним, — я больше не буду ходить ни с кем, кроме тебя, я перестану заниматься математикой… Только не бей её…
— Мальчики не должны видеть поединок, — сурово отчеканила Белка, — пошел отсюда, не то сам огребешь.
Воспользовавшись паузой, она с демонстративным спокойствием достала папиросы и закурила.
— Я не уйду, пока вы не прекратите это безумие! — воскликнул Малколм и, бросившись к Белке, упал перед нею коленками в снег.
Онки стояла, не двигаясь с места, она чувствовала, как возбуждение драки оставляет её, и на смену ему — как всегда — приходит медленно наполняющая все члены — точно вода отсеки тонущего судна — боль…
— Это ещё что за фокусы, — с гневным удивлением осведомилась Белка, рывком поднимая Малколма с колен, — уж не влюбился ли ты в неё? Если это так, — она понизила голос до зловещего полушепота, и чуть склонилась, испытующе заглядывая в огромные испуганные глаза юноши, — тогда… я просто убью её…
Она швырнула Малколма обратно в снег и обернулась к Онки. Ей всё стало сразу ясно, как будто в полной темноте внезапно зажгли миллион ваттную лампочку. Она не могла больше думать о победе, это не имело уже никакого значения — нужно было просто деть куда-то неудержимую ярость отчаяния… Унять свою боль, причинив её другой.
Онки оставалось только защищаться. Интуиция подсказала ей: падать нельзя, любой ценой нужно удержаться на ногах, потому что для Белки больше не существует правил, и даже если соперница будет неподвижно лежать в снегу, она будет продолжать пинать её ногами по ребрам, покуда кровь не хлынет у неё изо рта…
Брюшной пресс у Белки точно панцирь — не пробьешь. Летом, когда она ходила с открытым животом, все старшеклассницы с завистью любовались слегка обозначившимися бороздками на коже, разделяющими бугорки брюшных мышц — пресс кубиками! — гордость любой девчонки… Онки Сакайо несколько раз попадала ногой Белке в живот, но она, казалось, даже не замечала, продолжала наступать, на ходу отбрасывая со лба алую, как струйка крови, прядь… Никогда в жизни Онки не было ещё страшно в драке. Всегда она почему-то была уверена, что всё кончится хорошо. Но именно теперь она почувствовала опасность. В рту появился привкус металла, ноги задрожали. Продолжая защищаться, она пятилась по направлению к дороге, втайне надеясь, что кто-нибудь пойдет мимо, хотя бы тётки из автомастерской — широкоплечие, румяные, громко хохочущие и матерящиеся…
Но голубоватая лента заснеженной дороги оставалась пуста. Вокруг раскидано было много гнутой арматуры и ржавого металла. Всё это лежало под белым покровом, держа на выступающих вверх концах снежные шапочки, точно пену мыла или шампанского. Онки споткнулась обо что-то и рухнула на колени. Нет!
Бросившись вперед, она толкнула Белку в ноги, и обе они очутились на снегу. Сцепившись, дерущиеся перекатывались, давя свежий снег, оставляя в нём глубокую, уродливую колею… Они и не заметили, что приближаются к склону довольно крутого холма, который раньше был попросту мусорной кучей.
— Осторожно! — истошно завопил Малколм.
Онки успела ухватиться за какую-то железку, и осталась лежать, прилепившись к страшному, почти отвесному склону, а Белка стремительно покатилась вниз, превратившись вдруг из грозного врага в жалкий черно-серый комочек.
— Всеблагая сохрани…
Подбежал Малколм, красивое личико его было белее снега.
В середине склона обнаружился почти незаметный выступ, вероятно, остов погибшего давным-давно автомобиля, глухо уткнувшись в него, тело Белки остановилось. Сначала оно лежало неподвижно — так же неподвижно стояли двое на вершине холма, только легкий ветерок теребил их выбившиеся в суете из-под шапок волосы. Потом девушка с трудом подняла голову…
— Живая… — облегченно выдохнули двое на холме..
— Тебе помочь? — без тени враждебности спросила Онки, глядя вниз. Другое важное правило драки — противник перестает быть противником, если ему неожиданно требуется помощь.
— Вали к чертям… — хрипло, с усилием проговорила Белка, — так уж и быть… тебе засчитывается победа…
— А я? — робко спросил Малколм.
— И ты вали… тем более вали… — было заметно, что Белка двигается, превозмогая сильную боль, но она уже поднялась на ноги и карабкалась по склону вверх, — призовой кубок должен быть при победителе… — добавила она, и, подняв на Малколма глаза, улыбнулась ему жестоко и жалко.
— Ты продолжишь с нею встречаться? — спросила Онки у Малколма, пока они шли вдоль длинного ряда гаражей. Она ничего не имела ввиду, это был риторический вопрос, просто чтобы не молчать. Случаются такие моменты, когда молчание кажется особенно невыносимым. Где-то там, позади, гордо перебарывая боль, ковыляла Белка.
— Я не знаю… — тихо ответил он.
— Ничего ты не знаешь! — почти рассердилась Онки, — как так можно! полное отсутствие ответственности за свою жизнь!
— Я и не должен ничего знать, — Малколм слегка повел плечом — невинный и кокетливый жест, — я же мужчина… Прежде они все решали за меня, и Мидж, и Белка… — он замолчал, а потом, загадочно взглянув на неё из-под бархатных лоскутков ресниц, продолжил, — ты что, не помнишь? По правилам, если поединок был из-за парня, он достается той, которая победила… То есть тебе…
— Мне? — удивилась Онки, — Да не надо мне такого счастья, я всего лишь хотела продолжить заниматься с тобой алгеброй. Ты хреново в ней шаришь, — она некоторое время молчала, отвернув голову, глядела поверх гаражей, где все ещё скалился закат, и потом добавила, как будто застыдившись, — кроме того, я и не победила. Ты видел сам, случайно все вышло, до победы мне было очень далеко. Побила бы меня Белка, как котенка, если бы не тот обрыв…
— Ты необыкновенная, Онки, — сказал Малколм, повернув к ней своё прекрасное лицо, — вот Мидж, например, если проигрывала в драке, всегда старалась как-нибудь оправдаться, реабилитироваться, хотя бы на словах, «кабы бы не та железка, о которую я споткнулась, то отделала бы я эту сучку так, что она бы не встала», а любую случайность, которая поспособствовала её победе, Мидж наоборот, приписывала на свой счет…
— Я просто не люблю ложь, ты же знаешь. И это не какая-то моя особенность, а самая настоящая норма. Оправдания — это та же ложь, только в более вредной и подлой форме. Они мешают признавать самого себя.
Когда ребята оказались на территории общежитий, навстречу им попалась та самая спортивная руководительница, с которой у Онки давеча вышла ссора.
Увидев, как «эта зубрила Сакайо» идет рядом с самым красивым парнем во всем Норде, она едва не раскрыла от удивления рот, и, утратив всю свою педагогическую деловитость, провожала парочку глазами.
— Ну, кто там говорил, будто мальчики на ботанов не смотрят? — с самодовольной ухмылкой бросила ей Онки, проходя мимо, — вот видишь, сказала она чуть тише Малколму, — я тоже не идеальна, и иногда использую случайности, чтобы эффектно отомстить.
ГЛАВА 6
Ни на следующий день, ни через день Белка не появилась ни на одном занятии. У наставников это не вызвало особого беспокойства — она часто прогуливала — но играющие девчонки, не обнаружив ее в излюбленном закутке среди гаражей, заподозрили неладное.
— Может, она заболела?
— С таким-то железным организмом? Вряд ли…
— Подралась?..
— Да с кем? Нет среди нас таких, кто мог бы хоть сколько-нибудь серьезно ее отметелить…
— Надо Малки спросить. Они же вроде как встречаются…
— Кто знает, где он может быть?
Девчонки гурьбой направились к детскому кафе, где за столиком Онки в очередной раз тыкала Малколма его хорошеньким носиком в неверно решенное уравнение и ворчала:
— Уууу..ну вот опять! Навязался мне, сел как черт на поповскую шею, и не скинешь, и нести не в мочь… Взялась на свою голову готовить тебя к контрольной…
Картежницы окружили столик. Какое-то время они постояли, с любопытством наблюдая за ходом урока.
— Белка пропала, — сказала одна из них.
— Как пропала? Куда? — Онки встревоженно подняла голову. Ей моментально вспомнилось как со страшной быстротой катилась, поднимая снежную пыль, по склону вниз одетая в кожу девушка с ярким пятном красных волос…
Все посмотрели на Малколма. Он сидел потупившись и делал вид, что ищет в учебнике математики какую-то формулу.
— Закрой книгу, — велела ему Онки, — они пришли, кажется, к тебе.
— Я звонил ей вчера и сегодня, — пробормотал Малколм как будто оправдываясь, — она не ответила, но меня это не встревожило, ведь и раньше такое бывало, она сама всегда решала, когда хочет меня видеть, а когда нет…
— Нужно сходить к ней в комнату, — объявила Онки, вставая, — кто знает номер?
Девчонки картежницы по очереди пожимали плечами.
— Настолько близко мы с ней не общались…
Оборотная сторона лидерства. Как выяснилось, у Белки не было ни одной настоящей подруги.
— Как хоть ее зовут? — пытала растерянных картежниц Онки, — можно в базе посмотреть, но для этого нужно знать полное имя…
Девчонки переглядывались и молчали. Как прилипло в хулиганской среде давным-давно к юркой рыжеволосой девчонке прозвище Белка, так все ее и называли. Белка и Белка.
— Белинда Блейк, кажется… — тихо сказал Малколм, — у нее один раз выпал из кармана юбки электронный билет, но там было темно…
— Идемте, — скомандовала Онки.
Возле корпусов старшеклассников толпилось несколько человек. Они были со скейтбордами и, вероятно, еще кого-то ждали.
— Дайте кто-нибудь карточку. Мне очень нужно попасть наверх. — Онки Сакайо выглядела такой уверенной и спокойной, что ее требованию никто даже не удивился, и одна девушка протянула ей электронный ключ.
— Только очень быстро, — сказала она. — одна минута, ясно?
— Стойте здесь, — бросила своим сопровождающим Онки, направляясь ко входу в общежитие.
Проглядев электронный журнал возле будки вахтера и дождавшись удобного момента, она приложила карту к считывателю и проникла внутрь. Комната Белки располагалась на двенадцатом, а лифт останавливался только на тех этажах, которые были зашифрованы в личных карточках жителей корпуса, чтобы его вызвать нужно было снова поднести пропуск к сенсору возле лифтовых дверей, поэтому незваной гостье пришлось подниматься пешком.
Дверь оказалась не заперта. Это означало, что в комнате кто-то есть. По правилам безопасности воспитанникам запрещалось запираться изнутри, и конструкция замка исключала возможность этого.
— Белка… — тихо позвала Онки, выглядывая из-за двери.
— Какого лешего?.. — хозяйка комнаты сидела на стуле возле окна. С ней все было в полном порядке, по крайней мере с виду, если не считать нескольких ссадин на красивом наглом лице. Но они только украшают настоящую хулиганку.
— Мы беспокоились за тебя… — робко сказала гостья, — ты пропала… У тебя все хорошо? ты здорова?
— У меня все отлично, — сухо ответила Белка, — просто решила отдохнуть. От всех.
Онки тем временем оглядела комнату.
Беспорядок.
На всех свободных поверхностях громоздились какие-то вещи, предметы одежды, включая весьма интимные, тетрадки, учебники, журналы, один из них валялся прямо под ногами около двери, Онки едва на него не наступила, по стенам внахлест развешены были плакаты рок-звезд, в углу притаилась старенькая акустическая гитара.
— Ты играешь?
— Немного. Только для друзей.
— Но ведь у тебя их нет.
Белка посмотрела на Онки долгим недобрым взглядом и усмехнулась.
— Да. Ты права. Я играю по вечерам в своей комнате.
— Мне сыграешь?
— Посмотрим, — Белка отвернулась к окну, — может быть, если заслужишь…
Дверь в ванную оставлена была приоткрытой, и Онки, продолжая осматриваться, случайно обратила внимание на валяющиеся там на полу тряпки: простыни, полотенца, еще какие-то куски ткани — она непроизвольно вздрогнула — О, Всеблагая! — словно огромные пауки темнели на них засохшие коричневатые пятна… Кровь!
— С тобой точно все в порядке?
— Да, — Белка немного напряглась, — а что?
— Но почему там… — Онки осторожно указала взглядом на дверь ванной.
— Не твое дело, — оборвала ее Белка, — топай давай, проведала, спасибо, я скоро появлюсь.
— Тебе нужно к врачу, — твердо сказала Онки, продолжая стоять в дверях.
Белка порывисто встала, захлопнула дверь в ванную и прижала ее спиной. Сделав это резкое движение, от слабости она едва не потеряла сознание.
— Вали, я сказала. Это тебя не касается!
Я позову наставников.
— Стукачка! — выкрикнула Белка с тоской.
— Это может быть очень опасно. Столько крови…!
— Тебе-то какая разница? — Белка сползла спиной по стене и опустилась на корточки.
— Скажи мне, что случилось… — Онки подошла к ней и села рядом на пол, — просто скажи, я от тебя не отстану.
— Ничего, — убрав красно-оранжевые волосы со лба, хулиганка подняла на нее глаза, — все норм, так всегда, я знаю как это бывает, мне рассказывали… Все уже закончилось. И через пару дней я буду как огурчик.
— О, Всемогущая… — потрясенно прошептала Онки.
Узнав о том, что произошло с Белкой, Малколм очень расстроился. Юноша едва не заплакал, когда Онки, рассудив, что он единственный, кого стоит посветить в эту историю, поведала ему свою версию случившегося. Остальным же пришлось довольствоваться универсальным объяснением: «Да, она просто решила отдохнуть денек другой. Надоело ей все.»
Малколму жаль было не родившегося ребенка Белки, он думал о том, каково это — быть отцом; представлял себе, что если бы этот малыш появился на свет, то в его комнате рядом с его кроватью стояла бы маленькая люлька с легким, обшитым кружевами пологом, младенец бы спал в ней, или просто лежал, медленно переводя с одного предмета на другой большие загадочные глаза, а он, Малколм, качал бы его, пел бы ему песенки…
Белка на самом деле вскоре объявилась, продолжила как ни в чем не бывало собирать девчонок в закутке среди гаражей, но бывшего возлюбленного теперь как будто избегала. Малколм несколько раз пытался поговорить с нею, но она вела себя так, словно между ними ничего серьезного не произошло: дескать, он просто надоел ей, все кончено, но никого это не должно расстраивать, ведь так часто бывает: погуляли-погуляли, расстались. Что делать драму?
Окончательно наступила весна, снег везде начал стремительно таять, солнце стояло над корпусами общежитий — большое, желтое, улыбчивое. Птичий гомон за окнами мешал сосредоточиться, и преподаватели с недовольными лицами захлопывали форточки, не желая пускать в кабинеты непрошенное веселье.
После регулярных и, надо сказать, порой мучительных занятий с Онки Сакайо Малколму впервые удалось прилично написать квартальную контрольную по алгебре.
Он прибежал в детское кафе возбужденный, с горящими глазами, в распахнутой куртке, размахивая над головой распечаткой результатов электронного теста.
— Вот, смотри, целых сорок три балла! Средний результат! D! — он положил лист на столик перед девушкой.
Онки не разделила его эйфории. Она равнодушно повертела распечатку в руках, отложила в сторону и не без тайного бахвальства изрекла:
— Ну и чего ты скачешь козлом? Я бываю недовольна собой даже когда получаю А с девяносто девятью баллами…
— То ты… Ты умная… А у меня прежде не набегало и двадцати… Наши занятия улучшили мои результаты больше чем вдвое! Спасибо большое.
— Садись, — сказала Онки, делая вид, что не замечает благодарно-восхищенной окраски обращенных к ней слов, — сорок три — это еще очень мало, всегда нужно стремиться к самой высокой оценке. И если максимум — сто баллов, то ты должен быть готов получить сто один.
Вечером того же дня, когда они, подойдя к общежитию мальчиков, уже собирались прощаться, Малколм все-таки решился сказать Онки то, что давно созрело у него в душе, а сегодня, в связи с первой отметкой «D» по математике, стало неудержимо рваться наружу.
— Прости, что я поднимаю эту тему, — начал он, преодолевая робость, — мы, конечно, договаривались с тобой в начале: никакой благодарности, но… ты так много сделала для меня, Онки, и чтобы совершенно ничего не взять взамен…
Она остановилась и требовательно взглянула на него.
— А что ты можешь мне предложить?
— Я рад буду тоже оказать тебе какую-нибудь услугу, — пообещал он, не отводя своих прекрасных глаз, — просто скажи мне, если что-то понадобится…
Закат выстелил двор косыми рыжими дорожками света.
— Ладно, — с деланной небрежностью согласилась Онки, щурясь на солнце, ярко бьющее сквозь крону большого дерева между корпусами, — я подумаю, и, возможно, воспользуюсь твоим предложением. Когда-нибудь.
Журнал, на который Онки Сакайо чуть не наступила, приоткрыв дверь в комнату Белки, был из тех, что не должны, по правде говоря, попадать в руки подросткам. Типичное бессодержательное глянцевое издание, на пятьдесят процентов состоящее из рекламы дорогих автомобилей, модных брендов одежды и элитных сортов табачной и алкогольной продукции. «Большие девчонки». Этот журнал пользовался огромной популярностью, поскольку публиковал материалы откровенно эротического содержания. На больших блестящих страницах, напоминающих крылья пестрых тропических бабочек, размещались фотоснимки полуобнаженных юношей, зазывно глядящих в камеру и прикрывающих наиболее интересные места различными (иногда весьма неожиданными) предметами.
Онки Сакайо было очень стыдно перед самой собой за этот поступок.
«Какая Белке разница, у нее их так много, она наверняка даже не заметит пропажи…»
С жадностью первооткрывателя она перелистывала аппетитно шелестящие страницы, впиваясь взглядом в соблазнительные тела, ослепительно освещенные вспышками фотокамер.
Один из парней-моделей показался ей очень похожим на Малколма; он возлежал навзничь с томно полуприкрытыми глазами на соломенном коврике в каком-то невероятно роскошном помещении, совершенно голый, приличия ради обсыпанный нежными лепестками каких-то белых цветов… Это была реклама известного банка, предоставляющего потребительские кредиты на различные нужды. «Желания должны исполняться. Как можно скорее…» — гласил слоган возле красавчика.
Идея пришла неожиданно, и в первый момент так неприятно поразила Онки, что она попыталась тут же выкинуть ее из головы… Но это оказалось не так просто. Много раз она слышала, как старшие девчонки обсуждают между собой тех, кто увлекается подобной печатной продукцией.
— К живому парню подойти слабо, вот она и мусолит глянец.
— Разглядывают картинки только неудачницы.
Онки машинально перевернула страницу.
«Действительно.»
Она отложила журнал.
«Стыдно сидеть и вздыхать, глядя на фотографии красавчиков. Хочешь чего-то — действуй.»
— Малколм, твое предложение еще в силе?
— Ты о чем?
— Ну… про оказание мне какой-нибудь услуги… если понадобится. Вспомнил?
— Ах… да! Конечно…
— Я придумала, что ты можешь для меня сделать.
Онки не ожидала от себя этого волнения. Защекотало ладони, совсем немного, самую малость, как перед контрольной, в итогах которой она уверена, и лицу стало горячо, словно в знойный день она обратила его к солнцу. Пришлось отвернуться, чтобы Малколм ни о чем не догадался. Некоторое время Онки молчала, подыскивая слова. Покачивая ногами, они сидели на крыше металлического скелета старой машины.
— Я хочу на тебя посмотреть, — выговорила она наконец.
— В смысле? — удивился Малколм.
— Без одежды, — хмуро пояснила Онки, продолжая глядеть в сторону.
— Только посмотреть? Зачем? — его голос звучал вполне обыденно, так, словно он почти каждый день слышит от девушек подобные просьбы, и, как показалось Онки, в интонации юноши проскользнула даже легкая насмешка.
Она глубоко вдохнула, приготовившись говорить долго; больше всего на свете она боялась, что Малколм может неправильно ее понять, истолковать для себя ее поступки, придав им смысл, который в действительности за ними не стоит.
— Я не видела никогда. Разве только на картинках. Как ты понимаешь, это не совсем то… Помнишь, я заглянула в гараж, где вы были с Белкой, случайно, может, тебе неловко вспоминать, извини, но я должна сказать. В психологии есть понятие гештальта, неделимого целого… Сознание ощущает потребность завершить начатое. Я не знаю, вполне ли тут уместен данный термин, но когда я тебя увидела, то… все произошло слишком быстро, мне показалось, что я не разглядела тебя, или разглядела… просто мне хочется посмотреть снова…
Онки остановилась, чтобы вздохнуть. Она торопилась сказать, никак нельзя было упустить самого важного.
— Послушай дальше. Я понимаю, что это непросто, но постарайся не выискивать в моей просьбе никаких лишних подтекстов. Я всегда говорю правду, и хочу быть до конца честной с тобой. Это, конечно, может тебя обидеть, но, поверь, лишние иллюзии куда хуже. Ты мне не нравишься. Я не влюблена в тебя и не стала бы с тобой встречаться… У тебя нет характера. Поэтому то, о чем я тебя прошу, будет просто дружеской услугой… если ты согласишься…
Она умолкла. Во внезапной тишине, в которую обрушились ее последние слова, Онки показалось, что Малколм сейчас спрыгнет с машины и просто уйдет. Это было бы достойным ответом. Но он продолжал сидеть, качая ногами в тряпочных кедах.
— Хорошо.
Это короткое и ясное слово врезалось в сознание Онки, как дротик в картонную мишень. Она почувствовала легкое разочарование.
— Для тебя это так просто?
— Не слишком трудно, — поправил ее Малколм.
Он первый спрыгнул с машины на землю, показывая, что готов выполнить ее просьбу незамедлительно.
В незапертом гараже было прохладно и сыро, в нишах потолка горели цилиндрические молочные лампы. Просторное помещение загромождено было битыми автомобилями, на деревянном полу тут и там стояли канистры, валялись покрышки, диски, разные инструменты, пахло сыростью и резиной…
— А если они вернуться? — спросила Онки.
— Ты имеешь ввиду автомехаников? Нет… У них рабочий день уже закончился, и они пошли в Атлантсбург. Вольнонаемные. Каждый вечер их выпускают через проходную.
— Почему же они не запирают гаражи?
— Зачем? Здесь все равно никого чужих не бывает. Территория Норда ночью как бронированный бункер, ты же знаешь. Добавь к этому психологический эффект: проходя мимо незапертого помещения, где горит свет, люди всегда думают, что там кто-то есть. А может, им просто недосуг замок купить…
Онки подняла с пола какую-то деталь и принялась с любопытством ее разглядывать.
— Вот бы собрать себе мотоцикл. Натырить помаленечку, и свалить отсюда к чертовой матери…
— Ты бы могла?
— Не знаю, — Онки выпустила находку из рук, та упала с глухим звуком, отскочив от темной промасленной доски пола, — можно попробовать. Двухцилиндровый двигатель внутреннего сгорания не такая уж мудреная штука…
Малколм понятия не имел, о чём говорит Онки, но глядел на неё с восхищением.
Оба как будто бы забыли, зачем пришли сюда. Она поднимала с пола мелкие гаечки и целилась ими в нарисованный на стене краской круг.
Юноша следил взглядом за каждым пролетающим снарядом.
— Ты меткая…
— Я знаю, — расхрабрившись от похвалы, Онки швыряла разную мелочь в стену опять и опять, но, как назло, стала мазать…
Последняя гаечка угодила в стекло одной из машин, отлетев от нее с жалобным звоном.
— Здесь прохладно. Не простудишься?
— Нет. Я привык. Да и ты, надеюсь, не собираешься рисовать меня с натуры… — Малколм беспомощно улыбнулся, распахивая куртку.
Напряженный взгляд Онки фиксировал каждое его движение. Ни одна расстегнутая пуговица не осталась незамеченной. Тонкие пальцы юноши с уверенной ловкостью высвобождали их из петель. Дыхание ритмично приподнимало и опускало его узкую грудную клетку. Лампа на потолке, находящаяся прямо над ними, негромко гудела.
Никогда прежде Малколм, уверенный в своей привлекательности, не чувствовал стыда будучи нагим, но теперь, когда на него смотрела Онки Сакайо, эта невинная, вспыльчивая и странная девочка, непрошеное стеснение овладело им: непривычно было ощущать себя на этот раз не объектом вожделения, а чем-то другим… выставочным экспонатом, произведением искусства. Она не двигалась с места, замерла, казалось, почти не дыша, как ученик живописца в музее; она разглядывала его все еще по-детски — с исследовательским любопытством, но вместе с тем взгляд ее светился гордостью завоевателя — впервые в жизни перед нею, для нее, красивый мальчик добровольно снял с себя одежду…
В свете молочных ламп он походил на ночную фиалку, тоненький и совершенно белый — Онки нестерпимо захотелось прикоснуться к нему — она была уверена, что ощутит нечто совершенно неземное, просто протянув руку… Сделав шаг вперед, она погладила подушечками пальцев нежную кожу у него на груди.
— Смелее, Онки, — прошептал Малколм, уже готовый принадлежать ей, здоровый, шестнадцатилетний, по закону естественного отбора всегда готовый принадлежать лучшей, сильнейшей, победительнице не важно какого поединка, но непременно победительнице…
— Я могу научить тебя, как ты меня учила, — продолжал он, накрывая ее руку своей, — это, пожалуй, единственное, о чем я знаю немного больше…
— Малколм! Мааалк! — звонкий голосок раздался позади одной из машин.
Он целиком заполнил огромное мрачное помещение, этот чистый звук, он испугал их своей неотвратимостью и ясностью, словно яркий свет.
— Только не это… -в отчаянии прошептал юноша, — только не он…
Онки резко обернулась, интуитивно, как когда-то Белка, заслонив его собою, грозная и воинственная, готовая к встрече с чем-угодно… Но…
Он вышел из-за кузова продовольственного фургончика без колес с тряпичным свертком в руках — какая-то игрушка была спелената словно младенец.
Он вырос перед Онки и Малколмом как огромная гора из-под земли, это так воспринималось, несмотря на его детский рост и хрупкость. Обезоруживающе трогательный и страшный в своей ослепляющей непорочности…
Саймон Сайгон.
Ясное личико его выражало беспокойство, поначалу, пока он еще не успел окончательно разобраться, что к чему, но, когда он встретился взглядом с Онки, мужественно растопырившей руки, чтобы загородить торопливо натягивающего джинсы Малколма, что-то переменилось; по лицу мальчика неуловимо, точно отсвет экрана в кинотеатре, проскользнуло нечто совершенно новое, жесткое, недетское.
— Вы здесь вдвоем? — он стоял, трогательно прижимая к груди свой тряпочный сверток; глаза его, устремленные прямо на Онки выражали гневное непонимание; Саймон не отводил взора, он как будто заглядывал ей в душу, ища ответа на вопрос, сформулированный иначе, куда более конкретно и грубо, но не заданный. В его глазах вспыхнули два злых огонька.
— Вот ты какая, оказывается! — выкрикнул он отчаянно и звонко, — никогда больше не подходи ко мне, слышишь!? Извращенка!
Он развернулся и побежал прочь, не оборачиваясь, громко и часто стуча по деревянному полу школьными ботинками, крепко обнимая свою завернутую в обрывок старой футболки игрушку, — и в том, как он побежал, во всей его маленькой стремительно удаляющейся фигурке содержалось нечто такое, что просто невозможно было не броситься следом за ним, забыв обо всем…
И Онки поступила именно так:
— Саймон! — воскликнула она, и в два прыжка нагнав его, удержала за рукав спортивной курточки, — послушай меня, ты не так все понял…
— Оставь эти банальные фразы телесериалам, — жестко ответил он, — я не слепой. И не такой уж маленький. Вы с Малколмом — парочка… И встречаетесь в этом грязном гараже, чтобы… — он запнулся, поднял на нее свои огромные, зеленущие, как дикая роща, глазищи, — не смей меня трогать!
Рывком высвободив руку, он снова бросился прочь.
И Онки ощутила мучительную пустоту в груди, словно он что-то сейчас у нее забрал, этот маленький мальчик, своей такой неожиданной и взрослой обидой. Подавленная, она вернулась к Малколму.
— Извини, — сказала она, — я не смогла нас оправдать…
— Себя, — поправил Малколм с грустной усмешкой, — тут, мне кажется, ревности больше, чем осуждения…
— Ревности? — удивленно пробормотала Онки себе под нос, — но ведь вроде никогда не было никаких разговоров, даже намеков… С какой стати? — и тогда с поразительной ясностью всплыло в онкиной памяти замечание Коры Маггвайер о том, что есть вещи, которые могут значить гораздо больше, чем любые слова… Ведь что-то же заставило ее, Онки, броситься минуту назад вслед Саймону и вопреки очевидному униженно пытаться реабилитироваться в его глазах?
Холодная капелька, стертая со щеки кончиком пальца. Неужели для них обоих она значила так много?
Молчание тяготило, но ни одна, ни другой не знали, о чем говорить. Онки делала вид, что смотрит на закат, хотя его почти не было видно — облачный день, запад точно грязная вода из-под акварели, куда ребенок макал кисточку, испачканную и в черной, и в желтой, и в алой краске, а Малколм шел рядом, время от времени взглядывая на экран мобильного, будто ждал от кого-то сообщения при беззвучном режиме.
— Я, кажется, понял, кто прислал мне те цветы и приглашение… — произнес он задумчиво.
— Ну… — нехотя отозвалась Онки.
— Помнишь, месяца три тому назад в Норд приезжали какие-то высокопоставленные лица. Из Сената, кажется. И с ними была дама, высокая такая, с глазами… как у тебя. Вот, мне думается, она. В тот день я опаздывал на занятие и бежал через двор. А дама та меня остановила и взяла за подбородок. Как она на меня смотрела! Мне аж стыдно стало…
Онки, сперва безучастная, прислушивалась к его словам с возрастающим интересом и озабоченно хмурилась.
— Так это же Афина Тьюри… — пробормотала она себе под нос.
— Кто?
— Да ты как с луны упал. «Дама с глазами!» Ее же вся страна знает в лицо. Да, думаю, и большая часть остального цивилизованного мира тоже. Это же сама изобретательница «эликсира женской молодости», а заодно — наша общая всехняя матушка, Афина Тьюри, руководительница проекта «искусственный эндометрий». Именно с ее легкой руки мы тут существуем, дышим, солнышком любуемся… — в словах Онки была пронзительно-грустная ирония, она махнула рукой в сторону пасмурного заката над над гаражами, насмешливо убогого, обрезанного грязными облаками, будто специально подобранного в тон ее словам…
Но Малколм не проникся особенным отношением собеседницы к Афине Тьюри, не понял ее затаенной грусти, он думал в эту минуту о чем-то своем, и по лицу его бродила загадочная мечтательная улыбка.
Происшествие в гараже вне всякого сомнения задело достоинство Малколма, но он не отдавал себе в этом отчет; так, наверное, и должно было быть, чтобы Онки Сакайо, оставив его полуголого, забыв о нём, как о неодушевленном предмете, не оборачиваясь кинулась догонять Саймона Сайгона, еще совсем ребенка, чтобы униженно объясняться перед ним… Однако, подспудное ощущение несправедливости не покидало его. Обида на Онки не формулировалась в его сознании явно, в виде конкретной мысли, но, несомненно, она существовала, масла в огонь подливал и Саймон: он вел себя с Малколмом гораздо сдержаннее, чем прежде, реже к нему ласкался; не стремясь открыто выражать свое осуждение, он всячески его демонстрировал. Этот умный мрачноватый ребенок, скорее всего, и раньше догадывался о том, куда уходит по вечерам старший товарищ, но никогда еще его догадки не обретали плоти, не вторгались столь грубо в изящный мир его подростковых идеалистических представлений о жизни — поэтому теперь, когда это случилось, некоторое отчуждение между друзьями оказалось неизбежным.
Малколму было одиноко. Поклонницы по-прежнему вились вокруг него, как осы вокруг надтреснутого арбуза, но он как ни старался не мог выделить среди них никого, кто привлекал бы его сильнее, чем остальные. Они мелькали перед его глазами точно киношная массовка, все одинаковые, со стандартными ухаживаниями, шаблонными фразами, похожими шутками, и про каждую он знал заранее, чего она хочет и что может ему предложить…
Он написал электронное письмо Афине Тьюри. Он ничего не ждал, оставаясь в полной уверенности, что она не ответит, кто он, в конце концов, такой, просто ему было скучно и как-то постыло, Малколм сидел один в своей комнате, забитой сверху донизу дареными плюшевыми медведями — все их тащат, ни одна не удосужилась проявить оригинальность! — набрав в поисковой системе полное имя, фамилию, он сначала долго разглядывал фотографии этой богатой известной женщины, потом прочитал ее биографию в электронной энциклопедии, и… решился.
Текст письма мигом сложился у него в голове, как нечто вполне естественное, как выдох, как желание обернуться на зов…
Найдя адрес на сайте проекта «искусственный эндометрий», он его отправил. Это заняло каких-то пятнадцать минут.
«Наверняка она даже не прочитает, обычно корреспонденцию знаменитостей обрабатывают секретари, зря я написал, очень глупо…» — размышлял Малколм уже потом, когда на экране сбоку мелькнул желтый флажок «ваше сообщение послано.» Его действия не были подчинены никаким логическим рассуждения и расчетам, это был порыв, необъяснимое спонтанное движение души…
И почему-то ему повезло…
Афина Тьюри как раз оказалась возле своего компьютера в тот момент, когда письмо Малколма невидимая информационная рука бросила в ее неосязаемый почтовый ящик. Читая, она чуть изогнула свою эффектную бровь, уголок губ немного приподнялся в почти неуловимой довольной ухмылке, рука, легко пробежавшись по клавишам, набрала ответ. Позвонив своему шоферу, Афина дала ей указание подъехать в шесть вечера к воротам воспитательно-образовательной зоны Норд, и тут же об этом позабыла; спросив кофе с коньяком, она поставила его рядом, и, вдыхая аромат, окунулась в поток деловых писем.
— Садись.
Из машины вышла худощавая девушка в строгом черном костюме. Она любезно распахнула перед Малколмом дверцу, в непроглядно тонированном стекле которой отражалось весеннее небо в рыхлых комках облаков. Потом она ее захлопнула, отъединив юношу от шума оживленной магистрали и, обойдя автомобиль, села за руль.
По дороге она не проронила ни слова. Малколм от нечего делать разглядывал ее отражение в зеркале заднего вида. Лицо девушки хранило выражение мрачной сосредоточенности — она очень внимательно следила за дорогой, в правом ухе у нее, когда она поворачивала голову, мелькала черная таблетка беспроводной гарнитуры, а в специальном ложе рядом с рулем находилось переговорное устройство внутренней связи. Безопасность поездок Афины Тьюри обеспечивалась по высшему разряду.
На вид девушке-шоферессе можно было дать не больше двадцати пяти, а ее реальный возраст, скорее всего, не дотягивал до этой условной отметки — черный костюм мужского покроя, короткие, прилизанные гелем волосы и хмурая строгость мимики — все это способствовало тому, чтобы она выглядела старше своих лет.
Малколму хотелось спросить, почему его так запросто сегодня выпустили, ведь обычно воспитанникам очень долго приходилось добиваться разрешения на выезд у классного наставника, подробно ему рассказывая, зачем и куда им нужно в Атлантсбурге. А тут на тебе — тяжелые ворота открылись, как по мановению волшебной палочки… Этот вопрос не давал ему покоя, но лицо девушки казалось таким непроницаемым, что он так и не решился его задать.
— Выходи, — сказала она, покинув салон и снова распахнув перед ним дверцу автомобиля, — голос у нее был грубоватый, но приятный.
Поставив ноги на асфальт и выпрямившись, Малколм некоторое время не мог прийти в себя — настолько поразила его шальная феерия световых реклам. Прежде ему приходилось бывать в Атлантсбурге, но каждый раз в спешке, по каким-то делам, на экскурсиях в нестерпимо скучных музеях, историческом, этнографическом, военном… Никогда еще за свои шестнадцать лет Малколм не был в торгово-развлекательной части города, ее называли «вечерней», тут круглосуточно ждали гостей с кошельками нараспашку казино, бары, рестораны, клубы, бесчисленные магазинчики с ненужными, но дорогими вещами. И никаких тебе музеев…
Глаза Малколма широко распахнулись…
Навесные магистрали с сияющими вереницами фонарей — огненные ленты в небе. Гигантские постройки из зеркального стекла как в фантастических фильмах…
Такая красота…
Многоуровневый ресторан-отель «Эльсоль» располагался на естественном холме, нижние этажи его помещались внутри земляного вала, засаженного с соблюдением определенного порядка в расположении красок мелкими нежными цветами, а к верхним этажам с четырех сторон поднимались широкие каменные лестницы — много тысяч ступеней из бледно-розового камня… Продолжение здания на вершине холма выстроено было из крупных каменных брусков, гладко отшлифованных, на закате они отливали как перламутр — зрелище поистине величественное — по обе стороны от главного входа возвышались мощные белые колонны.
— Будто храм… — не в силах оторвать глаз, чуть слышно пробормотал Малколм.
— Капитализма, — с едва уловимой ехидцей добавила девушка-шофересса, стоящая у него за спиной. Она слегка подтолкнула его вперед, — давай уже, иди, хватит глазеть, тебя ждут…
ГЛАВА 7
Афина Тьюри сидела за столиком в просторном зале, стилизованном под старину. Светильники на стенах и люстры под потолком изображали свечи — они изготовлялись на основе технологии бездымного холодного пламени — от них не ощущалось ни жара, ни запаха, но тысячи маленьких рыжих язычков танцевали, тянулись вверх и пригибались от дуновений точно так, как если бы это был настоящий огонь.
Стол сервировали на две персоны. Афина Тьюри жестом отослала приведшую Малколма девушку и, поднявшись, сама отодвинула ему стул.
В жизни она оказалась не такой величественной, но, пожалуй, более привлекательной, чем на фотографиях в газетах и в интернете. На ней было узкое черное платье со вставкой на спине, расшитой сдержанно поблескивающими пайетками.
«Как змея…» — некстати подумалось Малколму. Садясь, он успел заметить, что сопровождавшая его девушка никуда не ушла, она выбрала себе удобное место возле колонны у стены зала и осталась стоять там, сканируя своим внимательным взглядом огромное помещение.
Официант с полотенцем на руке белоснежным как ангельское крыло принес меню и карту напитков. Окружающая роскошь немного смущала Малколма. Он разглядывал прозрачный будто слеза округлый хрустальный бокал на высокой тонкой ножке, не решаясь к нему прикоснуться. Разложенные в определенном порядке возле его тарелки странные приспособления лишь отдаленно напоминали привычные нордовские ложки и вилки. Несколько раз Малколм робко оглядывался на девушку в черном костюме, будто бы она, проводница из привычного мира в этот, новый, могла ему теперь помочь. Она так и оставалась стоять там, у стены — непринуждённая на первый взгляд поза, рация в нагрудном кармане пиджака, сосредоточенный взгляд, медленно плывущий поверх пестрой ресторанной толпы — и ему стало ясно, что это молчаливое наблюдение продлится, сколько потребуется, весь вечер, пока Афина Тьюри будет расслаблено флиртовать, беспечно пить вино и, чувствуя себя сошедшей на землю богиней, царственными жестами заказывать музыку живому оркестру…
Малколм растерянно листал полностью кожаное меню и молчал. Переворачивая тонкие эластичные страницы с вытесненными на них названиями блюд, юноша старался делать это как можно более медленно и деловито.
«Интересно, со скольких животных пришлось содрать кожу, чтобы обеспечить весь ресторан подобными книжками.» — мелькнула непрошенная мысль.
Он не представлял, о чем можно говорить с сидящей напротив женщиной.
— Посмотри на меня, — сказала она властно и чуть насмешливо, — не бойся.
Малколм послушно поднял на нее взгляд, ему ничего не нужно было больше делать, его глаза были прекрасны, они говорили поклонницам то, во что они хотели верить, таким уж они обладали свойством, эти большие тёмно-синие глаза в обрамлении пышных ресниц.
Афина Тьюри взяла его руку и, медленно поднеся к губам, с восхищенной бережностью поцеловала её.
— Принесите нам самого лучшего вина, — сказала она официанту, неслышно приблизившемуся к столику. Предметы появлялись и исчезали в его аккуратных и ловких руках так, будто он был фокусник.
— Да, пожалуйста, сейчас я приглашу консультанта по винам, для элитной коллекции напитков у нас отдельная карта.
К столу через пару минут подошла девушка в элегантном костюме, состоящем из фрака, юбки-рюмочки и блузы с белой бабочкой на воротнике.
— Эксперт по редким и уникальным сортам вин, к вашим услугам, — произнесла она, обращаясь преимущественно к Афине Тьюри, в этом заведении её, вероятно, знали.
— Сегодня мне хочется утонченной и романтической старины, — изрекла она мечтательно, — говорят, что хорошее вино может сообщить настроение той эпохи, когда выращены были ягоды, из которых оно изготовлено.
— У нас есть напитки прошлого и даже позапрошлого века, одной из наших бутылок почти двести лет, это красное вино от очень известной в прошлом, но ныне уже не существующей династии виноделов, оно имеет очень богатую историю, прежде чем оказаться здесь, наша бутылка объехала почти весь мир, о ней многие спрашивают, но ещё никто не отважился откупорить её.
— Как раз то, что нужно, — сказала, задорно блеснув глазами Афина, — несите, мы смелые, мы рискнем.
Бутылка была покрыта тонким слоем сероватой пыли со свежими следами пальцев. Девушка-эксперт на глазах у Афины и Малколма протерла её белоснежным полотенцем.
Вино оказалось почти густое, будто масло, тёмное, как венозная кровь, терпкое и удивительно ароматное — миллионы оттенков чудесного солнечного запаха кружили голову, стоило только приблизить бокал к лицу. Здесь был и рассвет над влажной весенней пашней, и полуденный зной чужой, далёкой страны, и натруженные шершавые ладони сборщиков винограда, их бережные прикосновения — самые лучшие гроздья сорвали и осторожно уложили они когда-то в плетеную корзину, чтобы теперь, почти два века спустя Афина поднесла к своим полным красивым губам прозрачную льдинку бокала, сделала небольшой изящный глоток и, слегка причмокнув, прикрыла глаза, упиваясь долгим послевкусием коллекционного напитка…
Малколм никогда в жизни не пил вина. Он с опаской поглядывал на бокал, чуть меньше чем на треть наполненный этой пахучей черной кровью.
— Это не яд, — улыбнулась Афина, поправив на плечах боа из какого-то редкого меха, — попробуй.
Юноша покорно сделал небольшой глоток.
— Ну как? — спросила она, блестя глазами. Происходящее ее, по-видимому, забавляло. Точно Малколм был ручной обезьянкой, которую на потеху усадили за общий стол.
— Хорошо, — пробормотал он, чувствуя приятное онемение языка от терпкости напитка, — прекрасно…
— Вот представь себе, — Афина взяла в руки бокал и слегка наклонила его, разглядывая на просвет, — ведь давно уже умер винодел, трудившийся ради того, чтобы мы пили сейчас это вино; он с любовью собирал ягоды для него, перебирал, чтобы семена и плодоножки не испортили вкуса, мял их, разливал сок в специальные сосуды — он вложил в этот напиток всю свою душу, и эта душа сейчас в нем содержится — больше века назад умерший человек продолжается в этом напитке, и теперь мы с тобой волей-неволей связаны с ним…
— Мы пьем душу мертвого винодела? — робко уточнил Малколм.
— Очень точный образ, браво, — улыбнулась Афина, — мне нравится…
— Чем же мы заслужили такую жутковатую честь? — спросил он, рассматривая круглобокую темную бутылку, подписанную на почти уже непонятном старомодном языке.
Афина рассмеялась.
— Я за это заплатила.
— А я?
— Ты красивый, — она протянула руку и взяла его за подбородок, как и тогда, во дворе Норда. Малколм вздрогнул от этого прикосновения, вино начинало действовать, все вокруг преобразилось, свет стал ярче, и пронзительная мелодия скрипки, звучащая в зале, глубже проникала в душу.
Рубиновые губы Афины продолжали шевелится.
— Красота — самое большое достояние, — говорила она, — ценнейшее из сокровищ, это универсальная валюта, и сопутствующие ей удовольствия желанны для всех… Красивая жизнь. Ведь в этом словосочетании очень глубокий смысл, не правда ли? Красивые вещи, красивая еда, красивые ситуации. Все это окружает богатых и счастливых людей. И мы завидуем им, хотим быть среди них, такими как они. Хотим испытывать наслаждение любоваться красотой, наслаждение обладать ею, во имя красоты совершаются самые великие подвиги и преступления. С точки зрения биологии красота — отражение безупречного генофонда — поэтому красивые люди могу ничего не делать, им всё предложат и всё дадут, ибо единственное, что движет живым, это инстинкт продолжения рода. Всякий хочет продолжится в красоте и готов платить за шанс соединить свои жалкие гаметы с гаметами красивого человека…
Афина Тьюри прервалась, чтобы глотнуть вина.
— Ты красивый, поэтому заслуживаешь всего самого лучшего. Я купила душу мертвого винодела для тебя, — она улыбнулась самодовольно и хищно, в этой женщине было что-то жуткое, в ее формулировках, в ее точеных пальцах, играющих с ножкой бокала; Малколм побаивался её, и в то же время она его неодолимо притягивала, привлекала — где уж ровесницам с их плоскими шутками, пустым бахвальством и дурацкими плюшевыми медведями!
А руки… Что за руки! У девчонок не бывает таких рук, уверенных и точных в каждом движении, с суховатой изящно увядающей кожей на тыльной стороне кисти — возраст женщины всегда выдают руки, причины их старения не гормональные, никакими препаратами нельзя стереть с рук следы переделанных дел, да и, пожалуй, и не нужно. Руки — это летопись жизни, и на кисти Афины Тьюри можно было смотреть бесконечно, читая по ним, упиваясь ими…
Выдержанное вино преобразило окружающим мир, наполнив его сочными красками и удивительными образами. Малколму казалось, будто никогда прежде ему не было лучше, чем теперь, будто он впервые в жизни по-настоящему влюблен и очень счастлив.
Заказав оркестру невероятно красивую медленную мелодию, Афина вывела его в центр зала. Почти все, кто был там, смотрели на них, и, скорее всего, восхищались.
Наверное, даже стоящая у стены строгая девушка в черном костюме отвлеклась от своего напряженного наблюдения, всего на миг, только чтобы подумать, как великолепно эти двое смотрятся вместе — осанистая царственная Афина и хрупкий нежный как лилия Малколм…
Он опомнился в роскошной постели люкса на предпоследнем этаже отеля «Эльсоль». Разворошенное белоснежное белье вздымалось вокруг него словно облака, это напоминало пробуждение на седьмых небесах. Малколм был один, в полусумрачном номере стояла тишина, не чувствовалось совершенно никакого движения, только неугомонно сновал туда-сюда маятник больших часов из красного дерева, да слегка шевелились задернутые шторы, когда пробегали по складкам их, как по клавишам, невидимые пальцы сквозняка.
Случившееся вызвало у Малколма лишь легкое недоумение. Он не ожидал, что Афина возьмет всё так просто, как нечто принадлежащее ей по праву, но и горьковатого послевкусия не ощущалось — надеяться на какую-то глубину в этой истории было бы, пожалуй, слишком глупо.
Потянувшись, он слегка привстал — нежное плечико выплыло из облачного вороха одеял словно луна — и взглянул на часы. О, Пречистый и Всеблагая! Они показывали пятнадцать минут одиннадцатого!
Малколм вскочил, отшвырнув невесомые будто пух ткани, и как был, в самом прекрасном из своих одеяний, подбежал к дверям.
Ему немедленно нужно возвращаться в Норд, ведь общежитие совсем скоро закроется! Юношу охватила паника: отель «Эльсоль» так далеко, ехать почти через весь Атлантсбург, а времени всего три четверти часа… Что делать? Позвонить портье? Вызвать такси? Где Афина?
— Ну куда же ты в таком виде? — раздался из полумрака спокойный и чуть насмешливый голос, — хочешь, чтобы в коридоре все попадали в обморок?
Возле дверей стояла строгая девушка в черном костюме. Она протянула ему одежду, которую, вероятно, заботливо подобрала до этого с пола.
— У меня… у меня очень мало времени, — горестно прошептал Малколм.
— Вот и одевайся скорее, я отвезу тебя, возможно, мы еще успеем.
Юноша был так потрясен происходящим, что ничего не спрашивал. Натянув на себя одежду, он совершенно безучастно, как сомнамбула, последовал за девушкой по коридору к лифтам, затем дальше вниз, по каменной лестнице, потрясающе освещенной рядами маленьких круглых светильников, размещенных по краям ступеней. От него уже ничего не зависело, и он вверил свою судьбу не по годам суровой охраннице Афины Тьюри так, как привык вверять её женщинам. Она усадила его в знакомый уже черный автомобиль.
Малколм сильно волновался, он поминутно выглядывал из-за спинки кресла, чтобы украдкой взглянуть по на спидометр.
— Лучше расслабься и смотри в окно, — получил он иронично-доброжелательный совет, — там иногда можно увидеть что-нибудь хорошее, а от того, что ты вертишься, как уж на сковородке, машина быстрее не поедет, в этот час обычно движение здесь плотное…
Малколм, так уж он был устроен, послушно прильнул к стеклу; он привык не рассуждая выполнять всё, что ему говорили женщины — один раз осознав, что им это нравится, командовать, ощущать свою власть, этот юноша делал всё, чтобы им угодить… И потому число его поклонниц росло с каждым днём…
Атлантсбург пышно украсили к Дню Освобождения Женщин — главному государственному празднику в Новой Атлантиде — всюду развешены были светящиеся гирлянды, от бегающих огоньков рябило в глазах. Эта бешеная симфония электричества, которую, вероятно, обеспечивала целая атомная станция, не могла не завораживать своей кичливой роскошью, своим совершенно бессмысленным бесконечным бегом по кругу: чем-то озабоченные люди спешили по тротуару мимо, они привыкли, им совершенно не было дела, смотрел только Малколм, да и тот мимоходом, из окна автомобиля — он никогда ещё не видел ночных огней Мегаполиса.
— Ах ты, чёрт, — сказала девушка-водитель, — кажется, у нас кто-то на хвосте!
— В каком смысле? — встревожился Малколм.
— В прямом. За нами едет вон та чёрная «Сиена Лаерта». Ни одного поворота ещё не пропустила, жучиха…
— И мы теперь не сможем попасть в Норд? — еще более обеспокоенно спросил юноша.
— Мы попробуем, дай бог, мне почудилось, — не показав заранее поворота, она выехала на перекресток и неожиданно свернула в узенькую боковую улочку. Кто-то резко тормознул, кто-то просигналил вслед и даже грязно выругался в окно автомобиля.
— Как тебе такой финт ушами? — задорно спросила она у неведомого супостата.
Малколма при повороте неслабо приложило головой о стекло.
— Извини, детка, — небрежно бросила ему через плечо девушка за рулем, — в любом деле иногда приходится идти на незначительные жертвы, чтобы избежать более крупных.
Чёрная «Сиена Лаерта» поехала прямо.
— А кто может преследовать нас? — спросил Малколм, потирая ушибленное место.
— Да кто угодно. Активисты движения «Семейный Очаг», религиозные фанатики разные, противники репродуктивных технологий, просто придурки, которых чем-то возмущает Афина, она женщина экстравагантная, мало ли…
— «Семейный очаг», — Малколм заинтересованно выпрямился на сидении, — я видел что-то такое в новостных лентах поисковиков, — чем они занимаются?
— Они считают, что проект «Искусственный эндометрий» в конечном итоге окончательно погубит семейные ценности, стараются всячески продвинуть эту теорию в массы, устраивают демонстрации и акции протеста. Моя нанимательница является для них чем-то вроде овеществленного зла, ведь именно она придумала выводить людей как скот на сельскохозяйственных предприятиях. Несколько раз активисты закидывали машину Афины несвежими яйцами и гнилыми овощами.
Малколм слушал очень внимательно, и теперь женщина, с которой он весьма приятно провел несколько последних часов предстала перед ним в совершенно ином свете — он впервые задумался о реальном масштабе ее личности; ведь это не просто знаменитость в самом зените своей славы — такие женщины остаются в истории, они непосредственно участвуют в ней, создают ее, и иногда им даже оказывается под силу развернуть по своему ее тяжелое зубчатое колесо…
Девушка за рулем что-то напевала, уверенно петляя по незнакомым переулкам.
— А религиозные фанатики?
— Какие именно? Помимо государственной Церкви, Ортодоксальной Мужской Церкви и еще нескольких официально признанных конфессий, существует огромное множество различных ответвлений и сект. Но мыслят они все примерно по одному и тому же шаблону, а действия их зачастую носят экстремистский характер и преследуются по закону. Их главная идея состоит в том, что Афина своими экспериментами попрала основные этические ценности человечества. И не только она одна. Эти безумцы регулярно совершают покушения на биологов, генетиков, репродуктологов, словом на всех, кто имеет какое-либо отношение к наукам, задевающим, с их точки зрения, «промысел божий». Некоторые из них считают, что глобальная мутация половых хромосом не самостоятельный процесс, а следствие неудачного научного эксперимента над людьми и злопыхательски мстят всем ученым подряд. А самые повернутые мечтают уничтожить науку как таковую и заменить ее слепой верой, так, как это было тысячи лет назад…
Они теперь ехали гораздо западнее, чем предполагалось. Было уже без двадцати одиннадцать, и надежды на то, что они успеют добраться до Норда к закрытию общежития почти не оставалось. Девушка-шофер настороженно посматривала по сторонам.
— Думаешь, нас все-таки преследовали, — спросил Малколм, точно так же, как расспрашивал до этого о предполагаемых врагах Афины — больше для того, чтобы отвлечься от своей тревоги.
— Я почти уверена.
Едва она успела это сказать, из боковой улицы вынырнула знакомая им «Сиена» и на перекрестке невозмутимо пристроилась сзади их автомобиля.
— Лущить их луковки… Вот не было печали, так кони замычали… Ты… знаешь, что, — она постаралась произнести это как можно спокойнее, — лучше пригнись. На всякий случай.
Малколм как всегда перечить не стал.
До выезда из города осталось несколько минут спокойной езды, может, они ещё успеют.
«Сиена Лаерта» ехала следом, повторяя каждый поворот.
Идиоты, — недовольно буркнула девушка-водитель, — Наверняка ведь какие-нибудь экзальтированные школяры! Не умеют ни черта, а в террористы лезут; я их с одной обоймы всех положить могу, а жалко прямо до слез, мальчишки вот вроде тебя, молоденькие, личики беленькие, безбородые, — она ощутимо поднажала на газ. Черная «Сиена» старалась не отставать, хотя мощностей двигателя у неё было гораздо меньше, чем у личного автомобиля Афины.
Малколм взглянул на часы. Без пятнадцати одиннадцать. Надежда утекала как последние капли из верхней чаши водяных часов. Немного притормозив, машина проехала первый пост ГАИ на выезде из Атлантсбурга. «Сиена» немного отстала, но потом снова возникла в зеркале заднего вида будто навязчивый рекламный баннер в сети.
Все остальное произошло за секунды. Друг за другом раздалось несколько хлопков. На заднем и на переднем стекле появились звездочки расходящихся трещинок вокруг пулевых отверстий. Малколм, затаив дыхание, залег на заднем сидении автомобиля.
— Понеслось, — спокойно сказала девушка в чёрном. Тут же в руке у нее появился пистолет. Отстегнув ремень безопасности, она раскрыла дверцу, ловко изогнулась, держась за руль одной рукой, и всем корпусом повиснув на миг над несущемся асфальтом выстрелила назад.
Раздался ответный хлопок, одинокий и какой-то обиженный. Чёрная Сиена с визгом затормозила и пошла юзом.
Девушка-водитель прибавила скорость.
— Вот так. Хотя бы выиграем время, — пробормотала она, глядя в зеркало.
— Ты пробила им колесо?
Она кивнула.
— Круто… — восхищенно прошептал Малколм.
Через некоторое время на приборной панели замаячил красный огонек — критический уровень запаса топлива. Девушка в черном чертыхнулась, хлопнув по рулю.
— Они пробили мне бензобак, — мрачно констатировала она, — теперь мы не сможем ехать дальше.
Впереди маячили огни бензоколонки. Там, заехав за небольшое здание экспресс-супермаркета, суровая девушка остановила автомобиль.
— Здесь относительно безопасно. Я думаю, проскочат… Если им, конечно, удастся сменить колесо.
— О Всеблагая! Где мы? — Малколм, паникуя, выскочил из машины, вокруг в свете дорожных фонарей простирались совершенно незнакомые места.
— Это западное шоссе, — сказала девушка-водитель, — дальше есть перемычка между ним и южным, по которому обычно ездят из Атлантсбурга в твой пансион. Не волнуйся. Когда-нибудь мы туда попадем.
— Но мне нужно быть там прямо сейчас! — горестно воскликнул Малколм, большие глаза его моментально наполнились слезами, — взгляни, на часах без пяти одиннадцать! Я пропал… вся моя репутация… погибла… Как ты не понимаешь, я опозорен… Навсегда!
— Извини, — только и сказала она. Выйдя из машины тоже, девушка-водитель расслабленно прислонилась спиной к дверце, подняв голову, посмотрела на небо. Кое-где между грязными клочками облаков можно было отыскать первые робкие звезды.
Тут-то Малколм и заметил, что у его спутницы что-то капает с рукава.
Метнувшись к ней, он тут же позабыл о своем горе.
— О, Пречистый… Кровь… Ты ранена!
— Да, мне попали в плечо, — у Малколма мурашки бежали по позвоночнику, а девушка-шофер сообщила об этом совершенно буднично, словно о незначительном пустяке, — Подойди ближе, — скомандовала она, — Сможешь перетянуть мне рану? И побыстрее. У меня кровь плохо сворачивается, дай что-нибудь, какую-нибудь тряпку…
Малколм начал беспомощно шарить вокруг.
— Нет… У меня ничего нет! — с тоской воскликнул он, поднимая на неё огромные испуганные глаза.
— А это что? — строгая девушка кивком головы указала на его новенький модный нежно-сиреневый галстук.
Часы в машине показывали двадцать три ноль пять.
Малколм робко дотронулся до застёжки на воротнике. Ему, конечно, очень жалко было галстук, такой красивый, и совсем почти не ношеный, он недавно заказал его в онлайн каталоге аксессуаров… Только куда деваться. Не носить ему больше таких галстуков, все, что есть, полный шкаф, придётся раздать приятелям — то-то они обрадуются. Он вздохнул… Двери общежития закрылись, теперь ночь, а он стоит с какой-то совершенно незнакомой, но красивой, да к тому же истекающей кровью девушкой возле бензоколонки — потери галстука уже не избежать никак, остается только выбрать более эффектный способ…
— А… ну его к лешему, — торопливо развязывая галстук, злорадно пробормотал Малколм, — всё одно, мне его больше не носить, так хоть польза будет.
Девушка тем временем сняла пиджак и рубаху, оставшись на прохладном весеннем ветру в самой нижней тонкой белой маечке, под которой обескураживающе подробно угадывалось тело; едва приподнятые выпуклости рудиментов молочных желез с маленькими, только чуть крупнее чем у мужчин шариками сосков. Она повернулась к нему окровавленным плечом.
— Вяжи прямо поверх раны, и крепче затягивай, не жалей.
— О Всеблагая, — прошептал юноша одними губами, он боялся крови и с трудом преодолевал дурноту, — тебе не больно?
Обматывая рану, он чувствовал, как тверда на ощупь хрупкая с виду рука.
— Знаешь, со мной подобное нередко случается, вроде как у поваров ножом порезаться. Работа такая.
Малколм изо всех сил стянул кончики своего сиреневого галстука на плече суровой незнакомки. Ткань моментально потемнела, впитав свежую кровь.
— Так пойдет? — спросил он взволнованно.
— Нормально, теперь надо выбираться отсюда, — как ни в чем не бывало она надела пиджак, куртку, села в машину и принялась водить пальцами по сенсорному экрану автокомпьютера.
— Мы опоздали, — грустно сказал Малколм, — уже больше одиннадцати, — электронные ворота общежития автоматически блокируются в 23.00, и после этого войти туда невозможно даже с ордером на обыск… Таковы правила Норда. Никаких специальных пропусков, никаких исключений. Бригада скорой помощи на территории детского общежития своя, поэтому администрация зоны просто не видит необходимости в том, чтобы открывать кому-либо ворота по ночам.
— Ну, значит, мы за бортом, — покачала головой девушка, — но все равно ехать надо, хоть куда-нибудь, не здесь же оставаться, в самом деле? Афина наказала мне доставить тебя на место в целости и сохранности. И выходит, теперь я смогу исполнить это только утром. Садись.
— И куда мы поедем? — обеспокоенно спросил Малколм.
— На этой машине, разумеется, никуда. А так — в гостиницу. Иначе нам не удастся как следует отдохнуть. Здесь есть неподалёку, не «Эльсоль», конечно, но вполне достойный приют для усталых путников, я хотя бы рану свою промою как полагается…
— И ты не пойдешь к врачу?! — удивился юноша.
— С такой-то царапиной? — отмахнулась девушка, — Нет, конечно. Сам видел, пуля прошла по касательной, лишь слегка надорвав кожу, продезинфицирую хорошенько и готово. Если бы каждое такое ранение выбивало меня из колеи, то для обеспечения безопасности нужно было бы держать целый полк таких как я.
Малколм заметил, что пошёл дождь. На боковом стекле появилось несколько тонких прямых похожих на трещинки линий.
Его спутница озабоченно глядела на дорогу:
— Интересно, кто приедет раньше, такси или какие-нибудь очередные клоуны с пистолетами?
В недорогой гостинице на окраине Атлантсбурга сняли номер на четвертом этаже. Тут была двуспальная кровать, телевизор, бар и небольшой балкон.
— Помоги мне промыть рану, — сказала она, — если крови не боишься, — открыв аптечку, захваченную из машины, девушка вынула оттуда стерильные бинты, пакетики с кровоостанавливающим порошком и большую матовую белую бутылку с голубоватой жидкостью.
Расширенными от ужаса глазами Малколм наблюдал за нею. Ему не то что помогать — в обморок бы не хлопнуться… Когда в Норде девчонки дрались, разбивали друг другу носы, расквашивали губы, сидели, прижимая к лицу окровавленные платки, он всегда ахал, отворачивался, бледнел — ему становилось дурно — а многочисленные поклонницы каждый раз умилялись тому, какой он трепетный и нежный…
— Ну вот и всё, — сказала девушка, — стирая ватой с неповрежденной кожи плеча подтеки голубоватой жидкости, которая, попав в рану, обильно пенилась и грозно шипела. Это самый надежный в мире антисептик. Говорят, что именно он спасает раненых в перестрелках гангстерш. Афина заказывает его через каких-то своих знакомых за границей. Подойди сюда и обмотай мне руку бинтом.
Мужчина не должен возражать женщине. Что бы он ни чувствовал, придётся подчиниться.
Преодолевая свой страх, Малколм делал то, о чем она просила: аккуратно раскручивая, обводил вокруг её крепкого стройного плеча рулон белоснежного бинта; боковым зрением он видел её строгий профиль на фоне простых гостиничных обоев, тонкую шею, маленькое ухо с круглой как монетка мочкой — если бы кто-то третий смотрел на них со стороны, ему бы, наверное, так не удалось понять, кто из них принадлежит к мужскому полу, а к то — к женскому, до того они были похожи, оба хрупкие, юные, с гладкими нежными лицами — мутация половых хромосом удивительным образом сблизила два биологических пола, девушки стали чуть более резкими, угловатыми, а юноши, напротив, смягчились в своих чертах… Это была общая тенденция. Как известно из биологии, в первые мгновения своей жизни всякий зародыш — женский; человечество в своей эволюции стремилось к утраченному единообразию.
Малколм закончил накладывать повязку.
— Спасибо. Ложись теперь спать.
— Я не хочу.
— Почему?
— Не знаю… Мне страшно.
— Тебе совершенно нечего бояться. Афина дала мне инструкцию оберегать тебя, и пока я рядом никто тебя не обидит, спи…
Малколм не раздеваясь прилег на гостиничную кровать. Некоторое время он тихо полежал с закрытыми глазами, но сон не шел, слишком много всего произошло, столько мыслей роилось у него в голове…
— Ты так метко стреляешь, — сказал он, повернувшись на постели, — попала им в колесо с одного выстрела…
— Хочешь повеселиться? — спросила она, — иди сюда.
С этими словами она вышла на балкон номера и достала из-за пояса пистолет. Привинтив к нему глушитель, она кивнула Малколму:
— Ну, смелее… Иди.
Малколм подошел, с опаской косясь на тонкий длинный ствол.
— Видишь вон те глупые гирлянды, ко дню Освобождения, — она указала взглядом на ряд мелких разноцветных лампочек, висящих над оживленной улицей чуть ниже балкона, на котором они стояли.
Он кивнул.
Она потерла плечо.
— Болит? — сочувственно спросил Малколм.
— Немного, — ответила она небрежно и, сняв пистолет с предохранителя, скомандовала, — называй мне цвета.
— Красный, — тихо сказал он.
Раздался уже знакомый ему тихий и зловещий хлопок — одна из красных лампочек, ярко мигнув, погасла.
— Зеленый.
То же самое произошло и со второй лампочкой из гирлянды.
— Желтый.
Ни разу не промахнувшись, она выбивала лампочки по цветам до тех пор, пока у нее не кончилась обойма.
— Ух ты… — потрясенно пошептал Малколм.
— Я была снайпером, — пояснила она, — пока меня не демобилизовали после тяжелого ранения. А теперь работаю у Афины, ей очень нужны надежные люди. Как ты уже имел возможность убедиться, врагов у неё — до черта…
— А я сначала думал, что ты просто водишь личный автомобиль.
— Нет, я телохранительница.
Постояв немного на прохладном ветру, они вернулись в номер.
— И она… госпожа Тьюри, наверное, хорошо тебе платит?
Девушка усмехнулась.
— Всяко больше, чем пенсия по инвалидности.
Малколм непонимающе взглянул на неё. В ассоциативный ряд, возникающий у него в сознании при произнесении слова «инвалид», эта девушка не вписывалась совершенно… Крепкие руки, меткий глаз, мускулистая спина под тонкой спортивной маечкой. Рядом с нею, теперь, после представления на балконе, он чувствовал себя в абсолютной безопасности…
— У меня только одна почка, нет селезенки и полимерный протез вместо нижнего ребра, — с шокирующей откровенностью пояснила она, — а всё, что я умею в жизни — это попадать с полукилометра в некрупную дыню, так что…
Она замолчала, протирая корпус пистолета. Гладкие бугорки мышц перекатывались у нее на спине. Малколм был потрясен, сначала он не мог вымолвить ни слова, потом спросил осторожно:
— И тебе не тяжело… работать у Афины?
— Стрелять по живым, знаешь ли, всегда тяжело, хоть с одной почкой, хоть с двумя. Но, что поделаешь, работа такая, — признала она со вздохом, и добавила сердито:
— Хватит болтать. Тебе давно спать пора. Давай не выдумывай, разбирай постель и ложись по нормальному. В одежде, по себе знаю, как следует не выспаться.
— А как же ты? — спросил он и почему-то заволновался.
— Я отдохну в кресле.
Она сдернула с кровати большое покрывало и, усевшись поудобнее, использовала его в качестве пледа, расслабленно откинула голову и прикрыла глаза.
Малколм был почти обижен тем, что эта суровая незнакомка до сих пор никак не проявила симпатии по отношению к нему. Разбалованный ухаживаниями с тринадцати лет, он успел привыкнуть к тому, что его ангельское личико и покорный взгляд огромных сапфировых глаз неизменно вызывают у девушек желание залезть к нему в штаны; он воспринимал как должное туманные намёки и даже откровенные домогательства, в то время как нормальное человеческое отношение уже казалось ему неестественным…
Поначалу у Малколма не возникало сомнений, что и мрачная охранница Афины, выбрав удачный момент, воспользуется пикантной ситуацией (весенняя ночь, они наедине в гостиничном номере) и возьмет с него всё. Он уже морально к этому подготовился, и даже почти хотел этого — да почему «почти»? — он хотел; забившись под одеяло, Малколм предчувствовал её прикосновения — они представлялись ему не слишком умелыми и по-солдатски чуть-чуть грубоватыми…
А она, оказывается, собиралась просто подремать в кресле!
Неужели он совершенно не кажется ей привлекательным? Эта мысль задела его, и Малколм решил сам проявить активность. Может, она просто стесняется? Он привстал на постели, намеренно столкнув одеяло со своего плеча так, чтобы это выглядело как будто оно соскользнуло само, он хотел еще разок продемонстрировать ей, как бы ненароком, какая у него кожа… Лилейная, лепестковая.
— Тебе там точно удобно? — спросил он, кокетливо взмахнув длиннущими ресницами.
Ироничная ухмылка тронула ее узкие губы.
— Вполне, — ответила она, как ему показалось, с тонкой насмешкой, — не стоит так за меня переживать.
Малколма точно жаром опалило; он ни секунды не сомневался в том, что она всё поняла… И этот отказ, ироничным полунамеком, показался ему отчего-то таким унизительным, что он не смог сдержать обиды:
— А ты, я смотрю, идеальная охрана, — попытался съязвить он, натянув одеяло до подбородка, — не собираешь объедки со стола своей хозяйки…
В ответ на это она поднялась с кресла, подошла к кровати и присела на корточки у изголовья.
— Тот, кто был на войне, отлично знает цену объедкам, — произнесла она со спокойной улыбкой, на этот раз в ее словах не было совершенно никакой иронии, они прозвучали как никогда серьезно, и невыразимая глубина открылась в них Малколму, — почему не доесть, особенно если вкусно… Мы ведь не гордые, — она протянула руку и взяла юношу за подбородок, почти так же как когда-то Афина, только гораздо бережнее, повернула к себе его лицо и, глядя прямо в глаза, добавила с неожиданной нежной грустью:
— Только ты — это не объедки…
— Я совсем не хочу спать, — виновато прошептал он в ответ, — посиди со мной, просто посиди.
Они проговорили до самого рассвета, выпили в номере по порции кофе со сладким ликером и кокосовой стружкой, как она любила, но несмотря на это по дороге в Норд Малколм задремал на заднем сидении такси, положив голову на плечо строгой девушки в черном пиджаке, с которой он чувствовал себя в совершеннейшей безопасности, словно в раю или в материнской утробе…
Он плохо помнил, как перекочевал из такси на потертый диванчик в наблюдательной будке при входе в корпус общежития, все происходило в непреодолимой сладкой дреме; сквозь сон он слышал, как девушка в черном что-то тихо объясняла коменданту, шуршала бумагой, заполняя какие-то бланки. Потом исчезли все звуки и даже мягкий свет, просачивающийся сквозь веки: Малколм спал по-настоящему, глубоко и спокойно, ему казалось, что девушка, у которой он даже не спросил имени, до сих пор рядом, и теперь она уже никогда не оставит его…
ГЛАВА 8
Малколм проснулся, когда за высоким маленьким окном будочки вахтера уже звенел вовсю весёлый весенний день. Он медленно потянулся всем телом, спустил ноги с потертого диванчика и сел, рассматривая всё вокруг словно впервые, с неведомо откуда появившемся радостным изумлением.
— Ну что, нагулялся? — недобро покосился на него вахтер, седой патлатый пожилой мужчина, — смотри, не пожалей потом, — добавил он чуть более сурово, встретив беспечно-счастливую улыбку Малколма, — ранние любови пройдут, а репутацию не отмоешь, — вахтер машинально погляделся в лежащее на столе зеркальце, — я вот тоже в молодости был красавец, девчонки по пятам табунами ходили, земные блага градом сыпались, рестораны, цветы, дорогие подарки и развлечения… а теперь вот сижу тут за жалкие гроши… потому что никогда ничего делать не умел, а учиться даже не пробовал. Зачем? — думал, всю жизнь на содержании прожил, а теперь вот, кому такой я надобен? — патлатый вахтер для пущей убедительности слегка дотронулся пальцами до своего морщинистого лица, — так что опомнись парень, пока не поздно…
Малколм не слушал, он продолжал улыбаться охватившему его удивительному чувству неисчерпаемой внутренней радости и полноты существования. Он встретил сегодня самую лучшую девушку на земле! Юноша еще разочек потянулся и, поднявшись, взглянул в маленькое оконце на лоскуток яркого весеннего неба.
Как прекрасен мир!
Только где же она? Если она ушла, то почему не сказала, когда вернется?
Малколм открыл было рот, чтобы спросить у вахтера о девушке, но только сейчас до него дошло, что, успев в течении этой сумбурной невероятной ночи переговорить с нею практически обо всем, он так и не узнал ее имени!
— Простите, господин вахтер, — вежливо обратился он к патлатому мужчине, постаравшись вложить в приветственную улыбку как можно больше переполняющего его восторга, — а та девушка, которая меня привела, она еще заполняла что-то у вас на столе, вы не запомнили случайно, как её зовут?
Вахтер взглянул на него с сердитым изумлением.
— Да ты что? Знаешь сколько у меня тут всяких разных бумажки пишут? Где же упомнишь? — старик отхлебнул что-то из фляжки, стоящей на краю стола, — ну молодежь пошла, ужас! У меня, — добавил он чуть погодя, — сто двадцать три возлюбленных было, и я их до сих пор всех по порядку назвать могу! А сейчас… И имен не спрашивают. Всё сразу и не глядя… Ну времена, ну нравы…
Вахтер снова отхлебнул из фляжки.
— Сам помнить должен с кем шатался! — вытянув вперед шею как сердитая птица, негодующе шикнул он на Малколма.
— Простите… — юноша бессознательно подался назад, — ну, может быть, у вас хоть бумаги эти остались… — робко предположил он.
— Всё к директриссе уже пошло, — ворчливо отмахнулся вахтер, — любит — сама придет, а не любит, так дурак, выбирать не умеешь.
— Спасибо, — аккуратно притворив дверь будочки, Малколм направился к себе наверх.
Безбрежная радость быстро таяла, сменяясь отрезвлением с горьковатым привкусом предчувствия расплаты.
«К директриссе, к директриссе…»
Унизительная процедура «принятия позора» всегда проходит в малом ковровом зале, примыкающем к кабинету Аманды Крис.
Эта изысканная пытка проводится весьма торжественно — приглашенные собираются, со строгими вытянутыми лицами прочитывают речи, и воспитанник, нервно переступая с ноги на ногу на красном ковре, дрожащими руками принимает из рук директриссы чёрный галстук и закрепляет его на рубашке. Затем кланяется, произносит несколько слов в свое оправдание, отходит, опустив голову, красиво разворачивается, и с достоинством покидает зал, ступая по ковру безупречно отполированными туфлями…
Нужно одеться как можно лучше. Пиджак и брюки должны быть как следует отпарены, и ни в коем случае нигде нельзя обнаружиться жирному пятну или небольшой дырочке. Собираться следует будто на свадьбу или на похороны — собственные! — с невероятной тщательностью. Никаким случайностям не позволено вмешиваться в ход этого мрачного, но красивого ритуала…
Малколм открыл шкаф. Вот они — строгие чёрные брюки, чистые, отглаженные, ничего не надо делать — только надеть, он очень редко их носил, предпочитая более свободный стиль. Вот — пиджак. Белая рубашка. Подержав вешалку в руках, юноша водворил её на место. Нет уж! Не дождутся. Больше он не собирается играть по их правилам.
Малколм улыбнулся.
Он принялся доставать из шкафа одну вешалку за другой. Критически разглядывал каждую вещь, хмурился, прикидывал на себя и вешал на место.
«Где тут у меня самое вызывающее шмотье?»
Юноша выбрал для предстоящего мероприятия нежно-голубые невероятно узкие джинсы-клеш и яркую шелковую рубашку с цветами и птицами, которую он обычно носил только во время летних каникул. Малколм чувствовал ту необыкновенную легкость прощания с прошлым, которая обычно приходит лишь с мудростью или с осознанием обреченности; он ясно понимал, что теперь его жизнь никогда уже не будет прежней, но жалеть о чем-либо глупо, тем более если благодаря этой ночи, проведённой за стенами Норда и низвергнувшей его в позор, он познакомился с самой лучшей девушкой на земле!
Малколм извлек из ящика стола косметичку.
Освежил губы прозрачным блеском. Не спеша накрасил ресницы. Для полноты образа он решил нарисовать себе особенно яркие стрелки — пусть ворчат! — несколько чётких карандашных линий, проведённых привычной уверенной рукой — и его огромные выразительные глаза как будто стали ещё больше…
В последний раз взглянув на себя в зеркало он игриво приподнял бровь и ухмыльнулся: мы, дескать, ещё посмотрим, кто кого…
Лишь одно обстоятельство теперь печалило его.
Саймон.
Согласно неписанному правилу запятнавшего свою репутацию Малколма как юношу, подающего не самый лучший пример, должны были лишить шефства над младшим товарищем…
В дверь постучали.
— Это я, — раздался знакомый голосок.
Малколм открыл, склонился и без слов обнял своего питомца.
— Я знаю, что произошло, тебя не было ночью, и ты теперь должен идти к директриссе, — Саймон тоже обнимал его, изо всех своих детских силенок прижимая к себе, — пожалуйста, скажи им, чтобы они не отнимали меня у тебя, я не хочу другого старшего брата, я никого не хочу кроме тебя, я буду прятаться от них, ломать их электронные карточки и плевать им в суп… Пожалуйста, скажи…
Мальчик умолк и теперь просто плакал, уткнув носик в пахнущую модной туалетной водой цветастую рубашку Малколма.
— Ну хорошо, я скажу, я обязательно им скажу, — растроганно прошептал тот, чувствуя, что и по его собственной щеке скатывается большая прохладная слеза.
В ковровом зале все уже собрались — классный наставник, педагог-психолог, главный смотритель общежития, заместитель по учебно-воспитательной работе, ну и, конечно же, директрисса. На них были одинаковые черные костюмы — торжественные и простые, они свободно расселись за стоящим в центре зала подковообразным столом из плотной роскошной древесины — и в первую секунду Малколму подумалось, что они похожи на сборище хищных птиц.
— Добрый день, — сказал юноша.
Преодолевая робость, он ступил на красный ковер и красиво, стараясь не суетиться, словно на церемонии вручения кинопремии, прошел по нему от двери к столу.
— Госпожа Крис, госпожа Кролло, — Малколм не спеша продвигался вдоль изогнутой подковы стола, легким поклоном приветствуя каждое присутствующее официальное лицо, — господин Грив, господин Смотритель, господин Наставник…
Когда он покончил с этим, ему пришлось немного вернуться назад, чтобы стоять, как следовало, точно напротив директриссы.
— Добрый день, — поздоровалась она, и быстро взглянув на него, снова опустила глаза в разложенные на столе документы, — мне жаль, что сегодня мы вынуждены собраться здесь по такому печальному поводу.
Бумага, ослепительно белая в лучах дневного света, льющегося из окон, неодолимо притягивала Малколма — ему в голову пришла несуразная мысль, что среди всех этих выписок, заявлений, сводных таблиц успеваемости и прочей чертовщины, лежат те листочки, которые нынче утром заполняла она, и, если подойти еще чуть поближе да поднапрячься, можно будет их отыскать и даже прочесть имя…
— Вот распечатка номеров электронных ключей всех проходивших вчера вечером в общежитие, госпожа Крис, — поднявшись со своего места, доложил смотритель, протягивая в пространство еще один сверкающий лист.
Его подхватили и передали.
— Как вы понимаете, вашего номера здесь нет, — директрисса не глядя положила листок на стол рядом с прочими и взглянула на Малколма.
— Нет, — ответил он почти весело, обведя глазами всех присутствующих. Эти черные кабинетные птицы явно ждали от него виноватого бормотания, сумбурных объяснений или избитых оправданий. А ему сейчас почему-то хотелось расшалиться, запеть, рассмеяться им прямо в лицо, вскочить на этот нелепый подковообразный лакированный стол, смести все их дурацкие бумаги, чтобы они взвились белой шелестящей стаей, подпрыгнуть, раскинув руки, и вдруг полететь… По причине своей хронической неуспеваемости всегда молчаливый и боязливо-робкий на занятиях, Малколм удивлялся сейчас этой внезапно пробудившейся в нем нагловатой беспечности.
— Вы совершили проступок, и сами знаете о том наказании, которое последует, мы не в силах ни отменить, ни смягчить его, такова традиция, и единственное, что мы можем для вас сейчас сделать, так это выслушать причины, побудившие вас навлечь на себя позор.
— Да не такой уж позор, если подумать, — непринужденно и храбро возразил Малколм, эти слова родились сами собой, ему не потребовалось никаких усилий на преодоление невидимого барьера допустимое-недопустимое, — я ужинал в ресторане «Эльсоль» с самой Афиной Тьюри.
Черные птицы тотчас вскинули свои головы. Директрисса чуть нахмурилась, остальные смотрели недоверчиво и почти враждебно.
— Да он над нами смеется, — шепнул смотритель общежития сидящему рядом классному наставнику.
— Дайте мне объяснительную, — потребовала Аманда Крис своим обычным официальным тоном и выжидающе протянула руку в сторону своей заместительницы.
Та принялась лихорадочно рыться в лежащих перед нею бумагах, потом, вдруг побледнев, шикнула смотрителю, призвав его тем самым прошерстить те документы, что находились в зоне его досягаемости.
— Где же она? Колченогая собака! — обреченно прошептала госпожа Кролло.
— Электронную копию не сделали? — директрисса никак не переменилась внешне, лицо ее оставалось таким же пугающе спокойным, но было понятно, что она в данный момент очень зла на своих подчиненных.
— Это всё вахтер… У него вечно такой беспорядок на столе, — бормотал в свое оправдание смотритель, разглядывая поверхность лакированного стола перед собой.
— Олух! Надо было давным-давно его уволить! Жалко тебе деда стало, вот и разгребай теперь его косяки! И отвечай за них! — шепотом крикнула ему через стол госпожа Кролло.
— В связи с пропажей главного документа, в котором свидетелем указано место вашего пребывания минувшей ночью, ваши слова остаются единственным источником информации, посему убедительно прошу вас говорить правду, — директрисса требовательно взглянула на Малколма.
Ее большие глаза, казалось, надвигались на юношу своей мрачной карей глубиной. Прежде, наверное, ему стало бы очень страшно. Но сейчас почему-то казалось самым важным то, что исчезла записка, и он так никогда и не узнает, как ее зовут… А на все остальное было решительно наплевать.
— Я же сказал. Афина Тьюри пригласила меня на ужин в ресторан «Эльсоль». Что непонятного?
— Не дерзи.
Директрисса снова нахмурилась, она угрожающе сдвинула брови, собираясь еще что-то сказать, но в разговор включился никак не проявлявший себя до этого педагог-психолог, полный молодой мужчина, он слегка наклонился вперед и обратился к Малколму вкрадчивым ласковым голосом:
— Как вы оцениваете свое столь скорое решение поддаться соблазну, пусть даже такому, — он ненадолго замешкался, подбирая слово, — мощному?
Малколм едва сумел сдержать рвущийся наружу смех. Все происходящее показалось ему вдруг таким бессмысленным и несерьезным! Подумать только, все эти важные птицы слетелись сюда, чтобы всерьез обсуждать необходимость ношения им, Малколмом, на шее какого-то лоскутка плотной чёрной материи! Это заседание запланировано и продумано, внесено в ежедневное расписание администрации, сидящий в углу секретарь скрупулезно ведет протокол… В каждой эпохе, культуре и общественной формации есть свои фетиши. К сожалению, люди слишком часто придают пустякам несоразмерное значение.
— Теперь у тебя точно есть повод уволить этого старого дурака, — шипела госпожа Кролло над столом смотрителю, слегка склонившись в его сторону, — не жалеть надо, а объективно оценивать деловые качества сотрудника.
— Но это же просто вахтер… — пришибленно возражал ей смотритель, — ему же есть будет нечего, если я его выгоню, он же совсем старый и больной.
Заместительница директриссы раздраженно махнула рукой и отвернулась.
— Вы затрудняете ответить на поставленный вопрос? — деликатно подтолкнул педагог-психолог Малколма к развитию разговора.
— Да, затрудняюсь, я вообще не понимаю, что я должен вам говорить, — спокойно произнес юноша, — Ну поддался и поддался. Или вы хотите, чтобы я сам себя за это осуждал?
— Видите ли, — мягко возразил психолог, — наша задача воспитательная, и мы должны научить вас различать хорошее и дурное, в этом цель образования… Так как вы считаете, ваш поступок всё-таки можно назвать правильным?
— Я не могу… Не могу… — возбужденно шептал смотритель общежития, — как я буду смотреть ему в глаза…
Директрисса краем глаза поглядывала на часы и читала какие-то бумаги.
— Ладно, — заключила она веско, — хватит, у меня через пятнадцать минут важный телефонный разговор. Пусть расскажет всё как было и возвращается к себе.
— Где вы были этой ночью? Отвечайте? — директрисса оторвала взгляд от своих бумаг и посмотрела на Малколма.
— Сначала я ужинал с Афиной Тьюри, это правда, — повторил Малколм уже в третий раз, стараясь не терять спокойствия, — потом она куда-то ушла и оставила меня со своей телохранительницей. Было уже очень поздно, мы старались успеть, она везла меня на машине, но на выезде из города мы поняли, что за нами погоня… Из той машины начали стрелять…
— Знаете, что, — Аманда Крис бросила на стол документы, которые читала. Они опустились на гладкую поверхность с легким шлепком, — вы оставьте эти свои шуточки. Иначе я вас просто отчислю. Успеваемость у вас хуже некуда, по всем предметам причем… Отправитесь в приют для бездомных, улицы мести или… Шестнадцать ведь вам уже исполнилось, верно?
Малколм кивнул.
— Вот и отправитесь. По адресу. Приберегите свои россказни про погони и перестрелки для более подходящей аудитории.
— Но это всё правда, — юноша готов был рассердиться на этих напыщенных птиц за то, что они ему не верят — как можно вот так просто взять и не поверить человеку? — Он знает, что его накажут. Он не стремится избежать наказания. У него нет причин лгать. Почему они тогда не верят ему?
— Я не сделал ничего плохого. Те, кто был в машине ранили девушку, и я сделал ей кровоостанавливающую повязку из своего галстука… Больше ничего под рукой не оказалось, но нужно было срочно перевязать рану…
— Какую рану? Что за чушь вы мелете? Прекратите! — из-за стола поднялся классный наставник, он покраснел лицом и глаза его гневно вспыхнули.
— Скажи нам правду, — толстый психолог плавно встроился в разговор, — никто не будет ругать тебя… Со многими подростками это случается. Ты провел ночь в гостинице с девушкой, ведь так?
Малколм понял: шансы, что ему поверят, равны нулю. Директрисса нетерпеливо постукивала ручкой по столу. Психолог елейно улыбался, ожидая признания. Классный наставник глядел на него, гневно раздувая ноздри.
Малколму вспомнилось, что раньше в канцелярской лавке возле библиотеки продавали забавные брелоки, толстых резиновых человечков, на каждом таком брелоке была круглая кнопка — нажимаешь на нее и начинают светится маленькие лампочки у человечка в глазах. Классный наставник в эту секунду выглядел точь-в-точь как лупоглазый человечек-брелок.
Сдержаться оказалось просто невозможно.
С Малколмом случилось то, чего он боялся с самого начала чудовищного ритуала «принятия позора». Он рассмеялся…
Величавое молчание коврового зала вытеснил в углы задорный молодой смех, наверное, впервые прозвучавший в этих стенах.
Малколм начал смеяться и никак не мог остановиться. Он смотрел вокруг — строгие позы, постные лица, официальные бумаги с гербовыми печатями — с каждой секундой ему становилось только смешнее…
Секретарь, который вел протокол, положил ручку. Ходили слухи, будто Аманда Крис спит с ним, а он всё плачет и требует, чтобы она развелась со своим мужем; по этой причине он то рвет отношения, то вновь возвращается, а она который год кормит его пустыми обещаниями честного брака.
Малколм продолжал смеяться.
— Истерика, — деловито объявил вполголоса психолог, — я же не раз говорил уже вам, госпожа директрисса, что пора заканчивать с этими разборами полетов, они травмируют подросткам психику.
— Я подумаю об этом, — бросила Аманда Крис, вставая.
Она снова глянула на часы и уверенным шагом направились к выходу. Секретарь проводил ее большими грустными глазами.
— Заседание окончено, — провозгласила, оставшись за главную, её заместительница, госпожа Кролло.
Все поднялись со своих мест, зашелестели бумагами. Воспользовавшись этой заминкой, Малколм подбежал к смотрителю общежития, осторожно тронул его за плечо, и, просительно заглянув в глаза, шепнул ему:
— Прошу вас, пожалуйста, не увольняйте старого вахтера…
Сказал так и помчался к двери. Ему представилось в этот момент как большие черные птицы окружили старого седого воробья, клюют его со всех сторон и хлопают крыльями.
— Совсем стыд потерял, — покачал головой классный наставник, — ну ничего… я с ним еще поговорю.
После скандала с прогулянной ночью количество поклонниц Малколма ощутимо увеличилось, и многие из них стали теперь гораздо смелее: мысль, что при должной напористости они могут получить нечто весьма лакомое, придавала им решимости.
Юношу продолжали задаривать мягкими игрушками, которым уже в небольшой комнате не находилось места — ими набит был шкаф, они громоздились в углах, на полу, сидели на столе, на стульях и даже пробрались в ванную.
Малколму писали и звонили, приходили и ошивались под окнами.
«Какое счастье, — думал он иногда, сидя на широком подоконнике и глядя вниз, — что девчонок не пускают в мальчишескую общагу! Вот ад начался бы, если бы они поднялись ко мне сюда и стали барабанить в двери!»
Ему не было до них никакого дела. Пусть стоят-мерзнут, если им это так нравится. Отныне Малколм мог думать только об одной девушке. Каждое утро он с надеждой открывал свой электронный ящик, надеясь найти там письмо с неизвестного адреса.
Но — ничего. Одни рекламные рассылки.
Когда звонили с незнакомых номеров, у юноши всякий раз сладостно замирало сердце: может быть это она?
Дни проходили, но от нее по-прежнему не было вестей. Неужели она могла забыть о нем? Или попросту не придала их встрече значения соразмерного тому, какое придал он? Так ведь тоже бывает, и нередко. Никогда нельзя предугадать, как отзовется в чужое душе твой порыв и какой образ ты оставишь в ней, отразившись словно в изогнутом зеркале, всего на миг.
Тоска постепенно овладевала Малколмом. Он пропускал занятия, подолгу оставаясь в одиночестве у себя в комнате, почти не гулял и не развлекался.
Однажды он сидел как обычно на широком подоконнике, обхватив руками колени, и глядел сквозь стекло на пасмурный весенний день. Снег окончательно сошел, было грязно, но кое-где у черной слякоти уже отвоевывала пространство тонкая молодая трава.
— Малки! Эй, Малки! Мы тебя видим! Ну спустись же, хватит депрессовать, давай в кино сходим, а не хочешь в кино — так в мороженицу заглянем, ну а если совсем никуда не тянет — посидим поговорим… Ну Малки, ну не вредничай… Самому ведь скучно!
Внизу стояли две знакомые девчонки. Симпатичные, веселые. Отчего бы действительно не пойти с ними куда-нибудь? Поболтать, пошутить, может быть даже позволить пару раз себя поцеловать… Одной из них. Или даже обеим. Пусть потом сами разбираются между собой. Раньше Малколм так бы и поступил, не задумываясь. Но позади осталась ночь, единственная ночь без сна, вся сотканная из улыбок, шепота, шагов в гостиничных коридорах — первая ночь открытий и обретений; а в ней — самая лучшая девушка на земле, о которой ему известно лишь то, что у неё всего одна почка, нет селезенки, полимерный протез вместо нижнего ребра, и всё, чему она научилась в жизни — попадать с полукилометра в некрупную дыню…
После такого уже просто не может быть как прежде.
Малколм встал на подоконник и открыл форточку.
— Если вы сейчас же не уйдете, рассержусь, предупреждаю! — прокричал он стоящим внизу, — я ведь не единственный парень на необитаемом острове, в самом деле! Оставьте меня в покое!
Одна из девушек обиженно нахмурилась.
— Да хватит уже ломаться! Рано или поздно всё равно ведь согласишься! Куда денешься теперь…
— Денусь, — завопил Малколм, — вот увидите! Сгорю, сквозь землю провалюсь! Как же вы все мне надоели! Убирайтесь отсюда! — юноша спрыгнул с подоконника и принялся лихорадочно собирать по комнате дареных мягких медведей, зайцев, белочек, собачек, плюшевые сердечки, обшитые кружевом, — Проваливайте сами и забирайте свое барахло! — кричал он, одну за другой запуская игрушки в открытую форточку, — вон! Видеть вас больше не могу!
Малколм пытался выплеснуть в этом истерическом монологе отчаяние и тоску, выбросить вместе с этими комками плюша и ваты по кусочку всю свою боль, но она открывалась в его душе только глубже по мере того, как он начинал её осознавать.
Подаркопад продолжался до тех пор, пока в комнате юноши не осталось ни одной мягкой игрушки.
Саймон крепко держал данное названному брату слово: с тех пор как классный наставник попросил присматривать за ним другого юношу, Фича, ни дня не проходило без какой-нибудь выходки, способной доставить всем, а несчастному Фичу в первую очередь, массу неприятностей. Мальчик осознавал, что поступает не вполне справедливо, устраивая регулярные головомойки этому пухлому немного заторможенному подростку, ведь не по собственной воле тот явился на место отстраненного от всякой воспитательной практики Малколма.
В первый же день в знак своего протеста Саймон запер бесцеремонно навязанного ему старшего товарища в умывальной в своей комнате. Фич из-за этого опоздал на занятия на целых полчаса; и никто не знает, был бы он вызволен из плена милостью Саймона хотя бы к обеду, если бы его крики и стук в стену не услыхал проходивший мимо уборщик.
Фич со слезами поведал обо всем своему классному наставнику, но тот лишь покачал головой и посоветовал юноше набраться терпения:
— Будь снисходительным к нему, дружок, смена помощника все-таки сильный стресс для ребенка, парнишке нужно время, чтобы привыкнуть, он обязательно полюбит тебя, вот увидишь.
Но Саймон был не из тех, кто привыкает. Природа наделила его способностью любить чутко, глубоко и пламенно, но лишь немногих, тех, кого однажды само выбрало его капризное сердце. И оно выбрало Малколма. Сколько бы они ни ссорились, как бы сильно Саймон ни обижался на него, это всё проходило, и снова хотелось прижаться к старшему брату, припасть к его груди, вдохнув знакомый аромат туалетной воды, ощутить его мягкие прикосновения к затылку, услышать тихий ласковый голос.
— Сэмми… Ах, Сэмми. Мой маленький Сэмми.
Ни в чьем исполнении эта фраза не звучала так проникновенно и нежно. И ничья рука не умела гладить и ерошить волосы, чтобы становилось тепло как от cолнечного пятна или от котенка.
На другой день Саймон вымазал зубной пастой куртку Фича. Тот ничего ему не сказал, и на этот раз даже не стал жаловаться, просто молча удалился, чтобы почистить её, а потом переходил из общежития в учебный корпус в мокрой куртке — другой у него не было.
Саймон не сдавался. Мелкие пакости продолжались. Каким-то образом он узнал пароль от учебного аккаунта Фича, и однажды удалил его файлы с аккуратно выполненными заданиями прямо перед началом занятий. Юноша опять не стал ничего говорить, он просто не попытался взять Саймона за руку по дороге в учебный корпус, как прежде, а пошел немного впереди, сгорбленный и очень жалкий. Даже по его широкой мягкой спине заметно было, как он страдает.
Саймон нагнал его и, заглянув в лицо, понял, что Фич плачет. Крупные капли неслышно катились по его пухлым щекам. И тогда Саймону стало стыдно, так стыдно, что запершило в горле и показалось, что у него самого глаза вот-вот наполнятся непрошенными слезами. Он ведь не был злым по природе, ему совершенно не хотелось мучить этого безответного толстяка, он лишь пытался использовать его, чтобы добиться возвращения Малколма. При любом терроре, как известно, появляются невинные жертвы…
Саймон пошел к классному наставнику и сам во всем признался.
— Прости, малыш, мы все очень хорошо тебя понимаем, ты сильно привязался к Малколму. Принимать перемены всегда трудно, в особенности такие… Но установленные правила запрещают нам доверять воспитание младших подросткам, ведущим неподобающий образ жизни. Чему он может научить тебя? Сердечные привязанности закрывают нам глаза, трудно судить тех, кого мы любим. Но постарайся все же взглянуть объективно: Малколм плохо учится, у него хвосты по всем предметам, с которыми он даже не пытается бороться, в последнее время у него появились проблемы с поведением, которых раньше не было — он приходит на занятия, когда хочет, дерзит преподавателям, и стал одеваться — прости за сравнение — как те парни, что выходят вечерами на обочины автодорог. Эти вечно расстегнутые почти наполовину рубашки, джинсы в облипку, неумеренно ярко подведенные глаза… Куда это годится?
Саймон осознавал правоту наставника, и у него, как ни прискорбно, не нашлось аргументов в защиту любимого названного брата, кроме, пожалуй, одного: несмотря ни на что, тому удалось сохранить удивительную редкую чуткость сердца… На память Саймону пришел замечательный случай, произошедший в первый год его пребывания в Норде, по весне. Как-то после занятий они возвращались вдвоем в общежитие, и Малколм заметил брошенную на асфальт веточку с сочно набухшими почками. Юноша наклонился и поднял её.
— Смотри-ка, она ведь еще живая, — сказал он Саймону, — жалко, если её затопчут ботинками.
Малколм взял веточку с собой и поставил в своей комнате в воду. Через неделю она пустила корни, и заботливый юноша отнес её на пустырь, расположенный между огороженным футбольным полем и зоной гаражей — он вырыл там небольшую ямку и посадил ставшую уже маленьким деревцем ветвь. С тех пор он почти каждый день навещал её после уроков, когда с Саймоном, а когда и один, поливал, если было особенно сухо, даже удобрял почву. Чтобы хрупкий саженец не побило ветром, Малколм привязал его к воткнутой рядом палочке.
— Когда-нибудь он станет большим деревом, — говорил юноша своему названному брату, — и мы с тобой, уже взрослые, придем сюда снова, чтобы посмотреть на него.
— Вот видите, какое у него доброе сердце, — сказал Саймон наставнику в заключение, — спас растение; а еще он в прошлом году заставил Мидж Хайт влезть на большое дерево во дворе, когда нашел на земле выпавшего из гнезда птенца…
— Этого недостаточно, — вздохнул наставник, — чтобы чего-то добиться в будущем, нужна в первую очередь дисциплина. Стремление к самоорганизации. Отсюда берется и целеустремленность, и упорство, и трезвая оценка собственных возможностей. Только высоко организованный человек может что-либо создать. А творчество — научное, художественное, производственное — главная цель жизни полноценной личности. Именно способность к нему отличает нас от животных. И поэтому развиваться — долг каждого. Перед обществом и перед самим собой.
После этого разговора Саймон перестал издеваться над Фичем. Но в глубине души он так до конца и не согласился с доводами наставника.
«Неужели любовь всегда означает подражание? Почему они считают, что, продолжая общаться с Малколмом, я возьму от него только самое плохое? И даже если все их доводы справедливы, то какие великолепные душевные качества сможет привить мне Фич, который совершенно не умеет защищать свою точку зрения, чуть что запирается в комнате и после каждого обеда клянчит у соседей по столику десертные булки?»
Прошла неделя. Отношения Саймона с новым помощником мало-помалу налаживались, однако назвать их теплыми нельзя было даже с натяжкой. Мальчики ни о чем не разговаривали, занимались по вечерам молча — в полной тишине слышалось лишь напряженное сопение Фича над какой-нибудь особенно трудной задачей — и, расходясь перед сном, оба испытывали облегчение.
Но как-то раз после занятий, когда они проходили через спортивную площадку, их окружила стайка ребят и девчонок, которые принялись дергать и дразнить скромного юношу.
— Жирный Фич, толстый Фич, ты пойди в сортир похнычь!
Это продолжалось несколько минут. Они выкрикивали обидные прозвища, пытались отобрать у Фича сумку и пересказывали друг другу позорные истории с его участием; Саймон видел, что его спутник уже находится на грани, несчастный толстяк готов был расплакаться, увеличив тем самым злорадство насмешников… Саймон решил вмешаться. Он выступил вперед и, заслонив собою Фича, очень спокойно, но отважно потребовал:
— Прекратите сейчас же! Что он вам сделал? Если кто-нибудь из вас скажет еще хоть слово, я буду драться с вами.
В его негромком детском голоске чувствовалась такая твердость, что взбудораженные подростки разом замолчали. Кое-кто усмехнулся, шепот пронесся сквозь группу ребят словно ветер в листве. Что-то из серии: «Теперь он прячется за спину своего малыша.»
— А я ему помогу, — раздался неподалеку знакомый голос.
Возле турника, молодцевато подбоченясь, стояла Онки Сакайо.
— Пойдемте, ребят, с ней драться — действительно зубов наешься… — сказал кто-то, и насмешники скоренько рассеялись по спортивной площадке.
Саймон демонстративно отвернулся, когда Онки сделала несколько шагов по направлению к нему.
— Все еще дуешься на меня? — спросила она, подойдя ближе, — как хочешь…
Саймон не поворачивался, по его щекам хлынула горячая краска, когда девочка к нему обратилась, и он не хотел, чтобы она заметила его волнение.
— Спасибо, — тихо пробормотал Фич, смущенно склонив свою круглую голову.
— Не меня благодари, его, — Онки слегка кивнула в сторону Саймона, деловито разглядывающего предупредительный плакат об опасных трюках на снарядах спортивной площадки.
Она разбежалась, подпрыгнув, ухватилась за турник, закинула на него ноги и повисла вниз головой.
— Воображала… — прошептал Саймон; боковым зрением он наблюдал за нею; заходящее солнце подсветило ее золотые волосы, свесившиеся вниз, сделав их яркими, как костер, легкая весенняя ветровка задралась, обнажив ремень джинсов и плотный белый живот, Онки прогнулась, снова ухватилась за перекладину и спрыгнула на землю.
— До скорого, — крикнула она, и небрежно махнув рукой, побежала прочь.
Этот случай на спортивной площадке немного сблизил Саймона и Фича. Конечно, настоящая дружба была для них по прежнему недосягаемой высотой, но теперь они хотя бы иногда говорили на посторонние темы, обсуждали, помимо учебы, фильмы, музыку, книги, а однажды Фич даже попросил у Саймона после обеда оставить ему половину десертной булочки с шоколадной помадкой, правда очень сильно при этом смутился.
— Да бери всю, — Саймон решительно подвинул тарелку в сторону товарища, — я всё равно никогда не могу её доесть…
Глядя на то, как Фич, прикрывая от удовольствия глаза, вслед за положенной ему порцией лёгкого диетического десерта уминает ароматную сдобную булочку, Саймон испытал одновременно жалостливое умиление и чувство вины — ведь по сути это медвежья услуга, отдавать десерт, порции в Норде рассчитаны для каждого по количеству необходимых белков, жиров, углеводов, калорийности, содержанию витаминов и минералов… Булочка с большой вероятностью могла навредить Фичу, но он ел её с таким упоением, что Саймон оставил свои сомнения. Пусть. Сам он почти никогда не доедал всего; иногда ему действительно не хотелось, а порой он вспоминал своего названного брата — однажды в обед Саймон, стоя в очереди по обыкновению позади, услышал, как Малколм вполголоса говорил стоящему рядом приятелю-ровеснику, что если юноши с детства много едят, то они грубеют и раздаются в кости, а это, как известно, не способствует успеху у противоположного пола.
— Они любят хрупких, понимаешь, худеньких, как тростинки… Все парни, которые в рекламе снимаются и в кино именно такие, — вдохновенно шептал он, — хуже всего для тела всякие мясные блюда, там много белка, от них растут мускулы…
И Малколм ел очень мало. Суп он всегда отставлял в сторону, если был очень голоден, то съедал целиком салат и гарнир, но самую сытную часть второго — котлеты, сосиски или тушеное мясо всегда оставлял на тарелке или кому-нибудь отдавал. И, наверное, поэтому, а может, просто повезло с генами, Малколм был тоненький, как стебелек, легкий — любая девчонка, наверное, даже хиленькая, вроде Онки Сакайо, смогла бы поднять его на руки, у него практически отсутствовали мышцы и почти не росли волосы на ногах. Впрочем, он всё равно брился каждый вечер в душе, тщательно следя, чтоб кожа во всех видимых местах оставалась нежной и гладкой.
Саймон вздохнул.
— Спасибо, — пробормотал Фич, дожевывая булку, — ты настоящий друг.
Онки Сакайо оказалась единственной, кому Малколм подробно пересказал события ночи, проведенной за пределами Норда, и его немного обидело, что она не особенно впечатлилась образом девушки в черном костюме, главным персонажем для него самого, а расспрашивала больше об Афине Тьюри:
— Какая она?
— Мне было немного страшно, когда она на меня смотрела.
— Это всегда так, если имеешь дело с чем-то гораздо более значительным, чем ты сам, во много раз тебя превосходящим…
— Ты её поклонница?
Онки помотала головой.
— Ни в коем случае.
Они шли вдоль ограждения футбольного поля к пустырю, на котором росло то самое дерево, которое Малколм посадил с Саймоном.
— А зачем ты вообще решил встретиться с нею?
— Сам не знаю. Меня посетило такое чувство, что всё прежнее больше не сможет ничему меня научить, не произойдет ничего удивительного; будет продолжаться изо дня в день одно и то же, а я буду, вращаясь в этом колесе повторяющихся событий как белка, в действительности оставаться на одном месте.
— Странно, что ты, неуч, так хорошо умеешь выражать свои мысли. Меня тоже иногда посещает подобное чувство, тебе удалось довольно точно его описать, — Онки, разбежавшись, поднялась на небольшой крутой холмик и глядя на Малколма сверху-вниз, добавила, — эффект перерастания собственной жизни. Приходит время, и нужно непременно что-то менять. Иногда даже очень круто.
Он улыбнулся своеобразному комплименту. Ему не приходило в голову обижаться на Онки, он принимал её высокомерие как неотъемлемую часть её сложной натуры, наряду со вспыльчивостью и максимализмом — все вкупе не лишено было определенного обаяния.
Она спрыгнула с холмика, и они снова оказались вровень.
— Это твое первое самостоятельное решение, — признала Онки, повернувшись к нему, — я тебя уважаю.
Он грустно усмехнулся.
— Зато теперь меня не уважают все остальные.
Онки махнула рукой так, будто отгоняла назойливую муху.
— Ерунда! Расскажи мне ещё что-нибудь об этой женщине… Сколько ей лет? Ходят слухи, что она уже очень старая, и внешний вид поддерживает только благодаря своим чудо-таблеткам…
Малколм задумался.
— Я не знаю… Мы не разговаривали на такие темы, чтобы я мог определить её возраст…
— Она не поминала случайно в разговоре, скажем, какое-нибудь историческое событие из прошлого, которому была свидетелем?
Малколм смутился.
— Нет. Мы не слишком долго говорили…
Онки нахмурилась.
— А по тому, как она выглядит… ну… сам понимаешь… без одежды… сколько ей можно дать? Ты ведь не станешь мне липу гнать, что между вам ничего такого не было?
Девчонка смотрела на Малколма прямо и просто, без всякого смущения. Ею двигало лишь беспринципное детское любопытство.
— Всё происходило в темноте; я не знаю, она ли подстроила это, чтобы скрыть свою старость, или так случайно вышло, я почти не смотрел на неё… — тихо сказал Малколм.
Онки шла опустив голову.
— И тебе нисколечки не было противно? — выдала она, круто повернувшись и взглянув на него.
Ей снова удалось вогнать Малколма в краску. Своей пронзительной наивностью, непосредственностью, совершенно неожиданным отношением к тому, о чём она спрашивала…
— Нет, — ответил он, спрятав взгляд, — мне даже понравилось…
Онки надолго замолчала, задумавшись. Одной Всемудрой ведомо, какие мысли роились у неё в голове, пока она шла рядом, хмуро глядя себе под ноги и теребя завязки спортивной курточки.
— Мы на месте, — сказал юноша, остановившись возле небольшого деревца, одиноко растущего на территории огромного пустыря. Оно было покрыто крупными, глянцевыми, вот-вот готовыми лопнуть почками.
— Весна, — Малколм присел на корточки, — поздравляю тебя, — сказал он, обращаясь к своему растительному питомцу, — в этом году, будем надеяться, ты ещё немного окрепнешь…
Онки осталась стоять чуть в стороне. Она не отрываясь смотрела на юношу и, любуясь его очаровательной улыбкой, предназначенной, по-видимому, тоненькому саженцу, всё ещё думала об Афине Тьюри. Невольно представив, как та своими алчными полными губами накрывает хорошенький ротик Малколма, девчонка с трудом подавила приступ тошноты.
«Кровожадной богине Кали принесена очередная жертва…»
Онки беспомощно сжала кулаки. Первородная ненависть к злоупотреблениям сильных мира сего в этот миг проснулась в ней окончательно.
ГЛАВА 9
Весна размахнула свои роскошные вышитые рукава во всю ширь. Небо наполнилось птицами. Деревья на территории Норда зазеленели, сначала робко, пастельно, а затем всё сочнее и сочнее. Воспитанники друг за другом сбрасывали длиннополые пальто, куртки, теплые шапки, и по вечерам с футбольного поля доносился веселый гомон — приближался сезон игр. Солнце теперь подолгу стояло над гаражами, но даже когда оно закатывалось, ещё некоторое время было светло — медленно таяла на горизонте алая полоска, на фоне которой так четко вырисовывались клеточки металлической сетки, окружающей поле.
В один из вечеров, не слишком подходящих для футбола из-за некстати испортившейся погоды, Саймон и Онки сидели рядом на стволе изогнутого дерева возле игровой площадки.
— Ты какая-то мрачная сегодня, тебе грустно? Неужели ты так расстроилась, что сегодня не погоняешь мяч?
— Нет, — ответила она, запрокинув голову.
Саймон бессознательно тоже взглянул наверх. Над ними клубилось бледно-серое пасмурное небо, ветер приносил время от времени мелкие капли дождя.
— Мне не грустно, — сказала Онки, — мне страшно. Только это не настоящий страх, не такой, когда боишься боли или смерти, а другой… Но он не меньше выбивает из колеи.
— Чего же ты боишься? — спросил мальчик. Тонкие пряди волос щекотали его нежный лоб; недовольно сморщившись, он убрал их рукой.
— Не твоё дело, -отрезала она.
В разговоре с ним Онки всегда пыталась показаться жестче, смелее, независимее, чем была.
— Ну почему же не моё? Мы ведь друзья… — Саймона опечалило её недоверие.
— Разве ты сможешь мне помочь?
— А вдруг смогу.
Онки усмехнулась. Саймон уже привык к её высокомерию и сумел убедить себя, что, когда дружишь с девчонкой, иначе просто не бывает. Он ведь всего лишь мальчик — мальчик! — маленькое беззащитное существо, а она — ооо! — девчонки гордые и сильные, они здесь главные, они созданы порабощать мир, и ему ли спорить с Онки Сакайо…
— Я не хочу участвовать в следующем туре олимпиады по математике, — сказала она.
— Но почему? — удивился Саймон, — Ведь в предыдущем ты, кажется, победила…
— Вот именно! Я хочу, чтобы меня запомнили победительницей… — Онки снова запрокинула голову, сердитым сильным движением, мягкие волосы её рассыпались, очки подпрыгнули на носу. Врач совсем недавно прописал их ей, и Онки безумно стеснялась очков, но тщательно делала вид, что даже гордится ими — она решила, что так ей удастся избежать насмешек.
Саймон как всегда внимательно слушал её.
— На следующем туре будут более сильные соперницы, и я боюсь не устоять против них… Я почти уверена, что на этот раз не стану лучшей… Понимаешь?
— Ну и что? В этом нет никакой трагедии… Хотя бы попробуешь свои силы…
Онки повернулась к нему с таким холодным режущим взглядом, что он сразу понял: говорить этого не следовало…
— Ничего ты не смыслишь! — Онки сжала кулаки, — Я этого просто не вынесу… Для меня не быть первой — это позор! Надо придумать какой-нибудь предлог, чтобы не участвовать в следующем туре…
— По-моему страх куда позорнее поражения, — заметил Саймон.
Онки снова взглянула на него со сталью в глазах.
— Но так я хотя бы смогу думать про себя, что я победила бы, если бы участвовала…
— Твоё тщеславие порой граничит с глупостью, — отчеканил он, отворачиваясь. — Страх — это уже поражение. Ты можешь сколько угодно тешить себя иллюзиями, но от этого не станешь более сильным игроком.
Онки сделала вид, что не услышала этих слов, такое за нею водилось, она намеренно оставляла без комментариев все реплики Саймона, хотя бы отдаленно напоминающие советы, дабы показать ему, что для неё поучения маленького мальчика совершенно ничего не стоят.
Оттолкнувшись от ветки руками, она легко спрыгнула на землю.
Саймон грустно смотрел ей вслед. И зачем он только простил эту упрямую воображалу? Он ведь клялся самому себе никогда больше не разговаривать с нею, застав их с полуодетым Малколмом в гараже…
Ему снова вспомнился день, когда Онки выпрашивала у него прощение. Началось с того, что она в очередной раз вступилась за Фича. За него постоянно приходилось вступаться — над ним не издевались, кажется, только ленивые…
Онки разогнала недоброжелательно настроенную компанию, на сей раз ей потребовалось пустить в ход кулаки и даже пришлось получить несколько ссадин — в качестве награды за свой «подвиг» она попросила Саймона поговорить с нею наедине. Он не хотел соглашаться, но Фич робко заметил ему, что они очень обязаны Онки, и посоветовал всё-таки внять её просьбе. И мальчику пришлось сдаться.
Сначала разговора не получалось, они злились друг на друга, каждый норовил съязвить побольнее, и Саймон сказал, что простит Онки только тогда, когда она порежет себе руки канцелярским ножом. Он не думал, что она это сделает, он обиделся и играл с ней в злую игру, но Онки взяла злополучный нож и полоснула себя несколько раз… Он и сейчас помнил, как ярко зажглись на светлой коже красные нити порезов. Она сжала руку в кулак, но с него все равно капала кровь. А потом она сказала, глядя ему прямо в глаза:
— Когда ты вырастешь, я поцелую тебя, Саймон Сайгон.
Это прозвучало в тот миг почти как угроза, ничуточки не ласково, скорее упрямо и хмуро, но это была самая приятная угроза из всех, какие только могут быть на свете, Саймон почувствовал, как мурашки побежали у него по позвоночнику, а жар прихлынул к лицу. И он простил её.
Вскоре после этого разговора Онки и Саймон снова поссорились, и на этот раз тоже совершенно по-взрослому — на разрыв.
Вышло всё как раз из-за поцелуев.
Саймону предложили играть в школьном спектакле. По сценарию девочка, исполняющая главную роль благородной разбойницы, в финале должна была слегка чмокнуть его в щеку, намекнуть зрителю на зарождающиеся чувства — Саймону доверили играть прекрасного Принца — и Онки, узнав об этом, неожиданно пришла в ярость:
— Неужели ты согласился?! Вот уж не ожидала от тебя. Ради какого-то дурацкого спектакля ты способен разрешить целовать себя неведомо кому!?
— Ну… ведь это же искусство. Просто дружеский поцелуй… И она не неведомо кто, я знаю Дейзи давно, мы с ней в одном классе…
— «Дружеский поцелуй!» — недобро передразнила Онки, — как же… Мы с тобой тоже, вроде, друзья, но что-то не очень ты подставляешь мне щечки для поцелуев!
— Ну… хочешь… поцелуй, — пробормотал Саймон быстро и покраснел.
— Не шутишь? — спросила она, как будто немного испугавшись.
— Нет…
С колотящимся сердцем Онки склонилась к нему и несколько раз осторожно потрогала сомкнутыми губами нежную щечку мальчика будто ароматный персик перед тем как надкусить…
Он даже зажмурился от удовольствия.
— Я не хочу, чтобы кто-то еще целовал тебя, — жестко заключила Онки, выпрямившись рывком.
Саймон взглянул на неё с лёгкой досадой за внезапно прерванное блаженство.
— Я запрещаю тебе участвовать в этой дурацкой пошлой постановке. Ясно?
— По какому праву? — удивился Саймон, — я же не твоя собственность?
— Пока да, но ты должен учиться подчиняться. Потом, когда мы вырастем, и ты станешь моим мужем, я буду главой нашей семьи, и ты будешь обязан во всем слушаться меня. Потому что я — женщина. Так принято в нашем обществе. И это — хорошо. Это — правильно…
Ощутив на себе напряженный пристальный взгляд его больших серьезных глаз, Онки воодушевилась и продолжала:
— Ты будешь носить мою фамилию… Саймон Сакайо, как тебе, нравится?
— Нет! — отважно заявил он, и хорошенькие губки его гневно задрожали, — На таких условиях — подавись ты своей фамилией! Я свободный человек, я буду играть в школьном спектакле, если захочу, и никогда — слышишь! — никогда не стану твоим мужем!
Он произнёс это громко, выразительно, точно в лицо плюнул, развернулся и побежал прочь, чувствуя, как щекочет в носу, как глаза заливают бессильные слезы гнева, обиды и какой-то новой болезненной нежной тоски.
Незадолго до начала каникул наставник попросил Малколма задержаться после занятий. Юношу это нисколько не встревожило — за последние несколько месяцев он так привык к нагоняям и замечаниям, что они перестали нарушать его эмоциональное равновесие.
— Сегодня мы с вами идем к госпоже Крис. Нам назначено на три часа, — объявил наставник, едва Малколм успел притворить за собой дверь кабинета.
— Зачем? — у юноши радостно встрепенулось сердце.
«Неужели они решили вернуть мне Сэмми!?»
Это было первое, о чем он подумал.
— Я не знаю. Она сама мне позвонила, и попросила проводить тебя в её кабинет, — наставник поднялся, поправил галстук, — идем скорее, а то опоздаем, только прошу тебя, ради Всеблагой, рубашку застегни под горло… Иначе стыдно с тобой по административному корпусу идти…
Директрисса сидела за столом в своем просторном кабинете, перебирая бумаги. Звук открывающейся двери заставил её поднять голову.
— Добрый день, Малколм. Садись, пожалуйста, — она указала юноше на удобный мягкий стул для посетителей, стоящий напротив директорского кресла по другую сторону широкого стола.
— Добрый день, — ответил юноша не без робости, обстановка кабинета, роскошная и вместе с тем аскетичная (всё очень изящно и дорого, но ничего лишнего) располагала к более смиренному поведению, чем помпезный ковровый зал.
— Садись же, чего ты ждешь? Не стой передо мной навытяжку, ты не девчонка, армия тебе не грозит… — директрисса слегка улыбнулась собственной шутке и, отложив бумаги, сомкнула руки в замок перед собою на столе, — располагайся поудобнее…
И вот тут Малколм по-настоящему насторожился. Еще никогда с ним не разговаривали до такой степени любезно, почти как с равным — после скандальной истории с «принятием позора» он сжился с постоянным ожиданием от представителей местной власти одних лишь взысканий, порой совершенно обоснованных, но иногда и напрасных.
— На мою электронную почту пришел запрос от крупного рекламного агентства «РичЧиф». Они хотят заключить с тобой контракт.
От удивления юноша не мог вымолвить ни слова.
— У них есть один капризный клиент, — продолжала директрисса, — автомобильная компания «Сиена Лаерта». Так вот. В тот вечер, когда вы ужинали в ресторане Эльсоль с госпожой Тьюри, — Аманда Крис говорила обо всём этом так, словно истинность рассказа Малколма о том вечере никогда никем не ставилась под сомнение, — за соседним столиком случайно оказалась одна весьма интересная леди, а именно — ведущий менеджер отдела продвижения компании «Сиена Лаерта». И теперь она во чтобы то ни стало хочет, чтобы ты снялся в их новом рекламном ролике, заказанном агентству «РичЧиф». Летом готовится выпуск на рынок очередной модификации автомобиля, Х-900, кажется, и они предлагают весьма неплохие деньги.
— Мне? — удивленно переспросил Малколм.
— Ну… и тебе в том числе, но, разумеется, если ты примешь все условия контракта и распишешься вот здесь и здесь, — директрисса бесцеремонно шлепнула на стол прямо перед носом юноши несколько скрепленных скобами листов офисной бумаги.
— Сколько примерно я получу?
— Где-то двадцать тысяч атлантиков, — Аманда Крис немного нахмурилась, как будто что-то подсчитывала в уме, и на лице ее заиграла довольная улыбка.
Малколм, как и все дети Норда, никогда в жизни не имел собственных денег больше, чем те пять-десять атлантиков, которые ежемесячно приходили каждому на личный электронный счет. По меркам воспитанников это была приличная сумма — ее хватало, чтобы пару раз сходить в кино и в местное кафе-мороженое, купить в маленьком магазинчике на территории какую-нибудь ерунду, заказать в интернете косметику, не слишком дорогой предмет одежды, игрушку или, если подкопить пару месяцев, даже гаджет. Отличникам платили больше, это было своеобразное поощрение за успеваемость, и у Онки Сакайо, говорят, даже образовались сбережения — огромная сумма! около двухсот или даже трехсот атлантиков! — она ведь не за кем не ухаживала, не спускала своих денег и почти ничего себе не покупала… Целых триста атлантиков! О богатствах Онки в Норде ходили легенды, и Малколм как-то спросил ее:
— Это правда, что у тебя так много денег?
Онки небрежно кивнула.
— А что?
— Да так. Просто интересно. Почему ты не тратишь их?
— Мне ничего не нужно, — ответила девочка, прицеливаясь, чтобы бросить мяч в баскетбольную корзину.
При таком положении дел совершенно не удивительно, что сумма в двадцать тысяч атлантиков сразу вскружила Малколму голову настолько, что он даже не придал особого значения окончанию фразы Аманды Крис, которое она намеренно слегка замяла:
— Это около тридцати процентов от суммы контракта… Так что, ты согласен? — переспросила она, настойчиво предлагая Малколму ручку.
— Да, да, конечно, — потрясенно прошептал он, послушно выводя свои инициалы в тех местах, куда указывал, скользя по бумаге, длинный хищный палец директриссы.
— За тобой приедут, — сказала она, снова пролистывая документы, по-видимому, для того, чтобы окончательно проверить, везде ли стоят подписи, — можешь быть свободен, — интонация её стала несколько небрежнее, чем в начале разговора, — до свидания.
После ужина с продолжением в отеле «Эльсоль», Малколм стал поневоле присматриваться к женщинам постарше. То, что он испытал тогда, в темноте, среди загадочных теней от штор и балдахина огромной кровати, не шло ни в какое сравнение с тем, что могли дать ему Мидж, Белка и им подобные…
«Директрисса, наверное, ненамного моложе Афины Тьюри, но всё же моложе…» — думал он в те мгновения, когда она своими ухоженными пальцами в эксклюзивных перстнях указывала ему, где ставить подписи. «Интересно, правду ли говорят, что у неё роман с секретарем?»
Напоследок, когда директрисса отвернулась, юноша осмелился с этой мыслью на неё взглянуть. На миг в его глазах она перестала быть всемогущей грозной директриссой, и стала просто женщиной. Довольно, кстати говоря, привлекательной.
Прядь каштановых волос, заправленная за ухо. Нежная линия шеи со свойственной зрелости едва заметной припухлостью под подбородком. Маленькие морщинки на лбу и у глаз видны только тогда, когда Аманда Крис хмурится.
Взрослые женщины ведут себя иначе. С ними гораздо интереснее. Они не кидают глупых понтов, не хвастаются, не мелют чепуху, не ходят в синяках. У них есть деньги не только на мороженое…
Афина Тьюри так необычно всё устроила. Точто это была и не близость вовсе. А нечто совсем другое. Волшебство. Загадочное, тёплое, нежное волшебство. И она ничего не говорила. Это Белка и Мидж постоянно болтали, нарушая всю романтичную таинственность воссоединения тел…
Афина Тьюри за всё время сказала только одну фразу. Странную.
— А ты ведь действительно светишься в темноте…
Едва Малколм покинул директорский кабинет, Аманда Крис вызвала к себе секретаря, прижав к дверному косяку, поцеловала его и, алчно блестя глазами, объявила:
— Ты будешь теперь ходить у меня в шиншилловых мехах, детка.
Смуглый юноша опустил взгляд и возразил несмело:
— Да мне этого не нужно… Вы знаете, чего я хочу больше всего на свете…
Несмотря на то, что их отношения давным-давно уже перешли известные границы, молодой секретарь всегда обращался к директриссе только на «вы».
— Опять ты начинаешь, — она досадливо поморщилась, — я же просила тебя обойтись без этих намеков. Автобус в пробке быстрее не поедет, даже если все пассажиры начнут браниться. Есть объективные обстоятельства, не позволяющие нам немедленно оформить отношения.
— Но сколько же ещё ждать? — тихо спросил он, подняв на Аманду Крис свои красивые грустные глаза, в каждом из которых зрачок — большая темная ягода — ловил блики оконного света.
— Это зависит от очень многих факторов, — она сразу заговорила суховатым деловым тоном, — мы ведь уже обсуждали это. В семье трое детей, и они уже вполне взрослые, их нужно правильно подвести к такой деликатной теме, обосновать им мое решение. Вдобавок надо будет обговорить с мужем долю имущества, которую он получит после развода, размер содержания, которое я должна буду выплачивать ему ежемесячно, алименты. Да что я буду повторяться? Молото-перемолото тысячу раз… Тебе нужно запастись терпением. Развод — дело очень серьезное.
— А когда свекровь не последний чин в прокуратуре — тем более, — горько съязвил он, — Я больше так не могу. Лучше увольте меня, с глаз долой из сердца вон, как говорится.
— Да брось… — Аманда ласково привлекла юношу к себе и попыталась поймать его губы, но он отстранился, — опять что-то на тебя нашло… А я уж размечталась… что вот сейчас как раз пара часов свободных у меня есть, поедем куда-нибудь, пообедаем, хочешь, в наш любимый «Домик на краю обрыва», весной там очень-очень красиво, зацветают кусты дикой вишни на скалах, ты знаешь… — она выпустила его из объятий и отвернулась, демонстрируя сожаление, — я так много работаю, нахожусь в состоянии постоянного нервного напряжения, а выдается редкая возможность расслабиться и — как назло! — любимый мужчина закатывает истерику…
Молодого человека кольнуло чувство вины. Оно всегда появлялось, когда она так отворачивалась и говорила с такой интонацией — как будто бы каждый раз нажимала на застарелую мозоль. Возможно, она делала это намеренно, но могло ведь так получаться и само собою — если речь идет о тонких духовных материях, никогда нельзя огульно обвинять кого-либо в фальши.
Юноша подошел к ней сзади, робко коснулся руки.
— Простите, пожалуйста…
И уже через несколько минут они неслись в служебной машине по автотрассе в направлении гор.
Саймон и Фич пересекали двор между корпусами общежития, когда в очередной раз встретили Малколма. Фич всегда очень сильно не любил эти моменты — он чувствовал опустошающую обиду, когда Саймон, с которым у него только начало зарождаться взаимное доверие, обрывал разговор на полуслове, забывал о нём, словно его и не было, и со всех ног бросался навстречу этому скандальному красавчику с неумеренно ярко подведёнными глазами…
Фичу приходилось стоять в сторонке и смотреть, как они обнимаются, шепчутся о чем-то, и как Малколм ласково гладит своего бывшего питомца по русой головке. Фичу казалось, что это длится целую вечность — все мы знаем, как мучительно тянется время, когда стоишь молча рядом со своим другом, встретившим кого-то тебе совсем чужого… И ещё Фич страстно завидовал Малколму. Как же легко тому достается любовь! Вот почему одни всё получают сразу и сполна, а другим приходится прилагать огромные усилия, чтобы выбить себе какие-то крохи!
Так было и на этот раз.
Саймон побежал навстречу Малколму, тот поймал мальчика почти на лету и слегка приподнял. Потом поставил на землю и поцеловал в макушку.
— Я уезжаю, Сэмми… — сообщил он с грустной улыбкой.
— Куда?
— Не знаю. Директрисса сказала, что мне предложили работать по контракту.
Саймон слушал, опустив голову. Длинная ровная челка скрывала его глаза.
— А ты вернешься? — спросил мальчик, подняв на старшего товарища взгляд — по-детски открытый и в то же время невероятно твердый — под таким невозможно было лгать…
— Конечно, малыш… — Малколм попытался сглотнуть комок, некстати подкативший к горлу, — я думаю, что это всего на пару месяцев, не больше. А потом я приеду, привезу много-много денег и подарю тебе велосипед. Помнишь, я обещал?
Саймон кивнул.
Это было давно, ещё в первый год его обучения в Норде. Он приехал из детского бокса молчаливым диковатым мальчиком и однажды по-детски неуместно нелогично заупрямился — не захотел идти на урок. Сначала он заперся в кабинке мужского туалета и никого не подпускал к себе, кидаясь бумажными шариками, а потом опустился на пол и стал тихонечко плакать. Тогда Малколм перелез через заграждение между кабинками, сел рядом и долго разговаривал с ним — ему на тот момент только-только дали шефство над Саймоном, они оба еще присматривались друг другу — он спросил малыша, как будто бы между прочим, чтобы заговорить зубы, какая у него мечта, и тот ответил, что хочет велосипед. Большой, двухколесный, с переключателем скоростей. Малколма тогда сильно огорчила невозможность немедленного исполнения этого желания, но он пообещал: когда он вырастет и найдет работу, первым, что он купит на свою зарплату, будет велосипед для Саймона.
Из донесшихся до него обрывков разговора Фич понял, что Малколма вскоре не будет в Норде и уже хотел было порадоваться этому, но неожиданно поймал взгляд Саймона — тот простился со своим другом и теперь возвращался к нему через спортивную площадку. Никогда прежде Фич не замечал в глазах у девятилетних мальчиков такой печали. Он вообще только один раз видел нечто подобное. Ещё в детском боксе. На его территории долго жила бродячая собака — крупная черная сука — ее прикормили работники столовой и она постоянно ошивалась неподалеку. Детей она не трогала, лежала на солнышке, виляя хвостом, и охотно позволяла себя гладить. А как-то по весне она ощенилась. Всех щенков собрали в матерчатый мешок и утопили. Считается, что животные не понимают боли, но эта сука — Фич никогда не сможет забыть — она смотрела на него глазами, полными совершенно человеческой неутолимой тоски — такими же глазами сейчас смотрел на него Саймон.
— Я не верю, что он вернется… — прошептал мальчик.
Качнувшись на длинных нижних ресницах, упала и скатилась по щеке прозрачная крупная слеза.
— Но ведь он же твой друг, он не стал бы лгать тебе… — попытался утешить его Фич.
— Он и не лжет, — в голосе Саймона сквозила совсем взрослая смиренная грусть, — он просто сам ещё не знает, что больше не захочет возвращаться. Норд ведь не самое интересное место на Земле. И нам хорошо здесь лишь потому, что мы никогда не видели ничего другого. Он так переменился после того, как побывал в Атлантсбурге. Мы даже представить себе не можем, что за мир там, за этими воротами…
Малколму было грустно покидать Норд, он осознавал, что отъезд необратимо изменит его жизнь, и пока неизвестно, к лучшему или к худшему, но с другой стороны — за кирпичными стенами интерната его ждало нечто совершенное новое, гораздо более значительное и интересное, а, главное, своё, юноша предвкушал: там, снаружи, у него будет жизнь, в которой он сам волен устанавливать правила. И теперь — он старался об этом не думать, но не слишком получалось — у него появится шанс, пусть не очень большой, но и не исчезающе малый, снова встретить ту девушку-телохранительницу, хотя бы случайно. Ему хотелось заглянуть ей в глаза и понять, что она его не помнит. Тогда бы он, конечно, огорчился, но по крайней мере смог бы унять в себе эту непривычную пронзительно-нежную тоску, которая с каждым днем становилась всё сильнее — что-то заставляло-таки Малколм надеяться: встретившись снова, они не разойдутся просто так, как незнакомые люди. Загадочное древнее чутье подсказывало ему: та долгая ночь произошла с ними обоими. Не может же один человек остаться совершенно безучастным, наделав бурю в душе у другого? Или может? В любом случае, чтобы ответить на этот вопрос, нужно встретиться с нею снова…
Вещи были упакованы, такси должно было подъехать к воротам в течении часа, Малколм уже попрощался со всеми, с кем ему хотелось, к нему снова прибежал растрепанный запыхавшийся Саймон и, разрывая сердца им обоим, а заодно и всем свидетелям, плакал, повиснув у него на шее, вслед за ним в комнату робко заглянул Фич, он тоже хотел пожелать отъезжающему счастливой дороги; классный наставник помог вынести сумки во двор, пришла Онки Сакайо, ободряюще пожала Малколму руку и напутствовала по своему, даже в такой момент не изменив привычке вести себя чуть свысока.
А потом совершенно неожиданно появилась Белка. Малколм спиной почувствовал её приближение. Теплый весенний ветер принес едва ощутимый запах — такой знакомый — нотка табака и маскирующая ее мятная жевательная резинка.
Он обернулся. Она остановилась в нескольких шагах от его багажа. Белинда Блейк старалась держаться, не изменяя своей всегдашней нагловатой манере — прислонилась к ближайшему гладкоствольному деревцу, что росло на газоне возле тропинки, скрестила свои красивые чудовищно длинные ноги в блестящих колготках и высоких кожаных сапогах с заклепками, постояла так, теребя полы распахнутой косухи.
— Ну что… — сказала она, — пока.
Малколм не мог видеть глаз девушки, она стояла вполоборота, и ветер заслонил её лицо внезапно подхваченной прядью красных волос. Но он ощутил тяжесть этих слов, скупых, подобранных небрежно, взятых наугад из всего обширного родного языка.
— Пока, — ответил юноша тихо, тоже стараясь не смотреть прямо на неё. Ему сначала хотелось добавить что-нибудь условно утешительное из серии «еще увидимся», «я буду вспоминать о тебе», «береги себя», но представив, как неуместно и мелодраматично-фальшиво это прозвучит, он осекся.
Белка недолго ещё постояла возле дерева, глядя куда-то вдаль, поверх гаражей, над которыми ровным синим полотном поднималось высокое небо. Ветер теребил жесткие красные пряди, забрасывал на лицо. Челюсти девушки неторопливо шевелились, неторопливо пережевывая мятную резинку.
— Вы идете? — спросила охранница, выглянув из своей застекленной будки, — машина уже подъехала.
Она вставила электронный ключ в щель на пульте управления воротами: с легким жжужжанием распахнулась тяжелая бронированная калитка для пешеходов, и Малколм, подхватив вещи, смело шагнул в неизвестность через высокий металлический порог.
Солнце за воротами, казалось, светило ярче, чем на территории Норда. Шоссе, залитое светом, слегка серебрилось вдали. В салоне машины громко играл шансон. Таксистка в майке с растатуированными до плеч руками курила, опираясь локтем на опущенное стекло.
Всю дорогу Малколм смотрел в окно — по обе стороны автострады простиралась холмистая равнина, блестящая, изумрудная, мелькали коттеджные поселки за высокими заборами, придорожные отели, лотки со всякой всячиной, а вдалеке, в светящейся голубоватой дымке обрисовывались вершины гор.
«Как красиво!» — восторженно думал юноша, его смелое сердце радостно открывалось новому, легко отпуская прежнее, так уж оно было устроено, жизнь текла сквозь него широким шумным потоком, таким сильным, что совершенно не оставалось времени, чтобы грустить о каждом проносящемся мимо месте, предмете или человеке…
В офисе рекламного агентства юношу попросили заполнить несколько дополнительных договоров, выдали ключи от снятой для него менеджерами комнаты и назначили время встречи со съемочной группой.
— До завтра, — сказал доброжелательный юноша-администратор с тщательно уложенными волосами, красивым и ярким макияжем глаз и безупречным маникюром, — не опаздывайте, пожалуйста, для вас вызвали парикмахера и визажиста, они должны привести вас в порядок перед тем, как приедет начальство.
Приглашенный парикмахер около двух часов колдовал над изящной головкой Малколма, размахивая различными странными инструментами, распыляя что-то и разбрызгивая. А вышло в итоге нечто вроде совершенно неприбранной головы, как будто Малколм просто встал утром и забыл расчесаться, для юноши осталось загадкой, что именно этот человек так долго делал. Визажист подкрасил ему глаза, тоже почти незаметно, навел с помощью теней вокруг них эффектную томную дымку, выровнял цвет лица, придав ровной коже Малколма с помощью пудры утонченную бледность.
— Какой типаж! — восхищенно воскликнул он, окончив работу, — почти ничего не нужно делать! Слава Богу, что такие красивые люди рождаются очень редко, иначе нам, специалистам по маскировке недостатков, пришлось бы сложить зубы на полку!
Потом помощник визажиста приводил в порядок тело Малколма — удалял ненужные волоски и тщательно обрабатывал кожу специальным составом, чтобы она, если возникнет необходимость снять одежду, безупречно выглядела в кадре. До приезда продюсера и режиссера клипа оставалось пятнадцать минут, а юноша некстати вспомнил, что с самого утра ничего не ел… Не хватало только голодно обморока на съемочной площадке! Он решил купить сэндвич в закусочной напротив, но, выходя, в дверях столкнулся с двумя хорошо одетыми дамами.
— Вот и наша звезда, — сказала, довольно ухмыляясь, одна из них.
Малколм увидел свое отражение в огромных стеклах ее темных очков, закрывающих половину лица.
— Давай, живо, поехали на студию, мы уже опаздываем.
Сэндвич с креветками, молочным соусом и холодным листиком салата так и остался яркой картинкой в воображении Малколма, его усадили в служебную машину и куда-то повезли. Он вздохнул, почему-то так всегда получалось, что его персоной самовластно распоряжались другие. Впрочем, иногда это даже приятно, самому не нужно ни о чем заботиться… За окном проносились огромные здания парковок, офисных центров, молов, собранные из стеклянных панелей, ослепительно отражающих свет, высоченные дома, устремленные в небо стрелами далеких верхушек и витрины, витрины, витрины… Бесконечность вещей, товаров, услуг, призванных удовлетворять потребности капризного населения… Расписной ад, в котором сразу же затеряешься, как единственный лепесток живого цветка на фоне обрывков цветной бумаги…
Частная киностудия располагалась на окраине города в большом недавно отстроенном павильоне, в некоторых помещениях которого еще не полностью завершена была отделка, они стояли пустые — просторные комнаты с белеными стенами и потолками, отданные на откуп солнечному свету и роящейся в его лучах мелкой пыли.
Шаги гулко отдавались в широких чистых коридорах, напоминающих больничные.
— Нам сюда, — сказала одна из дам, та, что была без очков, продюсер или режиссер, Малколм пока не научился отличать их.
Она толкнула одну из дверей с номером на прибитой сбоку пластиковой табличке, и решительной походкой направилась внутрь, по-хозяйски осматривая на ходу огромное помещение, в центре которого на небольшом цилиндрическом возвышении (как бы на сцене) стоял сверкающий в лучах солнца новый автомобиль.
Больше в комнате не было ничего.
Возле постамента копошились какие-то люди, по-видимому, сотрудники студии. Молодая девушка в голубом рабочем комбинезоне и садовых перчатках волокла по полу большой мешок, наполненный, как показалось Малколму, чем-то вроде опилок: мелким, мягким. Стройный смуглый юноша в такой же робе подметал пол, еще три женщины устанавливали и настраивали аппаратуру: несколько камер и мощные осветители по разные стороны от сцены. Одна из них, заметив вошедших, бросила своё занятие и вышла им навстречу.
— Добрый день, Виктория, главный оператор.
Спутницы Малколма по очереди пожали ей руку. С дамой без очков, что так уверенно ориентировалась в здании киностудии, главный оператор определенно была уже знакома, они взглянули друг на друга многозначительно — словно сообщили что-то без слов, и обменялись короткими приветствиями, а второй даме Виктория, очевидно, представилась впервые.
— Марта Брей, продюсер рекламных роликов, агентство «РичЧиф», — отрекомендовалась та в свою очередь.
Теперь Малколму наконец-то удалось разобраться кто есть кто. Продюсер была в солнцезащитных очках, здесь, в помещении, она подняла их на лоб, а режиссер постоянно теребила пристегнутую к поясу джинсов оригинальную деревянную цепь с крупными звеньями. В этой её невротической привычке, в нарочитой резкости тона, которым эта женщина давала указания бегающим вокруг людям, в красивом, но как будто потухшем лице, в широких худых плечах — в всём её облике чувствовалась какая-то ущербность, будто бы она сама не знала за собой никакой силы или власти, но пыталась утвердиться в собственных и чужих глазах…
— Марта, Эдна… Минут через десять можно будет сделать пробный дубль, — сообщила Виктория. Стройная. Лет тридцати пяти. С четкими рублеными чертами длинного лица. От нее тонко пахло молотым кофе.
К Малколму тут же подскочил здешний визажист, ухоженный молодой парень с крашеными волосами до плеч. Он критически осмотрел юношу, завистливо вздохнул, слегка провел пуховкой по щекам и лбу Малколма, полюбовался, помахал еще какой-то толстой кисточкой, поцокал и остался весьма доволен результатом.
— Надевай костюм, — перед Малколмом развернули белоснежную рубашку и черные кожаные брюки, — не застегивайся наглухо, зрителя нужно немного подразнить.
— Поднимись наверх и встань рядом с машиной, — велела ему Марта Брей, когда он закончил с переодеванием, — мы глянем, как вы смотритесь вместе…
Малколм забрался по монтажной лесенке и робко приблизился к безупречно отполированному сверкающему автомобилю, — неееет, так не пойдет, — режиссёр замахала руками, — веди себя свободно, тут тебе не музей, представь, что это твоя машина, владей ею, распоряжайся…
Малколм нерешительно открыл дверцу.
Виктория, которая увлеченно возилась до этого с камерой, теперь подняла голову и, слегка усмехнувшись, сказала, как будто бы себе под нос, впрочем, довольно громко.
— Чувствую, это будет скучнейший клип…
— Ты опять что ли забыла, кто здесь командует? — тут же гневливо отозвалась Эдна, дернув своими костлявыми плечами, — знай свое место, это я говорю тебе, с какого ракурса, под каким углом и что конкретно показывать зрителю, поняла?
Виктория хмыкнула; конфликт между нею и режиссером, по-видимому, был давним: обе амбициозные, они трудно ладили, каждая норовила перетянуть одеяло на себя, отстоять свое мнение и вытащить на экран именно свое видение кадра.
— Кажется, она права, — заметила Марта, — на мой вкус тоже клипу чего-то не хватает… Хотя креативный отдел агентства пыхтел над его сценарием больше недели, получилась тягомотина. Ведь у нас есть всего полторы минуты, чтобы влюбить зрителя в этот автомобиль.
— Клипу стоило бы придать более выраженную эротическую окраску… — со смаком произнесла Виктория. Она ловко вытянула из пачки сигарету и зажала её губами. — Пусть это будет провокация. Такой видеоряд сразу привлечет внимание. Даже если человек просто щелкает по всем каналам, смелый кадр остановит его сразу.
— Но глупо же раздевать модель в этом ролике, — нахмурившись, возразила Эдна, однако её уверенность в собственной правоте слегка пошатнулась, — мы рекламируем всё-таки автомобиль, а не гель для душа.
— Секс — это то, что лучше всего продается, — пояснила Виктория, выпустив струйку дыма, — Красивый мужчина — в первую очередь статусная вещь. Наша задача — создать у зрителя определённый ассоциативный ряд, мотивирующий его к покупке: если у тебя есть роскошная машина, то у тебя будет и роскошный любовник, роскошные друзья, роскошная жизнь — большинство людей хотят приобретать что-либо только для того, чтобы вызывать определённые реакции у других — уважение, восхищение, вожделение — некоторым, есть и такие, нравится вызывать зависть…
— В её рассуждениях есть рациональное зерно, — поддержала Викторию Марта Брей.
Эдне пришлось-таки уступить. Она немного помолчала, перебирая звенья своей деревянной цепочки, а потом с легкой ноткой раздражения сдалась:
— Ладно. Будь по-вашему. Пусть раздевается.
Контракт, как оказалось, полностью вверял исполнителя главной роли в клипе всем этим деятелям массовой культуры, поэтому никто из них троих даже не попробовал поинтересоваться мнением Малколма по данному вопросу, и ему, стоящему в стороне и слышавшему весь разговор от первого до последнего слова, посчастливилось на себе ощутить всю глубину понятия «продать душу».
— Сними одежду, — велела, подойдя к помосту, Марта, глядя на юношу снизу-вверх своими четырьмя глазами, двумя собственными и двумя надо лбом — круглыми, блестящими и совершенно бессмысленными, словно у мухи.
— Всю? — спокойно спросил юноша.
— Естественно, — сверкнув глазами, ответила ему Виктория, Малколм уже успел почувствовать источаемый ею аромат опасности — большие темные глаза бесцеремонно и алчно изучали линии его тела, в пристрастности ее интереса можно было не сомневаться, служители чистого искусства не позволяют себе такого — сидеть нога на ногу на высоком стуле возле камеры, курить одну за одной и смотреть, не отводя взгляда…
Эдна подтвердила слова Виктории кивком головы.
— Да, пожалуй, выйдет нелепо, если в кадре окажется резинка от нижнего белья… А это, кстати, что такое? — осведомилась она, указывая взглядом на большой матерчатый мешок, стоящий возле помоста.
— Розовые лепестки, — немного смутившись, ответила Марта Брей, — я заказала курьерскую доставку.
— Боже мой! Какая пошлость! — воскликнула, всплеснув руками, Эдна, — это же так надоело! В каждом клипе, на каждом плакате какие-нибудь лепестки! Нельзя было придумать что-нибудь более креативное?
— Так решил заказчик, — пояснила, преодолевая неловкость, Марта, — Я, как представитель агентства, отвечаю за выпуск этого ролика, но основные идеи принадлежат специалистам по рекламе компании «Сиена Лаерта».
— И что, если заказчики идиоты, то мы должны поступаться нашими творческими цензами, и снимать вопиющую банальность? — негодующе воскликнула Эдна, перебирая свои деревянные звенья. Они воинственно постукивали, соприкасаясь друг с другом.
— Не кипятись, — как будто бы чуть свысока обратилась к ней Виктория, — мы все здесь люди подневольные, и если нам в конечном итоге не удастся договориться друг с другом, то не будет вообще никакого клипа. А желание заказчика — это закон, он кормит нас, подруги мои, поэтому давайте попробуем с помощью наших талантов как-нибудь реанимировать те идеи, которые нам подсунули…
— О, Всемогущая… — Эдна хрустнула пальцами, — ни за что бы не согласилась, кабы не трудное положение, — она вздохнула и повернулась к автомобилю, — кстати, в первоначальной версии сценария не было никаких лепестков.
— Представительница заказчика позвонила мне вчера вечером… — как будто бы оправдываясь, пояснила Марта, — Их неожиданно посетило вдохновение, — добавила она с саркастической ноткой.
Эдна кисло усмехнулась.
— Какого они цвета? — невозмутимо спросила Виктория. Ей, казалось, доставляло своеобразное удовольствие поддразнивать режиссера, выражая диаметрально противоположные мнения, — Черные?
— Белые… — немного грустно созналась Марта Брей.
— Мы сделаем их черными при обработке данных с камеры, — провозгласила, грациозно поднявшись со стула, Виктория, — готова поспорить, что это будет весьма эффектно.
В это время из-за дверцы автомобиля осторожно выглянул Малколм, на котором теперь не было совершенно ничего лишнего.
К нему снова подскочил визажист — требовалось слегка припудрить кожу, чтобы она излишне не лоснилась в кадре.
Когда он закончил, исполнитель главной роли красивым размашистым движением захлопнул дверцу и неторопливо пошел вдоль машины, двигаясь на удивление непринужденно, словно вокруг не стояли ни люди, ни камеры, устремившие на него свои радужные немигающие глаза…
Он просто сделал несколько шагов.
…но все работники кино-мастерской: и режиссер, и продюсер, и операторы — подняв головы, невольно замерли в этот миг, ослепленные сиянием чистой красоты, словно солнцем, нежданно выглянувшим из-за туч.
— Черт с вами, поехали… — скомандовала, немного приободрившись, Эдна.
Марта суетливо поправила упавшие очки.
Кто-то нажал кнопку, и массивная платформа с автомобилем начала медленно поворачиваться. Загудел воздушный насос, и столбом взметнулись к потолку поднятые мощным потоком нежные лепестки роз…
Через несколько дней, когда рекламный ролик был смонтирован и обработан, Малколма пригласили на предварительный показ в небольшой кинозал с двумя рядами мягких удобных кресел.
Погас свет, и на огромном экране появился сперва роскошный черный автомобиль; камера, плавно скользя по изгибам корпуса, льстиво подчеркивала его изящество, ловя ускользающие блики и как бы невзначай замечая падающие на капот шелковистые лепестки… Потом из-за приоткрывшейся дверцы показалась сперва узкая ступня, подыскивающая опору — из машины вышло прелестное обнаженное существо — и камера, стыдливо отводя взор, когда это было необходимо, не спеша изучала обольстительные изгибы молодого тела, двигающегося вдоль машины, она плыла за ним, подчеркивая иногда те из лепестков, которые, падая откуда-то сверху, касались кожи — как бы ни злобствовали режиссеры, как бы ни пытались подмять под себя её творческую волю, Виктория была и оставалась гениальным оператором — пожалуй, только слепой мог бы этого не признавать…
— Волшебство! Магия… Как вам удается?! Столько страсти и ни грамма пошлости! — повернувшись назад, восхищенно прошептала молодая девушка, одна из ассистенток Эдны, студентка университета кино и телевидения.
— Секрет невероятно прост. Камера — это мои глаза. Именно так я смотрю, — с легким самодовольством отозвалась со своего места Виктория.
Её последняя фраза заставила Малколма внутренне напрячься, словно в ожидании нападения — в который раз он почувствовал исходящую от этой женщины опасность, и пугающую, и манящую, словно пламя для мотылька — нечто подобное он уже испытывал однажды, сидя в ресторане «Эльсоль» напротив Афины Тьюри.
Он не удивился, когда Виктория задержала его после показа.
— Тебе понравился ролик?
Она стояла, прислонившись спиной к дверному косяку, курила, вставив папиросу в изящный деревянный фильтр, похожий на клюв диковинной птицы.
Юноша молчал, для него было очевидно, что не этот вопрос на самом деле хочет задать ему она, остановив на его лице пристальный взгляд больших темных глаз — она могла с тем же успехом поинтересоваться, любит ли он дождь или какая, по его мнению, партия займет большее число кресел в Совете по итогам следующих выборов…
Длиннопалой рукой Виктория отвела назад жесткие черные волосы с нитями благородной ранней седины, откинув голову, коснулась косяка затылком.
Малколм украдкой разглядывал её: трепещущая жилка на длинной смуглой шее, резко обрисованные скулы, тонкие морщинки возле угла глаза — небольшая плата за шарм загадочной леди с ироничным прищуром и знойной дымкой во взгляде… В всем облике этой женщины: в ее движениях, в мимике, в глубоком грудном голосе — ощущалось присутствие чего-то дикого, с трудом обуздываемого рассудком; в Виктории таилась первозданная грубая сила страсти, и Малколм, разумеется, не ошибся, предположив, что перед ним очередная охотница за сокровищами его тела.
— Да, — ответил он, опустив ресницы.
— Хочешь поужинать? — спросила она в свою очередь, — неподалеку есть отличный ресторанчик, где подают дичь, поджаренную на угольях.
— Спасибо, я не голоден, — ответил юноша, по-прежнему не глядя на неё.
— Ну нет, так нет, — отреагировала Виктория порывисто, почти едко; как многие слишком страстные натуры, она часто торопилась с выводами, в особенности, когда речь шла о чем-то для неё важном.
Она с силой оттолкнулась руками от косяка и, повернувшись к Малколму спиной, собралась уходить. Она увидел её вдруг и опасной, и жалкой, как охотник видит дикого хищного зверя под прицелом своего ружья.
— Я не говорил «нет», — этот юноша до того привык скруглять острые углы, что это стало его натурой, — я только сказал, что не буду ужинать, во всяком случае, дичью…
ГЛАВА 10
Виктория сняла для Малколма уютную квартирку в высотке на окраине города. Из окна открывался прелестный вид, и по утрам она, поставив на широкий подоконник чашку с дымящимся кофе, выкуривала сигарету, любуясь склоном персикового неба и разостланным далеко внизу бархатным покрывалом лесопарка, простиравшегося до самого кольцевого шоссе, мягкое шуршание которого далеко разносилось в ранней прозрачной тишине.
Они никогда не обсуждали характер их отношений. Малколм не мучил Викторию вопросами из серии «как долго это продлиться», «когда ты придешь снова», «что я значу для тебя», безошибочная интуиция подсказывала ему, что это может оказаться лишним и внести нежелательную трещину в установившийся порядок. Он просто ждал её, всегда покорный и ласковый, терпеливо выслушивал всё то, что она ему рассказывала, все истории со студии, если что-то не ладилось, всю грязь, которую она выливала на людей, с которыми приходилось работать. Он должен был быть её отдушиной, утешением, усладой — это стало ясно ему с самого первого момента — и пока он отлично справлялся с этой ролью.
— За что ты не любишь Эдну? — во время одной из таких бесед спросил Викторию Малколм, — Мне кажется, что ты слишком часто унижаешь её режиссерское достоинство. Она ведь имеет полное право чувствовать себя автором тех кадров, которые вы снимаете…
— Почему ты решил, что не люблю? — возразила Виктория; она села на постели, подложив под спину подушку, и поставила пепельницу рядом с собою на одеяло, — я как раз люблю Эдну, мы вместе служили в армии, и вместе поступали, она всегда мне звонит, если у неё хороший контракт, ей нравится работать со мной, и она частенько повторяет: «Ты мой счастливый талисман, но порой жутко меня раздражаешь…»»
— Но вы ведь так много ссоритесь на съемочной площадке…
— Я думаю, что в данном случае это нормальная диалектика киноискусства. Когда несколько человек объединяют свои творческие способности, складывают вместе свои уникальные неповторимые видения предметов и явлений, нестыковки неизбежны, ведь творчество всегда продукт глубоко индивидуальный, личный. Когда работает коллектив, результат труда представляет собой сложную комбинацию усилий всех его членов. Согласись, в живописи, к примеру, такого практически не бывает, чтобы два художника писали одну картину, а если такое всё же происходит, то споры идут едва ли не из-за каждого мазка… Так и здесь: нам с Эдной порой трудно увидеть одно и то же. Разделить творческий порыв другого человека — это всё равно что на несколько минут перевоплотиться, взглянуть на мир чужими глазами; она вообще-то очень сильный самобытный режиссер, может, ты даже знаешь её работы… «Новое слово любви», скажем, широко известная картина на религиозную тему — воссоздание легенды о дочери Божества, пришедшей на Землю спасть людей, её снимала Эдна, успех тогда был колоссальный, просто блеск; с тех пор она очень болезненно воспринимает неудачи, в частности, когда предлагают снимать рекламу, это для неё унижение, но, как говорится, на безрыбье… В последнее время Эдну не приглашают в серьезные кинопроекты.
— Почему?
— Не нравится продюсерам, — Виктория недовольно поморщилась; уронив пепел на одеяло, она небрежно сдула его, — Эдна снимает тяжеловесно, вдумчиво, медлительно, делает много акцентов на деталях, а в современном кино сейчас взят курс на облегчение кадра, исключение информационной и эмоциональной перегрузки зрителя, усиление динамичности сюжета — зритель не должен скучать, надо сделать так, чтобы картина подхватывала его и несла… И он не должен много думать, пусть жует себе попкорн в кинозале, наши фильмы перестанут покупать, если из-за передозировки смыслом бытия, — она иронично усмехнулась, — упадут продажи попкорна, кино — это индустрия, бизнес, поэтому наша продукция обязана соответствовать спросу.
— Бедная Эдна… — Малколм сочувственно вздохнул, склонив хорошенькую головку на плечо Виктории, — у неё, я заметил, такие резкие нервные манеры, как будто сжатая пружина внутри, должно быть, она очень сильно переживает недостаток самореализации.
— Возможно, — небрежно ответила Виктория, — но я думаю, что это в большей степени из-за любви. У нее было три мужа, и со всеми тремя ей одинаково не повезло — они изменяли ей с её ассистентками, актрисами, даже с сотрудницами, отвечающими за освещение, тратили её деньги, и в конце концов уходили… Вряд ли найдется человек, способный не приобрести после такого хроническую тягу к самоуничижению, — Виктория потушила сигарету, уронила руки на одеяло, — каюсь, здесь и я приложила руку. Во время съемок одного из наших совместных фильмов, у нас обеих случился роман с исполнителем главной роли, она на меня очень долго потом дулась, но, боюсь, это было необходимо; в фильме не получилось бы такого надрывного эротического накала, не окажись мы обе от него без ума, а он был вот нечто вроде тебя, молоденький совсем, нет и двадцати, а уже такой спокойный и нравственно терпимый, — она усмехнулась, — перепрыгивал из одной постели в другую как кузнечик, и ничего… А кстати, — Виктория повернулась к Малколму, глаза её задорно сверкнули, — а ты не думал о том, чтобы попробовать себя в кино?
— Нет, — удивился юноша, — у меня же нет таланта.
Виктория откинулась на сложенные стопкой подушки и рассмеялась.
— А вот тут ты ошибаешься. Ты обладаешь самым большим и важным из всех талантов, а именно — ты способен ответить взаимностью на всякую обращенную к тебе любовь. Немногим это дано. Гордыня диктует нам необходимость тщательно выбирать себе предмет для поклонения. И в обоснованности этого выбора мы находим подтверждение высоты нашего духовного развития. Только животному для спаривания, считаем мы, сойдет любая здоровая особь своего вида. Существа разумные, мы преисполнились высокомерия… А я вот думаю, что это своеобразная мудрость — не выбирать. Ведь в каждом из нас, если присмотреться, можно обнаружить Вселенную. И полюбить. И жизни не хватит, чтобы разгадать эту Вселенную до конца… Отпихнуть распахнутый перед тобою мир, если он чем-то тебя не устраивает, гораздо проще, чем, преодолев себя, принять его. Я убеждена, любовь — это талант, — Виктория выразительно посмотрела на Малколма, — и у тебя он есть. С таким талантом можно пробиться и в кино, и во власть — куда угодно — ибо любое притворство рано или поздно будет раскрыто, а вот искренность чувств всегда и везде оценят по достоинству.
Малколм вздохнул. Ему вспомнилась в этот момент девушка в черном костюме — да, пожалуй, Виктория права, да не совсем — ведь окажись та девушка сейчас рядом, его дар любить всех и вся мгновенно бы иссяк, обрушившись огромной лавиной на неё одну, во всяком случае так ему казалось…
— Нет, я не хочу в кино, — сказал он.
— Я не буду спрашивать почему, — ответила она, — это особый мир, в который либо влюбляются навек, либо отвергают сразу.
Нить наметившейся в разговоре откровенности начала ускользать, и Малколм спешно подхватил её, в такие минуты можно спросить о многом, и он решил, что в контексте разговора о мужьях Эдны самое время выяснить что-нибудь о самой Виктории:
— А у тебя есть муж?
— Нет, — ответила она, вытягивая зубами новую сигарету из пачки небрежно и вместе с тем изящно (как только она одна умела), — но был, — добавила она значительно. На лицо Виктории при этом как будто бы набежала тень — точно маленькое облако заслонило собою солнце, это лицо освещавшее.
— Если не хочешь, можешь не отвечать, — прибавил Малколм немного виновато, — он тоже ушел, как от Эдны?
Виктория тонко усмехнулась.
— Да, пожалуй. Только гораздо дальше.
Она помолчала, сделала несколько затяжек подряд.
— Это случилось, когда я получила гонорар за работу над фильмом «Долгий рассвет», мои первые большие деньги. Мы тогда только поженились, нам кружило голову от счастья и успеха, хотелось роскоши. Я купила открытый автомобиль. Мы с шиком катались повсюду, ходили по фешенебельным ресторанам, гуляли, мы жили тогда, любуясь собой, такие красивые и богатые, нас ждало, как нам казалось, самое радужное будущее, какое только можно себе вообразить. Но во время одной из таких прогулок мы попали в аварию, очень глупую, мне — совершенно ничего, даже странно, как будто назло, ни царапины, а он сразу насмерть — перелом основания черепа — бедный мальчик, ему только-только исполнилось двадцать, милый, очень чистый мальчик…
Она снова замолчала, и именно в этот миг разом стихли все звуки, доносящиеся из открытого окна, очень странное красивое и грустное чувство кольнуло Малколма, ведь он тоже однажды умрёт, никому ещё не удавалось этого избежать, и, возможно, он умрёт даже совсем скоро, так и не испытав объятий той девушки в чёрном костюме…
Юноша решил, что Виктория уже ничего больше не добавит, и хотел идти варить кофе. Набор простых кухонных действий, вероятно, помог бы ему прогнать наваждение.
— Я любила только его одного, — продолжила Виктория после несколько затянувшейся паузы, — извини мою откровенность, если тебе неприятно то, что я говорю, но все остальные чувства по сравнению с тем священным восторгом, с тем ослеплением — как фотоснимки розы рядом с живым цветком. Наш роман до свадьбы длился не особенно долго, и жили вместе мы дай бог полгода, нашу любовь не успели тронуть ни привычка, ни бытовое озлобление. Это промелькнуло в моей жизни подобно внезапной волне приятного запаха на улице — было и нет. Не думай, я не из тех, кто упивается страданиями, я столько раз пробовала снова… От того удара я давно уже оправилась, но от того счастья — никак не могу. Здесь я очень хорошо понимаю Эдну; просто жить после волшебной сказки все равно что снимать рекламу после «Нового слова любви».
Виктория ткнула окурок в пепельницу. Точно точку поставила.
Малколм был почти готов рассказать ей о девушке в черном костюме, раскрытая тайна сердца должна была быть оплачена другой такой же тайной, но лицо женщины стало вдруг непроницаемо, он понял, что мысли её сейчас очень далеко, в том немом солнечном кинофильме, который невозможно показать никому другому.
— Прости, — сказал Малколм тихо, ему сделалось неудобно, что он взбаламутил ил чужих болезненных воспоминаний. Узнав сразу так много о Виктории и об Эдне, за несколько минут он как будто прошелся по краю неисчерпаемого озера их жизни, просмотрел короткий клип, в котором они мелькали, выхваченные холодным глазом камеры. Малколм ощутил неловкость от того, что всё это открылось ему, практически постороннему и в силу этого не способному даже как следует сопереживать. Как в баню заглянул — Всеблагая помилуй! — остается только извиниться и развести руками.
Виктория ему не ответила.
Этот разговор не изменил ровным счетом ничего в их взаимоотношениях, они были и остались на удивление спокойными и гармоничными, словно мягкое тепло заката. Малколм и Виктория, встретившись в определенный период жизни, идеально друг другу подошли. Оба сердца — его, еще совсем юное, не тронутое ни большим обретением, ни большой потерей, и ее, однажды уже выжженное сильным чувством, обессиленное и усталое — нашли в этой доброжелательно-равнодушной связи как раз то, что искали.
Прошли друг за другом лето и осень, обозначенный срок работы по контракту давно истек, Малколм снялся в фоторекламе того же автомобиля, для журнала адресованного автолюбительницам (зачем-то полуобнаженным) и даже в музыкальном клипе какой-то поп-звезды (Виктория представила его своей подруге из администрации этой звезды и он понравился).
Разумеется, ни о каком возвращении в Норд речи не шло, малютка Саймон оказался трагично прав, когда предрек, что, вкусив вольной жизни по ту сторону стены, Малколм примет решение остаться в Атлантсбурге навсегда.
По поручению директриссы её секретарь пытался дозвониться до беглого воспитанника, чтобы вразумить его и заставить вернуться, но безуспешно — Малколм сменил номер телефона, завел новый электронный ящик, дабы ничего не связывало его больше с прошлым, и сделал этому самому прошлому единственное одолжение — написал Онки Сакайо в социальной сети, что он неплохо устроился и попросил друзей не тревожиться о нём.
Аманда Крис в свою очередь заморозила его банковский счет, думая, что таким образом сможет подтолкнуть его к возвращению, голод, как говорится, не тетка, но и это ни к чему не привело — Малколм жил на содержании у Виктории и к своим гонорарам практически не притрагивался.
Последним средством, к которому прибегла администрация Норда, стало обращение в полицию. Дело о «побеге несовершеннолетнего из воспитательно-образовательного учреждения» было заведено как полагается, но директрисса к тому моменту от всего этого уже порядком устала, неповоротливые шестерни бюрократических машин раздражали её, тут бланки, там бланки, заявления, показания — мало что ли у неё работы?
— Да и хрен с ним, — объявила она совету администрации, — года не пройдет, ему восемнадцать исполнится, а как наша полиция работает, в носу ковыряют, так они его и в три года не найдут. Нравится ему на вокзалах ночевать — вольному воля.
Как представитель юридического лица, осуществляющего опеку над несовершеннолетними, Аманда Крис имела свободный доступ к личным счетам всех воспитанников до достижения ими совершеннолетия. И несколько сотен тысяч атлантиков Малколма не давали ей покоя — воспользоваться некоторой частью этих средств в определенных целях она имела право, существовал закон, согласно которому воспитанник, нашедший высокооплачиваемую работу, мог отблагодарить образовательное учреждение, столько лет безвозмездно дававшее ему знания и кров…
Всего то ничего — подделать несколько подписей и под предлогом очередного бездонного «благоустройства территории» перевести деньги на другой счет…
И готово. Можно наслаждаться жизнью. Ведь об этом источнике доходов не будет известно ни мужу, ни его строгой родительнице, которой ловкая Аманда Крис всё же немного побаивалась.
Свекровь-прокурор, энергичная женщина 55 лет, всегда обращалась к ней только официально, по фамилии. Она многозначительно приподнимала темные брови, собирая несколько складочек на высоком лбу и с ироничным прищуром осведомлялась:
— А вы действительно хорошо заботитесь о моем сыне, леди Крис?
И от этого прищура, от пристального взгляда светлых проницательных глаз прокурора, и от её насмешливо-недоверчивых интонаций, по позвоночнику Аманды всякий раз пробегал легкий холодок.
— Ну что же вы так испугались? — добавляла потом со смешком свекровь, — с лица прям спали. Я шучу.
Но вор, крадущийся по темной улице с награбленным добром, как известно, испугается и мыши, перебежавшей ему дорогу. «Шуточки» — со злостью думала Аманда, глядя в синюю спину прокурорского пиджака свекрови, «так смотрит, как будто бы знает что-то…» Положить конец своей двойной жизни она, однако, не находила сил — убежденное злодейство явление довольно редкое; и всякое первичное нравственное преступление имеет началом в большинстве случаев слабость, а не умысел, лишь дальнейшее развитие и укрепление преступного образа мыслей обусловлено сформировавшейся уже привычкой ко злу, постепенной адаптацией к нему совести — изначально Аманда просто не смогла преодолеть искушения, взглянув в большие доверчивые глаза двадцатилетнего мальчика, пришедшего к ней устраиваться на работу. А то, как покорно и почти испуганно он дался ей, растрогало её, обожгло жалостью, которая тоже нередко толкает людей на ошибки, и язык не поворачивался сказать юноше правду — сама собою лилась сладкоречивая ложь про скорый развод с мужем, женитьбу и всё в этом духе. Аманда сама замкнула вокруг себя этот порочный круг, и теперь оставалось только успевать поворачиваться в нём, как он того требовал, ловчее и ловчее с каждым днем, используя всё более изощренные средства, чтобы оставаться в равновесии.
Наступила зима, и заиндевелые деревья на дворе стояли, поблескивая в случайных лучах прицельно, точечно — будто осыпанные бриллиантовой пылью. Под ногами крепко потрескивал крупитчатый, точно сахар, снег.
Поутру идущим к учебным корпусам Онки и Рите Шустовой попался на глаза спешащий от проходной на работу, в административный корпус, молодой директорский секретарь.
— Ух ты, глянь, какая на нём шмотка, — воскликнула Ритка, остановившись и нескромно уставившись вслед юноше. В блеклом свете зимних утренних сумерек мягко серебрился длинный ворс эксклюзивной мужской шиншилловой безрукавки.
— Ну и что, — пожала плечами Онки.
— Вряд ли на секретарскую зарплату она куплена, — покачала головой Ритка.
— Подарили, значит. Тебе то какая печаль? Всё норовишь нос куда-нибудь сунуть, да обсудить, у кого что… Не женское это дело — сплетни, Рит. Больше молчи, и сойдешь за умную, — Онки едко улыбнулась.
— Ах ты язва! — Рита в шутку толкнула подругу в снег.
Навалявшись и накатавшись вдоволь, они отряхнулись, подняли свои сумки и пошли дальше.
— Эта жилетка все-таки подарок, — сказала Рита.
— Приличные юноши до свадьбы таких подарков не принимают, — безапелляционно заявила Онки, досадливо хмуря лоб. Подобные разговоры не представляли для неё совершенно никакого интереса.
— Нельзя так, — мягко укорила её Шустова, — иногда ты бываешь слишком резка, не стоит судить поспешно и притом так строго.
— Я и не сужу. Только предпочитаю видеть в людях правду. Вот, к примеру, Малколм. Он ведь шлюхан, и ничего другого о нём, не кривя душой, и не скажешь, он такой, какой есть. Но признание этого, однако, не мешает мне ценить его доброе и искреннее сердце. Ты ошибаешься, если думаешь, что я сразу просеиваю людей сквозь сито, «хорошие» или «плохие». Просто подмечаю и запоминаю их черты, в каждом отделяя зерна от плевел, так, на всякий случай, дабы не было потом сюрпризов. Всегда полезно знать, чего ожидать от окружающих.
— Как ты практична, — фыркнула Рита, ерзая плечом, чтобы поправить лямку сумки, — все сухо продумываешь, чувства и те раскладываешь по полочкам.
— А что в этом плохого? — спросила Онки, — умный человек в первую очередь рассудителен и дальновиден. У него в жизни нет ничего лишнего. Вот мы идём сейчас с тобой и разговариваем. Умный человек всегда знает, зачем он произносит каждое слово в беседе, делает каждый шаг. Он взвешивает все последствия своих действий, просчитывает каждый из возможных исходов. И наперёд продумывает, что станет делать в сложившейся ситуации. Его жизнь ясна ему. Глупец же действует наугад. Им руководят сиюминутные настроения и смутные чувства. И жизнь мотает его как фантик из стороны в сторону. Мысль человека невесома, но именно она творит мир вокруг него. Умный человек всегда задумывается. Над всем. В том числе и над чувствами, не слишком уж надежные они советчики, их тоже не плохо было бы подчинять логике, систематизировать, чтобы, в конечном итоге, хотя бы немного понимать. Думать — естественная потребность умного человека, а глупый, напротив, старается, где можно, избегать усилий мысли, предпочитая «делать как все», «верить на слово», «полагаться на авось», «выбирать не умом, а сердцем».
— В тебе напрочь отсутствует романтика, — грустно сказала Ритка. Лямка все-таки скатилась с её плеча, и она волочила сумку по снегу.
— Слово «романтик» придумали поэты, чтобы не называть своих героев дураками. Как-то не книжно.
Рита хмурилась, ей не нравились высказывания Онки, но она не любила с нею спорить, и разговор зачах. Благо, что они уже стояли у входа в учебный корпус.
Молодой секретарь уходил всё дальше по косой аллее, ведущей к зданию администрации. Его фигура в голубоватом сумраке морозного утра стала уже едва различимой.
Происхождение надетой на нём безрукавки интересовало, разумеется, не одну только Ритку — мало ли вокруг завидущих глаз да злых языков? — и всякий раз на неудобные вопросы или скользкие намеки застенчивый юноша отмалчивался, опуская ресницы — врать он толком не умел, но и правды сказать не мог.
А было вот что. После очередного выяснения отношений, когда молодой секретарь отважился наконец положить на директорский стол заявление об уходе, Аманда Крис приняла его с неожиданной кротостью и подписала. Прежде она не давала ему довести составление заявления даже до середины шапки, вырывала у него то бумагу, то ручку, несмотря на сопротивление, норовила обнять, осыпая заверениями в своей безграничной любви… Юношу удивила эта её необычная покорность и даже немного опечалила. Неужели разлюбила?
На следующий день, придя, как он думал, за подготовленным пакетом документов, молодой человек обнаружил на своём столе «прощальный подарок» — прелестную шиншилловую безрукавку. И сердце его растаяло. Ведь Аманда не удерживала его как прежде, не подавляла, отпустила, ничем, кроме долгих печальных взглядов в его сторону, не выдавая своего отношения к принятому им решению.
…И в который раз он покорился, порвал заявление и вновь принял прежнее своё оскорбительное для приличного юноши положение, ведь он любил — действительно любил! — эту самую Аманду Крис чистой первой любовью и больше всего на свете хотел ей верить.
В течении зимы сначала Белке, а затем и Коре Маггвайер исполнилось восемнадцать лет. Вот и всё, кончилось детство. В весенний призыв они обе должны были отправиться на государственную службу, на какую именно из двух, решала медицинская комиссия — в армию или в суррогатный резерв.
Нескончаемая очередь на осмотр тянулась вдоль холодной даже на вид казенной стены, обшитой крупной белой кафельной плиткой. Металлических стульев на всех не хватало. Садились по очереди. У выходящих из кабинетов ближайшие соседи взволнованно спрашивали о результатах.
— Ну что, армия?
— Армия…
Белка и Кора никогда особенно не общались, но оказавшись вдвоем среди сотен незнакомых девчонок, они поневоле прониклись друг к другу. Никого из Норда поблизости не было, и они чувствовали себя словно два земляка на далекой чужбине.
— Ну что, армия? — спросила Кора, когда Белка закрыла за собою дверь кабинета, а со стула рядом нетерпеливо вскочила стриженная девушка в красной футболке, готовая, точно горячий конь, едва загорится оранжевая лампочка над дверью, ринуться навстречу своей судьбе.
— Суррогатный резерв.
— Повезло… — заахали сидящие рядом.
— Не думаю, чтобы это было намного лучше, — ответила Белка небрежно, — говорят, что от родов тоже можно коньки отбросить.
— Чего это они тебя так? — спросила Кора, — ведь из-за войны набор в СР существенно уменьшен.
— Зато увеличена норма, и сейчас в связи с этим не всех берут, но мне сказали, что у меня какая-то особенно здоровая матка и таз широкий, вот меня и взяли, — ответила Белка, развертывая испещренный водяными знаками листок — распределительный документ — «данное свидетельство выдано лицу, которое обязуется при прохождении государственной службы в штате суррогатных матерей республики новая Атлантида выносить и родить — следующее слово было впечатано в подчеркнутый пропуск в строке на машинке — „троих“ здоровых детей.»
— Ничего себе, — загудела очередь, — а раньше срочницы рожали по двое.
— Прорвемся! — отмахнулась Белка, — Контрактницы рожают и по пять. Максимально допустимое вообще двенадцать. Тогда пожизненную пенсию дают и присваивают почетное звание.
Пока осматривали Кору, она ждала в коридоре, сочтя это вежливым — какие-никакие, а все же знакомые…
— Ну что, армия? — жадно накинулись на выходящую из кабинета ожидающие.
— Армия, — мрачно подтвердила Кора.
Профессор Ванда Анбрук и её молодой супруг, гуляя, неторопливо и чинно шли по широкой парковой аллее. Гордый Макс деловито катил перед собою светло-бежевую кожаную коляску с младенцем. Онки Сакайо некоторое время следила за ними взглядом, стоя на тропинке, что бежала наискосок по заснеженному газону и через какую-нибудь сотню шагов сливалась с большой аллеей.
Направляясь сюда, она планировала застать супругов дома, они жили в коттеджном поселке на краю парка, и, встретив их несколько раньше, чем предполагала, Онки немного растерялась. Предчувствуя свое вторжение в чужую размеренную жизнь, она ощутила прилив робости, совершенно ей не свойственной. «Они гуляют с ребенком в выходной день. Они наедине и уверены, что им никто не помешает. И тут я подойду. Что мне говорить? Как себя вести?» Но вспомнилось печально-просительное лицо Коры, которая, уже остриженная наголо и одетая в «хаки», с пухлым армейским рюкзаком за плечами, перед самой посадкой в фургон, протянула Онки стопку аккуратно сложенных листков бумаги.
— Если сможешь… Передай, пожалуйста… Ему. На случай если меня убьют. Пусть сохранит, если это чего-нибудь стоит.
Девчонка решительно двинулась вперед по тропинке наперерез коляске, что плыла покачиваясь, словно каравелла, над белыми снежными буграми по краям аллеи.
— Здравствуйте, Ванда, — выпалила она решительно, спрыгнув с плотного сугроба прямо перед гуляющими, — меня зовут Онки Сакайо. Я из Норда. Заранее прошу прощения за свою наглость, но моя подруга, Корнелла Маггвайер, очень просила меня об одном одолжении. Её призвали в армию, и уезжая, она оставила мне вот это, — Онки быстро, пока ей не успели возразить, точно фокусник, извлекла из-под куртки плотный сверток, — она хотела, чтобы я передала Максу лично в руки.
— Что это? — спросил он и покраснел.
— Там стихи, — сказала Онки, держа увесистый сверток в вытянутой руке.
— Стихи? — переспросил Макс. Не принадлежащий ни к одному из признанных типов красоты, скорее даже страшненький, чего таится, он, однако, бывал очень мил, особенно когда конфузился, и сейчас большие уши его, как будто немного прозрачные на свету, нежно порозовели. Загнутые наверх кончики опущенных золотистых ресниц блестели в солнечном свете. Тонкая светлая кожа почти очистилась от прыщей — правду, должно быть, говорят, что этот недуг исцеляют супружеские объятия, — Стихи? Мне?
— Да.
— Можно… я возьму? — робко спросил Макс, взглянув на Ванду почтительно и будто бы чуть виновато.
— Ну конечно, — спокойно ответила профессор Анбрук, — почему я должна быть против?
— Спасибо, — поблагодарил Макс, бережно принимая послание из рук Онки Сакайо.
В этот момент из коляски раздался звук, похожий на скрип дверных петель. Молодой отец тут же метнулся к люльке и, склонившись над нею, нежно забормотал:
— Тихо-тихо, маленькая, спи радость моя… Всё в порядке. Я здесь.
— Извините, — сказала Онки поспешно, происходящее показалось ей чем-то очень интимным, неким таинством, присутствовать при котором посторонним явно не стоило…
Макс плавно покачивал люльку и напевал тихим голосом, пытливо заглядывая в занавешенное прозрачной сеткой окошечко коляски. Онки почувствовала себя лишней.
— Ничего страшного, — снисходительно сказала Ванда.
Перевалив через высокий сугроб, Онки помчалась по нехоженому снегу на другую сторону парка. Её отпустили из Норда всего на два часа, и нужно было спешить.
Так вышло, что вскоре и сама Онки уехала из Норда. По результатам тестов, которые она отыскала на просторах информационной паутины и (просто из любопытства, играючи) прошла её приняли сразу в несколько университетов невзирая на то, что она ещё не достигла абитуриентского возраста.
— Мы гордимся тобой, Онки, — казенно и пафосно, как водится, произнесла Аманда Крис перед тем как вручить бывшей воспитаннице свидетельство об уровне полученного образования, — теперь нам есть что возразить противникам альтернативной репродукции человека — и в пробирке может быть зачат гений!
Онки выслушивала директриссу со скучающим лицом.
— Спасибо, — сухо поблагодарила она, приняв из рук Аманды пакет документов.
Покончив с бюрократией, девушка поднялась в свою комнату. Вещей у неё почти не было: узелок с одеждой, несколько книг да маленький личный компьютер с серебристым тисненым узором на корпусе. Ну вот и всё. Пятнадцать минут на сборы. Прощаться тоже вроде почти не с кем. Разве только Ритка, но она всё умеет превращать в хохму, даже серьезное и грустное. Вот влетит сейчас в комнату, как ураган, обнимет своими длиннущими ручищами и начнет голосить:
— Аааа! На кого ты меня тут, несчастную, покинулааааа…
Уткнется головой в плечо, как будто рыдает, а потом вдруг как засмеётся! Резко вскинет лицо, сверкнет глазюками и давай ржать… Такая уж она, Ритка…
Онки задумчиво перебирала на столе книги. Брать их собой? Не хочется. Они тяжелые, да к тому же она их все уже прочитала. Выбросить тоже жалко. Оставить? Только вот кому? Книгу, которую ты любил, как домашнее животное, можно отдать без сожаления только в очень хорошие руки, бережные — доверить её стоит только чуткому восприимчивому уму…
На лице Онки мелькнула быстрая лукавая улыбка. Она придумала.
Мальчики сидели на скамье возле спортивной площадки. Саймон что-то терпеливо растолковывал Фичу (странно, что не наоборот), водя тонким пальчиком по странице учебника, а добродушный толстяк сидел рядом, ерзая, надув от натуги щеки и наморщив лоб; смысл, по-видимому, ускользал от него и приходилось стараться изо из всех сил, чтобы ухватить его хотя бы за хвост.
— Ты объясняешь ему геометрию? — не скрывая удивления воскликнула Онки.
— Это теорема Пифагора, — небрежно пояснил Саймон, не поднимая глаз, — я её и в семь лет прекрасно знал.
— Я к тебе, — сказала Онки.
— Зачем? — Саймон так и не оторвал глаз от учебника, было заметно, что он нарочно так ведет себя с нею.
Фич вежливо поздоровался, он помнил, сколько раз эта странная очкастая девочка спасала его, разгоняя хулиганов.
— У тебя скоро день Рождения, — не сдавалась Онки, — я приготовила тебе подарок.
— Я тебя не приглашал и не собираюсь, — заявил Саймон, и, обращаясь уже к Фичу, как будто бы Онки вдруг испарилась, а не продолжала стоять над ним, он продолжил объяснение, — вот эта сторона прямоугольного треугольника называется катет…
— Да перестань ты кривляться! — не выдержала девушка, от злости она слегка притопнула ногой, — а то опять дождешься, что я тебе врежу!
Саймон якобы неохотно поднял на неё глаза — невероятно зеленые, как будто бы светящиеся изнутри — точно молодая листва, сквозь которую глядишь на солнце. И ничего не сказал.
Просто обдал Онки как ведром холодной воды этим взглядом. Презрительным, но где-то в глубине — или показалось? — чуть нежным…
— Фич, на, возьми, почитаешь на досуге, — быстро пробормотала она, положив стопку книг на скамейку рядом с толстяком, — мне просто они не нужны больше. Я уезжаю.
Онки развернулась, собираясь уходить, но чья-то маленькая рука удержала её.
— Как уезжаешь? Куда?
Снова разверзлась зеленая бездна подсвеченной солнцем сочной листвы. Шаг навстречу — риск безнадежно заплутать в этом колдовском лесу… Теперь в глазах Саймона не было и тени напускного безразличия — в них бушевала ласковая тревога… «Ты уезжаешь? — говорили его глаза, — От меня?»
— Да иди ты к чертям! — воскликнула Онки, вдруг испугавшись его порыва, и вырвав руку, побежала прочь.
ГЛАВА 11
Два года спустя.
Проходящие службу в государственном суррогатном резерве проживали в специальных общежитиях, где над ними осуществлялось постоянное медицинское наблюдение. По ночам в каждом корпусе обязательно присутствовали дежурный врач и медсестра, с которыми, в случае возникновения экстренной ситуации, всегда можно было связаться по системе внутреннего оповещения, сигнальные кнопки которой имелись во всех комнатах.
В общежитии установлен был режим, которого необходимо было придерживаться строго — по сути служба в суррогатном резерве ничем не отличалась от обычной армейской службы, только вместо марш-бросков и полевых учений, здесь были обязательные пешие прогулки на свежем воздухе, плавание в бассейне, дыхательная гимнастика, аэробика, прослушивание классической музыки и поэзии, а также учебные занятия по родовспоможению.
Согласно определенному графику служащие проходили скрининговые медицинские осмотры и регулярно сдавали комплексные анализы. Заинтересованность государства в появлении на свет новых здоровых граждан обусловливало достаточное финансирование данной отрасли народного хозяйства.
Белку поселили в просторном, рассчитанном на проживание трёх человек, жилом модуле, состоящем из двух комнат (одна — столовая, другая-спальня), санузла и небольшой террасы с видом на лесопарк.
Соседки, одна ровесница, срочница, очень тощая легкомысленная блондинка, которую тоже постоянно гоняли за курение, а другая контрактница, тридцати лет, носившая уже пятую беременность, пришлись Белке вполне по душе, вечера проводили весело, все три подобрались заядлые картежницы, и частенько можно было застать их на террасе за партией в преферанс. Белка и Гиола (блондинка) откупоривали иногда невесть по каким каналам добытую бутылочку темного пива и тайком распивали напополам, пряча в бумажный пакетик при каждом шорохе у дверей. Несмотря на то, что день служительниц священному делу материнства был расписан поминутно, находилось немало времени для блаженного безделья, особенно после обеда, когда весь корпус на два часа затихал — обязательный послеобеденный сон, всё такое — но, впрочем, не возбранялось использовать это время для чтения книг, которых сколько душеньке угодно могла предоставить желающим местная библиотека.
И Белке тут нравилось. Она предпочитала не думать о том, что ждет её потом, за этими стенами, когда на свет появится последний, третий ребенок — в гербовом свидетельстве о прохождении службы поставят штамп «завершена», вернут паспорт и откроют перед нею главные ворота — всё, дескать, свободна, долг перед государством выполнила, катись теперь на все четыре… Пока Белка просто наслаждалась тем, что у неё было: здоровой и вкусной пищей, преферансом с подругами, прогулками в лесу. Пусть только на время, но она обрела здесь своё счастье.
— Оставайся, Блэйк, — как-то сказала ей контрактница, полулежа в кресле на терресе и щурясь на заходящее солнце, — райская жизнь! Кормежка — во! — она подняла вверх большой палец, — условия сносные и работать не надо. Тем более, если тебе легко это дается.
— Да ну, скучно, — возразила блондинка, присаживаясь на ручку другого кресла, — с пузом не очень-то побегаешь за хорошенькими санитарами…
Белка флегматично перелистывала журнал на столе и ничего не отвечала.
— А я, — продолжала тараторить Гиола (у неё сейчас шел обязательный полугодовой восстановительный период после второго срока), — вчера подкатила все-таки к тому, темненькому, губастенькому. Подкатила и говорю, что, мол, где-то примерно через год у меня всё, это самое, дембель, и тогда, говорю, посмотрим, а сейчас можно сходить куда-нибудь, типа в ресторан, в кино…
— А он? — спросила Белка больше из вежливости. После той короткой грустной истории с Малколмом юноши почему-то совсем перестали её интересовать. Как отрезало.
— Он деловой такой, — Гиола поднесла тонкие пальцы ко рту и принялась грызть ногти, — будто за ним толпами ходят. Ломака. Сказал, дескать, будет день, будет и пища, — она вдруг соскочила с ручки кресла и негодующе выкатила глаза, — Так я, знаешь, что сделала?
— Что? — спросила Белка, зевая.
— За ляжку его ущипнула!
— А он?
— Не знаю! — блондинка залилась веселых смехом, — я убежала!
— Дурында, — лениво подытожила контрактница, — все вы маллетки такие, за ляжки пощипать, за яйца потискать, а они, поди, юноши, духовного хотят, тонкого…
У Белки заканчивался второй срок. Ребенок вот-вот должен был родиться, живот вырос большой, круглый, неудобный, и когда живое внутри шевелилось, он растягивался, сворачивался на сторону, деформировался, вздымаясь буграми, словно плотный мешок, в котором перекатывались камни.
В соседнем здании, за кирпичным забором, размещалась больница. Сюда иногда привозили долечиваться раненых с фронта, и когда приезжала бронированная машина, суррогатные матери липли к окнам, и пока могли что-либо разглядеть, жадно глазели, как хмурые санитарки в хаки с крестами на рукавах носят туда-сюда складные деревянные носилки.
В один из таких дней Белка несмотря на прохладный ветер выскочила на террасу в одной футболке, туго натянутой на огромном животе, чтобы получше рассмотреть происходящее во дворе соседнего здания. Она напряженно наблюдала за прибывающими до тех пор, пока опустевший грузовик медицинской службы снова не выехал за ворота: ей показалось, что среди раненых мелькнуло смутно знакомое лицо…
На следующий день она попросила увольнение на два часа и отправилась в больницу.
— Могу я взглянуть на списки доставленных вчера с места ведения боевых действий? — взволнованно спросила она у администратора на пропускном пункте, — среди них должна была быть моя сестра. Мне сообщили…
Белка ни в чем не была уверена, но она понимала, что ради праздного любопытства никто не станет просматривать списки, нужны конкретные причины для этого, и, разумеется, гораздо более веские, чем случайно мелькнувшее с расстояния в добрую сотню метров сходство.
— Я могу взглянуть на телеграмму? На уведомление? — деловито спросил администратор, вскинув на неё внимательные глаза.
— Да, да, пожалуйста… — сказала Белка, делая вид, что обшаривает карманы форменного кителя с нашивками СР на плечах, — Ой, — добавила она спустя минуту, — кажется, нет ничего, забыла, извините… — Она сделала вид, что собирается покорно удалиться ни с чем, старый трюк, и в последний раз скорбно взглянула на администратора.
— Ну ладно, — буркнул он недовольно, — я понимаю, вы волнуетесь. Всякое бывает. Как зовут вашу сестру?
— Мидж. Мидж Хайт, — поспешно выпалила Белка, стараясь не выдавать радости.
Администратор постучал по клавишам, близоруко сощурившись, провел пальцами по большому монитору.
— Так точно! — радостно объявил он, — есть такая! Мидж Хайт, второе хирургическое, четвертый этаж, первый пост, палата десять. Ступайте, барышня.
У Белки обмякли ноги.
— Спасибо, — пробормотала она ослабевшим голосом и юркнула в дверь.
«Мидж здесь! Она ранена, и, вероятно, серьезно.»
Прежде война никогда не задевала Белку непосредственно, она всегда была где-то рядом, доносилась далекими отзвуками новостных хроник, но никогда ещё она не подбиралась так близко, никогда ещё не представала во всей своей страшной откровенности. А теперь, когда совсем рядом, за стеной беленого больничного корпуса оказалась её знакомая, Мидж, можно сказать, подруга детства, Белка вдруг поняла: война совершенно реальна, она есть, и пока она продолжается, никто не может быть уверен в том, что её холодная крепкая рука не протянется к нему, чтобы одним прикосновением разрушить его хрупкое личное благополучие.
С колотящимся сердцем она поднялась по лестнице. Ребенок, ощутив, вероятно, её волнение, обеспокоенно заерзал внутри. Живот несколько раз вспучился под тонкой футболкой и затих.
Сумрачный коридор с высоким потолком. Закрытые двери палат. Тонкие полоски дневного света из-под них. Молочные пятна замазанных краской стекол. Вот она. Номер десять.
Белка немного постояла под дверью, пытаясь унять пульс, и решительно нажала на ручку.
Девушка на койке у окна обернулась.
Белка вздрогнула. Это действительно была Мидж. Точь-в-точь такая же, как в день своего отъезда из Норда, смуглая, мускулистая Мидж, она нисколько не изменилась — разве только была острижена наголо, и жестким ежиком топорщились теперь её отрастающие темные волосы. Лицо Мидж в нескольких местах заклеено было пластырем — по всей видимости, царапины — но в целом выглядела она неплохо. С радостным облегчением Белка метнулась к койке.
— Кто пришел… — сказала Мидж со сложной грустной улыбкой. — Ну садись, что ли… Вон там возьми табуретку. Экий шар! И как ты ходишь-то вообще?
— Да… Сама не знаю. Привыкла. Ко всему можно привыкнуть, — суетливо тараторила Белка, подтаскивая шаткую трехногую табуретку, — ты не представляешь, как я рада. Так рада…
Мидж следила за нею взглядом и уже не улыбалась. Потом сказала, понизив голос:
— Ты не шуми только, её прооперировали утром, пусть она спит, — Мидж указала кивком головы на соседнюю койку.
Там лежала девушка, вся голова которой была обмотана плотными, в нескольких местах пропитавшимися кровью стерильными бинтами.
Белка опустилась на табуретку. Сначала она смотрела в сторону спящей, при виде тугой белой повязки, скрывающей нечто, бывшее когда-то лицом, возможно, даже красивым, что-то ужасное мелькнуло в её сознании и пропало, к счастью, молниеносно, Белка не успела додумать это до конца… Потом она повернулась к Мидж. Та лежала неподвижно, не сводя с гостьи своих блестящих темных глаз. Белкин взгляд проплыл по поверхности одеяла, и только сейчас, внезапно почувствовав дурноту и холодок в затылке, она заметила, что там, где должны были лежать, как полагается, вместе, ноги Мидж, одеяло обрисовывало силуэт только одной из них — только одной! — а рядом… Рядом была пустота… Одеяло круто опадало где-то в районе середины бедра. Титаническое усилие воли понадобилось Белке, чтобы никак не выказать охватившей её паники… Но всё-таки она вздрогнула. Слишком уж неожиданно пришлось ей столкнуться лицом к лицу с этим страхом, знакомым, наверное, каждому с самого детства — брезгливым страхом увечья. Он промелькнул на её лице, страх, стремительной холодящей тенью. И это не укрылось от Мидж.
— Ну расскажи мне, что-нибудь… — промямлила Белка, отводя взгляд и теребя полу наброшенного на плечи форменного кителя, — про войну… Какая она?
— Не знаю, — ответила Мидж, — она разная. Такая же, как и обычная жизнь. Сегодня одно, завтра другое. И люди разные, есть товарищи, а есть предатели, — она улыбнулась странно, точно сделала акцент на этом слове, — только одно я могу тебе точно сказать. Война обнажает человеческие внутренности, в прямом и в переносном смысле, она потрошит нас, делает явным неявное, и — знаешь что? — внутри, оказывается, мы почти совсем одинаковые — мы все состоим из страха и надежды, из надежды и страха, только из двух этих компонетов — всего из двух! — они то и есть кровь нашей души…
Белка немного пришла в себя. Она старательно избегала смотреть на страшный провал белоснежного больничного одеяла, бегала глазами, теребила пуговицы кителя. Как известно, чем больше боишься выдать себя, тем более неестественно держишься. А Мидж всё видела. Её внимательные темные глаза примечали теперь малейшие перемены в лицах, она вернулась с войны совершенно другой. На смену стремительной залихватской бесцеремонности пришли рассудительность и спокойствие.
— Не напрягайся, — сказала она снисходительно, взглядом указывая Белке на свою единственную ногу, — я сама уже почти привыкла. Не ты что ли минуту назад говорила, что ко всему можно привыкнуть? — и Мидж снова улыбнулась. Сложно, неоднозначно. Эта улыбка была как небольшой бриллиант со множеством граней — всё слилось в ней: и грусть, и самоирония, и болезненное понимание того ужаса, который охватывает здорового человека рядом с увечным, — Давай поговорим лучше про наших, ты кого-нибудь видела с тех пор как уехала?
— Нет, — сказала Белка.
— А Малколм? — улыбка раненой немного изменилась. Она сверкнула новой, тонкой и острой гранью.
Белка испугалась. Ей почудилось, что Мидж уже заранее знает всё, но специально тянет время, выпытывает, разглядывает под микроскопом её стыдный мелкий страх.
— Я не знаю. Он уехал. Ему предложили работать моделью, и он уехал, — пробормотала она с опущенным взором.
Мидж вздохнула. Длинно, разочарованно.
— Так я и думала.
Белка почувствовала облегчение. Ей показалось, что опасность миновала.
— Другого никто и не ожидал, — прощебетала она, — куда он ещё годился?
— Да я не об этом, — сказала Мидж, глядя в потолок, — я о тебе. Как только ты вошла, я поспорила сама с собой — скажешь или нет. Выходит, та часть меня, которая предполагала о тебе самое худшее, оказалась права.
Белка застыла на стуле. Она слегка ощетинилась в ответ на обвинение, скрытое в обращенных к ней словах, и приготовилась отражать атаку.
— Мне рассказали обо всем, — продолжала Мидж, — я встретила кое-кого из нашей компании ещё год назад, после первого ранения, меня тогда сразу после госпиталя направили в учебку, инструктировать новобранцев, — она замолчала и посмотрела на Белку в упор, — ты поступила так, как обычно поступают шестерки. Могла бы и написать. Я не уверена, что поняла бы тебя тогда, но хотя бы попыталась. А так… Втихаря… Шакал никогда не попросит у льва кусок мяса. Он стащит его, пока тот отвернулся.
— Но он сам… — пробормотала, побледнев, Белка.
— Да знаю я, что сам. У него на лбу написано, что он не даст только той, у кого зашито. Он мужчина, что с него возьмешь? Существо, единственная определенная природой задача которого — давать свое семя, как можно больше, и без особых раздумий. Но ты…
— Я? — Белка вспыхнула, — Я имела на это право! Вспомни, как ты мучила меня. С самого начала, с детского бокса. Ты отнимала у меня сладкий полдник, ездила на мне верхом, заставляла носить свою сумку, стрелять тебе сигареты, стоять «на шухере»… Я столько лет была твоей тенью, что забыла, как это вообще: быть самой собой, иметь собственные желания, жить по-своему, а не по чьей-то прихоти…
— С человеком делают только то, что он позволяет, — ответила Мидж, — если бы ты действительно «имела право», как ты выразилась, если бы ты на полном серьезе верила в это своё «право», то ты подошла бы ко мне, как равная к равной, и мы бы поговорили. Или подрались. Или ещё что-нибудь. Но это был бы поединок. Честный дележ. А то, что сделала ты… Просто ещё раз доказала сама себе, что ты шестерка.
— Разве ты любила его? — спросила Белка, от бессильной ярости сжимая кулаки под свободно свисающими полами накинутого на плечи форменного кителя.
— А почему ты сомневаешься? Раз ты можешь, отчего я не могу?
— Мне всегда казалось, что ты жестокая.
— Нам дано видеть лишь отражения себя в других людях, — Мидж усмехнулась, — мы не в силах понять в полной мере движения чужой души, и истолковываем их так, как подсказывает наша собственная. Дай-ка мне мой китель. Вон он там, на стуле.
Белка молча протянула раненой то, что она просила. Порывшись в карманах, Мидж извлекла на яркий свет больничной палаты полустертую, обмусоленную, обгоревшую по краям фотографию.
— Она была со мною неразлучна.
Фотография лежала на одеяле. Истерзанное и обожженное на безупречно белом. Словно на снегу. С неё смотрело на сраженную безмолвную Белку нежное улыбающееся личико Малколма.
— Ты знаешь, что произошло в тот день, когда я лишила его невинности? Это было в начале лета, он нашёл в траве птенца; глупыш, наверное, слишком старательно вытягивал шейку и в конце концов кувырнулся… Малколм велел мне залезть на дерево, чтобы вернуть его в гнездо. Я не хотела… Я сказала, что это ерундовая затея. Птиц каждую весну выпадает из гнезда видимо-невидимо. Сказала я. Всех их не спасти… Да и кошкам нужно чем-то питаться. Я привела ему уйму разумных аргументов. Я не собиралась никуда лезть. Вот тогда и… Он обещал мне… Он посулил мне самое дорогое, что у него было. Ради этой птицы. И я полезла на это чёртово дерево. Как миленькая полезла. И положила эту чёртову птицу в гнездо. Понимаешь теперь? Он самый необыкновенный юноша из всех, что я видела. Он просто ангел…
Никто больше ничего не говорил, воцарилась гнетущая тишина. Нарушил её на мгновение лишь внезапный стон, глубокий, жалобный, донесшийся с соседней койки. Девушка с забинтованной головой тяжело повернулась и снова застыла на своем ложе.
Мидж лежала, выпрямив длинные руки на одеяле. Она смотрела в потолок, задумчиво и будто бы ожидающе — как в небо.
— Ладно, — сказала она, повернувшись к Белке. Блеск её глаз был непроницаем, точно бликующее стекло, — прости себя сама, я тебя уже простила…
А потом Мидж улыбнулась. И в этой улыбке было что-то уничтожающее, высокомерное.
— Ну не разговор, а прям тоска, — сказала она, — ты вот меня всё расспрашиваешь, про войну да про врага, а лучше бы рассказала, вот, про свою дыню! Эх, какая…
Мидж протянула руку и попыталась прикоснуться к тугому круглому животу Белки. Той почудилась какая-то брезгливо-снисходительная ласка в этом жесте, и она отодвинулась.
— А чего рассказывать, — произнесла она жестко, — мы с тобой служим одному государству, но у нас принципиально разные службы. Я даю жизнь тем, кого такие как ты убивают.
Белка встала и в последний раз взглянула на Мидж сверху-вниз; эти две женщины — солдат и родительница — соприкоснулись взглядами коротко, словно шпагами в бою, и Белка быстро вышла из палаты.
Ей стало дурно, когда она оказалась за воротами больницы. Никакой боли не было, просто живот стал вдруг невыносимо тяжелым и твердым. Как камень. Она поняла, что не может больше идти, встала, прислонившись спиной к кирпичному забору. Живот снова налило свинцом, быстро и сильно, потом ещё и ещё раз — схватки шли одна за другой — так скоро, что между ними было не вздохнуть — Белка не кричала, она царапала стену скрюченными пальцами…
Высоко над её головой простиралось небо, очистившееся от облаков, нежно-голубое. Под ветром пенилась роща. Нет, это была вовсе не боль, то, что мучило её, скорее давление — точно невидимые тиски сдавливали тело со всех сторон, будто огромные руки скручивали мышцы, словно белье при отжиме.
Вдруг где-то внутри беззвучно треснуло, будто лопнула упруго натянутая веревка, и на мягкую землю хлынули воды, горячие, мутные, с прожилками коричневатой слизи. Белка ощутила нестерпимое желание тужиться, она сильнее налегла спиной на холодную стену — как в тумане всплыли наставления инструктора, что лучше не торопиться, если рядом никого нет…
Она стояла за ровной полосой жидкого стриженого кустарника. Тротуар был пуст. Прошло ещё несколько долгих минут, Белка осязала, как ползет по лбу, щекоча, вязкая налитая капля пота, но не в силах была оторвать рук от стены, прилепленная к ней, точно крохотная гаечка к большому магниту…
Всё закончилось вдруг.
Она почувствовала облегчение в один миг, будто взрыв, радостный взрыв свободы; что-то теплое и скользкое очутилось у неё между ног, запуталось в натянутой мешком форменной юбке.
Белка успела только протянуть руку.
Оно сначала низко и жутко захрипело, то, что было теперь в руке, чихнуло и миг спустя залилось громким сердитым криком. Оно приветствовало свою жизнь отчего-то с негодованием, это новое существо, оно вопило, неистово ворочая синевато-багровой запачканной кровью головой и неуклюже пытаясь растопырить судорожно поджатые конечности.
Белка завернула младенца в китель и, преодолевая неуемную дрожь в коленках, шатаясь, побрела к воротам общежития.
— Ну ты даешь, Блейк, — сказала дежурная акушерка, принимая у неё из рук одушевленный сверток, — как кошка прям… Встала и пошла. Немногие могут этим похвастаться. У тебя талант рожать, милочка.
Стерильными хирургическими ножницами она отрезала пуповину, обрызгала ребенка бесцветным стерилизующим раствором, обтерла его медицинскими салфетками, он при этом недовольно фыркал, беспорядочно дергая руками и ногами, потом акушерка позвонила кому-то по внутреннему телефону.
— Детское? — вещала она в трубку своим грубоватым прокуренным голосом, — пришлите, пожалуйста, кого-нибудь. Младенец номер двести семьдесят дробь шестьдесят три готов. Девять по Апгар. Сообщите родителям, пусть приезжают забирать, до завтра вы даже успеете все прививки ему сделать, — со стуком повесив трубку на рычаг, старшая акушерка повернулась к Белке, — отдыхай, Блейк. Я зайду к тебе как освобожусь.
Молодой санитар в это время бережно подобрал с пола и завернул в утилизационный пакет плаценту, полукруглую, толстую, похожую на кусок сырой печенки, темно-багровую, глянцевую с одной стороны и рыхлую с другой.
Белка повернулась и медленно побрела по коридору. Все отпустило её, она чувствовала легкость в теле, непривычную легкость, воздушность, словно она опустела, как мешок, из которого вытряхнули содержимое. Но это было, пожалуй, приятное чувство. Удивительно сильная гибкая брюшная мышца подтянулась — живот снова стал почти плоским, силы прибывали с каждым мгновением, ноги перестали дрожать, и потихоньку возвращались к Белке те тяжелые мысли, с которыми она покидала соседнее здание. «Прости себя сама…» — вспомнились ей завершившие разговор о Малколме слова Мидж.
«Как же это жестоко, черт побери, знает ведь, что не прощу. Теперь особенно…»
Перед внутренним взором Белки снова и снова возникал страшный провал больничного одеяла. «Это вообще самое трудное. Простить себя. Других проще: проходит время, зубы стискиваешь, запихиваешь обиду куда-нибудь подальше, с усилием, точно руками, и прощаешь, в конце концов. А себя — нет. Сколько бы ни прошло времени, и сколько бы ни случилось хорошего, собственные ошибки как чернильные кляксы на листе прошлого. Чем больше трешь, тем заметней они становятся.» Впервые Белке подумалось, что и Малколма она потеряла по собственной глупости. Если бы не вспышка её ревности, скорее всего, совершенно безосновательная, тогда, на пустыре за гаражами, кто знает, возможно они остались бы вместе…
Она открыла дверь жилого блока. В первую минуту она даже не обратила внимание, что кровать контрактницы опустела. Гиола сказала ей:
— А соседку-то нашу позвали куда-то…
Белка прилегла на свою постель.
— Ух ты! — воскликнула блондинка, заметив отсутствие у неё живота, — ты уже все что ли?
— Всё, — сказала Белка, устало прикрывая глаза.
— Мальчик все-таки или девочка была?
— Я не знаю, — отмахнулась Белка, — отстань.
Контрактница вернулась через два дня и тоже с плоским животом. У неё было шесть месяцев.
— Ты что это? — спросила Гиола, — Рановато поди?
— Мне прервали досрочно. По показаниям. У плода обнаружилась какая-то генетическая болезнь, знаешь, их тех, что вызывают слабоумие и разные параличи. Государству не нужны уроды, да и родителям проблемы ни к чему. Подписали бумагу, и всё.
Белка села на кровати.
— Пожалуй я теперь расторгну контракт, — продолжала соседка мрачно, — Ну её к черту. Это был не мой родной ребенок, конечно, каких-то чужих людей, о которых я ничего не знаю и не узнаю никогда, но тем не менее… Я считала себя хладнокровным человеком, девки. Только знаете, что я вам скажу… Он ведь был живой, когда родился, он пытался кричать, ещё не умея, недоразвитыми голосовыми связками, и это был такой страшный звук, девки, когда он, ещё живой, но обречённый, кричал из последних сил, кричал, призывая этим криком помощь, мать, саму Всеблагую, не знаю кого… Вооруженные наукой люди иногда становятся просто безжалостными. Я желаю вам никогда не узнать, как кричат недоношенные дети. Представляете, он прожил ещё минут десять, пока меня осматривали. Он лежал в лотке среди кровавых помоев, дергался, и все вопил, до самого конца, этим жутким скрипучим звуком. А врачи, что занимались мной, даже не смотрели в ту сторону… Пречистый и Всеблагая. Я не знала, что такое бывает на свете.
И тогда Белка подумала, что Мидж совершенно не права, относясь снисходительно, свысока, как к чему-то легкому и даже приятному, к службе в СР. Пусть даже она действительно герой, получивший ранение в бою, но никогда нельзя судить о чем-либо, не зная этого изнутри.
«У нас тут своя война.»
В офицерской играли в карты. По вечерам, когда смолкали над горами залпы автоматических зенитных орудий, и возвращались в ангар к дежурным военным механикам побитые роботы, или днем, в те часы, когда зной становился так силен, что на красные камни крутых склонов невозможно было ступить — в это время вынужденного безделья младшие офицеры обычно расслаблялись: рассаживались после ужина, развесив кителя на спинки стульев, курили самокрутки с ароматическим табаком, лузгали семечки, играли или вели неспешную беседу, сдобренную традиционными сальными анекдотами.
— Как вы думаете, почему форменные носки такого цвета? — спросила одна из девушек, с удовольствием выложив прямо на стол наконец-то освобожденную от ботинка длинную ногу в темно-серой штанине и безупречно белом носке, — это нечто вроде дополнительной экзекуции? Если без машинки их стирать, так руки в воде растворятся прежде, чем вся грязь с них сойдет.
— Это чтобы вы не ленились, лейтенант Майер, и чтобы никто не ленился. Покуда отстираешь белые носки действительно до белого, а не до светло-светло-светло-серого, как бывает обычно, воспитаешь в себе упорство и желание защищать интересы родины до конца, — метко изображая пафос, свойственный агитационным речам сотрудниц комитета по идеологии, ответила ей другая девушка.
Все засмеялись.
— Или таким образом нас всех тут заранее приучают к мысли о белых тапочках, — мрачно усмехнулась старший лейтенант Зубова, — а вообще уберите ноги с карточного стола. Здесь, между прочим, находятся старшие по званию. И ваши подвиги на поприще стирки, они, я думаю, уже оценили.
— Да она просто завидует. Все знают, что у Майер рост метр девяносто шесть и самые длинные ноги, — раздался над столом чей-то шепот со смешком, но как только Зубова повернулась на звук, все стихло.
Она гневно шарила глазами в поисках обидчика, пока на плечо ей не легла примирительно рука старшего лейтенанта Шоны Друбе.
— Ну что, девочки, кто играет? — спросила Шона; в кармане её кителя обнаружилась всепремиряющая стопочка изрядно потертых пластиковых карт.
Комната пришла в движение. Застучали, зашаркали по полу пододвигаемые стулья. Только одна девушка осталась на своем месте, в углу. Она сидела, накинув на плечи китель с погонами младшего лейтенанта и склонившись, писала что-то в блокнот, разложенный на коленях.
— Ты играешь, Корнелла? — окликнула её Шона.
— Нет.
— Да отстали бы вы от неё, — с шутливым упреком воскликнула младший лейтенант Гейсс, та самая, что минуту назад столь убедительно рассуждала о воспитательной роли белых носков в армии, — у неё же это, как его… Вдохновение! С ангелами человек общается, а вы тут лезете со своей грубой реальностью.
— Не ерничала бы ты, Гейсс, — младший лейтенант Майер недовольно поморщилась, — есть вещи, о которых лучше не шутить. На войне человеку всегда нужна какая-то отдушина. Смысл. То, ради чего он выживает. И над этим смеяться грешно.
— Да брось, Майер, неужели ты думаешь, что к графоманству можно относиться так серьезно?
Кора Маггвайер продолжала писать, не поднимая головы, так, словно этот разговор к ней вообще никак не относился.
— А что ты скажешь, Гейсс, если она станет великой писательницей, вроде Ары Нордамо, которая написала «Рассвет над бездной», или Серафимы Тарановой с её всемирно известной эпопеей «Великая легенда о сильном мужчине». Или ты книг вообще не читаешь?
— Ну почему же. Мы проходили это в школе, — с легким смущением призналась Гейсс, — Я читала в кратком содержании. Это ведь всё исторические романы о закате патриархальной эпохи, да?
Лейтенант Майер небрежно махнула рукой. Она набрала воздуху, должно быть, для того, чтобы высказать свое авторитетное мнение о воспитании или эрудиции лейтенанта Гейсс, но Шома Друбе миролюбиво пресекла эту попытку.
— Ладно вам. Давайте играть. Кто будет метать, девочки?
Началась партия. Ловкие руки в тишине замелькали над столом, слышалось только как лопаются семечки и с мягкими шлепками с размаху ложатся друг на друга карты.
— А знаете, девочки, я нашей Коре на самом деле даже завидую немного, — задумчиво пробормотала лейтенант Гейсс, — У меня вот, например, вообще никакого таланта нет. Ни в чем. Я клинически обыкновенная.
— Это заметно, — фыркнула лейтенант Майер.
— Но знаменитым, по-моему, каждый хочет сделаться. Я бы вот, например, хотела, — продолжала Гейсс, сделав вид, что не заметила шпильки.
— Конечно. Посредственность впереди всех и рвется за лаврами, — снова съязвила лейтенант Майер.
— А что бы ты делать стала, если бы прославилась? — спросила Шона, больше для того, чтобы слегка подретушировать остроту беседы, — Как бы ты распорядилась славой?..
— Оооо… — Гейсс мечтательно закатила глаза, — я иногда представляю себя известной певицей или актрисой, перед тем как заснуть особенно, мне видится это так: я стою посреди гримерки, вокруг цветы, на столике письма с признаниями в любви, непременно бумажные надушенные письма, за дверью томятся хорошенькие поклонники, совсем молоденькие мальчики, свежие и нежные как букеты у них в руках, они ждут, когда я выйду к ним, приму от них подарки, слова восхищения, ещё цветы, много цветов, и каждый из них втайне надеется, что я выберу его, одного из всех… чтобы…
— Мы поняли, — неприязненно поведя плечами сказала Зубова, — но не стоит, я думаю, судить односторонне. У всего, в том числе и у славы, есть как достоинства, так и недостатки. Я вот вообще не хотела бы быть знаменитой. Знаете, почему? Просто потому, что высморкаться на улице невозможно без того, чтобы тебя не засняли на карманную видеокамеру. Всякий человек в определенные моменты жизни бывает не слишком презентабелен, а то и вовсе смешон. И застраховаться от этого никак невозможно. Лично мне вот не хочется войти в вечность в какой-нибудь нелепой позе или с идиотской миной.
— Ты пессимистка, Зубова.
— Пусть так. Но вообще это только первый, более того, наименее существенный, на мой взгляд, минус славы. Второй — куда более важный. И основан он, друзья, на неутешительной статистике, а именно: большинство людей, достигая славы, начинают творить гораздо слабее, чем прежде. Взять вот, скажем, ту же Ару Нордамо. Разве после «Рассвета над бездной» она написала хоть что-нибудь стоящее? Есть, конечно, авторы, которых слава не смогла испортить, но таких гораздо меньше, и они либо рано умерли, либо особенно не принимали всерьез своей славы, не упивались ею. Но для этого нужно иметь колоссально сильный дух, который, само собой разумеется, бесплатно к таланту не прилагается. Я лично считаю для любого творческого человека самым лучшим признанием — посмертное…
Кора Маггвайер как будто ничего не слышала. Она продолжала сидеть склонившись и что-то писать, слабо шевеля губами.
В этот момент входная дверь тихонько стукнула, на пороге появилась небольшая изящная фигурка — тут же как по сигналу тревоги все высоченные девицы, в вольготных позах рассевшиеся за столом, вскочили — чей-то неловко отставленный стул с грохотом перевернулся — и сделали по козырек.
— Здравия желаем, капитан Казарова.
Кора вздрогнула от неожиданности, услышав звук упавшего стула, и подняла глаза. Спохватившись, она вскочила тоже, блокнот соскользнул с её колен, китель упал с плеч…
— Здравия желаю, — одиноко прозвучало её запоздалое приветствие.
— Вольно, — сказала, перешагивая через порог, миниатюрная капитан Казарова, — Спасибо, девочки.
В офицерскую постепенно, по одному, возвращались привычные звуки.
Заскрежетали ножки стульев, пододвигаемых к столу, опрокинутый стул был спешно подобран младшим лейтенантом Майер, игроки снова взяли в руки свои карты. Но прерванный разговор не возобновлялся, девушки молчали, изредка полушепотом комментируя игру.
— Что же вы притихли, будто смерть пришла? — с лукавой полуулыбкой спросила командир Казарова, — я вас не съем, ведите себя естественно. А то сидите и точно языки проглотили. Больно много мне чести, я ещё не главнокомандующая, чтоб при мне рта не раскрывать без приказа.
— Так о чём мы говорили? — попыталась вывести беседу из тупика Шома Друбе.
— О славе, — сказал кто-то.
— О чьей? — с очаровательной улыбкой осведомилась командир Казарова. Надо заметить, что природа наделила её совершенно не военной внешностью — маленькая, в среднем на голову ниже всех остальных девушек, очень хрупкая блондинка, с тонкими чертами белого личика — среди бронированных машин, боевых роботов, ящиков с патронами и взрывчаткой, она казалась нежным цветком, выросшим на голом камне.
— О будущей громкой славе младшего лейтенанта Корнеллы Маггвайер, командир, — сообщила, давясь ухмылкой, Гейсс, — обратите внимание, она ведь в любую свободную минуту строчит что-то в своем блокноте… Творит!
— Так это же замечательно, — Казарова с искренним одобрением повернулась в сторону Коры, — замечу вам, что многие из известных сокровищ человеческой мысли были созданы вот так, на коленках: преодолевая трудности, автор способен вкладывать в каждое слово гораздо больше жизни, пронзительной и великолепной, чем рассиживаясь в уютном кабинете.
— А вы сами что думаете о славе, командир? — спросила Шона Друбе.
— Да, ведь она приходит не ко всем, и подавляющее большинство, миллионы из всех тех, кто что-то пишет, поет, строит, рисует, так и умирают, положив всю свою жизнь на творчество, безвестными, — подхватила Зубова, — по-вашему это справедливо?
Тати Казарова приблизилась к столу и непринужденно облокотилась на спинку стула младшего лейтенанта Майер. Она по-прежнему смотрела в сторону Коры, наблюдая, как та, совершенно уйдя в себя, отгородившись, отрешившись от внешнего мира, продолжает что-то записывать, беззвучно шевеля губами.
— Кора! — окликнула её Тати, — а Кора?
— Да, командир! — испуганно вскинулась девушка.
— Ты вот скажи нам все-таки, для чего ты пишешь, — спросила Казарова, — ты хочешь прославиться?
— Никак нет, капитан, — ответила Кора застенчиво, — просто так… Я записываю песни, которые звучат в моей голове. Просто чтобы не забыть их. Когда закончится война, и мы все выберемся отсюда, я их, возможно, сыграю и спою. Я очень хочу, чтобы их услышал ещё кто-нибудь кроме меня.
— Что же ты не бренчишь нам по вечерам на своей гитаре? Стоит она у тебя возле койки, пылится… — поинтересовалась Гейсс.
Кора покраснела.
— Ну не смущайте вы девку, не нашим ушам, значит, те серенады назначены… — своеобразно вступилась за неё Зубова.
— Так вот, девочки, — подытожила командир Казарова, — что я думаю о славе, — она подошла к сидящей Коре, наклонилась, бережно подобрала блокнот, который та снова уронила и стеснялась поднять, протянула ей и продолжила, — Слава, девочки, она как смерть в бою, она выбирает наугад, это вам не звездочка на погон, это — звезда героя. Выслугой её не взять, только подвигом. Подвигом самопожертвования. Твори упорно и бескорыстно, да будь готова к тому, что всё окажется напрасным, затянет, занесет твои труды песками времени… Создавай, не страшась забвения и не уповая на вечную память. Так то, девочки. Потому пиши-пиши, Коруша, свои будущие прекрасные песни, да берегись пули…
Девушки притихли, слушая своего командира. Никто не смотрел в карты, не перешептывался и не тянулся к стоящей в центре стола большой тарелке с жареными семечками.
Тати легкими шагами пересекла офицерскую и снова оказалась возле стола.
— Что же вы застыли? Играйте! — сказала она, устраиваясь на своем излюбленном месте позади младшего лейтенанта Майер. Та, как и следовало ожидать, немного оробела, она съежилась на стуле, стараясь не касаться спинки, на которую оперлась командир Казарова.
Шома Друбе сделала знак продолжать игру. Тати наблюдала за её ходом из-за широкого плеча Майер, временами заглядывая ей в карты. Она чувствовала, что младший лейтенант стеснена её близким присутствием, и хотела немного подбодрить девушку, внушить ей больше доверия к себе.
— Эх, не слишком-то везет тебе, как я погляжу, — сказала она шепотом, — ну ничего, — Тати слегка подалась вперед и мягко ткнула пальчиком в карты Майер. Попробуй зайти так и так… Может, будет шанс…
Но Майер всё равно проиграла. Она вздохнула, неловко засунула свою длинную ручищу в карман и водворила на стол несколько монет.
— Как там говорится: не везет коль в карты, повезет в любви, — провозгласила в своей всегдашней шутовской манере Гейсс, загребая кассу.
— Ведь это правда, — сказала Шома Друбе, — Она единственная из всех нас, кого дома ждет парень.
Майер покраснела. Она склонилась над столом; даже уши её, тоже крупные, как и все остальные части тела, залило густой краской.
Игра продолжилась.
— Не хотите с нами, командир? — спросила Шома, начиная раздавать.
Тати мотнула головой.
— Спасибо, девочки. Мне больше нравится смотреть.
— Не хотите дразнить фортуну? — прогудела своим низким гнусавым голосом Зубова.
— Кого-кого дразнить? — поинтересовалась Гейсс.
— Примета есть такая, — неприязненно пояснила Майер, она воспитывалась в очень интеллигентной семье, потому невежество, выказываемое столь открыто, безо всякого смущения и являющееся даже в некотором смысле предметом бахвальства, невыносимо раздражало её, — большая удача уходит от тех, кто постоянно призывает её по мелочам.
Партия завершилась, и на сей раз проиграла Гейсс.
— Мне вот в карты не всегда фартит, а вообще я везучая, — сказала она, со звоном рассыпая на столе извлеченную из кармана мелочь, — когда училась в универе, помню, мне удавалось пролетать на «отлы» и «хоры», даже если знала меньше половины, а один раз был случай, когда я выучила всего один билет из тридцати — вы представляете? — один! из тридцати! — и именно его я вытащила. Каково? И в бою до сих пор тьфу-тьфу-тьфу… Случалось, прямо в меня роботы с датчиками движения целились… и мазали…
— Удача дама капризная, — сказала Тати, — любимчиков иногда заводит. Но надо крепко помнить — её поцелуи ни в коем случае нельзя принимать как должное… Отношения с госпожой удачей всегда должны быть острыми, она дама страстная, и сразу уходит, если к ней начинают привыкать, — она отняла руки от спинки стула Майер, потянулась, положив ладони на затылок, — может, мне и правда сыграть с вами? — задала она риторический вопрос самой себе, и тут же ответила на него, — Нет, пойду лучше что-нибудь почитаю. Спокойной ночи, девочки.
— Вот видишь, — едко сказала Майер младшему лейтенанту Гейсс, когда шаги капитана Казаровой замерли в глубине коридора, — командир книжки читает, а ты… Краткое содержание… Один билет из тридцати…
Гейсс насупилась.
— Казарова — мировой командир, — сказала Зубова веско, — это она нас так воспитывает, исподволь, чтобы мы даже не замечали. А то бывает иные как встанут руки в боки, как начнут мозги чинить, поучать, так и уши в трубочки свернутся…
— Да. Она молодец, — согласилась Шома, — двадцать шесть лет всего, а уже на хорошем счету у командования. Год-другой и новое повышение получит.
— Возраст ничего не решает, и никакие сроки, как правило, не определяют человеческих достижений, — сказала Зубова, — есть люди от природы талантливые и трудолюбивые, им малейшую лазейку дай, они пробьются, а есть такие, которым все возможности предоставь да времени вагон отведи, но они всё равно просидят, в носу проковыряют…
— Я спать, — решительно сказала Майер, откладывая карты.
— Я тоже, — поддержала её Шома Друбе, — на войне каждая минута отдыха на вес золота.
Вскоре офицерская опустела. И только в углу, в маленьком круге желтого света от переносной лампы, так и осталась сидеть Кора Маггвайер, задремавшая над своим блокнотом.
ГЛАВА 12
К тому времени, когда Риту Шустову призвали, она успела уже выучить о военных роботах всё, что только можно было найти в открытом доступе. Кроме этого, она могла перечислить в хронологическом порядке наиболее крупные военные операции в истории, включая эпоху патриархата, назвать применяемые в ходе каждой из них виды оружия, объяснить преимущества и недостатки вооружения каждой из сторон — словом, она шла в армию с внушительным приданым, которого за ней, разумеется, никто не ожидал, и когда оно обнаружилось, то оказалось для ответственных за военную подготовку весьма приятным сюрпризом, а образцовая дисциплина Риты и радость, с которой она приступала к выполнению любых поручений старших по званию, быстро закрепили за ней славу надежного и добросовестного бойца. Её часто назначали ответственной за что-нибудь или оставляли за старшую в своем отряде — к концу обучения она была уже сержантом. Конечно, это не могло не вызывать зависти у других девчонок, и, предваряя всевозможные козни, сплетни, скверные шутки, Рита держалась особняком, сохраняя со всеми сослуживицами ровную приветливость, но никого не допуская слишком близко — от компанейской хохотушки, которой она уезжала из Норда, не осталось и следа: взявшись с горячностью за дело, которое он считает для себя по настоящему важным, человек способен измениться до неузнаваемости.
На военных базах рядовые (или военные механики) обычно осуществляли дистанционное управление боевыми роботами и роботами-разведчиками из специального дисплейного зала, отвечали за боеспособность, исправность и программирование вверенных им роботов (по одному на каждую рядовую) и обеспечивали быт.
После боя, если робот возвращался на базу самостоятельно, его нужно было осмотреть, смазать, в случае наличия поломок, починить, отключить для отдыха или перепрограммировать согласно приказу. А в том случае, если робот оказывался поврежденным настолько сильно, что не мог вернуться, он должен был быть эвакуирован из зоны военных действий силами личного состава — именно это и являлось самой кровопролитной частью любой из автоматизированных войн, которые велись после принятия Великой Конвенции «О неубийстве человеком человека», запрещающей при ведении боев применять оружие против живой силы противника — стрелять на поражение имели право только военные роботы. Нарушение конвенции приравнивалось к совершению военного преступления.
Спасая сложную боевую технику, армия несла самые большие потери — неповрежденные неприятельские роботы атаковали военных механиков, выводящих из зоны обстрела свои разбитые машины.
Рота новобраниц, в составе которой оказалась Рита, была присоединена к дивизиону, стоящему на территории захваченного портового городка. Он был почти до основания разрушен боями; большинство блочных домов, покинутых, разграбленных, мертвых, походили на высохшие черепа будто бы глядящие глубокими черными глазницами битых окон на пустынные улицы, по которым изредка прохаживались вооружённые люди.
В пыльные жаркие часы сиесты казалось, что в городе не осталось ни души. Солдаты исправно патрулировали развалины, заглядывая за повороты неприветливыми дулами автоматов. Магазины не работали. Системы связи вышли из строя.
Некоторая часть жителей, однако, невзирая ни на что сохранила верность насиженному месту, отказавшись от эвакуации; они продолжали существовать так, как привыкли, многие из них даже установили вполне доброжелательные и взаимовыгодные отношения с людьми в военной форме, занявшими город; изредка случались уличные перестрелки с диверсантами-одиночками, нарушающими Конвенцию, но в целом обстановка в округе сохранялась спокойная.
Большинство отказавшихся уехать — это были старики, а оставшаяся доля населения имела состав весьма разношерстный: попадались и те, кто среди руин надеялся скрыться от правосудия, и жаждущие легкой наживы ловкие люди, балансирующие на грани между честной жизнью и преступлением, и лица без определенного места жительства, которые расквартировались теперь по своему вкусу, и юноши известного ремесла, для которых оккупационные войска, состоящие в основном из изголодавшиеся по ласкам девушек, были лакомым кусочком…
Весь этот сброд, пестрый, дикий, прекрасный и убогий, вызывающий жалость пополам с презрением, когда позволялось, высыпал на улицы, наводнял центральную площадь, где красовался чудом уцелевший после налётов авиации, но пересохший фонтан; кто ещё мог, покупал на единственном оставшемся рынке по баснословным ценам съестное, продовольственные запасы в городе подходили к концу, гуманитарная помощь либо порядком задерживалась, либо не была выслана вовсе ввиду того, что основная масса жителей выехала из города. У солдат часто выпрашивали пайки — консервы, хлеб, чай и даже водку, в основном, конечно, юнцы, которые беззастенчиво устанавливали цену на свою любовь: обычно в несколько банок тушенки, блок сухарей, пакет картошки или крупы.
Октавию исполнилось минувшей весной тридцать восемь лет — как ни прискорбно, это уже не тот возраст, когда мужчина может надеяться прокормиться за счет тела, но тем не менее он продолжал тщательно следить за собой, по привычке ли, или чтобы хоть чем-то заполнить ту глубокую страшную пустоту, которую разверзает в душе война — он ежедневно принимал ароматические ванны, удалял лишние волосы, умащивал кожу кремами, согласно обычаям своего жалкого и обольстительного племени ярко подводил глаза, а чтобы скрыть уже довольно заметно обозначившуюся лысину на затылке, он носил парик из роскошных прямых длинных светло-пепельных волос.
Более молодые хищники с упругими нежными телами, белозубыми улыбками и живым зазывным блеском глаз жестоко посмеивались над ним:
— А вон наш старичок опять при параде. Ходит, ищет свою принцессу!
Октавий голодал. В маленькой квартирке, находившейся в полуразрушенном доме — там он жил — не было ничего кроме косметики, бережно расставленной по полочкам в тесной опрятной ванной; иногда, правда, случалось, что кто-нибудь из юнцов высокомерно жалел Октавия, и несчастный получал подачку с барского стола: что-нибудь из купленного у девушек в форме за ласки — горсть сухарей, несколько картошек или чашку сахара.
Октавий пробовал воровать, но не оказался в этом деле достаточно ловок — его поймали и безжалостно избили — он почти неделю пролежал пластом в своей маленькой темной комнатке, окно в которой было закрыто вместо стекла толстой пестрой картонкой.
В городке стояло необыкновенно сухое и жаркое лето; днем улицы были пустынны — жители, где могли прятались от изнуряющего белого зноя, опаляющего кожу и слепящего глаза; жизнь возобновлялась здесь только к закату, когда немного спадала жара — у молчащего фонтана разворачивался базар, к подъездам уцелевших домов спускались пощебетать старички, и выходили на свой нехитрый промысел надушенные сладко улыбающиеся красавцы.
В один из таких вечеров Рите Шустовой, посланной в патруль, случилось встретить Октавия, который только начал понемногу выходить. Он всё ещё хромал, и, приглядевшись как следует, можно было заметить тщательно запудренные серо-желтые синяки на теле, но туалет его был как всегда безупречен: освеженная легким массажем кожа источала нежный аромат масла мелиссы, полы тонкой усердно отглаженной рубашки слегка расходились на груди, трогательно открывая увядающую шею с толстой позолоченной цепочкой — единственной драгоценностью Октавия.
— Гляди-ка, — сказала Рите её напарница по патрулю, Мэри, — это ведь, кажется, тот самый старый шлюхан, над которым все потешаются. Столько слышала о нём сплетен, всё мечтала взглянуть.
Рита окинула мужчину, на которого указывала сослуживица, скользящим безразличным взглядом, она почти не слушала болтовню Мэри, продолжающей уточнять свои наблюдения:
— Говорят, ему почти сорок, а он до сих пор надеется кому-то понравиться, видала, как нафуфырен да раскрашен? Как хохломская ложка, помилуй Всеблагая, и молодому-то стыдно должно быть столь громогласно о своем ремесле заявлять…
Мэри отвлеклась от созерцания цветастой рубашки и эффектного парика Октавия; она заметила в тени дома небольшую самодельную скамейку.
— Давай тут посидим, сожрем свои бутерброды. А то что-то я голодная, прямо как людоед!
Рита кивнула. Зашуршали пакеты, узкую улочку заполнил аппетитный запах вареной колбасы. Мужчина с цепью на шее остановился неподалеку. Без особого аппетита откусывая свой бутерброд, Рита заметила, какими голодными блестящими глазами смотрит он в их сторону. Она встала и подошла.
— Вы хотите есть?
Октавий кивнул. Он был крайне польщен искренним вниманием, оказанным ему девушкой, поскольку давно уже привык к равнодушно жующим лицам тех, кто мог достать еду, и к их надменным ухмылкам, когда они давали ему, будто собаке, какой-нибудь самый плохой кусок.
Рита протянула ему оба своих бутерброда, один с колбасой, другой с сыром — на жаре размякшим, лоснящимся, ярко-желтым, источающим нежный аромат сливок.
Не веря своему счастью Октавий почтительно держал их, боясь откусить.
— Поешьте, — сказала Рита.
Знакомство Октавия и молодой военнослужащей, к счастью для него, не ограничилось одной мимолетной подачкой. Сержант Шустова, почти не участвовавшая прежде в досужих разговорах, краем уха начала прислушиваться к витающим в казармах сплетням и вскоре стала весьма хорошо осведомлена о делах стареющего красавца — по вечерам в военном лагере от нечего делать обсуждали жителей города, которых, если постараться, можно было запомнить почти всех — так мало их оставалось.
Некоторые из девушек рассказывали даже о своих похождениях — если им удавалось «снять мальчика» за банку тушенки или пакет сухарей, они считали свои долгом поделиться подробностями.
Рита прониклась к Октавию простой человеческой симпатией. Ей было приятно посидеть с ним, пока он ел то, что она ему приносила, несмотря на голод без жадности, изо всех сил стараясь не уронить достоинства — изголодавшиеся люди обычно поглощают пищу отвратительным образом, торопливо и грязно, чего нельзя было сказать об Октавии. Он стал одеваться даже более тщательно, чем прежде, ещё старательнее запудривал мелкие морщинки вокруг глаз — Рита не могла этого не замечать — всеми правдами и неправдами он достал где-то изящный флакончик редких мужских духов, и перед каждым её приходом наносил их на запястья и возле ушей — этот секрет обольщения кто-то открыл Октавию ещё в пору его ранней юности…
Рита хранила в тайне от сослуживиц свою дружбу, ей не хотелось, чтобы кто-нибудь начал зубоскалить на этот счёт, а желающие непременно нашлись бы… Во время коротких встреч на скамеечке в тенистом переулке они с Октавием начали постепенно открываться друг другу, говорить всё больше на разные темы, она узнала, что он попал в публичный дом в возрасте тринадцати лет, оставшись сиротой, сначала, как водится, убирал комнаты, стирал бельё, подносил гостям фрукты и вино, а когда ему исполнилось шестнадцать, круг его обязанностей несколько изменился… Семьи у Октавия не могло быть, живя в публичном доме он перенёс стандартную операцию, которой с легкостью подвергает себя значительная часть продажных мужчин, дабы совершенно избавить приходящих дам от биологической ответственности — эта жертва, кажущаяся по молодости пустяковой, приносит свои плоды — «безопасным» любовникам платят двойную цену…
Рита Шустова никогда особенно не задумывалась о собственной привлекательности — у неё было всё, что должно было быть у молодой девушки — рост, стать, большие серые глаза, густая травка прямых плотных каштановых волос, здоровый ровный тон кожи, длинные стройные руки и ноги — внешняя красота начинает волновать любого человека обычно тогда, когда он испытывает острое желание нравиться кому-то определённому — а поскольку Рита ещё никогда не влюблялась, то и к зеркалу подходила только затем, чтобы проверить, хорошо ли смотрится капризный армейский воротничек. Ей удивительно шла военная форма, зеленоватая рубашка с коротким рукавом, фуражка, ремень с гербом Новой Атлантиды, туго затянутый на талии. Она убеждалась в том, что все пуговицы в порядке, пряжка начищена, стрелка на брюках остра, как нож, улыбалась своему отражению и отходила от зеркала вполне удовлетворенная и счастливая…
У Риты даже мыслей не возникало, что Октавию она может казаться очень красивой девушкой. Он встречал разных женщин. Юных и пожилых, эффектных и уродливых, жестоких и ласковых, пьяных и трезвых, распутных и единожды оступившихся, талантливых и безнадежных, удачливых и несчастных, увечных, безумных, любопытных… Причин, приводящих в дом терпимости великое множество. Но прежде не встречал Октавий никогда личности свободной, цельной, исполненной искреннего человеколюбия… Такие в публичных домах — редкие гостьи… Ибо телесные желания не существуют для них, как правило, отдельно от близости духовной, от понимания и уважения…
Сложное грустно-нежное чувство охватывало Риту каждый раз, когда она подмечала в Октавии какую-нибудь новую милую мелочь, направленную на привлечение её женского, именно женского, внимания, и она понимала: единственный способ не унижать его жалостью, принося еду, это воспользоваться в один прекрасный момент всем тем, что он ей так в высшей степени деликатно и ненавязчиво предлагал… Но она никак не могла решиться: в свои девятнадцать Рита имела познания о близких отношениях с мужчинами сугубо теоретические, ни в Норде, ни потом она не была особенно озабочена приобретением опыта такого рода, ей с лихвой хватало чужих историй, рассказанных шёпотом и с покрасневшими ушами… Она слегка стыдилась этого естественного и очаровательного невежества юности, как его стыдятся все, и старалась не выказывать его перед товарками. Октавий, скорее всего, догадывался о существе Ритиной маленькой тайны, но боялся уязвить её проявлением инициативы, ожидая, когда она примет решение сама.
Всё устроилось благодаря случаю.
В гарнизон пришел приказ о перебросе части живой силы и техники на действующий фронт в пятистах километрах западнее городка, и Рита оказалась в числе тех, кто должен был уехать.
Прощаться она пришла к Октавию прямо домой — это был первый раз, когда Рита не постеснялась посетить его скромное жилище, хотя адрес знала почти с самого начала — войдя, она сразу положила фуражку на пустой письменный стол в маленькой опрятной комнате и, решительно шагнув к нему, расстегнула верхнюю пуговицу гимнастерки.
Радость, изобразившись на лице Октавия, на несколько мгновений прогнала с него тени прожитых лет и испытанных страданий… Он поспешил ей навстречу, мужчина, привыкший дарить ласки, терпеливо и покорно даривший их всю жизнь, вне зависимости от погоды, настроения и своего отношения к тем, кому он их дарил — сейчас он, возможно, впервые, чувствовал искреннее воодушевление — именно этой девушке он хотел дать как можно больше…
Неумело, но крепко прильнув губами к губам Октавия, Рита увлеченно обоняла пленительный аромат его кожи, так усердно создаваемый ради неё; она старалась держаться как можно более уверенно и деловито, чтобы ненароком не обнаружить своей неопытности, а он из природного чувства такта и глубокой благодарности подыграл ей — сделал вид, что не заметил ни одной из её трогательных оплошностей, и будто бы не догадался о происхождении малюсенького темного пятнышка на его ветхой ситцевой тщательно выстиранной простыне.
— Ну как, попрощалась со своим старичком? — спросила Мэри вернувшуюся в расположение Риту. Та казалась немного задумчивее обычного, она лежала на застеленной койке, подложив под голову валик из свернутой гимнастерки.
— Святая ты душа, Ритка, — со вздохом продолжала монолог подруга, почувствовав, что отвечать ей не собираются, — Большую половину своего пайка целый месяц отдавать, заведомо не надеясь получить ничего взамен, все знают, что уличные парни они почти все к тридцати, а кто и раньше, уже того… Не годятся никуда…
Рита привстала на локтях и смерила сослуживицу таким взглядом, что у той ухнуло под ложечкой.
— Кто отважится ещё хоть на одно подобное замечание в адрес Октавия, получит прикладом по хребту, — произнесла она чеканно и намеренно громко, — всё у него как надо.
— Неужто ты проверяла? — спросил кто-то с ехидцей. Из глубины казармы послышался дружный хохот — несколько заинтересованных повернули головы в сторону Ритиной койки.
— Да, — ответила она твердо, на щеки её набежала при этом лёгкая краска, но, несмотря на это, Рита смело встречалась блестящими глазами с каждой из глядящих на неё девчонок… — И осталась очень довольна.
Широко улыбнувшись, она выдержала театральную паузу, после чего окончательно добила всех присутствующих:
— Пусть у каждой из вас хотя бы раз в жизни будет такой секс… Рекомендую.
Этим маленьким замечанием Рите удалось произвести желаемый эффект — после её отъезда у Октавия появилось несколько поклонниц, они были с ним в должной мере почтительны, и, как некогда сама Рита, щедро одаривали его тушенкой, сахаром и армейскими сухарями.
В качестве особого поощрения за выдающиеся успехи в службе командование позволило Тати Казаровой снимать очаровательную дачу в горах; небольшой клочок живописного леса притаился среди утесов, словно птичье гнездо или виток виноградной лозы, обнявшей горячие желто-красные камни — здесь, в этой зеленой мягкой бархатной мгле, укрывалось тихое нетронутое войной поселение. Деревянные домики, сады с обильно плодоносящими фруктовыми деревьями, ветви которых под тяжестью плодов тенистыми арками склонялись над дорогой, влажный горячий воздух, напоенный ароматами молока и домашнего хлеба, овцы, пасущиеся вдоль изгородей — вся эта сельская простота, незатейливая красота, представали настоящим чудом утомленным боями глазам офицеров. Взор отдыхал, неспешно плавая в бескрайнем мареве сочной зелени; грудь расправлялась, вдыхая свежесть, не разбавленную пороховой гарью; в горной деревушке бывало тихо, даже когда в ущельях велись бои — даже когда метались среди камней жадными птицами штурмовые вертолеты, рвались, озаряя сумрак нависающих скал короткими вспышками, боевые снаряды, и падали подбитые, объятые пламенем военные роботы, сюда, на высоту, долетали лишь отголоски, отзвуки — басистый рык моторов превращался в едва слышимый стрекот, словно стрекоза пролетела мимо в стоячем летнем воздухе, взрывы — в легкие щелчки, будто бы просто камни, сброшенные вниз горными козами, упали на дно ущелья.
Старая усадьба, которая приглянулась Тати, находилась на самом краю поселка — отсюда открывался волшебный вид на бурливую горную речушку, поясом струящуюся вокруг вулканической горы. Светлые и чистые комнаты деревянного дома своим скромным уютом и деревенской умиротворенностью резко контрастировали с душными несгораемыми бункерами военной базы, а в саду почти всегда свежо было под сенью яблонь и слив, щедро осыпанных плодами. Тати выбиралась сюда раз или два в неделю, отдохнуть телом и душой, вырваться из раскаленной пасти войны хотя бы ненадолго; иногда она брала с собой особо отличившихся в бою офицеров и даже рядовых, чтобы подбодрить их, дать и им снова почувствовать забытый вкус размеренной мирной жизни.
Переброшенные ближе к фронту силы, в числе которых оказалась и Рита Шустова, были присоединены к дивизиону под командованием Тати Казаровой. Вслед за ними в расположение прибыли боевые машины.
Рита никогда прежде не бывала в горах: новые места поразили её своей величественной и мрачной красотой. В свободные часы она полюбила подниматься на крутой черный утес, откуда открывался вид на необозримую каменную пустыню, что продолжалась за горным хребтом далеко на юг.
В ясные и тихие дни, когда ветер не носил в воздухе розоватую песчаную пыль, с утеса можно было наблюдать за боем: ослепительно сверкала на солнце стальная броня атакующих роботов, безжалостную яркость дня озаряли быстрые белесые вспышки выстрелов и взрывов. Могучие машины загорались, падали или по причине аварийного отключения неожиданно замирали, теряясь среди черных и серых скал, сливаясь с ними — неподвижных, их уже нельзя было различить на фоне каменистой пустыни.
В дисплейном зале, откуда осуществлялось управление роботами, царил мягкий полумрак, чтобы операторам боевых машин лучше были видны изображения на мониторах. В целях недопущения перегрева компьютеров в помещении работали мощные кондиционеры. Каждый оператор сидел в специальном сенсорном кресле с чувствительными педалями для ног и джойстиками для рук — робот, находящийся в нескольких километрах, видимый человеком только на мониторе, становился во время боя его вторым телом… На ручных джойстиках имелись кнопки: нажимая их наощупь операторы руками роботов стреляли по машинам неприятеля, бросали гранаты или включали функцию ближнего боя.
Тати Казарова иногда приходила в дисплейный зал и, стоя за плечом у кого-нибудь из операторов точно ангел-хранитель, временами подсказывала, как лучше поступить; либо просто наблюдала, поворачиваясь то в одну, то в другую сторону, мысленно выстраивая перед собою панораму реального сражения.
Больше, чем на других, командиру хотелось смотреть на Риту — ей нравилось, как сержант Шустова управляется со своим отрядом из шести роботов, управляемых девчонками, кресла которых располагались вокруг Ритиного — это позволяло им лучше слышать команды. Тати отдавала себе отчет в том, что выделяет эту девушку среди прочих; командир, конечно, не должен заводить любимчиков, но, с другой стороны, ничего дурного нет в простой человеческой симпатии, пусть даже командирской, и, как принято говорить, в «возложении надежд» — интуиция подсказывала Тати Казаровой: Рита способна добиться очень многого, и она оказывала ей, насколько это было возможно незаметно для девчонок и тем более для самой Риты, дружеское покровительство.
Бой выдался тяжёлый.
Противник получил подкрепление; плотные ряды неприятельских роботов неотвратимо надвигались, норовя взять в кольцо ничтожную горстку отстреливающихся военных машин — численное преимущество было значительным; продолжать сопротивление сейчас означало бы, скорее всего, потерять всех роботов — вражеская техника просто стерла бы их своим неистовым напором с лица земли, снесла, словно потоп, оставив лишь груду покорёженного железа…
— Отступаем, — напряженно произнесла Рита, быстро облизнув пересохшие губы, — чёрт.
— Всем! Развернуть орудия на сто восемьдесят! Запустить режим пружинных прыжков! Уходим быстро!
— Сколько же их там… Точно саранча, — отдав команды, тихо пробормотала сержант Шустова уже самой себе.
Роботы на мониторе, как один, повернулись, согнув свои стальные шарнирные конечности, направили дула страшных гранатометов и огнеметов назад — живой солдат не способен стрелять спиной, а металлический — сколько угодно — в этом его ощутимое преимущество. Роботы подпрыгнули, выпростав толстые пружины в основаниях нижних конечностей, а после длинными скачками проворно побежали по пустыне, поднимая пыль, перемахивая через камни и овражки, продолжая отстреливаться — вышло очень зрелищно, огромные сверкающие машины будто бы исполняли групповой спортивный танец — все движения их, повинующиеся четким командам Риты, были слаженны, словно набор отрепетированных па.
— Красивое отступление, — не выдержала Тати, обнаружившаяся за плечом сержанта Шустовой, — Молодец.
И сглазила.
Робот Риты внезапно вспыхнул (в него, видимо, угодил один из пущенных неприятелем вдогонку зажигательных снарядов) потерял управление и, споткнувшись о камень, грузно опрокинулся на землю. Вслед за ним упали ещё две боевые машины.
Командир Казарова невольно вздрогнула.
— Мэри! Сандра! Не стрелять! Активировать аварийное складывание! Приготовиться к выходу на поле!
Два робота на мониторе, кроме Ритиного, оперативно сложив в несколько раз и подобрав под себя все конечности, превратились в две литые стальные глыбы (чтобы вражеские выстрелы до момента эвакуации нанесли им как можно меньше вреда), а остальные машины уже оставили их далеко позади, они продолжали бежать по полю, отстреливаясь, и должны были в скором времени прибыть в расположение.
Рита встала, сгребла со стола свою фуражку, и, крепким ловким движением нахлобучив её, скомандовала:
— Наш выход! Вперед!
— Есть! — в один голос воскликнули Мэри и Сандра, подхватывая автоматы, закрепленные в специальных держателях на столах, специально на случай экстренной вылазки.
Тати Казарова смотрела им вслед, не переставая удивляться тому, с каким азартом, с какой горячностью эти девчонки, совсем молоденькие, отправляются выполнять опасное задание. Точно на праздник! Что же это за вечный зов, издавна толкающий юных в объятия смерти? Они прямо-таки кидаются в бой, как играющая собака за брошенной хозяином палкой, восторженно и бездумно, вкладывая в единый порыв всё своё существо. И откуда только берется в них это всеобъемлющее стремление отдавать себя целиком, жертвовать самым ценным, служить в подлинном смысле этого слова какой-либо цели, зачастую чужой? Чем старше становится человек, размышляла Тати, тем сильнее укрепляется он в самом себе, начинает ценить созданное и менее охотно расстается с нажитым. А молодым ничего не жалко! Как ни странно, люди так восхитительно щедры, так благородно расточительны именно в свои лучшие годы, и вот сейчас эти девчонки, почти дети, устремились в самое пекло: им как будто бы даже не терпится скормить свои нежные тела, толком ещё не изведавшие жизни, ненасытному чудовищу войны.
Они бежали вперед, поднимая пыль высоко зашнурованными армейскими ботинками. Глухо постукивали за плечами заряженные автоматы.
Тати Казарова осмотрелась и, убедившись, что никто не наблюдает за ней, трижды осенила знамением Всеблагой (особым движением ладоней) удаляющиеся спины этих четырех девчонок, отправляющихся на линию фронта, своих девчонок, как она называла их иногда и с гордостью, и с лёгкой грустью; ей было всего-навсего двадцать шесть: вполне достаточно, чтобы приобрести самый первый слой жизненного опыта, без которого вообще невозможна духовная самостоятельность, но ещё слишком мало, чтобы чувствовать себя матерью почти пятистам своим ровесницам, вверенным ей командованием, и отвечать за каждую из них как за саму себя…
Вертолёт ожидал на площадке. От расположения до линии фронта было около сотни километров скалистой, каменистой, труднопроходимой местности. Боевые роботы и те иногда падали, попадая какой-нибудь из своих мощных стальных ног в расщелину между массивными глыбами. Растительность здесь встречалась в основном скудная, лишь по берегам порожистой речки, что спускалась с вершины к подножью горы, росли невысокие деревья, колючие кустарники, всевозможные причудливые мхи и лишайники — какие-то из них походили на бахрому, иные — на соляные отложения, а некоторые распространялись по камню, расползались неравномерно, разукрашивая его, расписывая, выводя на его поверхности удивительные узоры.
Огромная металлическая стрекоза поднялась в воздух. Сколько раз Рите уже приходилось видеть это, а всё никак было не привыкнуть — она смотрела, как постепенно уходит вниз земля, уменьшаются скалы, постройки, кудрявые заросли вдоль берегов реки — вся местность становится похожей на рекламный макет строительной компании: кажется, любой домик или гору можно взять, подержать на ладони, рассмотреть как следует.
Обогнув одну из вершин хребта вертолет отправился на запад — туда, где над царством желтых камней сейчас медленно опускалось солнце, придавая всему, чего касались его лучи, мягкое золотое сияние — будто бы скалы действительно состояли сплошь из драгоценного металла, будто бы ожила древняя прекрасная легенда о затерянном чудесном городе, целиком построенном из золота…
С высоты птичьего полета хорошо просматривались поселки — пёстрыми лоскутками раскинулись они берегам реки и на небольшом удалении от неё; река поворачивала и текла на север, вдоль хребта, вбирая в себя более мелкие ручейки и речонки, становясь полноводнее, наливаясь силой. А на юге насколько хватало глаз простиралась безжизненная каменистая страна, пустынная, раскаленная, жуткая, целиком принадлежащая населяющим её ядовитых змеям и паукам, которые представляли здесь опасность едва ли не большую, чем пули.
Внимание Риты привлек один из поселков — над небольшими домиками плотными сизыми клубами поднимался дым, и то в одном месте, то в другом мелькали, вытягиваясь вверх, извиваясь, словно танцующие кобры, оранжевые языки пламени.
— Глядите-ка, деревня горит, — сказала она, — давайте спустимся немного и выясним в чем там дело.
— Так нельзя же, — возразила Сандра (она пилотировала вертолет), — у нас приказ. Мы летим на задание.
— Но там, кажется, происходит нечто не совсем нормальное, — продолжала Рита. Она смотрела на расстилающийся внизу поселок теперь уже в бинокль: среди горящих домов она различила холодный блеск стальной брони военных роботов.
— Деревню атакуют, Сандра, зависни.
— Но ведь был приказ…
— Прошу заметить, что сейчас, на этом вертолете, старшая по званию я, — произнесла Рита с нажимом, — и я тебе приказываю — спустись ниже и зависни, лешего тебе в койку, там происходит какая-то чертовщина!
Когда вертолет снизился, среди дыма и пламени все члены экипажа отчётливо различили роботов, причём не вражеских, своих — у каждого из них на спине и на груди будто щит красовалась крупная сине-белая эмблема войск Новой Атлантиды… Боевые машины, казалось, обезумели: поворачиваясь во все стороны, они разряжали свои чудовищные крупнокалиберные орудия в маленькие домики, заборы, деревья. Отовсюду крупными клубами валил дым, пыль от разрушающихся строений витала в воздухе, и сквозь неё видно было как метались, силясь увернуться от выстрелов, перепуганные местные жители. Один за другим они падали, настигнутые снарядами: сенсоры роботов, настроенные на поиск и уничтожение, работали исправно.
— Вызывай Казарову по срочной связи! — велела Рита сидящей у приборной панели Мэри, — Звони! Чего ждешь?
— Сразу ей? Напрямую? — спросила та с опаской, — может, сперва позвонить Зубовой?
— Бюрократы чертовы! Ты вообще видишь, что там происходит? Я при-ка-зы-ва-ю: звони комдиву, немедленно!
Мэри нажала кнопку на рации и выразительным жестом протянула ещё Рите — отвечать, дескать, будешь сама.
— Капитан Казарова, приём.
— Слышу вас, кто говорит, что случилось, приём.
— Сержант Шустова на связи. Роботы уничтожают мирное поселение. Номера А-234, А-445, СХ-18 и не могу прочесть… — Рита сосредоточенно смотрела в бинокль, — В-808, кажется, приём.
— Поняла. Где вы находитесь, приём.
— Поселок Сурразай-Дарбу. Они убивают людей, командир. Разрешите стрелять. Приём.
— Ни в коем случае, сержант. Оставайтесь на месте и ничего не предпринимайте. Я свяжусь с вами.
Рация отключилась.
— Какого лешего? — воскликнула Рита, — ещё несколько минут, и деревню сравняют с землёй…
— Уничтожать собственные машины всё равно никто не позволит! Это безумие, — сказала Сандра, — они стоят миллионы атлантиков! Не забывай, что мы рискуем жизнями, совершая вылазки под огнём противника, именно ради них!
— Но должен же быть способ их остановить! — воскликнула Рита, лицо её полыхало от возбуждения, — Снижайся! Я приказываю! Живые люди, конечно, не стоят по миллиону каждый, о них можно не думать!
— Казарова велела ждать. Это неподчинение приказу!
— Я беру ответственность на себя, — сказала Рита, — снижайся!
Сандра повиновалась, сперва неохотно; вертолёт качнулся и медленно, как большой жук, начал спускаться вниз; Мэри смятенно глядела на приближающуюся землю, объятую огнём, но никто из девушек больше ничего не говорил, твердая воля сержанта Шустовой постепенно побеждала в них сомнения и страх, становясь их собственной волей, прорастая в мысли подобно корню калгана. Сама Рита сосредоточенно побледнела, но глаза её засверкали ярче; предчувствие опасности мигом обострило все чувства: как будто более насыщенными стали краски, а сквозь общий гул и стрекот пожара резко выделялся теперь свист каждой близко пролетающей пули.
Тати Казарова тем временем побежала в дисплейный зал, где должны были находиться операторы всех исправных боевых машин, отозванных с линии фронта — возвращение партии роботов ожидалось в течение нескольких часов, именно они, предположила Тати, могли оказаться в Сурразай-Дарбу и из-за спонтанного системного сбоя начать неконтролируемую стрельбу по мирному населению.
Вертолёт приземлился на поляне перед одним из уцелевших деревянных домиков. Некоторые окна в нём были выбиты, западная стена обуглилась, но он ещё стоял. Трава бурлила, взбудораженная воздушными потоками от винтов.
Крепко ступая длинными стальными ногами, оставляя в мягкой земле уродливые рытвины к домику приближался робот. Алчно сверкающие отражённым светом камеры-глаза его лихорадочно вращались в поисках объекта, пригодного для уничтожения.
Рита отстегнула ремни с явным намерением покинуть кабину вертолета. Она выглянула наружу, выставив вперёд дуло автомата. Он казался спичкой по сравнению с крупнокалиберными орудиями робота.
— Ты куда? — воскликнул в один голос Сандра и Мэри, — он же убьет тебя!
— Вы что, забыли, что встроенные сенсоры отличают нашу форму? — спокойно ответила сержант Шустова, — Роботы не стреляют в своих.
— А… А если и эта функция повреждена?
— Значит, судьба, — бросила Рита через плечо. Подняв автомат, она выпрыгнула из кабины и решительно направилась навстречу ужасающей машине смерти.
Высокотехнологичный убийца замер, среагировав на движение; насторожившись, беспокойно повращал камерами, но открывать огонь, к великому облегчению Сандры и Мэри, не стал.
Рита выпустила очередь — выбила камеры, лишив робота возможности ориентироваться. Он начал бестолково вертеть металлической головой, как корова, на ухо которой сел слепень, и, подняв стальные руки, принялся отчаянно палить из своих орудий куда попало.
Рита легла на землю и поползла.
— Сюда! Сюда! Я взлетаю! — закричала Сандра, — да куда она ползет, шальная? Шустова! Давай назад!
Но Рита продолжала ползти по направлению к домику. Среди выстрелов и потрескивания огромного костра, в который превратился посёлок, ей слышалось, будто бы там кто-то, плача, зовёт на помощь… Дети.
— Я взлетаю! — завопила Сандра, — в конце концов, никто не обязан спасать самоубийц, — она приподняла рычаг, и массивная двухвинтовая стальная машина оторвалась от земли, оставив Риту один на один с самой смертью, что так сытно пировала в этом небольшом посёлке на берегу реки.
Девчонки-операторы сидели сгрудившись, как обычно во время перерывов; они оставили свои погасшие мониторы и весело о чем-то болтали, попивая крепкий растворимый кофе, аромат которого стелился по всему помещению, вытекал в коридор, Тати почувствовала его даже чуть раньше, чем вошла в дисплейный зал…
— Отставить! Боевая тревога!
Операторы повскакивали с мест.
— По машинам! Вывод изображения со зрительных камер всех роботов немедленно!
Послышалось торопливое клацанье многих клавиатур. Девчонки напряженно подобрались в креслах.
— Машины А- 234, А-445, СХ-18 и В-803 не отзываются, командир! — сообщила спустя минуту лейтенант Майер, обмерив зал широкими шагами своих метровых ножищ.
— Попробуйте осуществить аварийную перезагрузку, — велела Тати.
Прошло ещё несколько мгновений ожидания, мучительного бездействия, когда приказ уже отдан, и командир перестаёт быть командиром, вручая Всеблагой себя и свое решение.
Экраны продолжали оставаться чёрными. Тати Казарова, застыв, стояла за креслом одной из девочек: она устремила сосредоточенный немигающий взгляд на монитор — будто бы силой мысли пыталась вернуть к жизни поврежденную систему.
Но всё было тщетно.
— Полное экстренное отключение, — скомандовала она, — одновременным нажатием трех клавиш, — Тати перечислила каких, — вызываете диалоговое окно и вводите командирский пароль 12е57с42х1, после чего в меню выбираете команду: отключить без сохранения данных…
Внезапно грохот выстрелов прекратился. Гул вертолета замер вдали, и только треск горящих досок нарушал теперь тишину ясного летнего вечера.
Рита оглянулась.
Стоящий в центре поляны робот, минуту назад беспрерывно паливший в буквальном смысле по воробьям, застыл на месте в неестественной перекошенной позе. Огоньки активности у него на лбу, висках и запястьях погасли. Он был отключен.
— Слава тебе Всемогущая, — выдохнула сержант Шустова, утыкаясь потным лбом в мягкую траву.
Позволив себе на несколько мгновений расслабиться, она снова услышала плач. Можно было с уверенностью сказать, что он доносится из дома.
Рита встала и направилась к крыльцу. Выстрелов можно было уже не опасаться — ни один робот не двигался с места. Сержант Шустова с наслаждением выпрямилась, расправила плечи…
Держа на всякий случай свой автомат наготове, она распахнула входную дверь.
— Если есть тут кто живой, выходите! — крикнула девушка, со стуком войдя в сени, — я не причиню вам зла.
Никто не отозвался.
Плач сперва сделался глуше, точно кто-то, испугавшись, прикрыл ребенку рот рукой, а затем и вовсе затих.
Рита прошла в горницу. Здесь было светло и чисто, совсем мирно, закатный свет из окна ложился на доски пола широкой розоватой полосой. На столе стояли цветы в вазе и кувшин с молоком, накрытый уголком полотенца.
Моментально оценив обстановку, Рита обратила внимание на крышку подвала — она, закрытая, очевидно, не слишком плотно, четко выделялась на фоне остального пола.
— Выходите, я не причиню вам зла, — повторила девушка.
Снова никто не откликнулся, но в подполье послышался тихий шорох. Сержант Шустова включила фонарик. Осторожно ступая по скрипучим половицам, она приблизилась ко входу в подвал и приподняла крышку.
Круглое резкое пятно белого света упало на земляной пол, проползло по деревянным ящикам с овощами, сложенным рыболовным снастям, косой поленнице, и, наконец, выхватило из темноты живые лица. Испуганные. Ребячьи.
Мальчиков было трое. Два малыша, лет пяти, не более, по всей видимости, близнецы, третий постарше; он держал младших чуть позади, отталкивал их во мрак, как бы пряча, заслоняя собою.
— Я сержант Шустова, войска Независимой Республики Новая Атлантида, — сказала Рита, — Выходите, не бойтесь.
Скрипнула приставная лестница, и старший мальчик, что-то шепнув каждому из младших, помог им выбраться наверх. Когда дети поднялись, он вылез следом, недоверчиво косясь на Риту. Она не придала значения странному возбужденному блеску в его глазах. «Мальчик пережил сильный стресс, он очень напуган.» Сержант Шустова решила, что даже вопросы задавать сейчас не стоит, пусть дети сначала как следует поедят, выспятся. «Их нужно доставить в расположение, а там поглядим.»
Было заметно, что нежданная гостья — рослая, пыльная, в военной форме, с автоматом через плечо — внушает ребятам страх. Младшие мальчики продолжали прятаться за старшего. Он стоял, не двигаясь с места, строго опустив взор, и ничего не ответил, когда Рита спросила его имя.
Ей наконец удалось разглядеть парнишку как следует: он оказался на самом деле чуть постарше, чем подумалось Рите в первый момент, бело-голубой луч фонаря делал встревоженно обращенное к ней личико подростка совсем детским, сейчас, в мягком свете погасающего дня она дала бы ему лет тринадцать-четырнадцать; на него уже сложно было смотреть как на ребенка, что-то неуловимое и волнующее в его облике намекало ей, что перед нею — юный мужчина… Рита сразу обратила внимание на его ресницы: густые, тёмные, кончиками немного загнутые наверх.
Ощупав свои карманы, она поняла, что выронила рацию где-то на лужайке, пока ползла под огнём на животе.
«Вот чёрт. Как я теперь свяжусь с базой? Остаётся надеяться, что сами догадаются прислать сюда подкрепление…»
В полном молчании прошло несколько минут, показавшихся слишком долгими.
Сержант Шустова поставила свой автомат у двери, включила электрическую лампу — закат догорал, и темнота постепенно захватывала пространство. Присев к столу, девушка отломила себе ломоть хлеба и непринужденно принялась есть его, запивая молоком. Она решила, что вести себя следует как можно более естественно и просто, тогда малышам будет легче поверить, что она действительно не собирается причинять им зло.
Услышав шелест пакета, в котором лежал хлеб, старший мальчик коротко взглянул на Риту, как ей показалось, с укоризной.
— Алан, я тоже хочу есть, — обиженно протянул один из маленьких мальчиков.
— А у меня нога болит, — сказал другой, — я ушибся.
— Подождите, — шикнул на них подросток.
— Алан, — повторила Рита с улыбкой, — так, значит, тебя зовут.
— Да, — нехотя согласился он.
И снова удостоил её быстрым подозрительным взглядом.
Глаза у него были точно две крупные тёмные вишни. Кожа гладкая, смуглая. Над верхней губкой, выпуклой, нежной — точно тонкая карандашная штриховка — первые усики.
Рите показалось, что она слышит пока ещё очень далекий едва различимый на фоне других звуков стрекот приближающегося вертолета. Она отложила хлеб и насторожилась.
— Это наши! Точно наши! — просияв, воскликнула Рита несколько мгновений спустя и, вскочив из-за стола, подошла к окну.
В этот момент от радости она забылась — повернулась спиной к ребятам — совершенно спокойно — у неё даже не возникло мысли, что от них можно ожидать не самых приятных сюрпризов — она уже доверяла им…
И тут же сержант Шустова услышала короткий звук, точно кто-то прыгнул у неё за спиной, стремительно бросился вперед, подобно кошке — она ощутила сильный толчок, что-то острое полоснуло её по руке, обожгло внезапной болью, ткань гимнастерки разошлась, на дощатый пол мелкими быстрыми каплями закапала алая кровь…
Приемы самообороны в ближнем бою сработали на уровне рефлекса, Рита круто развернулась, и, успев перехватить руку нападавшего, резко вывернула её.
Мальчишка жалобно вскрикнул, и его оружие, оказавшееся обыкновенным канцелярским ножом с широким и острым лезвием, выпав из руки, со глухим стуком упало на пол.
— Ах вот ты какой, оказывается, коварный, — сказала сержант Шустова почти беззлобно, — придется тогда нам себя немножко обезопасить.
Сорвав бельевую веревку, натянутую под потолком горницы, она туго перевязала ею руки Алана у него за спиной. Рита была гораздо сильнее и вдобавок имела боевой опыт: несмотря на его отчаянное сопротивление, ей это удалось легко.
— Так-то лучше, — она усадила незадачливого убийцу на стул.
Теперь он смотрел на неё откровенно враждебно.
— Не притворяйтесь добренькой, — заявил он едко, — я знаю, это вы… Это всё вы. У вас на рукаве точно такая же эмблема, какую я приметил на одном из роботов. Злые! Лживые! Враги!
Последние три слова он выкрикнул, гневно, хрипло, едва не сорвавшись на слезы. Туго стянутые за спиной руки мальчика начали багроветь — он лихорадочно тянул веревки, пытаясь освободиться…
Стрекот вертолета тем временем густел, становился всё громче, приближаясь. Рита уже не сомневалась. Она была абсолютно уверена — помощь идёт.
Она подобрала свой автомат и распахнула входную дверь.
Слава Всеблагой!
Сандра сажала на полянке перед домом стальную стрекозу, слепящую в полумраке огнями мощных прожекторов.
ГЛАВА 13
Сержант Шустова понимала: когда вертолет вернется в расположение, его экипаж и неожиданных пассажиров встретят там отнюдь не с распростертыми объятиями и аплодисментами. Бойцы не выполнили задание — подбитые военные роботы так и остались лежать среди камней, им по-прежнему грозила опасность быть взорванными или сожженными врагом.
Под гул вертолета Рита поблагодарила Мэри и Сандру за преданность, коротко, но невероятно эмоционально пожав руку каждой из них.
По прибытии она постучалась в офицерскую, намереваясь сообщить о случившемся старшему лейтенанту Зубовой. Дети устали и проголодались — нужно было где-то их разместить, хотя бы на время.
— Кто там, заходи! — раздался из-за двери весёлый окрик Гейсс.
Зубова неохотно оторвала взгляд от газеты. Кора Маггвайер, пристроившаяся в уголке со своей гитарой, легкими движениями пальцев теребила струны; инструмент бормотал тихо, ненавязчиво, будто шепотом разговаривающий человек.
— Старший сержант Шустова, — отрекомендовалась Рита, козырнув, — разрешите доложить, на базу доставлены трое мирных жителей из деревни разоренной неисправными роботами. Как прикажете действовать?
Сняв и положив поверх газеты очки для чтения, Зубова провела ладонью по лбу.
— Мирные жители? На базе? — проворчала она, — Что за чертовщина? Вообще-то у нас секретный объект, посторонние сюда не допускаются.
— Это дети, старший лейтенант, — сказала Рита.
— История знает невероятнейшие случаи военного шпионажа, в том числе и с привлечением детей, — Зубова отодвинула газету на край стола, угол её повис, — в любом случае, тут я сама не могу ничего предпринять, надо звонить Казаровой.
Гейсс протянула руку за сползающей со стола газетой.
— Что хоть там пишут? Скоро кончится война?
Зубова сморщилась и махнула рукой.
— Да ну их в баню. Вечно политики воду в ступе толкут, — она тут же перевела взгляд на Риту, — а ты давай, веди сюда своих мирных жителей, я буду сообщать командиру.
Потянувшись за телефонной трубкой, Зубова смерила стоящую по струнке девушку взглядом полным искреннего сожаления.
— Чтоб волосатый леший тебе отдался, наделала дел… Ох, потолкует с тобой сейчас Казарова… — пробормотала она с сочувственной укоризной.
— Дети здесь, старший лейтенант, — сообщила входящая в офицерскую долговязая Майер. Она приоткрыла дверь и жестом пригласила мальчиков войти.
Вздохнув, Зубова подняла трубку аппарата внутренней связи.
— Какой шикарный трофей, однако, — прокомментировала в своей обычной шутовской манере Гейсс, приметив наручники на изящных запястьях Алана. Оторвавшись от газеты, она бесцеремонно оглядывала его, точно перед нею был не юноша, а красивая краденая вещь.
Рита сердито поджала губы, бросив на неё уничтожающий взгляд.
— Ждём распоряжений командира, — сказала Зубова, положив трубку на рычаг, — нарушение режима секретности объекта дело нешуточное.
Несколько минут спустя в помещение скорыми шагами вошла Тати Казарова, она никогда не задавалась, не ленилась вмешиваться даже в мелкие конфликты, неизбежно возникающие по ходу службы, и нечасто вызывала кого-либо в свой личный кабинет, предпочитая спускаться в офицерскую. Кинув быстрый взгляд на мальчишек, она повернулась к Гейсс, Майер и Зубовой, мигом застывшим перед нею по стойке смирно. Со стуком поставив гитару на пол, с небольшим опозданием отдала командиру честь и Кора Маггвайер.
— Разрешите доложить, капитан Казарова. На объекте находятся посторонние.
— Вольно, — Тати слегка махнула рукой. Озабоченно наморщив свой круглый белоснежный лобик, она обратилась к Рите:
— Сержант Шустова, объясните мне, пожалуйста, внятно, что здесь произошло. Я предпочитаю получать сведения из первых рук. Информация, она ведь как мужчина: ценность её тем меньше, чем через большее количество рук она успела пройти, — Тати поддержала свою шутку тонкой улыбкой.
— Докладываю, командир, — начала Рита, — трое мирных жителей, которых вы можете видеть здесь, были эвакуированы из сожженной деревни экипажем вертолета Беркут-А8, вылетевшим на срочное задание сегодня в девятнадцать часов.
— А больше там никого не осталось?
— Не могу знать, командир, дома горели и осмотреть их не представлялось возможным.
— Где роботы, которых вы должны были доставить на базу?
— Они остались в зоне ведения боя, командир.
— Это вы отдали приказ рядовой Сандре Бергендер сажать вертолёт, сержант?
— Так точно, командир.
— Понимаете ли вы, что провалили ответственное задание и должны будете понести наказание за неподчинение приказу?
— Да, командир, — ответила Рита, открыто и твердо глядя прямо в глаза Тати.
— Ясно, — задумчиво произнесла капитан Казарова, — что же, как говорится, придут с дубинками, будем шевелиться… А пока… Шустову в карцер на сутки, пусть посидит, подумает, а детей покормить и уложить спать, время позднее.
— Куда, командир? — спросила Зубова.
— На ваше усмотрение, старший лейтенант. Спокойной ночи.
Тати вышла, бесшумно прикрыв за собой дверь, в коридоре скоро стихли её лёгкие энергичные шаги.
— Лучше всего, наверное, расположить их в помещении бытового склада, — озвучила свои мысли Зубова, — на раздвижных кроватях…
— Двоих мелких, может, и стоит отправить на склад, — вставила Гейсс со смешком, — а старшего я бы, на вашем месте, положила к себе.
Нежная кожа Алана была, наверное, слишком смуглой, чтобы краснеть, и услышав это скабрезное замечание он лишь спрятал глаза, опустив свои роскошные ресницы. Рита Шустова успела метнуть в сторону лейтенанта Гейсс ещё один недобрый взгляд — дверь снова открылась и вошли дежурные, чтобы сопровождать её в карцер.
— Доброй ночи, сержант, — хохотнула Гейсс.
— Берегла бы ты челюсть, — проворчала Зубова, — на войне оно, конечно, без шутки не житье, но меру знать надо.
Утром следующего дня Риту прямо из карцера проводили в кабинет Казаровой.
— Садись, — сказала Тати, взглядом указывая ей на стул для посетителей.
С виду кабинет командира дивизиона ничем не отличался от кабинета какой-нибудь чиновницы или управляющей: о принадлежности его владелицы к вооруженным силам говорил только портрет министра обороны в простенке между двумя окнами да несколько старинных наградных знаков, прикрепленных к лоскуту холста под портретом.
Министр, точнее министрисса, напоминала хищную птицу; суровое лицо её художник решил изобразить, развернув в три четверти: длинный нос слегка загибался книзу, узкогубый рот был плотно сжат, а небольшие глубоко посаженные глаза зловеще сверкали, точно орудия в бойницах. Рита невольно сравнила лицо на портрете с живой Тати, сидящей под этим портретом. Капитан Казарова представлялась совершенной противоположностью воинственной чиновницы: миниатюрная, хрупкая, светлокожая до прозрачности; бывают такие удивительные блондинки, будто тонкая фарфоровая посуда; из-под фуражки выбивались лёгкие завитки соломенного цвета — офицерам разрешалось не стричься наголо… Рите подумалось, что портрет министриссы обороны и хорошенькое личико расположившейся в кожаном кресле Тати Казаровой вместе составляют одну аллегорическую картину, которую можно было бы назвать, к примеру, «Противоборство Войны и Любви»…
— Итак, — сказала капитан Казарова, её изящные губы чуть-чуть изогнулись, это была почти улыбка, — я позвала вас сюда, старший сержант Шустова, чтобы прояснить некоторые моменты, которые впоследствии могут отразиться на судьбе всего дивизиона.
Рита стояла перед нею напряженно вытянувшись.
— Вольно, — вставила Тати, будто бы неохотно отвлекшись на это короткое словечко от своего монолога, который она тут же продолжила, — я обошлась с вами строго, как вы того заслуживаете, в вашем положении неподчинение приказу — серьезный проступок, что бы ни случилось, вы должны выполнять конкретное задание, думать пока не ваше дело… Понимаете меня, сержант Шустова?
— Да, командир.
— Но в сложившейся ситуации, — Тати на секунду задумалась, формулируя мысль, — ваше вмешательство оказалось своевременным и довольно удачным; мы, конечно, потеряли те машины, эвакуация которых была поручена вам, но всех роботов со сбоем дистанционного контроля нам удалось сохранить, отключив их прежде, чем активировалась программа самоуничтожения, предусмотренная на случай, когда робот не отвечает на команды из Центра. Сейчас операторы обнуляют их и устанавливают новые операционные системы, — Тати встала и прошлась вдоль стола, как будто бы непринужденно, однако, почти неуловимые признаки её волнения были замечены Ритой; капитан Казарова повернула голову к окну, может быть, просто так, но, вероятнее всего, чтобы спрятать взгляд, и продолжила, — надеюсь, вы понимаете, сержант, что огласка произошедшего в Сурразай-Дарбу крайне нежелательна…
После того, как эта фраза прозвучала, впервые в жизни при разговоре с вышестоящим чином, Рита почувствовала себя хозяйкой положения; она предположила, что сейчас Казарова попробует заручиться её молчанием, то есть будет просить, и в какие бы выражения командир ни облекла бы теперь свои мысли, выйдет так, что она обращается к простому бойцу Шустовой как к существу, от которого она зависит, способному решать её судьбу… Но Тати, обернувшись к Рите, взглянула ей в глаза открыто и твердо:
— Я отвечаю за всё, что делают мои роботы и мои люди. Я командир, разгром деревни грозит мне трибуналом, и я ни слова не скажу в свою защиту. Это мой недогляд, моя ошибка, — Тати остановилась и, переведя дух, продолжила с большим пылом, — Тебя следовало бы подержать в карцере ещё пару дней и разжаловать в рядовые, но… я представлю тебя к награде.
Казарова замолчала, продолжая глядеть на Риту в упор, ожидая её реакции.
— Это сделка, командир? — спросила Рита. Дерзость, долго таимая, прорвалась невзначай.
— Нет, старший сержант Шустова, — без тени гнева ответила Тати, — это справедливость, — она снова прошлась туда-обратно вдоль стола и добавила после паузы, — вы совершили подвиг. Принять самостоятельное решение в какой-либо неоднозначной ситуации бывает порой не только трудно, но и страшно. Лишь смелый боец способен взять всю ответственность на себя. И боец должен быть награждён за свою смелость. Вам ясно?
— Да, командир, — ответила Рита, опустив взгляд. Ей стало стыдно за свои недавние мысли.
— А сейчас отправляйтесь спать, — сказала Казарова, — вы, наверное, устали.
— Благодарю вас, командир. Только разрешите спросить, как чувствуют себя дети?
— Всё в порядке, — будто бы неохотно ответила Тати, — мы подумаем, что с ними делать дальше.
Добравшись после всех злоключений до своей койки, Рита с наслаждением растянулась на ней. В карцере, узком, словно труба, можно было только стоять или сидеть на колченогом стуле. Кроме того, там было холодно и очень влажно. Не поспишь. От нечего делать Рита нацарапала ногтем на одном из кирпичей в стене:
А Л А Н
Поздним вечером того же дня, скорее даже уже ночью, когда совсем стемнело, и горы острыми черными зубцами прорисовались на бледно-зеленом краю неба, Рита услышала, или ей показалось, что она слышит, робкие шаги в коридоре возле дверей… Койка её располагалась ближе всего к выходу, она приподняла голову и прислушалась.
Душный воздух помещения, в котором спали двадцать человек, грузно покачивался от дуновений сквозняка, словно ночное море, в тишине далеко разносились глухое сонное сопение и легкий шорох одеял; Рита бесшумно выскользнула из постели и прошлепала босыми ногами ближе к двери, стараясь производить как можно меньше шума.
Дверь была приоткрыта, узкая яркая полоска света из коридора, точно фломастерная черта, на мгновение расширилась и так же быстро истончилась, почти исчезла. Рите почудилось, будто кто-то осторожно заглянул в комнату и, испугавшись, тотчас отпрянул от двери. Она подошла, потянула ручку и выглянула в коридор.
Там, замирая от страха, стоял Алан.
Одет он был точно так же, как и днем, только немного растрепан, и рубашку застегнул, видимо второпях, не на те пуговицы, отчего одна пола казалась длиннее другой.
— Что-нибудь случилось? Нужна помощь? — спросила Рита удивленно.
— Нет, — ответил он шепотом, — Нас сегодня забыли запереть на ночь, и я сбежал… Я хотел найти вас, сержант Шустова… Шел по коридору и заглядывал во все комнаты.
— Но зачем? — Рита, вторя ему, тоже перешла на шепот.
— Я многое понял и хотел попросить прощения, — ответил он, устремив на неё взгляд своих глубоких загадочных глаз; они бликовали в свете ламп подобно чёрным шлифованным агатам, — Я вел себя ужасно глупо и неблагодарно, когда вы пришли, я защищался, я думал, что вы враги, как те роботы, которые убили всех в деревне, меня смутили ваши нашивки. Но теперь я всё переосмыслил: вы спасли меня и моих братьев и даже понесли наказание из-за этого, я слышал, вы были в карцере. Мне так жаль, я ведь хотел убить вас тогда, в доме… Простите меня.
Алан говорил сбивчиво, то быстро взглядывая на Риту исподлобья, то стыдливо опуская взор.
— Ничего страшного, — великодушно согласилась она, — никто из нас не застрахован от ошибки, считай, что ничего не произошло.
— Спасибо… Теперь мне будет намного спокойнее…
Разговор был исчерпан, и оба ощутили это одновременно. Они недолго постояли молча друг напротив друга, прислушиваясь к гудению молочной лампы под потолком.
— Уже поздно, — сказала Рита, — иди спать.
Ей было приятно смотреть на мальчика: его большие загадочные глаза, пушистые темные ресницы, упругие завитки чёрных волос, обрамляющие ровный нежный лоб, приковывали взгляд своей непривычной северному глазу яркостью, очаровательной свежестью ранней юности — внешность Алана внушала Рите невыразимое радостное волнение — она воспринимала это пока на уровне смутных чувств, не умея сформулировать — он был не просто хорошенький ребенок, в каждом движении его лица, в каждом тонком жесте таился уже тот неуловимый пленительный оттенок предчувствия любви, что отличает невинное дитя от взрослеющего существа, осознающего и принимающего свою принадлежность к определённому полу…
— Я провожу тебя, — добавила Рита настойчиво, — мало ли что может быть…
Она попыталась взять юношу за руку, но он смущенно отстранился. Её это не обидело — она понимала, что на ранимую психику подростка не могли не повлиять обстрел деревни, внезапная потеря родителей и переезд в странное подземное помещение с бесконечными извилистыми коридорами и тяжёлыми металлическими дверями, открывающимися только с помощью электронных чипов, которые Алану даже ни разу не давали в руки… В таких условиях можно чувствовать себя только пленником, жертвой. А жертва всегда боится.
Рита чувствовала смятение мальчика, его тревогу, его одиночество и покинутость. Больше всего на свете ей хотелось сейчас его поддержать, ободрить — но для этого он должен был заговорить с нею первым. Он должен был оказать ей доверие…
И это произошло. Алан будто бы услышал обращённое к нему безмолвное предложение помощи, исходящее от девушки.
Он вдруг остановился и, коротко блеснув чёрными вишнями свои глаз, торопливым взволнованным шепотом заговорил:
— Я… я не хочу сейчас спать. Совсем не могу туда идти. Мне страшно здесь спать. Понимаете… Мне очень страшно, — он умолк, потупившись, но тут же продолжил, — Я часто ворочаюсь по ночам и не могу никак забыться, я очень переживаю… Что будет теперь со мной и моими братьями? Где наши родители? Они погибли, или, может, тоже где-то сейчас скрываются и ищут нас?
— К сожалению, мне нечем тебя утешить, — призналась Рита так дружелюбно и так ласково, как только смогла, — Что делать с вами дальше, решит командир. И про твоих родителей тоже пока ничего неизвестно, — она протянула руку и сделала робкую попытку ободряюще погладить Алана по плечу, он сначала отпрянул, точно пуганый зверек, но потом всё-таки покорился, — Ты, главное, не переживай. Здесь, можешь быть уверен, вы в полной безопасности, под надежной защитой, никто не обидит вас.
Вернувшись к себе, Рита долго не могла уснуть. Девушка думала о том, окажется ли для неё возможным выяснить, какое решение примет командующая дивизией, и, если это решение окажется несправедливым или жестоким, сможет ли она, старший сержант Шустова, как-то повлиять на него…
Ну нет. Конечно же, нет. Такое только в блокбастерах про супергероинь бывает. Где Казарова, а где она, Рита… Остается только молиться Всеблагой, чтобы Она осенила командира своей мудростью и своим милосердием…
Рита гневно ворочалась на койке. Ещё никогда собственное бессилие не причиняло ей бОльших страданий… Такое благоговейное умиление, такое страстное желание защищать, беречь, жертвовать внушил ей Алан своей полудетской хрупкостью, своим ясным смуглым личиком, своим пронзительным доверчивым взглядом!
Дрема овладела девушкой только под утро, когда солнце уже позолотило острые ребра скал, и с минуты на минуту должен был уже раздаться гонг на подъем.
Алан и его младшие братья прожили на базе ещё две недели. Пока спешно устранялись последствия страшной катастрофы в Сурразай-Дарбу, командованию некогда было заниматься ими. В течение этого времени почти каждую ночь юноша спускался к Рите и легонько стукал три раза по дверному косяку, как было условлено, она выходила, и они отправлялись вместе в помещение инвентарного склада, которое она могла открыть своим чипом, — там среди зловеще выступающих из темноты металлических стеллажей, заставленных пыльными ящиками, можно было тихонько посидеть вдвоем на мешках с запасной униформой и жестким солдатским бельем, пошептаться, не опасаясь разбудить кого-нибудь или оказаться застигнутыми врасплох.
Алан теперь совершенно привык к Рите и перестал чураться её. Он сворачивался рядом с нею точно котенок, склонял голову ей на плечо, и даже позволял девушке слегка прижать его к себе. Так просиживали они почти до самого рассвета, разговаривали или молчали, просто подремывали, обнявшись, играли в крестики-нолики, морской бой или разгадывали кроссворды, подсвечивая их фонариком. Рита не смела и думать о чем-то большем, её душа была наполнена первым восторгом влюбленности, светлым и чистым; она даже подавляла в себе отчаянное желание мимоходом поцеловать юношу в нежную прохладную щечку, в лобик или в маленькое ушко — боялась смутить и оттолкнуть его столь откровенным проявлением чувств.
В свою очередь Алан, чьи занятия сводились только к заботе о двух его братьях, всё свободное время, которого здесь, на базе, находилось у него предостаточно, посвящал тому, что придумывал, как бы ему удивить и порадовать Риту, когда она после напряженной работы днем выкроит несколько ночных часов, чтобы повидаться с ним. Детей никуда не выпускали, и за время пребывания в полутемных душных катакомбах военного объекта они успели соскучиться по яркому небу, слепящему летнему солнцу и вольному воздуху гор; единственной радостью Алана были теперь тайные свидания со старшим сержантом Шустовой, их трогательное очарование вполне заменило ему прежнюю беззаботную жизнь в родительском доме, каждый вечер он с нетерпением ждал момента, когда крадучись, как воры, они пройдут по коридору, поднимутся по узкой металлической лесенке и юркнут в неприметную маленькую кладовую.
Во время уборки, которую ему иногда поручали девчонки-дневальные, Алан добыл где-то старинную лампу на высокой подставке с большим напоминающим шляпку гриба оранжевым тканевым абажуром, обвешанным по краям длинной нитяной бахромой. Зажженная в ночной кладовой, чудесная лампа походила на светящуюся медузу в темных глубинах океана.
— Тут стало гораздо уютнее, — похвалила находку Рита, — как будто бы у нас появилось собственное маленькое солнце.
— Солнце… — повторил Алан, — Как бы мне хотелось увидеть его снова! Мне кажется, что я здесь уже целую вечность. Иногда даже мне приходит мысль, будто бы я никогда отсюда не ввиду, и становится так страшно…
— Что за глупости! — рассмеялась Рита, — я думаю, уже скоро вас куда-нибудь вывезут, особенно если проверка нагрянет, посторонние на базе — это очень серьёзное нарушение…
— Но ведь тогда нам придётся расстаться, — произнес он серьезно и грустно, подняв на неё свои магнетические темные глаза.
— На время, — пылко заверила юношу Рита, ласково взяв его руки в свои, — я обязательно найду тебя, слышишь…
Они ещё не говорили о чувствах, никакого объяснения между ними не произошло, но их горячая нежная привязанность друг к другу была уже очевидна обоим… Это воспринималось, как нечто само собой разумеющееся, что они когда-нибудь поженятся, будут жить в одном доме, растить общих детей…
— Почему ты так хорошо говоришь по-атлантийски? — спросила Рита, решив увести разговор от мучительной темы предстоящей разлуки. — Меня изрядно удивило, помню, что ты меня сразу понял…
— Я родился от смешанного брака. Мать моя — атлантийка, а отец — хармандонец. Моих родителей тоже свела эта война: вооружённые люди, поднимаясь на бронированных машинах в горы, проезжали мирную деревню, мать моя была командиром взвода, и она случайно увидела моего отца, когда он вышел к колодцу за водой. Ему в ту пору было примерно столько же лет, сколько сейчас мне, и он так сильно понравился моей матери, что она приказала своим бойцам похитить его. У неё не было другого выхода, она не могла задержаться в деревне; в качестве выкупа за жениха — чтобы не оскорбить его народ, моя мать постаралась соблюсти все обычаи — она оставила семье отца несколько ящиков солдатской тушенки. Поначалу они даже не поняли, что это такое. Но потом пришёл голод — от бомбежек погибли многие пастбища, скот, посевы, и тушенка в самую трудную зиму сохранила жизнь родственникам отца. И они перестали гневаться на неведомую похитительницу. Отец мой долгое время делил с матерью тяготы военного быта. Они жили в лагере в горах. Поначалу отец боялся матери, а потом полюбил её так же страстно, как она любила его. Они рассказывали, что я был зачат в армейском грузовике… Потом мать отослала отца со мною назад, в деревню, он растил меня один до пяти лет, ждал мать с войны, она вернулась, демобилизовавшись после тяжелого ранения, и родила ему ещё близнецов. Мы несколько лет жили в Новой Атлантиде. Я даже ходил там в школу. Дом в Сурразай-Дарбу недавно достался отцу по наследству от дяди…
Рита почувствовала, что в ответ ей придется рассказать историю своего рождения. Равноценный обмен. Откровенность на откровенность.
— У меня нет родителей, — сказала она.
— Они умерли? — Алан сочувственно заглянул ей в глаза.
— Нет. То есть я не знаю. Может быть, они умерли больше века назад. А, может быть, живы и здравствуют. Я выведена из крио-консервированных гамет в рамках экспериментально научного проекта «Искусственный эндометрий».
Алан помолчал, вероятнее всего, ничего из сказанного не поняв. Но его природная интуиция, в высшей степени мудрая и милосердная, подсказала ему — говорить об этом Рите тяжело и, пожалуй, спрашивать её о семье больше не стоит…
— А отчего эта война?.. — Алан воспользовался тем, что импровизированное солнце погасло, контакт отошёл; он трогательно и невинно прильнул к девушке в темноте, — Она такая долгая… Когда воевала моя мать, шла, кажется, та же сама война…
— Наши офицеры много говорят об этом, — задумчиво проговорила Рита, — политики постоянно что-то делят. Вся эта заваруха началось с убийства кронпринцессы Оливии двадцать лет назад. Безвластие неизбежно влечёт за собой раскол общества. Сейчас значительная часть населения вашей страны выступает за начало реформирования аппарата государственного управления, за построение парламентской системы, какая есть у большинства современных государств, а кое-кто поддерживает идею сохранения монархии с династической передачей власти. Войска Новой Атлантиды были введены на территорию королевства Хармандон около пятнадцати лет назад, когда наша Президент приняла решение поддержать демократическую партию, к тому времени успевшую привлечь на свою сторону многих влиятельных людей и предлагавшую весьма разумный курс, но, как обычно бывает, нашлись среди сильных мира сего непомерно амбициозные особы, успевшие почувствовать в период гражданской войны близкий и такой сладкий запах власти — они начали активно спонсировать и снабжать самым современным оружием террористические группировки, состоящие преимущественно из глубоко религиозных носительниц традиционной культуры королевства Хармандон и не желающих смириться с грядущей демократизацией страны. К сожалению, по некоторым данным, террористы получают поддержку и из-за рубежа. На территории королевства имеются большие запасы нефти и алмазов. Как ты, наверное, знаешь, нефтяные месторождения по всему миру начинают истощаться, новых скважин давно уже не открывают, другого такого же универсального топлива никак не могут найти, ученые разводят руками, и потому наиболее влиятельные государства стремятся любыми путями завладеть теми клочками земли, где ещё может оставаться эта с каждым днём растущая в цене природная валюта…
Рита поправила провод, и лампа снова зажглась. Они больше ни о чём не говорили, просто сидели, обнявшись, в её мягком золотистом свете, наслаждаясь каждым мгновением своего скромного, но бесценного счастья, ибо каждый из них понимал: оно может оборваться в любой момент, точно так же, как может погаснуть от спонтанного сбоя в энергосети их уютное маленькое солнце…
Приближалось Ритино двадцатилетие. День рождения в вооруженных силах республики Новая Атлантида — такой же день, как все остальные дни, разве только к блинам на завтрак дежурная плюхнет дополнительную ложку сгущенки и, может быть, отправят в наряд, что поприятнее.
Алану очень хотелось сделать в этот день для Риты что-нибудь особенное, предстоящая разлука уже легла зловещей тенью на их нежную дружбу, всё чаще им на свиданиях становилось грустно, теперь наедине друг с другом они больше молчали…
Алан постоянно думал о том, как поздравить девушку. Он сам стал проситься помощником на уборку, в надежде обнаружить на территории базы ещё какую-нибудь оригинальную вещицу, что годилась бы в подарок. Он пытался что-то мастерить для Риты, но выходило совсем по-детски неуклюже; юноша каждый раз оглядывал свою работу критически, и тут же, опустошённый, расстроенный, чуть не плача выбрасывал свою поделку. Ни одной он так и не завершил.
Алан наивно и трогательно хотел, чтобы в день своего двадцатилетия Рита получила самый лучший подарок… Ах, такова первая любовь с её бесконечной жертвенностью и нежной отвагой! Он готов был на всё, только бы порадовать её…
И этот день настал. Ложка сгущенки. Дружелюбная улыбка Тати Казаровой — подобная честь выпадала немногим…
— Я кое-что припас для тебя, — прошептал Алан с загадочной улыбкой, когда они наконец остались одни, — надеюсь, тебе понравится мой сюрприз. В армии ведь очень не хватает девушкам всяких развлечений, — он потупился, голосок его стал тише, — удовольствий… Леденцы к чаю и те только по воскресеньям… Жди меня, я сейчас, — быстро прошептал он в конце и, не успела Рита сказать ничего в ответ, проворно выскользнул из её объятий и исчез.
Несколько минут спустя дверь тихо приоткрылась: Алан снова возник на пороге, закутанный в белоснежную простыню, длинный хвост которой волочился за ним по полу как шлейф.
— Я всё ещё чувствую себя виноватым перед тобой… И бесконечно благодарным… Ты спасла меня и моих братьев, — произнёс он, стараясь скрыть волнение, вышло чересчур торжественно, и оттого немного забавно, — в день твоего рождения я хотел преподнести тебе достойный подарок… Но у меня ничего нет, — юноша запнулся и понурил голову, он был такой трогательный в этот момент, со скрещенными на груди руками, придерживающими простыню, словно Пречистый на иконах в храме, — у меня ничего нет, — повторил он дрогнувшим голосом, — кроме меня самого…
С этими словами Алан красивым движением сбросил с себя простынку; она упала, обдав Риту лёгким потоком воздуха, и лежала теперь у его ног словно облако; он стоял на ней нагой и прекрасный, точно ангел, идущий по небесам; у Риты мигом пересохло во рту, сердце забилось тяжело и глухо; трудно представить себе зрелище более пленительное, чем прелести юного возлюбленного; она застыла, не решаясь ни пошевелиться, ни вымолвить хотя бы слово.
Немая сцена длилась несколько мгновений; потом сержант Шустова, в три энергичных шага преодолев расстояние, разделявшее их, подняла с пола простынку, стряхнула её и бережно закутала Алана.
— Ты ещё слишком молод, давай потерпим… — горячо прошептала она, наклонившись к самому ушку юноши, — когда закончится война, мы поженимся, и у нас будет первая ночь не в этой пыльной клети, а в очаровательном коттедже с видом на океан, я куплю гектар земли на побережье, всегда мечтала иметь собственный дом, мы будем там жить, долго-долго и очень счастливо…
— А если тебя убьют, — Алан взглянул на неё с печальной серьезностью. Его глаза, обрамленные пышными ресницами, в полумраке казались большими черными цветами.
— Не убьют, — заявила Рита так твердо, будто могла знать наверняка, — я не позволю им, потому что теперь мне есть, куда возвращаться… К кому возвращаться.
Она бережно взяла его личико в ладони.
— Я буду ждать тебя, — прошептал Алан и, порывисто прильнув к ней, обвившись вокруг неё нежным, тоскующим объятием, потянулся своими свежими влажно поблескивающими приоткрытыми губками к её губам.
Такому искушению невозможно было не поддаться. Это оказался самый лучший подарок на день рождения из всех, что доводилось получать Рите… Каждый вечер перед тем, как уснуть, она представляла себе, как впервые поцелует Алана. Заветное желание исполнилось будто по волшебству.
Рита склонила голову и дотронулась губами до губ, сначала очень робко, несмело, бережно — у неё самой за плечами был не слишком богатый опыт поцелуев…
И Алан ей ответил, совсем неумело, горячо, мокро, но так решительно, что у неё перехватило дыхание, и тяжёлый вязкий жар, как мёд, начал разливаться в животе…
Рита ласково отстранила юношу и, взяв со спинки ломаного стула свою гимнастерку, скорыми шагами вышла из кладовой.
Королевство Хармандон — это край тюльпанов… Когда они распускаются по весне в заботливых, мягких, пока ещё не обжигающих лучах солнца, склоны гор становятся похожи на пышные шелковые платья нарядных дам. Алые, желтые, нежно-нежно-розовые, белые, кремовые — к их сочным, прохладным, влажным лепесткам так и хочется прикоснуться губами…
Теперь солнце после полудня до того сильно раскаляло песок и серые ноздреватые камни, что невозможно было ступить на них босыми ногами. Тюльпаны в горах давно отцвели — сезон прошел.
Рита придумала сложить цветок из белой бумаги, ей не хотелось отступать от красивого древнего обычая помолвки, и, проснувшись утром, Алан обнаружил на полу у двери некое подобие традиционного тюльпана; это умилило юношу, он решил, что нужно непременно ответить на предложение как полагается, уважить обычай той страны, где родилась и выросла его невеста… Всеми правдами и неправдами он раздобыл где-то алую гуашь и, аккуратно выкрасив ею бумажные лепестки, вручил Рите уже алый тюльпан — символ своего согласия.
Заметив среди Ритиных вещей этот яркий атрибут любовной удачи, её подозвала к себе старший сержант Кребс:
— Дай руку, боец, подарю кое-что.
Рита протянула ей раскрытую ладонь.
Кребс без слов положила на неё малюсенькую золотую булавку, такие, по обычаю, молодые женихи от помолвки до свадьбы носят на галстуке или на воротничке.
— Откуда она у тебя? — удивилась Рита.
— Мой в последнем письме прислал. Вернул. Не дождался.
Рита растроганно глядела на булавку в раскрытой ладони, не решаясь убрать её к себе.
— Давай уже, прячь скорее, покуда я добрая, — грубовато по-свойски поторопила её сержант Кребс, — мне ведь ни к чему сейчас, а тебе — ложка к обеду…
«На чужом несчастье повезло. Нехорошо это.» — подумалось Рите; но булавку она взяла, не хотелось обижать товарку, да и не особо верила сержант Шустова всяким приметам, люди такого иногда порасскажут, мало ли у кого что было; не может никакая несчастливая булавка разлучить двоих, ежели любовь крепка.
Рита сама приколола это скромное украшение к воротничку Алана; он тут же поднял свою тонкую смуглую руку и пощупал булавку пальцами, как бы желая удостовериться в её существовании.
— Спасибо, — прошептал он, в счастливом смущении опустив свои шикарные ресницы.
Несколько дней спустя по распоряжению командира Казаровой трое мирных жителей были вывезены с военной базы; Алану и его братьям завязали глаза и доставили их на вертолете в горную деревню, ту самую, где располагалась дача, которую Тати снимала для отдыха.
Мальчиков приютил один добрый пожилой крестьянин; своих детей у него не случилось, и как дом его, так и сердце, готовы были принять сирот: Алан уже мог быть полезным, помогать по хозяйству, а близнецы наполняли всё вокруг беззаботным весельем, на которое способно лишь детство. Впервые за долгие годы тихий садик ожил, посвежел; детский смех и возня ворвались в него, словно весенний ручей, и даже дышаться стало в нем по-другому, привольнее, радостнее.
Старик научил Алана доить коз, ходить за домашней птицей, поддерживать огород. Юноша, чувствуя себя обязанным, старался во всем угодить хозяину, работал не покладая рук от первых лучей до самого захода солнца, пока у него не начинали от усталости подкашиваться ноги. Крестьянин нарадоваться не мог на своего приемыша и вскоре полюбил его как сына.
— На краю нашей деревни есть большое красивое поместье, — шепнул он однажды Алану, — оно давно пустует, я даже не знаю бывает ли там кто-нибудь хотя бы изредка… Но нынче там поспели сливы, я всё хожу, примечаю, уж больно добрые сливы, крупные, гладкие, да так много, всем селом не съесть, обидно будет, если все они в землю пойдут… Ты бы сходил, поглядел, коли есть там хоть сторож, попросил бы у него для младших братьев корзиночку набрать. А то у меня в саду слива мелкая, дичка, кисловатая, садовая всяко вкуснее ребятам…
Алан согласно кивнул и тем же вечером, кончив дела, отправился на разведку.
Сад капитана Казаровой был тих и темен, лишь ветер слабо шуршал листьями груш, слив и персиковых деревьев; бережно баюкая, качал их отяжелевшие плодоносные ветви.
Алан долго стучал в запертую калитку с кодовым замком, глазком и подвесной камерой, даже крикнул несколько раз в темноту «Эге-гей! Есть тут хозяева?», но только шепот деревьев был ему ответом.
Тогда юноша решился и перелез через высокий забор из плотно пригнанных друг к другу ровных широких досок.
В саду действительно не оказалось ни души — никто не охранял те превосходные плоды, которыми здесь увешаны были склонившиеся к земле ветки.
Набрав полные карманы спелых, едва не лопающихся от распирающего их сока, слив, Алан не без труда перебрался обратно и поспешил на другой конец деревни, к дому старика. Несмотря на очевидное отсутствие в загадочной усадьбе какой-либо жизни, он всё равно чувствовал себя вором, бежал всю дорогу, беспокойно озираясь, боялся, как бы его не увидели соседи — природная порядочность вынуждала его стыдиться брать чужое, пусть даже невостребованное, добро.
Прошла неделя, потом другая, в течении которых Алан, проходя мимо, напряженно вглядывался в окна большого дома на краю деревни, но хозяева сада так и не объявились. Юноша осмелел, и теперь почти каждый вечер, когда над горами быстро сгущались синеватые сумерки, перелезал через высокий забор и рвал великолепные зрелые сливы, которые его младшие братья потом с аппетитом съедали после завтрака.
Уютная зелёная долина, расположенная чуть ниже деревни, своей формой напоминала неглубокую округлую чашу, пиалу, в центре её было небольшое озеро. Местные жители говорили, что долина эта — кратер давным-давно потухшего вулкана, над которым боги сорок дней и сорок ночей лили дождь, пожелав заполнить его водой…
Озеро было прохладное, чистое, с обширным каменистым мелководьем. Местные жители брали оттуда воду для полива своих огородов, некоторые даже купались, но только у берега, не заходя далеко — боялись угодить в лапы коварным огненным демонам, притаившимся под слоем ледяной воды… Люди в горных деревнях королевства Хармандон в большинстве своем были безграмотны и до смешного суеверны.
В жаркие дни, когда выдавалась свободная минутка, Алан полюбил приходить к озеру со своими братьями. У воды было гораздо легче переносить зной, да и для близнецов на узком каменистом пляже находилось немало интересного: они собирали пустые раковины гигантских улиток, разноцветные отшлифованные водой камушки и широкие сизые ленты водорослей, высохшие на солнце.
Командир Казарова успела совершенно забыть о детях, доставленных на базу из разоренного роботами поселка, и теперь, приехав на день, увидела Алана как будто впервые. Выйдя в томный послеобеденный час к берегу озера, она приметила троих мальчишек, играющих на мелководье. Они бегали по воде, барахтались у самого берега, визжали, брызгались и смеялись.
Алан, от души забавляясь со своими братьями, долго не замечал молодой женщины, стоящей в тени дерева и глядящей на него взором орлицы, приметившей добычу.
Тати завораживало естественное изящество его движений; на ровной смуглой коже поблескивали в лучах яркого солнца мелкие капельки воды — мальчик появившийся из пены волн, мальчик осыпанный бриллиантами… Алан сам не осознавал ещё в полной мере силы пробуждающихся в нём любовных чар, и оттого, наверное, он, распоряжаясь ими невольно, интуитивно, ранил поклонниц гораздо опаснее, нежели более опытные обольстители, в самое сердце…
Капитан Казарова застыла, безмолвно любуясь, обнимая одной рукой ствол дерева на берегу, а другой защищая от солнца свои жадные очарованные глаза.
Поймав на себе заинтересованный взгляд незнакомки с яркими золотыми завитками, выбивающимися из-под фуражки с гербом, Алан смутился, и, чуть слышно пролепетав «Здравствуйте», прошмыгнул мимо, таща за руки своих голеньких братьев. Он старался не смотреть на Тати, но успел приметить капитанские погоны на её бледно-зеленой форменной рубашке с коротким рукавом.
В тот день, однако, капитан Казарова провела на своей наемной даче всего несколько часов, и её уже не было там вечером, когда Алан, гуляя, намеренно прошелся несколько раз вдоль забора, в надежде хоть мельком увидеть кого-нибудь из хозяев. На озере ему пришла мысль, что белокурая девушка в фуражке вполне может оказаться владелицей роскошной усадьбы… Алан раньше никогда не встречал её в деревне, но лицо девушки казалось ему смутно знакомым.
Он хотел сначала спросить о ней старика, но в последний момент передумал — постеснялся.
После встречи на берегу озера какое-то время он не решался лазать за сливами, его пугала перспектива быть пойманным за руку золотоволосой девушкой, с каждым днём он почему-то всё сильнее уверивался в том, что это её усадьба, даже мимо Алан ходил теперь реже и осторожнее, но, по-прежнему не замечая ни в саду, ни в доме никаких признаков присутствия хозяев, постепенно он осмелел и возобновил свои дерзкие набеги на фруктовые деревья.
В течение первого месяца пребывания Алана в деревне смена уклада жизни целиком захватила его мысли; взяв на себя обязанности взрослого, он так уставал за день, что засыпал сразу, как только голова касалась подушки, но постепенно и тело, и сознание его адаптировались к всему новому и стали оставлять ему всё больше простора для чувственных переживаний. Он часто вспоминал Риту, особенно по вечерам, перед тем как погрузиться в сон, он любил вызывать в своем воображении картины их прошлых встреч, разговоры, ласки. Алан подолгу лежал в темноте, поглаживая пальцами малюсенькую золотую булавку, подаренную ею. Ах, если бы он мог хотя бы писать Рите письма и получать ответы на них! Он тосковал, однако, светлая мечта о будущей встрече давала ему силы на то, чтобы терпеливо преодолевать все тяготы быта, прилежно трудиться, заботиться о старике и о братьях. Юноша был уверен: однажды закончится война, и Рита, живая и невредимая, найдет его, как она обещала, найдет, возьмет за руку, и вместе они войдут в золотые ворота счастливой жизни…
Но вышло иначе.
В ранней молодости мечты и планы точно легкие облачка на ясном небе: стоит подуть какому-нибудь другому ветру, и они изменятся совершенно, даже не узнаешь их, не найдешь ни единого прежнего очертания в новом узоре.
Капитан Казарова приехала в усадьбу около полудня сильно усталая, она сразу же прилегла отдохнуть на веранде и ненароком проспала там до самого вечера.
Алое солнце повисло низко-низко над горизонтом; в его слабеющем свете как будто четче обозначались контуры всех предметов, ветер свежел — его нежное прикосновение из распахнутого окна и разбудило Тати.
Она сварила себе кофе и, присев с ним на деревянную ступеньку крыльца, словно задремывающая кошка, блаженно прикрыла свои большие светло-карие глаза.
Уютный аромат горячего напитка органично сочетался с тихими звуками фруктового сада. Было уже почти темно, кроны деревьев сухо шелестели, откуда-то издалека доносилось одинокое блеяние овцы, по-видимому, отбившейся от стада — удивительное умиротворение селила в душе медленно вступающая в свои права ночь.
Тати отхлебнула кофе и запрокинула голову.
Листья яблонь и слив чернели на аквамариновом фоне неба; первые звезды — яркие белые точки — уже показались над острыми вершинами скал.
Внезапный шорох заставил Тати насторожиться. Она поставила чашку на ступеньку и бесшумно соскользнула с крыльца на мощеную бетонными плитами дорожку между клумбами. Легкий шелест, будто кто-то качал ветви деревьев немного сильнее, чем ветер, доносился из глубины сада.
Тати сделала несколько шагов и остановилась.
Темный силуэт испуганно метнулся за кустами декоративного шиповника, словно тень от скользящего луча прожектора.
Алан был настолько увлечен сбором слив, что обнаружил присутствие Тати, когда она уже подошла близко. Её белый сарафан, словно пятно лунного света, плыл над клумбами, плавно и практически беззвучно, точно это двигалось привидение, а не земная женщина, облаченная во плоть.
— Маленький воришка, — сказала Тати ласково, почти сразу признав в ночном силуэте мальчика, увиденного несколько дней назад на берегу озера.
— Из-звините пожалуйста… — промямлил Алан, стеснительно прикрывая ладонями карманы, до треска набитые фруктами, — я думал, что здесь никого нет, а у вас такие спелые сливы… Жалко им пропадать. Извините меня…
«Да ты сам как спелая слива», — подумалось в этот момент Тати, она смотрела на него неотрывно, с тонкой насмешливой улыбкой, по-видимому, не собираясь ни выражать недовольство, ни отчитывать его, ей было скорее весело, чем досадно, и под таким её взглядом Алан смутился ещё сильнее. Расстегнутый воротничок его заношенной рубашонки обнажал загорелую кожу шеи, гладкую и нежную, словно шкурка сочного плода, опущенные темные ресницы трепетали подобно крылышкам мотылька, присевшего на цветок.
Тати не прикасалась к мужчине с тех пор, как ушла на фронт, и это вынужденное ограничение не слишком тяготило её, усталость и нервное напряжение, неизбежные на службе, не позволяли активно проявляться инстинктам, но теперь вокруг было так удивительно спокойно, тихо, стояла ласковая теплая ночь, после глубокого сна на воздухе Тати чувствовала себя освеженной и вполне бодрой — именно такого момента и ждала, верно, для своего пробуждения мудрая природа, на какое-то время притаившаяся в ней — капитан Казарова ощутила небывалый прилив желания.
Не сказав ни слова, она притянула к себе Алана и, прежде чем он успел как-либо отреагировать, прильнула к его упругим губкам с той жадностью, с которой человек, пересекающий пустыню, прикладывается к фляге с водой.
Он забился у неё в руках как пойманная птичка; крупные сливы посыпались из карманов на дорожку, они падали, ударяясь о каменные плиты, трескались и обильно брызгали сладким соком…
— Ну что ты… — выдохнула Тати хриплым шепотом, умело выкручивая руки Алана, которыми он пытался её оттолкнуть, — не бойся. Я не сделаю с тобой ничего дурного. Это будет просто чудесно, обещаю…
Прижав юношу к толстому стволу старого абрикосового дерева, она совершенно бесцеремонно, по-хозяйски, расстегнула пуговицу у него на шортах и просунула руку под резинку белья; Алан был настолько сильно сбит с толку подобным обращением, что даже перестал сопротивляться, он расслабил руки, мгновение назад до онемения впивавшиеся в Тати, оперся спиной о ствол дерева и на какое-то время затих, прислушиваясь к новым ощущениям — ещё никто и никогда так не трогал его — с испуганным изумлением Алан обнаружил, что он не испытывает ни отвращения, ни положенного возмущения от прикосновений Тати… Природа брала своё: эти прикосновения были приятны ему, и, когда капитан Казарова в очередной раз попыталась поцеловать его, он не стал отворачивать голову, разомкнул губы, позволив ей проникнуть горячим настырным языком в нему в рот… К четырнадцати годам тело Алана, взлелеянное щедрым солнцем гор, уже совершенно готово было к тому, чтобы в одну из ночей, здесь томительно-душных, бархатных, принести возлюбленной все свои дары; и этому телу, вопреки воле рассудка, вовсе не казалось важным, будет то Рита, Тати или ещё какая-нибудь красивая девушка; природа создает живое, чтобы оно приносило плоды, и час Алана пробил, он был полон любви, как полна медового нектара нежная созревшая слива, которую вовремя нужно сорвать, покуда она не упала на землю…
Он покинул усадьбу перед рассветом, в тот час, когда особенная волнующая предчувствующая тишина охватывает всё вокруг. Погруженный в легкую дымку поселок застыл, ни единым движением не выдавая жизни. Восточный край небосвода уже заметно посветлел — скоро, совсем скоро он начнет наливаться розово-оранжевым, словно поспевающий персик, и густые тени гор медленно отступят, позволив солнцу лить на землю свой золотой мёд…
Поднявшись на крыльцо дома, который он привык считать своим, Алан медленно приоткрыл входную дверь, придержал её, чтобы она не скрипнула, и, кинув последний взгляд на пустынный двор, прошмыгнул внутрь.
Сбросив одежду, он улегся в свою постель, забился под одеяло, прикрыл глаза — надо хотя бы вид сделать, будто он мирно проспал тут всю ночь, стыдно будет, если старик или братья догадаются о том, что произошло…
Алан даже попытался задремать; пусть у него всего каких-нибудь полчаса, но поспать необходимо, чтобы были силы потом трудиться весь день, но сон не шел, в бледном утреннем свете немым укором поблескивала на воротничке лежащей на полу рубашки маленькая золотая булавка. Как мог он предать Риту, нарушить условия помолвки, отдав другой всё то, что должен был сберечь для неё, свою первую ночь, сокровищницу своей нерастраченной нежности?
Тяжелые мысли мучили его.
Алан испытывал отвращение к самому себе и страх перед будущим: как теперь сказать обо всём Рите, когда она вернется? Ведь молчать никак нельзя, в таком случае молчать всё равно что лгать, глядя в глаза… А, главное, некого винить в случившемся кроме самого себя, ни злосчастная усадьба, так долго пустовавшая, ни сочные сливы, за которыми он полез через забор, не смогут ведь ответить перед Ритой за измену, да и как призвать их к ответу? В то же время Алан со сладостным содроганием думал о Тати, о её руках, о бесстыдных горячих губах, о том, как всего за несколько часов без единого слова она поведала ему сразу столько, что теперь мир в его глазах никогда уже не будет прежним — Алан не способен был раскаиваться искренне, до того пленили его объятия золотоволосой красавицы, и это ещё больше терзало болезненную совесть юноши.
Капитан Казарова придала ночному происшествию в усадьбе значение не большее, чем предают принятию теплой ванны с пеной — приятное приключение, не более того. У неё не было серьезных видов на личную жизнь, она не собиралась обзаводиться мужем, по крайней мере в ближайшее время, и образ хорошенького поселянина так же скоро, как и возник, угас в её сознании. Куда сильнее заботило Тати то, что факт разорения деревни Сурразай-Дарбу каким-то образом просочился в прессу.
Капитан Казарова боялась, как бы ей, что называется, не «сели на хвост», она озабоченно хмурила свой нежно-бледный, точно лепесток лилии, лоб; нервно перегибала пополам свежую газету, взятую у Зубовой.
В статье, посвященной сожжению деревни, открыто говорилось о возможной причастности к инциденту вооруженных сил. Автор, известная журналистка и правозащитница, выразилась довольно смело:
«Необоснованная жестокость в отношении мирного населения, к сожалению, имеет место при любой войне, и государственные власти должны прикладывать максимум усилий к тому, чтобы негативные последствия вооруженных конфликтов не затрагивали граждан, не принимающих непосредственное участие в ведении военных действий. Случай в Сурразай-Дарбу беспрецедентный, по своим масштабам он соизмерим с величайшими военными преступлениями в истории человечества, и нужно приложить все усилия к тому, чтобы отыскать виновных в уничтожении поселка и привлечь их к ответственности за содеянное…»
— Чёрт, — сказала Тати и, размахнувшись, бросила газету в мусорную корзину, уронила тонкие руки на колени, нервно крутанулась во вращающемся кресле.
Из туманной мглы будущего на неё прохладно пахнуло трибуналом, тюрьмой, расставанием со всей её беззаботной, красивой и удалой жизнью — вся такая цветущая, она окажется в тесной темной камере, и вместо того чтобы целовать хорошеньких юношей будет со скуки кормить с ладони крыс хлебными крошками. Капитан Казарова обладала богатым воображением.
По телефону она вызвала к себе Зубову.
— Собери мне несколько верных и смелых девчонок, — велела она, — пусть отправляются в деревню, откуда привезли роботов, только по-тихому, желательно в штатском, и пусть ищут. Ползают по земле на брюхе. Там не должно остаться ни одной пуговицы от нашей униформы, ни одной гильзы от нашего оружия, ясно? И, главное, ни одного болтика от наших роботов. Ни единого.
— Есть, капитан, — сказала Зубова и грациозно повернулась кругом.
Успокоенная своим решением, Тати откинулась на спинку кресла. Потом встала и прошлась по кабинету. В прежние времена она, выкроив свободную минуту, непременно отправилась бы вниз, в дисплейный зал, посмотреть как идут бои, но сейчас… Её тревога немного притупилась, но не настолько, чтобы она могла начать продуктивно работать.
«Надо отоспаться», — решила Тати, и по телефону приказала готовить вертолёт — что способно помочь ей вернуться в строй лучше, чем любимое зеленое гнездышко в горах?
ГЛАВА 14
Целую неделю Алан мужественно боролся с желанием снова отправиться в усадьбу на краю деревни. По дороге на озеро он, конечно, бросал беглые взгляды на окна большого дома, и, всякий раз убеждаясь в отсутствии там какого-либо движения, испытывал облегчение.
По вечерам, уложив братьев и справив домашние дела, он оставался наедине с собою. Это было время гнетущих раздумий. Юноша отчаянно пытался выкинуть случившееся из головы, старательно воскрешая в воображении образ Риты; она казалась ему сейчас такой недостижимо благородной, искренней, честной, что он едва не сходил с ума от чувства презрения к самому себе, обманувшему её доверие, и, разумеется, не достойному внимания такой прекрасной девушки. Иногда же, к собственному стыду, Алан мысленно возвращался к ночи, проведенной в усадьбе: подобно ножу вонзался в память тонкий профиль Тати Казаровой, её маленькая головка, утонувшая в подушке, сияющая в лунном свете кожа, разметавшиеся локоны… И тогда образ Риты будто бы отступал в тень, потом начинал таять, становясь прозрачным, как привидение, а потом и вовсе исчезал, не появляясь снова до тех пор, пока Алан силой не вызывал его из небытия.
— Почему ты больше не приносишь нам те крупные сливы, которые растут возле большого дома? — наседали на юношу младшие братья.
— Там нет их больше, — отвечал он, отводя свои серьезные тёмные глаза, — я все оборвал…
— Да не ври, — ныли близнецы, — мы сегодня шли купаться и видели: их там ещё полно, ветки вот-вот обломятся! Просто ты боишься, что тебя увидит золотоволосая девушка…
Такое неприкрытое обвинение настолько сильно смутило Алана, что он выронил заварочный чайник, из которого наливал в тот момент в чашки пахучий, мутный от крепости настой.
Близнецы были ещё малы, но старик заметил смятение юноши. Он подозвал его к себе после завтрака:
— Ты только не думай, сынок, что я хочу что-то запретить тебе, или в чём-то тебя ограничить. Я отношусь к тебе как к родному и лишь хочу предостеречь тебя, уберечь от возможных ошибок и разочарований. Ты очень хорош собою, Алан, и тело твоё уже просит любви, потому прошу, будь пожалуйста, благоразумен…
Юноша выслушал это короткое напутствие с сыновьей почтительностью, но едва только старик отпустил его, убежал к себе и горько расплакался от стыда и неизгладимой вины: ведь совершенно не важно, знает об этом кто-нибудь, или нет, главное, что он, Алан, знает это о себе — предостерегать его уже слишком поздно, он уже оступился и теперь опозорен навеки…
Прошло около двух недель с тех пор, как случилась с Аланом его нечаянная нежная беда. В усадьбе так никто и не появился, он уже смелее стал поднимать глаза на окна, и волнение его почти совсем улеглось. Но сливы… Ветви деревьев, свисающие над дорогой, были облеплены крупными тёмными плодами, которые покачивались на ветру, чудом не срываясь вниз, словно капли какой-то тяжелой вязкой жидкости…
Братья постоянно просили у Алана фруктов, и идти за ними всё же пришлось. В один из дней, когда стемнело, он опять отправился в усадьбу. Юноша привычно перелез через забор, набрал слив и уже собрался было в обратный путь, но внезапно одно из окон в нижнем этаже дома зажглось ярким оранжевым светом, и в глубине его, за дымкой тюлевой шторы, проскользнул знакомый хрупкий силуэт…
Сердце Алана замерло, чтобы мгновение спустя перейти с ровного умеренного ритма на лихорадочный бег. Он понимал, что может ещё спокойно уйти, пока она не увидела его, он бы успел, если бы побежал немедля, он должен был уходить, но зачем-то продолжал стоять как вкопанный, прижав ладонями раздувшиеся карманы, полные слив… Алану потребовалось всё его мужество, чтобы сознаться самому себе в том, что он просто хочет, чтобы Тати снова застала его в своем саду.
Дверь дома открылась, и хозяйка появилась на крыльце. В полосе оранжевого света она показалась Алану ещё красивее, чем он её помнил. Подол домашнего платья просвечивал насквозь, он казался облаком нежного тумана, золотистой дымкой вокруг стройных ног. Распущенные волосы, искрясь, сбегали по плечам.
— Ну что, опять за сливами пришел, — спросила она чуть насмешливо, — давай я тебе хоть корзинку дам, не то перемнешь по дороге, — потом Тати помолчала, выжидая, наверное, что Алан что-нибудь скажет, но у него, по видимому, отнялся язык, и тогда она добавила растерянно, — Я забыла тебе сказать в прошлый раз, можешь собирать их сколько захочешь, я тебе ключи от калитки оставлю, штаны не рви, заходи по человечески…
Он сомнамбулически проследовал за нею в прихожую, куда она поманила его небрежным и грациозным взмахом руки. Пока она искала корзинку в кухне, открывая различные дверцы и ящички, то приседая, то вставая на цыпочки, он не мог оторвать от неё глаз, каждое движение Тати казалось ему исполненным невероятного изящества, будто бы она танцевала, а вовсе не хлопотала о бытовой мелочи.
Наконец корзинка была найдена; принимая её из хрупких рук хозяйки, Алан вдруг понял, что забыл Риту и окончательно и бесповоротно влюблён теперь в Тати. Больше всего на свете ему хотелось, чтобы она удержала его, но намекнуть на это было бы верхом неприличия — Алану с детства внушалось, что юношу украшает целомудрие — поэтому он просто стоял в дверях с корзинкой, полной слив, понурив голову и строго опустив свои бархатные ресницы; не уходил, медлил, будто бы хотел что-то сказать, но никак не мог вспомнить…
И Тати, конечно, без труда разгадала его маленькую загадку — красивые губы её тронула легкая ироничная ухмылка — она шагнула к нему и сделала то, чего он так ждал: нежно провела ладонью по его щеке, приблизившись, обдала кожу горячим дыханием, нашла губами губы…
Алан снова покинул усадьбу лишь перед рассветом. Возвращаясь к себе, он на цыпочках прокрался через сенцы, чтобы не разбудить старика и братьев. По дороге, впитывая всем существом невыразимую прелесть зарождающегося летнего дня, он твердо решил при встрече сказать бывшей невесте честно и сразу, что полюбил другую, но она, Рита, тут не при чём, она хорошая, и это он один виноват, потому что так опрометчиво обещался ей, не зная ничего о настоящих чувствах…
Придумав сказать так, Алан успокоился. Мирная ласковая улыбка, обращенная к каждой травинке, к каждому цветку, к рассветному зареву за горами, ко всему миру, заиграла у него на губах. Теперь он был счастлив, невероятно счастлив, и тихо лёжа в своей узкой постели он, пока не уснул, всё боялся, что это счастье вырвется наружу, громкое, как крик, яркое, как солнце, и другие увидят его…
Огонь стелился по земле лоскутами сверкающей оранжевой ткани. Пули, с треском покидая дула орудий, то здесь, то там, делали выщербины в камне, поднимая мелкую пыль. Несколько неприятельских роботов с огнемётами двигались в направлении подбитой военной машины с эмблемой войск Новой Атлантиды.
Рита Шустова притаилась за острым обломком скалы, каких торчало повсюду, к счастью, великое множество — короткими перебежками можно было подойти к врагу на расстояние, достаточно близкое для того, чтобы метнуть гранату.
Рита в изнеможении привалилась спиной к горячему пыльному камню, сняв пилотку, стерла рукавом со лба мутный вязкий пот и прикрыла глаза. Стояла душная безветренная жара — полуденное солнце раскалило серые камни, она чувствовала, как липнет к телу плотная влажная форма и невыносимо печет ноги в высоких армейских ботинках с эластичной резиновой подошвой.
Рита осталась одна. Все четыре девочки, вместе с нею высаженные для выполнения операции, погибли, попав под струю сверхмощного огнемёта. Она же уцелела чудом, закатившись за ржавый обломок давным-давно разбившегося здесь вертолёта.
Осторожно выглядывая из своего укрытия и собираясь с силами для нового рывка — Рита уже присмотрела камень, за которым спрячется в следующий раз — она думала о том, как встретят её однажды долгожданными пьянящими объятиями смуглые шелковистые руки Алана, о том, что будет, когда она демобилизуется, купит дом, и они поженятся, ей представлялся Алан с младенцем на руках, кроткий и нежный отец, точь-в-точь как Пречистый на иконе…
Пули из мелкокалиберных орудий приближающихся роботов шквалами обрушивались на бледно-жёлтую скалу, к которой прижималась с другой стороны, точно к материнской груди, молодая женщина в форме. Она облизывала свои сухие до крови растрескавшиеся губы и беззвучно повторяла, словно молитву, имя жениха, который — она верила — ждал её; эта легенда передается на войне из уст в уста, летопись человеческих судеб знает множество историй, что могли бы служить подтверждением: именно любовь прекрасных юношей хранит отважных девчонок от пуль и огня…
Два из трёх роботов были совсем близко.
«Один человек может победить и сотню машин, — успокаивала себя Рита, — стискивая в руке заготовленную гранату, — главное не торопиться, атаковать не со страху, а продуманно, с холодной головой…» Так говорила во время полевых учений девушкам их любимый командир, идеал, эталон для подражания — блистательная капитан Казарова.
Робот остановился в нескольких шагах от скалы, за которой скрывалась Рита. Сенсоры у него на лбу взволнованно загудели, замигала сигнальная лампочка — «обнаружен живой объект». Девушка выдернула чеку. Подержала гранату в руках, хладнокровно отсчитывая мгновения, чтобы брошенный смертоносный снежок не успел отскочить и взорвался ровно тогда, когда коснётся стальной брони автоматического врага. Она вышла из-за камня, размахнулась…
Огненный снежок на бесконечно долгую секунду повис в душном воздухе. И тут же, неимоверно раздувшись, превратился в ослепительную лавину огня, которая, прокатившись над землёй, накалив и без того жаркий ветер, беспощадно обрушилась на железного война.
Робот упал, объятый пламенем, но он был ещё активен; Рита, превозмогая жар, подбежала к нему и из автомата выбила главную микросхему.
Тут же ей пришлось броситься на землю. Второй находившийся поблизости робот обнаружил присутствие девушки с помощью сенсоров и развернул в её сторону дула своих орудий.
Она проползла несколько метров по усыпанной острым галечником земле, сигнальные лампочки на голове у беспощадного автоматического солдата зловеще заморгали — он прицеливался.
И вдруг позади него что-то глухо ухнуло, разверзлась земля, взрыв буквально смёл робота; покачнувшись на металлических ногах он рухнул в образовавшуюся воронку.
В ушах оглушительно звенело. Рита с трудом подняла голову — военный вертолёт с эмблемой войск Новой Атлантиды в колышущемся мареве раскалённого воздуха завис над каменистой равниной. Подкрепление. Жизнь. Она вытянула руку, чтобы помахать пилоту, но тяжелая вязкая чернота обрушилась на неё, заволокла взор, придавила её к земле…
Очнувшись, Рита почувствовала, что чьи-то небольшие крепкие руки пытаются поднять её отяжелевшее безвольное тело. Выстрелы и взрывы доносились теперь как будто откуда-то издалека, словно между войной и Ритой кто-то возвел прозрачную непроницаемую преграду. В голове у девушки звенело.
С трудом повернув голову, она увидела Тати.
Капитан Казарова, спасшая ей жизнь, чуть-чуть улыбнулась Рите, уголком рта. Она была красивая всегда, и сейчас особенно, с немного запылённым нежным белым лицом, с кобурой на поясе… Горячий ветер пустыни подхватывал и теребил тугие золотистые завитки.
На вертолёте Риту доставили на базу, и следующие несколько часов она провела в лазарете. Врач сделал ей успокоительный укол, и она спала. На стене тихо тикали часы.
Когда Тати пришла проведать её — отважная девочка, потерявшая в бою всех подруг, несомненно, достойна этого простого проявления уважения со стороны командира — Рита лежала с открытыми глазами. На щелчок входной двери она обернулась.
— Здравствуй, старший сержант Шустова, — Тати подошла к кровати, обдав Риту как никогда приятной волной сквозняка.
— Здравия желаю, командир.
— Как ты себя чувствуешь? — Тати должна была это спросить у неё, как у любого отличившегося в бою и раненого солдата, но Рите показалось, что сейчас капитан Казарова делает это не по обязанности, а от души. Возможно, Тати просто обладала незаурядными актерскими способностями.
— Всё отлично, командир, — горячо отозвалась девушка, — Благодарю вас, вы спасли мне жизнь.
— Не стоит, — ответила капитан Казарова с мягкой улыбкой, — я исполняла свой долг. Рада, что тебе лучше.
Она поднялась, расправив смятую простынь, и чуть-чуть постояла возле Ритиной кровати, такая изящная в безупречно сидящей на ней форме, в офицерской фуражке с гербом, деловитая и вместе с тем простая; она положила свою руку поверх Ритиной, она заглянула ей в глаза внимательно и дружелюбно, как равной, и в то же время сумела сохранить лёгкую отчужденность старшей по званию. Ею невозможно было не восхищаться, волею небес упали звёздочки на её погоны — таких командиров боготворят, за такими идут в огонь не рассуждая, не ропща и не оглядываясь…
Вежливо простившись, капитан Казарова скорыми шагами вышла из палаты. Её ждали дела.
Постепенно к Рите начали возвращаться ощущения. Повязка на голове стала немного мешать, и она рукой сдвинула её со лба. Прислушавшись к своему телу, она с облегчением осознала, что цела.
Пришёл врач. Он привычным движением нашел на запястье у Риты пульс, посчитал его, спросил о самочувствии.
— У вас лёгкое сотрясение, — объяснил он в конце осмотра, — и несколько царапин от разлетевшихся камней. Ничего серьезного. Отдыхайте. Через недельку-другую вернетесь в строй. Но не следует слишком торопиться, на первых порах у вас могут случаться внезапные головокружения.
— Спасибо, — сказала Рита.
Выпростав руки из-под одеяла, она удобно уложила их вдоль тела. В лазарете тонко пахло медикаментами, белые стены, потолок и рамы окна делали небольшую палату уютной и светлой. За окном голубело горячее южное небо. Девушка вздохнула глубоко, медленно, как будто вдумываясь в движение воздуха внутри тела, и тут же почувствовала себя счастливой. Она жива, а это значит, впереди что-то обязательно будет, что-то хорошее, закончится война, ни одна война не может длится вечно, и она обязательно вернется с этой войны, она вернётся к Алану…
Быть приглашенной в усадьбу капитана Казаровой считалось чем-то вроде священного помазания, такой чести даже среди офицеров удостаивались немногие. И когда выбор командира пал на Риту Шустову, недавно вернувшуюся из лазарета, количество взглядов ей в спину, в которых и прежде не было недостатка, восхищенных, завистливых или просто любопытных, существенно возросло.
Приглашение воодушевило Риту необыкновенно. Она смотрела широко раскрытыми глазами, когда вертолёт проплывал над сочной зеленью, когда под ветром от его винтов стелилась по земле длинная гибкая трава… Тихий росистый сад с выложенными плиткой тропинками под сенью фруктовых деревьев показался ей раем, она благоговейно гладила стволы, срывала и подолгу разглядывала листья, будто никогда прежде не видела их, ложилась плашмя на мягкий тёплый газон, точно хотела вобрать в себя обильные соки здешней щедрой плодородной земли, напитаться её животворной силой…
Вечером, сидя в компании Тати на крылечке с чашкой ароматного чая, Рита, очарованная прощальной прелестью угасающего летнего дня, пребывала в небывалом смятении чувств; впервые в жизни она не могла найти слов — её внутреннее состояние было просто невыразимо.
— Можешь просто помолчать и порадоваться, не надо в очередной раз говорить мне сейчас «спасибо», — капитан Казарова как всегда оказалась чуткой до ясновидения, — сияние твоего лица, поверь, красноречивее многочасовых благодарных излияний.
Они посидели так ещё немного, тихо-тихо.
Солнце закатилось. В сумерках тропинки сада обрели загадочную бесконечную глубину. Ночные мотыльки с нежными кремовыми крылышками кружились у фонаря над крыльцом, сухой стрекот цикад будоражил воображение, над зубчатыми вершинами гор затеплились дрожащим светом первые серебристые звёзды — всё казалось таким объемным, цельным, волшебным, что Рите даже жалко стало уходить спать — детское щемящее восторженное чувство наполненности бытием овладело ею.
Однако, едва девушка опустилась на постель и утонула всем телом в белоснежных свежих простынях, точно в пене, сон сразу же сморил её.
Полная луна смотрела Рите в лицо словно человек, стоящий у изголовья, и она внезапно открыла глаза.
Комнату по диагонали пересекала широкая полоса ровного белого света, полированная мебель приобрела в нём мягкие жемчужные блики.
До утра, судя по всему, было ещё далеко. Сад за растворенным окном дышал ночной свежестью.
Рита почувствовала себя пробудившейся окончательно. Молодое сильное тело её отдохнуло. Каждому члену было до того легко и привольно, что девушка готова была прямо сейчас идти хоть в горы, хоть в бой, хоть на край света. Она поморгала глазами и прислушалась.
Из-за приоткрытой двери в соседнюю комнату до неё донесся ласковый шорох, словно кто-то потревожил руками засушенные лепестки роз.
За стеной, очевидно, не спали.
Рита расслышала в тишине чьи-то осторожные шаги по половицам, торопливый шепот, звуки поцелуев, падающих невесомо и медленно тающих, словно капли мёда. Природная деликатность ни за что не позволила бы ей подойти к незапертой двери и сквозь просвет, оказавшийся невзначай широким, заглянуть в соседнюю комнату. В казармах, правда, давно уже поговаривали, что у командира некоторое время назад появилась очаровательная причина чаще наведываться в свою зеленую усадьбу. Некоторые считали подобные разговоры недостойными и решительно отрицали нечто подобное, другие же многозначительно посмеивались, третьи просто молчали. Рита тоже до времени полагала, что это всего лишь сплетни…
Она лежала, боясь пошевелиться; не приведи Всемогущая, случайный скрип пружин её кровати в ночной тишине смутит тех счастливых двоих, наведя их на мысль, что кто-то ещё не спит и является невольным свидетелем их счастья.
За стеной тем временем что-то мягко опрокинулось, словно сноп сена. Шелест прикосновений стал яснее, четче; Рите было стыдно прислушиваться, но она не могла одолеть жадного любопытства — доносящиеся из соседней комнаты звуки вызывали в воображении волнующие картины: что-то снова глухо упало, покатилось, всхлипнула половица под ножкой кровати, и как будто бы жалобно, с нежным умоляющим придыханием, как от боли, которую хочется причинять себе снова и снова, в тюлевой мгле жаркой лунной ночи застонала в неведомых сладких объятиях Тати…
Она приезжала и уезжала, когда ей вздумается, а он ждал её. И для Алана это ожидание стало естественной частью жизни, он трудился, справляя ежедневные обязанности, засыпал и просыпался в радостном предвкушении новой встречи, про которую никогда не знал наверняка, состоится она или нет. Тати ничего ему не обещала, и он сам не предпринял ни одной попытки прояснить их отношения хотя бы намёком, довольствуясь своей скромной ролью ночного увеселения.
Капитан Казарова находила удобной эту его деликатную безответность, она пользовалась ею, разумеется, отдавая себе полный отчёт в том, что поступает с юношей непорядочно, и рано или поздно нужно будет либо оставить его, либо связать себя помолвкой. Как могла она оттягивала этот момент, Алан нравился ей, он пленял её поразительным сочетанием кротости и пылкости, но она не представляла его своим мужем. Кто он в сущности? Бедный деревенский парнишка. Бесприданник. Сирота…
Ей виделось, как она поведёт как алтарю генеральского или полковничьего сына, подобный брак обеспечил бы ей продвижение по службе, на худой конец, пусть это будет чиновничий отпрыск, чадо какого-нибудь крупного предпринимателя… Тати мечтала о роскоши и блеске, её красота и успех должны были быть обрамлены дорогими вещами и утонченными развлечениями, она страдала от своего болезненного честолюбия, но всегда умела его скрыть. У неё на примете имелось несколько юношей. Кому-нибудь из них она планировала сделать предложение после войны; семнадцатилетний сын командующей фронтом, болезненно тощий капризный блондин, элегантный модник, почти красавец, конечно, считался завидным женихом, но Тати почему-то казалось, что он немилосердно обделен всеми теми очаровательными достоинствами, которые можно обнаружить лишь сняв с юноши одежду; сын сенатораны Поль, знакомством с которой Тати была обязана счастливому случаю, сходил по ней с ума, вся его круглая веснушчатая мордашка начинала сиять, когда она приезжала, но он был тучен, глуповат, к восемнадцати годам этот юноша даже не окончил средней школы, и, в довершении всего, он постоянно болел, у него то обнаруживалась аллергия, от которой он весь покрывался сыпью, то хлюпало в носу, то воспалялось горло. Кроме них, был ещё сын одной популярной певицы, синеглазый, томный, невероятно заносчивый и истеричный, он требовал от Тати дорогих подарков, писал ей письма, то страстные, то холодные, изводил её претензиями и долгими выяснениями отношений, которые ни к чему не приводили, она даже начала подозревать, что этот юноша — наркоман, слишком уж неадекватными бывали порой его реакции — в итоге она просто нашла предлог от него сбежать, а встречи лицом в лицу с его мамашей боялась теперь как огня.
На фоне всех этих молодых людей Алан выглядел просто принцем, вообще говоря, он и был им, даже босоногий, в своей ветхой незатейливой одежонке: да разве важно, во что одет юноша, которого собираешься раздеть в течение первых минут свидания? …А уж сложен этот чернявый мальчуган был так дивно, что, пожалуй, если бы даже его нарядили в самые изысканные костюмы, их всё равно хотелось бы поскорее с него снять… Но решись Тати взять красивую смуглую руку Алана в свою, ей пришлось бы рассчитывать только на себя: этот союз не принес бы ей ни престижа, ни материальных выгод, ни доступа в определенные круги общества. Она была талантлива и до сих пор делала блестящую карьеру без посторонней помощи, но упрочить свое положение правильным браком казалось ей не лишней предосторожностью.
Тати льстила благоговейная покорность Алана во всем, он относился к ней как к существу, стоящему неизмеримо выше; её умиляло и трогало, что даже лежа головой у неё на плече после нескольких минут отчаянной, пронзительной, предельной, стирающей всякие границы близости, он неизменно говорил ей «вы» и «капитан Казарова»… Но чем сильнее захватывала Тати благодарная нежность, тем ощутимее примешивалось в её поцелуи горьковатым ядом чувство вины…
Однако, оставаясь наедине с собой, она всегда находила способ себя успокоить. В основе её самооправдания лежало прежде всего самолюбование, надо сказать, не безосновательное. Тати с детства вращалась среди людей, считающих успех главным достоинством человека и относящихся свысока к тем, кто не принадлежал к кругу избранных, урвавших свой солидный кусок пирога жизни. Ничего не говорилось напрямую, но окружающие вели себя таким образом, что Тати ещё подростком самостоятельно пришла к следующему выводу: богатые, успешные и перспективные люди — особая каста, представители которой имеют преимущества перед всеми остальными и обладают в некотором смысле более расширенным спектром прав, в том числе и моральных.
Тати любовалась собою и своими достижениями, уносилась мечтами в далёкое (или уже близкое?) будущее, где она становится майором, затем полковником, появляется на светских балах в мэрии в шикарном платье с ошеломляющим вырезом, танцует с самыми блистательными молодыми женихами, и в спину ей один за другим несутся взволнованные вздохи: «Поглядите-ка, это она, та самая…» И постепенно тревога, что она поступает скверно с хорошеньким влюблённым сиротой из маленькой деревушки в горах, оставляла её душу.
Природа, однако, не преминула наказать Тати Казарову за легкомыслие и самонадеянность. В начале осени она обнаружила, что беременна. Эта новость обрушилась на неё стихийно, как потолок, как кусок неба, ни больше ни меньше, хотя, казалось бы, зачатие — есть закономерный и вполне естественный итог бурного романа… Она стояла босая возле зеркала в умывальной, от удивления немного приоткрыв рот, и держала в вытянутой руке полоску экспресс-теста.
«Чёрт.»
Нужно было действовать незамедлительно. Прерывание беременности с помощью хорион-блокатора, изобретенного, опять же, великой и ужасной Афиной Тьюри, считалось абсолютно безопасным для организма, но могло производиться только до определенного срока. Оно осуществлялось с помощью специального тампона, который желающая ликвидировать последствия своих увеселений, могла использовать даже в домашних условиях.
Хорион-блокатор представлял собою аналог природного хориона, являющегося основой для формирования плаценты. Оказавшись в организме, причём именно в матке (чтобы процесс пошел, достаточно было всего нескольких клеток) он начинал разрастаться, замещая своими клетками клетки настоящего хориона, вследствие чего хорион перерождался, отекал, начинал выделять в кровь аномальное количество определенных веществ, и потому матка, невероятно мудрый и самостоятельный орган, принимала решение избавиться от всего содержимого. При этом, надо заметить, вероятность неполного выкидыша была практически исключена, поскольку волокна хорион-блокатора обладали очень высокой прочностью и в буквальном смысле вытягивали за собою остальной биологический материал. В инструкции, конечно, рекомендовали после окончания кровотечения пройти контрольное УЗИ, но практически никто этого не делал.
Выпускался хорион-блокатор в виде удобных свеч и продавался практически в любой аптеке. Бурное развитие науки совершенно приучило общество к возможности полного контроля над тем, что некогда считалось «промыслом божьим».
Оставалось только достать где-нибудь упаковку этого чудесного средства. И тогда Тати была бы спасена! От позора на весь дивизион, от неминуемого падения в глазах командования, от ответственности перед Аланом, наконец…
Бледная как мука она позвонила Зубовой по внутреннему телефону.
— Снаряжайте вертолёт, мне срочно нужно кое-что купить.
Но на беду ни в одной из аптек ближайшего к расположению городка, что находился в трёхстах километрах, не нашлось упаковки хорион-блокатора. А в поселковой больнице — в отчаянии Тати обратилась туда, чтобы сделать вакуум — не оказалось гинеколога, он вылетел в горы принимать у кого-то осложненные роды. Лететь же в областной центр, за шестьсот километров от расположения, было очень рискованно — вышестоящее командование вряд ли одобрило бы такую прогулку… Тати впала в уныние.
Она слонялась по своему кабинету от стены к стене, как зверь в клетке, почти ничего не ела, не работала. Она приказала Зубовой вести все дела, объявив, что у неё лихорадка. К вечеру её на самом деле стало слегка потряхивать и тошнить. Вероятно, это было результатом самовнушения или потери аппетита, но Тати напугалась ещё сильнее; она решила, что во что бы то ни стало нужно избавиться от этой беременности, и как можно скорее, а то вдруг, не приведи Всеблагая, она от неё умрёт или, чего доброго, останется калекой. В том обществе, в котором она росла, рожать было не принято, это считалось едва ли не неприличным; и её мать, и бабушка, и тётки, и вообще все приходившие в дом леди пользовались услугами суррогатных матерей. Да и в радужных планах Тати на будущее потомству отводился весьма скромный уголок — она возьмёт себе мужа, сделав, конечно, блистательную партию — они поедут в роскошное свадебное путешествие, будут делать визиты, принимать гостей, всё как принято в свете — а потом она, Тати, как большинство дам её круга, просто обратится в хорошую клинику, сдаст свой биологический материал — несколько яйцеклеток — и на этом в теме продолжения рода ею будет поставлена точка: отпрысками займется муж, а по большей части вообще няни и гувернеры…
Самое неприятное заключалось в том, что Тати никому не могла доверить своей тайны — больше всего она боялась потерять авторитет. Несколько раз она пыталась заговорить с Зубовой — той, всё-таки, было под сорок; она немало повидала на своем веку и, наверное, могла что-нибудь посоветовать — но в последний момент Тати всегда становилось стыдно — начать разговор у неё так и не получилось.
Проведя пару дней в раздумьях, капитан Казарова решилась испробовать «народные средства». Наглотавшись каких-то трав, способных, если верить сайту популярного целителя, вызвать выкидыш, она промучилась целые сутки с расстройством пищеварения, но так ничего и не добилась — любовь, положившая начало новой жизни внутри её тела, вероятно, была сильна, и ребенок Алана прочно засел в ней, никак не желая выходить на свет божий раньше положенного срока.
«Ну и леший с ним, — решила Тати, — пусть рождается, раз такой упрямый.»
Лет пять назад, ещё младшим лейтенантом, она слышала историю про полковника Мерилин Мерфи, которая преспокойно родила в армии аж двух сыновей, нагулянных с одним молоденьким санитаром. Мерфи, правда, была дама крупная, и ей без труда удавалось выдавать свое пикантное положение за банальное вздутие живота… Над этой историей все смеялись, конечно, она давно уже стала общеармейским анекдотом, но почти отчаявшаяся Тати Казарова обрела в ней некоторое утешение.
Принятие решения — переломный и потому самый волнительный момент. Потом легче. Свыкнувшись с мыслью, что ребёнка, как ни крути, придётся рожать, Тати почувствовала себя гораздо спокойнее. К ней вернулся аппетит, порозовели щёки, и даже появилось желание как-нибудь проведать Алана. Странно, но она не ощутила совершенно никаких перемен в своем физическом состоянии, беременность не давала о себе знать вообще, и Тати с радостью вернулась к своим привычным обязанностям.
Все шло гладко до тех пор, пока в одно прекрасное весеннее утро она не обнаружила, что офицерский китель сошелся на ней с великим трудом. Тати едва не оборвала пуговицы, запихивая себя в него; в профиль её живот стал уже довольно сильно заметен, он был тугой, красивый, похожий на стекающую по стене каплю — на стройной Тати он бросался в глаза, этот особенный живот, и уже даже начал понемногу вызывать к себе интерес. Капитан Казарова, ловя на себе любопытные взгляды, стала всё чаще вспоминать пресловутую леди Мерфи. Нужно было срочно выдумывать легенду.
И такую, что комар носа не подточит.
Позвонила командующая фронтом, полковник Эвелин Мак-Лун, назначила встречу; это её длинного и бледного сына Джорджа на последней светской вечеринке Тати несколько раз подряд приглашала танцевать; если судить по стоимости костюма, то Джордж был бы отличной партией…
Стоя перед зеркалом в профиль капитан Казарова оценивала масштабы катастрофы. Ни одна деталь военной формы теперь уже не сидела на ней как положено по уставу.
«Черт…»
Немного подумав, Тати вызвала к себе младшего лейтенанта Майер.
Слегка пригнувшись, чтобы не удариться о притолоку, та предстала перед горячо любимым командиром несколько минут спустя, вытянулась, расправив свои аршинные плечи и едва не задев головой люстру, сделала под козырёк.
— Снимай-ка свою форму, — озабоченно хмурясь, велела ей Казарова.
Майер немножко прибалдела, конечно, но — приказ есть приказ! — послушно стащила с себя китель.
Тати молча взяла его из больших рук девушки и примерила на себя. Широкий, длинный, он сидел на ней как пальто — знатный китель! В такой, верно, влезло бы сразу две прежних тоненьких Тати, по одной в каждый рукав…
— Замечательно, — удовлетворенно пробурчала она себе под нос, — просто великолепно…
Немедля Тати Казарова взялась за работу. Она отпорола от Майеровского кителя лейтенантские погоны, чтобы пришить свои, капитанские, подвернула рукава и наконец — это являлось сердцем всего замысла — отделала китель изнутри поролоном. Примерив свою новую форму перед зеркалом, Тати осталась весьма довольна — теперь она казалась просто изрядно располневшей особой, мягкий поролон округлил её бока, руки и плечи, придал пышность груди — на фоне такой солидной фигуры выпуклый животик воспринимался как нечто вполне естественное и не вызывал каких бы то ни было подозрений.
Полковник Мак-Лун вызывала капитана Казарову для дачи распоряжений, поступивших из главного штаба. Покончив с деловой частью, она критически оглядела Тати и усмехнулась:
— Свежий горный воздух, домашний хлеб, козьи сливочки и шашлычок под коньячок… Помнится мне, до войны у вас была хорошая фигура…
— Не без этого, полковник, — с готовностью ответила Тати, — люблю покушать. Приезжайте ко мне как-нибудь в усадьбу, я с радостью угощу и вас.
Капитан Казарова прилагала огромные усилия, чтобы не начать смеяться — на неё напал приступ неудержимого веселья.
— Спасибо, — сдержанно ответила Эвелин Мак-Лун, — я подумаю об этом. До свидания.
— До свидания, полковник, — выговорила Тати, уже чувствуя лёгкость своих расправленных плеч, с которых только что свалилась здоровенная гора.
Отдав честь, она шагнула за дверь кабинета полковника, но случайно зацепилась рукавом за маленький гвоздик, торчащий из косяка. Раздался треск. От неожиданности Тати слишком сильно рванула руку, китель разошелся, и удивленному взору леди Мак-Лун предстала поролоновая подкладка.
— Вам не жарко, капитан? — только и спросила она, принимаясь неудержимо хохотать, она всё сразу поняла, это было очевидно, да здравствует Мэрилин Мерфи!
Застывшая в дверях Тати Казарова казалась бледнее мелованных стен.
— Мне писать рапорт? — пролепетала она срывающимся голосом.
— Да ну вас, — всё ещё смеясь, махнула рукой Мак-Лун, — идите.
Тати не двигалась с места, ошеломленно уставившись на полковника.
— Идите, я вам говорю, — повторила та, — вы неисправимая идеалистка, если думаете, что никто тут не залетает. Дайте мне знать, я вышлю ящик молочной смеси.
— Спасибо, полковник, — растерянно обронила Тати.
Садясь в машину, она подумала, что теперь, конечно, Джордж Эвелин Мак-Лун как жених и все связанные с ним перспективы потеряны для неё навечно, но эта мысль, как ни странно, не вызвала в ней сильного разочарования. Скорее, она даже испытывала облегчение. «Ну и чёрт с ним, — решила Тати, — эти вечные золотые цепочки, браслетики, запонки пафосных марок… наверняка все его сокровища заканчиваются тогда, когда, отбрасывая их по одному, доходишь до трусов…» Она смотрела сквозь густо тонированное стекло автомобиля на сияющее белой звездой южное солнце и улыбалась.
В конце мая жара на улице стояла уже невыносимая. Тати по-прежнему не испытывала особого дискомфорта от своего состояния, разве только быстрее уставала, сделалась неповоротливее и ленивее.
В полдень она по своему обыкновению выпила кофе с пончиком и принялась разбирать бумаги, но через некоторое время почувствовала какую-то непривычную тяжесть в животе и встала.
Она прошлась взад-вперед по кабинету — прежде это помогало от многих напастей. Но не теперь. Тяжесть в животе со временем лишь усиливалась, постепенно переходя в боль.
Тати заволновалась, ей сделалось душно. Не без труда взобравшись на подоконник, она отодвинула щеколду и растворила окно. Но раскаленный солнцем воздух не освежал, от него становилось только хуже.
Капитан Казарова расстегнула ворот рубашки. Настроила спинку кресла в полу-лежачее положение.
Ничего не помогало. С каждой минутой самочувствие Тати неотвратимо ухудшалось, и все принимаемые меры, казалось, шли во вред, а не пользу. Тошно было и стоять, и сидеть, и лежать…
Однако о том, чтобы позвать кого-нибудь на помощь Тати не смела и думать: предстать в непотребном виде перед девочками своего дивизиона командиру не к лицу, и лучше она, капитан Казарова, сдохнет здесь на полу или пустит пулю себе в висок, чем ударит в грязь лицом перед бойцами.
С таким патетическим настроем она извлекла из ящика пистолет.
«Всё равно помирать, так пусть это хоть не будет так мучительно…»
С детства Тати слышала от тётушек и матери о беременности и родах одни лишь страшные леденящие душу истории; у неё в сознании прочно закрепилось убеждение, что после этого вообще не живут. А её теперешнее состояние, как ни прискорбно, эту гипотезу подтверждало…
Боль становилась всё сильнее, только теперь она приобрела особенный, волнообразный характер. То накатываясь, то отпуская, она позволяла Тати отдохнуть от её железных объятий примерно в течении минуты.
Дверь в кабинет капитана Казаровой приоткрыл сквозняк, и Рита Шустова, проходившая мимо, случайно увидела её там, скривившуюся, прикусившую нижнюю губу, впившуюся ногтями в спинку стула, на который она оперлась.
— Что с вами, капитан? Может быть, вам помочь? — с готовностью спросила она.
Тати как раз начало немного отпускать, и, рассудив здраво, она решила, что это судьба.
— Пожалуй… Принеси мне воды.
Рита с радостью исполнила просьбу командира.
Поднеся стакан к губам, Тати почувствовала приближение очередного приступа этой непонятной чудовищной боли, но на этот раз он показался ей настолько сильным, что она прокляла и Алана, и все ночи, проведённые с ним, успела пообещать сама себе никогда в жизни больше не притрагиваться к мужчине, раз уж пятиминутная забава может кончиться таким кошмаром…
Капитан Казарова уже давно бы начала мычать, стонать, выть, скрести от безысходности ногтями поверхность стола… но Рита — вот каким мусорным ветром эту девицу сюда принесло? — продолжала стоять рядом и сочувственно взирать на неё, скорчившуюся в схватке… Наивная, честная и преданная Рита, готовая немедленно исполнить любое приказание. Она наверняка тоже ни черта не знала о родах и не догадывалась, что именно эта напасть настигла командира, но она никуда не уходила — вдруг командиру ещё что-нибудь понадобится? — она искренне хотела помочь… И при ней никак нельзя было жаловаться и плакать — лучше уж сразу умереть.
Тати изо всех сил впилась в спинку стула для посетителей, ей показалось, что добротная деревянная пластина сейчас треснет под натиском её побелевших пальцев. Она вся сжалась, и сдавленным шепотом пробормотала несколько наиболее грязных ругательств из тех, что знала.
— Вы что-то сказали, командир? — спросила Рита, глядя на неё просто и ясно.
— Вон… — выдохнула Тати, — убирайся…
— Но вам ведь, кажется, нехорошо, — пробормотала Рита, — может, ещё что-нибудь принести, второй стакан воды? Таблетку?
— Это приказ, слышишь, убирайся к черту, — выдавила Тати сквозь стиснутые зубы.
Рита вышла, тихо притворив за собой дверь. Мучительная стягивающая боль отпустила капитана Казарову теперь совсем ненадолго. Новый приступ начался спустя несколько секунд после предыдущего и оказался ещё крепче, ещё беспощаднее…
— Шустова! — завопила Тати, повиснув на дверной ручке, — Вернись!
Через минуту Рита стояла перед ней навытяжку.
— Побудь со мной, — Тати напряглась, чтобы голос её не дрогнул, — Закрой дверь и сиди тут, рядом, пока это дерьмо не кончится…
Часом позже Рита сидела на полу возле беспомощно распластанной на нём Казаровой, держа на руках сердито попискивающую новорожденную девочку.
— Вот что, — сказала Тати, приподнимаясь на локтях, — возьми вон там, возле стола, большую коробку из под писчей бумаги, застели каким-нибудь тряпьем, положи туда её и иди на посадочную площадку. Только закрой, чтобы никто не видел, поняла? И дай соску, чтобы не плакала. У меня в столе, рядом с пистолетом. Я позвоню Зубовой и прикажу снарядить вертолёт. Всем говори — посылка. Отвезешь в горную деревню, где мы с тобой были прошлым летом, помнишь, отдашь молодому парню из крайнего дома, не с той стороны, где усадьба, а с противоположной…
Что ни говори, а капитан Казарова умела сохранять достоинство в любой ситуации. Она с видимым усилием села, накинув на свои голые в кровавых разводах ноги впопыхах сорванную занавеску.
Рита встала и принялась собирать «посылку». Девочка лежала пока на разостланном кителе матери и тихонько хныкала.
— Боец, — сказала Тати, щёлкнув дочь по носу.
Рита принесла коробку, аккуратно застелила дно в ней чистым полотенцем и положила туда ребенка, предварительно запеленав его в обрывок занавески.
— Всемогущая в помощь, — сказала Тати, — запомни, крайний дом…
Рита вышла, бережно держа двумя руками драгоценную посылку. Получив соску и согревшись, девочка в коробке тут же уснула.
Капитан Казарова с третьей попытки поднялась на ноги и подошла к столу. Неловко потянулась к телефонной трубке. И…
Её рука зависла где-то на полпути.
О, ужас! Тати так испугалась, что несколько мгновений даже не могла как следует вздохнуть.
Что-то горячее, мягкое и мокрое, скользнув по ногам, вывалилось из неё на пол.
«Не хватало ещё собственные органы начать терять…»
Она с отвращением покосилась на толстый кровавый блин, лежащий возле ножки стола, и на всякий случай отбросила его ногой подальше.
Выйдя на вертолетную площадку, старший сержант Шустова встретилась там с Зубовой.
— Что за спешка? — спросила та.
— Приказано доставить посылку, — ответила Рита.
Стрекот винтов, по-видимому, разбудил девочку, или просто соска выскочила у неё изо рта, но коробка в руках у сержанта Шустовой вдруг качнулась.
— Что там? — густые брови Зубовой взлетели вверх от удивления.
— Кошка, — просто ответила Рита. Она сама от себя не ожидала такой находчивости, — командир поймала её и велела передать в деревню. Что ей на базе делать-то?
— Аааа… — недоверчиво протянула Зубова, сверля коробку подозрительным взглядом, — ну раз кошка… Ступай, сержант.
Рита отправилась с коробкой к вертолёту, в последний момент ей показалось, что Зубова, провожая её глазами, хитро ухмыляется.
Крайний дом… Рита была уже почти у цели, она шагала с коробкой в руках по главной деревенской улице, когда-то проложенной грузовиком и оттого имеющей две укатанные колеи. Девушка с любопытством вертела головой, проходя мимо плетней, увитых ползучими растениями, самодельных водокачек для поливки огородов, сараев и хлевов. Фруктовые сады уже отцвели, и среди листьев то там, то здесь проглядывали тугие насыщенно зелёные завязи плодов.
Рита открыла коробку, чтобы девочка тоже вдохнула свежего воздуха и хотя бы немного полюбовалась нежарким ласковым заходящим солнцем.
А вот и крайний дом… Возле него на лавочке, умиротворенно щурясь от света, сидел старик. Посылка явно предназначалась не ему. На земле неподалеку сидели два черноголовых ребенка и возились с какими-то дощечками. Тоже не адресаты…
Рита заволновалась. «Тот ли это дом? А если капитан Казарова перепутала? Ей всё-таки было очень плохо…»
— Здравствуйте, — обратилась она к старику, — скажите, пожалуйста, живёт ли в этом доме молодой парень…
Не придумав ничего лучше, она назвала единственный известный ей признак адресата, впопыхах Тати забыла даже сказать ей имя…
— Есть такой у нас, — ответил старик, повернув к Рите ласково и хитро улыбающееся лицо, — а что у вас за дело, красавица?
— Посылка ему пришла… — ответила она и густо покраснела.
Перед тем как войти во двор, Рита снова накрыла девочку крышкой. На всякий случай.
— Он в доме, — сказал старик, — стряпает, наверное, пойди постучи, не стесняйся.
Она послушно поднялась на крыльцо и несколько раз ударила костяшками пальцев по сухому растрескавшемуся дереву в остатках краски.
Через несколько мгновений бедную дощатую дверь открыли изнутри.
Рита застыла, крепко прижав к себе коробку…
На пороге стоял Алан в ситцевом кухонном переднике…
Трудно передать словами то, что происходило между двумя стоящими на крыльце людьми в течении следующей минуты. Ни одной фразы не было произнесено — это был диалог лиц, что меняли краски подобно извлеченным из горна кускам остывающего металла, скоро, неуловимо; это была напряженная дуэль взглядов, устремленных навстречу, в глубине их рождались и гасли вспышки эмоций, словно огни фейерверка.
Рита протянула Алану коробку с девочкой. Когда он принимал её, пальцы их случайно соприкоснулись, и Рита вздрогнула, будто от отвращения, губы её болезненно дернулись и плотно сжались.
Алан опустил свои роскошные ресницы. Она отвернулась и, больше не взглянув на него, быстро спустилась с крыльца.
Закат бил Рите в глаза, швырял снопы расплавленного золота ей под ноги. Всё неожиданно предстало перед нею в новом, жестоком и страшном свете. И этот ребенок в коробке, потрясающий в воздухе крохотными розовыми кулачонками, и та далекая жаркая ночь, вся сотканная и криков цикад и тонкого кружева скользящих теней, и приоткрытая дверь в соседнюю комнату, и жалобно-сладкий стон Тати в тишине…
Оставшись наедине с коробкой, Алан долго ещё не мог прийти в себя. Он стоял, не двигаясь с места, и тупо смотрел в пространство. Неизвестно, как долго продолжалось бы его оцепенение — он думал о Рите и о той боли, которую, очевидно, причинил ей — но девочка проснулась и, беспокойно завертев головой, выронила соску, захныкала… Опомнившись, юный отец машинально вернул соску в крошечный ротик. Но ребенок снова вытолкнул её и принялся тоскливо, по-чаячьи покрикивать.
— Он проголодался, — заключил возникший за спиной Алана старик, — сходи к фельдшеру, попроси у него немного высокопитательной смеси для младенцев.
Алан покорно поставил коробку на стол и направился к двери, избегая смотреть на старика.
— Это ведь белокурая из усадьбы у озера тебя наградила, верно? — спросил он.
Алан не видел лица своего приемного отца, но уловив в его голосе улыбку, испытал облегчение. Он не сердится, значит, всё будет хорошо.
— А она красивая, — старик подошёл сзади и ласково положил руку на плечо юноши, — я бы и сам, наверное, перед нею не устоял.
Алан взглянул на него со смущенно-благодарной улыбкой.
— Иди-иди, давай, с младенцем теперь мух не половишь, — пристрожил его старик, — торопись, он совсем голодный.
Произведя на свет дочь, уже на следующий день капитан Казарова значительно окрепла и приободрилась; она с удвоенным рвением приступила к исполнению своих ежедневных обязанностей, впервые за долгое время появилась после обеда в офицерской, как и в прежние времена безупречная, подтянутая, в своём собственном кителе и брюках, ловко прихваченных ремешком на завидно стройной талии. Кое-кто, вероятно, смекнул, в чём было дело, но не отважился высказать свои предположения. Девочки по большей части просто радовались возвращению прежней Тати, горячо любимого ими командира.
Во всем расположении лишь один единственный человек доподлинно знал всю правду, но именно он ни за что на свете не стал бы кивать на какие бы то ни было догадки, не только из благородства, конечно, скорее даже потому, что всякое обсуждение данной темы причиняло этому человеку невыносимые страдания, и, если в казарме начинали хихикать или сплетничать по этому поводу, Рита всякий раз нервно поджимала губы, будто её ударили по щеке, и спешила куда-нибудь уйти.
Произошедшие в ней перемены не укрылись от глаз девочек, с которыми сержант Шустова общалась достаточно близко, но они, как ни старались, не могли найти этим переменам разумного объяснения, поскольку за Ритой не водилось привычки держать сослуживиц в курсе своей личной жизни. О многом могла бы догадаться старший сержант Кребс, что некогда подарила ей несчастливую булавку для помолвки, но у неё как раз в это время на другом фронте погибла сестра, с которой она переписывалась, и ей было не до сплетен.
Поскольку пища для раздумий над Ритиной жизнью оказалась не слишком густа, разговоры о ней среди подруг очень скоро стихли, и новую Риту с её упрямой молчаливостью, мрачной сосредоточенностью и нервической твердостью просто приняли как данность. Главную перемену, однако, отметил даже офицерский состав.
Сержант Шустова и прежде проявляла отвагу и решительность в боях, но в последнее время она стала показывать просто чудеса героизма. Ей удавалось вытащить из-под неприятельского огня боевые машины даже тогда, когда это казалось невозможным. Рита делала безумно рискованные перебежки между залпами орудий неприятельских роботов, чтобы подобраться как можно ближе к ним, без страховки взбиралась на невысокие скалы с хорошим обзором, чтобы из снайперской винтовки выбивать камеры и микросхемы, стреляла с вертолёта, повиснув над бездной на тонком тросе — словом вела себя как каскадеры на съемках кассовых боевиков, с той только разницей, что всё это было по-настоящему и нигде никто не подстилал ей матов для мягкого приземления.
— Я диву на тебя даюсь, — сказала ей как-то соседка по койке, Марья, — ты такая смелая стала, пусть зуб у меня выпадет, если тебя в этом сезоне не представят к награде…
— Да? — спросила Рита мрачно, со своей теперь вошедшей в обыкновение небрежной хрипотцой в голосе, — пусть представляют, мне-то что…
— Как что?! — изумленно взвилась Марья, — ты разве не хочешь? Это же классно, красивая церемония, всё такое, полковник Мак-Лун лично приедет, чтобы приколоть к твоей гимнастерке Крест, а может, даже и леди Маршал…
Рита пожала плечами; она с размаху легла на застеленную койку, утонув в подушке, лежащей поверх клетчатого покрывала, и взяла в руки книгу.
— Пусть хоть сама Президент. Мне всё равно. — Отозвалась она, не отрывая взгляда от страницы.
— Странная ты какая… — обиделась Марья, — зачем же ты тогда так безрассудно рискуешь? Ради чего? Откуда-то ведь берётся в тебе эта смелость?
Рита перевела прозвучавшие вопросы в статус риторических, не удостоив их ответом.
Капитан Казарова всё-таки позвонила полковнику Мак-Лун с просьбой прислать ей обещанный ящик молочной смеси. Доставить же его по адресу, несмотря на обилие срочных дел, она решила лично. Тати понимала, что этим поощряет свою зарождающуюся привязанность к Алану, которой она не хотела, по-прежнему надеясь после войны сделать более выгодную партию; но отказать себе она не могла — велела снарядить вертолёт и полетела в горы.
Ранним утром воздух был ещё прозрачен и свеж, нежные травы умывались росой, в тени фруктовых деревьев таился прохладный сумрак. Алан сидел с девочкой на крылечке дома, слегка склонившись к ней и терпеливо придерживая бутылочку. Заметив его ещё издали Тати ощутила внезапный прилив нежности к своему сердцу, красота и кротость этого юного мужчины обрели теперь для неё новый, более глубокий и ценный смысл, о существовании которого прежде она даже не догадывалась.
«Неужели я люблю его?» — подумала Тати с легкой досадой и тут же попыталась отмести эту неудобную мысль — «Ну нет, глупости, просто у меня давно не было никого, да ещё ребёнок родился, вот закончится война, я начну выезжать в свет…»
Алан поднял голову и увидел её. В лучах утреннего солнца ослепительно сверкал металлический герб на её офицерской фуражке.
— Здравствуй, — сказала Тати, будто бы в оправдание вытянув вперёд руку с большим пакетом, — я привезла тебе питательную смесь…
— Спасибо, — ответил Алан сдержанно, — поставьте вот сюда, на крылечко.
Он подарил любимой только один взгляд из-под ресниц, короткий, довольно строгий, и снова склонился к дочери. Девочка всё ещё сосала, а он заботливо следил, чтобы ей было удобно, придерживал головку, чтобы она не нахваталась воздуха и не срыгнула.
Больше Алан ничего не добавил, и Тати почувствовала смутное желание уйти, но как будто что-то удерживало её. Она смотрела на дочь; та заметно окрепла за свой первый месяц, кожа её разгладилась и приобрела приятный нежный оттенок, пушок на голове расправился, потемнел, уже было заметно, что девочка вырастет чернявой и бронзово-смуглой, как отец, и это наблюдение почему-то порадовало Тати…
Внезапно одно из окон домика распахнулось, и, обернувшись на стук рамы, она увидела обрамленное пышной седой бородой сумрачное лицо пожилого мужчины.
— Ну? — с вызовом начал он, — Чего вьешься тут, оса лупоглазая? Не погляжу вот на погоны твои капитанские, возьму розгу, да и отхожу хорошенько! Ты парня мне не смущай: либо предложение делай, либо кыш отседова!
Тати оторопела. С ней никто ещё так не разговаривал, разве только в далеком детстве, когда она как-нибудь шкодничала. Она собралась было уже ответить жестко, с холодной дерзостью… Расправила плечи, повернулась грациозным движением, исполненным чувства собственного достоинства, бесстрашно встретилась с обидчиком взглядом…
Странно было видеть у пожилого человека такие ясные глаза.
Он смотрел на неё с полным осознанием собственной правоты, укоризненно, требовательно, но без лишней злобы, и неожиданная робость перед этим малограмотным старым крестьянином, прожившим большую и наверняка непростую жизнь, сковала привычный к колким светским пикировкам язык капитана Казаровой.
Лучисто-морщинистое лицо, которое она видела перед собой, выдавало удивительно доброго, несомненно, порядочного человека, и в словах его была истина.
Белое личико Тати вспыхнуло, и, быстро склонив голову в щегольской офицерской фуражке, она опрометью выскочила со двора.
ГЛАВА 15
Почти четыре года прошло с тех пор, как Онки Сакайо покинула Норд, и вот ей снова предстояло туда вернуться, только теперь уже в новом качестве — она должна была стать наставницей. Добрая традиция предписывала студентам университетов отдавать дань уважения тем учреждениям, где они получили базовое образование, оказывая посильную помощь педагогам, помогая им поднимать новую поросль молодёжи.
Сойдя с автобуса, Онки некоторое время зачарованно смотрела на запертые ворота, за которыми провела некогда десять лет своей жизни. Слегка кольнув, продёрнулась сквозь её сердце тонкая красная ниточка ностальгии.
Она шагнула к проходной и назвала своё имя.
— Сакайо… Сакайо… — задумчиво повторил вахтёр, — есть такая в пропускном списке, проходи.
И было нечто почти магическое в том, как внешне всё повторилось до мелочей, при этом до неузнаваемости изменившись внутри — Онки показалось, что её новая комната в корпусе для наставников практически в точности такая же как прежняя, детская, да и спортивная площадка под окнами выглядела так, как будто она сама играла на ней час назад, но все те лица, к которым она здесь так привыкла, либо исчезли вовсе либо невероятно преобразились, даже Ада, её резвая малютка Ада превратилась теперь в рослого нагловатого подростка, носила кепку козырьком набок, тискала юношей по углам, покуривала папироски и поминутно сплёвывала в сторону с красивым залихватски небрежным размахом…
Онки вышла на крыльцо корпуса и вздохнула полной грудью. Да. Ей удалось полюбить и новый Норд, точно так же как тот, который она запомнила, уезжая. Её воспоминания о детстве причудливым образом накладывались на сегодняшнюю реальность, переплетались с нею, образуя удивительный мир, в котором было одновременно и тепло и чуточку грустно.
Проходя через просторный холл около библиотеки она остановилась — у высокого окна с книгой в руках стоял один из самых прелестных юношей, каких ей доводилось видеть в жизни — знакомые черты почудились ей в его склонённом задумчивом лице.
«Бог мой, это же Саймон!» — мысленно воскликнула она.
Ощутив на себе пристальный взгляд, юноша поднял голову. Он, конечно же, сразу узнал Онки, но, видимо, не спешил бурно реагировать на неожиданную встречу.
— Что такое? — спросил он с лёгкой прохладной улыбкой, — Ты смотришь на меня, будто увидела приведение.
Онки нашлась не сразу.
— Возможно, так оно и есть, — медленно проговорила она, пытаясь примириться с мыслью, что сейчас здесь перед её глазами — самое прекрасное существо во Вселенной, и, пожалуй, если бы Всеблагая, сотворившая весь мир и всех людей, на самом деле существовала, то она, Онки, непременно изобрела бы способ выразить Ей своё почтение за столь великолепное произведение.
— Что ты читаешь? — спросила она быстро, чтобы уцепиться за какую-нибудь тему, а не просто глупо стоять и смотреть…
Саймон молча повернул книгу так, чтобы Онки смогла прочесть название.
— История философии, -озвучила она задумчиво, — неплохой выбор, и какая же тебе ближе из всех великих концепций мироустройства?
Саймон взглянул на неё пытливо и, как ей показалось, чуть насмешливо.
— Ты хочешь, чтобы я дал тебе ответ прямо сейчас? — в его глазах заиграли лукавые огоньки.
Онки слегка растерялась.
— Нет, ты можешь подумать…
Саймон рассмеялся.
— Тебе так важно это знать?
— Я спросила… Ты ответь… Что такого? — заупрямилась она, чувствуя, что краска тёплой волной заливает лицо. Ей давно не приходилось разговаривать с юношами, тем более с такими хорошенькими, её окружение состояло в основном из бойких и деловых девчонок.
— С таким же успехом ты могла бы задать вопрос и попроще, — Саймон легкомысленно захлопнул книгу, — ведь тебе на самом деле не важно, что именно я скажу, а важно, чтобы я говорил хоть что-нибудь, верно?
Должно быть, он знал уже об очаровании своих больших зелёных глаз, острого носика, маленького рта, изящно обрамлённого тонкими губами… Слишком уж искушенно следил Саймон за сменой выражений на лице Онки Сакайо, оценивая силу произведённого им впечатления.
— Пожалуй, ты прав, — буркнула она, досадуя на себя за то, что не сумела скрыть своего ослепления, — сегодня вечером в кафе я буду слушать твои рассуждения на любую тему, — Искренность и прямота всегда были её козырными картами, Онки не преминула воспользоваться ими и на этот раз.
— Ты так говоришь, будто я уже согласился, — заметил Саймон, капризно поджав губки.
— А ты не согласен? — спросила Онки почти резко. Внезапное волнение, как порыв ветра, захватило её. Почему-то ей показалось, что отказ именно этого юноши пойти с нею на свидание страшнее конца света. Но ведь он вполне мог не хотеть сидеть с нею в дурацком кафе-мороженом! С какой стати вообще она, приглашая его минуту назад, была так уверена в его положительном ответе? Просто потому, что они старые знакомые? Глупо. За четыре года многое может измениться: может лопнуть один банк и возникнуть десяток новых, например. Вдруг у Саймона появилась подружка? Онки обеспокоенно скользнула взглядом по его воротничку и галстуку. Не обнаружив нигде заветной булавки, она испытала некоторое облегчение.
От юноши не укрылась эта её порывистая проверка, красивым движением руки он прикоснулся к своему галстуку так, словно хотел его поправить, и, искоса поглядывая на Онки, заметил:
— Даже если у меня нет никого, я не хожу на свидания с кем попало.
— Я смотрю, ты совсем не изменился! — рассердилась она, — такая же язва!
Онки хотела было повернуться и уйти, негодование на миг пересилило в ней очарованность, но Саймон сказал:
— Ты ведь так и не получила ответа.
Она раздражённо обернулась:
— Ну?
— Я согласен.
Онки Сакайо поспешила через холл дальше, она старательно делала вид будто куда-то опаздывает, а на самом деле небывалое шальное счастье, точно сжатый газ в баллоне, распирало её изнутри, ей невыносимо хотелось нестись вприпрыжку, махать руками, орать во всё горло…
Да! Да! Он сказал «да»! И сегодня… сегодня вечером… через несколько часов они увидятся снова!
Глядеть в лицо обыкновенного, в сущности, мальчишки, и верить, что перед тобою тот, ради кого демиурги творили Вселенную — о! — такое возможно только в двадцать… Но это, пожалуй, лучшее, что случается с людьми на земле.
Онки Сакайо училась на юридическом факультете и состояла в студенческом объединении, являющемся составной частью общественной правозащитной организации «ЦветокДружбы». Всё своё время, свободного от лекций и семинаров, она проводила вместе со своими подругами-единомышленницами, расследуя различные дела, которые по каким-либо причинам игнорировали власти, вскрывая эпизоды чиновничьего произвола, помогая обрести справедливость обманутым недобросовестными коммерческими фирмами и тому подобное — работы всегда было невпроворот, девочки спали по четыре-пять часов — приходилось разгребать постоянно прибывающие обращения от тех, кому кроме «цветкаДружбы» уже не на что было надеяться.
Последний громкий скандал разразился вокруг строительной компании «ШирокиеГоризонты», которая недавно выиграла тендер на обновление жилого фонда в нескольких кварталах Атлантсбурга. Вышеназванная компания, получив землю по застройку, обязалась выделить часть новых квартир для предоставления собственникам старого жилья, которое в ближайшем будущем планировалось сносить, чтобы на его месте тоже выстроить современные, более комфортабельные и вместительные дома. Однако, оформив документы на землю и опубликовав проектные декларации нового жилья, компания сразу же начала распродавать квартиры, мотивируя это тем, что средств на дальнейшее строительство у неё не хватает, хотя она и получала значительную поддержку из городского бюджета. Жителям старых квартир, прямо под окнами у которых возводились небоскрёбы, когда они спрашивали о том, скоро ли состоится у них обещанное новоселье, представители компании отвечали неопределённо, постоянно переносили сроки, а торговля недвижимостью шла полным ходом. Прокуратура, привлечённая несколькими заявлениями граждан, в действиях компании не усмотрела никаких нарушений действующего законодательства. День проходил за днём, дома строились на государственные деньги, квартиры продавались, но ни одна семья не была пока переселена из ветхого жилья в новое.
У себя в комнате Онки увлеченно переписывалась со своими товарками из «ЦветкаДружбы» — действия вышеназванной строительной компании возмущали её до глубины души. Текущей задачей было выйти на генерального директора, некую Аллис Руэл — это дало бы шанс раздобыть достоверную информацию и в конечном итоге вывести недобросовестных дельцов на чистую воду.
Онки придумала обратиться за помощью к Малколму. Она предложила ему сделаться приманкой для Аллис — войти с нею в более-менее близкие отношения и впоследствии выудить у неё необходимые сведения.
— Бизнесу есть дело только до барыша, а судьбы проживающих в старых кварталах людей не слишком его волнуют! — с жаром говорила она, — и никто не собирается им помогать, кроме нас, этим людям!
— Но ведь это же нечестно, — слегка разочарованно заметил Малколм, — действовать такими методами…
— Эх, ты, идеалист! — махнула рукой Онки, — Это только в сказках добро побеждает зло в честном поединке, а в наше время и добру приходится быть подлым…
Кроме «ШирокихГоризонтов» было ещё много не менее интересных и актуальных проблемы. Онки так увлеклась деловой перепиской, что совершенно потеряла счёт времени. О назначенном свидании она вспомнила лишь тогда, когда за окном начали сгущаться сумерки, и единой волшебной вспышкой россыпь жёлтых фонарей расцветила территорию Норда.
Прибежав в детское кафе растрёпанной и возбуждённой, Онки застала там Саймона: он сидел за столиком один и складывал кораблики из салфеток. На столе стояла уже целая эскадра. Заметно было, что он обиделся, однако это даже пошло ему на пользу, немного сбило с него спесь — Онки удовлетворенно отметила про себя, что его давешняя капризно-самодовольная гримаска уступила место взволнованной растерянности. Однако, завидев её, Саймон постарался придать лицу выражение гордой невозмутимости.
— Заставлять юношу ждать неприлично, — заявил он нарочито прохладным тоном.
— Да брось, — отмахнулась Онки, присаживаясь, — это же просто дружеское чаепитие, давно не виделись, — она сказала так нарочно, чтобы скомкать чувственную напряжённость первой встречи, ей всё еще было немного неловко за себя, — Прости, я немного закопалась с делами. Рассказывай.
— Про что?
— Про древних философов, разумеется. А хочешь не про них…
Онки положила подбородок на сложенные руки и, любуясь, смотрела на Саймона лучистыми глазами.
— Не хочу рассказывать, — сказал он, картинно отворачиваясь.
— Почему?
— Просто не хочу.
— Так не бывает, всегда есть причина.
— Я обиделся.
— Ну и что мне с этим делать?
— Что хочешь.
— Давай я куплю тебе пирожное. Это искупит мою вину?
— Нет.
— А мороженое?
— Нет.
— Какой ты, оказывается, претенциозный!
Со стороны, вероятно, спор двоих за столиком выглядел крайне глупо; ещё несколько минут назад Онки с трудом могла представить себе, что теряет драгоценное время, ведя подобную несуразную бессодержательную беседу с кем-либо, но сейчас происходящее приводило её в неописуемый восторг — она с радостью просидела бы здесь хоть целую вечность, бестолково препираясь с Саймоном, азартно пытаясь поймать взгляд его чарующих зелёных глаз, которые он нарочно прятал…
Детское кафе закрывалось в десять часов — Онки провожала юношу к корпусу общежития уже под россыпью ясных весенних звёзд.
Они ненадолго остановились в аллее, где узорчатые тени листвы чередовались с расплывчатыми пятнами золотого фонарного света.
— Можно тебя поцеловать? — спросила она, ласково развернув к себе Саймона за плечо.
— Нет, — сказал он.
Они стояли под фонарем, и его ресницы длиною в добрых три четверти дюйма бросали тени на лицо. Онки была так сильно очарована этим созданием, таким юным, таким красивым, что даже отдавая себе отчёт в поспешности своих действий, ничего не могла с собой поделать… Ни одному юноше до сих пор не удавалось столь сильно растревожить ее душу.
— Это потому, что ещё слишком рано? — спросила она, не умея скрыть огорчения.
— И поэтому тоже.
Онки напряглась.
— Разве есть ещё какие-то причины?
Саймон поднял на неё глаза. Наполнившись мягкими бликами, они показались ей в эту секунду прекраснее, чем когда-либо.
— Я не целовал никого, — сказал он тихо и серьезно, — и поцелую только тогда, когда буду совершенно уверен, что люблю…
— Ясно, — мрачно обронила она, — прости.
И они пошли дальше по аллее, тени их под фонарями то удлинялись, истончаясь, то снова укорачивались. Свежие весенние ароматы плыли над землёй, стелились невесомым полотном, растревоживая, будоража, навевая сладкое мечтательное оцепенение.
Двое в вечерней тишине не торопились. Они продолжали идти медленно, молчали, изредка перебрасываясь ничего не значащими замечаниями о том, как это всё хорошо: фонарный свет, первое апрельское тепло, скользящие под ногами узоры листвы… Никто из них не делал попыток преодолеть лёгкое отчуждение, возникшее между ними после обсуждения поцелуев.
Снова остановились и взглянули друг на друга Онки и Саймон только возле входа в корпус.
— Но насчёт меня ты не уверен? — вопрос был, очевидно, риторический, но он так и вертелся на языке, она не могла уйти, не задав его напоследок.
— Нет.
— Мне кажется, ты предаёшь много значения мелочам, — Онки старалась, чтобы её слова прозвучали спокойно и весело, будто бы между прочим (она не уговаривает его, ни в коем случае!) — Это же просто поцелуй…
— А для тебя это мелочи? — спросил он, настороженно прищурившись, — Так, ничего серьёзного?
— Я не это хотела сказать… Я имела ввиду… — затараторила Онки, почувствовав его натянутую интонацию и осознав, что попала впросак.
— Но именно это ты и сказала.
— И что, ты опять обиделся? — осведомилась она с усталой досадой.
— Нет. Я сделал выводы.
— О, Криста, дочь господня! — воскликнула она шутливо и вместе с тем печально, — с тобой просто невозможно! Что ни скажешь, всё не так! Как на бочке с динамитом — ни закурить, ни пукнуть!
— Браниться в присутствии юноши неучтиво, — непреклонно заметил Саймон, демонстративно отвернув своё прелестное личико.
В таком же примерно стиле проходили и все остальные свидания Онки и Саймона; каждому из них удавалось держать другого в напряжении; иногда они от этого уставали и, поссорившись по какому-нибудь совершенно пустому поводу, не виделись в течении нескольких дней, но потом их снова начинало тянуть друг к другу, какое-то время они сопротивлялись неведомой силе, стремящейся столкнуть их точно шары на бильярдном столе, но в итоге сдавались почти одновременно и снова возобновляли свои свидания-дуэли.
Риторический вопрос «Ну как, ты всё ещё не уверен?» Онки задавала Саймону теперь почти при каждом прощании у подъезда общежития мальчиков, и он, превратившись в повседневную присказку, в хохму, постепенно утратил свою остроту и таинственный нежный смысл.
Саймон это почувствовал и в какой-то вечер не преминул укоризненно заметить Онки:
— Ты как будто бы уже и не хочешь поцеловать меня…
— Хочу, только ты всё равно не позволишь, — резонно пояснила она, — так что же мне теперь ходить, натянув носок на голову, и выть?
— Да, — ответил Саймон с комичной строгостью.
— Ну, на это я не готова даже ради тебя, — отмахнулась Онки со смехом.
Юноша на секунду задумался, дразнящая усмешка заиграла на его тонких, удивительно красиво вырезанных губках — можно было с уверенностью сказать, что он задумал очередную пакость:
— А на что ты готова, чтобы завоевать мой поцелуй?
— Ты начинаешь торговаться? — спросила Онки с хитрым прищуром, — Это меня уже обнадеживает.
— Напрасно, — заявил Саймон. Он достал карманное зеркальце и, принявшись с нарочитой тщательностью поправлять свою длинную чёлку, задумчиво добавил, — вдруг я скажу, что поцелую тебя только если ты станешь Президентом…
— Тогда я стану им, чёрт возьми, — выдала Онки сумрачно, с каким-то крепким зловещим нажимом.
Саймон почувствовал, что слегка заигрался, и желая смягчить возникшее напряжение, приблизился к ней на шаг и едва ощутимо коснулся её руки.
Онки вздрогнула и зачем-то отдёрнула свою руку, будто от тока, а потом, внезапно опомнившись, схватила Саймона за оба запястья и порывисто привлекла к себе — их лица так рискованно сблизились, что поцелуй, казалось, был неминуем, каждый ощущал кожей тёплое дыхание другого — это длилось несколько долгих мгновений — но потом Саймон резко отвернул голову, чтобы не дать ей поймать губы, если она попытается, но Онки не попыталась, она выпустила его руки и отступила назад…
— Я еще не Президент, — констатировала она желчно.
Оба они потом в течение длительного времени вспоминали этот эпизод, каждый на свой лад; Онки показался оскорбительным его подчёркнутый протест, в конце концов, если уж он сам её спровоцировал… Саймона же задело её неожиданное охлаждение в последний момент — решила, так иди до конца — ему было досадно, что она сдалась, как говорится, без боя и не попробовала преодолеть его очевидно показное сопротивление… Но никто из них не озвучил другому своих выводов, непонимание между ними так и не рассеялось — их и без того непростые взаимоотношения ещё более усложнились…
С тех пор они никак не возвращались к вопросу поцелуев, просто избегали этой темы, она стала запретной, и даже шуточки из серии «уверен — не уверен» перестали быть обязательным атрибутом их вечерних прощаний.
Онки должна была отработать наставницей один полный год, но не обязательно непрерывно, по желанию можно было поделить этот год на части — пробыв в Норде три месяца, девушка попросила разрешения уехать — ей написали подруги из «ЦветкаДружбы», им срочно понадобилась помощь.
О своём отъезде Онки сообщила Саймону не без тайного торжества; ей нравилось периодически напоминать ему о том, что он — не самое главное в её жизни.
Прощаясь с Онки возле ворот, за которыми её ждало такси, Саймон втайне надеялся на какое-либо прояснение их отношений, или хотя бы на воскрешение темы поцелуев — скорое расставание обычно подталкивает людей к таким вещам. Но Онки вела себя совершенно так же как обычно, легкомысленно шутила, смеялась, и он не знал — искренна она или притворяется — именно это заставляло сжиматься его сердечко по тонкой летней рубашкой с ручной вышивкой-мережкой на воротничке и манжетах…
Когда Онки уже входила в будку пропускного пункта и оглянулась в последний раз, Саймон не отвел своих огромных влекущих глаз, он подарил ей на прощание долгий отчаянно-нежный взгляд, впервые, наверное, не побоявшись выдать себя…
Онки думала уже о «ЦветкеДружбы», о девочках, о Малколме, недавно ступившем на тропу борьбы за правое дело… И в первый момент она почти ничего не почувствовала, поймав этот взгляд. Такой долгожданный, выстраданный ею взгляд. Свидетельство её полной и окончательной победы…
Лавинная обжигающая радость, словно большой ушат ледяной воды после парной, накрыла её несколько мгновений спустя, после того, как захлопнулась дверца автомобиля…
«Ну и леший с ним, даже если он никогда не позволит мне себя поцеловать, я буду знать, это только из одного упрямства, а на самом деле он был бы на седьмом небе, если бы я не спасовала тогда и всё-таки поцеловала его, просто так, без всякого разрешения…»
Машина неслась сквозь залитые солнцем поля; Онки, томно развалившись на заднем сидении, умиротворенно улыбалась сама себе.
С шестнадцати до двадцати одного Малколм жил словно бабочка, беззаботно порхающая знойным летом с цветка на цветок, он переходил от одной поклонницы к другой, проводя практически всё своё время в развлечениях и удовольствиях; не работая ни дня, он швырял деньгами направо и налево — такому изобилию эксклюзивных рубашек, элегантных шарфов, дизайнерских пальто, хорошеньких мужских муфт и бриллиантов мог бы позавидовать даже супруг какой-нибудь акулы крупного бизнеса. Но век кокота короток — этого он не мог не понимать, да и природная порядочность давно уже подсказывала ему, что всякое существо должно посильно служить благу, и потому, когда Онки предложила ему вступить в общественную организацию «ЦветокДружбы», Малколм согласился легко и радостно.
— Теперь твоя красота будет спасать мир, — с уверенностью пообещала ему деятельная нордовская соученица, — если не весь целиком, то какие-нибудь кусочки — непременно.
За поразительно нежную кожу, мягко светящуюся в полной темноте, Малколму дали прозвище — Лунный Свет. Поклонниц эта его особенность поначалу настораживала, но потом бесповоротно очаровывала. Факт свечения бесполезно было отрицать, его замечали все, кому приходило в голову целомудренно погасить люстру перед тем, как начать раздевать Малколма. Разумеется, почти каждая из девушек пыталась выведать у кокота его секрет, но никому это так и не удалось по той простой причине, что он сам этого секрета не знал. Диалог всегда выглядел примерно так:
— Отчего это с тобой? Прежде я никогда не видела такой яркой кожи. Точно ты обсыпан мельчайшей искрящейся пыльцой…
— Не знаю.
— Да брось… Наверняка это одна из твоих профессиональных штучек. Надо же как-то выделяться среди тысяч других… Колись, ты пользуешься таинственным кремом с микроскопическими люминесцирующими частицами?
— Нет.
— Ты что, святой? И это у тебя нимб?..
— Ну что вы… С моей-то профессией… Уж где точно не стоит искать благочестивых праведников, так это в публичном доме… Я, наверное, родился такой. Сам по себе. Светлячки ведь бывают.
После этого разговор обычно заканчивался. Но сомнения оставались. Многие дамы полагали, что Малколм просто придумал себе выгодный маркетинговый ход. Дело известное: каждый судит в меру своей испорченности. В последнее время его клиентками становились исключительно топ-менеджеры крупных компаний.
Лунный Свет.
Это сочетание слов передавалось из уст в уста и стало известно многим богатым и влиятельным особам. Светящийся мальчик. Диковинка. Очень многие хотели взглянуть, потрогать, отведать. Купить себе немного лунного света. Малколм стал своего рода знаменитостью. Цена его росла. В самом деле, не может же такое экзотическое удовольствие, как вполне одушевленная домашняя луна, стоить дешево?
Лунный Свет.
Прозвища давали всем юношам подобного сорта, их по ним узнавали, и взлетевшим на вершину успеха, на гребень жизни, считался тот, чье прозвище, шепотом произнесенное дамой в кругу её подруг, вызывало загадочные улыбки, смущенные кивки и одобрительные подмигивания…
Ах, этот удивительный, тонкий мир высокого порока! Он полон своих тайных знаков, которых неискушённый не заметит даже в упор, он говорит на своём языке, этот зыбкий мир, на языке полутонов и полунамеков — юноши-кокоты, собираясь на великосветские балы или закрытые вечеринки всегда надевают смокинг и черную бабочку с едва заметной, будто росинка, стразой — так просто! — и достаточно внимательной леди ничего не требуется объяснять.
Аллис Руэл была поспешна, неласкова, и, казалось, отдавала дань некой традиции, ища плотских утех, а на самом деле не получала от них никакого удовлетворения.
Она сидела на диване подобравшись, обёрнутая белой простынёй, под которой тощие ноги, согнутые в коленях, торчали точно какой-то грубый каркас; куря сигарету, она задумчиво откидывалась, клала стриженый затылок на спинку дивана. Длинные жилы на ее шее напрягались, крепко выпирая из-под кожи.
«Злой скелет,» — подумал Малколм. Впервые за всю жизнь ему довелось быть близким с женщиной, к которой он испытывал откровенную неприязнь.
Новая служба требовала от него преодоления определённого морального барьера, поскольку прежде ему не приходилось использовать свою красоту в корыстных целях — он просто любил женщин, а они любили его — теперь же все его действия были подчинены выполнению определённого плана, и Малколм даже радовался тому, что Аллис ему совсем не нравится, ведь случись между ними роман, он просто не знал бы, как поступить. Сама о том не ведая, она помогала ему: дело было не только во внешности Аллис — да и в ней тоже, чего таиться, — но и в её манере общения, обрывистой, грубой и чуть свысока, когда она что-то говорила, нужно было догадываться, что имелось в виду, будто бы ей лень было закончить фразу или, к примеру, растолковать проскочившие в ней термины. Она будто бы самоутверждалась за счёт тех, кто провожал её недоумённым взглядом.
Это немало удивляло, но, зная, скорее всего, о своей непривлекательности, Аллис даже не думала исправляться: она была крайне небрежна, в её жидких коротких волосах обитала перхоть, ботинки сорок пятого размера вечно забрызганные грязью никогда не стояли в прихожей один к одному как полагается, а вечно валялись где-попало. Её длинное сухое лицо почти всегда выражало недовольство; об этом свидетельствовали две глубокие складки между бровями, уголки тонкогубого рта указывали вниз, острый подбородок выпирал вперёд, а жёлтые, неизменно в кофейном и чайном налёте зубы неплотно примыкали друг к другу.
Когда Малколм и Аллис вместе шли по улице: она — с мрачно сведенными бровями и борсеткой в одной руке, в длинном чёрном плаще, гротескно подчёркивающем ее непомерную рослость и худобу, в тяжелых ботинках с высокой шнуровкой, и он — в контрастно яркой дизайнерской одежде, свежий, нежный и жизнерадостно улыбающийся — видя их, прохожие, вероятно, испытывали невольную досаду: как же так получилось, что столь прекрасный цветок оказался в когтистых лапах чудища?
Он жил с нею уже почти полгода. Генеральный директор компании «Широкие Горизонты» была осторожна — она никогда не оставляла открытой ни почту, ни рабочие документы, всегда стирала историю посещений в браузере, и если бы она познакомилась с хорошеньким кокотом на какой-нибудь закрытой вечеринке, в клубе или его к ней привела бы подруга, то Аллис непременно заподозрила бы неладное. Она ждала подвоха отовсюду. Кредиторы. Конкуренты. Проверки губернатора. Полиция. Компаньоны. Собственные подчинённые, жаждущие занять её место. Ещё никогда Малколм не встречал настолько подозрительного человека.
Онки Сакайо настаивала, чтобы знакомство выглядело абсолютной случайностью. Для этого Малколм несколько вечеров подряд торчал под дождем на трассе, по которой Аллис обычно возвращалась на машине из офиса. «Номер я дам, скажу время с точностью до нескольких минут, девочки по городу следят за этим автомобилем, ты просто стоишь на обочине и голосуешь…» наставляла красавчика Онки.
Сезон ливней был в самом разгаре. Рубашка и джинсы Малколма набрякли водой и прилипли к телу, как если бы он одетым принимал душ. От холода губы его побледнели. Он встал на край бордюра и вытянул тонкую руку.
Приближающийся автомобиль с указанными номерными знаками показал правый поворот.
Сработало. Заметив несчастного, с головы до ног мокрого и продрогшего юношу на обочине, Аллис пожалела его и остановила машину.
В течении первых пяти минут разговора Малколм понял, что врать ей нельзя. А он должен был заниматься именно этим. У гендиректора «Широких Горизонтов» обнаружился прямо-таки профессиональный нюх на ложь. Всякую сказанную фразу она тестировала неожиданными вопросами, пытаясь подтвердить или опровергнуть для себя полученную информацию.
«Ты сказал, что живёшь в районе Старой Площади, там есть ещё булочная „Дырка от бублика“? А магазин коллекционных открыток?»
«Зачем вам?»
«Такого кокосового печенья не пекут больше нигде. Надо бы заказать. Моя сестра собирает винтажные почтовые знаки. Привез бы.»
Произнося такие на первый взгляд простые бытовые фразы Руэл сверлила собеседника подозрительным взглядом.
«Я не обращал внимания.»
Получая ответы «не знаю», «не помню», «наверное» Аллис напрягалась. Ей это было непонятно. Профессиональный лжец, человек, которого ложь кормит, для которого она является тем волоском, на котором он висит над пропастью — такой человек просто не может позволить себе забывчивость…
Аллис Руэл, разумеется, не распространялась Малколму о своих делах, логично, в общем-то — кто посвящает любовника, игрушку, в тонкости ведения бизнеса? Ему приходилось выкрадывать и копировать её электронные ключи, пока она спала, угадывать пароли к папкам на ноутбуке. Но добытое совершенно его не интересовало, он не старался ни во что вникать и сразу же пересылал найденные документы в «ЦветокДружбы»; ничуть не страдая от болезненного самолюбия, Малколм безропотно принимал свою роль пешки в этой большой игре и даже был весьма доволен ею.
Он очень сильно удивился, когда Аллис попросила его поехать вместе с нею на званый ужин во Дворец Съездов — прежде она не только не брала его ни на какие важные мероприятия, она вообще старалась поменьше показываться с ним; Малколму это было странно: другие, кому доводилось быть осиянными его благосклонностью, гордились этим, они везде и всюду таскали его с собой, упоенно демонстрируя и конкуренткам, и компаньонкам, и просто подругам… Желание хвастаться в обществе шикарной статусной вещью — вполне нормальное явление…
— Садись в машину, — велела Аллис со своей обыкновенной оскорбительной лаконичностью.
Она никогда не произносила пространных монологов, разговаривая с Малколмом, приберегая их, вероятно, для деловых партнеров; речи Аллис всегда готовила заранее, читала с листа, а потом складывала в архивную папку; все до единой они хранились там в хронологическом порядке — общение гендиректора «ШирокихГоризонтов» с молодым кокотом складывалось из её рубленых реплик: «принеси мне кофе/сок/виски/папку со стола/телефон», «раздевайся», «уходи» — и его кроткого молчаливого послушания.
Аллис за всё время не подарила Малколму ни одной безделушки, даже самой пустяковой, хотя это принято в отношениях подобного рода, иногда, правда, она швыряла ему свою платиновую кредитку со словами: «купи себе что хочешь», и обычно он приобретал что-нибудь нужное: одежду, косметику, абонементы на спа-процедуры, ну не драгоценности же ему себе дарить от имени Аллис? Какая-то особенная душевная скупость была в ней: ей жалко было усилий, эмоций, времени на всё, что не могло приносить доход. Деньги при этом она тоже, казалось, не любила: гендиректор «Широких Горизонтов» не кутила, не покупала дорогих вещей, даже за одеждой не старалась следить: ходила много лет в одном и том же. Создавалось ощущение, что зарабатывание денег для неё — патологическая идея фикс, самоцель.
Малколма поражала эта двойственность Аллис: она была небрежна абсолютно во всем, кроме построения своих планов, отчетов, выступлений — во всём, кроме своей совершенной и гармоничной, как храм, лжи; она разговаривала снисходительно и как будто нехотя с теми людьми, от которых никак не зависело её дело, или вообще игнорировала их, а с теми, кто мог ей быть полезен, она была на свой лад ласкова и почтительна, даже пыталась им улыбаться своим узким некрасивым ртом…
Для Малколма оставалось загадкой, как вообще можно так жить.
«И как она только не путает „нужных“ с „ненужными“?» — думал он иногда с грустной смешинкой.
Водителя у Аллис не было. Гендиректор «горизонтов» всегда садилась за руль сама. Как-то раз она вскользь пояснила: «Если меня захотят шлепнуть, стрелять будут с расчётом на заднее сидение — все важные птицы обычно там…»
«Шлепать» Аллис, может, никому и не было на самом деле надо, но предосторожности никогда не лишни. Привычный постоянный страх быть пойманной, раскрытой, обвинённой в чем-нибудь служил фоном для всех остальных эмоций Аллис и, несомненно, накладывал отпечаток на её личность.
Она сосредоточенно смотрела на дорогу. Малколм привык к её нервозности и подозрительности, но сегодня она, казалось, была встревожена сильнее, чем обычно.
Молодой кокот иногда испытывал к Аллис немного брезгливую снисходительную жалость, как к существу, не умеющему жить и оттого неприятному и несчастному; обычно такое чувство накатывало на него после короткой скупой на эмоции будто животной близости — голая Аллис казалась ещё более жалкой, такая костлявая, нескладная, желтая, ребра торчали у неё везде, даже там, где у других всегда обнаруживались пусть небольшие, но всегда упругие и нежные бугорки — рудименты молочных желез, шаровидные коричневые соски торчали на костлявой груди Аллис точно две бородавки, живот, когда она лежала, проваливался до спины, между ног у неё топорщился несуразный клок жёстких медно-русых волос.
Аллис была бесплодна — её сухое тощее лоно вряд ли смогло бы когда-нибудь пригреть новую жизнь — но ей ещё ни разу не пришлось об этом пожалеть, детей она не любила и не испытывала желания их завести.
Иногда, очень редко, правда, Малколму удавалось добиться от Аллис некоторого подобия человеческой радости в постели; он подолгу ласкал её пальцами и языком — профессионал, что тут говорить — и она даже тихо посмеивалась, выгибала свою жесткую спину; после, правда, она бывала ещё грубее, чем обычно, замыкалась в себе, выглядела обиженной, будто Малколм, доставив ей удовольствие, каким-то образом унизил её…
ООО «Широкие горизонты» — это была далеко не первая компания Аллис, до неё она управляла как минимум десятком фирм и фирмочек, которые моментально исчезали, как будто и не существовали никогда, в случае каких-нибудь финансовых нестыковок, конфликтов с партнерами, грозящих судебными разбирательствами, недовольств сотрудников и прочих коллизий. Потом, правда, они всегда возникали снова, эти фирмы и фирмочки, в новых местах и с новыми названиями — неизменной оставалась одна только Аллис Руэл — она обладала, надо признать, незаурядным организаторским талантом и определённой деловой хваткой — вновь созданная компания стремительно разрасталась вокруг неё, точно цепкий малинник. Но существовать долго эти скороспелые компании почему-то не могли — рано или поздно появлялись недовольные, и Аллис снова приходилось быстренько подбирать хвосты и мчаться в неизвестность, чтобы после на совершенно незнакомой почве опять раскидывать свои второпях рассованные по карманам семена…
На такой высокий уровень, как теперь, Аллис поднялась впервые. Городская казна — это вам не шуточки. Ей оказали огромное доверие, позволив выиграть тендер — нужно было как-то его оправдать… Надо сказать, что Аллис никогда не планировала заранее своих банкротств и побегов — каждый раз всё складывалось как будто само собою, под давлением обстоятельств, под воздействием каких-то случайных факторов — начиная свое новое дело с нуля, Аллис клялась себе, что на этот раз всё точно будет честно, что она будет скрупулезно выполнять все заявленные условия…
Но и сейчас что-то пошло не так…
С большой высоты — и дураку ясно — падать больно.
— Званый ужин у Губернатора — почти то же, что бал у Сатаны. Ассоциации сходные. И последствия могут быть такими же… — сказала Аллис.
Малколма удивило, что эта женщина поделилась с ним сиюминутными переживаниями — никогда прежде она не снисходила до того, чтобы посвящать юного любовника в свои мысли; Малколм почувствовал, что Аллис взволнована. Этот проблеск человеческого в их странных картонных отношениях на какой-то миг даже разбудил его совесть, ведь он всё-таки шпион, который должен раскрывать теневые сделки и сдавать заигравшихся игроков большого бизнеса властям…
Глядя на длинные голые белые руки Аллис с синим узором вен, Малколм ощутил небывалый прилив сочувствия — да, пожалуй, эта женщина действительно заслуживает наказания, она вор в законе, она обирает нуждающихся, всё правильно — но он обладал таким чутким сердцем, что чужое страдания трогало его вне зависимости от того, являлось ли оно напрасным или окупало содеянное зло.
Генеральный директор «ШирокихГоризонтов» стояла перед большим зеркалом в холле Дворца Съездов: бледная, впрочем, не более, чем обычно, жидкие тонкие волосы зализаны гелем. На ней было серебристо-дымчатое вечернее платье в пол — в глубоком заднем вырезе жалко торчала её худая сутулая спина с острым гребнем позвоночника.
У дверей топталось несколько охранниц. При входе они перебрали всё содержимое маленькой сумочки Аллис, и одна из них довольно оскорбительно ощупала Малколма везде, плотоядно облизывая губы — а как же, служба! — вдруг сей прелестный ангел засунул скальпель под резинку белья и кого-нибудь им зарежет?
Малколм поправлял бабочку, украдкой глядя на отражение Аллис.
Стоя у зеркала, она внезапно выпрямилась, расправила плечи, как будто вошла в образ, повернулась в профиль, чтобы взглянуть на застланную красным ковром парадную лестницу — Малколм впервые за долгое время подумал, что она не так уж уродлива.
«Ах, если бы она была добра… Если бы… Тогда, наверное, я смог бы полюбить её…»
Он тихо вздохнул.
Аллис Руэл повернулась и чинно, с достоинством принялась подниматься по ступеням, как будто не она только что забористо материлась за рулем и плевалась в окно, выкурив сигарету… Актерский талант у неё определенно был.
— За мной, — властно бросила она Малколму через плечо, — и не отходи от меня ни на шаг. Пока ты стоишь рядом, всё равно что прожектор светит прямо в глаза, и никто… Просто иди за мной.
— Вы чем-то встревожены? — шепотом спросил он, нагнав её и бережно взяв под руку.
— Закрой рот. Тебя это не касается, — ответила ему Аллис так же негромко.
Малколм успел пожалеть о своем недавнем порыве нежности к этой женщине и в то же время со странным брезгливо-сострадательным чувством заметил, что её рука, которой он касается, слегка дрожит… Должно быть, ей было чего бояться, и она боялась.
— Твоя задача сегодня вечером светить, — добавила со странной нервозной интонацией Аллис, — светить молча.
Прием гостей организован был в двух смежных залах — дальняя, банкетная, стояла нетронутой, сквозь приоткрытые двери виднелся белоснежный стол, нарядный, как император, снующие мимо официанты всё еще заканчивали его пышное убранство; а в другой зале, тоже просторной и прохладной, гости, собираясь небольшими группками, разговаривали между собой приглушённо, здесь была очень хорошая акустика — любое слово, сказанное достаточно громко, или шаги обуви на каблуках слышались в дальних уголках залы.
Губернатор лично приветствовала прибывающих. Она стояла неподалеку от входа и приехавшие одновременно гостьи толпились в дверях, чтобы соблюсти приличия: они подходили к хозяйке вечера по очереди и пожимали ей руку.
— Добрый вечер, леди Руэл, я рада видеть вас сегодня, — в этой фразе не было совершенно ничего особенного; в разных вариантах она была произнесена Губернатором уже не один десяток раз, но обращенная именно к Аллис, во всяком случает так Малколму показалось, эта фраза обрела какой-то особенный оттенок — в ней как будто слышался далекий отзвук надвигающейся на Аллис грозы.
— Добрый вечер, — отозвалась та деревянным голосом.
Губернатор продолжила свою игру. Она уже видела страх Аллис и понимала, что это именно страх — незаметно, но очень внимательно эта многоопытная женщина следила за сменой выражений на лице гостьи.
— Вы неважно выглядите, должно быть, лёгкая простуда?
Теперь Малколм не сомневался ни секунды — дело сделано, украденные им документы попали в нужные руки.
— Да, приболела немного, — пробормотала Аллис, изо всех стараясь сохранить приличествующее случаю бесстрастно-приветливое выражение, — позвольте представить вам, леди Губернатор, Малколм Лунный Свет…
Хозяйка вечера безо всякого воодушевления, но с вежливым вниманием скользнула взглядом по очаровательному молодому мужчине, ей представленному. Малколм не ожидал, что леди Губернатор сделает это — она выглядела такой величественной и неприступной — но она взяла его руку из руки Аллис и с деликатной неторопливостью поднесла её к губам.
— Очень приятно.
— Не отходи от меня, — снова шепнула Аллис своему спутнику, когда они удалились в глубину залы; теперь в её голосе отчётливо слышалась паника, она побелела еще сильнее, и можно было видеть, как трепещет на длинной жилистой шее тонкая венка, — здесь повсюду расставлены ловушки!
Малколм понял, что она имеет ввиду, ему случилось уже поймать на себе несколько заинтересованных взглядов. К ним подходили какие-то леди в сопровождении таких же, как Малколм, дорого одетых юношей с эффектно подведенными глазами, эти леди здоровались, заводили непринужденные светские беседы — Аллис всем им отвечала с напряжённой будто наклеенной улыбкой, с холодными руками, с лихорадочным блеском в глазах…
— Не отходи от меня, — повторяла она снова и снова, вызывая у Малколма запоздалую мучительную жалость.
Он и не думал отходить — он не знал никого из присутствующих в зале, ему не доводилось еще бывать среди людей, занимающих такое высокое положение в обществе, и, чтобы немного расслабиться и заодно отвлечь Аллис, он попросил её рассказать о тех, с кем знакома она сама.
Раньше она, вполне вероятно, ответила бы ему грубо. Но сейчас Аллис просто не могла оттолкнуть протянутую ей руку помощи — беседа могла принести облегчение не только тем, что позволила бы какое-то время не думать о страхе, но и тем, что к двум людям, которые оживленно разговаривают, просто так уже не подойдешь… Это своего рода защита.
Пока Аллис говорила, взгляд Малколма плавно переходил с одной группки гостей на другую, пока в какой-то миг не остановился на почти незаметной фигурке охранницы, стоящей возле окна. Их было здесь очень много, словно чёрные тени они появлялись то в одном, то в другом конце залы, своим ненавязчивым присутствием подчёркивая статус мероприятия.
Нечто смутно знакомое почудилось Малколму в одном из безликих строгих силуэтов.
— Давай подойдём поближе к окну, — сказал он Аллис, — мне немного душно, — его рука, которую она держала, слегка напряглась от волнительного предчувствия, и, несомненно, спутница заметила бы это, не будь она так поглощена своей собственной тревогой.
Девушка стояла в арке высокого окна, на фоне помпезной бордовой драпированной занавески. Хрупкое и сильное тело под безупречно гладким костюмом. Немного повернутая в сторону стриженая голова. Трогательная впадина затылка. У Малколма перехватило дыхание. Это она! Та, которую он однажды потерял и уже не надеялся обрести!
Глупо было бы немедленно броситься к ней. Грубейшее нарушение этикета. Десятки возмущенно повернутых голов — прелестный кокот, внимания которого добиваются самые богатые дамы Атлантсбурга, самозабвенно виснет на простой охраннице! Но сделать именно это Малколму хотелось сейчас больше всего.
Тем временем, отделившись от ближайшей группки гостей, к ним направилась одна из помощниц Губернатора и, судя по лицу Аллис, это внимание не сулило им ничего хорошего.
— Вы познакомите нас, леди Руэл? — спросила дама, разглядывая Малколма с прохладной светской улыбкой.
У Аллис, видимо, слегка отлегло от сердца. Как она и надеялась, внешность её спутника, словно звезда, парящая у неё за плечом, отвлекала внимание общества от неё самой. Появиться в свете под руку с таким красивым юношей — всё равно что в неприлично ярком наряде, на который все обязательно будут глазеть.
— Малколм Лунный Свет.
Он поприветствовал новую знакомую легким, исполненным невыразимого изящества кивком головы. Он знал, какое впечатление неизменно производят его пышные полуопущенные ресницы. И цену себе, в двадцать один то год, он знал уже очень хорошо, и, наверное, догадывался, что даже, пожалуй, сумел бы выгородить Аллис, если бы поставил себе такую цель…
— Пойдемте, выпьем по бокалу шампанского… — обратилась к нему женщина.
Он моментально оценил степень интереса, возникшего к его персоне, и саму заинтересованную. «Деловая, практичная, не слишком темпераментная, не станет сразу швыряться большими деньгами, но если почувствует искреннею симпатию, будет щедра и душой и кредиткой, пустышки ей не нужны, ценит утонченность, ум и верность, пусть временную, как в нашем деле обычно бывает…»
Кокот, который позволяет себе иметь сразу несколько покровительниц, не пользуется уважением — даже тут есть свои понятия о чести и порядочности.
— Я пришёл с дамой, — ответил Малколм, скромно опустив глаза, и как будто бы взволнованно поигрывая элегантным черным мужским веером, — если только она позволит…
Аллис колебалась. С одной стороны, ей не хотелось оставаться одной — к ней в любой момент могли подойти и начать тонкую продуманную атаку намёками, неудобными вопросами, якобы случайными замечаниями, но с другой — ослеплённые красотой и искусным кокетством Малколма враги ослабят свою бдительность и будут уже не так опасны…
— А почему нет? — сказала Аллис, изобразив на лице вежливое светское безразличие, — Я не слишком ревнива, иди.
Малколму было абсолютно всё равно, идти или не идти с этой помощницей Губернатора пить шампанское. Но он привычно изображал кокетливую заинтересованность в её обществе. Сейчас на свете существовала только одна по-настоящему важная для него вещь: во что бы то ни стало выяснить — кто она?
Под прикрытием ажурного веера с неброской изящной вышивкой стразами молодой кокот напряженно следил за перемещениями по залу девушки в чёрном костюме, умудряясь при этом весьма эффективно поддерживать какой-то никчёмный светский разговор уже с двумя помощницами Губернатора.
— Скажите, — спросил он, — а много ли здесь охраны?
— О! — воскликнула одна из дам в принятой шутливо-галантной манере, — если вы опасаетесь за свою безопасность, то я лично готова работать кулаками, защищая вас, будьте совершенно спокойны, Малколм, здесь их целая армия.
— Вероятно, они вооружены?
— Вас так это интересует? — удивленно спросила другая дама.
— Я просто любознательный, — сказал Малколм, улыбнувшись при этом так лучезарно, что обе женщины невольно замерли.
— Пожалуй, можно поинтересоваться у хозяйки приёма, — услужливо предложила одна из них, — чего не сделаешь ради вашего удовольствия…
Губернатор снисходительно улыбнулась в ответ на странную просьбу своей гостьи и указала рукой на чёрный силуэт на фоне задрапированной арки окна.
— Вон там стоит начальница охраны, она всё вам расскажет.
С замирающим сердцем Малколм двинулся вслед за дамами. Когда они подошли достаточно близко, девушка в чёрном, по-видимому, поняла, что им понадобилось нечто именно от неё и приветственно кивнула:
— Добрый вечер, леди, чем могу быть вам полезна?
В этот момент она приметила Малколма, стоящего за плечом у помощницы Губернатора. Она, несомненно, узнала его, это можно было заключить по тому, как коротко блеснули её глаза, и тень улыбки проступила на миг сквозь сосредоточенное выражение.
— Молодого человека интересует, много ли здесь охраны?
— Достаточно даже для того, чтобы сдержать штурм здания, я думаю, — ответила девушка в чёрном, не отпуская взглядом Малколма и тая чуть заметную удивлённо-радостную ухмылку в уголке узких губ, — вы можете быть уверены, нынче вечером здесь — самое безопасное место во всем Атлантсбурге.
Очаровательный кокот вспыхнул точно невинный юноша, по интонации почувствовав, что последние слова обращены именно к нему. Этой репликой, произнесённой глубоким тихим голосом, она словно отделила их от всего остального мира, они остались наедине в присутствии всех, и любое сказанное слово передавалось теперь между ними как будто по тайному каналу связи, не доступному прочим. Самое главное желание Малколма осуществилось — теперь он стоял так близко, что мог прочесть надпись на её бэйдже:
Эдит Хэйзерлей
служба охраны
«Эдит… Ее зовут Эдит!» мысленно повторял Малколм — ему хотелось сейчас, обвив руками её шею, заглядывать ей в глаза и называть ее по имени, много-много раз подряд, нежно-нежно…
— У вас нет больше вопросов ко мне? — Эдит перевела взгляд на помощницу Губернатора, — видите ли, эффективность нашей работы напрямую зависит от наблюдательности, мы не спасатели и не полиция, мы лишь предотвращаем неприятные инциденты, и всякое отвлечение повышает риск пропустить что-либо подозрительное.
— Спасибо, — отозвалась та сухо, — Довольны ли вы теперь? — помощница Губернатора резко сменила тон, в котором разговаривают с охраной, шофёрами, официантами и прочей обслугой на привычное светское воркование и слегка склонилась к своему прелестному спутнику.
Она уводила Малколма, галантно взяв его под руку, и напоследок он обернулся, почти отчаянно; широко раскрыв свои огромные ярко-синие глаза, в которых тонули миллионерши, он подарил Эдит взгляд, призванный разом всё ей объяснить, пронзительно-нежный, умоляюще-призывный…
Он вынужден был отвернуться — этикет не позволяет долго смотреть на людей — помощница Губернатора снова что-то говорила ему, уже на совершенно другую тему, а Малколм даже не слышал… «Только бы она всё поняла, только бы поняла…»
В центре зала стояла Аллис Руэл. Она разговаривала с Губернатором, и сквозь напряжённо улыбающуюся маску её лица веяло отчаянием.
— Прошу меня извинить, — сказал Малколм, опомнившись, и поспешил на помощь своей покровительнице, — моя дама, наверное, меня уже обыскалась…
— Я вернулся, — сказал он тихо Аллис, пристраиваясь у неё за плечом.
Губернатор с явно недовольным видом обратила на молодого кокота свой взор, но за секунду справившись с собой, улыбнулась:
— В таком очаровательном обществе чудовищно грубо было бы говорить о делах, — сказала она.
— У вас очень гостеприимная атмосфера. Пользуясь случаем, хочу еще раз поблагодарить вас за приглашение, — любезностью на любезность ответил Малколм, одарив Губернатора притворно-кроткой многообещающей улыбкой профессионального обольстителя.
Аллис Руэл продолжала стоять столбом, но краски ее лица несколько посвежели — облегчение, принесенное неожиданным вмешательством в сложный разговор, конечно, не могло быть ничем, кроме как отсрочкой, и она это отлично понимала, но всё же что-то в ее сознании еще сопротивлялось, не давая ей смириться с окончательным поражением, добровольно протянуть руки, чтобы на них надели наручники, и позволить увести себя со сцены роскошной и лёгкой жизни… «Главное… вырваться отсюда сегодня, — думала она, глядя вслед Малколму, который, ловко завладев вниманием Губернатора, повёл ее в сторону столиков с шампанским и фруктами, — если это удастся, то я спасена… Главное — уйти сейчас… А там… Два часа на сборы и самолет…» Аллис встряхнула головой, словно прогоняя наваждение, взяла с подноса проходящего официанта бокал шампанского и сделала несколько глотков. Холодная колючая жидкость лавиной прокатилась внутри ее сухого нервного тела, Аллис вздрогнула, расправила плечи и глубоко вздохнула. Она была жива, здорова и всё ещё оставалась миллионершей. «Свалю сразу, как окажусь за воротами… только бы продержаться вечер, если здесь на меня не наденут наручники… Ах, пальмы и солнце. Нас ждут пальмы и солнце, детка…» Она улыбнулась.
И в этот самый момент почувствовала деликатное прикосновение к плечу.
— Леди Руэл…
Это оказалась недавно назначенная вице-губернатор, пожалуй, слишком юная для такой должности, лет двадцать семь от силы, но невероятно деятельная и напористая. За те несколько месяцев, что она занимала свой пост, было снято около десятка начальников всевозможных проектов по развитию и благоустройству Атлантсбурга, финансируемых из бюджета — их сдувало с насиженных мест точно шляпы ветром — и даже пожилые видные чиновницы высоко ценили усилия этой хрупкой девушки, произнося её имя с уважением и опаской.
Заглянув в глаза вице-губернатору, Аллис поняла, что всё уже решено, и в коридоре, вполне вероятно, терпеливо ждут своей минуты люди с наручниками. Она просчиталась. Нужно было уходить раньше, не дожидаться этого последнего громового раската — гроза, что могла вот-вот разразиться над её головой собиралась достаточно давно — первые тучки появились ещё год назад, когда в газетах начали публиковать заметки некой активистки Онки Сакайо, привлекшей к проекту внимание широкой общественности.
«Надо было ещё тогда бросать всё и ехать… Куда глядят глаза, с одним чемоданом. Перевести сколько можно денег на зарубежные счета и делать ноги. Не жадничать и ни о чём не жалеть. А что теперь? Неужели у них есть неопровержимые доказательства? Без документов они ничего не смогут со мной сделать…» — эта мысль немного успокаивала, но у вице-губернатора был такой уверенный вид, она прохладно улыбнулась в знак приветствия, и непроницаемый блеск ее глаз испугал Аллис. Она почувствовала, как её спина становится влажной. «Только бы уйти сегодня…»
— Мне плохо, — сказала она, крайнее отчаяние часто делает людей удивительно изобретательными, — как хорошо, что вы уделили мне пару минут, леди Чест, это просто спасение какое-то… Вы знаете, есть ли здесь врач? Проводите меня…
— Да, выглядите вы неважно, — вице-губернатор неодобрительно приподняла брови и озадаченно оглядела Аллис, заметно было, что она слегка растерялась, — хотите я позову официанта?
— Кого-нибудь, пожалуйста… — Аллис вошла в роль: она страдальчески облокотилась на столик, старательно делая вид, что задыхается.
Поднялся небольшой переполох. Спустя минуту возле неё появились Малколм и два встревоженных официанта.
— У нас нет врача, — развел руками один из них, — нужно скорую вызывать.
— Вызывайте… — прохрипела Аллис.
— Нужно предупредить начальницу охраны, без ее звонка не откроют главные ворота… — официанты нерешительно топтались на месте; леди Чест стояла неподалёку, по её лицу проскользнула тень сомнения, когда Аллис в очередной раз напрягла и выгнула свою тощую спину.
— Я сделаю это, я смогу найти начальницу охраны, — с готовностью предложил Малколм, и, не дожидаясь ответа, на крыльях своего счастья помчался через зал.
Эта маленькая сцена положила начало цепочке удачных совпадений, которые помогли-таки Аллис Руэл уйти от правосудия — несколько часов спустя самолет уже нес её над океаном — старший официант отвел «болезненную гостью» в небольшое подсобное помещение, когда-то служившее кабинетом, а нынче предназначенное для хранения запасов, и позволил ей там прилечь до приезда скорой на узенькой кушетке среди ящиков с бутылками дорогущего шампанского.
Аллис руками оторвала большую половину своей длинной юбки, приподняла неплотно прикрытое окно — чистая случайность! — и спрыгнула со второго этажа в палисадник.
Эдит Хэйзерлей — ей единственной из всех сотрудниц охраны было дано лично Губернатором секретное поручение не выпускать леди Руэл за ворота без специального знака — в тот вечер допустила оплошность, наверное, единственную за весь срок своего контракта… Она увлеклась, на несколько минут она позволила себе совершенно забыть о работе, когда Малколм, откровенно сияющий любовью, подбежав к ней, едва не бросился на шею… Именно сегодня они встретились снова. Чистая случайность.
Подали ужин. Гости схлынули с дальнюю залу, и ближняя опустела, только официанты сновали через неё, один из них убирал с маленьких столиков бокалы с остатками шампанского и блюда из-под фруктов. А в небольшом закутке коридора, где стоял вынесенный во время ремонта из какого-то помещения шкаф со старинными книгами, прятались двое:
— Поцелуй меня, — нежно потребовал Малколм, сомкнув изящные руки на шее Эдит, — я не отпущу тебя, я не позволю тебе снова исчезнуть…
— Ты стоишь таких бешеных денег, — отвечала она с ироничной улыбкой; лаская, она слегка касалась его щеки изнанкой ладони, — и поцеловать тебя, право, всё равно что украсть у кого-то миллион. Прямо из кармана.
— Я расточителен! Я бессовестно расточителен… — шептал он со смехом, притягивая ее к себе, околдовывая близким тёплым ароматом кожи.
И был поцелуй. Да такой, что тайные счета всех присутствующих миллионеров опустели бы в одночасье, так и не собрав необходимой суммы… Все богатства мира потерпели бы фиаско, вздумай они тягаться с этим торопливо-жадным поцелуем за шкафом, ведь всякое сколачивание состояния — есть лишь погоня за неуловимым мигом личного триумфа, осознания своей самости, цельности, власти и свободы — а сложившаяся любовь способна дать человеку всё это сразу, да еще и более ярком, красочном воплощении — так решено природой — любовь абсолютно самодостаточна — и потому подростки, самозабвенно целующиеся на пляже, на самом деле гораздо счастливее многих капиталистов.
Рация Эдит сердито зашипела, встревоженный голос коллеги сообщил, что скорая приехала, а пациентки нет…
— О, чёрт, — сказала Эдит.
И оба рассмеялись. Им было нисколько не жалко для бессовестной мошенницы Аллис Руэл обретенной ею свободы; даже если бы она сейчас пришла к ним и попросила бы их помочь ей сбежать, они бы, верно, помогли — так немыслимо щедры были в эту секунду их души, озаренные счастьем…
Ещё несколько мгновений они стояли за шкафом, повернув друг к другу лица, ясные, как солнечные зайчики, как распустившиеся соцветья, и улыбались.
В дальнем конце коридора послышался стук быстрых шагов.
— Ну вот и все, — вздохнула Эдит, — надо работать.
Она отстранилась решительно, плавным, но не допускающим возражений движением. Оправила пиджак, блузку; лицо ее снова стало непроницаемым, строгим — прекрасный цветок закрылся, снова превратившись в тугой неприглядный бутон.
Она вышла из закутка и энергичными шагами направилась навстречу коллегам. Малколм ждал, что Эдит хотя бы оглянется в последний раз, но этого не произошло.
ГЛАВА 16
Саймон Сайгон был мудр от природы, с раннего детства в нём обнаруживалось поразительное житейское чутье; он проникал в суть событий почти не задумываясь, интуитивно, легко разбирался в людях и в отношениях: во многом он оказался гораздо дальновиднее Онки, он понял сразу, что между ними ещё давно, возможно, в детстве, или чуть позже, возникла какая-то связь, гораздо более глубокая и древняя, чем они сами, и она, эта связь, уже ничем не может быть расторгнута, и способна стать для них как самой большой радостью, так и самым большим несчастьем.
Отчего же эта таинственная связь избрала именно их двоих, предназначив друг другу, таких непримиримо разных, несопоставимых настолько, что почти при каждом разговоре, они бесполезно и намертво задевали друг друга зубцами слов, идеалов, принципов, точно неподходящие резьбой шестерни?..
Тщета их ссор и расставаний воспринималась Саймоном вполне естественно, он только вздыхал и прикидывал, спустя какое время она снова приедет, в отличие от Онки, которая после каждой размолвки горячо клялась самой себе никогда больше не возвращаться.
Она имела возможность приезжать в Норд и уезжать, когда ей вздумается — в качестве благодарности за самоотверженное служение общему делу организация подарила ей автомобиль, старенький, правда, но ещё на ходу.
Что касается заработков, то денег при Онки почти никогда не бывало; она едва наскребала мелочи, чтобы оплатить счет в мороженице, куда приглашала Саймона.
— Думай о будущем, — укорил он её в неведомо какой уже раз, — тебе нужно найти хорошую работу.
— У меня есть работа, — ответила Онки, недовольно хмурясь. Больше всего она не любила говорить с Саймоном о будущем — на эту тему они ссорились размашистее и злее обыкновенного, — я общественно-политическая активистка. Очень важная и нужная деятельность, к твоему сведению. Мы помогаем реальным людям решать реальные проблемы. В ближайшее время планируется открыть антикоррупционное направление в нашей организации, я его возглавлю, это уже решено, потом мы создадим свою партию, я уже придумала как она будет называться — «Правда народа»…
— Но ведь официально ты безработная, — прозаично оборвал Саймон высокий полёт мысли.
Диплом Онки защитила досрочно и теперь занималась практически только делами «ЦветкаДружбы», изредка подхалтуривая на складе или на стройке.
— Не тебя меня укорять, — отозвалась она запальчиво, — мужчины вообще могут не думать о труде, если нашёл умную денежную бабу, желательно с недвижимостью — всё, считай, устроен.
— Вот именно, — заметил Саймон с грустной иронией, — недвижимости у тебя как раз нет.
— А на кой она? — по-детски просияв лицом, удивилась Онки, — я пока не вижу прямой необходимости ее приобретать, у меня всегда была какая-никакая крыша над головой, сначала я жила здесь, потом в общаге, а теперь я сплю на раскладушке в офисе нашей организации. Это очень даже удобно: когда слишком много работы, жалко времени на всё, и на сон, и на перекусы, а уж тем более на дорогу туда-сюда в набитом метро, и будь у меня квартира, я бы, скорей, даже страдала, чем радовалась этому…
— Но не может же так продолжаться до бесконечности? Ведь однажды ты захочешь завести семью…
— Я пока не думала об этом.
Саймон прикусил губку.
— Мне казалось вполне естественным, что наши отношения со временем как-нибудь определятся…
Онки оборвала его:
— Куда им определяться? Ты даже поцеловать себя как следует не разрешаешь…
— Вот именно поэтому и не разрешаю. Я не уверен в наших отношениях, я даже не знаю, как их назвать. Дружеские? Приятельские? Какие?
Онки устало махнула рукой, она почувствовала уже, что это один из тех разговоров, которые обычно приводят к ссоре. Ей хотелось сейчас уйти, нужно было завершить кое-какие дела, разослать письма, проглядеть несколько документов. Объяснения с Саймоном всегда очень сильно выматывали её, выбивали из рабочей колеи.
— Я не буду больше с тобой встречаться. Не приезжай. — Выпалил он, отвернувшись.
Она видела его в профиль — плавно выпуклую длинную линию лба, немного крупнее обычного нос с точеным кончиком, ниточку поджатых губ. И в груди у неё кольнуло испуганно, сиротливо. Именно в этот момент Онки почувствовала, что происходящее между нею и Саймоном не затянувшаяся игра, не сон, но жизнь, и она требует настоящего деятельного участия, такого же, как и работа, а не небрежных мазков, касаний мимоходом, какие ей до сих пор доставались.
— Саймон, — она шагнула вперёд, развернула юношу к себе, трепетно заключила между ладонями его прохладные, сервизно изящные пальчики, — я люблю тебя.
Он едва ощутимо вздрогнул, попытался высвободить руку, но нерешительно, слабо. Справившись с собой, поднял на неё глаза. Взглянул строго.
— И что? Скажи, когда мы поженимся, то вдвоём будем спать на твоей офисной раскладушке?
— Да.
Не задумываясь, просто ответила Онки.
— Шутишь? — Саймон скривил обиженную ухмылку.
Только теперь отчего-то это было не так, как прежде, легко и забавно. Онки сразу стало холодно от этого единственного слова, от лица, снова отвернутого от неё, как будто захлопнутого.
— Вовсе нет, — сказала она мягко, будто извиняясь, — но говорят ведь в народе, что с милой рай в шалаше… — возникла небольшая пауза, — Ты меня любишь, Саймон?
— Нет.
Онки не верила, он не раз уже выдавал себя то взглядом, не в меру нежным, быстрым, украдкой, то сбивчивым дыханием и краской, налетающей на щеки, когда она брала его за руки… Она не верила, но слышать это всё равно было невыносимо больно. Сомнение шевельнулось холодное, как змея. Наслушавшись практичных рассуждений Саймона о её будущем заработке, Онки считала их отношения уже вполне определившимися, будущее представлялось ей ясным; она была убеждена, что дальнейшее решится со временем само собой… Но вдруг то были лишь самонадеянные иллюзии? Ни на какие догадки, пусть даже самые очевидные, нельзя полагаться полностью, когда речь идёт о чувствах другого человека…
— Уходи, — добавил Саймон странным, чужим тоном. Совершенно всерьез.
И одним этим словом Онки сразу была изгнана в одиночество; оно мгновенно выросло вокруг неё, огромное, гулкое, страшное. Но зачем-то она продолжала стоять, ещё надеясь, наверное, любуясь профилем Саймона, линией лба, до того простой в своем совершенстве, что ей казалось, будь у неё сейчас бумага и карандаш, она провела бы эту линию в одно касание.
Саймон тоже не двигался с места — он слегка приподнял голову и смотрел вдаль, на солнце, проглядывающее среди рваных облаков.
Онки в этот миг страстно пожалела о том, что она не художница.
Именно теперь эта линия лба в профиль, привычно восхитительная, но ускользающая, была особенно прекрасна. Она поражала ещё сильнее, чем прежде, своей ясностью, непостижимой точностью взмаха невидимой кисти — недосягаемость способна возводить обыкновенное в ранг божественного.
Лёгкий ветерок тронул прядь волос Саймона; взлетев, она удивительно изящно продолжила выше означенную линию, а разом осознанная безысходность потери врезала эту линию в душу Онки глубоко и ярко, по живому — словно татуировщик.
Онки привыкла растворять тоску в работе. Это гораздо конструктивнее, чем в пресловутом вине, да и действенней, вообще говоря. Потому что пока ты пьяная, весёлая и злая, пожалуй, хорошо тебе — ты расквашиваешь кулаком витрины и автобусные остановки, разудалая, лихая, бьёшь кому-то в нос, получаешь сдачи — но потом, когда ты просыпаешься, больная, разбитая, с горечью во рту и саднящими следами случайных драк, всё возвращается, но примешивается ещё непонятно откуда появившееся чувство вины.
Онки не понимала пьющих, её отталкивала их странная, произвольно направленная агрессия, равно как и их братское расположение, столь же спонтанно возникающее, как и неприязнь, и также случайно направленное. Она не пила сама никогда, однако отнюдь не была ханжой, считая, что натурам творческим, поэтессам, к примеру, или бродячим музыканткам с гитарами наперевес, некоторая слабость к горячительным напиткам даже к лицу и вполне простительна.
Было уже очень поздно, приехав из Норда Онки проработала до ночи, с остервенелым, упрямым напором — ей хотелось устать до ощущения звона в голове, до полного безразличия, до невозможности думать. Мысли о Саймоне возникали сквозь какой-нибудь бегло прочитываемый документ изредка, короткими всполохами, почти не мучая, не терзая… Но стоило только Онки закончить работу и прилечь на раскладушку — они вернулись, жадные, упрямые, точно стая мух, почувствовавших где-то падаль: сколько их не гоняй, они не отлетят далеко, будут кружиться рядом, в облаке душной вони, и ждать, когда снова выдастся возможность усесться на вожделенный кусок гниющей плоти…
Впервые за последние годы у Онки, уставшей допьяна, но бессонной, взвинченной, появилось совершенно осмысленное желание кого-нибудь ударить, что-нибудь сломать, разбить вдребезги, услышать задорный звон стекла, помчаться по улице… Как в детстве. Ей потребовалась разрядка.
Она встала, быстро оделась и вышла к машине. Ночной город лежал внизу, накрытый сетью огней — съехав с виадука, она углубилась в тихие, заросшие, скудно освещённые улочки спальных кварталов.
Искомое нашлось на удивление быстро. На одном из пустынных тротуаров две дюжие девицы, по виду пьяные, разогретые алкоголем, взбудораженные, с азартом избивали юношу определённой профессии. В руках одной из них колыхалась, поблескивая в фонарном свете, початая бутылка виски.
Онки остановила машину и вышла, громко хлопнув дверцей. Кулаки у неё радостно зачесались — вот, дескать, и правое дело подвернулось! Как нельзя кстати.
Девицы оглянулись. Обе здоровенные, крепкие, ладные, каждая почти на голову повыше Онки.
— Тебе чего, коза? — спросила та, что с бутылкой. Сразу неприязненно. С какой-то задиристой, наглой злобой.
— Парнишка чем вам не угодил? — Онки неторопливым кивком головы указала на юношу, сидящего на асфальте в глупой и жалкой позе, измятого, в разодранной рубашке… Он был молоденький совсем, лет семнадцати, с лицом пронзительно чистым, белым — свеженький, не затасканный ещё до слащавого мерзкого лоска обитателя борделя.
— Не твоё дело. Садись в своё ведро и езжай, нашлась тут героиня, мля, благородная заступница за дешёвых давалей.
— Вали-вали, — подтвердила вторая девица грозно.
И тогда Онки с видимым удовольствием, размахнувшись красиво, без суеты, четко впечатала первой по зубам, а другую, не слишком быстро сориентировавшуюся, грамотным выпадом сбила с ног, когда она, мощная, туповатая, как локомотив, тяжело и грубо бросилась вперёд, густо дыша парами алкоголя.
— Пошли, — сказала быстро, приподнимая за руку мальчонку, невесомого почти, расслабленного, как куклу.
Он едва поспевал за нею, слабый и нежный, оглядывался.
Девица с разбитым ртом, зажимая его рукой и громко мыча, пыталась их догонять, вторая полулежала на асфальте и грязно бранилась, неопределённо потрясая в воздухе кулаком.
— … Ах, ты! Мать твоя ханыга! … Будешь у меня землю грызть! Отца твоего бесчестье!
Онки остановилась, обернулась, готовая отразить новую атаку, если таковая последует, и невозмутимо отозвалась:
— Да ни отца у меня нет, ни матери. Никогда не было, и не надо. Нет худа без добра. Хоть в бесчестии всякая пьяная шваль их не обвинит.
Побитый мальчик испуганно потянул свою спасительницу за рукав, видя, что воинствующая нетрезвая особа неуклюже собирается подняться на ноги.
Онки, откровенно игнорируя несущиеся ей в спину матерные вопли, местами нечленораздельные, аккуратно открыла автомобильную дверцу и усадила юношу на заднее сидение. Он сложился легко, податливо.
Прежде чем обойти машину и сесть за руль, она скользнула по нему взглядом — сидел притихший, взъерошенный, трогательно пытался закутаться в клочья своей некогда нарядной «рабочей» рубашки, дрожал меленько — он ведь не мог знать наверняка, а вдруг случайная заступница обойдётся с ним не лучше?
Онки молча протянула парнишке свою видавшую виды потертую кожаную куртку.
Он покорно принял её, но глядел исподлобья, всё ещё с опаской.
— Эх ты… дурень…
И жалко стало этого по-детски ещё хлипкого, очевидно, совсем недавно оступившегося пацаненка до желания приласкать, защитить, согреть. Поломанный, втоптанный в грязь, но всё-таки красивый цветок… Онки просто хотела куда-нибудь втиснуть кулак. Она не планировала никаких подвигов. Героиня поневоле, мля…
Онки быстро и отчего-то брезгливо подумала о том, как выглядит она сейчас в глазах этого униженного и напуганного существа, подумала и о той незатейливой благодарности за спасение, какую это существо могло ей предложить, и о себе самой, со слюнявой радостью принимающей такую благодарность в каком-нибудь до крайности паршивом, по её-то карману, придорожном мотеле…
— Я тебя отвезу, — сухо пообещала она, отворачиваясь, — ты где живёшь?
Мальчик сзади сидел так тихо, словно его и вовсе там не было.
Автомобиль скользил по асфальту, позолоченному светом оранжевых фонарей. Онки угрюмо смотрела на дорогу.
Ей вспомнилась недавняя поездка в один из городских борделей, на который неугомонным девочкам из «цветка дружбы» удалось собрать компромат: владельцы данного заведения выплачивали налоги государству далеко не в полном объёме и, по заявлениям некоторых ответственных очевидцев, содержали несовершеннолетних сотрудников, проходящих по поддельным документам.
Проституция в Новой Атлантиде была полностью легализована, но облагалась несколько большим количеством налогов, чем другие виды бизнеса; трудиться же на благо данной отрасли народного хозяйства юношам разрешалось по добровольному волеизъявлению, но не ранее достижения ими восемнадцатилетнего возраста.
Разумеется, регулярно выявлялись какие-нибудь нарушения. Дело известное: купец жаден — больше налог, меньше прибыль… Да и набольшей популярностью у клиенток всегда пользовались именно юноши нежного возраста… Потому, несмотря на систему внушительны штрафов, введенных государством, почти во всех борделях велась двойная бухгалтерия: официальные оклады сотрудникам были мизерными, и львиная доля денег выдавалась им на руки под видом «процента с продаж», и, понятно, эти деньги никак не фигурировали в документах финансовой отчетности, — вдобавок к этому в большинстве домов терпимости существовали тайные прейскуранты, «только для избранных», по которым за хорошие деньги некоторые имели право практически на всё.
У борделя «Белое пламя» была сравнительно неплохая репутация. Регулярные обязательные полицейские проверки не выявляли никаких нарушений.
«ЦветокДружбы», однако, не полиция. Им не «галочка» в документе нужна. Знают девчонки, как обычно полиция проверяет подобные заведения: пройдет по комнатам лейтенанточка, ковыряя в носу, по попкам мальчиков похлопает; содержательница вынесет ей лучшего виски из личных запасов, посюсюкает с нею — и готово дело! — достанут бумагу и, разомлевшая в кресле от искусного массажа и льстивых речей, полисменочка всё подпишет и печатью жирно приложит. Сюжет на все времена.
Организация «ЦветокДружбы» с истовым упорством двадцатилетних идеалисток боролась с необоримыми монстрами человеческой лености, подлости и корыстолюбия.
Когда приехали, представились, естественно, новыми клиентками.
Полуодетый юноша в белоснежной просторной тоге и с лампадой в руках, проводил Онки и девушек в комнату ожиданий.
Атмосфера умиротворяющая: афродизиаки в курильницах, развешенных по стенам, приглушенный свет, мягкие подушки на большом ковре, бесплатное вино в высоком кувшине с кранчиком в боку, стоящем прямо на полу. Паршивое, правда, вино, но бесплатное. И безлимитное, если кому-то из гостий угодно. Хотя такого много не выпьешь.
Юноша провожатый шёпотом спросил каждую из девушек о предпочтениях: желают они блондинов, или темнокожих, или мулатов, уточнил, не принести ли на закуску фруктов.
Получив инструкции (которые заранее выдумали в офисе, давясь стыдливыми смешками) юноша в тоге удалился их исполнять.
Смелые девочки принялись за работу. Для начала Онки внимательно осмотрела помещение в поиске камер наблюдения. Затем в одну из пузатых подушек для сидения была зашита миниатюрная прослушка. Паршивое вино было нацежено в маленькую бутылочку для отправки в службу контроля качества.
Внезапно у входа в комнату ожиданий послышался шорох — точно кто-то пробежал мимо на цыпочках. Амина, отвечавшая за прослушку, застыла с иглой в руке. «Криста, дочь господня, спаси и помилуй, только бы не засекли!»
Она перекусила нитку и сунула иглу в карман.
Лиз, третья девушка в команде, осторожно высунувшись за дверь, стала свидетельницей престранной сцены: мужчины, разряженные в меха и перья, осыпанные сверкающей бижутерией, очевидно, сотрудники данного заведения, собравшись кружком и покорно кивая, выслушивали возмущенный шепот хрупкого мальчонки не старше пятнадцати, одетого в обыкновенную рубашку и джинсы.
Схватив подвернувшийся под руку стаканчик с приторным тёмно-вишнёвым пойлом из кувшинчика и притворившись сильно пьяной, Лиз выступила им навстречу. Онки, подкравшись к двери, включила диктофон. Так, на всякий случай.
Лиз сделала несколько неверных шагов по коридору, морщась, хлебнула из стаканчика, мастерски икнула; обведя обернувшихся на шум мужчин наглым оценивающим взглядом, она остановила его на мальчике в рубашке и заплетающимся языком изрекла:
— Эй, красавчик, ты мне больше всех тут нравишься… Я тебя хочу… сейчас прямо. Деньги вообще не вопрос… Проси сколько хошь… Всё продам! — девчонка экспрессивно разрубила рукой воздух перед собой, — Всё заложу!.. Это, понимаешь… Любовь… с первого взгляда…
Лиз эффектно качнулась и неловко уперлась рукой в стену.
Онки восхитилась про себя — голос подруги звучал действительно пьяно. «И чего она с театральный не пошла? Впрочем, хорошо. Нам тут в нелегком деле защиты народа всякие таланты нужны.»
— Это невозможно леди, — гордо заявил, обращаясь к Лиз, мальчуган, — я не работаю здесь, я содержатель данного заведения.
«Что за эрунда?» Онки и Амина переглянулись.
Вынув из подкладки пиджака бутафорский пистолет, Онки присоединилась к Лиз в коридоре.
— А ну кыш! Пошли все отсюда! — заявила она ряженым парням, направляя на них дуло.
Те сначала застыли, изумленно уставившись на незваную гостью, а потом, суетливо придерживая свои одежки, изобилующие драпировками и кокетливыми прорезями, двинулись прочь и по одному начали исчезать за боковыми дверями.
Тем временем Онки извлекла из-за пазухи фальшивый «серый билет» и ткнула им в лицо побелевшего от страха мальчонки, назвавшегося «содержателем».
— Служба Государственной Безопасности.
— Я… Я… Ничего не сделал… — лепетал он; между острыми крылышками воротника рубашки у него трогательно болтался на тонкой цепочке маленький золотой знак Кристы, дочери Господней.
— Вот именно, НЕ сделал, — Онки грозно выделила частицу «не», — ты налоги не заплатил.
— Это не я… Я… Я ни в чем не виноват. Я только месяц тут. Моя мать… Её застрелили в бандитской разборке. И я с тех пор. Один. Я не хотел…
Подросток был сильно напуган; его лицо и тонкая шейка едва не сливались цветом с рубашкой.
— Ладно, — Онки опустила пистолет, сзади к ней подошли Лиз и Амина.
Мужчины в броских одеждах начали любопытно высовываться из своих дверей.
— Рассказывай по-хорошему, — велела Онки, — какого черта тут происходит?
— Кто производитель этой дряни? — Лиз сунула парнишке под нос стаканчик, — есть лицензия на реализацию алкогольной продукции в розлив?
Тот инстинктивно вздрогнул от резкого запаха спирта.
— Простите… Говорю… Только месяц я… Ничего сам ещё не понял. Моя мама…
Он смотрел на Онки и девочек круглыми светло-серыми глазами, широко распахнутыми от ужаса и усилий, направленных на то, чтобы доказать свою невиновность. Худенькая грудная клетка его почти зримо сотрясалась под ударами растревоженного сердечка.
— Вы… Вы ничего плохого со мной не сделаете? — он еле шевелил потерявшими цвет губами; в нём говорил совершенно детский страх побоев и наказания.
При этом он умоляюще смотрел на Лиз — самую высокую и мускулистую.
Она сделала над собой усилие, чтобы не разразиться хохотом:
— Ну… ни убивать, ни калечить тебя мы точно не собираемся, мы же не преступницы-душегубки, а слуги народные, правдолюбивые… Впрочем, наверное, судя по тому, кем была твоя мама, ты привык к определённому окружению…
Парнишка в этот миг сделал резкое движение, слава Всеблагой, что Лиз удалось быстро среагировать, она отскочила в сторону, а Амина вывернула юнцу руку.
На пол с глухим звуком упал штопор.
— Ты что это? Мы же с тобой только поговорить хотим. По-доброму…
— Пожалуйста… Только… Не трогайте меня, — в глазах парнишки блеснули слезы, — Я знаю, такое заведение держать нужно по закону, но я не виноват, я ничего не понимаю, мне женщина нужна, жена, потому прошу… Оставьте меня… Если что… То кому я нужен буду…
Две крупные слезы, набухнув наконец и выкатившись из его глаз, прочертили по щекам блестящие дорожки.
— Ах вот ты, оказывается, какой, бедный сиротка! — воскликнула Лиз, внезапно догадавшись, чего именно он боится, — другими мальчиками, значит, торгуешь, своими ровесниками, между прочим, а сам честь хранишь?
— Свечу на солнце не видать, зато в подвале она сама солнцем кажется. Уж где целомудрие в цене, так это в стенах борделя, — с саркастической улыбкой заметила Амина.
…Онки задумчиво глядела на дорогу. Мальчик на заднем сидении задремал. Они покинули тогда «Белое Пламя» после того, как самый решительный сотрудник, в коже и с венком из перьев павлина на голове, позвонил в полицию.
— У нас тут беспорядки! Пьяная клиентка угрожает пистолетом! — дребезжащим голосом сообщил он диспетчеру.
Пришлось смываться.
Неделю спустя Лиз поймали на улице и порядочно избили какие-то девицы. Ей сломали несколько ребер, раздробили два пальца и вывихнули челюсть.
Онки не давала покоя мысль, что несчастье с подругой как-то связано с посещением злосчастного борделя.
В зеркало заднего вида она снова посмотрела на своего пассажира. Спит. Аж будить жалко. Натерпелся за день. Даже адреса своего толком назвать не смог.
«Ладно. Повезу к себе. Пусть на моей раскладушке дрыхнет. А я посижу ещё. Почитаю.»
При осмотре внутренних помещений базы перед визитом комиссии из штаба Тати Казаровой случилось заглянуть в карцер. Недовольно нахмурившись, она ощупывала взглядом стены — щербатые, сырые, рыхлые как будто — и вдруг приметила на одной из них выцарапанные буквы:
АЛАН
Конечно, кто-угодно мог написать здесь эти четыре буквы, и мало ли на свете разных парнишек с таким именем, чьи длинные ресницы тревожат сердца солдатские? Но почему-то при виде этой надписи в груди у Тати нехорошо кольнуло. И сразу вспомнилось лицо сержанта Шустовой, сумрачное, суровое, без тени улыбки, в тот жаркий слепящий полдень, когда полковник Мак-Лун на плацу перед недвижным строем прикалывала Рите первый её Крест. Потом неожиданно всплыла, поднялась на поверхность озера памяти, словно потревоженная водоросль, старенькая рубашка Алана, сорванная с него и брошенная через плечо — была на ней, кажется, малюсенькая булавка, где-то сбоку, на воротничке…
«К чёрту, к чёрту!» — Тати сделала невольное движение рукой, точно пыталась отмахнуться от неугодной мысли как от мухи.
— Отдраить здесь всё как следует! — приказала она застывшим за её спиной в ожидании девочкам. — Все надписи на стенах шкуркой свести!
Именно сейчас она разозлилась на это имя, красивое, нежное, со страстным придыханием гласной в начале и с мягкими согласными — А-лан — разозлилась на то, что это имя дано было такому очаровательному и порядочному юноше… Совесть никогда не забывала при случае напомнить Тати, что она его опозорила и оставила с дочкой на руках.
— Трите, трите! — напутствовала она девочек, — Живее! Комиссия вот-вот нагрянет. Не слишком хорошо выйдет, если вас застигнут со швабрами в руках.
Поведение сержанта Шустовой теперь настораживало Тати: её взгляд, останавливаясь на командире, задерживался чуть дольше, словно зацеплялся, становясь отчего-то холодным, зловещим, будто дуло — и у Тати внутри всё напрягалось, натягивалось под прицелом этого взгляда, не от страха, нет, от какого-то смутного то ли предчувствия, то ли намерения.
Рита метала гранаты легко, как резиновые мячики, бежала всегда впереди, падала за случайные преграды, спасаясь от лавины огня и летящего каменного крошева, но судьба хранила её, черт возьми — она всегда возвращалась, исцарапанная, чёрная, усталая, и неизменно приводила назад своих девчонок, вызволяла свои машины, и победа, распластав рваные гордые крылья, реяла у неё за плечом.
Всякий командир должен гордиться таким бойцом. И Тати Казарова гордилась, пожалуй, только как-то тревожно, вымученно; слишком уж осторожно она заглядывала в глаза Риты, будто в обрыв, когда проходила вдоль монолитно застывшего строя…
А сейчас, после посещения карцера, капитан Казарова поняла окончательно, что поговорить придётся, чтобы внести, наконец, ясность, и сделать это лучше, если выражаться метафорически, убрав в ящик стола свои погоны — как человек с человеком. Она поднялась в кабинет и попросила Зубову прислать Риту.
— Это твой мальчик был?
Спросила сразу, без предисловий. Кровь толчками приливала к голове. Рита стояла перед нею как перед командиром, ровно, почти недвижно, в ее позе чувствовалось внутреннее сосредоточение, но в то же время она не была напряжённой, нервной. Отменный боец. Чистое молодое лицо, длинная шея, трогательно прижатые небольшие уши на бритой голове без кепи.
— Да, мой, — ответила Рита не по уставу. Глядела смело, спокойно. Даже с интересом. Серебристый Крест у неё на груди поблескивал неярко, со скромным достоинством.
— Извини, — сказала Казарова, мысленно проклиная себя за интонации, то излишне самодовольные, в самом начале, то чересчур робкие, просительные. Добавила глухо:
— Я не знала ничего.
— Вам не обязательно было извиняться, — ответила Рита, подумав, — вы командир.
— Но ведь ты бы извинилась, то есть ты же извинишься… когда станешь командиром, — сказала Тати и попробовала дружелюбно улыбнуться. Всё-таки перед нею стояла одна из лучших девочек дивизиона. Её любимица, нельзя не признать.
— Извинюсь, — ответила Рита, не отразив улыбки, — если будет за что.
И ничего не прибавила, прощаясь. Приняла как должное. Тати думала, что Рита будет её благодарить. Не стала. Только взглянула, долгим, но как будто чуть потеплевшим взглядом. Герои знают цену словам. И вышла, отдав честь.
Кора Маггвайер удивительным образом сочетала в себе замкнутость и жадное любопытство к жизни: редко вступая в разговоры и тем более рассказывая о себе, она неизменно прислушивалась к окружающим, ловила случайные слова, что они произносили, присматривалась к жестам, мимике, подмечала привычки.
Впоследствии всё это, причудливо приломившись в её воображении, складывалось подобно оригами из разноцветной бумаги в крылатые образы и обильно осыпало страницы её блокнота, превращалось в стихи.
Армейской службе, вмешавшаяся в судьбу Коры, не удалось в достаточной степени повлиять на ее характер; она по прежнему любила бывать одна, часами сидела в офицерской, либо в кресле, подобрав под себя ноги, либо на стульчике в углу — ничего не изменилось со времен Норда, где она точно так же, вдали от всех, на пустынном футбольном поле, или на скамейке в аллее, предавалась радостям общения со своим внутренним, загадочным, как заросший пруд, зыбким, бездонным нечтом, которое, получив от внешнего мира незначительный толчок, вроде маленького камушка, брошенного в воду, рождало в ответ неожиданное, грандиозное, красочное — величественный парусный корабль, возникающий из тумана…
За Корой прочно закрепилась репутация этакой спокойной чудачки, девочки не от мира сего, над ней подтрунивали, впрочем, беззлобно; уважали, отмечая ее исполнительность, порядочность, готовность помочь товаркам, если нужно; ненавязчивое, но твердое стремление к справедливости.
Как ни странно, Кора и Рита Шустова практически не общалась — могли переброситься парой слов на правах выпускниц одной и той же закрытой школы, но не более; Рита, вероятно, стеснялась навязывать дружбу старшей по званию, а Кора не настаивала, не желая ее смущать; впрочем, виделись они нечасто — служили в разных корпусах базы, и посему общее детство не причиняло им особого беспокойства. Один раз они разговорились только, когда в новостных лентах промелькнуло имя Онки Сакайо в связи со скандалом вокруг строительной компании «ШирокиеГоризонты».
— Ишь ты, куда забралась, — с улыбкой подметила Кора, — в новостях про неё пишут.
— А как же, — подтвердила Рита, улыбаясь тоже, не без тайной гордости за однокашницу, — Я всегда знала, не сможет она без того, чтобы в самое пекло влезть.
Так и разошлись, поулыбавшись друг другу, скрепив рукопожатием тоненькую связующую нить, неразличимую, невесомую, сотканную из смутных воспоминаний и нынешней далекой тени Онки Сакайо, что каким-то неведомым чудовищным рывком угодила на поверхность бескрайнего моря мировых событий.
Блокнот свой Кора на ночь всегда клала под подушку, перелистывала, когда недовольно морщась, а когда с нежной блуждающей улыбкой; мир на его страницах по-прежнему был красив и тонок, цветы цвели ярко, солнце светило щедро, ласково, но и сюда, как-то незаметно даже для самой Коры вошла суровая тень войны, оставив на всех предметах свой тёмный сумрачный отпечаток.
«Бежим в потоках алой лавы, неся сердца, как маяки… Как будто просто для забавы: в горелки, в прятки, в огоньки… Ведь был приказ — бежать не падать. Давай, боец, не подведи. Ведь умереть героем — радость… С письмом, пригретым на груди…»
После побега Аллис Руэл прямо с бала во Дворце Съездов, Эдит, разумеется, в тот же день потеряла место начальницы губернаторской службы безопасности.
— Ты где была, век любить тебе черенок лопаты, Хэйзерлей, пока она в окно вылезала!? Я уже молчу про тех ротозеев, что оставили его открытым! Очень многие сегодня будут уволены…
— В гневе вы страшны, — прокомментировала Эдит с тонкой улыбкой.
— Что?! — леди Губернатор забавным резким движением приподняла брови; с растерянным удивлением, ещё не успевшим смениться яростью, она взирала на бывшую охранницу.
— Ничего, — ответила Эдит быстро, не прекращая улыбаться, а только шире растянув губы, дабы подчеркнуть, что её опасная острота достигла цели, — я только хотела сказать, что я одна во всем виновата…
— Так где ты была? — Губернатор перебрасывала с одного места на другое папки на столе, — заявление твоё уже подписано, и я не особенно верю, что найдутся оправдания, способные тебя реабилитировать, но всё же… Мне просто любопытно.
— Я была в туалете, понимаете, в сор-ти-ре, в толчке, если угодно, — с улыбкой, ослепительной, как ювелирная витрина, Эдит нарочито конкретизировала до абсурда свой предельно простой ответ.
— Вон! — завопила леди Губернатор, стремительно краснея всем своим полным красивым лицом, — чтобы глаза мои тебя не видели! Купи себе слабительное! Это значительно сэкономит твое драгоценное время и большую часть его позволит проводить именно на рабочем месте!
Несколько секунд она стояла, тяжело облокотившись на стол, приводя в порядок дыхание, всё еще раздражённая; до ее слуха донесся из коридора лёгкий молодой смех удаляющейся Эдит…
«И что мне теперь делать?» — выйдя на крыльцо мэрии, девушка доброжелательно сощурилась на солнце, — «Работы нет, репутация подмочена бензином… Эх, жизнь…» Вспомнились нежные руки Малколма, обвивающие шею. Так тепло, ласково. «А и ладно!» — Эдит шаловливо махнула рукой, словно отбросила этим жестом от себя прошлые разочарования, вприпрыжку сбежала по ступенькам и веселым шагом пошла по яркой весенней улице, насвистывая какую-то популярную песню.
Навстречу ей попалась девчонка, раздающая листовки:
«В бар требуются сотрудники охраны. Наличие лицензии обязательно.»
«Пойти что ли вышибалой?» — подумала Эдит безо всякой досады, — «А что? Неплохая идея. Добросовестные и вежливые вышибалы, кстати, большая редкость.»
Она улыбнулась собственным мыслям и, сложив пополам, убрала листовку в нагрудный карман.
Онки подвернулся один удачный проект, на котором она неплохо подзаработала. Денег, конечно, было не настолько много, чтобы считать, будто уже имеешь серьёзный задел на будущее, но вполне достаточно для того, чтобы потерять голову.
Она тут же купила себе новую машину. Нет, конечно, Онки не планировала заранее своё феерическое появление перед отдельными личностями «вот смотрите какая я, Всея Вселенная Императрица» — это вышло само собой — купила, как же не прокатиться с ветерком… А куда ехать? На ум приходило только одно место, куда ведёт замечательно гладкое и пологое шоссе, за его состоянием следят тщательно, дабы всегда мог без особых проблем проехать кортеж самой Афины Тьюри… Это Норд. Онки и поехала туда. По пути, уже скорее баловства ради, она была почти уверена, что Саймон даже разговаривать с нею не станет, купила в бутике элитного мужского белья шелковую пижаму с кружевами ручной работы. Деньги выложила легко, точно краденые. «Если откажется, найду кому подарить…» — мелькнула мысль, одновременно и практичная, и озорная.
Она отправила ему электронное сообщение, соответствующее привычному жгучему колкому стилю их общения: «Ждёшь ты там или уже перестал, я всё равно приеду. Сегодня.»
Когда юноша вышел встретить её к воротам, Онки слегка оторопела, она не ожидала, что обычно очень упрямый Саймон так запросто её простит. Однако он вышел, и очевидно, простил, причём давно, на лице у него читались смущение и радостная растерянность — он, вероятно, уже успел смириться с мыслью, что своим поведением окончательно оттолкнул Онки, и не верил в возможность возобновления отношений…
Саймон немного подрос — она заметила это сразу, досада больно ткнула её в бок: «Теперь придётся постоянно носить неудобную обувь на высоченных каблуках, чтобы не выглядеть рядом с ним несолидно — так не принято, чтобы мужчина был сильно выше ростом…»
— Это тебе, — сказала Онки, сунув ему пижаму; ей не хотелось неловкой паузы с мучительным поиском темы для разговора после долгой разлуки.
Саймон взял нерешительно, потрогал плотную бумагу пакета, в котором лежала коробка с прозрачным окошечком, заглянул в это окошечко, и когда всё понял, посмотрел на Онки укоризненно:
— Я не возьму… Это же просто неприлично… делать такие подарки!
— Я хочу, чтобы ты спал в этой пижаме, — ответила она просто, — и желательно рядом со мной. Что тут неприличного, в самом деле?
Саймон покраснел, но не стал совать пакет Онки обратно, оставил у себя. Опустил руку. Острый уголок пакета ощутимо клюнул его в бедро.
Бегло и, кажется, почти без интереса глянув на шикарный новый автомобиль, на котором приехала девушка, он спросил совершенно серьезно:
— Ты решила свои финансовые проблемы?
Онки немного обидела прохладная реакция Саймона. Ведь покупала она это действительно дорогое двухместное спортивное авто (теперь пришлось с неудовольствием признаться в этом самой себе) всё же с тайной надеждой вызвать его восхищение.
— Хочешь прокатиться?
Он отрицательно помотал головой.
— Не трать бензин понапрасну… Нефть в земной коре, говорят, уже может скоро закончиться.
Он замолчал, повернув голову в сторону машины, на чистейшем капоте которой застыл большой блик, словно лужица. Подошёл к ней, прикоснулся пальцами к идеально гладкой скользкой поверхности. И вдруг спросил:
— А жить мы где будем?
Онки отметила, что в устах Саймона этот вопрос прозвучал так, будто бы он уже согласился стать ее мужем. Как же долго она ждала этого момента! А теперь почему-то даже почти не обрадовалась. Нет, конечно же, радость была, но просто уже не безумная, не перехлёстывающая через край. Спокойная такая, уверенная в себе радость.
— Жить… Эм… Придумаем что-нибудь, — сказала она уклончиво, попытавшись завладеть его рукой.
— Я так и знал, — сказал Саймон с тихой грустной улыбкой, ловко, но необидно вывернувшись от неё, — тебя вообще нельзя воспринимать всерьёз. Ты вот хочешь заниматься политикой, быть «слугой народа», как говорится… А в жизни положиться на тебя при этом нельзя. Уже тренируешься что ли? Заранее? Чтоб существовать точно на предвыборных плакатах — обещаний на миллион, а реальные дела гроша ломаного не стоят?
— Не говори так, — сказала Онки резко, без малейшего намёка на прежнее игривое настроение, — если я сказала придумаем, значит, придумаем. Ни в каком деле, Саймон, кроме, пожалуй, мытья стекол, результат приложенных усилий не виден сразу и в полном объеме, потому со стороны и кажется, что политики только обещают, но ничего не делают. Это не так. Большая работа стоит за их словами, огромная работа.
— Быть может, — произнёс Саймон с оттенком сожаления, — и всё равно тебе не следовало бы кидать деньги на ветер.
Онки начала раздражаться, точно так же, как и всегда, когда ей казалось, что ее пытаются научить жить, навязать ей совет или собственную волю. Особенно она злилась, если это исходило от мужчины. Пусть сидит себе на лавочке и молчит, место своё знает… Но она не хотела ссориться с Саймоном, а потому быстро обуздала свой гнев:
— Теперь не сезон помолвок, — сказала она, направляясь к машине, — к весне видно будет. У меня много работы пока.
Саймон не ожидал такого поворота событий, он растерялся, сделал несколько шагов к Онки, попытался удержать ее за руку. В лице его мелькнула нежность, пугливая, и оттого еще более очаровательная. Возле дверцы автомобиля они стояли друг напротив друга, Онки уже взялась за ручку.
— До весны, — произнесла она спокойно и сделала гораздо меньше, чем он позволял ей своим долгим, непривычно щедрым взглядом — просто слегка коснулась губами его свежей прохладной щеки.
И села в машину. И уехала.
Саймон еще постоял за воротами, бестолково перекладывая из одной руки в другую пакет с дорогим подарком, проводил глазами плавно скользящий по шоссе автомобиль; его окликнул вахтер, заглянув в распахнутую калитку — пора, дескать.
Поднявшись к себе, юноша поставил пакет на стол, сам сел рядом, свесив длинные ноги. Глотнул из стакана простывший чай, оставленный после завтрака. Зачем-то полистал найденную неподалёку тетрадку по геометрии. Спрыгнул на пол. Снова будто бы нерешительно взял пакет со стола. Подержал, любуясь тесненным логотипом модного магазина, потом раздвинул глухо похрустывающие края, извлёк коробку. Несколько мгновений смотрел на неё, потом, торопясь, раскрыл, достал пижаму…
Кремовый шёлк, холодный и ласковый, словно ключевая вода, заструился у него в руках. Саймон прижал его в груди, утонул лицом в невесомом пышном облаке, словно в большом цветке, пахнущем нежно, волнующе…
Ему вспомнилось, что мальчишкой еще, лет в одиннадцать, как раз, наверное, после отъезда Онки в университет, он видел один сон и потом очень стыдился за него перед самим собою — Саймону приснилось тогда, будто бы Онки целовала его, долго, нагло, почти не давая дышать, но ему это казалось отчего-то таким прекрасным, словно ничего лучше просто не может быть…
Перебирая пальцами скользкий шёлк пижамы Саймон любовался мягкими сливочными переливами цвета.
Онки.
Теперь он хотел, причём вполне осознанно, чтобы она его целовала, как в том сне — да чего уж там! — еще крепче и слаще; он хотел, пусть даже пришлось бы ютиться вдвоём на узенькой раскладушке, открытой всем ветрам, в этой ее треклятой богадельне — какая, в конце концов, разница, — ведь теперь он был уверен — внутри у Саймона теплело и радостно ёкало всякий раз, когда он представлял себе круглоглазое лицо с пушистыми завитками надо лбом, или повторял медленно, смакуя губами, совсем короткое, немного смешное имя…
Онки.
Она не любила вспоминать этот незначительный эпизод своей биографии, но сейчас он всплыл вдруг, словно давным-давно затопленная в пруду улика, выпал, как выпадает из шкафа алкоголика пустая бутылка из-под выпитого тайком от родни…
Около двух лет назад на благотворительном аукционе рисунков детей-сирот она случайно встретила Малколма, который, недавно лишившись очередной поклонницы, находился, что называется, на мели, то была их первая встреча после Норда; они посидели в баре, где Онки ела, по рекомендации своего весьма искушенного в роскоши товарища, салат из морских водорослей и еще чего белого и склизкого, она спросила у официанта, но названия не запомнила всё равно; сам же Малколм употребил несколько крепких коктейлей, после чего его пришлось укладывать на пресловутую раскладушку в офисе организации, где обычно коротала свои одинокие ночи Онки… Потом целую неделю они прожили под одной крышей, питаясь переваренными макаронами с тошнотворным запахом сала, что готовились в общественной столовой «ЦветкаДружбы» для бомжей, людей «находящихся в трудной жизненной ситуации» и прочего сброда, забредающего на огонёк. Вечерами сидели вдвоём: Малколм с трогательным рвением помогал разбирать бумаги, отвечать на письма. И Онки, опьянённая то ли жалостью, то ли некстати проснувшейся ностальгией, зачем-то сделала ему предложение. Малколм очень сильно смутился, благодарил её, конечно, за оказанную честь, юношам в его положении нечасто представляется возможность начать нормальную жизнь, вступив в брак, но, разумеется, отказал. Пробормотал что-то смутное о своих прочно уже укоренившихся пагубных привычках, душевной лености и невозможности разделить прогрессивные взгляды Онки на жизнь и общество, тактично отметил, что не заслуживает внимания такой девушки, однако, не преминул заверить ее в своей непоколебимой готовности к дружбе и сотрудничеству — то есть употребил практически все готовые фразы из набора «классический отказ от вступления в брак». Онки сначала огорчилась, конечно, но, проанализировав ситуацию, в конечном итоге пришла к выводу, что Малколм проявил мудрость и изрядное мужество, поступив именно так, а не иначе… Онки осталась ему благодарна.
Но сейчас, когда у неё в душе созрела настоящая готовность сделать предложение юноше, обусловленная чувством, а не мимолётным настроением, эти воспоминания стали вызывать раздражение. Как будто бы неудачным сватовством Онки нарушила свою целостность, безвозвратно утратив какую-то часть своего «я»: словно пакет с водой, проколотый иголкой — много, может, и не вытечет, но всё равно уже не то…
А если об этом узнает Саймон? Ведь он ревнив, кажется, в той превосходной степени, когда для ревнивца не существует ни прошлого, ни будущего — все бывшие и грядущие возлюбленные его избранницы, словно призраки, существуют здесь и сейчас, не давая ему покоя. Онки улыбнулась, вспомнив эпизод в гараже — Саймон же был тогда совсем крошкой!
Она удивлялась тому, что не могла точно определить, когда именно возникло это почти мистическое притяжение между ними — оно уходило корнями в зыбкую бездну прошлого… Когда она вернулась в Норд наставницей? Или гораздо раньше, еще в детстве? Или, может, оно существовало всегда, это притяжение, даже то того, как они узнали друг друга, оно то и нашло их, чтобы соединить, и теперь не даст им разделиться, даже если они растеряются, разлетятся далеко, словно отпущенные в небо воздушные шары…
Саймон общался с Малколмом по электронной почте, и о предложении Онки, конечно, знал, причём с того самого дня, в который оно было сделано, однако старший товарищ умудрился пересказать ему эту историю в таком ключе, что она представлялась скорее курьезной, чем сколько-нибудь значительной (как в старых анекдотах «выпил-проснулся-женат») и не могла никого всерьез обидеть.
ГЛАВА 17
Деятельность «ЦветкаДружбы», направленная против коррупции, организовывалась, разумеется, неумело, по-детски — чему, собственно, не приходилось удивляться, ведь сам по себе «Цветок» был и оставался всего лишь студенческим кружком — девчонками и ребятами проводились, как правило, разовые акции, имеющие целью вывести на чистую воду конкретного, по каким-то причинам не внушающего доверия представителя власти. По большей части, конечно, такие акции завершались провалом, но случались и вполне успешные. В некоторых Онки Сакайо участвовала лично, а остальные, обычно, не обходились без её идейных решений и организаторской искринки.
Зубастую акулу, однако, нельзя одолеть без зубов — отважным правдолюбцам приходилось временами ходить по самому краю закона — и это не замедлило принести свои горькие плоды. Однажды, когда Онки, чтобы установить прослушку, влезла ночью в кабинет одной муниципальной чиновницы, на которую сильно жаловались жители района, на вой включившейся сигнализации примчались сразу три полицейские машины — девушку арестовали и доставили в участок.
Дело завели сразу, причём достаточно серьёзное.
— Несанкционированное проникновение в здание, принадлежащее администрации города, — бормоча себе под нос, забивала в компьютер капитан полиции, — какого черта за хвост ловить тебе там понадобилось?
— Готовила сюрприз ко Дню Освобождения прославленному молвой народной герою административной службы, — отвечала Онки мрачно.
— Шуточки шутить будем? — спросила ментовский капитан неприязненно, — давай колись, расскажешь всё, скорее отпустим, — на последних словах интонация капитана несколько переменилась, перейдя от резкой обвинительной к воспитательной, вкрадчивой, что не слишком понравилось Онки, — Пусть ты даже кнопок на стул насыпать хотела, как эти дураки из оппозиции, я должна знать. Мы — опора страны, всё нас касается, что если вы под шумок государственный переворот готовите?
Товарищи из «Цветка» добились, чтобы Онки Сакайо выпустили под залог, но, оказавшись на свободе, она находилась под неусыпным надзором полиции и должна была регулярно являться в участок. Ей запретили выезд из страны, и даже в Атлантсбурге патрульные нередко останавливали ее машину, пристально всматривались в лицо и надоедливо мусолили документы.
Онки в принудительном порядке устроили на работу в государственную столовую Народного Совета и обязали ежемесячно по частям выплачивать городской администрации штраф в размере трехсот тысяч атлантиков. Теперь она вынуждена была ежедневно проводить четыре часа своей жизни, прислуживая депутатам за обедом, складывая тарелки в посудомоечную машину и выпотрашивая нутро маленьких ползающих роботов-мусоросборников.
Случилось всё как назло весной, перед началом цветения тюльпанов, и с таким вот «багажом» Онки должна была ехать в Норд делать предложение Саймону, раз уж обещала.
Сезон помолвок — самое удивительное время в году, когда вся столица преображается, принаряжается к этому великому празднику самой жизни: в каждом дворе, сквере, парке, на грядках, на клумбах, в лотках и в кадках на балконах — везде поднимают свои тугие головки разноцветные тюльпаны. Желтые, фиолетовые, пятнистые, тигровые, торжественные белые, кремовые, ярко-алые, бордовые, строгие чёрные… И вечера необыкновенно нежные, золотистые, нежаркие; из раскрытых окон слышится музыка, звон бокалов, веселых смех гостей; на балконах девушки увлеченно целуют своих юных хорошеньких женихов…
Онки Сакайо ехала, опустив стекла. Ей не хотелось терять неповторимый аромат весеннего города. Притормозив возле огромной клумбы в виде флага Новой Атлантиды — тюльпаны разных цветов были высажены группами в соответствии с узором на полотнище — Онки Сакайо выбрала для Саймона самый красивый цветок, прохладный, сочный, с шелковистыми, плотно сжатыми пока лепестками, по обычаю — белый, бережно срезала его и положила на переднее сидение почтительно, точно пассажира.
— Ты ведь знаешь, у меня есть право подумать несколько дней, — сказал юноша сдержанно, принимая от неё этот символ предложения руки и сердца.
Они в молчании прошли несколько десятков шагов по аллее.
— До меня дошли слухи, будто у тебя неприятности с законом? — Саймон остановился сам и удержал за руку Онки. Теперь они стояли в центре усыпанной песком парковой дорожки друг напротив друга.
— Да, — подтвердила Онки с обескураживающей улыбкой, — ничего серьезного. Влезла ночью в окно районной администрации. Забудь…
— Не вижу тут ничего смешного.
Слова Саймона прозвучали так, что она тут же перестала улыбаться. Ей всегда становилось не по себе, когда он подобным образом преображался, становясь невообразимо далеким, холодным, строгим.
— Опять этот твой студенческий клуб?
Онки кивнула.
Он ничего не говорил, продолжая смотреть на неё испытующе. И тогда будто бы оправдываясь — ей самой не слишком понравилась собственная интонация — она призналась:
— Понимаешь, я чувствую, что это дело — моя жизнь.
— А я? — спросил Саймон без тени кокетства, серьёзно и чуть грустно, ни на миг не отпуская её взглядом.
Онки видела перед собою его глаза, огромные, как небо, изумрудное небо выдуманных миров, и она не смогла побороть преувеличенность впечатлений, характерную для влюблённости, схватила его руки в свои, поцеловала каждую, и зашептала, быстро, горячо:
— Ты тоже моя жизнь, другая её сторона. У монеты две стороны, понимаешь, и без этого она не будет монетой, точно также, как и жизнь не будет настоящей жизнью, заполненная чем-то одним. Две стороны одной монеты, понимаешь, — повторила она с силой, — и я не могу выбрать между ними…
Саймон вырвал свои руки у неё.
— Значит ты не любишь меня.
— Ну а что тебе надо? Чтобы я отказалась от всего и сидела бы весь век рядом с тобой? — выпалила она с прорвавшимся раздражением. «Опять он обиделся, вот холера!» — пронеслось у неё в голове.
— Да, — сказал Саймон просто. Приоритет счастья вдвоём перед всеми остальными ценностями казался ему естественным.
— Ты хочешь привязать меня к себе, — воскликнула Онки, уже не стараясь скрывать поднявшийся в ней гнев, — обрезать мне крылья? Это так по-мужски… Я не потерплю такого. Женщина — свободное существо, созданное для полёта, а не для жалкого копошения в быте…
Она умолкла, не без труда притушив нарастающее негодование.
— А как же любовь? — спросил Саймон, погладив пальчиками лепестки принятого от неё цветка. Тюльпан, белый, как первый снег, как чистый лист, как мгновенная слепота от яркого света, сиял у него в руках, будто бы укоряя Онки, обличая её во лжи.
— А что, по-твоему, любовь должна мешать делать главное дело жизни? — возмутилась она, — к чёрту тогда такую любовь!
— И к чёрту дело, которое мешает человеку быть счастливым в личной жизни, — в тон ей ответил Саймон.
Он срезал сразу два тюльпана, красный и чёрный, на всякий случай, чтобы иметь возможность изменить своё решение в любой момент, даже в самую последнюю секунду. По обычаю, следовало положить цветок-ответ в обитый чёрным бархатом футляр. Саймон положил два цветка рядом и закрыл крышку.
Поставив футляр на колени, он стал размышлять о каждом цветке в отдельности. Приятнее было, конечно, думать о красном. Волна ласковых мурашек пробегала у него по позвоночнику, стоило только Саймону начать представлять себе всё то, что могло бы начаться сразу вслед за волшебным мгновением, когда Онки, подняв крышку футляра, обнаружила бы внутри яркий, как пламя, тюльпан.
Юноше легко, радостно воображалось, как они поедут на такси в мэрию, а потом в отель, и по дороге она непременно будет целовать его, опрокинув на заднее сидение, как в кино; а потом, уже в номере, деловито, но немного взволнованно, Онки своими руками развяжет его элегантный праздничный галстук и по обычаю выбросит из окна отеля, он полетит красиво, словно клочок серпантина, и они, обнявшись, проследят за его падением — ночью или ранним утром прохожие часто находят галстуки на асфальте, особенно весной и летом, в сезон помолвок; говорят, хорошая примета — найти галстук — согласно поверью, счастье тех, кто его бросил, небольшою своею частью озаряет нашедшего…
Онки стояла около ворот, взволнованная, немного бледная, усталый вид ее говорил, что, скорее всего, она в последнюю ночь не спала, заглушала тревогу работой, пила чёрный кофе, нервно покачивая под столом ногой, поминутно взглядывала на настенные часы, дожидаясь утра…
Саймон одевался особенно тщательно. Подвел глаза, подчеркнул ресницы — как всегда — несколько точных взмахов кисточкой… Глянув напоследок в зеркало, он несколько раз провел пуховкой по щекам, заметно побледневшим, осунувшимся; он слегка нахмурился, обнаружив этот изъян, хотя благородная бледность нисколько его не портила, а напротив, подчёркивала изящество образа — облаченный в белоснежную вышитую сорочку с широкими рукавами, хрупкий, тоненький, с огромными, в пол лица, зелёными глазами он казался сошедшим с картинки, изображающей прелестного малокровного принца какой-нибудь древней вымирающей династии.
В отделанном бархатом ритуальном футляре всё еще лежало два тюльпана — чёрный и алый.
Завидев Онки издалека, Саймон замедлил шаг; у него оставалось всего несколько минут, чтобы принять самое главное в его жизни решение, и он никак не мог принять его. Обиды и желания боролись в нем, бились, точно птицы в воздухе, сердечко трепыхалось под нарядной рубашкой, предвкушение скорой развязки пробегало по позвоночнику, как по клавишам рояля, быстрыми холодными пальцами. Саймон зажмурился. «Досчитаю до пяти и решу…»
Он стоял, притаившись за деревом в нескольких шагах от Онки. Внезапно у неё зазвонил мобильный. Она ответила, и Саймон стал невольно прислушиваться к тому, что говорилось, слов он не мог разобрать, но судя по всему Онки энергично, горячо доказывала кому-то что-то, и в этот момент для неё на свете не существовало ничего, кроме собеседника на другом конце волны, несущей сквозь пространство сигнал связи — Саймон готов был поручиться, что появись он сейчас из-за дерева, она бы отмахнулась от него как от мухи, настороженно прислушиваясь к голосу в трубке…
«С таким соперником как работа тягаться бессмысленно, — решил Саймон, — и если я сейчас отвечу согласием, то эта напрасная и кровопролитная война станет моей жизнью; супруги трудоголичек обречены на унылое существование — целый день сидеть и ждать, когда она придёт, озабоченная, хмурая, со своими далёкими мыслями, в первом часу ночи, и бросит, точно крысе крошку, усталую скупую ласку…»
Он быстро извлёк из футляра один цветок, и, спрятав его за пазухой, покинул своё укрытие. Онки уже повесила трубку, но еще не замечала юношу, находясь под впечатлением разговора.
— Здравствуй, — сказал Саймон, протягивая ей футляр. Теперь он уже не сомневался. Лицо его было непроницаемо.
— Здравствуй, — ответила она на автомате, точно отбросила назад лёгкий мячик в игре, заметно было, что ей трудно сосредоточиться на происходящем, — ты принёс мне ответ?
Онки спросила так, словно не видела протянутого футляра, риторически, рассеянным тоном. Она всё еще возвращалась к Саймону из своего мира, постепенно, неторопливо, и гордость его была задета.
— Извини, — сказала она, — там неприятности просто у девочек…
— А почему меня должно это волновать? — спросил юноша с вызовом, — у нас помолвка, а ты думаешь о каких-то совершенно чужих людях!
— Я должна о них думать, маленький эгоист, — сказала Онки со спокойной улыбкой, принимая у него из рук футляр, — где, кстати, свидетели? Без них же нельзя открывать…
— Мы не позвали.
— Не беда, — воскликнула Онки весело, — найдём.
На скамеечке в аллее сидело несколько воспитанников.
— Вы нам не поможете? — спросила она приветливо, — каждому достанется по бокалу сладкого шампанского!
Подростки, три девушки и два юноши, заметно воодушевились. Только сейчас Онки приметила среди них Аделаиду. Та вымахала почти на голову выше своей «старшей сестры» и уже вполне уверенно тискала ласково льнущего к ней молодого человека. Узнав Онки, в знак приветствия она лишь небрежно кивнула ей в высоты своего подросткового мироощущения.
— Погодите, я сейчас принесу бутылку из машины!
Вся компания удивлённо застыла, наблюдая за радостной суетой, проявляющейся в каждом жесте девушки, и за ее нарядным, но неожиданно мрачным спутником.
«А она ведь любит меня…» — это озарение отозвалось болью в душе Саймона, глядящего в спину бегущей к воротам Онки, весь силуэт ее, казалось, лучился от счастливого предвкушения, и он отвернулся, не в силах смотреть дольше.
— Ты чего такой смурной, — спросила его Ада, — всё же вроде на мази у вас…
Саймон не ответил, стоял тихий, задумчивый. «Ещё ведь можно всё изменить…» За пазухой у него, словно второе сердце, пригрелась головка другого тюльпана.
Вернулась Онки с бутылкой и гроздью высоких бокалов. Подростки столпились вокруг неё, зашелестела золотистая фольга.
— Сперва откроем шампанское! — Онки поставила чёрный бархатный футляр на скамейку, чтобы не мешал, и взялась за пробку.
— Эх! — шампанское хлопнуло, зашипело, взметнулась пышная белая пена, ребята дружно зааплодировали.
Воспользовавшись суматохой, Саймон быстро раскрыл заветный футляр, одиноко стоящий на скамейке, и быстро положил туда другой, припрятанный на груди тюльпан.
— А где же жених? — обернулась к нему с двумя бокалами Аделаида.
Он испуганно вскинулся, спрятал руки за спину, неуверенно шагнул в сторону весело гудящей компании.
— Волнуешься? — заботливо спросила Ада, вручая ему бокал с золотистым искрящимся напитком, и тут же утешила его в своей нарочито грубоватой манере, — не дрейфь, не казнь.
— Впереди самый торжественный момент, — провозгласила Онки, взяв со скамейки футляр, — подержите-ка, кто-нибудь, мой бокал…
Она зажмурилась, откинула крышку. Все замерли, готовые взорваться шквалом аплодисментов и стандартных шумных поздравлений. Но…
Сразу два тюльпана лежали на нежном бархате головка к головке — алый и чёрный — «да» и «нет», они переплелись своими длинными остроконечными листьями, словно обнимая друг друга…
— Что это значит? — спросила Онки. В ее голосе чувствовались и растерянность, и изумление, и обида.
— Это мой ответ, — просто ответил Саймон, — я не знаю…
— Когда будешь знать, сообщишь, — ответила Онки с нескрываемым раздражением, выплеснула шампанское на газон, бросила бокал следом — он разбился вдребезги, угодив в ствол дерева — и пошла к машине, — хорошего дня, ребята!
Те поудивлялись немного, подёргали плечами, сдержано посочувствовали Саймону и ушли, забрав с собою честно выигранную в рулетку жизни бутылку хорошего шампанского. Ада шла последней, со здоровой молодецкой жадностью обнимая за плечи своего отчего-то сдавленно хихикающего юношу. Саймон проводил их взглядом.
Присев на скамейку, он поставил на колени злосчастный футляр с тюльпанами. Бережно вынув алый, положил его головкой на ладонь, как младенца, полюбовался, погладил пальцами прохладные сочные лепестки. Крышку футляра он со стуком захлопнул, запирая там, словно в гробу, одинокий чёрный цветок.
Кора Маггвайер получила долгожданный отпуск, но совершенно не знала теперь, что ей с ним делать. Родни нет, друзья растеряны неведомо где — куда податься? Приехала, конечно, в Атлантсбург. На вокзале впервые по-настоящему растерялась… Столько людей, все спешат по своим делам. И только у неё, у Коры, никаких дел нет, и в ближайшее время не предвидится.
Она зашла в маленькую закусочную, поставила на стул нехитрые пожитки военного человека, упакованные в тугой брезентовый рюкзак, попросила принести кофе.
Официант, кивнув, удалился. Кора извлекла из кармана и раскрыла свой заветный блокнот. По привычке. Голова была пустая, как барабан. Строчки рождались трудно, каждую приходилось вытягивать, словно нитку из полотна.
Официант вернулся с дымящимся кофе. Кора придвинула к себе чашку, глотнула обжигающий чуть горьковатый напиток, огляделась. Может, выпить? Немного совсем. Для вдохновения…
Заказала виски с колой. Потом повторить. И потом ещё раз. После четвертой порции придумала позвонить Максу. Идея возникла очень естественно, органично, ведь он как-никак знакомый, пусть много лет прошло, всё такое, но почему бы не позвонить, вдруг ему тоже делать нечего, и он окажется не против выпить где-нибудь по чашке чая… Неприятность была только одна — Кора не знала номера. Но и это, как выяснилось, проблема вполне разрешимая. Услужливый официант принес ей телефонный справочник.
Аберберг… Аварес… Аино… Кора с нажимом вела пальцем по исписанной бисерно мелким шрифтом странице. Акницкие… Аллен… Анбрук! Нашла! Справочник был старый, трёхлетней давности. Интересно, они никуда не переехали?
Слушая первый протяжный гудок в трубке, она обнаружила, что немного нервничает. Ответил мужской голос, молодой, очень приятный. Но смутное воспоминание подсказало Коре: это не Макс.
— Здравствуйте. Квартира профессора Объединённого Университета Ванды Анбрук, верно?
— Да, — ответил голос, — но леди Анбрук сейчас нет, передать ей что-нибудь?
— Нет, спасибо, я перезвоню, — судя по нетерпеливому молчанию в трубке молодой человек собирался отключиться, но Кора остановила его, — прости, а с кем я имею честь общаться? Вы родственник?
— Горничный, леди, — ответил голос несколько удивлённо.
— А супруг леди Анбрук сейчас дома? — спросила Кора.
— Нет, к сожалению, молодой господин отправился по магазинам, — пояснил горничный, — Вы можете оставить свои контактные данные. С вами обязательно свяжутся.
Кора неохотно нажала «отбой». Вот чёрт. И почему всякие разные знакомые обладают этим противным свойством: обычно, когда не хочешь никого видеть, они покоя тебе не дают, а возникает срочная надобность, так они исчезают, причём все разом?
Кора вышла из кафе и решила поискать адресную книгу — настроение было как раз подходящее для того, чтобы заявиться в гости без приглашения. Вот вернётся из магазина Макс, а в гостиной у него — на тебе! — старая знакомая, сидит на мягком кожаном диване, качая ногой, премило болтает с горничным — он представлялся Коре исключительно хорошеньким, в чистом белом передничке — то-то будет сюрприз!
Когда она подъехала на такси к дому Анбруков, Макс уже вернулся — он как раз вынимал из багажника автомобиля пакеты, туго набитые провизией.
— Привет, — сказала Кора весело, и, как ей самой показалось, чуточку глуповато.
— Здравствуйте, — ответил Макс, удивлённо оглядывая незнакомую девушку в военной форме.
— Не узнаешь? — поторопила она.
— Корнелла? — с сомнением в голосе пробормотал Макс. И присмотрелся, и признал, и просиял невинной радостью. Он нисколько не изменился, всё такой же трогательно нескладный, ушастый, голубоглазый. Только Кора выросла и смотрела на него теперь прямо — глаза в глаза.
— Ну наконец-то! Давай, что ли, обнимемся после долгой разлуки! — воскликнула она с напускным задором и весьма бесцеремонно схватила Макса, смачно облапив его спину своими большими руками.
— Пойдём в дом, — тихо сказал он, мягко, но решительно отстраняясь, — ты, наверное, устала с дороги.
В гостиной накрыли чай. Горничный, как и предчувствовала Кора, оказался симпатичный, не старше двадцати, в опрятном белом передничке, правда без волана, который рисовало ею воображение. Он расставлял тонкие фарфоровые чашки аккуратными внимательными пальцами. Наливал заварку из небольшого чайника с элегантно изогнутым носиком. Потом деликатно удалился, оставив господина наедине с гостьей. За чаепитием немного поговорили про фронт, про политическую ситуацию и ещё о чём-то не слишком значительным, поговорили поверхностно, как полузнакомые на трамвайной остановке.
Наклонив чашку, Кора разглядывала чаинки, налипшие на края. Открылась дверь, и в гостиную вошёл другой молодой мужчина, по-видимому, нянь, с годовалым ребенком на руках.
— Он плачет, господин Макс, не переставая, зубик, наверное, опять лезет, может, вы попробуете сами его успокоить? Папины руки всё-таки милее…
Из-за двери выглядывал еще один ребенок. Девочка.
— Верне, иди в детскую, — строго сказал ей Макс, а годовичка взял от няня, умело и бережно. Ребенок сразу прижался к нему, засопел довольно.
Девочку увел тем временем куда-то мальчишка постарше, лет тринадцати, очень красивый, тоненький, кудрявый, но совсем непохожий… Приёмный? Любопытство мучило Кору, но спросить она стеснялась.
— А где Ванда?
Младенец, сидя на руках у Макса, увлеченно сосал большой палец. У него изо рта сбоку свисала длинная ниточка прозрачной слюны.
— Она уехала на международный симпозиум, посвященный вопросам развития общества.
— Надолго?
— На четыре дня. Вчера я проводил ее в аэропорт.
Макс качал ребенка, уложив его на руки словно в люльку. Он расхаживал с ним по комнате, время от времени нашёптывая что-то ласковое. Кора ощущала лёгкую неловкость от того, что ей пришлось стать свидетелем столь интимной домашней сцены.
— Не хочешь прогуляться?
— Куда?
— Ну… эм… в парк. Или в кафе посидеть.
Младенец от покачивания на руках быстро уснул. Нажатием кнопки на столе Макс вызвал няня.
— Да вы прямо волшебник, — войдя, шёпотом воскликнул тот с нескрываемым восхищением, — я три часа не мог его уложить…
Макс шепотом дал няню какие-то указания, по-видимому, на счёт ребенка, осторожно, чтобы не разбудить, отнёс его наверх и положил в кроватку.
Пока он отсутствовал, Кора осмотрела гостиную и выглянула в коридор. За одной из закрытых дверей со стеклянным витражом в нежных пастельных тонах кто-то стоял. Она поняла это по легкой тени, метнувшейся по витражу. Ребенок, наверное. Подумала так, и тут же забыла об этом.
Вернулся Макс.
— Можно и прогуляться немного, — сказал он.
Когда они выходили, дверь с витражом чуть приоткрылась, и Кора успела разглядеть стоящего за нею человека. Это был очень красивый мужчина, высокий, с удивительно изящными, благородными чертами лица — мелко вьющиеся волосы шикарной копной топорщились у него на голове — но несмотря на красоту, что-то печальное, болезненное читалось во всем его облике. Точно тёмная печать лежала на его высоком бледном челе.
— А кто это там, за дверью? — спросила Кора у Макса, когда они вышли из дома.
— Джонни. Старший муж Ванды, — ответил он буднично.
— В смысле?
— Ну… Как бы тебе объяснить покороче… Религия той страны, где родилась Ванда, позволяет женщине иметь несколько мужчин, и все они считаются законными мужьями…
— Но наша религия такого не допускает! И в нашей стране нет таких законов! — возмутилась Кора, — и как ты это унижение терпишь?
— Ты многого не знаешь о нас, — мягко возразил Макс, — не всё так просто… Ванда не взяла бы меня, если бы… Джонни серьёзно болен. В крови что-то, сложно называется, я не помню. За ним уход нужен, ему часто требуется моя помощь, особенно если у него приступы, бывает, носом или горлом как пойдёт кровь, и не останавливается… После этого он, обычно, несколько дней лежит, слабый совсем, как котенок. Я кормлю его с ложки и подкладываю подушки под спину, чтобы он мог садиться.
— Тот кудрявый мальчик — это его сын?
Макс кивнул.
— А девчушка?
— Верне моя дочь, — ответил он, улыбнувшись с тихой гордостью.
— Самый маленький ребенок тоже твой?
— Возможно, мой, а возможно — нет. Ванда ночует и в моей комнате, и в комнате Джонни, — пояснил Макс с лёгким смущением, — Она имеет право не говорить нам, чьих детей она носит и рожает, чтобы мы любили их всех как своих родных…
В небольшом летнем кафе Кора сразу же заказала виски с колой.
— Переварить твою жизнь без аперитива невозможно, — пояснила она полушутя-полусерьезно.
Макс заказал себе белый чай, блинчики с нежным крабовым суфле и листьями зеленого салата, графинчик свежевыжатого сока. Сразу же попросил рассчитать, вручив официанту платиновую карту. Коре, уже изрядно пьяной, бестолково вырывающей из пространства предметы неторопливым плавающим вниманием, бросились в глаза сведения о держателе карты — ряд выпуклых букв на её внешней стороне: «Vanda M. Anbrook».
— Ты всегда расплачиваешься её карточками?
— У меня своих просто нет. И у Джонни тоже. Все деньги в нашей семье зарабатывает Ванда.
— И она спокойно позволяет вам тратить сколько хотите?
— Ты совсем детские вопросы задаёшь, Кора. Наши отношения построены на взаимном доверии и уважении. Никому и в голову не придет эти простые и честные принципы нарушить.
Кора заказала себе ещё одну порцию виски с колой. Макс смотрел на неё укоризненно, но ничего не говорил.
— Как же ты всё-таки смирился с этим, ну, с Джонни…
— Со временем. Сначала, конечно, никак не мог привыкнуть, очень ревновал, первые три месяца после свадьбы не подпускал к себе Ванду…
— А потом?
— Она сказала мне, что Джонни скоро умрет. С его болезнью один шанс из тысячи прожить столько, сколько он уже прожил… И наш общий долг сделать так, чтобы последние свои дни он провёл в любви и радости. Она так убедительно тогда рассуждала, что я почувствовал — всё именно так, как она говорит, и просто не может быть иначе. А потом Ванда сделала такую вещь… даже не знаю, какими словами рассказать тебе об этом…
Макс отвернулся к окну и большие трогательные уши его порозовели.
— Однажды вечером она пришла в мою комнату вместе с Джонни, и мы оба были с нею, она так и уснула до утра — между нами… И после этого моё чувство к Джонни удивительным образом углубилось; мысль, что Ванда у нас одна, перестала причинять мне боль, я почувствовал свое родство с Джонни через нашу общую женщину, ведь она у нас всё равно что мать у двух братьев… В ту необыкновенную ночь это осознание пришло ко мне, и ревность перестала мучить меня совершенно.
Кора выпила, скривившись. Она знала, конечно, что на свете существуют страны, в которых господствуют самые разные дикие обычаи, вызывающие у любого цивилизованного человека как минимум вежливое изумление… Её сознание предпочло отринуть поступившую в него информацию — слишком уж чуждо было Коре то восприятие мира, которым делился с нею сидящий напротив Макс.
Она глянула в окно. В легких сумерках город казался тонким узором на опаловом медальоне — чёткие контуры потемневших зданий, мягкие пастельные переливы в постепенно гаснущем небе, витрины и стекла домов, отсвечивающие бледно-голубым…
Ей больше не хотелось слушать о том, как Ванда Анбрук организует свою жизнь с двумя мужчинами; Коре стало противно, она, морщась, глотала виски. Макс говорил:
— Я полюбил Джонни. Ему ведь тоже тяжело было примириться с моим появлением. Его отдали Ванде десятилетним мальчиком, у них такие законы, что муж растёт в доме жены, она очень его баловала, души в нем не чаяла, она обещала ему, что не возьмёт больше никого, и он всегда будет единственным… Ванда не стремилась следовать традициям, она мыслит прогрессивно и считает, что многомужество унижает достоинство мужчины… Она хотела стать примером для многих своих соотечественниц, прожив всю жизнь с одним мужем… Но потом Джонни заболел. Для Ванды это оказалось большим ударом, она и сейчас даже не до конца смирилась с тем, что он вскоре уйдет от нас… Я часто замечаю, как она на него смотрит, когда он не видит. Грустно и нежно… В такие моменты мне труднее всего удержаться от ревности… А Джонни мудрее меня. Он сам просил Ванду взять второго мужа, ему часто становится плохо, а в доме нужен хозяин… И его сыну нужен будет отец. Ради него Джонни готов поступиться гордостью и делить любовь Ванды со мной…
Помолчали.
— Мне нужно вернутся домой к десяти часам, отпустить няня, пожелать детям спокойной ночи…
— Да, конечно, извини, что я так бесцеремонно влезла в твою жизнь, — провозгласила Кора с гротескным пьяным самобичеванием, — мне не стоило приходить.
— Не говори так. Я рад был тебя увидеть.
Напоследок Кора ещё выпила, торопливо, прямо у стойки бара.
— Пройдёмся, — сказал Макс тихо и заботливо предложил ей руку, — мне кажется, тебе полезно будет немного освежиться…
На улицах начали зажигаться фонари. Сначала на той, по которой шли, потом на следующей, и дальше, по цепочке — будто бы маленькая незримая фея летела мимо фонарей и касалась их, одного за другим, тонкой волшебной палочкой. Бензинный дух дня постепенно рассеивался, и воздух наполнялся сладким ночным ароматом цветущей черёмухи.
Кора остановилась ни с того ни с сего посреди дороги и задрала голову.
— Смотри, какая она красивая.
Черёмуха стояла вся золотистая, светящаяся, цветы и листья казались прозрачными, стеклянными в мягком фонарном свете.
— А ты веришь, что любовь может длится пока ты живёшь, сколь угодно долго, и даже на расстоянии? — спросила Кора пьяным голосом.
— Любовь, нет, — ответил Макс, подумав, — то, что ты имеешь ввиду, это просто фантазии, мысли, воспоминания… Любовь — действие, она существует только в настоящем времени, здесь и сейчас.
Кора круто развернулась к нему.
— Но сейчас мне кажется, что я люблю тебя, Макс! — воскликнула она, сделала шаг вперёд, жадно прижала его к себе, стала говорить быстро, много и путано, дыша ему в лицо парами виски, о том, что на фронте постоянно думала о нём, как о единственном утешении, светлом лучике счастья, музе…
— Тебе завтра стыдно будет за свои слова, — сказал Макс спокойно и печально, — лучше тебе поспать, — он высвободился от неё быстро, с едва заметной брезгливостью, какую обычно испытывают трезвые к пьяным, — хочешь, я постелю у нас, в комнате для гостей?
Кора хмыкнула патетически-пьяно.
— Нет, — сказала она, сопроводив свой отказ решительным жестом, — я лучше пойду в гостиницу.
Макс пожал плечами.
— Доброй ночи, — сказал он и пошёл дальше по черемуховой аллее, не оглядываясь, в свой большой уютный дом, где ждали его дети.
Кора осталась стоять под деревом.
Задрав голову, молодая сильно пьяная женщина долго смотрела вверх, на нежное сияние цветов в золотистом свете фонаря.
— Вот так, друг, — сказала она, обращаясь к этой безмолвной красоте, озаряющей ее.
Листья черемухи слегка шевелились от легкого ветерка, отчего она казалась существом вполне одухотворённым и не лишённым разумения.
— Так, друг…
Мысль натянулась, напряглась упруго и оборвалась. Кора забыла, что именно она хотела сказать дереву. Ветерок, налетев неожиданно и резво, сорвал с него облако мелких белых лепестков, они закружились подобно снегу…
— Давай, старина, не поминай лихом, — Кора ободряюще похлопала черёмуху ладонью по стволу и нетвердым шагом отправилась к магистрали ловить такси.
После задержания Онки Сакайо «антикоррупционная деятельность» её юных товарищей, полных энергии и здоровой жажды справедливости, несколько поутихла, но не прекратилась совсем. Они продолжали планировать «ловушки» для недобросовестных госслужащих, тайно фоторгафировать их в фешенебельных ресторанах с любовниками, разряженными в меха и осыпанными с ног до головы жемчугами и бриллиантами.
Однажды на улице, неподалёку от супермаркета, куда Онки обычно выбегала во время работы купить себе перекусить, к ней подошли две девушки в штатском — самые обыкновенные с виду горожанки. Они быстро взмахнули перед лицом Онки серыми корочками:
— Служба Государственной Безопасности, — тихо, но очень чётко выговорила одна из них, — пройдёмте, пожалуйста, с нами.
«Ничего себе, — подумала Онки с лёгким оттенком бахвальства, — кто пришёл про мою душу, я думала, что они такой мелочёвкой не занимаются.»
Она знала, что девочки из СГБ работают ловко, ладно, красиво — ни пакетов на голову, ни резких ударов под дых — но всё-таки было немного страшно… Существуют же разные цветные таблеточки, разработанные специально для органов, которые вызывают приступы панического ужаса, онемение различных частей тела, галлюцинации… Есть ведь видео, которые сотрудницы службы безопасности заставляют задержанных смотреть — и те потом готовы на всё, они катаются по полу в слезах и умоляют только об одном — немедленно выключить…
Что если как-нибудь иначе, более деликатно и чисто, чем опусканием головы в кадку с водой, но её, Онки, всё-таки будут пытать? Пытка — как известно, не слишком хороший инструмент в поисках истины, разумеется, если мы действительно хотим ее найти, а не поставить галочку в журнале раскрытых преступлений, ведь среднестатистического человека, и это вполне естественно, до такой степени деморализует сильная боль, что он готов взять на себя хоть три чужие вины… Онки не предполагала в себе самой духовной крепости народных героев, которые выдерживали пытки, не проронив ни звука.
— Мы не имеем никакого отношения к агрессивной политической оппозиции, мы не готовим переворот, у нас нет оружия, — терпеливо объясняла она обладательнице «серого билета», стоящей по другую сторону длинного стола, вторая гэбэшница сидела за этим столом и записывала, — мы пытаемся решать проблемы общества, мелкие проблемки, до которых у власти не доходят или не всегда дотягиваются руки, мы вам же, государству, и помогаем. Проворовавшиеся чиновники, ведь это проблема государства, разве нет? Во все времена так было: если власть бездействует, в борьбу вступают простые люди.
— Спасибо за помощь, — отозвалась гэбэшница с надменным хмурым смешком, она прошлась вдоль стола, вытянула из пачки сигарету, но не прикурила; её напарница записывала что-то в блокнот; подождав, пока она закончит, девушка с незажжённой сигаретой продолжила, — но вы ведь, наверное, знаете, что некоторые действия являются противоправными, и влекут за собой ответственность согласно действующему законодательству?
— Знаю, — спокойно ответила Онки, — но иначе, вы не можете этого не видеть, в некоторых случаях — никак. Мы действуем всеми доступными методами. Но, ещё раз подчеркну, мы не причиняем никому вреда, мы мирная организация, наш удел не нападать, а защищать…
— Что вам известно о погроме в Сурразай-Дорбу? — перевела тему девушка, которая записывала в блокнот.
Онки не ждала подобного вопроса и растерялась, она была уверена, что интерес к ней со стороны органов является прямым следствием деятельности студенческой организации «ЦветокДружбы»…
— Ничего конкретного, — произнесла она, собравшись с духом; Онки решила, что и из этого пламени вернее всего её вынесет конёк правды, — я писала своим знакомым, которые там служат, в надежде получить какую-нибудь информацию из первых рук, потому что, насколько я знаю, значительная часть мыслящих людей убеждена, что дело закрыто незаконно, группа журналистов прибыла туда с камерами и блокнотами, это, вы понимаете, не оружие, они пытались напасть на след, даже нашли кое-что… И тогда как из под земли выросли перед ними здоровенные девицы в повязках с прорезями для глаз, с автоматами наперевес, и вежливо велели нам убираться подобру-поздорову. Разумеется, и камеры, и блокноты у них конфисковали. Но, вернувшись ни с чем, эти отважные очевидцы утверждают, что следы на земле указывают на то, что в Сурразай-Дорбу находилась военная техника…
— Как же ответили вам ваши знакомые? — неожиданно улыбнувшись, спросила гэбешница, поигрывая сигаретой, — добровольная помощь следствию окончательно убедит нас в том, что вы действуете в интересах страны.
Онки не понравилась эта улыбка, какая-то панибратская, льстивая.
— Ничего, — ответила Онки, и, к счастью, это тоже было правдой.
Рита Шустова, прочтя её письмо, сразу же его удалила, будто бы не получала никогда. Ну не писать же в ответ, что она лично по приказу Тати Казаровой участвовала в операции «обезвреживание журналистов»? Дружба-дружбой… Рита не столько тревожилась за себя, ей было почти всё равно, она переживала за подругу — шило у неё в одном месте, вечно впишется во что-нибудь рискованное — Сурразай-Дорбу слишком опасная тайна, чтобы доверять её таким вот до треска заряженным жаждой справедливости, как Онки Сакайо…
— Я вообще не получила письма в ответ.
— Вот как? — спросила гэбэшница, — и что же вы думаете? Есть ли у вас предположения?
Онки почувствовала, как сердце в ней трепыхнулось. Сейчас ей стало действительно страшно, и она этого страха почти не стыдилась. Задачи, стоящие перед этими двумя девушками из СГБ, могут быть какими угодно.
— Предположения должны подпитываться фактами, а их у нас нет, — ответила Онки, осознавая, что очевиднейшим образом уклоняется от ответа, и этим может навлечь на себя подозрения.
— Мы будем наблюдать за вами, — сказала гэбешница, и — наконец-то! — прикурила свою сигарету; Онки чувствовала уже некоторое раздражение, наблюдая за бестолковым перетиранием её между пальцами, — хотите?
Гэбэшница подтолкнула пачку, лежащую на столе, предлагая Онки.
— Я не курю, — ответила та почти неприязненно.
— Это хорошо, — сотрудница госбезопасности непринуждённо откинулась в кресле, некоторое время дымила молча, а потом изрекла, как показалось Онки, с оттенком иронии, — играйте, играйте в борцов за правду, играйте, да не заигрывайтесь, — глаза её коротко блеснули сквозь завесу дыма, — я вас как друг предупреждаю, работайте, дело хорошее, но не везде безнаказанно можно совать любопытные носы… Опасно дергать за ниточки, не зная истинного размера паутины, которую раскачиваешь, и величины паука, который на ней сидит… То, что случилось недавно с вашей подругой — это предупреждение, своей неудачной шуткой в борделе вы задели интересы очень большой величины криминального мира. Она ещё легко отделалась…
«Лиз!..» Сердце Онки сжалось от жалости и тут же вспыхнуло гневом.
Последнее замечание показалось ей до того возмутительным в устах человека, который служит родине, что она чуть было не крикнула: «Работайте лучше! И мы тогда вообще не будем нужны. Это ваше дело — чистить страну!»
Но она напряглась и выговорила только:
— Мы просто выполняли свой гражданский долг.
Гэбэшница кисло улыбнулась, вероятно, ответ ей показался слишком пафосным.
Её напарница, закончив писать, проводила Онки до выхода из здания.
— Вы не хотите вступить в партию? — спросила она по пути, — это возможность реально что-то делать для своей страны, раз уж у вас так сильно чешутся руки.
Оказавшись на воздухе, Онки несколько раз сильно и глубоко вздохнула, с неудовольствием отметив, что её одежда впитала запах табачного дыма; завернув за угол, она дернула дверцу первого попавшегося небольшого кафе и присела за столик у окна — просто немного подумать…
Впереди её ждало очередное дежурство в депутатской столовой.
Надо прийти, переодеться в тесной каморке для персонала, повязать тщательно отглаженный белый передник, убрать волосы под сетку… Любую работу Онки старалась выполнять хорошо, вне зависимости от своего отношения к её ценности. Многие депутаты запоминали старательную девушку и приветствовали доброжелательными кивками, когда она бегала между рядами столиков.
— В наших офисах всегда требуются помощники, — как-то сказала ей женщина со значком социал-демократической партии на отвороте пиджака, — я бы охотно вас рекомендовала.
Онки думала недолго. Срок воспитательной отработки в столовой подходил к концу, и предложение места оказалось ей очень кстати.
Преисполненная восторженной готовности трудиться на благо народа, она поехала на собеседование.
Главный офис социал-демократической партии, самой сильной и многочисленной, располагался на центральной площади Атлантсбурга, недалеко от мэрии. На входе стояли турникеты с прозрачными дверцами, и в застекленной будочке сидел молоденький администратор.
— Вам куда, леди? — спросил он вежливо, но требовательно.
— Я на работу устраиваюсь, — радостно сообщила ему Онки, — вот у меня протекция, — она помахала перед лицом юноши сложенным вчетверо листом бумаги.
— Да, пожалуйста, — собеседование с кандидатами — прямо по коридору потом налево, комната сто.
В продолжение разговора со специалистом по кадрам Онки осознала, что работа рядовых сотрудников партии рутинная и на первый взгляд нисколько не отдает той молодецкой романтикой самопожертвования «для народа», которой так привлекала её атмосфера студенческого кружка. Ей назначили испытательный срок.
— А вот и наш офис, — специалист по кадрам, девушка примерно онкиного возраста, гостеприимно улыбалась.
Помещение было очень просторное, оно состояло из небольших кабинок, разгороженных пластиковыми перегородками — в каждой из них сидел, скрючившись над столом, сотрудник партии. Все они выглядели очень сильно занятыми. Несчастные рабочие лошадки, даже на обед выйти некогда… На одном из столов стояла коробка с недоеденной пиццей, тут же валялись использованные одноразовые тарелки. Кто-то, уставившись в монитор, прихлебывал кофе из бумажного стаканчика с крышкой. Разумеется, нашлись и бездельники. Один молодой человек увлеченно болтал по телефону. Другой приводил в порядок ногти.
Обычный день в любом офисе. Нечему удивляться.
Онки получила своё первое задание.
— Для начала поможете нам составить списки опасных пешеходных переходов в нескольких районах города. Понаблюдайте за движением, попытайтесь найти проблемные перекрестки, где старые светофоры, скажем, или плохой обзор… Нужно будет потом заняться их переустройством.
Онки, надо признать, была немного огорчена. Она ожидала чего-то более серьезного и интересного.
— Не грустите, — как будто читая её мысли, сказала девушка-координатор, — у вас на лице написано: ну и муть же это ваше партийное задание. А что вы, собственно хотели? Сразу судьбы людские вершить? Власть — это глубокое понимание происходящего, организация жизни целого народа, и она всегда начинается с малого. У нас не бывает неважных поручений, в удобных и безопасных пешеходных переходах заключено наше отношение к жителям страны.
Выйдя на улицу, Онки подумала, что и пешеходные переходы в каком-то смысле тоже вершат судьбы — не так давно её чуть не сбила на зебре какая-то чокнутая таксистка. «Бессмысленной работы не бывает. Есть работники, которые привыкли оправдывать свою лень нацеленностью на великое. Они могут сколько угодно сидеть сложа руки в ожидании „достойного дела“, отпихивая „ничтожные“, по их мнению, поручения.» И Онки принялась трудиться на новом месте с прежним энтузиазмом.
Онки переехала в общежитие для партийных работников. Условия те еще, но когда ее это волновало? — крыша над головой есть, не течет, стены не трескаются, и на том спасибо. Машину пришлось продать, чтобы выплатить часть штрафа за визит в чиновничий кабинет без приглашения. И, разумеется, в карманах у неё по-прежнему гулял ветер, теперь, пожалуй, он как никогда чувствовал себя там полноправным хозяином.
— Ты как там, что-нибудь уже решил? — Онки разговаривала с Саймоном из уличного автомата. Не выдержала. Позвонила-таки.
— А ты купила квартиру?
— Собираюсь… — Онки тошнило от вранья, и если она не могла сказать правды, то предпочитала уклоняться от прямых ответов, но в случае с Саймоном это почти никогда не срабатывало, он задавал вопросы в лоб и ожидал на них таких же простых и ясных, как удары молотка, ответов.
— И долго ты собираешься кормить меня обещаниями?
— Саймон, я люблю тебя и сделаю всё возможное, чтобы ты был счастлив, — произнося эту длинную и стандартную, как спичечный коробок, фразу, Онки ненавидела себя, — но и ты ради меня должен пойти хоть на какие-то уступки. Ты ведь знаешь, у меня сейчас новая работа в партии, не слишком денежная, мягко говоря, и еще этот штраф…
— Вот именно! И как ты представляешь себе нашу будущую жизнь?
— Ты будешь работать вместе со мною в партии. Как же иначе? — Онки видела это уже вполне ясно в своём воображении: Саймон, помогающий ей в работе, Саймон — ласковый хозяин на малюсенькой общежитской кухне, Саймон, желающий блага её стране, точно также, как и она сама, Онки просто не допускала мысли, что он может не захотеть разделить с нею тяготы служения родине…
— Ах вот как? Ты уже решаешь за меня?
— Что же в этом такого неестественного? Я женщина, то есть глава нашей будущей семьи, и вполне логично, что я принимаю решения, а ты мне подчиняешься…
— Это рассуждения будущего домашнего тирана, — заметил он насмешливо.
— Быть может, но ты ведь любишь меня? А любовь подразумевает готовность чем-то жертвовать, идти со своей избранницей рука об руку, даже если не очень хочется…
— Хорошо, ну почему жертвовать должен именно я? — вопрос Саймона прозвучал довольно едко.
— Потому что жертвовать всегда лучше прихотями, а не серьёзным делом, — не покривив душой ответила Онки.
— Ах вот как? Ты считаешь, что жить в нормальной квартире и существовать на нормальные деньги — это просто прихоти?
— В каком-то смысле. Теоретически люди могут спать и на голой земле, монахи, например, и питаться кореньями. Человеку очень мало надо для жизни, на самом деле. Мы разбалованы излишествами…
— Ну, знаешь… — Саймон возмущенно сопел в трубку.
— Со временем у нас всё будет. Мы выплатим долг, подкопим немного… А пока придётся потесниться. У меня тут в комнате вполне можно жить и вдвоём, хоть она и маленькая, в ванной и на кухне, правда, тараканы, сантехника течёт, но ведь это всё временно…
— Жизнь она вообще временная, — съязвил Саймон.
— Мы всё преодолеем, — не обращая внимания на его сарказм, внушала ему Онки, — главное, честно трудиться. Партия позаботится о тех, кто не жалеет сил для её развития…
— Да иди ты к чёрту со своей партией! — голос Саймона слегка задрожал, так, словно он собирался заплакать, — почему ты считаешь, что люди должны соответствовать твоим ожиданиям? И сразу меняться, сминаться, как глина, в соответствии с твоими претензиями? У меня совершенно иные представления о счастье — я хотел бы жить в маленьком домике у моря, своём собственном, тихо и спокойно, выходить по утрам на веранду и пить чай, любуясь рассветом над водой, растить детей, пусть их было бы много, чем больше, тем веселее, и они бегали бы босиком по лужайке, и смеялись…
— Мещанство, — прокомментировала Онки с отвращением, — инертность, леность…
— Ну вот поэтому нам с тобой и не по дороге, — произнёс Саймон неожиданно смиренно, уже без всякой агрессии, без желания переубедить, он просто констатировал некий печальный факт об их отношениях, — удачи в партийной работе.
В тяжёлой металлической трубке автомата, забарабанили, застучали как градинки по крыше, короткие гудки. Онки устало повесила её на рычаг, и, облокотившись на пластиковое ограждение кабины, постояла немного, думая что-то отрывочное, невнятное. Мимо прошёл юноша в красном плаще с маленькой собачкой под мышкой. Стоящую на тротуаре девушку проглотило подошедшее такси… Начался дождь. Он расчертил длинными штрихами прозрачную стенку телефонной кабины. И Онки вдруг захотелось спать. Так много бумаг было сегодня, и завтра будет много бумаг, ещё больше…
Нажав отбой и швырнув телефон на столик, Саймон спрятал лицо в ладони. «Я ненавижу её, ненавижу… ну погоди, Онки Сакайо!..» Всякий раз, когда ему случалось разозлиться на эту девушку, ярость вспыхивала в нём с той же силой, что и любовь.
Он подошёл к окну. Весенний вечер звенел и сиял, ещё пока очень ярко, золотисто. На дворе ослепительно цвела черёмуха — лёгкий ветерок налетал и сдувал с неё легкие лепестки, носил их над парковыми дорожками — точно снежинки.
Саймон пошёл в умывальную и глянул в зеркало. Немного бледный, с возбуждённо горящими изумрудными глазами, тонко выпирающими ключицами в глубоком вырезе майки — он был удивительно хорош, и сам отметил это с неожиданным задорным злорадством. Вот я какой, Онки, но только тебе теперь ни за что не достанусь!
Саймон надел самую красивую из своих рубашек, атласную, нежно-нежно кремовую, с едва заметно серебрящимся на свету цветочным орнаментом, новую, на которую он очень долго копил и которую ни разу ещё не надевал — берег её для того дня, когда они наконец-то поедут с Онки Сакайо в мэрию…
«Какая она всё-таки засранка!»
Он тщательно подвел глаза, аккуратно повязал на свою стройную шейку модный галстук, однотонный, оттенка цветущей сирени, и хищно улыбнулся своему хорошенькому отражению. Задумав пакость, сразу почувствовал, что его настроение стало заметно лучше.
— Что, опять твоя прикатит на очередном шикарном автомобиле, взятом в прокате? — как обычно хмуро пошутил вахтёр, увидев направляющегося к главному выходу Саймона.
— Нет, — ответил он смело, — сегодня я сам поеду в Атлантсбург.
— Тебе разрешили?
— За всё время моего пребывания здесь, я ни разу не пользовался правом бывать в Атлантсбурге. У меня накопилось больше десятка призовых увольнений на несколько часов.
Вахтер пытливо и, как показалось Саймону, слишком уж долго смотрел на него из-под маленьких круглых очков.
— Ладно, иди. Помни только, что ворота закрываются в двадцать три ноль-ноль. И не каждая девушка, — вахтер вздохнул, — готова взять ответственность за твою честь, оказавшись с тобой наедине.
— Спасибо, — юноша уважительно заглянул старику в глаза и решительно направился к воротам.
Вахтер нажал кнопку, и тяжелая металлическая створка пешеходной калитки медленно поползла в сторону; из расширяющегося проема на Саймона подуло ветром, он сморщил ткань нарядной рубашки, подхватил длинную челку юноши…
Всего один шаг через порог.
Невидимый уже вахтер, повелитель ворот, снова нажал кнопку, и тяжелая створка послушно пришла в движение, поползла медленно, только теперь уже в другую сторону — проем, выпустивший хорошенького юношу в коварный и опасный вечерний мир, постепенно сузился в щелку и исчез.
Оставшись один на один с широкой автострадой, по которой как вихри проносились быстрые автомобили, Саймон испытал смутное грустное чувство.
Ему стало очень одиноко.
Вытянув левую руку в сторону, он пошёл вдоль пыльной обочины, ожидая свою судьбу с замиранием сердца, одновременно и тревожным, и сладким.
— Куда это вы направляетесь, молодой человек? — спросила выглянувшая из притормозившей машины женщина в тёмных очках.
— В Атлантсбург, — уверенно ответил Саймон, — вы меня подвезете?
— Садись, — женщина потянулась и приоткрыла ему переднюю дверцу, — не страшно одному? Мало ли, вдруг я маньячка?
Она оглядывала юношу с весёлым любопытством. Разговаривая с Саймоном, незнакомка приподняла свои очки. Тонкие смеющиеся морщинки лучиками расходились от глаз — на вид ей можно было дать лет пятьдесят. На руке — стильные дорогие часы. Кожаные сидения в автомобиле.
Такая не будет грабить юношу на дороге, да и взять то у Саймона нечего, всех богатств у него — тоненькая золотая цепочка с медальончиком Кристы Дочери Господней да невинность…
Мысленно Саймон уже доверил этой женщине свою судьбу. Она показалась ему достойной этого.
— А я, может, как раз и ищу маньячку… — сказал он со странной для такой, очевидно, шутливой фразы серьезностью.
Решительно сел в автомобиль и захлопнул за собой дверцу.
— Интересный ты товарищ, однако, — сказала незнакомка, посерьезнев и как будто засомневавшись, — ладно, едем… В Атлантсбург, так в Атлантсбург…
Саймон толком не знал ещё, что он собирается делать. Пойдёт, наверное, в какой-нибудь бар. Приметит там девушку, желательно красивую, непременно высокую и стройную, жилистую, совсем не похожую на круглощёкую, плотнобокую, белую, как пельмень, Онки — назло ей! — постреляет глазами, вот он я, дескать, прекрасный и свободный, не робей, подойди, у тебя есть шанс…
Машина легко несла его навстречу неотвратимо надвигающемуся будущему.
— Где тебя высадить?
— Мне всё равно. — ответил Саймон честно, — только пусть там будет много людей, оживлённая улица…
Выйдя из машины, он тут же приметил вывеску недорогого питейного заведения. Двери его были открыты настежь, чтобы мягкая свежесть наступающей весенней ночи освежала прокуренное помещение, откуда доносился разнузданный гомон разгоряченной спиртным публики. Саймон некоторое время постоял в нерешительности на тротуаре, настороженно прислушиваясь к бурлению этой ночной городской клоаки и решительно двинулся ко входу.
На него весьма удивленно посмотрела вышибала — молоденькая совсем девка, но в плечах — сажень, и росту не под всякую притолоку. Девушка за стойкой бара тоже глянула неодобрительно и с грустью — словно на бабочку, залетевшую в камин. Саймон неловко взобрался на барный стул.
— Что будете заказывать?
— Апельсиновый сок, — ответил Саймон, не отвлекаясь от внимательного изучения окружающей публики.
Его привлекла компания девушек в военной форме, сидящих за столиком неподалеку. Среди них выделялась особенно одна, с лейтенантскими погонами, она смеялась очень искренне, заразительно, говорила шумно, много жестикулировала — чернобровая, с резко очерченным лицом, ярким ртом, белоснежными зубами — казалось, она освещала своей улыбкой весь бар. И Саймон сразу избрал именно её мишенью для своего очарования, безотчётно, повинуясь первому впечатлению. Он слез со стула и направился прямиком к столику военных, толком ещё не зная, как начнёт разговор. «Может, она сама что-нибудь скажет, — подумал он с надеждой, — будет намного проще…» И не ошибся.
— Смотрите-ка, какое чудо плывёт к нам, — сказала она, окружающие ее девушки оглушительно засмеялись, Саймону показалось, что его осыпало этим смехом, точно брызгами морской волны, налетевшей на препятствие, — только у нас тут, к сожалению, вряд ли найдётся трон, достойный столь прелестного принца!
Это был комплимент, скорее шутливый, первая реакция привычно галантной девушки, души компании, она наверняка и разглядеть Саймона толком ещё не успела…
— Я как-нибудь, с краешку, — поспешил ответить он тоном, исполненным трогательной скромности, — если позволите…
Вероятно, девушки сначала приняли его за одного из тех юношей, чье присутствие обязательно в подобных заведениях, они шутили с ним фривольно, глазели жадно, при случае клали большие пропахшие табаком руки на его щуплую спинку, надеясь через тонкую ткань ощутить нежное тепло его тела… Но чернявая лейтенанточка, по-видимому, начала кое-о-чём догадываться, она притушила несколькими строгими взглядами самых ретивых своих подруг, и сама обращалась с Саймоном крайне деликатно, не позволяя себе ничего из того, что могло бы оскорбить достоинство порядочного юноши.
Всей шумной ватагой вывалились покурить. Ночь уже совсем вступила в свои права, из дверей падал на тротуар жёлтый бархатный свет, как коврик.
— Вы с фронта? — спросил Саймон у чернобровой, как будто ненароком увлекая её за пределы светлого пятна, в прохладную тишину возле стены.
— Да, — ответила она, выдыхая струйку дыма, — и завтра опять туда. Отпуск кончился. Это наша последняя ночь, вот мы и гуляем, ты не подумай, мы не всегда такие, — она мрачно рассмеялась, — может, вообще последний праздник для нас, вот и хотим побузить как следует…
Саймон почувствовал, как дрогнул её голос, словно струна одного инструмента в оркестре порвалась во время концерта — не заметишь, если не станешь прислушиваться. И это придало ему смелости, он шагнул к ней и прижался весь, обескураживающе быстрым движением, голова его оказалась у неё на груди, он развернул к ней своё свежее личико, распахнул сияющие нежной мольбой глаза:
— Проведи эту ночь со мной.
Он произнёс это чуть ли не повелительно, в первый момент не ощущая никакого смущения, и она на секунду застыла, словно окаменев, казалось, даже не дыша…
— Да ты что, сдурел? — спросила растерянно, очень бережно, впрочем, отстраняя его от себя, — зачем тебе случайная, полупьяная и уже почти мёртвая… Знаешь куда мы едем? Там самое пекло сейчас… Наши отступают и несут огромные потери… Тебе нас жалко? Не стоит. Вон смотри, сколько их, и все к нашим услугам, — она взглядом указала на молодого мужчину в вызывающе яркой рубашке, стоящего возле фонаря, и улыбающегося неприлично сладкой, зазывной улыбкой, — ты ведь порядочный, это видно, давай я провожу тебя, не делай глупостей…
Она смотрела на Саймона с искренним состраданием; он нравился ей, это было заметно, и она хотела его, но принципы боролись в ней с желаниями.
— Расскажи мне, что с тобой случилось? — она ласково, как сестра, приобняла его за плечи, — повздорил со своей девчонкой? Бывает. Не бери в голову. Уверена, она завтра же прибежит извиняться… К такому-то красавчику…
Саймону совсем не хотелось говорить об Онки. Любая мысль о ней отзывалась тоской, бескрайней, холодной, как зимняя степь. Вместо того, чтобы ответить на вопрос девушки, он снова прильнул к ней:
— Ты правда считаешь, что я красивый?
— Очень, — подтвердила она горячо, — если меня завтра изрешетит пулями, я буду счастлива, что последний мужчина, которому я смотрела в глаза, был так удивительно прекрасен…
— Ну так возьми меня, — прошептал он, обдавая её кипящим сиянием своих изумрудных глаз.
— Нет, — сказала она почти грубо, — я сейчас вызову такси и отвезу тебя домой. Ты помиришься со своей девушкой, вы с нею поедете в мэрию, распишитесь и проживете долгую счастливую жизнь… Я так и вижу тебя в чистой уютной комнате, у камина, с ребенком на коленях…
Саймон отстранился и с вызовом посмотрел на чернявую незнакомку. Его хорошенькие губки разверзлись, выпустив на волю отвратительное ругательство.
— Ты меня не знаешь… Я не такой. Я не ангел. Я могу быть разным…
Он стоял и смотрел на неё, прекрасный и смелый, в свете фонаря его рубашка отливала розовым, в ясных глазах плескалась ярость.
— Не хочешь? Я просто пойду тогда в другой бар, найду кого-нибудь… понаглее…
Последнее слово Саймон выделил, произнеся его по-особенному, едко, с вызовом.
— Ну иди, ищи, — ответила она, и в лице её сверкнуло что-то жёсткое, упрямое.
Саймон немного оробел, но пошёл, однако, медленно, мелкими шажками по залитому фонарным светом тротуару. «И ведь уйдёт!» Девушка-лейтенант всё это время стояла, нервно стиснув губами потухшую сигарету, и напряженно смотрела вслед Саймону — он ни разу не оглянулся. Она догнала его в конце улицы.
— Что же всё-таки с тобой случилось? — спросила, привлекая юношу к себе и начиная гладить по волосам, как расстроенного ребенка; они вышли из пятна фонарного света и стояли теперь в тихой темноте, до сюда едва долетал невнятный шум бара, — Откуда же ты такой чудной? — по её изменившейся интонации было понятно, что она уже почти примирилась с его странным намерением.
Саймон ничего не отвечал, он просто стоял рядом, освещая своей красотой ее, вполне возможно, последнюю ночь на земле. Он протянул ей руку, чтобы она вела его, и внутри у него всё застыло от волнующего предвкушения…
Над баром располагалась маленькая комнатка, предназначенная как раз для таких встреч. Она сдавалась на час — для этого достаточно было сунуть хмурой девушке за барной стойкой хрустящую купюру и слегка подмигнуть — та мигом соображала, что к чему.
Они поднялись по тёмной узкой лесенке в дальнем углу бара и очутились на небольшой площадке перед дверью.
— Ты хорошо подумал? — спросила она, бережно заключая его лицо в ладони, и с упоением заглядывая в него.
— Да, — ответил Саймон, пытаясь обнять ее неловкими, робкими руками.
Она горько усмехнулась и толкнула дверь в комнатку. Обстановка там была весьма убогая — узкая постель под пошлым бордовым покрывалом, в нескольких местах полинявшим, мрачные обои с нелепыми узорами, похожими на отпечатки жирных ладоней, столик с подсыхающей розой в вазе — для романтического настроения, наверное…
— Да ты хоть знаешь, что я с тобой делать-то буду? — в ее голосе звучала ласковая и грустная насмешка; но она смотрела на него без улыбки, любуясь и одновременно скорбя своими большими тёмными глазами, силясь вобрать в себя, запомнить; она смотрела на Саймона как на нечто бесконечно прекрасное, но обреченное скоро исчезнуть — как на падающую звезду, как на рассыпающийся в воздухе салют, как на всполохи полярного сияния, полощущиеся в темном небе словно летящие по ветру газовые шарфы…
Он вспыхнул, прильнул к ней, не поднимая глаз, взволнованно трепеща длинными ресницами. Он не знал, совсем ничего не знал, он дал ей руку, чтобы она повела его в волшебную страну; Саймон понял теперь, что не зря он берег себя до семнадцати лет от тем, на которые говорили шепотом, от непристойных видеороликов, которые смотрели тайком, от неумелых потных рук ровесниц…
Прикосновения девушки были как солнечные лучи, как падающий яблоневый цвет: с каждой секундой тело Саймона наполнялось тихой приятной дрожью, словно пузырьками лимонада — он закрыл глаза, и она целовала его веки, виски, шею…
— Кто знает, может быть, твоя невинность, оставшись как маленькая волшебная искорка у меня внутри, сохранит мне жизнь в бою…
Она целовала его и потом, как бы в благодарность, целовала долго, грустно — словно надеясь вернуть то, что взяла у него; он вдруг застеснялся своей наготы и натянул на себя застиранную простынку.
— А у тебя разве нет жениха?
Она курила лежа, длинно выдыхая дым в потолок, он придвинулся и положил голову на её плечо.
— Был. В прошлый мой визит домой он сказал, что расторгает помолвку. В мое отсутствие его честь запятнала другая. Они были вроде как друзья, и я её знала, она долго добивалась его, но без толку, а тут… У него был день рождения, восемнадцать лет, они большой компанией пошли в бар, ну и сам понимаешь… Проснулся он у неё. Спасибо на том, что смелости хватило признаться мне.
Перед узким мутным зеркалом она оделась, сверкая в полумраке сильным молодым телом, сосредоточенно застегнула гимнастёрку, ремень на поясе, наладила как следует фуражку, снова превратившись из нежной любовницы в офицера.
— Пора. У нас самолет.
Собираясь уходить, она чуть-чуть помедлила, оглядела в последний раз комнату: сухая роза в вазе, лампа на столе, Саймон, пересеченный в районе живота молочной речкой простыни, тоненький, белый, в тусклом освещении похожий на фарфоровую куколку, его рубашка на полу — словно кучка снега, стекающий тонкой струйкой с трёхногого стула галстук…
— Ты за свою честь не опасайся, — сказала она, обернувшись в дверях и остановив на лице юноши блестящие карие глаза, — если я останусь в живых, то возьму тебя мужем, если ты конечно этого захочешь, узнав меня поближе… А если погибну… Тогда назовешь моё имя… Флорисса Гоменид. Жениха героини войны любая возьмёт с радостью.
Онки никогда особенно не задумывалась о своей преданности партии. Она принадлежала к тому счастливому типу людей, которые могут самоотверженно трудиться, не считая себя при этом служителями какой-либо глобальной идеи. Она решала конкретные задачи. Составляя список опасных пешеходных переходов, Онки думала в первую очередь о тех людях, которые будут переходить дорогу, о стариках и старушках, о молодых отцах с детскими колясками… Абстрактное «общее дело» в которое, словно малый ручей в реку, должно было влиться её маленькое дельце, пока не слишком её волновало.
Пробуждение в душе девушки наряду с деятельным и другого, громкого, плакатного патриотизма произошло в связи с одним из ряда вон выходящим событием. Как-то раз, заработавшись, она задержалась в офисе партии до позднего вечера, и охранница, позабыв о ней, заперла здание на ночь и включила сигнализацию. Обнаружив это чуть позже, Онки не слишком сильно огорчилась — она вернулась в рабочий кабинет с намерением поспать на столе. И вот именно в эту ночь здание подверглось нападению представителей агрессивной оппозиции, они и прежде совершали подобные акции протеста в разных уголках страны — забрасывали окна офисов правящей партии тухлыми яйцами, писали на стенах краской неприличные надписи, иногда даже швыряли бутылки с зажигательной смесью — но никогда ещё Онки не приходилось лично сталкиваться с подобного рода хулиганством.
Злоумышленники влезли в офис через окно. Онки догадалась об этом по тихому стуку рамы. Они проникли в помещение, соседнее с тем, где она сидела. Осторожно встав, Онки тихо добралась до двери и заглянула в соседний кабинет. Несколько девушек в недорогой спортивной одежде орудовали в беззащитно опустевшей на ночь, уснувшей, затемнённой комнате — одна из них, взгромоздившись на стремянку, усердно выводила краской на стене первую букву, скорее всего, ругательного слова, вторая поливала из чайника бумаги, безалаберно оставленные кем-то на столе, отчего печати и штампы расплывались, становясь похожими на больших пауков, а третья сосредоточенно подпиливала ножовкой деревянные опоры одного из офисных столов.
Онки почувствовала лёгкий страх, он почти приятно заколотился у неё под рубахой, и вместе с ним пришло так хорошо знакомое с детства ощущение готовности к драке, азарт — коэффициент агрессивности вновь нашёл себе применение, он радовался этому, выпущенный наружу, он ликовал, его дикая энергия металась вокруг Онки невидимыми вихревыми потоками.
Она почувствовала, что сейчас ей необходимо оружие. Хотя бы для острастки. Это решение, принятое инстинктивно, мгновенно, мигом нашло отражение в действии, продолжившем мысль органично, как нить продолжает иглу — Онки вспомнила о пожарном топорике, который висел рядом с огнетушителем и мотком шланга.
Легким движением высвободив топорик из пластикового гнезда, в котором он помещался, она притаилась возле входа в занятый пришельцами кабинет.
Уверенные в том, что в здание совершенно пусто, они расслабленно продолжали начатое: одна из опор большого стола была отпилена, фразе на стене, начинающейся с мерзкого слова «…, на фига воевать в Хармандоне? Своих проблем не хватает» не доставало второго вопросительного знака, а со стола гулко капала не успевшая впитаться в бумагу вода…
— А ну пошли вон, черти! — заорала Онки благим матом; она повернула выключатель и грозно приподняла над головой увесистый топорик, — я за родную партию сейчас на куски вас всех изрублю!
И слова эти и жест родились совершенно случайно — они являлись вдохновенной импровизацией — Онки вопила от всего сердца, в ее вопле не было ни капли рисовки — и потому её выпад сразу произвёл нужное впечатление.
Бесстыжие оппозиционеры сначала зажмурились от ударившего по глазам яркого света, замерли, заморгали беспомощно и глупо. А потом в один миг поняли — действительно ведь изрубит… И бросились на утёк. Посыпались из окна, тяжело, как падают перезрелые, набрякшие дождевой водой каштаны.
— Аааа…. Моя нога!
Кто-то неудачно приземлился. Второй этаж всё-таки.
Только сейчас Онки поняла, что на подоконнике в течение всего посещения незваными гостьями офиса сидела четвёртая девчонка и снимала творящееся непотребство на камеру смартфона. Она спрыгнула последней, когда защитница партии уже двинулась к ней, рисковала быть изрубленной, вероятно, для того, чтобы получше запечатлеть напоследок яростное лицо Онки, размахивающей топориком и устрашающими шагами статуи Командора направляющейся к окну.
Уже ранним утром ночное видео облетело информационную сеть. Под ним красовались как насмешливые комментарии оппозиционеров: «Настенную правду жизни власть пытается вырубить топором», «Бешеный терминатор настигнет всех, кто против политики государства» — так и восторженные отзывы сторонников: «вот это да!» «молодец!» «истинно преданный делу человек!».
«Героиня дня» пока ничего не знала о своей славе, она спала за столом, положив лоб на сложенные руки, а рядом, у ножки стула, на всякий случай, всё еще стоял верный пожарный топорик.
Позже, когда воодушевленные сотрудники продемонстрировали Онки отголоски произведённого ею переполоха, сильного впечатления на Онки это не произвело. Она только пожала плечами. «Странно, пока ты делаешь что-то и молчишь, никто тебя не замечает, а когда бросаешь трудовую мотыгу, хватаешь топор и, размахивая им, начинаешь орать лозунги, все мигом делают вывод, что ты патриот.»
До Саймона тоже дошла весть о появлении в социал-демократической партии «бешеного терминатора». Он несколько раз просмотрел видео. Смеялся, конечно, уж больно яростное у Онки было лицо. Слишком грозное. На фоне пацифистской надписи на стене и столов, залитых из чайника, оно смотрелось неуместно, гротескно и вызывало улыбку. Но чем больше Саймон смеялся, тем больнее отзывался смех в его сердце, он чувствовал уже, что потерял эту девушку, и она вряд ли простит его теперь; и чем яснее осознавал он свою потерю, тем невыносимее терзали его сожаления.
Саймон не ошибался.
Когда Онки Сакайо в очередной раз приехала в Норд, радостная, цветущая, как июньский луг (за усердную работу ей вынесли благодарность сразу несколько депутатов) и увидела на Саймоне чёрный галстук — символ позора — с лица её мигом спало всё праздничное настроение — так буря срывает с дерева последние слабо уже держащиеся осенние листья — одним порывом.
Она помрачнела словно грозовая туча, и на несколько мгновений даже лишилась дара речи от сдавившей горло бессильной злобы. Таинственная способность к неосознанному смутному прозрению чужой души и на этот раз не подвела Саймона — местью своей он умудрился угодить в самое что ни на есть больное место.
Гордость. Мысль, что он так запросто озарил какую-то проходимку сразу всей своей благосклонностью, в то время как ей, корча из себя, непонятно зачем, недотрогу, так и не позволил вообще ничего, была для Онки невыносима. Это всё равно что бросить в море кусок хлеба, когда у тебя за спиной стоит человек, умирающий от голода.
— Ты по-прежнему ждёшь моего ответа? — спросил он, и торжествующая ухмылка слегка дернула уголок его тонких губ.
— Это не смешно, — ответила Онки сухо, — своим поступком ты оскорбил меня. Я расторгаю нашу помолвку.
— Но я думал, для тебя это не имеет значения, ведь ты делала предложения Малколму, несмотря на то, что он…
— Малколм — совсем другое дело, — грубо перебила она, — Нас всегда связывали только дружеские отношения.
Сказав это, Онки повернулась к нему спиной, как бы показывая, что разговор окончен. На самом деле ей просто невыносимо было видеть его лицо, такое же прекрасное, как раньше, его длинные ресницы, опуская которые, он всё ещё казался непорочным и чистым, как ангел…
Она и сама не думала, что ей можно сделать так больно. В эту минуту даже находиться рядом с Саймоном было для неё пыткой. Ей казалось, что вся его яркая красота, чего таиться, до сих пор волнующая её душу, как-то резко обесценилась, стала вызывающей, пошлой, гадкой — как красота выставленных на всеобщее обозрение моделей в глянцевых журналах. Не попрощавшись, Онки медленно пошла к машине.
Но почему-то остановилась. И спросила, не оборачиваясь:
— Кто она?
— Мы случайно познакомились в баре… — честно ответил Саймон, — она сказала, что её зовут Флорисса Гоменид.
И тогда Онки не выдержала. Возмущение перехлестнуло ту грань, до которой она ещё могла себя контролировать. Быстро преодолев те несколько шагов, которые отделяли ее от Саймона, с сильного размаха она влепила ему подряд две оплеухи — по одной щеке, и тут же — по другой.
На нежной бледной коже сразу начали проступать сочные багровые пятна. Онки ушла, больше уже не оборачиваясь.
Единственный свидетель этой сцены — нордовский дворник, подметавший дорожку, глянул ей вслед с осуждением.
— Я заслужил, — прошептал Саймон горестно, как будто бы кому-то нужно было это пояснение, закрыл руками свое разгоревшееся личико и заплакал.
Его судьба была решена.
На следующий год Саймону исполнилось восемнадцать лет.
Покинув Норд, он в первый же вечер явился с чемоданами на съёмную квартиру к Малколму и стал умолять названного брата, чтобы тот обучил его своей нехитрой, но всё же не лишённой тонкостей профессии.
Малколм сперва упирался — ему жаль было губить юность и свежесть Саймона, бросать их на жернова неумолимой мельницы продажной любви — но вскоре он понял, что упрямства юноши ему не сломить, и покорился.
Теперь их часто видели вместе на светских приёмах. «Лунные Свет готовит себе смену» — шептались между собой сластолюбицы, — «Такой шикарный кокот не имеет права уйти в тень, не отставив нам хотя бы отблеска своего очарования…»
Впрочем, Саймон вполне способен был не только продолжить, но и превзойти своего лучезарного предшественника, это подмечали многие — сразу врезались в память его изумрудные глаза, которые то полыхнут маняще, на секунду всего, то погаснут вновь, дразня, возбуждая азарт: «Ну давай, зажги меня, зажги…»
По вечерам, когда они сидели вдвоем в полумраке комнаты (Саймон всегда просил выключить свет, чтобы не чувствовать неловкости), Малколм посвящал его в сугубо технические детали ремесла. Это были своеобразные уроки, во время которых со всей своей природной щедростью один человек передавал свой накопленный опыт другому, более юному, передавал без малейшей выгоды для себя, затем лишь, чтобы его дело, загадочное творение любви, единственное дело, которое он умел делать, не умерло вместе с ним…
— Но вот что тебе следует запомнить пуще всего, — говорил Малколм, — сейчас я раскрываю главный секрет обольщения. Весь твой облик: выражение лица, глаз, неуловимая пластика движений, интонации голоса — всё это должно говорить им «да», ты должен быть одним сплошным нежным обещанием с головы до ног, но слова твои при этом пусть будут жёсткими, циничными, едкими; безжалостно отвечай им отказами, обращайся с ними свысока, насмехайся, в конце концов, суля рай взглядами, и тогда — человеческий рассудок не в силах побороть двойственность восприятия — ты начнёшь сводить их с ума… И они готовы будут на всё, Саймон… И самые полноводные денежные реки этой огромной страны потекут к твоим ногам…
Продолжение следует
Вторая книга цикла — «Нефть в наших жилах»









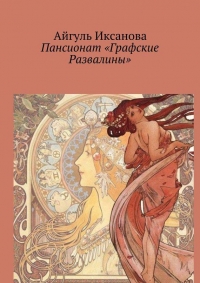




Комментарии к книге «Мы родились сиротами», Анастасия Александровна Баталова
Всего 0 комментариев