Надежда Первухина ПРИНЦЕССА С ДУРНОЙ РЕПУТАЦИЕЙ
Посвящаю моим доверенным лицам:
Наталье, Юлии, Екатерине.
Дамы, я в восторге от вас!
Глава первая Приличные девушки знают, что такое сонет
Я против женского образования.
Посмотрите на морковь — у нее никакого образования нет.
А между тем она полезный овощ.
Вот и женщина должна быть полезным овощем.
На худой конец — фруктом.
Из проповедей Его Высокоблагочестия, т. 127— Барышни, откройте ваши тетради и запишите тему сегодняшнего урока: «Сонет». Со-нет. Госпожа Солано, обратите внимание, следует писать «сонет», а не «санет».
К числу неоспоримых недостатков метрессы Фелиции, нашей преподавательницы поэтического мастерства, относится не слишком изящное низкопоклонство. Если низкопоклонство вообще может быть изящным. Упомянутой Констанции Солано всего пятнадцать (как и мне), у нее лоб, полный прыщей (не как у меня!), но то, что в роду у долговязой Констанции три баронета и одна предполагаемая маркиза крови, дает сопливке Солано право именоваться «госпожой», тогда как я и все остальные — просто «барышни». Поскольку я уязвима в вопросах чести и самоуважения, утешает меня в таких случаях одно — хотя мое происхождение туманно, зато ум остер, талант несомненен и многогранен, а уж если кто попадется мне на язык, тому лучше сразу просить Исцелителя об избавлении от лютой напасти по имени Люция Веронезе. Как вы уже поняли, это я.
Подобно многочисленным героиням чувствительных историй о добродетельных девицах, я не знаю, кто мои родители. В отличие от героинь благоглупых книжонок, я сомневаюсь, что однажды окажусь в прямых потомках императорской фамилии, у меня найдется богатая родня, собственный особняк, гардеробная, полная кружев и мехов, и прочие прелести роскошной жизни. Сомнительно, что детей чистого происхождения оставляют в ивовой корзинке на пороге трактира с подозрительной репутацией. Корзинку сию пятнадцать лет назад обнаружила хозяйка трактира «Рог и Единорог», когда вышла на порог, дабы выплеснуть помои. Был метельный месяц февруарий, корзинку почти занесло снегом, но, благодаря моему визгливо-сиплому крику, хозяйка ахнула и забыла про помои. Через несколько мгновений меня рассматривало общество трактирных завсегдатаев и строило предположения относительно того, как я могла оказаться на пороге заведения, вовсе не предназначенного для младенцев. Кто-то из пьяных мужланов посоветовал трактирщице отнести меня в сиротский приют при аббатстве Святого Сердца, но дебелая баба, как оказалось, имела трепетную душу и, будучи незамужней и бездетной, решила воспитать меня как собственную дочь. Я также подозреваю, что Розалинда Веронезе в глубине души надеялась, что я высокородное дитя, ибо запеленали меня в батистовые и шелковые пеленки превосходного качества и со споротыми монограммами. Она показала мне эти пеленки на мое пятилетие и заявила, что раз родители меня бросили, я должна исполнять все ее приказы, к коим, несомненно, относится повеление застилать кровати постояльцев, мыть посуду, чистить овощи и ходить за водой в ближний колодец. Однако по мере того, как я подрастала, моя приемная мать передумала делать из меня свою преемницу в трактире и решила, что я должна получить приличное образование. Для чего и пригодился пансион при аббатстве Святого Сердца. Вообще-то этот пансион был учрежден для девиц благородного происхождения из ближних поместий, однако девиц таких было раз-два и обчелся, а трактирщица внесла за мое обучение и проживание солидную сумму. Так что с семи лет я тяну лямку пансионерки, обучаясь всякой белиберде вроде кружевоплетения, хороших манер, галантных танцев и вышивки гладью. Если учесть, что я собираюсь сбежать, как только скоплю сумму, достаточную для покупки каперского свидетельства и баркентины, плывущей в какую-нибудь дальнюю страну, то вряд ли мне понадобятся там кружева. Вот то, что я научилась воровать карманные денежки своих богатеньких одноклассниц так, что они об этом даже не подозревают, — это настоящий талант, и я им горжусь. Мало того, на прошлой неделе я сумела незаметно похитить из кармана причетницы, сестры Аделины, ее четки-розарии из редкого сорта аметиста — это еще одно подтверждение того, что мой талант растет и не след тратить его на хорошие манеры и вязание рукавиц для бездомных.
Я знаю, что стану капитаном каперского судна, потому что сумею всему научиться. Я завербуюсь юнгой, а как дальше я стану из юнги капитаном, я еще не придумала. Но главное — я думаю об этом, а если о чем-то упорно думаешь, это обязательно осуществится, так нам на уроках прикладной философии говорил отец Эпистемон, и у меня нет причин опровергать это суждение. Когда моя баркентина будет ломиться от награбленного золота и драгоценностей, я с командой навещу аббатство и припомню до мелочи все те пакости, которые здесь пришлось претерпеть. Я очень злопамятна, и мне это безумно нравится.
— Барышня Веронезе, о чем вы думаете?!
Я захлопала глазами. Метресса уловила мое мечтательное состояние и коварно напала из-за угла.
— Что я только что продиктовала, барышня Веронезе? Вы не слушали?
— Я слушала, метресса.
— В таком случае повторите.
И я отчеканиваю, к великому ее изумлению:
— Сонет — это старолитанийская форма стихотворения в четырнадцать строк, возникшая в тринадцатом веке от рождества Исцелителя. Сонет является строгой формой четырнадцатистишия. Первая часть сонета состоит из двух катренов, вторая — из двух терцетов. Размер сонета — пятистопный, реже шестистопный ямб. Канонической формой рифмовки является опоясанная и смежная равнозвучные рифмы для катренов, а для терцетов — две или три рифмы, отличающиеся от рифм в катренах. Для строгого сонета существует правило, по которому при наличии опоясанных рифм…
— Достаточно, — оборвала меня метресса. — Сядьте, барышня Веронезе.
Что я и проделала, победоносно глядя на притихших одноклассниц. Я знаю, что все они мне завидуют черной завистью, потому как не обладают даже малой толикой такой памяти, как у меня.
Это тоже мой талант. Я запоминаю все, не прилагая к тому никаких усилий. Я запоминаю цвета, запахи, речь, изображения, даже собственные сны я помню все до единого. Отец Эпистемон сказал, что Исцелитель наградил меня эйдетической памятью, а это большая редкость и может пригодиться мне в жизни, и в этом я опять-таки доверяю почтенному философу. Мне совсем необязательно слушать метрессу для того, чтобы точь-в-точь воспроизвести ее слова. Мало того, мне не нужно и понимать смысл этих слов, ибо вряд ли их понимает и сама метресса. Я даже иногда сочувствую бедным зубрилкам, они так стараются, и все впустую! Ах, как весело!
Я изобразила воплощенную скромность и склонилась над тетрадью, рисуя в ней технику плетения морского узла под названием «булинь». Метресса меж тем задала следующий вопрос:
— Барышни, кто из вас может привести пример пятистопного ямба?
Желающих не нашлось. Я улыбнулась ласковой змеей и подняла руку:
— Позвольте, метресса.
— Да, барышня Веронезе.
Я снова поднялась и сказала:
— Я прочту сонет монсеньора де Абеляра, сочиненного им на смерть своей возлюбленной Элоизы Монкальмон.
О, как печальны эти день и час, Когда я провожал тебя в могилу! И даже небо плакало уныло, Когда любимый мною взор угас! Когда на руки нежные твои Лег смертный саван, навсегда скрывая, То, что доселе знал я, уповая На вечность и бессмертие любви! Как я рыдал, утратой оглушенный, Как воплем оглашал я свой приют, Какие исторгал из сердца стоны! Так только на похоронах поют, Так создают бессмертные канцоны, И за любимой в Небеса идут.Я умею декламировать с интонацией драматической актрисы — одним из преимуществ пансиона является его библиотека, и я там прочла невероятное количество книг, среди коих имелось и руководство по мелодекламации. Я сочла нелишним обрести актерские способности — мне в будущем придется управлять каперским судном, так что сами понимаете. Конечно, там я вряд ли стану читать слезливые сонеты мужланам с саблями и мушкетами, но на всякий случай… Вон даже эти бестолковые пулярки смотрят на меня так, как будто я сошедший с небес Исцелитель.
— Вы делаете успехи, барышня Веронезе, — милостиво молвила метресса. — Садитесь. Продолжим, барышни. Как я уже говорила, сонет возник в Старой Литании и связан с именем великого Данте Алетьерри. Данте за свою недолгую, но чрезвычайно насыщенную жизнь создал тридцать венков сонетов — по одному на каждый год жизни. Венок сонетов — это архитектоническая форма поэмы, состоящей из пятнадцати сонетов. Строится венок так: тематическим ключом является магистральный сонет…
— О… — тихо простонала госпожа Констанция Солано. Ах, бедняжка! Поэзия никогда не была ее сильной стороной.
— … Иначе называемый магистрал, замыкающий собою поэму. Этот, пятнадцатый по счету, сонет пишется раньше других, в нем заключается замысел всего венка. Первый сонет начинается первой строкой магистрала и заканчивается второй его строкой, первый стих второго сонета повторяет последнюю строку первого сонета и заканчивается этот сонет третьей строкой магистрала. И так далее — до последнего, четырнадцатого сонета, который начинается последней строкой магистрала и кончается первой его строкой, замыкая собой кольцо строк. И если вы понимаете, о чем шла речь, то вы увидите, что магистральный сонет состоит из строк, последовательно прошедших через все четырнадцать сонетов… Да, барышня Пиколло, я слушаю ваш вопрос.
Барышня Пиколло — существо весьма занозистое. Похоже, она считает, что раз ей выпала удача стать незаконнорожденной дочкой младшего из герцогов дома Удольфини, так и она может задаваться. Я уже пару раз в воспитательных целях засовывала ей за ворот самолично пойманных в кладовой мышат, и со мной она предпочитает не ссориться. Однако это никак не умаляет ее вопиющего нахальства и бестолковости.
— Метресса, — Бьянка Пиколло выглядела как благонравная ученица, но я-то знала всех ее бесенят по именам и прозвищам. — Это правда, что одним из выпускных экзаменов будет письменный экзамен по составлению венка сонетов?
— Совершенно верно, — жизнерадостно кивнула метресса. — Именно ваши способности излагать свои мысли поэтическим образом смогут показать, насколько вы владеете изяществом языка. А строгая форма венка сонетов не позволит никаких вольностей.
— Это ужасно, — прошептала барышня Пиколло и закрыла лицо руками. Ей всегда был свойствен дешевый мелодраматизм.
— Мои дорогие барышни, — в голосе метрессы появилась мечтательность. — Поймите, вы получаете здесь образование для того, чтобы стать начитанными, искусными, благонравными компаньонками и наставницами для одиноких дам, девиц, а также детей из хороших семей. Именно поэтому вы обучаетесь не только высоким искусствам, но и ведению хозяйства — ведь будучи компаньонкой, вы станете правой рукой вашей госпожи.
— Но мы же выйдем когда-нибудь замуж? — голосок из середины парт звучал еле-еле.
По классу прокатился робкий смешок. Замужество — это самая желанная мечта и чаще всего возносимая Исцелителю молитва. Здесь все, кроме меня, хотят замуж. Быть всю жизнь нянькой, воспитательницей или компаньонкой при какой-нибудь сквалыжной вдовице — это непередаваемый ужас. Как будто замужество — это рай земной.
Метресса улыбнулась:
— Тем более, дорогие мои! Когда жена умеет вышивать, писать стихи, петь и музицировать, ее супруг благодарит небеса за столь щедрый дар. Кроме того, вы обучаетесь искусству ведения домашнего хозяйства, рисованию, лепке, хорошим манерам — всему тому, что сделает вашу жизнь разнообразной, яркой и нескучной…
О да, несомненно. На прошлой неделе я научилась делать оттиски ключей от келий самых занозистых монахинь аббатства. В кабинете химии, где нас обучают премудростям строения веществ, из коих Исцелитель создал наш мир, я давно знала, где стоят тигли и банки с самыми разными химическими соединениями. Кроме того, там лежали образцы различных металлов. Взяв за основу сплава олово (скраденные из трапезной оловянные ложки), медь (пояс из бляшек привратника Джулиаса, который бедняга ищет до сих пор) и некоторые дополнения, я выплавила с полдюжины ключей. Остается ждать ближайшего престольного праздника, когда сестры отправятся в церковь, и навестить их келейки. Наверняка там будет что-то интересное для моего пытливого ума.
Прозвенел колокольчик, возвещающий об окончании урока. Метресса милостиво поклонилась и выплыла из аудитории. Одноклассницы загудели, как растревоженный улей, я же достала из корзинки для завтраков уворованный с подноса поварихи сдобный пирожок с крыжовенным повидлом и позволила себе понаслаждаться жизнью. Пирожки — это та вещь, ради которой можно на время примириться с действительностью, я так считаю.
— Скажите, барышня Веронезе, — прозвучал голосок Цецилии Роспы, сущего черта в юбке, моей постоянной и неутомимой противницы. — Разве вы не знаете, что пироги портят фигуру? Если вы растолстеете еще больше, вы же не пролезете в двери аббатства!
— Благодарю вас за столь сердечную заботу о моем внешнем виде, — прочавкала я и улыбнулась, как, верно, улыбаются демоны в аду при виде нового грешника. — Мне понятна эта забота, ведь вы, обладая столь ужасным цветом лица, огромными угрями и короткими белесыми ресницами, как у поросенка, несомненно, переживаете за тех, кто хоть чуть-чуть симпатичнее вас.
— Ах ты тварь! — взвизгнула Цецилия и уже вознамерилась вцепиться в мою прическу, как почуяла острие моего кинжала у своего носа.
— Барышня Роспа, — я уже прожевала пирожок и была решительно настроена. — На уроках фехтования я — лучшая, а вы двигаетесь, как мешок с овсом. Хотите поединка — будет поединок. А еще раз полезете — заколю, как Исцелитель свят.
Роспа отскочила, вспотев от страха.
— Я не устраиваю поединков с чернью! — прошипела она. — Держись от меня подальше, Люция!
— Того же и вам желаю, — я встала и молниеносно убрала кинжал в ножны, что прятала под форменным фартуком. Не всем пансионеркам разрешали носить оружие. Точнее, его не разрешали носить никому, но некоторым, особо родовитым, присылали семейные клинки. Я к родовитым не относилась, а мой клинок был украден в оружейной лавке городка Пьячетто, куда нас возили на конфирмацию. К причастию вместо меня подошла тихоня Филомена — дважды, за себя и за меня. Да простит ей Исцелитель сей грех, а мне — что я украла такой отличный клинок.
Однако дело плохо. Роспа донесет про клинок дежурной сестре, а то и аббатисе. Значит, клинок надо спрятать, да так, чтобы его не нашли в нашем дортуаре. Сейчас у нас урок музыки, его, пожалуй, можно прогулять без последствий. Отправлюсь-ка я на незапланированную прогулку.
Я выскользнула из аудитории, стремительно пронеслась по коридору и спустилась в холл. Там дежурили две сестры, облаченные в черные рясы и сонно крутящие четки. Но какими бы сонными они ни были, на меня они среагируют моментально, как хорошие гончие — на зайца.
И они среагировали.
— Дитя, зачем вы спустились в холл? — скрипучим голосом спросила одна.
— Разве вы не знаете, что во время перемен все пансионерки должны быть в рекреациях второго этажа?
Пришлось придумывать на ходу:
— Простите, сестры, — забормотала я, притворяясь девочкой-скромницей. — Мне очень надо в туалет, а на втором этаже все кабинки заняты. У меня живот прихватило.
— Бедняжка, но ведь на первом этаже туалеты только для менторов… И они запираются на ключ.
— Пожалуйста, — умиленно проныла я, обхватив живот руками. — Кажется, я отравилась чем-то… Тошнит…
Сестры на то и монахини, чтобы быть милосердными. Одна из них протянула мне ключ:
— Ступайте, да поскорее!
Я бросилась к туалетной комнате для преподавателей.
Отперев ее, я прежде всего огляделась. Первая неудача — здесь нет окон, значит, вылезти в окно и спрятать кинжал в саду или скриптории не получится. Но преимущество: на две ладони ниже потолка тянутся декоративные мраморные желоба. Возможно, там получится спрятать кинжал. Да только чтобы дотянуться до этого желоба, надо быть выше раза в три или иметь при себе стремянку.
Я вошла в кабинку. Не в поганую же дыру спускать мой кинжал!
А придется.
Тем более что я сумею раздобыть новый. Или, на худой конец, порыться в выгребной яме, ф-фу.
Я опустила кинжал в сливное отверстие. Он булькнул прощально, я дернула ручку слива, и вода шумно омыла широкий лоток ножного унитаза.
Я как раз мыла руки, поливая себе водой из фаянсового кувшина, когда услышала стук в дверь:
— Дитя, как вы?
— Сестра, я уже иду! — крикнула я и вышла из туалетной комнаты, картинно держась за живот.
— Ох, и пронесло же меня, — поделилась я с сестрой переживаниями.
Та поморщилась:
— Уже был звонок. Какой у вас сейчас урок?
— Музыка, сестра.
— У мэтра Маджорити?
— Да, сестра.
— Тогда поспешите.
Я поклонилась и помчалась наверх.
Мэтр Маджорити был чрезвычайно суровым старцем, не ценившим ничего, кроме качественного хорового пения. Когда я постучалась в класс, то услышала «Ми-соль-ми-до-ре», которым обычно распевался наш хор.
Дверь открылась. Мэтр Маджорити сурово воззрился на меня:
— Где вы гуляете, барышня Веронезе?
— Простите, мэтр, — я смиренно потупилась. — Я была в туалетной комнате.
Кто-то из хора сдавленно хихикнул.
— Извольте на место. И сообщите дежурной сестре, что я приказал вас оставить без сладкого в Исцелительный день.
Хихиканье стало более громким и мстительным. Аукнулся же мне пирожок с повидлом!
— Да, мэтр, — и я покорно встала на свое место в хоре.
Мэтр Маджорити постучал по пюпитру дирижерской палочкой и грозно изрек:
— Сегодня мы будем репетировать патриотическую кантату «Славься, Старая Литания!», ибо ваш класс станет петь ее в день приезда благотворителя нашего пансиона графа Лучизаре. Как вам известно, его сиятельство приедет через три недели или через месяц. Госпожа Солано, вы солируете в партии меццо-сопрано. Барышня Дучези, попрошу вас больше не фальшивить во втором куплете, вы делаете это нарочно. Барышни, приготовились. До-ля-фа!
Мэтр Маджорити взмахнул дирижерской палочкой, и наш хор завел первый куплет патриотической кантаты, сладкой и приторной, как патока:
Славься, Старая Литания, Славься, лучшая страна! Мы другой такой не видели Ни в какие времена!Признаюсь, я никогда не была патриоткой Старой Литании, хотя, похоже, именно в ней и родилась и выросла. Ну что это за страна, смех один! Когда мы изучаем славную историю Старой Литании, я еле сдерживаюсь, чтобы не захохотать. Ни одной войны. Ни одного приличного восстания. Самое последнее народное волнение случилось здесь между крестьянами двух деревень, не поделивших поле созревшей брюквы, и было это полтора века назад. То ли дело Славная Затуманив! Там если нет большой войны, обязательно сражаются ленные лорды, или рыцари, или, на худой конец, монахи двух разных орденов. Королевство Пшепрашам тоже воюет со всеми, кто только посмел косо глянуть на их бесконечные, кишащие медведями леса. А Цвейгландия!.. Эти их бешеные ландскнехты в вороненых доспехах и с мечами, способными искрошить противника в мелкий салат!
— Барышня Веронезе, вы поете или мух ртом ловите?! Что это за соль второй октавы? Я не слышу вашего голоса! Оставляю вас без сладкого до конца учебного года, и извольте петь!
Вот же скотство! Признаюсь, сладкое — моя слабость. Это и неудивительно, ведь я привыкла активно шевелить мозгами, а на уроках человековедения нам рассказывали, что мозгу для работы нужно очень много сахара. Ну ничего, за годы, проведенные в пансионе, я отменно научилась воровать из кухни все, что плохо лежит и что при этом можно съесть без вреда для здоровья. Так что, почтенный мэтр, мне ваши запреты не указ. Послезавтра пекут яблочное печенье, так я не я буду, если не скраду себе полный подол ароматных вкусностей!..
Мои мечты о яблочном печенье (под аккомпанемент нестройного пения нашего хора) были внезапно прерваны. Дверь класса отворилась, и на пороге появилась мать Конкордата, заместительница аббатисы по вопросам дисциплины в пансионе. Ее лицо, напоминающее непропеченный постный блин, и вытянутые в узкую полоску губы цвета мертвого дождевого червя не предвещали ничего хорошего.
— Мэтр, остановите урок, — ледяным голосом молвила она.
Учитель взмахнул руками, описывая полукруг, и мы умолкли, растерянно-перепуганно глядя на мать Конкордату. Всему пансиону было известно, что эта монахиня обладает норовом вечной мерзлоты, ее невозможно разжалобить, подкупить или улестить, а если она порешила кого наказать, наказание неотвратимо.
— Сядьте за столы, девочки, — приказала она.
Оказывается, когда надо, весь наш класс способен двигаться молниеносно и бесшумно. Теперь все мы выглядели как благонравные ученицы, в головах которых нет ничего, кроме учебы и молитвы. Я тоже придала своему лицу смиренный вид и захлопала глазами, изображая кротость. Не помогло.
— Барышня Веронезе, встаньте!
Я встала и кожей ощутила взгляды одноклассниц. Надо сказать, эти взгляды были лишены и капли сочувствия. Что ж, не очень-то и надо. За что же мне достанется на этот раз?
— Подойдите! — скомандовала мать Конкордата.
Я подошла. Она без слов задрала мой передник, и я все поняла. Роспа ухитрилась наябедничать быстрее, чем я предполагала.
— Где ваш кинжал? — прожгла меня взглядом монахиня.
— Сестра, у меня нет кинжала и никогда не было, — пролепетала я.
— Вы лжете! Мне известно из достоверных источников, что вы, вопреки введенному в пансионе порядку, носите оружие. Мало того, вы угрожали этим оружием высокородной девице! Куда вы дели кинжал?
— У меня нет…
— Вы противитесь? В таком случае вы идете со мной.
Ну, проклятая ябеда Роспа, держись! Если меня сейчас отведут в каморку для наказаний и всыплют розог, они тебе десятикратно отольются, не сомневайся!
Монахиня сжала железной рукой мое плечо, и вместе мы вышли из класса. Оказывается, в коридоре нас ждали еще две монахини — сестры, отвечающие за присмотр за нашим дортуаром.
— Идемте в спальню, — велела мать Конкордата.
Наивная. Дортуар — последнее место, где я спрятала бы оружие.
Монахини стремительно шли по коридору, их темные длинные одежды развевались, словно крылья падших ангелов. Что ни говори, а монашеские одеяния выглядят гораздо красивее наших куцых платьишек с передниками. Э, может, мне стать монахиней? Ну уж нет, даже в страшном сне со мной такого не случится. Меня ждут море и паруса!
Дортуар средних классов представлял собой длинное помещение с двумя рядами кроватей и узких шкафчиков для одежды и всяких мелочей вроде мешочков со сладостями, безделушками и лентами для кос. Некоторые девочки вели дневники, но мало кто хранил их в столь доступном месте, как шкафчик, запоров-то не было, просто самый обычный крючок. Я дневник не вела принципиально, поскольку таскаться везде с глупой тетрадкой было скучно, а придумывать всякие истории и ругательства в адрес одноклассниц у меня прекрасно получалось в голове.
Мать Конкордата подошла к шкафчику с моим именем и бесцеремонно открыла его. Ее взору открылось то, что наличествовало и в шкафчиках остальных пансионерок — стопка нижнего белья, маленькая деревянная шкатулка для шпилек и булавок, мешочек с потерявшей аромат рутой, пара старых тетрадок по географии и книга «История кругосветных путешествий», неделю назад взятая мной из библиотеки. Вы же видите, матушка, здесь нет никакого кинжала! Слава Исцелителю за мою предусмотрительность и за то, что милый кинжал вместе с ножнами утоп в выгребной яме! Э-э, матушка, где ваши манеры, зачем вы вывалили мои вещи на пол?!
Воистину так. Я растерянно наблюдала за тем, как в моих жалких пожитках роются две монахини.
— Кинжала нет, — выпрямились они.
Разумеется, курицы безмозглые!
— Эта девочка очень испорченная, а значит, способная на хитрости и лукавство, подобные лукавству самого Истребителя, — с этими словами мать Конкордата принялась костяшками пальцев выстукивать стенки моего шкафчика. — Ну-ка, ну-ка, а это что?!
Тысяча проклятий на мою голову! Чтоб мне никогда моря не видать!
Две доски задней стенки моего шкафчика неплотно пригнаны. Их можно аккуратно сместить, и тогда за шкафчиком обнаружится маленький выступ в стене, куда можно положить вещичку, не предназначенную для посторонних глаз. И сейчас я с отчаянием висельницы наблюдала за тем, как мать Конкордата извлекает из моего тайника подделанные мною ключи (помните, я вам говорила об этом?).
— Что это? — монахиня держала связку ключей так, как будто это была дохлая мышь.
— Ключи, — упавшим голосом сказала я. Сама, что ли, не понимаешь?
— Ключи от чего? — продолжала мать Конкордата. — Дитя, отвечайте.
— Я могу ответить, мать Конкордата, — подняла руку одна из сестер. — По виду они похожи на ключи от келий.
— Как они оказались у вас, барышня Веронезе? — голосом матери Конкордаты можно было резать металл.
— Я сделала их сама. — Запираться не было смысла. — Я украла ключи у экономиссы с пояса, сделала оттиски и отлила новые. Сплавы я взяла в химической лаборатории.
— Отменно! Какие таланты вам дарованы Исцелителем! Я велю мэтру Бальдини поставить вам высший балл по химии, — сказала мать Конкордата. — А за воровство вы отправляетесь в карцер. На две недели! Сестры, проводите ее. Да проследите, чтобы она не сбежала по дороге!
Куда это, интересно, я сбегу? Каким образом?
Тьфу, карцер. Мало приятного. Тем более что я там окажусь впервые.
Ладно. Выкручусь.
Глава вторая Иногда темнота — это все, что нужно для приключения
Я сторонник тихой и спокойной жизни.
Деревья никуда не торопятся и не ищут перемен.
Попробуйте стать деревом, и вы поймете, как прекрасна жизнь.
Из проповедей Его Высокоблагочестия, т. 154Надо сказать, карцер в пансионе — не самое приятное место для времяпрепровождения. Это оказалась крохотная комнатушка, узкая, как щель в кошельке скупердяя, с окошком под самым потолком, с лежанкой возле стены. На лежанке имелся мешок, набитый соломенной трухой (она лезла из ряднины и колола тело), и старое шерстяное одеяло, под которым невозможно было согреться. Для питья и умывания был один кувшин с водой, а для прочих нужд — вонючее ведро, прикрытое деревянной крышкой. Да уж, вот куда приводит страсть к пирожкам и сварам. Ну ничего, я потерплю, а когда выберусь, барышне Роспе небо покажется с овчинку, клянусь, я устрою ей столько каверз, что все демоны ада зааплодируют моему коварству!
Я закуталась в одеяло и села на тюфяк, поджав ноги. Было холодно. Светлый квадратик окна оказался единственной радостью на настоящий момент, и я стала смотреть на него, представляя, что за ним — новая, прекрасная жизнь, ожидающая меня, полная приключений, встреч, наслаждений и битв. А не сбежать ли мне из пансиона? Прямо в ближайшее время? Ради чего я тут кисну, как слива в маринаде, когда я уже вполне взрослая, самостоятельная личность? Я хорошо умею фехтовать, я сильная, выносливая, предприимчивая… да, но я совсем не знаю мира за стенами пансиона. Я нигде не бывала дальше города, и хотя географию Старой Литании я знаю назубок, это лишь теория. И потом — у меня нет ни гроша! Если б поддельные ключи остались при мне, я навестила бы кельи монахинь, которые, по слухам, ломятся от денежных пожертвований благочестивых прихожан, но… Значит, я не смогу снять комнату на постоялом дворе, купить себе еду, одежду, оружие. Как заработать деньги, я представляю себе смутно. Не наниматься же посудомойкой в трактир! Или милостыню просить! Можно попробовать грабить прохожих на дорогах, но это ведь какой прохожий попадется — а вдруг здоровенный мужик с кулаками, как пушечные ядра… Если сколотить шайку… За один день это не делается, для основы шайки нужны друзья, а друзей у меня нет и никогда не было…
Отягченная раздумьями, я задремала, а когда проснулась, окно было темным — наступила ночь. Темнота заполнила весь карцер, и с нею пришли страхи, в которых я стыжусь себе признаваться. Я боюсь крыс. Боюсь призраков, подозрительных шорохов, стуков и вообще всего, что невозможно объяснить простыми законами познания. Когда девчонки в дортуаре перед сном рассказывали истории о разгуливающих по пансиону призраках усопших монахинь, об упырях, которые могут прилететь, когда ты спишь, и высосать кровь, об оборотнях, каждое полнолуние завывающих в ближнем лесу, я лишь презрительно усмехалась, но на самом деле в те моменты по моему телу бодро пробегали мурашки. Как истинный агностик, я верю только в то, что можно увидеть, осязать, услышать при дневном свете. Однако едва наступает ночь, я превращаюсь в глупую беспомощную девочку, которая боится каждого шороха и стука.
Сейчас мне предстояла именно такая ночь. И речи быть не могло о том, чтобы встать с лежанки и немного подвигаться, разминая затекшие члены. Я сжалась в комочек, объятая собственными страхами, и дрожала, из последних сил стараясь не разреветься в голос. Может быть, закричать, позвать кого-то из сестер? Пусть они выпустят меня из этого жуткого места!
Однако где-то глубоко во мне жила та Люция Веронезе, которая собиралась стать капитаном каперской баркентины и бесстрашно смотреть в лицо всем ураганам и шквалам. И сейчас я призвала эту Люцию на помощь. Что мне делать, спросила я ее, как победить свои страхи? Ты можешь продолжить урок музыки, насмешливо посоветовала она. А и правда! С песней все-таки будет веселее, и мой ор заглушит ужас, поднимающийся в душе! И я запела.
Репертуар у меня был небогатый — в основном те самые песни, которые мы разучивали на уроках мэтра Маджорити. Для начала я полностью спела кантату «Славься, Старая Литания!», а в ней двенадцать куплетов, между прочим. Но зато ее бодрый, жизнерадостный мотив немного оживил меня. Потом пришел черед Гимну урожая, который мы всегда исполняем в месяц жатвы для крестьян местного прихода. Он тоже живенький. А когда я запела романс о бескрайних лугах, укрытых седым туманом осеннего утра и об одиноком охотнике, спешащем на ретивом коне к своей возлюбленной, я услышала шорох.
Я немедленно заткнулась и вжалась в стену. Ну вот. Сомненья нет, по мою душу пришла крыса. И, возможно, не одна. Возможно, в компании усопшей монахини, упыря и прожорливого волколака.
— А-а, ай-я-я-я! — заголосила я. — Нивы печальные, снегом побитые! Нехотя вспомнишь и время былое, вспомнишь и лица, давно позабытые!
Да тут всех демонов ада вспомнишь поименно, от такого-то страху! Ну, кто-нибудь, помогите же мне! Трудно вам, что ли!
Шорох усилился. Мало того, я поняла, что это не просто шорох. Это крошечные лапки цепляются за ткань тюфяка, это шуршит длинный хвост, задевая торчащие соломинки, это крыса!
Объятая ужасом, я просто онемела. И в наступившей тишине услышала:
— Какое счастье, что ты наконец умолкла, девочка! Твоим голосом надо дрова пилить, а не песни петь.
Кстати сказать, голос, который произнес эти слова, тоже был не ахти. Но, сами понимаете, услышав его, я чуть не напрудила лужу, как маленькая. Теперь мне хотелось сжаться до размеров точки, вообще исчезнуть, испариться, чтобы избежать ужасов происходящего.
— Конечно, можно понять, с чего ты взялась голосить, как плакальщица на похоронах, — продолжал голос. — Ты ребенок, и тебя оставили в этой ужасной темноте. Мы это исправим. Не пугайся. Сейчас станет светлей, и кроме того, ты увидишь меня.
Послышалось легкое шипение, а потом в кромешной тьме возникла искорка. Она разгоралась, и скоро я поняла, что это маленький, с мой мизинец, стеклянный фонарик, в котором бодро горел алый язычок пламени.
Фонарик держала в лапе крыса. Да, самая обыкновенная крыса, если не считать того, что размером она была с мою руку, глаза ее светились ярко-зеленым огоньком, а на голове у нее был какой-то колпачок. Это не убавило моего ужаса, но все-таки он стал хоть несколько соизмеряем, ведь когда ты видишь свой страх лицом к лицу, он уже не так страшен, верно?
— Верно, — подтвердила крыса. — И тебе нечего меня бояться. Я вовсе не собираюсь причинять тебе зло, кусать или там… ну что еще, по-вашему, делают крысы. Как тебя зовут, девочка?
— А-а, — только и выдавила я.
— Вряд ли твое имя звучит таким образом. Ты слишком напугана. К тому же голодна. Придется немножко тебе помочь.
Крыса подняла фонарик повыше, описала им круг (следы огня остались в воздухе мерцающими искорками) и чем-то щелкнула. Я резко выдохнула, вдохнула и поняла, что мой страх куда-то пропал. На его место пришли столь присущее мне любопытство и желание немедленно во всем разобраться.
— Так-то лучше, — удовлетворенно сказала крыса. — Теперь ты вполне адекватна. Итак, повторю вопрос: как тебя зовут?
— Люция Веронезе, — ответила я.
— Ты можешь к своим словам прибавлять «мессер» — это будет вежливо по отношению ко мне, твоему собеседнику.
— Хорошо… мессер.
— Я сейчас сделаю свет поярче, и твой страх уйдет совсем. Вот так.
Фонарик засветился как звезда, и в карцере стало совсем светло — будто в летних сумерках.
— Ты замерзла, Люция?
— Да, мессер.
— Ты голодна?
— Ужасно, мессер.
— Отлично, — крыса хихикнула. — В таком случае, мы сейчас поужинаем и сделаем это в более уютной обстановке.
Она снова описала лампой затейливый круг, снова засияли алые искорки, и я ахнула: карцер превратился в уютную комнату, обитую золотистым шелком, моя лежанка — в удобную кушетку с множеством атласных подушек и шелковым одеялом, на полу оказался ковер, посредине — два стула и стол с белой скатертью и сверкающими серебряными столовыми приборами. С украшенного лепниной и позолотой потолка свешивалась люстра с десятками зажженных свечей.
— Это невозможно! — прошептала я.
— Для того, кто умеет раздвигать границы обыденного, нет ничего невозможного! — снова хихикнула крыса. — Прошу присядь, раздели со мной ужин.
Я встала, оглядываясь. Комната решительно сделалась больше, чем была. Я потрогала рукой обивку стены.
— Это настоящее? — не веря своим глазам, спросила я.
— Совершенно настоящее, дорогуша. Для того чтобы сделать ненастоящее, не стоит и хвостом щелкать.
Я ошарашенно села на стул. Крыса устроилась напротив, и тут произошло еще одно непонятное явление: крыса сидела на одном уровне со мной, одновременно оставаясь все такой же в размерах. Как это возможно?!
Она снова прочла мои мысли и сказала:
— Я повторюсь про границы обыденного. Надо просто уметь их раздвигать. И тогда очень многое станет возможным. Как-нибудь почитай элементарные основы абстрактной алгебры, уже не будешь чувствовать себя такой дурочкой. Что ты обычно предпочитаешь на ужин, девочка?
В пансионе на ужин нам давали стакан теплого молока с омерзительными пенками и подсохшие, оставшиеся от завтрака булочки. Ни то, ни другое я терпеть не могла. Видимо, крыса прочла и эти мысли, потому что сказала:
— Понятно. Тогда я закажу на свой выбор. Паровые котлетки из филе рябчика под сырным соусом, пенджабский рис с медом и пряностями, тарталетки с осетровой икрой — наверняка ты в жизни такого не пробовала, детка, и… пирожки! Конечно! Как я мог не прочесть это в твоих мыслях сразу! Ты же обожаешь пирожки! Хорошо! Изволь. С дюжиной разных начинок, полный поднос! И… вино. Тоже выберу сам. В этом сезоне принято пить слегка подогретое инкерское. Тебе понравится.
— Я никогда не пила вина, мессер.
— Поверь, в этом нет ничего ужасного. Тем более что у меня к столу подают все только лучшее, и тебе не грозит опасность захмелеть от какой-нибудь гадкой сливянки.
— У вас к столу, мессер? Но кто вы?!
— Об этом мы поговорим позже. А пока — приятного аппетита!
И на пустых серебряных тарелках сами собой появились такие ароматные кушанья, что мой рот вмиг наполнился слюной, а живот заурчал, как голодный оборотень. Я принялась пожирать котлетки, заедая их пирожками, и только когда первый голод был утолен, сообразила, как неприлично выгляжу перед хозяином этого великолепия. Обжора! Чавкающая обжора!
— Простите, мессер, — я покраснела.
— Ничего, дорогуша. — Крыса сидела и пристально наблюдала за мной, вертя в лапке серебряный бокал. — Ты юна, а юность всегда голодна. Тебе не нужно передо мной чиниться. Но отведай вина! Возьми в руку свой бокал.
Я повиновалась и увидела, как в моем пустом бокале вдруг появилось вино, темное, ароматное, густое.
— За наше знакомство! — поднял бокал мессер.
Я сделала глоток. Восхитительно! Такое впечатление, что меня поцеловали розы и ангелы!
— Нравится?
— Да, мессер, — я выдохнула. — В жизни не пробовала ничего подобного.
— Ничего особенного, дорогуша, — отмахнулся крыс. Теперь я буду называть его так. — Тебе предстоит попробовать немало прекрасных вин и отменных яств, поверь, уж я-то знаю.
— Откуда? То есть я понимаю, мессер, вы, наверное, волшебник…
— Хи-хи, дорогуша, я куда более могуществен, чем любой волшебник в этом мире или в других мирах. Но речь не обо мне.
— Почему не о вас, мессер? — я сделала еще глоток. — Я совсем не знаю, кто вы и как вас зовут.
— Люция, в тебе есть наблюдательность, и даже пирожкам с начинкой из тертых креветок ее не заглушить. Это мне нравится. Это говорит о том, что в других ситуациях ты не дашь незнакомому собеседнику увлечь себя и всегда останешься при своем. Храни это качество, девочка, воспитывай его в себе, и никто не застанет тебя врасплох.
— Но вы так и не ответили… Вы мне заговариваете зубы, мессер, да?
— О нет. Конечно, я отвечу. Да, ты можешь называть меня волшебником, ибо волшебство во всех его видах также является одной из моих многочисленных способностей. А вот имени своего я тебе не скажу.
— Почему, мессер?
— Никто из живущих сейчас или прежде не может узнать мое имя и после этого остаться в живых, лапочка. Это имя само по себе так могущественно, что превратит в пар любого, кто только подумает о нем, не то что произнесет. Но чтобы нам было легче общаться, ты можешь называть меня, например… Софус. Если ты хорошо знаешь старолитанийский диалект, то ты понимаешь, что означает это слово.
— Софус… Мудрец?
— Совершенно верно, дитя. Итак, можно считать, что мы познакомились. Продолжай ужинать, поскольку я чувствую, что ты еще голодна.
— Но, мессер, у меня так много вопросов!
— Хорошо, задавай. Я стану отвечать.
— Для чего вы появились здесь, в карцере, мессер? Для чего устроили все это?
— Хи-хи, можешь считать меня любителем маленьких глупых девочек, попавших в беду.
— У меня есть на тебя планы, дорогуша. Я как раз затеваю одно дельце, и мне не помешала бы помощь маленькой глупой девочки.
— Я не маленькая и уж отнюдь не глупая, мессер Софус, иначе вряд ли вы пришли бы мне на помощь, верно?
— Ну, не обольщайся. Я помог бы и другой девочке, оказавшейся в этот момент в этом месте. Так состыковались грани.
— Какой момент? Какое место? Какие грани, мессер?
— Тебе это пока не нужно знать. Знай только одно: я могу изменить твою жизнь. Изменить ее к лучшему, Люция. И я сделаю это, если ты пойдешь мне навстречу. Понимаешь?
— Я должна что-то сделать для вас, мессер? В обмен на лучшую жизнь?
— Именно. Но это случится не сразу. Мы будем большими приятелями, Люция, и ты сама поймешь, когда ты сможешь отплатить мне за то, что я сделаю для тебя. А я изменю твою жизнь с первым ударом часов, которые скоро пробьют полночь. О пансионе, монахинях и своих одноклассницах ты отныне будешь вспоминать только с усмешкой. Твоя жизнь станет прекрасной, счастливой, богатой. Ты получишь все, о чем только может мечтать человек.
— Это правда, это не розыгрыш?
— Дитя, мне ни к чему тебя разыгрывать. Ты нужна мне. Так сложились грани. А я пригожусь тебе, уж поверь. А теперь выпей еще вина.
Я допила остатки вина в бокале и поняла, что объелась и хочу спать. Последнее, что я помнила об этой ночи, — как ложусь на кушетку, утопая в мягких подушках, укрываюсь одеялом и слышу отдаленный бой монастырского колокола, возвещающего полночь.
Глава третья Что еще за новости
Некоторые жалуются мне на то, что их жизнь скучна и однообразна. Я благословляю их завести пасеку, коз и кроликов.
Повторных жалоб не поступает.
Из проповедей Его Высокоблагочестия, т. 97Я проснулась от визгливого скрипа двери, что вела в мой карцер. Разлепив веки, я увидела на пороге одну из послушниц аббатства.
— Вставайте, барышня Веронезе, меня послала за вами мать настоятельница.
— С чего бы это? — пробурчала я. Ужасно болела голова, словно изнутри ее кололи раскаленными вязальными спицами. Рот пересох, и тело было ватным. Что такое со мной произошло? Я заболела в этом карцере?
— Я плохо себя чувствую, — сказала я послушнице.
— Поспешите, — притопнула ногой она.
Я встала и поплелась следом за ней. Свет ламп в коридоре казался слишком ярким, воздух слишком холодным, а звуки чересчур громкими. Что со мной произошло? Наверное, я плохо спала ночью.
Послушница остановилась со мной возле двери настоятельницы и постучала.
— Войдите, — услышала я.
Мы вошли.
Келья настоятельницы была выдержана в белых тонах — занавески, ковры, чехлы на мебель. От этого белого света мои глаза словно ослепли. Я закрыла их и резко втянула в себя воздух.
— Люция, что с вами? — услышала я голос аббатисы.
— Я плохо себя чувствую, матушка, — пробормотала я. — Наверное, это простуда.
— Ну, ну, взбодритесь, дитя. Вы ведь еще не завтракали? Присядьте, позавтракайте со мной, выпейте чаю.
Я? Завтракать с самой настоятельницей? Что произошло? Второе пришествие Исцелителя? С чего это вдруг такие милости ко мне?
Мы сели за стол, послушница налила мне чаю. Я без особых церемоний принялась поглощать песочное печенье, соленые тарталетки с маслом и сахарные завитушки, молясь о том, чтобы это удовольствие продлилось как можно дольше.
— Люция, вы совсем не помните своих родителей? — неожиданно спросила настоятельница.
— Нет, матушка, — я спешно прожевала очередную тарталетку. — Я никогда не знала их. Меня вырастила…
— Да, это я знаю. И то, что она нашла вас в пеленках со споротыми монограммами. Вы никогда не пытались разыскать ваших родителей?
— Нет, — я слегка удивилась бессмысленности этого вопроса. — Это так же сложно, как отыскать иголку в стоге сена. Да и к кому бы я могла обратиться, чтобы начать эти поиски?
— Итак, вы круглая сирота.
— Да, матушка. А почему…
— Я сейчас все объясню вам.
Мать настоятельница встала и заходила по комнате, перебирая бирюзовые бусины на длинных изящных четках. Я потихоньку набивала рот сластями и ждала продолжения разговора.
— На уроках литературы вы наверняка уже изучали стихи нашего знаменитого старолитанийского поэта, герцога Альбино Монтессори.
— Да, — мне сразу вспомнились его эпиграммы, баллады и сонеты. Как я уже говорила, я обладаю великолепной памятью. — Я могу прочитать его наизусть. Хотите?
— Нет, в этом нет необходимости. Дело в том, Люция, что герцог сейчас находится в аббатстве. Его приезд был для нас совершенной неожиданностью.
— А разве?.. — Я была поражена. Я считала, что все приличные писатели и поэты давно почили на лоне рая. — Я думала, что его светлость, ну, давно умер…
— Нет, благодарение Исцелителю, герцог Альбино жив и вполне здоров. Сегодня он приехал в аббатство и весьма любезно попросил исполнить его желание.
— Какое?
— Он спросил, есть ли среди наших воспитанниц круглая сирота четырнадцати-пятнадцати лет. И если таковая имеется, он просит нас устроить его беседу с нею.
— О!
— Барышня Веронезе, вы — единственная, кто подходит под этот… запрос герцога. Я не стала спрашивать, для чего великому поэту понадобилась эта беседа, но я думаю, намерения его чисты и благородны. И еще я полагаю, что это каким-то образом связано с вашими родителями. Со сведениями о них.
Мое удивление было слишком велико, чтобы я могла что-то сказать. Это же надо, как изменилась судьба! Всего одна ночь в карцере, и я буду удостоена беседы с герцогом. Не просто с герцогом, а с великим поэтом современности!
— Что я должна делать, матушка? — наверное, этот вопрос звучал глупо, но я действительно растерялась. Жизнь сделала слишком неожиданный поворот, и я не была к нему готова.
— Послушница сейчас проводит вас в дортуар. Там вы переоденетесь в парадное платье, его уже приготовили. После этого вас отведут в главное хранилище библиотеки. Его светлость изволит принять вас там.
— Как прикажете, матушка, — все удивительнее и удивительнее! Главное хранилище — это запретная святыня почище Исцелительного Ковчега, что хранится в алтаре главной церкви аббатства. И сейчас я сподоблюсь увидеть его! Даже удивление от предстоящей встречи с герцогом Монтессори ушло на второй план.
— И еще, дитя мое, — настоятельница молитвенно сложила руки. — Возможно, это ваша счастливая судьба. Не упустите ее. Будьте благоразумны и докажите его светлости, что мы не зря обучали вас в пансионе столько лет.
— Конечно, матушка, — я склонилась в реверансе. Предварительно покончив с чаем и печеньем, разумеется.
Пока я за послушницей шла в дортуар, мне казалось, что даже здешние стены шепчутся в такт шагам: «Смотрите, это счастливица Люция Веронезе! Ей выпала удача! Ей выпала удача!»
В дортуаре все воспитанницы среднего класса столпились в углу и молча смотрели, как я подхожу к своей кровати, на которой был разложен мой выглаженный и накрахмаленный парадный наряд. Понятное дело, они мне завидуют, ведь даже имея высокородных родителей, никто из них не удостаивался встречи с великим человеком. Что ж, пусть они запомнят эту минуту тем, что я встречу свою судьбу молча. И ни словом не заикнусь о том, что мне предстоит! Впрочем, я ведь и не знаю, что мне предстоит.
Парадное платье было ужасно жестким от крахмала, стоячий воротник возвышался над моим затылком, как снежная гряда, корсет жал (вот оно, злоупотребление сладостями, права была гадючка Роспа, я толстею!). На одной из перчаток я обнаружила дырочку. Не очень-то красиво в свете встречи с герцогом. Придется эту руку держать опущенной. Кроме того, я терпеть не могу перчатки.
Послушница уложила мне волосы в замысловатую прическу и приколола сверху геннин с вуалью. Для тех, кто не знает, что такое геннин, объясню — это высокий конус из картона, обшитый атласом и бисером. Носить его на голове ужасно неудобно, он тянет волосы, давит на затылок, напрягает шею, и вообще чувствуешь себя в нем, как ощипанная курица. Однако считается, что это красиво, и как тут возразить… Тем более когда меня ждет такая удивительная встреча!
Подобно белопарусному барку, я выплыла из дортуара вслед за послушницей. Теперь мы шли гораздо медленнее из-за моего наряда, от напряжения я почувствовала, как по спине текут струйки пота, и буквально заставила себя успокоиться. Меня ждут, а значит, дождутся, потерпят. Значит, я важна.
Главное книгохранилище, оказалось, занимало целый подземный этаж монастырского корпуса. Здесь было прохладно, коридоры освещались по старинке — факелами, а звук шагов заглушали ковровые дорожки. И еще — тишина. Она царила здесь безраздельно, и только шорох одежд да дыхание мое и моей спутницы можно было счесть признаками жизни.
Послушница остановилась перед большими дубовыми дверями, украшенными затейливой резьбой.
— Я подожду вас здесь, барышня Веронезе, — сказала она и отворила створки. — Герцог желает беседовать с вами наедине.
По моему телу пробежали мурашки. Ух ты! А я боюсь. А я мало чего боюсь, крыс, например…
При воспоминании о крысах что-то как будто щелкнуло у меня в голове, я даже замерла на мгновение. У меня возникло ощущение, будто я только что поняла: я что-то забыла. И это я-то, с моей потрясающей памятью!
Все хранилище было погружено в сумрак, только в центре большая настольная лампа освещала стол и два кресла возле. В одном из кресел сидел человек, однако при моем приближении он встал и пошел навстречу. Мы встретились на границе света от лампы и тени комнаты.
— Здравствуй, дитя, — прозвучал глубокий, густой, как сливки, голос.
— Здравствуйте, ваша светлость, — я присела в реверансе, а потом выпрямилась и посмотрела на него во все глаза.
Великий поэт Альбино Монтессори был высоким худощавым мужчиной пожилых лет, с длинными волосами, белыми как снег. Вся его одежда была черного цвета, и тем разительней был контраст. Странная гримаса исказила его черты, и лишь потом я поняла, что так он улыбнулся.
— Дитя, мы плохо видим друг друга, стоя вот так, — молвил герцог. — Прошу, давай сядем.
Я кивнула, почему-то дрожа всем телом. Мы сели в кресла, и тут я смогла лучше разглядеть его. Да, несомненно, возраст у него был солидный — лет сорок, не меньше. Кожа смуглая, на высоком лбу с тремя резкими морщинами сурово сошлись угольно-черные брови. Нос острый, губы тонкие и жесткие, но уродливее всего был шрам, который охватывал его правую щеку, словно черная скобка. Если бы не этот шрам, герцог мог бы считаться стариком изящной внешности, а так он был похож на злого волшебника из сказки. Да еще эти глаза — прозрачные, как лед, сверкающие и холодные. Не хотела бы я стать врагом этому человеку!
Слева его волосы были подобраны вверх и заколоты блестящей круглой брошью, напоминающей восьмилучевую звезду. На груди поверх камзола висела массивная цепь из светлого золота, и на ней подвеска — резной золотой лист какого-то растения, я такого ни разу не встречала. Руки герцог положил на стол, и я увидела, что его пальцы унизаны сверкающими перстнями. Значит, поэзия сделала его таким богатым, подумала я, это надо же. Чего тогда хочет поэт от такой замарашки, как я?
— Мне сказали, дитя, что тебя зовут Люция, — медленно, словно подбирая слова, заговорил герцог.
— Да, ваша светлость.
— Отныне я велю тебе… то есть я прошу тебя, дитя, называть меня просто Альбино. Или герцог Альбино, если ты стесняешься.
— Хорошо, герцог Альбино.
— Давно ли ты в пансионе Святого Сердца?
— С самого малолетства, герцог. Точнее, с семи лет.
— И ты не знаешь своих родителей? Никогда их не встречала?
— Нет, герцог.
— И у тебя нет никого близких? Нет семьи, которой ты была бы дорога?
У меня почему-то запершило в горле, но я сказала твердо:
— Нет.
— Но ведь кто-то растил тебя до тех пор, пока ты не пришла в пансион.
— Это была простая неученая женщина, хозяйка одного трактира. Поначалу она приезжала в пансион навестить меня, а потом перестала, вот уже много лет. Наверное, она умерла. Или забыла обо мне.
Он побарабанил пальцами по столу:
— Хорошо. Каковы твои успехи в учении, Люция? Что ты умеешь, много ли знаешь?
— Я одна из первых в классе по словесности, математике и риторике, герцог. Еще я хорошо знаю физику, химию, человековедение, географию и ботанику. Я неплохо фехтую, плохо пою… и… наверное, все.
— А языки?
— Старолитанийский и затуманский, герцог Альбино. Государственный диалект, само собой разумеется. Могу писать и читать со словарем по-цвейгландски.
Его некрасивое лицо оставалось бесстрастным. Неужели я не угодила столь обширными знаниями его светлости? Между прочим, многие в моем возрасте и того не умеют!
— А рукоделия? — герцог удивил меня этим вопросом. — Умеешь ли ты вышивать, шить, вязать? Плести кружева?
— Э-э, совсем мало, — покраснев, созналась я. — У меня не лежит душа к рукоделиям, герцог. Зато я люблю рисовать! И еще изучаю парусное дело!
— Что ты говоришь, — протянул герцог. — Какие интересные увлечения для пятнадцатилетней монастырской воспитанницы. Ты что же, любишь море?
— Я никогда не видела его, но я читала о нем, и да, наверное, полюбила. Я много мечтаю о море, о том, чтобы увидеть его. Увидеть корабли…
— Понятно, — оборвал меня герцог. — Что ж… Полагаю, ты мне подходишь.
— Простите? Для чего?
Он снова побарабанил пальцами по столу.
— Видишь ли, Люция. У меня есть дочь твоего возраста. Ее зовут Оливия. В силу некоторых обстоятельств она почти не общается со своими ровесницами. Я решил, что ей нужна подруга. Или компаньонка, как тебе угодно.
Святой Исцелитель, какой стыд! Меня хотят сделать компаньонкой! Меня, которая мечтает стать отважным мореплавателем и путешественником! Чтоб мне сидеть и вытирать сопли какой-то великовозрастной папиной дочке!
— По твоему лицу, Люция, я вижу, что тебя не прельщает такая перспектива. — Альбино дернул щекой, и шрам-скобка сжался и разжался. — Но, прежде чем ты откажешься, я хотел бы тебе немного рассказать о своей дочери. Ее мать умерла, когда Оливия была совсем малюткой. Я в то время был в военном походе, думаю, ты слышала о Десятилетней войне. Воспитанием моей дочери занимались няньки, сиделки и служанки, и они слишком избаловали ее. Во всяком случае, я так считаю. Оливия выросла слишком капризной, изнеженной, самолюбивой. Она привыкла добиваться исполнения малейших своих прихотей, закатывая истерику. Мне это не нравится. Я помню, какой была мать Оливии, и не хочу, чтобы супруга упрекала меня с того света, что я испортил нашу единственную дочь. Ей нужно другое воспитание, другое общество, нежели няньки и служанки. Ей нужна ровесница, которая не станет потакать ее капризам, а научит быть сильной, выносливой и разумной девочкой. И я думаю, что ты справишься с этой задачей.
— Но почему вы так считаете, герцог Альбино?
— Ты сирота, и мир с самого начала был к тебе равнодушен, — молвил герцог Альбино. — Однако ты научилась жить с этим, и не просто жить, ты обладаешь живым умом, гибким характером, настойчивостью и крепким здоровьем. Мне говорили об этом сестры аббатства. Они указали на тебя, как на самую непоседливую, самую хитроумную и зловредную девочку в пансионе. Мне это нравится. Именно такой я вижу компаньонку для своей дочери. Ей нужно разогнать кровь, взбодриться. Ты подходишь как нельзя лучше. Кроме того, раз ты сирота, никто не станет возражать против того, что ты станешь выполнять эту работу. И — это немаловажно — ты будешь получать за нее деньги. Я открою для тебя счет в банке Старой Литании, и когда Оливия сочтет нужным с тобой расстаться, ты покинешь мой замок, имея при себе не только жизненный опыт, но и деньги, которые помогут тебе самостоятельно устроиться в жизни. Кроме того, у меня большие связи. И возможно, когда-нибудь ты сможешь поступить в школу мичманов, если еще будешь хотеть путешествовать и увидеть море. Как тебе такое предложение?
А чего я, собственно, хочу? Торчать в пансионе до совершеннолетия, а потом оказаться в каком-нибудь захолустье без средств к существованию? Ну, допустим, возьмут меня учительницей в деревню или, опять-таки, компаньонкой… Это не приблизит меня к морю и каперскому патенту! А тут есть возможность получать деньги, выполняя нехитрую работенку воспитательницы герцогской дочки. Наверняка эта дочка — воплощение серости и тупости, зануда, задавака, плакса. Ничего, я ей действительно сумею разогнать кровь!
— Я согласна, герцог Альбино.
Опять эта гримаса, долженствующая означать улыбку.
— Признаюсь, иного ответа я и не ждал от такой девочки, как ты. Что ж, не будем терять время. Собирай вещи, дитя, и отправимся в путь. К середине завтрашнего дня мы будем в замке Монтессори. Переночуем на постоялом дворе.
— Да, герцог.
Я вышла из книгохранилища, не чуя ног. Исцелитель, как вдруг изменилась моя судьба! Я посмотрела на ожидавшую меня послушницу так, словно она была привидением.
— Что? — ахнула она. — Что сказал тебе герцог, дитя?
Я вздернула плечи:
— Я больше не дитя. Мне предложили работу в замке герцога. И я уезжаю с ним немедленно.
Когда я вернулась в дортуар, данная весть, видимо, уже облетела моих однокашниц, опередив меня чуть ли не волшебным образом. Они смотрели на меня с какой-то нерешительной завистью, и мне вдруг стало обидно, что никто из них за меня не порадуется, никто не повиснет на шее с радостным воплем: «Ты молодец, Люция!» Что ж, обойдусь. Я послала им общую улыбку и подошла к своему шкафчику. Выложив оттуда свои немногочисленные пожитки, я поняла, насколько нищими они выглядят. Что ж, думаю, его светлость позаботится о том, чтобы компаньонка его дочери выглядела соответствующим образом.
Послышались шаги. В комнату вошла монахиня-келарница, державшая в руках небольшой заплечный мешок.
— Твои вещи здесь, Люция Веронезе, — сказала она. — Тебе их велела передать мать настоятельница.
— А… — я растерялась. — Как же эти?..
— Оставь. Мы не можем отправить нашу дорогую ученицу в далекий путь, не снабдив ее самым лучшим и необходимым. Надеюсь, ты станешь добрыми словами вспоминать наш пансион.
— О, разумеется, — я улыбнулась от всей души. — В этом вы можете не сомневаться.
Я взяла мешок (довольно тяжелый, надо признать) и вышла следом за келарницей. Мое парадное платье шуршало, как ворох бумаги, и я очень надеялась на то, что в ближайшем будущем мне не придется его носить.
Глава четвертая Еще одна странная ночь и немного о поэзии
Некоторые люди сразу не понимают, что им улыбнулось счастье. Поэтому, когда счастье улыбается во второй раз, улыбка его выглядит зловеще.
Из проповедей Его Высокоблагочестия, т. 133Герцог и я заночевали на постоялом дворе. Тут же имелся трактир «Серебряная роза», но, разумеется, ужин каждому из нас был подан в комнату. Я впервые ночевала одна, в отдельной комнате, с камином, в котором умиротворяюще потрескивали дрова, с широкой кроватью под бархатным балдахином, с комодом, туалетным столиком и очаровательной скамеечкой, на которой можно было устроиться перед камином, смотреть на огонь и неспешно поглощать кроличье рагу, запивая его сидром. Было тихо, поскольку к постоялому двору карета подъехала за полночь, благо сонный хозяин оказался настолько любезен, что подготовил комнаты и даже велел кухарке разогреть ужин.
Покончив с едой, я поставила поднос с посудой на комод, а сама подошла к окну. Я до сих пор не могла осознать, какие удивительные перемены произошли в моей жизни столь внезапно и какие ждут впереди. Всю дорогу я почти не говорила ни слова, да, собственно, и его светлость был молчалив. Как только карета отъехала от ворот аббатства, он достал из стоявшей рядом с ним на сиденье дорожной сумки какую-то книгу и погрузился в чтение. Я же просто глазела в окно, поскольку доселе не была избалована зрелищем пейзажей. А посмотреть было на что. Стоял последний месяц весны, широкие поля зеленели, по обочинам росли алые тюльпаны, ветер доносил аромат цветущих садов. Я постаралась вдохнуть этот аромат полной грудью и удержать в себе как первое впечатление о новой жизни. Я понимала, что в обществе его светлости мне следует вести себя сдержанно, и поэтому спрятала радость от обретенной свободы глубоко в сердце.
…Сейчас в мое окно светила луна, ее ртутно-серебряный свет делал двор и растущие на нем деревья сказочными, как будто ненастоящими. Я отодвинула задвижку и приоткрыла окно. Пахло свежей зеленью, какими-то сладкими цветами и немного навозом из конюшни. Нежно пела ночная птица, рассыпая свои трели, словно стеклянные шарики. Какая красота!
Я зажгла свечи и принялась разбирать свой дорожный мешок. В нем оказалось несколько пар белья, повседневное платье и передник. Что ж, это лучше, чем тот парадный крахмальный кошмар, который на мне был до сих пор. Я принялась раздеваться и первым делом избавилась от ненавистного конуса на голове. Как хорошо, что, повзрослев, я стану капитаном, а не великосветской дамой, и буду носить только удобную и практичную одежду.
Переодевшись в ночную сорочку, я расплела волосы, причесалась и умылась. Хотя была глубокая ночь, спать не хотелось, поэтому я просто устроилась напротив камина и стала любоваться на причудливые языки пламени. И видимо, все-таки я заснула, потому что как иначе я смогла бы увидеть, что один из огненных языков превратился в большую крысу и выпрыгнул из камина?
— Ой, — только и сказала я.
— Ну-ну, лапочка, — услышала я скрипучий голосок. — Не бойся. Тебе уже пора привыкнуть к моим появлениям. Со страхом мы разобрались в прошлый раз.
— Мессер Софус? — удивилась я. — Как вы здесь оказались? И почему вы вышли из камина?
— Дорогуша, это технические подробности, которые тебе совершенно ни к чему. Лучше скажи, как тебе нравятся изменения, произошедшие в твоей жизни? Я ведь держу свое слово. Твоя жизнь отныне не вернется вспять.
— Спасибо, — улыбнулась я. — Я еще не знаю, как будет там, в замке герцога, но надеюсь, что сумею прижиться.
— Ты выбрала удивительно точное слово, дорогуша. Ты словно ветка дикой молодой яблони, которая привьется к иссохшему старому дереву и даст новые побеги и сладкие плоды. Что, когда надо, и я могу выражаться поэтически?
— Я и не сомневалась в ваших способностях, мессер. Но позвольте вопрос. Почему мы встречаемся только по ночам?
— Ночь — это мое время, лапочка. К тому же я специально сделал так, чтобы ты обо мне не вспоминала до тех пор, пока я сам этого не захочу. Это избавит тебя от искушения выболтать наш секрет.
— А у нас есть секрет?
— Конечно! Это — наши отношения. Мы партнеры, дорогуша. Ты нужна мне, а я… я тоже сыграю в твоей жизни серьезную роль.
— Но что я должна для вас сделать, мессер?
— Не волнуйся, еще рано. Сейчас тебе предстоят более важные дела — например, подружиться с юной герцогиней Оливией Монтессори.
— Это само собой, раз меня везут к ней.
— Дорогуша, не так все просто!
— Что вы имеете в виду, мессер?
— Эта девочка, она, скажем так, непростая. Поэтому тебе потребуется недюжинное терпение, чтобы завоевать ее доверие и внимание.
— Я постараюсь.
— Уверен в тебе, дорогая. Но чтобы тебе было проще, возьми этот камешек.
Крыс протянул мне небольшой черный, гладкий, как стекло, камешек.
— О, — удивилась я, взяв его.
— Это волшебный камешек, он дарит молчаливую мудрость, дорогуша, — сказал мессер Софус. — Пользоваться им довольно просто: когда ты понимаешь, что словами и разговорами ты не можешь убедить своего противника, возьми в рот этот камешек. И молчи! Молчи многозначительно, весомо, спокойно. Этим ты приведешь любого противника в замешательство, ибо ничто так не пугает людей, как молчание в их адрес. И тогда ситуация решится в твою пользу, после чего ты сможешь незаметно выплюнуть камешек и спрятать его до следующего раза. Поверь, мне такое средство не раз помогало.
— То есть вы, — я сморщилась от отвращения, — тоже пользовались им?!
— Как ты брезглива, дорогуша, я же всего лишь крыса! — захихикал Софус. — Нет, конечно! У меня таких камешков целое месторождение! Да, и еще. У этого моего подарка также имеется свойство помогать владельцу находить дорогу туда, где его всегда ждут. Тоже может пригодиться, согласись.
— Пожалуй, — я кивнула и спрятала камешек в дорожный мешок.
— А теперь я откланяюсь, — мессер Софус прыгнул в камин. — Спокойной ночи, лапочка!
— Спокойной ночи!
Я встала, спрятала камешек в мешок со своими вещами и снова подошла к окну. Луна спряталась за облако, воздух посвежел, но незнакомая птица пела все так же нежно…
Я проснулась, обнаружив, что задремала в кресле у окна. У меня замерзли руки и затекла шея, но в остальном я чувствовала себя прекрасно.
В дверь постучали.
— Да! — крикнула я.
Вошла толстенькая служанка с кувшином воды и умывальным газом:
— Как хорошо, что вы уже встали, госпожа! — воскликнула она. — Доброго вам утречка!
— Спасибо, вам тоже. Который час?
— Восемь, госпожа.
Ого! В аббатстве Святого Сердца нас с постелей поднимали в шесть! То-то я чувствую себя как-то странно.
— Вам помочь при умывании, госпожа?
— Я справлюсь, — улыбнулась я. — Оставь кувшин с тазом и покажи, где полотенца.
— Извольте-с. А завтрак подадут черед двадцать минут.
— Его светлость уже проснулся?
— Да, он с раннего утра на ногах. Изволил принять обливание холодной водой у колодца, госпожа. А сейчас ждет вас в трапезной.
— Скажи, что я спущусь через пять минут. Ступай.
Ух ты, как здорово, когда тебя называют госпожой и беспрекословно подчиняются приказам!
Я торопливо умылась, привела в порядок волосы, оделась и, надеясь, что выгляжу так же, как майская роза, спустилась в трактир.
Герцог Альбино сидел во главе длинного стола, накрытого затертой бархатной скатертью. Видимо, трактирщик, гордясь тем, что у него такой высокопоставленный клиент, расстарался.
Я остановилась напротив:
— Доброе утро, герцог Альбино.
Он, не вставая, кивнул:
— Здравствуй, дитя. Садись. Хорошо ли тебе спалось?
Я устроилась напротив и ответила:
— Да, я так не спала… не помню, с какого времени. Отчего вы не разбудили меня раньше? В монастыре нас поднимали в шесть утра.
— В этом нет необходимости. Теперь тебе следует привыкать к распорядку замка, в который мы скоро прибудем. Да, вот еще что. Я заметил, что твоя одежда… она слишком монастырская. Полагаю, замковая портниха сможет по-быстрому сшить тебе один-два наряда, чтобы ты выглядела достойно.
— Как угодно, герцог Альбино. Но…
— Что?
— Меня прежде всего занимает вопрос о вашей дочери.
— Как я уже сказал, это донельзя избалованная и капризная девочка, Люция. Я хочу выбить из нее эту дурь. К тому же… — герцог помедлил. — Оливия — моя единственная наследница. Наследство герцогства Монтессори — это большое богатство и большая ответственность. Уже сейчас руки Оливии ищут несколько знатных, но нищих семейств. Я же не хочу, чтобы она выскочила замуж за какого-нибудь прощелыгу лишь для того, чтобы насолить мне. Но вот и завтрак. Приятного аппетита.
Герцог смолк и в продолжение всего завтрака более не проронил ни слова. Я исподтишка наблюдала за его лицом: оно было бесстрастно и холодно, словно его выточили из цельного куска каррарского мрамора. Мне подумалось, что этот человек не знает никаких чувств, кроме чувства собственного достоинства. Может быть, Оливия Монтессори и капризная задавака, но отец у нее тоже та еще штучка. Даже удивительно, что он при этом поэт. Поэты — они ведь слюнявые размазни и самовлюбленные задаваки, грезящие только о славе и признании. А герцог — не человек, а стальной гвоздь. Мне так кажется.
После завтрака мы продолжили путь. Воздух разогревался, и я поняла, что день будет не по-весеннему жарким. Меня начинала томить скука. Пейзаж за окном кареты не отличался разнообразием — это были зеленые поля озимых, отделявшиеся друг от друга небольшими купами деревьев. Герцог Альбино опять взялся за книжку. Однако в этот раз он вооружился пером и что-то подчеркивал на страницах. От нечего делать я стала наблюдать за его лицом, и выяснилось, что оно не настолько непроницаемо, как могло показаться раньше. Сейчас брови герцога яростно хмурились, глаза сверкали, тонкие губы презрительно кривились. Ему не нравится то, что он читает, догадалась я, как странно, что он столь эмоционально реагирует на книгу и совершенно равнодушен к окружающему миру. И тут герцог поймал меня — его взгляд скрестился с моим.
— Вы наблюдаете за мной, дитя? — холодно осведомился он.
— Простите, герцог Альбино, — я смиренно опустила взор, абсолютно точно копируя поведение самой кроткой монахини нашего аббатства, я сейчас непорочная овечка, да и только. — Но разве служанка не должна как следует изучить своего господина?
— Вы не служанка мне, и я не ваш господин, дитя, — резко ответил герцог. — Запомните это. Слуги не ездят со мной в одной карете. Кроме того, вряд ли вы рассматривали мою физиономию, исходя из столь благочестивого посыла.
Я не удержалась и хихикнула:
— Простите, мне было ужасно скучно. За окном ничего интересного, вот и… Меж тем у вас в руках книга, и мне стало интересно, что в ней, коль вы так эмоционально ее читаете.
— Вы любите книги?
— Да, равно и чтение. Я прочла в монастырской библиотеке ровно столько, сколько позволяли ее возможности и строгие монахини-хранительницы.
— И что вас привлекло более всего?
— Повествования о путешествиях, об открытиях неизведанных земель, о приключениях великих капитанов и путешественников…
Лицо герцога Альбино поскучнело:
— Что ж ожидать от монастырской затворницы… Вероятно, поэзия не была вашим любимым чтением?
— Нисколько, — вздохнула я. — Хотя прочла очень много произведений поэтов прошлого и современности. Ваши стихи я тоже читала, герцог Альбино.
— А читали ли вы сонеты Дионисия Литанского?
— Да, — я кивнула. — Не могу сказать, что они произвели на меня неизгладимое впечатление.
— Отчего же? Что дитя вроде вас может понимать в поэзии и сонетах?
— Я и не понимаю, — пожала я плечами. — Я ощущаю. Поэзия — это математика, герцог, ритм, размер, граница, оковы. Настоящее стихотворение — это математическая формула или геометрическая проекция. Неумение соблюсти форму и точность губит стихотворение, оно становится мертвым. У мэтра Дионисия мертвые стихи, он совершенно не умеет обращаться с полифонией и тоникой.
— Ба! — герцог откинулся на бархатную спинку сиденья, и в его глазах промелькнуло что-то похожее на уважение. — Да кто передо мной? Монастырская воспитанница или литературный критик? Где вы навострились так выражаться, милочка?
— Нас учили анализировать стихи на уроках изящной словесности, герцог Альбино, — молвила я снисходительно. — В нашем будущем нас ждало общество, где от нас ждали подобных знаний. Нас еще и учили писать стихи…
— Представляю себе!
— Но в этом нет ничего сложного, если помнить о математике.
— А как же полет мысли, вдохновение?
— Их всегда можно подчинить логике. По-моему, вдохновение выдумали те, у кого не хватает таланта логики и рациональности, герцог.
— Интере-есно… Я вот как раз читаю новый сборник стихов Дионисия Ливанского и, как вы изволили заметить, весьма возмущаюсь. Не только полным неумением отличить анапест от дактиля, бедной рифмой и длиннотами. Чем больше я читаю, тем более мне кажется, что сей поэт — мучитель слов, заточивший их в застенок своего убогого мозга и терзающий их во имя собственного удовольствия и славы. Лучше б он стал путешественником!
Я хихикнула:
— Да, и на каких-нибудь Огненных островах, полных дикарей, его принесли бы в жертву кровавому божеству или просто зажарили на вертеле. Но тогда вам некого было бы критиковать, герцог Альбино!
— О, — махнул рукой герцог. — Таковые всегда найдутся. Ваше счастье, дитя, что вы всего лишь девочка, а не прославленный поэт современности. И вам не шлют ежедневно письма и посылки со сборниками стихов, рукописями и прочей белибердой, коей заполнена целая комната в моем замке. И увы, я не могу это просто отправить на растопку камина! Я вынужден все прочитывать и составлять мнение о каждом писаке, возомнившем себя поэтом.
— Но зачем вам столь тяжкое бремя, герцог?
— Его возложил на меня король, который, как известно, является почетным председателем Старолитанской литературной академии. Вообще-то, это его работа, но, разумеется, августейший не станет тратить на нее время. Он поручил сие мне, как первому среди первых. И сколь бы я ни ворчал, я все-таки несу это бремя с терпением — вдруг среди россыпи этих слов найдется что-то по-настоящему великолепное, талантливое, даже гениальное? Если это будет новый Овидий, Гораций либо…
— Альбино Монтессори?
— Хм, ну хотя бы. Впрочем, отложим Дионисия. Вы развлекли меня, Люция, и настроили на благожелательный лад. Лучше раскройте вашу тайну: вы сами пишете стихи?
— Избави Исцелитель, герцог! Никогда!
— Но вы так хорошо охарактеризовали поэзию, как математически точную науку, как свойство разума.
— Да, я понимаю поэзию. Настолько хорошо, что не имею ни малейшего желания экспериментировать в этой области. Это для меня слишком просто.
— Ну, например.
— Что?
— Сочините сонет прямо сейчас. Или экспромт-катрен.
— Извольте.
Я подумала минуту, а потом продекламировала:
Чтоб рассеять дорожную скуку, Я поэзию чту как науку, Но попутчик со мной не согласен И поэтому слишком опасен.Герцог рассмеялся.
— Очень мило! Если не считать рифмы бедными, а смысл не соответствующим действительности. Кстати, взгляните в окно: мы почти на месте.
Я выглянула в окно и увидела, что наша карета приближается к огромному замку, окруженному защитным рвом и насыпным валом. Я услышала звон колокола.
— Кастелло ди ла Перла приветствует нас, — пояснил герцог Альбино.
— Замок Жемчужины? — удивилась я. — Ах да, вспомнила: ваша первая книга стихов так и называлась — «Жемчужина».
— Верно. У вас хорошая память.
— Не жалуюсь.
— Что ж, надеюсь, вам понравится место вашей будущей работы.
С грохотом опустился подъемный мост, и карета въехала в обширный двор замка. Отворилась дверца, и я увидела два ряда слуг, выстроившихся по обе стороны алой ковровой дорожки. Напротив кареты стоял высокий худощавый старик в сиреневой ливрее, обшитой золотым позументом. Он низко поклонился:
— Добро пожаловать домой, ваша светлость!
— Спасибо, Фигаро.
Герцог вышел из кареты и подал мне руку:
— Это госпожа Люция Веронезе, компаньонка моей дочери.
Еще один поклон:
— Добро пожаловать в замок, госпожа.
Герцог и я шли сквозь строй кланяющихся слуг, и Альбино говорил, поддерживая мою руку:
— Фигаро — мой домоправитель, но вопросы вашего размещения в замке решит экономисса. Ее зовут Сюзанна.
Я шла, оглядываясь по сторонам, и поражалась тому, как огромен был замок. Мы прошли через внутренний двор и оказались в холле — большом круглом зале, поддерживаемом резными мраморными колоннами. На верхние этажи замка уходили две широкие лестницы, по ним же можно было подняться на галерею, опоясывающую холл поверху. Множество гобеленов и рыцарских знамен украшало стены замка.
— Кастелло ди ла Перла — один из лучших замков Старой Литании, — чуть наклоняясь ко мне, сказал домоправитель. — Его величество, охотясь в здешних местах, изволил дважды посетить замок, и о том сделана запись в памятной книге.
— Чудесно, — прошептала я. Не потому, что здесь бывал король, а потому, что замок действительно был прекрасен. Он словно сошел с картинки в рыцарском романе, так все в нем было совершенно, изящно, соразмерно и гармонично. Стихотворение, поняла я, замок напоминает мне стихотворение. Да не какое-то там, а трехдольник, анапест! Так чередуются колонны, плитки в мозаике, светильники на стенах и потолке! Тот, кто создал этот замок, понимал толк не только в архитектуре, но и в поэзии!
— Люция, — голос герцога вернул меня к действительности. — Прошу вас познакомиться с госпожой экономиссой моего замка. Ее зовут Сюзанна, но вы должны обращаться к ней «метресса». От благорасположения госпожи Сюзанны зависит мягкость ваших тюфяков в кровати и свежесть яиц, поданных к завтраку.
Я низко присела в реверансе перед женщиной, которая, на мой взгляд, ужасно стеснялась всех тех слов, которые говорил о ней герцог Альбино. Метресса Сюзанна была низенькой толстушкой с огненно-рыжими волосами, заплетенными в две толстые косы и уложенные венцом на голове. Платье на ней было густо-винного цвета, а единственным его украшением был парчовый широкий пояс, к коему крепилось кольцо с огромным количеством ключей. Лицо экономиссы было такое простодушное и незатейливое, что напоминало по простоте своей лист подорожника. Глаза, правда, были цепкие, она вмиг окинула меня с головы до ног испытующим взором, но суть этого взора я поняла: не враг ли я замку, герцогу и всему человечеству. Если замок был стихотворением, то метресса Сюзанна, пожалуй, играла роль заголовка.
— Люция, добро пожаловать в замок, — мягким голосом сказала метресса Сюзанна. — Тебе здесь понравится, и когда герцог не слышит, ты можешь называть меня просто Сьюзи.
— Нет, метресса, я не могу, — честно сказала я, ибо эта женщина вызвала во мне восторг, словно была пряничной феей. — Но я надеюсь на вашу дружбу и приложу для этого все усилия.
— Отлично, — улыбнулась Сюзанна. — И первый шаг на этом пути — смена твоего гардероба. Людей, которые раньше тебя одевали, надо, надо…
— Закидать дохлыми лягушками? — подсказала я.
— Да! — Сюзанна хлопнула в ладоши. — И вареным луком!
Мы тихонько рассмеялись, и тут я вспомнила про герцога.
— Ваша светлость…
— Продолжайте, продолжайте, — махнул он рукой. — Кажется, у госпожи экономиссы появилась еще одна подруга по чаепитиям со сдобой.
— Совершенно верно, ваша светлость, — Сюзанна присела в поклоне. — Могу ли я забрать Люцию и идти обустраивать ее покои?
— Нет, погодите. Я не вижу виновницы торжества. Где моя дочь?
— Фигаро пошел в ее покои десять минут назад, но… Вот и он.
Домоправитель с постным лицом и странным именем Фигаро подошел к герцогу и развел руками:
— Ваша светлость, покои молодой герцогини заперты, на стук никто не отзывался. Возможно, Оливия уединилась в библиотеке или оранжерее, я немедленно отправлюсь туда…
И тут мы все услышали вой.
Нет, вой — это не точное обозначение той какофонии звуков, которую производил незримый оркестр. Нет, уже зримый: мы подняли головы и увидели, как по галерее к центральной лестнице мерно вышагивают люди в каких-то черных хламидах с капюшонами. В руках у них были скрипки, лютни, цимбалы, флейты, с помощью которых они неистово завывали, скрипели, звенели, гудели и брякали.
— Это что еще такое? — грозно сдвинул брови герцог, но затем я увидела, как его лицо стало обреченно-печальным: он понял, что это — проказливый замысел его дочери. Ну, ее счастье, что она имеет столь терпеливого отца, будь я на его месте, она бы неделю кушала стоя, а вся замковая крапива пошла известно в какое дело!
«Музыканты» по широкой лестнице спустились в холл и выстроились напротив нас. И тут они совершенно слаженно, с чувством и талантом принялись играть погребальный гимн «О меа лакрима». Понятно, что все это часть проказливой затеи, и нам следует лишь созерцать и развлекаться, но я не любила этот пронзительный гимн, мне стало не по себе.
Внезапно две половины одного гобелена разъехались в стороны, как створки дверей, глазам нашим предстали полуосвещенный коридор и процессия, двигающаяся в зал. Впереди шел юноша в церковном стихаре и нес зажженную свечу. Далее двигался «священник» с кадильницей на цепочке, помахивающий ею из стороны в сторону, так что все наполнилось густым ароматом благовоний. Затем шествовали шесть носильщиков, несших гроб. Замыкали шествие два подростка, выряженные монахами и тащившие два табурета.
Процессия остановилась в центре зала. «Монахи» поставили табуреты, и на них водрузили гроб. Меня передернуло. Он был доверху заполнен бутонами белых роз, так что не было ясно, кто лежит под ними. Но я-то уж не сомневалась, что всю эту отвратительную причуду придумала и воплотила в жизнь Оливия Монтессори! И это изнеженное дитя, которому нужна компаньонка?! Да ей дрын хороший нужен и десяток-другой розог, вымоченных в соленом кипятке!
Меж тем безобразие продолжалось. «Священник», размахивая кадильницей, заговорил громким и гнусавым голосом:
— Возлюбленные об Исцелителе братья и сестры!
— Амен! — пропел хор.
— Скорбный час собрал нас у гроба неподражаемейшей сестры нашей герцогини Оливии Монтессори, покинувшей сию юдоль скорби во цвете лет!
— Амен!
— Покойную сестру нашу отличали высокие добродетели, вороватые руки, тощий зад, косые глаза и кривые ноги, что, как мы знаем, является особым даром благодати Исцелителя нашего.
— Амен!
— Восплачем же и возрыдаем!
— Возрыдаем! Ой возрыдаем!
— Амен!
Кощунники плакали и тряслись в экстазе скорби у гроба минут пять-шесть. Ни герцог, ни кто-либо из его окружения в это время себя никак не проявили. Наконец запал лицедеев иссяк, они остановились, притихли и стали бросать в сторону герцога нервные и испуганные взгляды. Ой, какая порка предстоит! Всем поркам порка!
В зале воцарилась полная тишина. Молчали зрители, молчали актеры, покусывая губы. Пауза была настолько гнетущей, что хотелось разбить тарелку, но хоть как-то исправить положение.
И тут гроб взорвался розами. Я, конечно, преувеличиваю, говоря так, но в тот момент это выглядело сильно. Я даже подпрыгнула от испуга.
В гробу сидела девушка. Определенно. Она была абсолютно лысая, в ушах имела по нескольку серег. Глаза у нее были густо обведены черной тушью, да и губы выглядели так, словно она золу ела. Одета она была в белую мужскую сорочку и много-много цепей и цепочек — на шее, запястьях, даже локтях. Девушка посмотрела на всех исподлобья и прорычала:
— Почему никто не приветствует герцогиню Оливию Монтессори?!
Ответом была тишина. Все ждали слова хозяина, и оно прозвучало:
— Здесь нет герцогини Оливии Монтессори, а есть глупое, вздорное, наглое и бесстыдное существо, коему я, как герцог замка, назначаю наказание в виде комнатной порки розгами.
Ох, я как в воду глядела! Я моментально чую, когда дело пахнет поркой!
— Что?! — ахнула Оливия, мгновенно теряя боевой запал. — Я же просто пошутила! Я развлекалась!
— Некоторые шутки наказуемы, а если слух о них дойдет до Святого престола, наказуемы дыбой, костром и колесованием. Оливия, вы, как изобретательница всего этого безобразия, получите пятнадцать ударов солеными розгами. Остальные участники — по десять.
— Но почему мне больше? — с лысой девицы слетела всякая спесь, и сейчас я видела просто глупенькую, заигравшуюся, капризную девчонку.
— Вы зачинщица, Оливия. Однако я проявил к вам милосердие — вас будут пороть в комнате, тогда как все остальные будут выпороты во дворе замка в присутствии челяди. Каким образом вашей бесстыдной банде удалось раздобыть священные предметы и облачения?
— Я залез в ризницу замковой церкви, ваша светлость, — дрожа, выговорил один из «монахов».
— Твое имя?
— Карло Чиколло, мессер. Я помощник конюха, мессер.
— Я отдаю тебя в монахи. Сегодня же напишу в братство Святого Целестина. Надо поощрять столь ревностное отношение к религии.
— Пощадите, ваше сиятельство! Я не хочу в монахи! Там же оскопляют!
— Зато у тебя всегда будет прекрасный голос. Братство Святого Целестина гордится своим хором с потрясающими мужскими сопрано. Все могут идти. Нет, вы и вы — помогите герцогине выбраться из гроба. Оливия, где ваши костыли?
— Здесь, — с ненавистью процедила Оливия.
Когда она встала, поддерживаемая костылями, я увидела, что юная Оливия, возможно, имела право глумиться над высокими материями. У нее была сильно искривлена спина, так, что голова не могла сидеть прямо, а склонялась к правому плечу, да к тому же одна нога была короче другой. Я никогда не видела людей с физическими уродствами, поэтому меня словно хлестнули по глазам. Она калека! Недочеловек! Для чего ей жить, если вся жизнь для нее — эти костыли! И как смел герцог дать этой несчастной наказание поркой розгами?!
Оливия подковыляла к герцогу и криво поклонилась:
— Мое почтение, мессер отец.
— Я тоже рад вас видеть, дитя мое. Полагаю, вы в добром здравии.
— Насколько возможно в моем положении, мессер отец.
— Ум ваш, во всяком случае, чрезвычайно изобретателен. Я спешу вас обрадовать. Дабы дни ваши не проходили в праздной скуке, я привез вам компаньонку. Извольте познакомиться — Люция Веронезе. Выпускница пансиона при аббатстве Святого Сердца. Отрекомендована в числе лучших учениц.
Это он про меня? Ой, кошмар. Я же вижу, как глаза Оливии стали совершенно бешеными от желания изничтожить меня, отцовский подарочек. Если уж она не боится устраивать маскарады вроде того, что был недавно, мне несдобровать. Но, может быть, если я покажу ей свое сочувствие…
— Я рада быть вашей компаньонкой, герцогиня Оливия, — сублимируясь в сливочное масло, молвила я. И получила:
— С какого дрына? Отец, мне не нужна никакая компаньонка! Лучше прислали бы мне нового учителя фехтования.
— Вам нужна компаньонка, дитя мое, — ровно молвил герцог. — И вы ее получили только что.
— Не, ну дрынасе! Если она вдруг из окна выпадет или во рву утонет — я тут буду ни при чем. Предупреждаю сразу.
— Юная госпожа, все не так плохо, вы подружитесь, — улыбнулась Сюзанна. Видимо, она была не просто экономиссой, а главным замковым миротворцем. — Сейчас я размещу Люцию в ее покоях, а за обедом вы сможете познакомиться ближе.
— Елкин дрын! — вспухла Оливия. — Это еще что — слуги будут сидеть с нами за одним столом!
— Люция не слуга вам, — отчеканил герцог Альбино. — Она ваша компаньонка. И вы лишены сладкого на сегодня за употребление слов, унижающих вашу родовую честь. Да, и не забудьте, у вас на сегодня еще порка. Фигаро, идемте, мне нужно проверить дебетные книги…
— Ваша светлость! — воскликнула я.
— Люция? — герцог удивленно обернулся. — Что-то еще?
Я склонилась в низком реверансе:
— Я прошу вас отменить наказание для госпожи Оливии. Она просто не подозревала, что ее шалость зайдет так далеко…
— Люция, — в голосе герцога послышалось утомление. — Выгораживая мою дочь, вы тем самым не добьетесь ее благосклонности. Поверьте. И Оливия всегда прекрасно знает, что последует за ее очередной затеей. Так что не трудитесь.
— Идемте, милочка, — взяла меня под руку Сюзанна.
Пока мы шли по коридору, ведущему в жилые покои замка, Сюзанна вздыхала и сокрушалась, а заодно довольно бестолково просвещала меня в делах замковых интриг:
— Оливия — несчастнейшее существо из живущих, поверьте мне, девочка моя. Ее уродство, проявившееся в первые годы жизни, оказалось неизлечимым, сколь ни тратились мы на лекарей. А потом злые языки… Ну вы же знаете, людям рты не заткнешь… Стали поговаривать, что недуг Оливии — следствие проклятия, наложенного кем-то из людей, обиженных герцогом Альбино. Но ведь разве всех обиженных перечислишь! Об исцелении Оливии молились во всех церквах герцогства, мало того, была снаряжена паломническая миссия к Святой Мензурке Исцелителя для самой сильной молитвы!
— Но это ничего не дало, — пробормотала я.
— Да, — вздохнула Сюзанна. — Словно Исцелитель отвернулся от бедной девочки. И тогда пошли другие разговоры, пострашнее: что в деле замешаны чары, волшба, ну вы понимаете.
— То есть?
— Стали поговаривать, что Оливия — служанка Истребителя, спаси нас и помилуй Святая Мензурка! Что рождена Оливия на погибель роду человеческому, что когда она достигнет совершеннолетия, за ней придет он, сделает своей Черной Невестой, и они вместе на земле воцарят хаос, зло и разор. Я в это не верю, спаси нас и помилуй Святая Мензурка.
— Я тоже не верю. Глупости. Просто у Оливии редкое, еще неизвестное науке заболевание, и нужно найти лекаря, который сможет его излечить.
— Люция, вы умница. И мы пришли.
Она толкнула рукой резную створку двери, и мы вошли в комнату, которая была просто прелестна. Идеальные покои для юной девушки. Во всяком случае, именно такими они представали в моих мечтах до тех пор, пока я не стала мечтать о капитанской каюте собственной баркентины.
Стены комнаты были обиты светло-золотистым шелком, отчего казалось, что здесь все время солнечно. Большое окно украшали многослойные занавеси с вытканными на них гербами герцогов Монтессори. Камин уже был разожжен, приятно пахло кедровыми поленьями, перед камином стояло кресло, на спинку которого опиралась высокая, костлявая девушка в скромном платье, шали и чепчике.
— Люция, это Катарина, старшая замковая портниха. Во владении иглой ей нет равных.
— Ну вы уж скажете, матушка, — пробасила смущенная Катарина. — Давайте-ка я сниму мерки по-скорому, да к обеду уже сошью какое-никакое платьишко для молодой госпожи. А то одета она ровно гусыня с ярмарки.
— Гм, — только и сказала я.
Катарина достала мерную ленточку и принялась обмерять меня, быстро проговаривая цифры.
— Как вы это запомните?
— Восемнадцать… Исцелитель дал хорошую память, госпожа. Не мешайте… Вот, все, мерки я сняла. Метресса Сюзанна, вы позволите взять для платья отрез синего габардина, что лежит в третьем ларе, кладовка третья, место справа?
— Тот, что дарила госпожа Тончини к сельскому празднику?
— Да.
— Именно его я и хотела тебе предложить. Возьми кружев из четвертой шкатулки слева в пятом ряду. И саржи на подкладку, ну, ты помнишь где. А пластинки для корсета лежат в старом комоде, третий ящик.
Катарина поклонилась и убежала.
— Моя гордость и радость, — сказала метресса Сюзанна. — Я вырастила ее в замке, и, когда состарюсь и уеду в деревню пасти гусей, она займет место экономиссы.
— Ну да, — уважительно протянула я. — И что, она действительно сможет сшить мне платье к сегодняшнему обеду?
— Разумеется, — пожала плечами госпожа Сюзанна. — Конечно, ей помогут еще две белошвейки — обметать, стачать швы… А кроит и силуэт придумывает сама Катарина. У нее безупречный вкус, и очень жаль, что молодая госпожа Оливия ненавидит платья. Нося мужские лосины и туники, она демонстрирует всем свое уродство, что, конечно, не говорит о ее чести и разуме. Что ж, возможно, когда-нибудь она образумится. Мы все молимся об этом.
— Когда герцог приглашал меня стать компаньонкой госпожи Оливии, он обрисовал свою дочь как изнеженное, капризное, избалованное существо. Что-то я…
— Герцог был совершенно прав, дитя мое! Оливия донельзя избалована, а уж какие у нее капризы — сама видишь. Плохо только, что замок полон ее ровесников из знати помладше — их родители спихнули на наши хлеба вроде как для того, чтобы Оливии не было скучно. Вот они и развлекаются.
— У нее злобный ум, — задумчиво протянула я.
— И коварное сердце, — прошептала Сюзанна. — Измученное, жалкое и при этом очень коварное. Будьте осторожны, дитя мое.
— Ничего, — усмехнулась я. — Я смогу за себя постоять.
Обед в замке подавали в два часа пополудни. И ровно в половине второго в мою комнату постучалась Катарина.
— Ваше платье, молодая госпожа. Помочь вам одеться?
— Если не трудно. И еще. Сюзанна ушла распоряжаться по хозяйству, а я еще не очень хорошо разбираюсь в замковых покоях. Вы проводите меня в обеденный зал?
— Конечно.
Катарина споро облачила меня в восхитительное платье, сделавшее меня стройнее и даже чуть старше своих лет. Я выглядела молодой госпожой, дочерью какого-нибудь мелкопоместного дворянина, приехавшего погостить в замок. Волосы она посоветовала мне распустить и просто подобрать с боков темно-синими кружевными лентами, идущими к цвету моих глаз. В результате из зеркала на меня смотрела вполне симпатичная девушка, неиспорченная и даже несколько целомудренная. Кто меня не знает ближе, могут очень легко обмануться, если станут судить обо мне лишь по внешнему виду.
— Идемте, — сказала Катарина. — И постарайтесь с первого раза запоминать дорогу. Вам предстоит здесь долго жить.
— Конечно.
Глава пятая Уроки светскости
У меня часто спрашивают, как вести себя в обществе.
Я привожу в пример картофельное поле: все растут, все цветут и никто не высовывается. Не высовывайтесь, и любое общество будет к вам благосклонно.
Из проповедей Ею Высокоблагочестия. т. 109Катарина подвела меня к дверям обеденного зала и словно растворилась в полумраке коридора. Я потянула на себя тяжелую резную дверь и вошла.
Обеденный зал, как и многое в этом замке, был колоссальным по размерам. В центре стоял длинный овальный стол, притягивающий взоры роскошной сервировкой и множеством серебряных ваз с розами и лилиями. Зал был ярко освещен свечами, и я увидела, что в благопристойной близости к столу прогуливаются парами и небольшими группками человек двадцать пять — тридцать. Преимущественно взрослые, но затем я заметила, что украшенные мозаикой стены подпирают с полдюжины подростков вроде меня, и вид у них голодный и раздраженный.
Внезапно около меня материализовался мессер Фигаро и тихо молвил:
— Я очень рад, госпожа Люция, что вы явились к обеду без опоздания. Позвольте, я познакомлю вас вон с той группой молодых людей, один из них поведет вас к столу. Так принято.
— А почему никто не садится за стол? — тихо спросила я.
— Ждут появления его светлости, — пояснил Фигаро. — Идемте.
Фигаро изящно взял меня под руку и столь же изящно подвел к группе юнцов, от скуки выдергивающих золотые нити из окантовки гобелена.
— Добрый день, господа, — молвил он, учтиво кланяясь. — Позвольте представить ваше благородное общество компаньонке герцогини госпоже Люции Веронезе.
У юнцов сразу загорелись глаза. Все-таки я буду поинтересней гобелена. Хотя бы первые пять минут.
— Господин Паоло Кондорито, сын поставщика двора его величества.
Паоло был прыщав и надменен. На правом предплечье его куртки был приколот здоровенный бант из золотой парчи. Из уроков придворного этикета я вспомнила, что такой бант на плече юного господина означает, что у него имеется высокородная возлюбленная-покровительница. То-то он на меня даже глазом не повел. Хотя мне слабо верится, что с такими прыщами можно оказаться любовником знатной дамы… Впрочем, о вкусах не спорят. Может, она делается сама не своя от наслаждения, когда устраивает ему чистку лица.
— Госпожа Люция Веронезе — господин Андреас Папандреу, старший сын валахского князя древнего рода Папандреу.
Ой, ну этот вообще практически отвернулся. Древний род! Густая кровь! Куда мне до него! Хотя Валахское княжество — нищее, да и на карте имеет размер собачьей блохи.
— Братья Эдмунд и Сервант Макконахи — единоутробные сыновья Рочестера Макконахи, дальнего родственника рода Монтессори по отцовской линии.
— Привет, — выдали братцы. Ну, эти хоть рты открыли.
Я посмотрела дальше, и, как поется в известной душещипательной лирической балладе, мое сердце остановилось.
На меня с веселыми искорками в бессовестных карих глазах смотрел юноша лет восемнадцати, то есть достигший совершеннолетия, и рядом с ним все остальные казались просто щенячьим выводком. Он был строен и подтянут, его кожа, казалось, излучала свет, как излучают его старинные изваяния из мрамора. Во всем облике наблюдалось такое благородство, что я не могла понять — что он делает здесь, а не при королевском дворе?
— А это, — молвил Фигаро, — подающий большие надежды и близкий самому герцогу поэт Юлиан Северянин.
— Рад знакомству, прекрасная госпожа, — учтиво склонил голову поэт.
Что это значит — «близкий самому герцогу»?
Я постаралась стряхнуть с себя наваждение его глаз и сделала общий реверанс:
— Я безмерно счастлива, господа, нашему знакомству. Надеюсь, что у нас найдется немало тем для бесед. Я бы хотела осмотреть здешние гобелены. Никто не составит мне компанию?
— Удостойте меня этой чести, прекрасная госпожа, — поэт Юлиан Северянин протягивал мне руку и улыбался, как падший ангел из верховного легиона Истребителя.
Я лишь улыбнулась в ответ, и мы двинулись по залу, осматривая гобелены. Якобы осматривая гобелены. На самом деле я только и делала, что бросала исподтишка взгляды на подающего надежды поэта. Хорош, нет, прекрасен! И очень, очень зловреден, коварен и испорчен — свои собственные пороки я очень легко могу определить в других людях. Может быть, поэтому он не носит банта высокородной любовницы на своем гордом плече. С ним боятся связываться, чтоб не погубить репутацию. Или наоборот, у него, наверное, этих бантов столько, что он их коллекционирует, прикалывая на стенку булавками, как бабочек. Я невольно хихикнула.
— Сюжет этого гобелена вызвал ваш смех, прекрасная Люция? — спросил Юлиан и показал на гобелен, у которого мы остановились. Я всмотрелась, оказалось, что сюжетом был Вселенский пожар.
— О нет, конечно, — смутилась я. — Это просто мои нескромные мысли…
— У вас имеются нескромные мысли? У такой строгой на вид девушки? — Юлиан сверкнул глазами. — Не изволите ли поделиться ими?
— Просто я подумала, — залепетала я. — Ваш вид настолько прекрасен, что у вас наверняка имеется легион поклонниц…
— Я понял вашу мысль, не продолжайте, — тихо засмеялся Юлиан. — Увы, еще ни одна высокородная дама не удостоила меня своим вниманием и бантом. Я ужасно одинок, прекрасная Люция, особенно в этом замке.
— Отчего же? Герцог — поэт, и вы тоже, разве вы не ведете достохвальные беседы о поэзии, о вдохновении…
— Ведем, — помрачнел Юлиан. — Если б вы знали, как мне эти беседы осточертели! Я бы предпочел разговор со скотницей или шорником, но Исцелитель, видно, услышал мою молитву и послал мне вас.
— Вообще-то, я здесь в качестве компаньонки герцогини Оливии.
— Это ничего не значит. Оливия любит быть одна, и мы с вами составим прекрасную пару собеседников, поверьте. О, а вот и его светлость!
И верно. В зал вошел герцог, сопровождаемый двумя огромными поджарыми черными собаками. Фигаро ударил в маленький медный гонг:
— Его светлость герцог Альбино Монтессори! Прошу к столу, господа!
Все немедленно разбились на пары, мужчины подвели к столу своих дам, усадили и уселись сами. Мы — молодняк — не отстали в изяществе. Просто балет какой-то, а не обед! Даже собаки сидели по обе стороны от герцогского кресла с видом аристократическим и высокопарным.
Немедленно за нашими спинами засновали слуги, выкладывая на серебряные тарелки горячие и холодные закуски. Чего тут только не было! Фаршированные телячьим паштетом фазаньи яйца, мясное ассорти с несколькими видами приправ и пряностей, трехслойные жирные рулеты, наколотые на серебряные шпажки, моченные в вине яблоки, резные фигурки из перченого сала дикого вепря… Это лишь то, что я успела разглядеть. Возле меня остановился слуга с подносом:
— Что угодно госпоже?
— Рулет и мясное ассорти из белого мяса.
Слуга немедленно положил это в мою закусочную тарелку, и я возблагодарила Исцелителя за то, что в пансионе нас учили правилам поведения за столом. К закусочной тарелке не полагалось ножа, а лишь двузубая вилка, и нужно было прилагать все усилия, чтобы при помощи этой вилки есть, не роняя ничего в тарелку.
У меня получилось. Тут виночерпий герцога налил вина в его чашу, слуги так же поступили с нашими бокалами.
— Ваше здоровье, господа, — негромко сказал герцог, приподнимая бокал.
Он пригубил вина, и я почувствовала, что атмосфера стала менее напряженной. Гости мессера Альбино принялись пить, есть и трещать меж собой так, будто до этого момента молчали, словно рыбы.
Едва подносы с закусками стали пустеть, слуги принялись обходить стол с несколькими супницами из фарфора густо-синего цвета, кажется, это чрезвычайно дорогой сорт фарфора, его называют «кобальтовый лоск». Было три вида супов: сырно-луковый с сухариками и мясными шариками, рыбный — из трех сортов рыбы и, как я слышала еще в пансионе, входящий в моду у знати суп из капусты, нескольких видов колбас и отварной свеклы.
Я решила попробовать модный суп. И что же? Он почти не отличался от тех щей, что готовила моя приемная мать в своем трактире! Эту знать с ее странными вкусами просто не поймешь.
К супу также подали вино, я отпила из бокала и услышала, как меня окликает Юлиан:
— Прелестнейшая Люция, неужто капустный суп так увлек вас, что вы не хотите одарить меня беседой?
Я посмотрела на Юлиана:
— Отнюдь. Просто этот суп удивил меня.
— Чем же? Капустой?
Я улыбнулась:
— Нет, тем, что в простонародье он называется «щи» и подается в любом приличном трактире за два с половиной сольдо порция. Разве что в трактире в него вместо колбасы кладут свиные шкварки.
— Откуда вы это знаете? — сделал большие глаза Юлиан.
— Так вышло, что свои ранние лета я провела в трактире, — со вздохом молвила я.
— Я вас обожаю! — томно прорычал Юлиан. — Наконец-то в этом гадючнике появилась хоть одна нормальная девушка. А то все виконтессы, принцессы да баронессы приезжают, а от них тоска зеленая! А вы знаете какие-нибудь трактирные песни?
— Множество. От «Только кружка эля на столе» и «Кордосский перевал, ветер западный» до «Я тебе не девочка, видишь — борода?»
— Восхитительно! Вы обучите им меня, и мы будем петь их дуэтом на первом же салонном вечере, который устроит герцог. Это будет незабываемо! Оливии тоже понравится. Кстати, что-то она не явилась к обеду.
— Вероятно, это из-за наказания, наложенного нынче на нее отцом.
— Странно, я ничего об этом не слышал. Впрочем, я был в западном крыле замка, там отличная библиотека — стоит взять любую из книг, начать читать, и после пяти строк тебя неизменно охватывает непреодолимая сонливость. Так что я все проспал над академическим трудом философа Николая Пизанского. Расскажите же мне, что натворила на сей раз наша драгоценная Оливия.
— Ох… Это была отвратительная насмешка над обрядом выноса и отпевания покойника. Оливия играла роль покойницы, а ее приспешники вырядились в монахов и священников.
— Вы сказали это таким тоном, будто осуждаете эту шалость.
— Осуждаю. И не в том дело, что я религиозна и благочестива, не подумайте, этого и в помине нет! Но я все-таки не зря грызла корки прописных истин в пансионе и одну истину выучила назубок: воруешь пирог — выясни сначала, кому он принадлежит.
— Я не понимаю вас.
— Есть вещи, которые делать просто нельзя. Не потому, что это безнравственно или неприлично, а потому, что это верная смерть. Нельзя совать руку в корзину с ядовитыми змеями или целовать раскаленную сковороду, это любой дурак знает. И любой житель нашей страны в курсе, как карает святая юстиция за оскорбление чувств верующих и тем более за насмешки над верой! Одного доноса в ближайшую святую канцелярию будет достаточно, чтобы Оливию и ее тупых дружков растянули на колесе или подвесили на дыбе. Или живьем зажарили в медном быке.
— Но ведь никто об этом не узнает. Я надеюсь.
— А если? И Оливию не спасет даже то, что ее отец — герцог и великий поэт, приближенный к королевской особе. Ему же еще и достанется на орехи — почему вырастил столь неблагочестивую дщерь! Разве непонятно?
— Так вы не за Оливию переживаете, а за герцога?
— Разумеется. Мессер Альбино — мой работодатель, а Оливию я еще толком и не знаю. Послушайте, предлагаю вам после этого обеда отправиться навестить Оливию. Наверняка порка испортила ей настроение, к тому же досадно сидеть без обеда. Я попрошу кого-нибудь из слуг собрать нам поднос с едой, его и отнесем герцогине. А ваша помощь мне нужна потому, что я еще плохо знаю расположение комнат в замке. К тому же я побаиваюсь оставаться наедине с госпожой Монтессори. Пока, во всяком случае.
— С удовольствием поддерживаю вас. Возвращаться в библиотеку и штудировать том какого-нибудь очередного философа — выше моих сил. Хоть развлекусь.
Я почувствовала себя гордой и мудрой оттого, что придумала всю эту затею.
Взрослая часть стола рассуждала на темы, далекие от моих интересов. Такие слова, как «дефолт», «внутренний долг», «стагнация рынка» и «кризис вассально-рыцарской геополитики», вызвали у меня разве что легкий приступ мигрени. Я улыбнулась Юлиану и принялась за фаршированную индейку с пикулями. Хм, если меня тут так будут кормить каждый день, я превращусь в бочонок сала! Надо себя ограничивать.
Обед закончился десертом — фрукты во льду и несколько сортов сыра. Теперь я только и думала, как выскользнуть из-за стола и не тратить времени на пустые разговоры. Но мне помог сам герцог Монтессори.
Омыв в серебряной чаше руки, он встал и сказал:
— Господа, я благодарен вам за компанию. Обед удался. Надеюсь, кто-нибудь из вас составит мне компанию в партии ма-цзяна. Эту презанимательную игру мне прислали из Яшмовой империи. Также к вашим услугам моя галерея изящных искусств и оранжерея. Надеюсь, вы не заскучаете.
После этого все торопливо встали, шумно и разноголосо поблагодарили герцога и заверили его в том, что скучать им никак не придется.
Я придержала у своего стула служанку с подносом:
— Я могу отнести обед госпоже Оливии? Я ее компаньонка.
Служанка поклонилась:
— Сударыня, мессер Фигаро уже распорядился, чтобы в покои герцогини доставили обед. Но вы можете отнести ей корзинку фруктов, я сейчас соберу…
Так, с корзинкой, полной спелых персиков, винограда и вишни (откуда они здесь весной, из какой страны их доставляют герцогу?), я в обществе прекрасного Юлиана поплелась в покои своей госпожи.
Первое, что отличало покои юной Оливии от всех прочих, так это огромное количество всяких наклеек, налепленных на дверь из благородного мореного дуба. Каким отвратительным вкусом надо обладать, чтобы собирать эти грошовые наклейки, которыми обертывают жевательную карамель для простонародья! Фу!
А еще сверху висел лист бумаги, приколотый к двери настоящим дамасским стилетом:
Кто будет беспокоить понапрасну — изуродую. Фак с вами.
Я поморщилась. Пожалуй, мне придется трудновато на первых порах. Ничего, если что, потребую у герцога повышения жалованья.
Не постучавшись, я открыла дверь и вошла. Комната юной герцогини была захламлена так, что шагу ступить негде. Я беспомощно вертела головой, пока не услышала:
— А стучаться вас не учили?
В глубине комнаты стояло кресло довольно странной конструкции, с каждого бока у него было по колесу. В кресле сидела Оливия и смотрела на меня, как на грязь из-под ногтей.
— Доброго дня, Оливия, — громко сказала я. — Я просто решила не медлить и приступить к обязанностям компаньонки. А мессер Юлиан желал лицезреть вас и пожелать вам здоровья и всяческих благ…
— Дрына лысого он мне хотел пожелать, — рявкнула Оливия. — Он прекрасно знает, что я о нем думаю. У него такие слащавые стишочки, что меня от них пучит!
— Вы и таких не сочиняете! — огрызнулся бедный Юлиан. — Герцогиня.
— Была нужда… Ладно, — тон Оливии стал миролюбивым. — Заходите, раз приперлись. Садитесь вон там.
Я поставила корзинку с фруктами на столик. Он подозрительно скрипнул. Мы сели на диванчик, устроенный в нише большого окна и одновременно с Юлианом поняли, что Оливия не даст себе труда начать разговор первой и тем спасти общество от мучительно затянувшейся паузы.
— Оливия, — начала я. — Вам, наверное, будет интересно узнать, что я обучалась в пансионе при аббатстве Святого Сердца…
— В топку все пансионы, — деловито пробормотало злобное существо и почесало лысину. — И аббатства тоже.
— А между тем, — елейным голоском продолжала я, — мы там изучали много интересных наук, например…
— Например, ты знаешь, что такое фистинг? — прервала меня Оливия и уставилась рыбьими глазами. — А сколько оттенков у серого?
Я мгновенно перебрала в уме все известные мне слова на «ф». Фистинга среди них не имелось. И сколько может быть оттенков у примитивного серого цвета? И уж совершенно непонятно, почему Юлиан краснеет и хихикает, как деревенский дурачок.
— Я не знаю, что такое фистинг, Оливия, и насчет серого цвета тоже не специалист, — с достоинством говорю я. — Но зато я легко могу отличить фок-мачту от стеньга-стакселя, а также знаю все румбы и галсы.
— Капитаном хочешь быть? — удивилась Оливия.
— Да.
— Прикольно. Красава. В чем еще разбираешься?
Оливия крутанула колеса кресла и подъехала поближе ко мне:
— Дай-ка я тебя рассмотрю…
У нее был внимательный и пронзительный взгляд.
— Знаешь, я ведь умею читать судьбы людей по их лицам, — сказала Оливия. — За это меня очень не любят все подпевалы моего отца. Я не могу предсказать им ничего хорошего, и это неудивительно — больших тупиц и лицемеров в мире просто не встретишь.
— А Юлиан? — указала я на красавца-юношу.
— Он женится на какой-нибудь сановитой старухе с огромным приданым, в первый же год брака отправит женушку на тот свет, а состояние растратит на вина, карты и шлюх. Одна из шлюх заразит его постыдной болезнью, и он проведет остаток дней своих, гния в трущобах среди бездомных собак.
— Чушь, — посуровел лицом Юлиан. — Да как вы смеете, девчонка! Я вызвал бы вас на дуэль!
— А вызови!
— К вашему счастью, вы калека, так что вам не отведать моей шпаги.
— Дружочек, ты просто трус, — хмыкнула Оливия. — Не хочешь связываться. Я же тебе отмахну яйца своим эспадроном, не вставая с кресла. Да, но тогда не сбудется мое пророчество — без яиц ты не станешь мужем сладострастной старухи и не получишь ее состояния. Живи. Разрешаю.
Юлиан побагровел:
— Мерзавка! Оскорбляя меня, вы сильно ошибаетесь!
— Своему ночному горшку это скажи, — отмахнулась Оливия. — Я никогда не ошибаюсь!
— Тем не менее вы ошиблись, Оливия, — сказала я, — когда затеяли это непристойное представление с гробом и ряжеными. Разве вы не знаете, что это может оскорбить чувства верующих? Вы, конечно, можете заявить, что вас это не волнует, ведь вы дочь богатого и высокопоставленного синьора, он всегда сможет вас защитить от святой юстиции…
— Вот уж кого я меньше всего боюсь, так это святую юстицию, — Оливия смачно надкусила персик, сок потек по подбородку. — Что же касается моего отца, то он просто лицемерный подлец, и я лучше буду заниматься фистингом на ближнем перекрестке, чем попрошу его хоть о какой-то помощи. Я понимаю, что вас он нанял шпионить за мной, что ж, мне скрывать нечего. Пусть он волнуется за себя, за свою поганую и гнилую душу.
— Как вы можете? Ведь герцог Альбино — великий поэт! Его стихи — достояние нашей страны!
— Сочувствую стране, у которой такое дерьмовое достояние. А ты, Юлиан, что скривился? Переживаешь, что я критикую творчество твоего кумира? Ничего, тебе полезно. Я намедни прочитала твой последний венок сонетов… Нашел бы ты себе лучше девушку.
— Как это понимать? — вспыхнул Юлиан.
— Ты слишком перетруждаешь свои руки, милый, смотри, натрешь волдыри, — и Оливия залилась едким смехом.
Юлиан зарычал и вымелся из комнаты, словно демон, окропленный водой Святой Мензурки.
— Ну вот, теперь мы можем поговорить без этого наушника моего папаши, — отсмеявшись, сказала Оливия. — Ешь вишню. Вкусная. А заодно расскажи мне о себе в подробностях.
Я неожиданно смутилась:
— Рассказывать особо нечего.
— Ну, ты же училась в пансионе, среди целой кучи девчонок! У тебя были там подруги?
— Нет, ни одной.
— Как? И ты ни с кем не сплетничала, не болтала о том о сем, не мечтала, что вот приедет прекрасный юноша высокого рода и сделает тебя своей супругой и хозяйкой богатого поместья?
— Ну, другие девочки об этом трещали с тех пор, как научились выговаривать такие слова. Но я не дружила с ними. Мне было неинтересно.
— А что тебе было интересно?
— Путешествия и приключения в неизведанных землях. Ты читала книгу росского мореплавателя Базиля Головина о кругосветном путешествии на шлюпах «Богиня утра» и «Да ладно!»? Как я им завидую! Они видели закаты и восходы в открытом океане, швартовались у земель, где живут только дикари, открыли Золотой город вымершего племени чича-ица… В общем, я, наверное, зря родилась девчонкой. Надо мне было родиться мальчиком в благородной семье, и тогда я точно стала бы капитаном фрегата или бригавеллы и покоряла морские просторы…
— Чушь.
— Что чушь?
— Твоя судьба не зависит от места рождения. Если тебе суждено быть капитаном, ты им будешь.
— А, ты поклонница философии Неизменяемой Судьбы? А если мне суждено родиться уборщицей отхожих мест в каком-нибудь трактире?
— Тоже вариант. Но пока ты здесь в роли моей компаньонки. А там поглядим.
Глава шестая Я так и не узнаю, что такое фестинг, зато…
Я ратую за здоровый образ жизни.
Людей, которые впадают в излишества, я рекомендую немедленно высылать на лесоповал или другие полезные обществу работы.
Из проповедей Его Высокоблагочестия, т. 107Я потихоньку приживалась в замке. Здесь так же, как и в пансионе, все подчинялось строгому расписанию: завтраки, обеды, ужины, встречи с герцогом (он много работал над новой поэмой, но иногда выкраивал время на встречу с дочерью, а я неизменно должна была присутствовать при этом). Не могу сказать, что моя работа и мое особое положение в замке были мне в тягость. Я очень интересовалась жизнью Оливии, насмешливой девочки-уродца, как, наверное, интересовалась бы каким-нибудь редкостным экземпляром таракана. Нет, вы не подумайте, что во мне не пробуждалась иногда жалость к Оливии, так обделенной Исцелителем! Но Оливия чуяла жалость к себе за сто миль и могла за это врезать будь здоров, так что, общаясь с нею, я скорее чувствовала калекой себя.
Знаний в области астрономии, алхимии, физики и географии у Оливии действительно было больше, чем у меня. Несмотря на всю свою скандальность и ершистость, она обожала проводить время в большой библиотеке, открытой для всего населения замка. Я узнала, что в одном из старых донжонов устроена малая библиотека, называемая скрипторий, и пользовался ею только герцог Альбино, там же он работал над своими гениальными стихами. Иногда я по целой неделе не встречалась с ним. Зато кого хватало в замке, так это всяких, непонятного происхождения и возраста, гостей, и дворецкий герцога по этому поводу пребывал в постоянной меланхолии. Оно и понятно: гости, без коих вполне мог обойтись замок, ели и пили как отряд голодных рейтаров и за милую душу могли опустошить запасы винных подвалов и продуктовых кладовых. Однажды даже я стала свидетельницей того, как милейшая и терпеливейшая Сюзанна ругается на чем свет стоит — оказывается, с визитом к герцогу прибыло семейство из шести родственников — очень дальних, очень бедных, очень нахальных и очень прожорливых. Да, но именно с прибытием этих родственников в замке закрутилась такая история…
Одним из незваной шестерки был восемнадцатилетний троюродный или даже четвероюродный племянник герцога, носивший имя Себастьяно Монтанья, нахальный, высокомерный, заносчивый и требовавший от слуг, чтобы к нему обращались не «синьор», а «мессер», хотя на последнего он никак не тянул. Я подробно опишу его, ибо в моей жизни он сыграл очень интересную роль…
Однажды… Что поделать, с этого простого слова начинаются порой самые забористые приключения. Так вот, однажды мы с Оливией решили попробовать курить кальян.
Оливию пирогами не корми, а дай узнать что-то новое и желательно запретное. Кальян, а также набор кубков и подносов из чеканного серебра, платки яркой расцветки и большой пестрый ковер на днях привезли герцогу в подарок от какого-то богатого поклонника поэзии из далекого и жаркого Аравийского халифата. Я из прочитанных по географии книг знала, что Аравийский халифат — страна вечной жары, песчаных барханов, смуглых мужчин и женщин, с ног до головы закутанных в черную тафту, ибо так им велит их вера. Хотя я думаю, что вера тут ни при чем, и это причуды вкуса тамошних мужчин.
Подарки — кроме посуды и ковра — оставили в большой библиотеке, поскольку именно там суждено было скапливаться всем диковинам и редкостям, подаренным великому поэту. Оставили — и тут же о них забыли, но Оливия (как, впрочем, и я) обладала великолепной памятью на подобные штуки и шустро поскакала на костылях в библиотеку, так, что я еле за нею поспевала.
Войдя в библиотеку, мы огляделись. Никого. Гости герцога не стремились повысить свой интеллект за счет книжных томов, прекрасный Юлиан (ах-ах-ах!) помогал герцогу переписывать набело страницы очередной поэмы, а значит, нашему предприятию сопутствовал успех свыше.
Аравийские дары лежали на низеньком столике из черного дерева. Для очистки совести мы сначала порассматривали узоры на шелковых платках и поудивлялись на черный наряд, который должно было носить истинной аравийке, а потом наши любопытные руки потянулись к продолговатой коробке с надписью на языке этой жаркой страны.
— А вдруг тут не кальян? — спросила я Оливию. — Вдруг тут скорпионы или змеи?
— На какого дрына посылать их моему папаше? — хмыкнула Оливия.
— Ну, чтобы погубить великого поэта. Как ты не понимаешь! Наверняка у него есть враги и завистники. Помнишь, была в древней стране фараонов прекрасная царица Клеопудра? Ей соперница велела сунуть руку в корзинку со змеями! Правда, потом выяснилось, что змеи были дохлые, но все равно неприятно…
— Успокойся, — презрительно отмахнулась Оливия. — Я умею немного читать по-аравийски. Тут написано что-то вроде: «Благословенное устройство, с которым можно узреть сады гуппи».
— Гуппи? — удивилась я. — Это ж вроде рыбки такие, махонькие. Их для красоты держат в больших стеклянных вазах.
— Ну, не знаю, — отмахнулась Оливия. — Может, аравийцам с их пустынным климатом за счастье узреть сады и рыбок в вазах. А может, это вообще подводные сады. И там можно плавать вместе с гуппи. Хватит болтать! Я открываю коробку!
Мы затаили дыхание. Оливия отогнула зажимы и сняла крышку. Под ней оказался слой шелковой ткани. Сбросив и его, мы узрели набор лакированных палочек, небольшой стеклянный сосудик с носиком и…
— Ой, змея! — пискнула ваша покорная слуга.
— Дура, — оценила мой писк беспощадная Оливия и потянула из коробки длинный и гибкий… — Это каучуковый шланг. Видишь, внутри он полый. Значит, он соединяет что-то с чем-то, и нам только осталось выяснить, что и с чем. Ты когда-нибудь собирала кальяны?
— В аббатстве Святого Сердца они не были в употреблении, — хихикнула я. — Смотри, тут еще коробочка с надписью, причем на нескольких языках, даже на нашем: «Волшебная трава». А вот еще сосудик, и на нем написано «Волшебная вода».
— Как же он собирается? — задумчиво вертела в руках шланг Оливия.
— Тут наверняка должна быть инструкция. Ага, вот смотри, целый свиток! Тоже на нескольких языках.
— Читай, что написано.
— О, вот. «О, плешивый неверный! Если ты желаешь воспользоваться Благословенным Кальяном и попасть в сад райских гуппи (смотри, насчет гуппи мы не ошиблись!), то точно соблюдай инструкцию. Прежде всего возьми сосуд А и прикрепи к его верху устройство Б».
— Так, — Оливия явно была сообразительней меня. — Все просто. Это сюда, это — туда, а шланг присобачить сбоку. Что там еще?
— «Разогрей уголь с волшебной травой в чаше Ц и просто добавь волшебной воды в сосуд А. Когда узришь клубы благодатного дыма, возьми в рот шланг Д и равномерно втягивай дым в гортань и выдыхай его маленькими облачками во славу Священной Книги и ее пророка. Соблюдай при этом меры противопожарной безопасности, о неверный пес! Да поразит Единый и Милостивый всякого иноверца!»
— Ух ты! — только и сказала я.
Кальян выглядел, как сказали бы галльцы, «юн де шик». Вода забулькала, и немного запахло волшебными травами.
— Чур, я первая попробую, — заявила Оливия. — Я дочь герцога и вообще…
Я не нашлась, что возразить.
Оливия с некоторой опаской в лице взяла трубку и затянулась. В кальяне забулькало. Надув щеки, Оливия смотрела на меня, как царица Клеопудра на корзинку с дохлыми змеями.
— Вдохни, — посоветовала я.
Она послушалась и тут же разразилась адским кашлем. Почему именно «адским»? Ну, согласно учению святой юстиции, в аду ужасно холодно, просто сплошные ледники с вмерзшими в них грешниками. А чтобы грешникам было совсем невыносимо, они постоянно болеют простудой, кашляют, чихают, заливаются слезами и соплями. А в самом последнем круге ада, говорят, еще и снег заставляют чистить, а он постоянно сыплется. Ну, это для особо неблагочестивых. Так вот, Оливия кашляла, как тот самый грешник.
Я похлопала ее по спине и взяла трубку.
— Будем следовать инструкции, — сказала я и втянула в рот горьковато-сладкий дым. Вдохнула. Легкие наполнились сплошным безобразием, и я тоже приобщилась к обществу простуженных грешников.
— Это по первости, дальше привыкнем, — сипло сказала Оливия. — Давай еще по паре затяжек.
— Может, хватит?
— Я хочу в райский сад с гуппи, — капризно сказала Оливия. — Я дочь герцога, мне можно!
Ну, сад так сад, гуппи так гуппи.
Мы по очереди принялись жадно затягиваться волшебным дымом.
— Ой, — сказала вдруг Оливия.
— Что?
— Никогда бы не подумала, что пальма в углу библиотеки может так классно цвести! Зацени!
— Оливия, там нет никакой пальмы.
— Протри глаза! Это самая настоящая пальма, веернолистная, классическое название — «пальмум суперпулерум». Растет… Да, растет по преимуществу в библиотеке моего отца…
— Дрын мне в зад, если я вижу там пальму! Оливия, там настоящая мраморная беседка. И в ней сидят гуппи! О, я узрела райских гуппи!
— Дура обкуренная, как рыбки могут сидеть?
— Не-не-не! Волшебная трава открыла мне истину: гуппи — это не рыбки! Это такие де-е-евушки…
— Да ладно!
— Присмотрись сама. Вместо ног у них хвосты. А вместо груди две здоровенные ракушки. И от них жутко воняет рыбой! Фу! А ты все пальмы, пальмы… Да, надо еще затянуться… Первая справа гуппи в таком классном розовом… э-э, наряде на голове. И у нее розовая сумочка. Она мне улыбается!
— Кто, сумочка?!
— Сумочка — это само собой, мне еще улыбается прекрасная гуппи.
— Дай-ка я затянусь покрепче. Я хочу, чтобы это лето не кончалось, и мне тоже улыбались гуппи.
— А при чем здесь лето?
— К слову пришлось. Ф-фух… О да! Слушай, компань-пань-онка, с чего ты взяла, что гуппи — это женщины?
— А?!
— Это же нормальные мужики с жабрами и здоровенной чешуей на… хм, ногах.
— У них есть ноги?
— У них все есть. Они даже одеты по моде жителей Древней Старты: юбочка из водорослей, белые носки, и поверх носков — каучуковые сандалии. Ты же знаешь — в Древней Старте были очень суровые нравы, и там все мужчины были обязаны носить носки и сандалии, кто не соглашался — падал со скалы…
— И превращался в гуппи… Ой!
— Что?
— Герцогиня, я даже не знаю, как сказать.
— Да говори уже!
— Все пропало.
— Что «все»?
— Ну, беседка, пальмы, стены. Слуш-те, мы это, посреди моря на маленьком и очень необитаемом острове!
— Как он может быть необитаемым, если на нем мы? Где твоя логика, тупая ты коза?..
— Я не коза! Я не блею и не даю молока! Логично? Да! Так что и с логикой у меня все в порядке! И оставьте нас в покое с моим кальяном, герцогиня! Мы х-тим спать и видеть сны.
— Не спи, замерзнешь! Разве ты не поняла?! Это не остров, это огромная льдина! Мы в Северном океане! Смотри — прямо по курсу черная точка!
— Она приближается! Это корабль!
— Это не просто корабль! Это «Ботаник»! Он сейчас врежется в нашу льдину, получит пробоину и затонет!
— О нет! Эта история всегда разрывала мне сердце!
— Потому что там была дурацкая несчастная любовь?
— Нет, потому что на «Ботанике» везли сто тысяч фунтов золота и алмазов, и все это сгинуло в пучине морской! Мы должны помешать крушению, тогда золото и алмазы будут наши!
— А прекрасный художник Леонардо Ди Ванчик влюбится в меня, а не в эту дуру с корабля! Раздувай кальян! Мы будем сигналить им дымом из наших ртов! Давай!
Мы очень добросовестно сигналили легендарному трехмачтовому баркасу «Ботаник», так что он в нас не врезался. Врезались мы. В стену. Мы не договорились с Оливией, что это будет за стена и откуда она взялась на нашем боевом и полном приключений пути, но, ощупав стену как следует, я поняла, что это ноги.
— Исцелитель, твоя воля! — сказали ноги. — Да эти зассыхи обкурились!
— Да как вы смеете! — тут же заорала Оливия. — Я не зассыха, а герцогиня крови! Я вызываю вас на ду-ду-ду…
— Так, — сказали ноги. — Мне нужна помощь Фигаро.
Мне почему-то стало смешно.
— Фигаро! — запела я баритональным басом. — Ди квалита! Ди квалита!!! Дульче коза чи респоза! Экселенс! Пэр фаворе еще затяжечку!
Дальше я ничего не помню. Я начала осознавать реальность некоторое время спустя, и реальность предстала мне в виде медного корыта, доверху наполненного ледяной водой и мной. Общество ледяной воды я нашла крайне неприятным, о чем и не преминула немедленно заявить громкими, душераздирающими криками.
— А ну тихо! — услышала я крайне суровый голос. — Сидеть! Куда из ванны!
— Мне холодно! — запищала я. — Сюзанна! К чему эти муки?
— Ах вы, дрянная девчонка! Молчите и терпите, пока не придете в себя окончательно! Вы накурились всякой гадости, так извольте теперь терпеть мое водолечение!
— Ой… — только и простонала я и погрузилась в корыто с головой, ибо та начала немилосердно болеть.
Однако ледяная вода в сочетании с кислющим ревеневым взваром, влитым в меня госпожой Сюзанной, сделали свое благородное дело. Я пришла в себя. Голова болела, но уже не настолько сильно, чтобы я хотела разбить ее о ближайшую стену. Сознанию же было безнадежно стыдно, но не потому, что я накурилась, как бычок в томате, а потому, что меня на этом застукали в самом неприглядном виде.
— Больше никогда, — выдохнула я в трезвеющее пространство.
— То-то же, — сказало пространство голосом госпожи Сюзанны. — Давайте-ка, я помогу вам вылезти из ванны. Вот, закутайтесь в полотенце, я его нагрела перед камином. Так, ну смелее. Немудрено, что вы шатаетесь, как пьяный матрос на побывке. Садитесь вот сюда. Я приготовила вам целебный напиток — в Яшмовой империи его называют драконовым чаем. Пейте, не обращая внимания на горечь, — сразу станет легче: и согреетесь, и голова перестанет болеть.
После третьего глотка горячего и нестерпимо горького «чая» я ожила и приободрилась настолько, что смогла понять, где нахожусь. Это была моя комната. На комоде стоял подсвечник с зажженными свечами, окно было занавешено.
— Который час? — поинтересовалась я.
— Скоро семь пополудни. Госпожа Оливия и вы не явились к обеду! Слава Исцелителю, что экселенс в отъезде и ваше отсутствие взволновало лишь мессера Фигаро и меня! Мы немедленно принялись вас искать, и если бы не мальчишка Монтанья…
— Кто?
— Родственник герцога, Себастьяно Монтанья. Он посоветовал искать вас в библиотеке, и при этом его физиономия была насмешливой, как у рыночного вора! Ставлю свою будущую пенсию, что прежде он насладился созерцанием двух обкурившихся…
— Зассых, — немедленно всплыло в памяти нужное наименование.
— Совершенно верно. Надеюсь, в этом негоднике достаточно порядочности, чтобы не доводить до ушей герцога и прочих замковых жителей это прискорбное происшествие.
— Это я сомневаюсь… А Оливия у себя?
— Да, но ей пришлось потяжелее, чем тебе, детка. На ужин она получит только овсянку и ревеневую настойку, и завтрашний день ей лучше провести в постели.
— Я пойду к ней? — полувопросительно глянула я на Сюзанну.
— Само собой. Одевайтесь, сударыня, и выполняйте свои обязанности.
— Сюзанна, прошу вас, будьте со мной на ты.
— Хорошо, так и быть. — Сюзанна улыбнулась. — Что ты хотела бы на ужин?
— Избавиться от тошноты.
— Понятно. Значит, это будет овсянка и взбитые белки. Имей в виду, дорогуша, я еще не до конца пресытилась мщением за такое безобразие, поэтому буду тебя немного терзать.
— Ой, терзайте, только бы голова перестала кружиться.
Сюзанна помогла мне одеться и проводила до дверей комнаты Оливии. Из-за двери раздавались протяжные стоны.
— Бедняжка, — покачала головой Сюзанна. — Прошу, детка, больше не занимайтесь таким безобразием. Это не только вредно для здоровья, но и выглядит так неэстетично! Вы же девушки, а девушкам полагается вести себя крайне благопристойно. Именно это отличает настоящую девушку от какой-нибудь там лахудры с разбойничьего квартала.
— Какие вы знаете слова — «лахудра», — пробормотала я. — В замке мой тезаурус обогатится просто неимоверно. Кстати, отличная рифма: «пудра — лахудра». Надо будет подкинуть герцогу. Пусть напишет «Песнь о лахудре». Анапестом.
Да уж, Сюзанна тоже не просто экономка. Не удивлюсь, если она тоже по выходным пишет сонеты какие-нибудь или триолеты… Поэзия пропитала этот дом насквозь, как чернила — промокашку. Вот только я какая-то непоэтичная. И Оливия, кстати, тоже.
В комнату герцогини я сначала постучалась для приличия, в ответ услыхала глухой удар чего-то об дверь, по звуку и силе удара вычислила, что это подушка, и спокойно вошла. За время моего пребывания компаньонкой у Оливии я неплохо изучила некоторые ее повадки. В том числе и швыряние многоразличных предметов в дверь. Иногда это были тарелки, вазы, фрукты, книги. Подушки — редко, это означало, что у Оливии совершенно отвратительное настроение и она устала бороться с жестокостью окружающего мира.
Окружающий мир в лице меня вошел в ее комнату.
— Приветствую вас, экселенса, — церемонно поклонилась я, быстренько передвигаясь за кресло у камина. Между прочим, это тот еще талант — одновременно прятаться за креслом и почтительно кланяться.
— Уйди, зараза, — простонала Оливия. — Ой, как мне плохо!
— Мне помог крепкий и горький чай. Отрава на кошачьих какашках. Думаю, это он сервирован на вашем столике.
— С чего это ты мне выкаешь?
— Мало ли. Все-таки мы так накурились…
— Что это произвело необратимые изменения в моем сознании. Чушь. Я бы еще курнула. Гуппи были классные. И «Ботаник».
— Оливия, ты неисправима.
— Уж само собой. Налей мне чаю.
— С удовольствием.
— Мышьяк сегодня не клади.
— Я его никогда не кладу!
— Уж будто ты не хочешь отравить прямую наследницу рода Монтессори, выйти замуж за моего безутешного папочку и стать полноправной хозяйкой поместья.
— При всем моем коварстве и испорченности, дорогуша, — молвила я, подавая герцогине чай, — это мне и в голову не приходило. Кстати, неплохая идея. Хотя… Твой батюшка глубокий старик. Ему ведь, наверное, лет сорок?
— Сорок два.
— Ужас. Какие могут быть браки в таком возрасте? Уже о душе надо думать, о загробном мире. Покупать гроб, саван и место в фамильной усыпальнице…
Оливия отхлебнула чай, поморщилась и рассмеялась:
— Жизнь продолжается! Слушай, как, ты думаешь, Сюзанна нас обнаружила?
— Она искала нас по замку, ибо мы не явились к обеду. И лишь довольная рожа Себастьяно Монтанья, выходящего из библиотеки, помогла ей обрести правильный курс.
— Значит, этот родственный прощелыга нас засек.
— Уж само собой.
— Его придется отравить. Или выбросить из окна, — совершенно серьезно произнесла Оливия. — Сюзанна и Фигаро смолчат о нашем приключении, а вот этот ублюдок разболтает всем.
— Если уже не разболтал!
— Не успеем, значит, заткнуть ему рот…
— Об истории с кальяном узнает экселенс, и порки не избежать нам обеим.
— А-а, для меня это дело привычное.
— Вообще-то я в годы своего пребывания в пансионе тоже не раз была порота, я не какая-нибудь там кисейная барышня!
Оливия поглядела на меня и хихикнула:
— Эт точно! Но вообще, мы отменно развлеклись. У нас здесь не очень-то много развлечений, так что порка — просто необходимая плата за удовольствие. Кстати, я рассказала тебе, что такое фистинг?
— Э-э, нет.
— Так вот, кальян по сравнению с фистингом — просто аскетическая забава. Поверь.
— Ты прямо специалистка по забавам!
— Поживи, как я, с костылями в руках, поймешь, как надо правильно относиться к жизни!
Я поежилась. Вообще, меня ужасно смущало увечье Оливии. И я по сравнению с ней чувствовала себя более неполноценной. Я уже знала, что ей приходится терпеть невыносимые боли в позвоночнике, что каждое утро она звала на помощь служанку — растирать больную шею маслами и бальзамами, потому что иначе она бы просто не смогла оторвать голову от подушки. Оливия не мирилась со своим уродством, она его ненавидела, и при этом у нее была такая воля к жизни, которая могла горы смести с пути, как горстки пыли.
— Оливия… — начала я.
— Чё?
— Скажи, а есть ли надежда…
— Что я смогу исцелиться? Нет. Лучшие лекари Литании осматривали меня. И в один голос сказали, что я и живу-то вопреки всем законам человеческой плоти. И это, конечно, милость Исцелителя.
— Но лекари существуют не только в нашей стране. Я читала о Яшмовой империи, там есть удивительные горные отшельники, которые лечат буквально все болезни наложением рук и лекарствами из разных растений. Почему бы отцу не отвези тебя туда и не показать им?
— Люция, ты соображаешь, что говоришь? У Литании давняя вражда с яшмовым императором. Выезд туда запрещен, и даже великому писателю, каким является мой отец, этого не позволят. Даже ради моей жизни.
— Я не знала… Ну, что у Литании прения. У нас такая мирная страна, никогда никаких войн…
— Ага. Это не мешает нашему королю скалить зубы на их мандаринов… Ну, государственных чиновников. Они тоже не могут въехать к нам. Даже с частным визитом. Мне отец рассказывал. Между прочим, то, что он играет в ма-цзян, может ему выйти боком. Это запрещенная игра, даже в домах знати. Оскорбляет величие нашего короля. Мол, надо играть в отечественные игры. Поддерживать отечественного производителя игр и развлечений.
— Ой, бред.
— Бред не бред, а мой отец не в такой уж и безопасности. Может, оно и к лучшему. Его давно пора прикончить.
— Ты что?! За что ты его так ненавидишь?
Оливия с резким стуком поставила пустую чашку на стол:
— За то, что он жалеет меня, за то, что не убил сразу, как увидел мое уродство. Из-за его жалости я вынуждена жить такой!
— Но ты же любишь жизнь!
Оливия горько усмехнулась:
— Да, только любовь эта не взаимна. Ладно, забей. Давай лучше подумаем, как нам отравить Себастьяно.
— Ты это всерьез?
— Ну давай хотя бы слабительным его накормим, пусть проторчит в уборной всю ближайшую неделю. Мелочь, а приятно.
— О, я даже знаю, как приготовить такое слабительное.
— Ну вот и займись этим, дорогуша, а не сиди около меня как привязанная. Тем более что я спать хочу. Вали отсюда.
— Приятных снов, экселенса, — улыбнулась я, чувствуя, что между нами или проскочила искра, или протянулась ниточка, в общем, то, о чем пишут в сентиментальных книжках для юных благовоспитанных девиц. Я не знаю, о чем вы сейчас подумали, а я подумала о том, что имею влияние на Оливию — она перестала заставлять камеристку брить ее голову. Это потому, что я сказала, что Оливии лысина совсем не идет. Значит, она прислушивается к моим словам!
Улыбка еще бродила по моему лицу, и я чувствовала себя пленительной райской гуппи, когда в коридоре, как раз возле ниши с великолепной мраморной вазой, мне повстречался синьор Себастьяно Монтанья.
— О, детка! — приветствовал он меня так, как полагается этим грубиянам из обедневшей знати. — Ты, я смотрю, на ногах!
— А почему должно быть иначе, дорогой синьор? — иногда приятно делать из себя дурочку. На минуту или полторы.
— Детка, — Себастьяно придвинулся ко мне, и я уловила дурной запах у него изо рта. Гадость какая. — Я знаю, что ты со своей кривоногой хозяйкой накурилась дури в библиотеке. Поэтому не изображай из себя монашку.
— Я и не изображаю. — Я отодвинулась на шаг, и Себастьяно, видно, подумал, что я испугалась. — Значит, вы подглядывали за нами, дорогой си… э-э, прыщавый озабоченный щенок!
— Что?! — Себастьяно двинулся на меня, как осадный таран. — Да я за такие слова… Да ты… На коленях будешь ползать…
— Разбежался, — скривилась я. — Прочь с дороги! Герцог узнает, каковы его дальние родственнички-нищеброды!
Себастьяно побурел, как свекла, и замахнулся на меня сразу обеими руками. Поскольку оружия он не носил, опасность была минимальной. Я подобрала юбки и аккуратно впечатала свое острое колено синьору Монтанья точно в пах, неосмотрительно не прикрытый гульфиком. Себастьяно всхрапнул и, согнувшись пополам, рухнул на ковровую дорожку. Я перешагнула через него и, обернувшись, добила окончательно:
— Стоит мне только сказать слово его светлости, и вас выставят за ворота замка с тремя корочками хлеба!
Утром прибыл герцог Альбино. Вид у него был утомленный и озабоченный. Когда мы с Оливией явились пред его очи, он и не посмотрел на нас, а лишь спросил, все ли благополучно. Получив от Оливии ответ, что мы вполне благополучны и проводили время в библиотеке (что было правдой!), он кивнул и велел нам уйти. В коридоре Оливия прошипела:
— Вот видишь, он на меня даже не смотрит, ему просто на меня наплевать! Доченька-уродина не очень-то радует его поэтическое сердце! Сволочь!
— Оливия, может быть, он просто устал. Или его беспокоят какие-то дела.
— С чего это ты его защищаешь? — Оливия посмотрела на меня, как на жука-короеда.
— Я стараюсь быть объективной. Не забывай, он сорокадвухлетний старик. Вдруг он болен?
— О, это было бы здорово!
— Оливия, да ладно тебе! Я еще не рассказала, как вчера вечером подралась с Себастьяно, этим высокомерным ублюдком.
— Да ты что!
— Заехала ему прямо в пах. А пусть знает свое место. Только теперь он точно расскажет герцогу о кальяне.
— Ну и наплевать.
Наплевать-то дело нехитрое, но я все-таки немного волновалась. Во время завтрака Себастьяно смотрел в нашу сторону, как дракон на рыцаря, а уж жрал за троих. Видимо, думал, что его взаправду выставят из замка, и решил напоследок потешить чрево. И вдруг Оливия подала голос:
— Мессер отец, позвольте потревожить вас вопросом.
Герцог несколько утомленно глянул на Оливию. Вот это он зря. Нельзя так глядеть на дочь, да еще и убогую.
— Слушаю вас, дитя мое.
— Мессер отец, нынче прекрасная погода. Я прошу у вас разрешения отправиться на прогулку с моей компаньонкой. Конную прогулку. Прикажите заложить двуколку. Мы покатаемся меж полей, пообедаем на свежем воздухе и к закату вернемся в замок. Мессер?
— Дитя мое, раньше я не замечал в вас склонности к прогулкам.
— Раньше у меня не было компаньонки, мессер отец.
— Логично. Что ж, не вижу необходимости вам препятствовать. Вы уверены, что вам не понадобятся слуги или кучер?
— Нет, мы справимся сами.
— Как будет угодно.
Ну, Оливия, это она классно придумала! Мы давным-давно не покидали замок, и я уже стала забывать, как выглядят пшеничные поля, сады, рощи и ручьи. А всего этого в угодьях Монтессори было в изобилии — хоть становись художницей и пиши пейзажи маслом! Нам давно пора развеяться, а то в этом замке мы скисли, как снятое молоко. Поневоле начнешь кальяны курить от скуки!
Сказано — сделано. Оливия — при помощи костылей, я — на своих двоих отправились на конюшню. Легкая двуколка уже была готова, около нее нас ждала одна из младших служанок.
— Госпожа экономисса просила передать, что корзина с едой и напитками уложена под сиденье. Дождя не предвидится, но тем не менее она положила вам плащи и шали.
— Поблагодари Сюзанну от нашего имени.
С тем мы и выкатились из замка. Я правила — хотя и делала это впервые. Но ничего, справлялась. Оливия сидела по направлению движения и громко комментировала все, что видит. Комментарии не были лишены некоторой язвительности, но тем не менее я понимала, что Оливия радуется этой поездке, как малое дитя. Я и сама радовалась. Перед нами расстилались бесконечные поля пшеницы и ржи, а впереди нас ждала роща из древних дубов, огромных, раскидистых, ровесников замка и рода Монтессори. Туда мы и направились.
Птицы, певшие в кронах старых дубов, наверное, с интересом глядели на двух девиц, расположившихся внизу. Я постелила плотное одеяло из овечьей шерсти и принялась опустошать корзинку, сервируя наш полдник на траве. Оливия же скакала кругом и давала указания, как будто я сама не могла справиться и не знала, как режут колбасу и очищают сваренные вкрутую яйца.
— Ты так долго возишься, — ворчала Оливия, — что можно поседеть и помереть с голоду, покуда ты накроешь на стол. Дай я почищу яблоки! Впрочем, с кожурой они вкуснее. Дай яблочко!
Чисто механически я кинула яблоко в ее сторону — не люблю, когда меня торопят. Оливия — слава Исцелителю — его ловко поймала и принялась есть.
— В следующий раз, — прочавкала она, вечно у нее привычка говорить с набитым ртом, — в следующий раз я возьму свой альбом и карандаши. Вдохновение прет, хочу сделать несколько пейзажей.
— Отлично. Все веселей, чем сидеть в библиотеке и читать какую-нибудь очередную поэзию!
Наконец мы расположились, привалившись спинами к мощному дубовому стволу. Кора была теплой и изумительно пахла. А если посмотреть сверху вниз на крону, то можно любоваться солнечными бликами сквозь гущу листвы…
— Красиво, — сказала я.
— А то, — согласилась Оливия, принимаясь за колбасу. На свежем воздухе у нее разыгрался аппетит.
— Между прочим, — сказала я. — Есть колбасу с хлебом гораздо вкуснее.
— А, — отмахнулась Оливия. — Я хлеб не ем, а то еще располнею, как ты, костыли не выдержат.
— Я не толстая! Я просто в теле, — немедленно возмутилась я. — Какая же ты язва! Мерзкая, худющая, корявая язва!
— Я герцогиня, язвой мне положено быть, иначе тебе станет скучно. Будешь финики? Обожаю финики.
— С колбасой?!
— Самое то. И никаких лишних фунтов. Ха-ха! А что там у нас по части выпивки?
— Э-э, ревеневый компот. И вода.
— Ну коне-е-ечно! Разве Сюзанна допустит, чтобы пили вино или медовуху?! Мы же еще несовершеннолетние, типа, смех один.
Оливия отхлебнула компота, поморщилась и заела его колбасой с финиками. Чтобы не отставать от своей прожорливой госпожи, я налегла на сыр и маринованные пикули. А что, вкуснее ничего в жизни не ела! Свежий воздух, аромат трав и цветов, сонная тишина кругом…
В этой тишине кто-то насвистывал незатейливый, но очень приятный мотивчик.
Я вопросительно поглядела на Оливию. Она успела сжевать целое кольцо копченой колбасы и сейчас посвистывала, мечтательно глядя в небеса.
— Красивая мелодия, — сказала я. — Откуда она?
Оливия оборвала свист и посмотрела на меня с крайним подозрением — мол, не издеваюсь ли я в отместку за ее шуточки насчет моей фигуры.
— Правда, красивая, — подтвердила я. — Кто ее написал?
Какое-то непривычное смущение тенью прошло по лицу моей герцогини.
— Ты? — ахнула я. — Ну, офигеть можно, как ты выражаешься! То есть я восхищаюсь вашим талан…
— Да ну тебя к дрынам, — смущенно пробурчала Оливия. — Талант, скажешь тоже. Мой папочка считает, что у калеки не может быть таланта даже подтирать себе задницу.
— Оливия, это песня?
— Ну да.
— Кончай нукать. Спой.
— Ага, а ты потом раззвонишь по всему замку. И все папашины нахлебники будут надо мной хохотать.
— Я не раззвоню. Я, конечно, подлое существо, но не до такой степени. Пой.
Оливия шмыгнула носом:
— Ладно. Это, в общем, под настроение. Можно под лютню петь или арфу.
Река лунного света, что без конца и края, Однажды я поплыву по тебе. И в сердце моем будет вечная радость, И я сама стану лунным светом… Две бродяжки, мы отправились посмотреть этот мир, Ведь в мире так много нужно увидеть! Мы доберемся до конца радуги, И там увидим наше счастье, Мой настоящий друг, река и я…Я молчала до тех пор, пока не поняла, что молчание становится неприличным.
— Оливия, это очень красиво, честно! Я никогда не думала, что можно написать стихи без размера и рифмы, но вот — ты же написала…
— Такие стихи пишут галлыды, — отмахнулась Оливия. — Они называются верлибр — свободный стих. Папаша мой считает верлибр низким стилем, а я вот, видишь, взяла и написала.
— Вот и прекрасно! — вдохновилась я. — А еще у тебя верлибры есть?
— Ну, допустим. Но тебе читать не буду, даже и не проси! И не надейся! Это сейчас меня от солнца разморило, а в замке я тебе страшно отомщу за такую откровенность.
— Согласна, — кивнула я. — И если уж мне все равно отдуваться, скажи, кого ты подразумеваешь под настоящим другом?
— Не тебя, даже не надейся!
— Но ведь и не Юлиана? А может, это пшепрашамский кнежич Мильчик Кошакович, что еженедельно шлет тебе нежные письма, надеясь на брак и герцогское наследство?
— Ой, меня сейчас вырвет! Хоть кнежича не поминай! Фу-у! Люция, считай, что это мое поэтическое воображение. А может, это я сама себе лучший Друг…
— Нет, сама себе ты лучший враг.
— Тебе я тоже враг, не забывай. Подлый и жутко коварный. Когда я окажусь в непосредственной близости от моего костыля, твоя спина станет подтверждением этих слов.
— О да, избейте меня, жестокая герцогиня!
Хохоча сами не зная отчего, мы повалились на траву.
Святая Мензурка, как же хорошо было кругом! Какие нега и благодать разливались в воздухе! Какие ароматы струились от цветов и марлезонского сыра! Обожаю марлезонский сыр!
— Послушай, — вдруг толкнула меня в плечо Оливия. — Что это?
— А? — удивилась я.
— Слушай внимательно, балда! — Оливия уже настроилась на очень серьезный лад. — Вот опять, слышишь?!
— Подожди… Да, что-то странное.
У меня вдруг пропало все мое бесшабашное настроение. Этот звук… Он был не похож ни на какие другие. Я даже не могла его сопоставить со всеми звуками, которые слышала. Но больше всего…
Больше всего этот звук напоминал скрежет, с которым открывается старая, заржавевшая дверь.
— Дверь? — удивилась я.
— То-то же, — Оливия выглядела испуганно. — Если это дверь, то где она? Что она открывает? И, судя по звуку, это не просто дверь, а здоровенная дверь! Только не вздумай зассать и кинуться в замок под крыло к моему папаше! Мы должны выяснить, что произвело такой странный звук!
— А здесь точно нет больше никаких замков, поместий, крепостей?
— Насколько мне известно, нет. А-ах! Ты думаешь, что этот звук издают враги отца, решившие осадить наш замок?!
— Вряд ли приличные враги станут издавать столь неприятный звук. Это прямо беспредел какой-то!
— Предел… Люция, насколько мне известно, границы владений герцогства Монтессори с запада оканчиваются рекой Фортунатой…
— Река удачливых… — перевела со старолитанийского я.
— Да, погоди. Звук шел с запада. А вдруг…
— Что?
— Это враги, пришедшие по воде. Может быть, это вражеские корабли. Фортуната — речка большая.
— Против твоего отца может выдвинуться флот? Внутренний литанийский флот?
— Почему только литанийский? Фортуната выходит в море Спокойствия. А там берега Пшепрашама и Славной Затумании!
— И эти замечательные государства враждуют против поэта Альбино Монтессори?!
— Почему обязательно государства? В Пшепрашаме каждый приличный кнежич имеет флот и армию, у них междоусобная война! Там даже медведей забривают в регулярные войска, я читала! И Славная Затуманил собачится с кем только ни попадя… Так. Сворачиваемся и едем.
— Куда? В замок?
— Туда позже. Сначала к реке.
— Ты рехнулась, Оливия? А если там уже высадился враг?! Вот им будет радость — захватить в плен дочку герцога и стребовать за нее выкуп! Не дури. Садись в двуколку и скачи домой что есть силы. А я побегу к реке.
Оливия зло сверкнула глазами. Она понимала, что я права, но не хотела сдаваться сразу.
— Побежит она к реке… Тут приличное расстояние.
— Ничего, я быстро бегаю. Держать все время на запад?
— Да.
— Тогда вперед. Нечего рассусоливать.
Я чуть ли не силком усадила Оливию в повозку, проверила, хорошо ли затянуты подпруги, крепки ли колеса и хлопнула в ладоши:
— Давай, герцогиня!
— Ты чертовка, Люция! — рыкнула экселенса Монтессори.
— Сама такая. Я не двинусь с места, пока ты не уедешь.
Оливия еще раз рыкнула, хлестнула лошадей, и те рванулись с места, не ожидая такой развязки мирного дня.
— О Исцелитель, пусть она не вывалится, — с тоской прошептала я. — Дурища лысая.
Когда повозка скрылась из виду, я развернулась на запад и побежала. Главное — соблюдать точное направление, а с этим у меня все в порядке. Где-то через полчаса быстрого бега (я не могла остановиться, ноги словно несли меня сами) я почувствовала запах воды, водорослей и цветущих камышей. Фортуната была близко.
На дороге у меня оказалось громадное кукурузное поле, я вошла в него и словно ослепла. Со всех сторон были одинаковые ряды высоких кукурузных стеблей, и если бы не мой внутренний компас, я бы так и осталась на месте, мечась по кругу. Я сбавила скорость и перешла на шаг, стараясь бесшумно проскальзывать меж стеблей. Вдруг меня прошиб пот, ужасный, липкий, — это был страх. Мне показалось, что в любую минуту передо мной появятся рейтары Пшепрашама или затуманские пэры, нагруженные алебардами, мечами и арбалетами. Вот только сейчас мне не хватало паники!
Я остановилась и сжала кулаки.
— Прекрати, — сказала я себе. — Не падай раньше выстрела. Я спокойна. Я совершенно спокойна. Я абсолютна спокойна. Медленный глубокий вдох и резкий выдох. Вперед.
Я перестала следить за временем и сосредоточилась на своих шагах. Где-то на шесть тысяч девяносто девятом шаге я оказалась на берегу Фортунаты. То есть я видела берег через решетку кукурузных стеблей.
И обозримый берег был совершенно, абсолютно пуст.
То есть на нем не было даже травы. Она исчезла, оставив большой квадрат иссохшей, потрескавшейся земли. И трещины были тоже немаленькими. Из них струйками вырывался горячий пар. Я почувствовала, как он горяч.
И он пах тухлыми яйцами. То есть сероводородом.
Откуда оно взялось у меня в речи, это глупое «то есть»?! О черт, о чем я!
Глава седьмая Нам не верят
У людей слишком развито воображение.
Поэтому я всегда благословляю людей не воображать.
Это может плохо кончиться.
Из проповедей Его Высокоблагочестия, т. 211Я не помню, как добралась до замка. Мне иногда кажется, что я и не смогла до него добраться, просто лежала в глубоком обмороке среди кукурузы, и меня случайно нашли слуги, посланные добрым Фигаро. Но тогда почему они не увидели то, что увидела я? Впрочем, все по порядку.
Когда Оливия прискакала в замок, она устроила такой переполох, что старшие вассалы герцога Альбине немедленно бросили любимое свое занятие — пиво и игру в кости — и, вооружившись, помчались в направлении, указанном юной герцогиней. Она порывалась отправиться с ними, но Сюзанна слезно умолила ее остаться дома и не лезть не в свое дело. Вассалы герцога были мужиками толковыми и быстро нашли нужное направление. И засекли меня, ломящуюся сквозь кукурузу, как осадный таран.
— Полундра! — возопила я по-матросски, едва завидев отряд в доспехах и при оружии.
Вассалы герцога не знали точного значения этого слова, но в целом меня поняли. А вот связно объяснить им, что я увидела, услышала и унюхала, мне не удалось.
Точнее, они особо и слушать меня не стали и помчались дальше. Но кто-то из них отвез меня в замок, иначе как я могла оказаться там так быстро?
Я помню, как кинулась к Оливии, нетерпеливо костыляющей по холлу, и начала довольно бестолково рассказывать о том, что видела. Потом, уже замолчав, я поняла, что слушала меня добрая половина насельников замка. Насчет злой половины я не уверена.
В общем, все, кто хотел, меня услышали и принялись громогласно обсуждать пахнущие тухлыми яйцами новости. Мы же с Оливией вдруг впали в какой-то ступор, она села в свое калечное кресло, я, взяв его за спинку, возила кресло кругами по холлу и всем мешала. Мы просто не знали, что делают в подобных случаях. Тут нас заметила Сюзанна.
— Герцогиня, прошу вас подняться к себе, — непреклонно заявила она и получила отпор:
— Дрына лысого! Враги у порога, тетушка Сьюзи! — Оливия иногда ведет себя безобразнее и грубее обычного. — Сейчас нас будут крыть беглым огнем, а вы хотите, чтобы я наблюдала за битвой с балкончика?! Я поведу вас в бой! Кто меня терпеть не может, за мной!
— Уймись, дурочка, — сурово оборвала ее Сюзанна. — Это тебе не шутки со святой юстицией! Это слишком непонятно!
В общем, через некоторое время наш боевой запал иссяк. К тому же герцогские нахлебники не тонко намекали, что пора подавать ужин, да и вино в бочонках застоялось. Им хоть весь мир сгори, лишь бы нажраться за чужой счет. Уроды.
Самое обидное, что в это время герцога уже не было дома. Он, заехав на короткое время, лишь поел, выпил вина, поменял лошадь и умчался в неизвестном направлении, даже не взяв охраны. Дурацкое поведение для такого значимого человека, как он. Впрочем, не в том дело.
Скоро вернулись герцогские вассалы. Они были злы и трезвы. Или наоборот. И зло свое решили отыграть на мне. К тому же я была первая, кто встретил их во дворе замка.
— Что там? — воскликнула я, едва вассалы спешились.
Ноль внимания.
— Послушайте! — я начала заводиться. — Я компаньонка герцогини и имею право знать! Тем более что его светлость в отъезде. Что вы обнаружили?
Синьор Виктор Мессало, комендант замка и по совместительству пивной бочонок в сапогах, зло рявкнул на меня:
— Не путайся под ногами, глупая девчонка!
— Что-о? — я взбеленилась, понимая, что меня несет, как корвет на скалы. — Я вызываю вас на дуэль, команданте! На арбалетах, через платок!
— Заткните кто-нибудь эту дуру, — утомленно вздохнул Виктор Мессало. — Пойдемте выпьем.
И эти потнючие мужланы, гомоня, как стая ворон, ушли пить сидр, а я стояла, как оплеванная, и не знала, что делать!
Что-то щелкнуло у меня в голове, и я поняла, как мне быть дальше. Просто идти к Оливии. И ждать. Тупо ждать, когда ситуация прояснится. Другого просто не дано. Я здесь никто. Со мной не считаются даже замковые младшие поварята, а охотничьи собаки в мою сторону даже носы не поворачивают. Единственная, кто может принять меня сейчас, — это Оливия. И я пошла к ней.
— Что ты видела? — Оливия напустилась на меня, едва я переступила порог ее покоев.
— Я сама не могу это понять. Часть берега… С нее словно смахнули все — траву, цветы… Абсолютно голая, выжженная земля. Потрескавшаяся. Трещины — с ширину моей руки. Из них вырывался раскаленный воздух, он пах тухлыми яйцами. Это была как будто… дверь в преисподнюю. Люк где-то десять локтей на десять. Вокруг трава была, а в этом… пространстве — нет. Я не понимаю.
— А по-моему, ты все уже поняла, — медленно выговорила Оливия. — Наверное, это и есть дверь. Недаром мы слышали этот мерзкий скрип.
— Дверь? — я тупо смотрела на герцогиню. — Какая дверь? Куда?
— Ты же сама догадалась — в преисподнюю. Из преисподней.
— Да не глупи! Оливия! Ты что, веришь во все эти поповские сказки насчет того, что внутри нашей земли находится ад, полный раскаленной лавы, в которой мучаются грешники, а Истребитель и его легионы наслаждаются созерцанием их мук? Ты что, не читала книгу затуманского академика Ицхака бен Солейля о том, что земля наша состоит из раскаленного железного ядра, мантии и коры?
— Не читала.
— Ну, вообще-то, это запрещенная книга. Ицхака бен Солейля сожгла святая юстиция.
— А ты где добыла запрещенную книгу?
— В библиотеке аббатства. Там много всего подобного. Монашки, по необразованности своей, сваливают все в кучу, и если тебе удастся там порыться… Но мы отвлеклись от темы. Ты веришь в земной ад?
— Нет, я не верю, — решительно сказала Оливия. — Но тогда что это было?
— А если кто-то просто… ну, я не знаю… Решил над нами подшутить? Вырезал квадрат земли. Или выжег. Скорее всего, выжег. До трещин. Накидал в трещины тухлых яиц — они лопнули от жары, вот и запах…
— Глупо как-то.
— Может, это Себастьян Монтанья! Он болван, ненавидит нас, так что с него станется. Подговорил таких же поганцев, как он сам, вот они это и сделали! Поэтому и комендант на меня наорал. Они поняли, чья это каверза, и разозлились, что их сорвали с места по пустяку. Иного объяснения происшедшему у меня нет…
В дверь постучали.
— Кто еще? — рявкнула Оливия.
— Ваша светлость, это Сюзанна.
— Войдите.
Сюзанна вошла. Лицо ее было сурово.
— Сударыни, объяснитесь, — молвила она. Ее рыжие волосы полыхали, как огненная корона.
— Как это? — поглупела Оливия.
— К чему вы устроили этот дурацкий розыгрыш? Ладно вы разыгрываете челядь, меня или даже синьора Фигаро. Ладно вы издеваетесь над гостями, это я могу понять, не будь я экономиссой, делала бы то же. Но для чего устраивать маскарад и орать об опасности, когда никакой опасности нет?! Разве вы не понимаете, что команданте Виктор злобен, как тысяча чертей, его банда — ему под стать и шутить с ними шутки более чем глупо и недальновидно. Наверняка они пожалуются герцогу на его вздорную дочку и бестолковую компаньонку…
— Какие шутки?! — возмутилась Оливия. — Мы были более чем серьезны! Люция видела дверь в преисподнюю! Мы слышали скрип этой двери!
— Еще чего придумаете, — утомленно отмахнулась Сюзанна. — Глупо как никогда. Куча здоровых мужиков прискакала, вся в мыле, на берег Фортунаты и нашла там только мирно пасущееся стадо овечек.
— Какие еще овечки?! Да они просто прискакали не туда! Болваны! Я же им объяснила, где то место…
— Они проехали по берегу несколько раз, до границы владений. Никаких дверей в преисподнюю, как вы выражаетесь, не обнаружили. Только стадо овечек.
— Бред какой-то, — возмутилась я.
— Это не бред, это ваше нахальство, — немедленно отреагировала Сюзанна. — Девочки, всему есть предел, даже терпению вашего отца, Оливия. Ему будет доложено не только о кальяне, но и об этой глупой шутке. Неприятно быть ябедой, но вас обеих следует выпороть.
— Да порите, пожалуйста, сколько хотите! — в сердцах крикнула я. — Нашли чем пугать! Дело разве в порке! Никто нам не поверил! А я видела этот кусок выжженной земли. Могу ручаться за виденное, или я — не я. Другое дело, что это никакая не дверь в преисподнюю, наверняка это придумки какого-нибудь герцогского гостюшки вроде Себастьяно Монтаньи! Прознал о том, что мы уехали на пикник, вот и решил развлечься с другими такими же оболтусами…
— Ну, может быть, — вздохнула Сюзанна. — Девочки, как я устала от всех этих глупостей. Все, довольно. Я попрошу у его светлости расчет и уеду в деревню.
— Нет, Сюзанна, — Оливия испуганно захлопала глазами. — Мы же пропадем без вас! Замок рухнет! Молоко скиснет!
— Уж будто бы, — Сюзанна поджала губы. — Герцог найдет другую экономиссу. Может быть, даже Люцию сделает экономиссой, почем я знаю…
— Не-не-не! — аж подпрыгнула я. — У меня аллергия на хозяйственную деятельность, Сюзанна! Ради всех святых, не уходите! Мы будем вести себя смирно. Мы сами себя выпорем, если угодно. Мы будем целыми днями сидеть в библиотеке…
— Ага, и курить кальян…
— Нон! Писать сонеты! Романсеро! Баллады! Я лично напишу балладу о вас, Сюзанна, только не берите расчет. Ну посмотрите в мои честные и покорные глаза, разве они могут лгать?
Я выкатила на Сюзанну глаза, и она принялась хохотать, вытирая слезы передником:
— Вот негодницы! Ну, полно. Сейчас пришлю к вам девчонку с чаем и ореховым пирогом — испекла ваш любимый.
— Ах, душенька Сюзанна, грацие! Милле грацие!
— Но обещайте, что более никаких глупостей хотя бы до праздника Святого Исцеления.
— Но ведь это добрых три недели!
— Совершенно верно. Я принесу вам недоделанные гобелены, извольте сидеть в рукодельной и вышивать. Это и будет ваше наказание. А с порками покончим. Вы ведь уже взрослые девицы, невесты, сколько можно раскрашивать вам задницы…
— Спасибо, Сюзанночка! От имени наших задниц!
Сюзанна, продолжая хохотать, вышла из комнаты.
— Ну так, — задумчиво поглядела на меня Оливия, — я вот что тебе скажу: тут дело пахнет заговором.
— Каким?!
— Против меня как наследницы. Разве ты не видишь, что вассалы и родственнички сговорились сгородить эту дверь в преисподнюю, чтобы посмеяться надо мной, легковерной дурочкой?!
— Оливия, есть такое душевное заболевание, когда всех подозреваешь черт-те в чем. Как же оно называется…
— Паранойя.
— Во-во. Ты не больна им, случайно? Ну сама посуди, какого фига команданте Виктор будет сговариваться с тем же Себастьяно? Себастьяно против него — червяк.
— Да, — Оливия почесала прыщик на подбородке. — Давай все-таки сделаем Себастьяно гадость. Ну просто чтобы форму не потерять за три недели.
— За нами будут следить. Как мы сидим в рукодельной и рукодельничаем.
— Рукодельничать можно по-разному. У меня есть план… Надо проникнуть в комнату Себастьяно и порыться в его сундуках с одеждой…
— Ага…
Должна предвосхитить события и сообщить почтенной читающей публике, что сей план удался блестяще. Я таки проникла в покои щенка Монтаньи и скрала два его выходных костюма. И самолично пришила к плечам его колета издырявленные гульфики, а к парадным штанам — кучу разноцветных ленточек, что в изобилии имелись в рукодельной. А Оливия изрезала его дорогие кружевные воротники… Словом, получилось отменно, а главное, никто нас не заподозрил — мне даже удалось незаметно вернуть все в сундук. Мы смиренно вышивали, а Себастьяно поминал весь ад, глядючи на испорченные костюмы… Но это уже неинтересно. Вперед, мое перо!
Прошло две недели из отведенных нам в качестве наказания, а его светлость все не возвращался. Жизнь в замке текла в своей колее, мы с Оливией каверз не совершали, нахлебники продолжали благополучно объедать великого поэта, и от скуки у меня стали даже мочки ушей болеть. Чтобы окончательно не свихнуться на вышивании, я решила заняться разбором книг, в беспорядке сваленных в библиотеке, — это все были новинки поэзии, недавно вышедшие из печати. Все старолитанийские поэты считали священным долгом присылать свои публикации его светлости в надежде быть особо отмеченными и приглашенными к с голу герцога, а то и ко двору королевской фамилии. Ничего удивительного, была бы я поэтессой, тоже стремилась бы к славе за счет анапестов и сонетов. Одним ямбом сыт не будешь, знаете ли… Но и это неважно. Важно то, что я снова встретила мессера Софуса.
Произошло это душной сентябрьской ночью, когда все замерло в ожидании близкой грозы. Вокруг пахло раскаленным железом, в черном небе проскакивали извилистые молнии, ветер умер, и я, мучаясь от жары, распахнула окно и встала, опираясь о подоконник, жадно вдыхая липкий воздух. Положение отравляло обычное женское недомогание, которое всегда проходило безболезненно, а тут я просто места себе не находила от боли, и не помогали обычные в таких делах отвары мяты и мелиссы.
Огненный шар возник передо мной из ниоткуда. Я застыла изваянием и только смотрела, как этот воплощенный ужас медленно вплывает в мою комнату, бешено вращаясь, разбрасывая искры и натужно гудя, как стая рассерженных шмелей. Вот он прошел, почти опалив кожу на лице, вот он замер над левым плечом.
— Мамочка, — прошептала я, что, разумеется, было полной глупостью — уж кто-кто, а мамочка точно помочь бы мне не смогла, ибо бросила меня в самом невинном возрасте, как вы помните.
Шар резво взлетел к потолку, и я закрыла глаза — сейчас он ударится о потолок и взорвется, и в этой мучительной вспышке погибнет юная Люция Веронезе, так и не ставшая капитаном каперской баркентины… Я настолько реально ощутила свою смерть, что следующее мгновение потрясло меня еще сильней — я услышала легкий смех и голос:
— Дорогуша, не надо бояться! Это я! Ах, все это моя страсть к дешевым эффектам… Ну, дорогуша, откройте ваши очаровательные глазки!
Я повиновалась. Огненный шар исчез, наполнив воздух крошечным облаком золотых искорок с ароматом ванили. В этом облаке парил мессер Софус и насмешливо смотрел на меня.
— Мессер, это вы! — только и вымолвила я. — Как давно я не имела чести встречаться с вами!
— Был за гранью, дорогуша, не мог тебя навестить…
— За какой гранью? — удивилась я.
— Грани бывают разными, — молвил мессер и плавно опустился в кресло. Золотые искорки кружились вокруг и теперь пахли пудрой для париков.
— Не понимаю, — развела руками я.
— Со временем поймешь, дорогуша. Я помогу. Ты постигнешь великую истину о том, что мир устроен совсем не так, как ты привыкла его воспринимать через свои чувства и ощущения. Мир гораздо, гораздо богаче, милая Люция. Присядь, расскажи мне, как тебе живется.
— Благодарю вас, мессер, очень хорошо. Моя юная госпожа настоящая засранка…
— И ты ее за это обожаешь, верно? — прищурил глазки-бусинки мессер Софус.
— Похоже, что так, — улыбнулась я. — Нам не скучно вместе. Я за всю свою жизнь не жила так интересно! С Оливией никогда не знаешь, как начнется и как кончится день. Правда, в последнее время мы с нею в основном рукодельничаем.
— И много нарукодельничали?
— Почти два гобелена, мессер, — с гордостью отрапортовала я. — Я научилась трем видам глади, мессер! И еще я могу делать мережку!
— О, я восхищен! Но ты же понимаешь, дорогая девочка, что в жизни тебе предстоят куда большие подвиги, чем мережка и гладь.
— Да! — я радостно захлопала в ладоши. — Вы сделаете меня капитаном корабля?
— Не сейчас, дорогая, не так скоро. Сейчас ты мне нужнее здесь. В замке.
— А… для чего?
— Для сдерживания.
— Чего?
— Детка, за время моего отсутствия ты повредила слух? Я же ясно сказал — для сдерживания.
— Но что я должна сдерживать?
— Правильнее сказать: кого.
Я открыла было рот, но мессер Софус поднял изящную лапку:
— Молчи и слушай.
Я замерла.
Мессер заговорил:
— Наша Вселенная — не единственная, Люция. Есть множество других, неисчислимое множество. Некоторые из них параллельны друг другу и не подозревают о существовании других миров. Некоторые же имеют точки пересечения, а что такое точка пересечения, ты понимаешь, ибо даже ты неплохо изучала геометрию.
— Да, мессер…
— Эти точки — тоже вселенные, Люция. Мы называем их «пункты переброски».
— Мы?!
— Разумеется. Ты ведь не думала, что я такой один, хотя в своем роде я, конечно, уникален…
— Но кто вы такие?
Мессер улыбнулся, обнажив клыки — они сверкали, как раскаленные угли:
— Я называю нас попутчиками. Мы — существа, возникшие еще до появления материи, мы — чистая энергия, и объяснять тебе нашу суть такое же бесплодное занятие, как растолковывать муравью строение табуретки, по которой он ползет.
— То есть вы видели, как возникло все сущее?
— Вот просто как тебя сейчас вижу. Мало того, дорогуша, все сущее продолжает процесс возникновения постоянно, сущее расширяется, как капля масла растекается по поверхности стекла. Большой взрыв продолжается.
— И это никогда не кончится?
— С точки зрения науки — нет. С точки зрения богословия — ты наверняка знаешь о конце всего.
— Да, но что из этого правда?
— Дорогуша, мы отвлеклись от главной темы нашего разговора. Суть ты уловила. Миров бесконечное количество. Они иногда имеют точки пересечения. Эти точки — места опасные, поскольку, по сути, являют собой проходной двор для существ из самых разных миров, не всегда дружелюбных и готовых размахивать приветственными флагами.
— Флагами?!
— Дорогуша, следи за мыслью. Ваш замок — та самая точка. До недавнего времени нам, попутчикам, ответственным за этот сектор, удавалось вполне успешно проводить политику сдерживания, особенно в отношении Черного Круга и Кластера Смерти… И все-таки кто-то пробрался.
— Как?
— Дорогуша, то, что ты видела, — клок выжженной земли, запах, разломы — это остаточное явление перехода.
— Значит, это правда! А мне никто не верил! Ну я…
— Ты сделаешь самое милое лицо и будешь помалкивать на эту тему в замке и окрестностях. И даже со своей компаньонкой ты будешь обсуждать только гобелены, пирожки и мальчиков. Твоя главная задача — наблюдать. Кто-то совершил переход с другой стороны. И очень оперативно ликвидировал последствия перехода. Так аккуратно ведут себя ликвоиды из Кластера Смерти, но какова тогда их цель?.. Ладно, это пустые предположения. Слушай меня внимательно, девочка. С сегодняшнего момента всю свою жизнь ты должна посвятить только одному: следить. За каждым существом — необязательно человеком, — которое появится в поле твоего зрения.
— Необязательно человеком? — тупо переспросила я.
— Даже за кроликом. Ты и представить себе не можешь, на что способны существа, имеющие вид здешних безобидных кроликов. Бегают этак по зарослям, юркают в норки, а норки на самом деле являются энергетическими поглотителями… Также опасны гусеницы и грибы, особенно в сочетании с курительными трубками. Да, вот еще что… Тебе нужно какое-никакое оружие. Хотя бы для самозащиты. Вот, возьми.
Мессер протянул мне колечко. Самое обыкновенное серебристое колечко, которое на моем пальце смотрелось не толще серебряной нитки.
— Оно защитит меня?
— Оно предупредит об опасности и даст твоему мозгу импульс, как лучше повести себя в грядущей ситуации. Кроме того, оно будет автоматически накапливать информацию обо всем, что ты видишь и слышишь. И эту информацию буду получать я. Мы теперь станем постоянно связаны, Люция. И если тебе будет грозить нешуточная опасность, я немедленно приду на помощь. А теперь ступай в постель и спи. Но прежде закрой окно.
— Душно…
— В галактической системе звезды Z3O22 температура такая, что плавятся даже алмазы. И при этом там существует графитовая цивилизация, выживают как могут. И им это даже нравится. Так что привыкай к тому, что есть, — это первая ступень, которую ребенок преодолевает, становясь взрослым. Спокойной ночи, девочка. Да. Этот наш разговор ты не забудешь. Ты ступила на новый уровень.
— Уровень кого?
— Я уже говорил. Попутчика. Но я буду называть тебя по твоей должности — компаньонкой.
— Как вам будет угодно, мессер.
Я захлопнула окно, а когда повернулась, в комнате уже никого не было. Глухо рокотал гром, проскакивали молнии, за свинцовыми переплетами окна сгустился кромешный мрак, и я задернула портьеру оттого, что мне впервые стало страшно.
Глава восьмая Страшнее не было прекрасного маркиза
Человеческие каноны красоты мне непонятны. Я считаю, что саранча гораздо лучше смотрится. Вы согласны?
Из проповедей Его Высокоблагочестия, т. 99Время шло. Хотя из периодических встреч с мессером Софусом я уже постигла истину о том, что время — всего лишь абстрактная условность, принятая для устранения когнитивного диссонанса у трехмерно мыслящих рас. Абстрактность абстрактностью, но подошел праздник Святого Исцеления. Как вы помните, именно в канун этого праздника мы должны были продемонстрировать Сюзанне вышитые гобелены и получить отпущение предыдущих грехов.
Но все случилось немного раньше. Дело в том, что Фигаро с королевским курьером получил срочное послание от своего господина. Оказывается, в канун великого праздника мессер Альбино возвращался в замок в обществе чрезвычайно значительного гостя: Его Высокоблагочестия теодитора святой юстиции Винченцио Доминикано делла Рустильоне. Истолковывая простым языком, наш дорогой хозяин вез в замок луну с неба. Или Северный океан. Или весь Чималайский горный кряж. Его Высокоблагочестие был настолько наделен властью в Старой Литании, что даже король выглядел перед ним школьником-первогодком. И вот этот человек должен ступить под своды Кастелло ди ла Перла. А своды-то довольно закопченные. И факелы не обновлялись незнамо сколько лет, не говоря о масляных лампах. А во всех коврах полно пыли и моли! А комнаты не проветрены! А постельное белье не пересчитано и, возможно, уже не имеет нового вида! А портьеры слежались и отсырели! А ведь Его Высокоблагочестие, разумеется, прибудет с целым штатом слуг — святых целомудренников. И это все молодые здоровые парни, способные поститься так, что на вертелах зажарится целая свиная ферма, а уж сколько опустеет бочонков с вином — и сказать страшно!
Словом, в замок пришла настоящая катастрофа. И если бы не мудрость Сюзанны и житейское хладнокровие мессера Фигаро, катастрофа сровняла бы замок с землей. А так у нас таки получалось выкрутиться из ситуации с честью.
Прежде всего Фигаро, Сюзанна и самые именитые служанки (в числе их — главная повариха) собрались в главной зале на военный совет. Вооружившись бумагой и перьями, они принялись создавать план и одновременно вести подсчеты расходов, в которые введет Жемчужину столь шикарный гость.
— Что мы знаем о вкусах Его Высокоблагочестия? — первым делом задала вопрос Сюзанна (мы с Оливией присутствовали, но неофициально, спрятавшись за ближайшей портьерой).
— Как утверждает официальная хроника священного града Ром святой юстиции, Его Высокоблагочестие предается самой суровой аскезе. Пищу он вкушает только в конце седмицы, и составляет она плесневелые ржаные сухари. Всю седмицу он поддерживает силы водой из Святой Мензурки. Спит он только два часа, и то стоя в специальном железном гробу, утыканном изнутри гвоздями. Носит власяницу, вериги, чугунные башмаки, а поверх всего тяжелую мантию, сотканную из железных нитей.
— Как он только не проржавеет, — пробормотала Оливия. — Металлист какой-то. Железный человек.
— Его послушники чистят тряпочкой со специальным маслом, — немедленно выдвинула версию я. Таким образом, наше присутствие было обнаружено, но это никого не удивило. На нас шикнули, но безобидно.
— Официальная хроника хороша только для благочестивых прихожан, которые видят в Его Высокоблагочестии оплот спасения на земле и пример для подражания в святости. Однако в официальной хронике не говорится, что в распоряжении святейшего Винченцио Доминикано имеется несколько экипажей — карет, ландо, даже механических паланкинов. Все они покрыты золотом, серебром, драгоценными камнями и лучшими тканями королевства.
— Понятное дело, — хмыкнула старшая повариха. — Он же вечно голодный, ослабевший, ему ж передвигаться трудно, вот его и возят в золотых каретах.
— Каждый экипаж сопровождается священной гвардией — двумя дюжинами отборных молодцов, закованных в латы и вооруженных мечами, копьями, скорострельными арбалетами и зажигательными свечами со слезоточивым газом для разгона особо благочестивых паломников.
— Также надобно отметить, что Его Высокоблагочестие, согласно своему сану, должен проводить богослужения в одеждах, которые говорят о красоте и истинности нашей веры. Поэтому он надевает ризы, сплошь расшитые жемчугами, изумрудами и рубинами, а голову его венчает тиара, вся усыпанная бриллиантами самой большой величины и ценности. Как говорят, бриллианты были пожертвованы благочестивыми поклонниками, пожелавшими остаться неизвестными. Один из бриллиантов — «Слеза чистоты» — был куплен росской царицей Пульхерией за несколько островов, на которые давно претендовали ниппонцы. Но что такое острова по сравнению с бриллиантом, характеризующим высокое благочестие жертвовательницы.
— Говорят, у царицы Пульхерии было сто двадцать любовников, иногда одновременно. Поневоле начнешь замаливать грехи.
— Князи мира сего частенько вынуждены замаливать грехи — на то их принуждает высокое положение. Говорят, затуманский лорд-канцлер подарил Его Высокоблагочестию особый наручный механизм целиком из золота и алмазов. Механизм всегда показывает точное время, а на руке выглядит как изящный браслет. Другого такого механизма нет во всем мире — мастера, который его изготовил, живьем растворили в серной кислоте.
— Уроды! — брякнула повариха. — А ежели механизм сломается, кто его будет чинить?
— Как утверждает Его Высокоблагочестие, за точностью хода механизма наблюдает особый ангел.
— Ну, ясно. Подытоживая все вышесказанное, можно сказать, дамы и господа, что в наш замок направляется великая буря. И для чего мессеру Альбино везти эту бурю сюда — загадка.
— Я знаю, — вдруг подала голос Оливия.
— О? — брови Сюзанны поползли вверх.
— Его Высокоблагочестие официально считается наместником Исцелителя на земле и обладает непомерной чудотворной силой. Папаша хочет, чтобы святейший Винченцио Доминикано исцелил меня. Так сказать, крайнее средство.
— Это делает ему честь, — сказал Фигаро.
— Он просто дурак, мой папаша, — хмыкнула Оливия. — Врожденные болезни не лечатся. Уж чудесами тем более. А в то, что этот осыпанный бриллиантами хрен совершит чудо, я верю не больше, чем в то, что луна споет нынче песенку «Я знаю точно, невозможное возможно».
— Оливия, чтобы больше я этого не слышала! — рявкнула Сюзанна. — Никаких оскорблений в адрес Его Высокоблагочестия! А то в гробах с гвоздями окажемся все мы. Или живьем сваримся в кислоте!
— Молчу, молчу, — Оливия изобразила крайнее смирение.
И тут затрубили трубы подъемного моста, причем несколько истерично, словно у врат было сразу несколько видов врагов.
— Опа, — неделикатно выразился Фигаро. — Их что, уже принесла нелегкая? Монти, ступай распорядись насчет врат, а я надену парадную ливрею.
Монти, главный мальчишка Фигаро, умчался к воротам замка, и мы, разумеется, рванули за ним. Кто бы ни был наш нежданный визитер, он стоил нашего пристального внимания.
Спрятавшись за одной из колонн центрального портала, мы наблюдали за тем, как опускают мост. Вообще-то зрелище было так себе, но самым важным оказалось то, что в некотором отдалении от моста, чтоб не запачкаться дорожной пылью, стояла карета, зеленая, как недозрелый лимон.
— Бэ-э, — тут же высказалась Оливия. — Это у кого так здорово с цветовосприятием?
Хуже того. На запятках кареты торчали два зелено-кислых герольда, и они синхронно протрубили в отороченные гербовой тканью трубы опять-таки нечто зелено-кислое. Трижды.
— О, слава Исцелителю! — пробормотала Оливия. — Идет Фигаро, и на нем его самая парадная ливрея, которую нам давали штопать на прошлой неделе. Теперь-то все будет чин-чинарем.
Фигаро изобразил положенный поклон и громко сказал:
— Я домоправитель замка Жемчужины, и поскольку хозяина замка, его светлости герцога Альбино Монтессори сейчас нет в этих стенах, я имею полное право узнать, кто имел честь прибыть к воротам Кастелло ди ла Перла.
И еще один поклонник, с легкой отмашечкой накидкой.
Зеленые герольды переглянулись, рассуждая, протрубить им еще раз или все-таки пощадить слух окружающих, и остановились на втором. С козел быстро спрыгнул кучер, напоминавший саранчу, и распахнул дверцу кареты, одновременно опуская позолоченные складные ступеньки. По ступенькам медленно, с невыразимым достоинством и благоприличием спустились крошечные ножки, которые я сперва приняла за лапки кузнечика, но потом все-таки разглядела на них ядовито-зеленые туфельки с золотыми бантами, светло-лимонные лосины и колет, цвета которого в зеленом мире я просто подобрать не могу.
Все мы молча и с некоторым ужасом воззрились на зеленое существо. Видимо, не у одной меня возникла мысль о том, что вместо человеческой головы у него окажется голова кузнечика либо саранчи. Но Исцелитель миловал. Голова оказалась человеческая, но до того маленькая и сморщенная, что напоминала, уж простите, усохший кабачок. Вершину головы украшала широкополая шляпа цвета зеленых яблок и обремененная павлиньими перьями. Покачиваясь под их тяжестью, кузнечикоид ступил на благословенную землю Кастелло ди ла Перла.
Мы все склонились в реверансе, и лишь Фигаро, умелец по части одновременных реверансов и вопросов, спросил:
— Кого мы имеем честь встречать на земле герцогства Монтессори?
Существо открыло рот. У него оказался неожиданно глубокий баритон:
— Я маркиз Корделио Фра Анджело, и я имею полное благословение Его Высокоблагочестия подготовить жилище герцога Монтессори к столь высокому визиту.
— А мы думали как-то сами… — донеслось из собравшейся толпы слуг, но маркиз даже не прореагировал на эту реплику. Своими огромными черными глазами он посмотрел на Фигаро и спросил:
— Вы — домоправитель?
— Так точно.
— Извольте проводить меня в мои покои и велите через шестнадцать минут подать туда свежего зеленого чаю. Без сливок и молока. После чая я жду вас у себя для обсуждения программы встречи Его Высокоблагочестия.
— Х-хорошо, — выдавил Фигаро, а кузнечикоид обвел глазами поместье и сказал:
— У вас мило. Скромно, но мило. Его Высокоблагочестие любит такие запущенные места.
Наверное, когда он делал разворот головой, я одна заметила, что глаза у него фасетчатые. И над переносицей два маленьких стебелька усиков. Что, Вторжение началось вот так просто?! Мессер Софус, я просто не дождусь встречи с вами!
Меж тем маркиза Корделио проводили в его покои (на самом деле это были покои Фигаро, но там царил всегда идеальный порядок, так что сами понимаете). Слуги собрались внизу на кухне и помалкивали, что было вообще-то для них нехарактерно. Мы с Оливией шли в библиотеку.
— Ты заметила? — спросила Оливия.
— Имеешь в виду фасетчатые глаза и усики?
Руки, нет, скорее, псевдоподии, с зацепками, как у саранчи. Рукава камзола это скрывают, но я же люблю подсматривать там, где скрыто. И еще ему очень трудно двигаться коленками вперед.
— Значит, это не человек, это монстр. И самое интересное, что этот монстр объявил себя распорядителем торжеств по случаю прибытия Его Высокоблагочестия. Как ты думаешь…
— Его Высокоблагочестие — тоже какое-нибудь насекомое?
— Не исключено.
— Ну, будем надеяться, что они носят мирный характер, очеловечились, приняли нашу культуру…
— Люция, ты че гонишь? Саранча примет человеческую культуру? Самка богомола? Пауки? Скорпионы? Сороконожки?
— Ой, ну подожди, прямо так сразу-то… А вдруг этот кузнечик — он свидетельство чуда Его Высокоблагочестия, единственный экземпляр. Ну, помнишь, в детской книжке все читали: «вывихнуто плечико у бедного кузнечика». Никто же не знает продолжения, а может, вот как раз Его Высокоблагочестие и спас несчастное насекомое, и оно теперь ему верно служит.
— Люция, какая ты все-таки дура. Я считаю — это нашествие.
Меня прямо в грудь толкнуло. Но я не могла пересказывать Оливии свои беседы с мессером Софусом.
— У тебя точно паранойя, Оливия. Начитаешься всяких запрещенных романов на ночь: «Человек-паук губит Галактику», «Человек-таракан насилует земных принцесс». Лучше бы почитала стихи какие-нибудь.
— Ага, «Путешествие по аду» моего папаши, где все муки и грешники описаны так, словно он с ними за ручку здоровался. Уж лучше человек-паук. Знаешь, сколько у паука яиц?
— Отстань! Фу, гадость, я пойду, переоденусь к обеду. И вообще, раз тут это зеленое нечто появилось, надо вести себя благородно и достойно, чтоб потом от герцога не влетело.
В своей комнате я осмотрелась. Здесь всегда было чисто — и благодаря моим усилиям, и благодаря старательности горничной. На кровати было разложено свежее платье — значит, о переодевании к обеду подумала не я одна. Платье было темно-зеленого цвета, а по подолу были вышиты салатовые листочки и цветочки. Мало того, полагался геннин с темно-зеленой вуалью. Если учесть, что геннин я не носила со времен пансиона, то становилось ясно — это ужесточение местных правил.
Когда я вышла в обеденный зал, мне показалось, что я гуляю в парке. Все дамы и мужчины были одеты в одежды самых разных оттенков зеленого цвета, а самые подобострастные — в оттенки маркиза Фра Анджело. Самое ужасное, что даже на Оливии были лосины цвета пекинской капусты и туника цвета репы.
— Интересно, — молвила Оливия, — а за обедом нам тоже репу будут подавать. Или тушеное сено?
Молодые люди, оставив свои обычные вольности, подвели дам к столу и сами расположились стоя, ожидая высокого гостя. Оказалось, гость не может никуда впереться без своих герольдов. Сначала вошли они, протрубили какое-то яростное безобразие, а затем уже изволил войти маркиз Фра Анджело. Интересно, подумала я, а в туалет он тоже с герольдами ходит, дважды — до и после? Или ему — как кузнечикоиду — человеческие уборные ни к чему?
Маркиз остановился у своего кресла и оглядел зал огромными глазами.
— Приятно видеть такое общество, — молвил он. — В столь гармонично выбранных цветах нарядов. Прошу садиться, господа.
Нет, все-таки сел он коленками вперед, за этим я проследила.
Начали подавать блюда.
— Я взял на себя смелость, — подал голос кузнечикоид, — ознакомить вас с блюдами, которые обычно подают у меня за столом. Надеюсь, вы будете довольны. Пареное с цукатами сено особенно удается в этом сезоне, и хотя Его Высокоблагочестие отказывается от столь скромной пищи, я тем не менее по-прежнему убежден в ее высокой полезности. Приятного аппетита!
— Ну я как в воду глядела, — мрачно сказала Оливия. — Слышь, ты, репа есть?
— Вам пареную, соте или рагу, сударыня?
— Все три вида. И кетчуп.
— Простите, сударыня?!
— Вали. А знаешь что, Люция, неделя такого подножного корма, и я начну жрать наших гостей. Себастьяно вон какой упитанный.
— Тебе — филе, а я люблю копченые ребрышки, — договорились мы.
Репа, в целом, оказалась даже ничего себе, съедобная. А вот от пареной травы мы отказались. Вин тоже не было, были березовый сок и настойка топинамбура, так что все прошло быстро и трезво.
— Благодарю за обед, господа, — бодренько вспрыгнул из кресла кузнечикоид, еще бы, ему траву жрать — самое то. — Фигаро, жду вас, наследницу рода Монтессори и ее компаньонку в своих покоях через полчаса. Попрошу не опаздывать.
— Ну что вы! — заверили мы.
Маркиз Фра Анджело даром времени не терял. В наше отсутствие он разложил на письменном столе большую карту герцогства Монтессори и, держа в крошечных пальчиках позолоченную лупу, пристально ее рассматривал.
— Маркиз, — осмелился подать голос Фигаро. — Мы все явились по вашему требованию.
— Прошению, дорогой, прошению. Кстати, какая удача, что в покоях имеется столь подробная карта владений герцога Альбино. Это очень удобно.
— Его Высокоблагочестие намеревается осмотреть все эти владения? — От ужаса у Фигаро заметно свело щеки.
— Отнюдь, — улыбнулся (или что он там сделал) кузнечико-маркиз. — Его Высокоблагочестие в силу понимаемых обстоятельств не может позволить себе длительного отдыха даже в одном из самых лучших поместий Старой Литании. Он чрезвычайно занят миссионерскими трудами, пастырской деятельностью, наставлением на путь истинный всех несчастных, с этого пути сбившихся. Кстати, хотел бы привести уместный пример. Наверняка все вы слышали, дурная слава вперед бежит-то, о недостойном, я бы даже сказал, развратном поведении графа Дилидона Хуана, совсем забросившего вопросы веры и благочестия и употреблявшего свои несметные сокровища на цели весьма и весьма недостойные. Так вот, однажды граф сподобился чести побывать на персональной проповеди у Его Высокоблагочестия, пекущегося непрестанно о душах своей паствы. Сами понимаете, что даже такой распутный человек, как граф, не мог отклонить предложение, от которого невозможно отказаться. Беседа меж ними была долгой, и после нее граф Дилидон Хуан вернулся в мир совершенно иным человеком. Во-первых, он победил в себе грех стяжательства и сребролюбия и в ближайшее же время отписал все свое имущество святой юстиции, что, несомненно, послужит к увеличению добра и красоты в нашем государстве и даже за его пределами.
— Но где же теперь живет граф Хуан? — осмелилась подать голос я.
— Он решил повторить подвиг своего учителя и заказал для себя огромную полую каменную статую. Статую он повелел поставить на кладбище, покидает ее он только ради неотложных нужд, а пребывая внутри, издает вопли глубокого стенания и раскаяния. Особенно он умоляет о том, чтобы его более не удостаивали чести зреть Его Высокоблагочестие — таков оказался эффект воздействия святого подвижника на бывшего распутника.
Мы с Оливией переглянулись. Это что ж там надо было увидеть, чтобы заточить себя в каменный саркофаг на остаток лет?
Мессер маркиз помахал пальчиками, привлекая наше внимание.
— Вернемся к сегодняшней ситуации. Как явствует из карты, герцогство обладает обширными пустошами, которые Его Высокоблагочестие пожелает обозреть ради рекомендаций по их планомерному использованию. Думаю, визиту на пустоши можно будет посвятить третий день торжества. Первый день, день встречи Его Высокоблагочестия под сводами замка, мы должны обговорить более подробно.
В лапках у него материализовался зеленый блокнотик и зеленый же карандашик.
— Итак, — начал маркиз. — Начнем с того, что кортеж Его Высокоблагочестия на сей раз очень скромен: всего двенадцать святых послушников и два десятка священных гвардейцев. Вот, у меня здесь схема замка, давайте посмотрим, где лучше разместить свиту, ведь они одновременно должны и не мешать святому теодитору, и быть доступны по первому же его зову…
— Тогда, возможно, нам следует сначала решить, где мы разместим Его Высокоблагочестие?
— О, ну это же ясно! — всплеснул руками Фигаро. — В лучших покоях замка, где в свое время останавливался его величество…
— Нет, нет, — покачал суставчатым пальчиком кузнечикоид. — Его Высокоблагочестие запрещает делать себе покои внутри помещения. Он предпочитает свежий воздух, и поэтому мы должны особое внимание уделить крыше замка. Его Высокоблагочестие разместится именно там. Фигаро, в каком состоянии находится крыша замка?
— В… в хорошем, маркиз. Ее полтора года назад перестилали — теперь она застелена в два слоя лучшим тролльским плоским шифером…
— Тролльским? Хм. Это досадно. Разве герцог не знает, что мы ввели санкции против Троллии? И к тому же король призывает всех подданных поддерживать отечественных производителей! А вы — тролльским. Уж, на крайний случай, крыли бы черноросским. У нас с ними давняя дружба, и картофель у них замечательный… Даже не знаю, что делать. Ведь перестелить крышу заново за столь короткий срок не удастся?
— Никак нет, маркиз!
— А что, если… — подала голос Оливия, и все посмотрели на нее так, словно заговорила ваза на камине. — Что, если плотно застелить крышу коврами? Ковров, особенно отечественного производителя, у нас в избытке. Мы настелем их в два слоя и по краям прикрепим металлическими скобами, чтоб ветром не сдуло. И крыша приобретет к тому же праздничный вид.
— Мне нравится ваша идея, малютка, — сказал маркиз. — Вы ведь дочь герцога Монтессори?
— Совершенно так, маркиз.
— Чувствуется благородная кровь. Хорошо. Готовьте ковры немедленно и пошлите на крышу слуг, чтобы они сделали там все, как должно. Да! И обязательно проверьте, чтобы в коврах не было моли! Его Высокоблагочестие не благословляет моли плодиться и размножаться, она приводит его в священную ярость, а этот его визит священной ярости не предполагает, как я надеюсь. Теперь вернемся к тому, с чего начали — с размещения свиты. И раз уж Его Высокоблагочестие будет пребывать на крыше, следовательно, его свите можно будет полностью занять чердак. Полагаю, чердак в замке обширный?
— О да, — сказал Фигаро. — Обширный, но он несколько захламлен.
— Вычистить. До последней пылинки.
— А следует ли доставлять туда какую-либо мебель?
— Не стоит, — сказал маркиз. — Голые стены, голый пол. И никаких ковров туда! А то святые послушники быстро окукливают… э-э, погружаются в молитвенный подвиг. А гвардия вообще должна круглосуточно бдеть, охраняя Его Высокоблагочестие. Кстати, на чердаке есть окна?
— Да…
— Застекленные?
— Конечно.
— Стекла следует вынуть. Так гвардии легче будет вести круговой осмотр.
Мы с Оливией переглянулись. Интересно знать, когда это стекла мешали круговому осмотру. Мешают они только в том случае, если из окна нужно вылететь какому-нибудь… насекомому.
— Заметьте, — поднял пальчик маркиз. — Я не обсуждаю с вами, что следует подавать на стол Его Высокоблагочестию и свите.
— Да, — кивнула Сюзанна. — Мы не обговаривали меню, а это так важно…
— Вот сейчас этим и займемся. Много ли в поместье цветочного меда?
— Достаточно.
— А варений, пастилы, желе?
— Они занимают большую комнату в подвале, маркиз.
— Замечательно, — протянул маркиз. — Две бочки меда — не самого превосходного качества — вам следует растворить в белом вине и поставить чаны с напитком на чердаке. Это питание для гвардии и послушников.
— Какой странный рацион! И потом, через открытые окна на сладость налетят мухи, комары, осы…
— Не страшно, — маркиз улыбнулся или изобразил улыбку, и вот это действительно было страшно. — Как налетят, так и поплатятся за это… Теперь о питании Его Высокоблагочестия. Он вкушает пищу в полном одиночестве и в своих покоях, то есть на крыше. Туда вы отправите чан с вареньем и четырнадцать дюжин куриных яиц.
— Все четырнадцать дюжин сразу?
— Да. Они должны лежать рядами в плоских корзинах и исключительно на солнцепеке.
— Но они же протухнут!
— Это вас не должно волновать, — кузнечикоид внимательно обвел всех нас своими жуткими глазами. — Если вы еще не поняли, к вам в замок приезжает исключительная личность. И у нее свои правила, свои вкусы, привычки и распорядки. Никто не вправе критиковать или, избави Исцелитель, осуждать вкусы и привычки Защитника веры. Все все поняли? Как видите, наши запросы невелики. И несложны. Так что, если вы немедленно приступите к выполнению поставленных задач, то потратите на это совсем немного времени. Как велик святой теодитор в своей непритязательности и скромности! Ступайте, я вас больше не держу. Сам я пока поезжу по поместью. Думаю, в ближайшие часы я вам не понадоблюсь, а все дополнительные вопросы мы обсудим за ужином.
Все мы вышли из покоев маркиза в состоянии тяжелого когнитивного диссонанса. Проще говоря, у нас на некоторое время поехали крыши.
— Крыша, — подал голос Фигаро. — Я, безусловно, повидал в этом замке разных гостей за годы своего служения, но еще ни один из них не устраивал себе покои на крыше. Даже леди Бланши, которая посещала его светлость, как припоминаю, пятнадцать лет назад, поселилась всего лишь в донжоне… Правда, она испортила пять комплектов льняных простыней, сделав из них себе платье со шлейфом, чтобы вывешиваться на нем по ночам из бойницы…
— Не отвлекайтесь, мессер Фигаро, — деликатно тронула дворецкого за плечо Сюзанна. — Давайте подумаем, кого нам послать на крышу.
— Сначала ее надо отчистить от мусора. Пусть это будут конюх, три его помощника…
— Маловато.
— Нам еще чердак от хлама разгружать.
— Логично. На чердак кого? Вассалов же нельзя — они рыцари, они не привыкли таскать тяжести… Горничных?
— Ни в коем случае! Можно подумать, они привыкли таскать тяжести.
— У меня идея, — сказала Оливия. — У нас ведь масса родственников болтается по замку, жрет, пьет и ни дрына не делает. Один Себастьяно Монтанья чего стоит! Надо их в принудительном порядке, в связи со сложившейся ситуацией, заставить помогать в подготовке к визиту Его Высокоблагочестия. Откажутся — всех в двадцать четыре часа вон из замка без узелков со съестными припасами!
— А вот это, — улыбнулся Фигаро, — отличная идея! Наконец-то затраты на проживание и питание этих господ окупятся.
— Я составлю список, распределю всех по фронтам работ, — сказала Сюзанна. — Главное — не пускать никого лишнего на кухню к кухаркам и главному повару. Мессер Кальве очень трепетно относится к процессу приготовления пищи, и его половник без пощады сразит любого, кто посмеет как-то этот процесс нарушить. К тому же он может и передником задушить. С него станется. Я, например, в кухню ни ногой, когда там мессер Кальве командует поварятами.
— Значит, кухню исключаем. Госпожа экономисса, жду вас со списком через полчаса. Госпожа Оливия, вы с компаньонкой…
— Мы с Люцией займемся украшением замка внутри. Ну, гирлянды повесим из бумаги, флажки, фонарики, — Оливию понесло в удивительные дебри, но я лишь кивала головой и улыбалась. — Опять же, мы столько гобеленов вышили — повесить надо.
— Как будет угодно. Главное — поменьше путайтесь под ногами.
Нет, а вот это — откровенная наглость! Да Оливия и я — первые в любом приключении!
Все разошлись. Мы с Оливией, как обычно, отправились в библиотеку — якобы для изготовления картонажных украшений, а на самом деле — для обсуждения сложившейся ситуации. Роясь на полках в поисках цветной бумаги или хотя бы книг с цветными картинками, мы с полчаса трещали по поводу загадочного гостя и его свиты. Мы, кстати, заодно просмотрели подшивку альманаха «Вестник Рома. Как живет Церковь трудами святого Защитника веры». В пухлых глянцевых альбомах «Вестника» было очень много гравюр — вот Его Высокоблагочестие освящает новую партию инструментов для пыток и казней, вот благословляет лиганийские регулярные войска, вот дает аудиенцию королеве, вот объезжает поля спелой ржи где-то в провинции, вот совершает молебен на введение Старой Литанией санкций против Союза Республик Ветхого Совета… Но ни на одной гравюре мы не смогли рассмотреть лица святого теодитора. То есть смогли бы, но всюду оно было завешено плотной вуалью, даже без прорезей для глаз. В каком-то из альманахов мы прочли, что эта мера применяется для того, чтобы свет лица Винченцио Доминикано не лишил зрения простых смертных. И в целях общей безопасности. Его величество тоже вон постоянно ходит в шлеме, даже, говорят, моется в нем и спит. А мало ли! Вдруг враги Литанийского королевства, узрев высокие лица, сглазят их? Такой возможности никогда нельзя исключать. Даже собственных ведьм приходится сжигать по сто — двести штук ежемесячно, судя по рапортам недремлющей святой юстиции. А если против нас еще и заграничные ведьмы ковы плетут, а они наверняка плетут!
Начитавшись «Вестника Рома», мы почувствовали себя несколько обалдевшими. Оказывается, у Старой Литании столько врагов, что внешних, что внутренних, — ужас! И если бы не активное вмешательство в дела королевства Его Высокоблагочестия, нам всем давно бы пришел трындец. А так — народу хоть репу пареную есть можно. И брюкву — в изобилии, и репчатый лук с квасом.
— Поневоле начинаешь гордиться своей страной, — задумчиво протянула Оливия. — Если у нас столько врагов, значит, мы что-то значим в мировом раскладе сил? Слушай, давай в армию завербуемся! Маркитантками!
— Оливия, уймись уже. У тебя глаза блестят, словно ты в одиночку напилась бахрейнского портвейна.
— А откуда ты знаешь про портвейн?
— А то я не видела початую бутылку за твоим ночным горшком!
— Гнусная шпионка. Что тебе было нужно за моим ночным горшком?!
— Мне просто обидно, что ты вылакаешь все в одно рыло, а мне останется ненавистная трезвая действительность.
— А ты знаешь, что наше королевство вот уже четыреста лет ведет борьбу с пьянством и алкоголизмом?
— Понятно. И ты уже решила подготовиться во всеоружии к юбилейным торжествам…
— Не дрожи, Люция, жалкое существо. Бутылка все там же. И уровень портвейна в ней прежний. Я проверяла утром. Мы с тобой вечерком это дело провернем… Запасемся вареной репой. Репа и портвейн… Эх, жалко кетчупа нет!
— Кто здесь что-то говорит о портвейне?
Расшвыривая во все стороны тома из полного собрания сочинений затуманского философа Бертрама Вустера, взорам нашим предстал помятого вида мессер Себастьяно Монтанья.
— Ой, тысяча голых нимф! — простонал он, хватаясь за встрепанные кудри. — Я-то думал, тут разговаривают порядочные люди, а это вы, гарпии, драконши, гадюки…
— Сколько сложных слов сразу, — хмыкнула Оливия. — Люция, как ты думаешь, он их по бумажке выучил или на стенах комнаты написал?
— Просто у него похмелье, — у меня на это дело глаз-алмаз. — Вот и говорит незнамо что.
Себастьяно жалобно скривился:
— Здесь прозвучало божественное слово «портвейн»! А иначе я никогда бы не вылез из своей уютной норки…
— Ты посмотри, герцогиня, на это прыщавое рыло! Он, значит, опять лазил в винный погреб, накачался, как токарь пятого разряда, и дезертировал в библиотеку, в то время как весь остальной замок трудится до седьмого пота, готовясь к приезду Его Высокоблагочестия! Себастьяно!
— Чё?
— Ты ничтожество!
— Я в курсе. Мой папа говорит мне это двести четырнадцать раз в сутки. Еще новости будут? И все-таки как мы решим вопрос с портвейном? Настоящим дамам полагается быть милосердными к рыцарям, коих снедает тяжкое похмелье.
— Из тебя рыцарь, как из меня балерина королевского театра, — отрезала Оливия. — Но портвейн тебе будет.
— Оливия, ты владычица моего сердца, — криво становясь на одно колено, пропел Себастьяно. Не удержался, рухнул на стопку журналов «Что должна знать настоящая принцесса». — Ну-ка, неси стаканы на стол… Я готов даже на тебе жениться.
— Была нужда, — фыркнула Оливия. — Люци, сбегай-ка в мои покои. У меня появился план.
— И ради этого плана ты дашь вылакать настоящий бахрейнский портвейн этому недоделку?
— Беги давай, это приказ.
Я повиновалась. Бутылка и впрямь оказалась на месте. Хорошо хоть, служанки, что опорожняют местные ночные горшки, ее деликатно не заметили.
Когда я вернулась, Себастьяно и Оливия сидели там же.
— Третьей будешь? — аристократично спросила Оливия.
— Я нахожу этот вопрос неуместным, ваша светлость, — надменно сказала я, но тут же расхохоталась. — Я даже стаканы принесла.
Оливия, не чинясь, разлила портвейн по стаканам:
— За нас и за спецназ! — произнесла она тост, который очень любила, но сути его не понимала. Как и я, впрочем. Что это за таинственный «спецназ», мы не ведали.
Осушив стаканы, мы блаженно выдохнули, правда, Себастьяно, нарушив торжественность минуты, рыгнул. Что с него взять, недоделок — он и в Литании недоделок.
— Как хорошо-о-о-о! — томно простонал он и понюхал свою кружевную манжету. — А давайте по второй, не тормозя!
— Стоять! — голос герцогини Монтессори стал железным. Я убрала бутылку за спину. — Сперва дело делать будем. Себастьяно, от тебя требуется тупой физический труд и некоторая доля прыткости.
— Так я и говорю: по второй! И тогда все что угодно!
— Налей ему, Люци. На полпальца.
— Все герцогини такие жмотки, — проворчал Себастьяно, но выпил молниеносно.
— Я чувствую себя мифическим богом Кераклом и готов раскерачить все, что к полу не приколочено. Герцогиня, повелевайте.
Это он подольститься пытается. Бутылка-то еще наполовину полна.
— Мы с Люцией решили слегка приукрасить замок в связи с приездом Его Высокоблагочестия. Простенько, по-детски, но со вкусом. Цепи…
— Ух? — восхитился Себастьяно. — Наручники, плетки?! Может быть, даже страпоны? Шалунья!
— Заткнись и дослушай, урод. Страпоны ему. Вожжой тебя отхлестать, и то…
— Оливия, перестань так говорить, а то он стал какой-то красномордый…
— Извращенец.
— Да! — радостно выдохнул Себастьяно.
— Заткнись! Цепи будут из бумаги. Цветной. Мы навырезаем. Нужно будет их развесить на балках главного зала — ярко, празднично. Еще будут бумажные фонарики на ленточках. И вот еще у меня идея — из золотой фольги мы с Люцией вырежем звездочки, птичек, бабочек, в общем, всякую слащавую дрынотень, а ты будешь крепить их к стенам…
— Чем крепить?
— Язы… Клей дам, то есть не совсем клей. От кого-то из прежних герцогов Монтессори осталась масса клеящего крема для вставных челюстей, вот он и пригодится, — Оливия поняла, что воображение у похмельного Себастьяна богатое, и стала осторожнее в словах. — Люци, как ты думаешь, вырезанные из красного бархатного картона слова «Добро пожаловать!» украсят главный вход?
— По-моему, там лучше повесить орифламму с гербом рода Монтессори. А то прямо какой-то детский лагерь получается.
— Что ты знаешь о детских лагерях, — мечтательно протянул мессер Себастьяно. — Какие там вожатые… А песни у костра…
Пришлось еще раз выпить, чтобы мысли Себастьяно окончательно приняли деловое направление. Он клятвенно заверил нас, что выполнит все, что мы пожелаем, и даже наши гобелены вывесит в холле.
Мы дали ему немного подремать, пока сами разыскивали цветную бумагу, ленты, фольгу, клей и прочую мишуру. Настроение у нас было самое творческое. Правда, к нему примешивалось некое коварство.
А что из всего этого получилось, вы поймете дальше.
Глава девятая Встреча Особо Важной Особы — 1
Трудолюбие и терпение — вот две главные добродетели, которые надо воспитать в человеке. Возможно, против его воли.
Из проповедей Его Высокоблагочестия, т. 87Ужин нам принесли в библиотеку. Мы настолько увлеклись вырезанием и склеиванием, что служанка посмотрела на нас с уважением. Даже на меня — впервые за все время пребывания в замке Монтессори.
Себастьяно от ужина отказался (!), мотивируя это тем, что ему приходится пользоваться стремянкой, а она старая, все время скрипит и может не выдержать его веса. Вот портвешку стаканчик — это да.
Портвешку не дали, дали несколько ярдов разноцветных бумажных цепей и благословили на подвиг. Следить за выполнением обязательств юного пьяницы нам было некогда, в рекордное количество времени мы склеили полторы сотни бумажных фонариков, украсили их шелковыми ленточками и принялись за фольгу.
— Мы не можем ждать милостей от природы, — сказала Оливия. — Надеяться на то, что она одарила нас одрыненным художественным вкусом, наивно и смешно. Поэтому залезь вон в тот шкаф, кажется, на второй полке сверху еще завалялись всякие мои детские увлечения.
Я повиновалась. Вторая полка сверху была беспорядочно заполнена пестрыми бумагами. Я потянула за одну, как мне показалось, наиболее доступную, и на меня обрушилась пыльная гора детских увлечений моей герцогини. Она в это время, разумеется, вволю хихикала и обзывала меня неуклюжей росской медведицей.
Я слезла со стремянки и принялась разбирать кучу бумажного хлама. Оливия подхватилась на костыли и подгребла ко мне.
— Ух ты! Надо же, сохранилась моя коллекция оберток от шоколада. Сама не своя была от шоколада лет в пять. Смешно теперь даже вспоминать.
— Да уж, теперь тебе кальяны да портвейны подавай, ваша светлость.
— Я и полусухое принимаю с душой. Давай это в камин. Эти шоколадные обертки меня компрометируют. Я сильная разумная девушка, а не какая-то чувствительная кукла, которая ни дня не может прожить без сластей.
— Ой-ой-ой, взрослая девушка… Ух ты, у тебя сейчас взгляд как у трехглавого дракона из детской книжки, только он так смотрел шестью глазами, а тебе двух достаточно.
— Не отвлекайся, — ухмыльнулась Оливия. — Зацени — это мои альбомы для рисования… Пролистай, и тоже давай в камин. Не знаю, кто их сохранил, надеюсь, отец это не видел. Я в свои альбомы срисовывала позы из «Кошмарсутры».
Я полистала. Срисовывать Оливия умела отменно. Мужчины и женщины на страницах ее альбомов были ну прямо как живые. Особенно удались Оливии те части тел, о которых я не рискну упоминать в своем повествовании. Давненько я так не краснела, чем вызвала еще больше циничного смеха Оливии.
— Можно подумать, ты никогда не видела голых мужиков.
— Ну, у нас в пансионе был ночной сторож лет восьмидесяти. Он всегда ходил в кальсонах и телогрейке. И сомнительно, чтобы он вел себя так…
— Если Фигаро не уничтожил, я тебе подсуну «Кошмарсутру». Классика литературы наслаждения и страсти.
— Не надо. Я уже по твоим рисункам составила определенное представление и о наслаждении, и о страсти. Я к таким вещам ни морально, ни физически не подготовлена. Уволь, герцогиня. В камин?
— В камин… — Оливия вздохнула. — Просто у меня было очень скучное детство.
Я растопила камин. В промозглом воздухе библиотеки он был просто необходим. Детские воспоминания герцогини Монтессори вместе с кедровыми поленьями весело запылали, наполняя комнату теплом и уютом.
— Где же они? — Оливия кончиком костыля рылась в ворохе бумаг. — А вот… Не они ли?
Она толкнула к моим ногам пухлую папку, обвязанную ярко-оранжевой лентой.
Я подняла папку и положила ее на столик, раскрыла, и из нее высыпался ворох разных фигурок.
— Да, это они! — обрадовалась Оливия. — Трафареты для вырезания. Мне было шесть лет, когда я познакомилась с дочкой графа Чинзано. Ужасная была зануда, рева, но она меня увлекла своей страстью к вырезанию. Тем более что это увлечение позволяло постоянно иметь при себе ножницы. Я извела столько веленевой бумаги на зайчиков, снежинки, звездочки, цветочки, бабочек и прочую дрынотень! Папа был очень недоволен — бумагу я таскала из его покоев. Зато вся прислуга была по уши задарена моими поделками. Потом дочка графа уехала, интерес к вырезанию пропал, особенно после того, как я изрезала на цветочки отцовский парадный камзол и все занавески в спальне. Меня выпороли и отобрали ножницы. А трафареты все-таки сохранили! Это Сюзанна, она такая чувствительная. Все время думает, что я бедная девочка, которую нужно баловать, любить и оберегать.
— Простим ей ее ошибки, — сказала я. — Она всего лишь женщина.
Трафаретов было множество. Мы выбрали наиболее простые и при этом симпатичные: звездочки, ромашки, летящие голуби, бабочки и сердечки. Ну, типа, наши нежные сердечки полностью принадлежат Его Высокоблагочестию. Мне понравились снежинки, но не сезон. Потом Оливия вспомнила, что вообще-то теодитор будет в замке праздновать Торжество Святого Исцеления, и добавила трафарет Святой Мензурки и Целительной Таблетки. От трафарета Благословенного Градусника я отказалась, уж чем-то мне его контуры напомнили некие части тела, которые я только что созерцала в срамных рисунках Оливии. Нам двусмысленности не нужны. Нарекания со стороны главы святой юстиции — это вам не гроза в ясный день. Им человека объявить кощунником или еретиком и колесовать либо зажарить в медном быке — как стакан святой воды на завтрак выпить.
Вырезать из золотой фольги что-нибудь мирное и при этом болтать о всякой всячине — на это незаметно может уйти огромное количество времени. Освещаемые люстрой и огнем камина, мы и не заметили, как за окнами установилась глубокая ночь.
— Что-то Себастьяно не приходит, — пощелкала Оливия ножницами.
— Он уже видит третий сон, ваша светлость, — пробормотала я. У самой глаза слипались.
— Слабаки, — фыркнула Оливия. — Вот я — всю ночь могу не спать! Я сильная личность! А вообще-то… Что-то клонит ко сну. Сколько мы уже примерно навырезали всякой дряни?
— Боюсь, миллиона полтора одних звездочек. Они у меня в глазах двоятся.
— Это от портвейна. Оставь пойла нам немного на утро, спрячь куда-нибудь, и подремлем. В библиотеке отличные мягкие диваны.
Остатки портвейна я спрятала на полке с книгами по поэтическому мастерству и искусству правильной рифмы. Я сочла это надежным прибежищем.
Стряхнув с себя кучи вырезанных ерундушек, мы, поддерживая друг друга под руки, доплелись до диванов, стоявших в центре библиотеки друг напротив друга, и плюхнулись на них. Хорошо, что свечи в люстре уже догорали и благословенный сумрак заполнил огромную комнату.
— Спокойной ночи, ваша светлость, — промямлила я.
Мне кажется, я заснула, едва голова коснулась диванной подушки. А нет, я все-таки одним глазом проконтролировала, как заснет моя госпожа. Храпит она просто феерически. Вот этот храп и смежил мне веки окончательно.
Не знаю, сколько времени я проспала как убитая. Мне снилось, что я фея с крылышками, порхающая среди золотых звездочек и ромашек. Потом мне приснился кот — огромный, как хорошо откормленная свиноматка. Кот тоже парил в воздухе и улыбался во всю пасть.
— Привет, Алиса, — промявкал он довольно скабрезным тоном.
— Какая я тебе Алиса, чучело? Меня зовут Люция Веронезе, и я не позволю всяким улыбчивым котам болтаться в моих снах!
— Фу, какая грубиянка! Да уж, теперь я вижу, что ты не Алиса. Ах, Алиса, как бы нам встретиться… Среди миров, в мерцании светил… Во всех мирах ее ищу, во всех вселенных — бесполезняк…
— Погоди. Что ты знаешь о других вселенных?
— Их много, они разные, иногда до ужаса одинаковые, и все такие скучные без Алисы…
— Далась тебе эта Алиса! Расскажи про какую-нибудь вселенную, только интересную.
— Ну уж нет… Я тебе что, кот ученый, что ходит по цепи кругом? Это он любит баяны тянуть и лапшу вешать. Не путай, милочка. Чао!
И странный кот растаял как туман, оставив после себя одну улыбку, неприкаянно болтавшуюся в воздухе. Во сне я перевернулась на другой бок, надеясь, что дальше мои грезы будут поинтереснее и уж всяко веселее.
Но дальше в основном снилась всякая чепуха. То — что я работаю библиотекарем, то — что выхожу замуж за медиамагната… Да уж, только во сне может прийти в голову столь нелепое слово, как «медиамагнат»! Наверное, из другой вселенной затесалось.
Тут я почувствовала, как нечто деликатно щекочет мне шею. И это уже не сон. Я хлопнула себя по шее и ощутила в руках крысиный хвост!
— А-а, — окончательно проснулась я и услышала:
— Тише, милочка. Ты орешь, как тюлень на лежбище, право слово. Это всего лишь я.
— Мессер Софус, — счастливо выдохнула я. — Как вы меня напугали!
— Дорогуша, тебе пора ко мне привыкнуть. Выпусти мой хвост, будь любезна. Спасибо. Прошу тебя понизить тон голоса, а то разбудишь свою госпожу и разговора не получится!
Я повиновалась.
— Ну что? — спросил меня мессер Софус. — Ты готова к конструктивному диалогу?
— Совершенно, мессер.
— Меня прежде всего интересует, каков успех твоих наблюдений. Ты же помнишь, в прошлом разговоре у нас шла речь о вторжении неких сущностей из неизвестной вселенной…
— Мессер, я его видела! Правда, он очень хитро замаскировался под обычного маркиза — одежда, речь, повадки, слуги, даже имя — Фра Анджело. Но я прекрасно распознала в нем монстра — это жуткий, в человеческий рост, мутант-кузнечик! Глаза фасетчатые! Лапки! Усики! Бее зеленое! Ест, опять же, траву, репу, сладости…
— Погоди, погоди… Боюсь, дорогуша, это не вторженец.
— Как же, мессер?
— Ах, милое дитя! Ты взрослеешь, и у тебя становится более пристальным взгляд, но выводы из наблюдаемого ты делаешь неправильные. Инсектоиды — раса, которая существует на Планете практически с момента зарождения жизни. Они старше многих видов животных, и уж всяко старше вас, людей.
— Инее…
— Насекомые, проще говоря. Разумеется, в самом начале своего существования, а это миллионы лет, насекомые были куда скромнее в размерах, притязаниях и скорее служили кормом для птиц и зверей. Но примерно двести тысяч лет назад ситуация коренным образом изменилась.
— Почему?
— Видишь ли, дорогая… Это произошло с пришествием в мир Исцелителя. В священных книгах, рассказывающих о том времени, все начинается с того, что люди двести тысяч лет назад совершили Очень Большую Ошибку.
— А, ну да, тогдашние люди владели ужасным оружием, способным погубить все живое и даже разрушить Планету. Была Великая Война, в ходе которой это оружие применили все воюющие стороны.
— Увы… — сложил лапки Софус. — Две трети человечества и животного мира погибли, а те, что выжили, страдали от тяжелейших неизлечимых болезней. Однако — и это не написано в учебниках истории и священных книгах — почти все виды насекомых выжили. Но они под воздействием тогдашнего воздуха, жесткого излучения, отравленной воды очень сильно изменились. Во-первых, они стали разумными. Во-вторых, они увеличились в размерах, стали обладать необычайной силой. В-третьих, они сохранили изначальные свойства насекомых — жестокость, агрессивность, всеядность, способность к производству большого количества потомства. Они воцарились на Планете и стали питаться людьми, животными, растениями, оставляя часть их для размножения — чтобы пища не кончалась. Это были страшные времена. Ничто не могло спасти человечество и Планету. Пока, внимая горячим мольбам праведников и пророков, на Планету не сошел Исцелитель.
— Ну да, в огромной колеснице, запряженной молниями, раскалив докрасна небеса.
— Люди любят все поэтизировать и приукрашивать, верно? На самом деле это был типовой исследовательский межвселенский лайнер, который используется всеми Солнечными системами в Галактическом Рукаве С3222-0ш. Исцелитель был просто медицинским дроидом, посланным на Планету для изучения и восстановления природной системы. Постепенно он восстановил нормальную атмосферу, возродил растительный мир, снизил радиационный фон… Сложнее всего было уладить отношения с инсектоидами, которых устраивала безраздельная власть и главенство в пищевой цепочке. Однако Исцелитель сумел договориться. Часть насекомых, благодаря генетическим операциям, вернулась в обычное состояние. Но другая, наиболее мутировавшая часть, была усовершенствована — например, Исцелитель ввел в их геном нравственность, миролюбие и вегетарианство — и стала расой инсектоидов. Инсектоиды перестали питаться людьми, и тогда Исцелитель потребовал от ведущих представителей двух рас Договора о совместном мирном проживании и сотрудничестве. С тех пор Договор не нарушался ни разу. Однако людям было трудно привыкнуть к тараканам, жукам, бабочкам, гусеницам, наделенным разумом, речью и большими размерами. Тогда Исцелитель призвал на помощь культуру и литературу. Были созданы великие, бессмертные произведения, в которых человек и инсектоид становились друзьями, партнерами, просто равноправными расами, ведущими достойное существование. Вспомни древнюю сагу о любви, верности и храбрости «Муха-хохотуха». А эпос «Жучище — всем мужикам мужичище»! Народное повествование о злом Таракане, который под воздействием любви к человечеству становится добрым, трудолюбивым и благочестивым, — как говорится, из песни слов не выкинешь! Кстати, о песнях, былинах, частушках. В них очень часто воспевается дружба между людьми и инсектоидами. Так постепенно, век за веком, в человеческом обществе сложилось понимание того, что инсектоиды гуманны, полезны, не враждебны. Конечно, были и пасквили, призывающие расу людей пробудиться и смести инсектоидов с лица Планеты. Сама наверняка читала запрещенные книжонки про злобного кузнеца Левшу, изуродовавшего лапки несчастной девушки-блошки… Но это мелочь. С течением времени инсектоиды стали приносить огромную пользу. Благодаря им существует банковское дело и система кредитования, законодательные органы, религиозные организации, почитающие Исцелителя, горнодобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность, биржи, политические партии, экономические форумы. Человеческая литература и искусство так бурно развиваются лишь благодаря финансовой поддержке насекомых! Как видишь, инсектоиды идут рука об руку с человеческой расой, и это сделало обе расы могущественными и процветающими.
— Значит, гигантский разумный кузнечик-маркиз — это нормально?
— Конечно. А ты знаешь, что большинство человеческих детей воспитывается нянями-цикадами?
— Ой…
— Перестань дорогуша, это уже расизм и отсутствие толерантности.
— Тогда мне нечем похвастаться перед вами, мессер, — больше ничего необычного я не заметила.
— Тем не менее продолжай присматриваться и прислушиваться ко всему и всем. Вторженец либо вторженцы могут маскироваться под обычных жителей Планеты. Знать бы только, кто и откуда эти вторженцы… Ой, слушай, заболтался я с тобой!
— Но вы открыли мне глаза, мессер!
— То ли еще будет, дорогуша. До рассвета еще два часа. Поспи. И мой тебе совет — не увлекайся спиртным. Ты еще так юна. Это тебе не идет. И какой пример ты подаешь своей герцогине!
— Это она подает мне пример.
— Ха-ха! Ну, прощаюсь. Не скучай!
— До свидания, мессер, — пробормотала я, проваливаясь в сон.
Проснулась я оттого, что некий костыль безжалостно лупил меня по мягкому месту (пора отвыкать спать на животе!)
— Доброе утро, герцогиня, — простонала я. — Хватит меня бить. Я же не ишак!
— Ты слишком медлительная!
— Я вчера перетрудилась. У меня мозоли от ножниц. Я требую сна и покоя.
— Ну ладно, дрыхни, ленивая и нелюбопытная сволочь. А я допью портвейн, пойду клеить украшения и заодно узнаю, как обстоят дела во всем замке.
— О, я уже встала! Нас ждут великие открытия!
Первым открытием стал недопитый портвейн. Совершенно скромной дозы было достаточно, чтобы взбодрить мозги и пробудить в нас зверский аппетит.
— Звездочки подождут, — сказала Оливия. — Давай спустимся в столовую, пожрем по-человечески.
— А который час?
— Половина шестого.
— Завтрак в десять, герцогиня. Давай лучше прокрадемся на кухню.
— Заметано.
Мы отряхнули одежду от остатков картонажного производства, похлопали себя по щекам, пощипали уши (от этого глаза бодро блестят) и сочли утренний туалет достаточным. После чего вышли навстречу новому дню.
Посреди холла стояла здоровенная стремянка, а все балки, своды, старые крюки для факелов были увиты разноцветными бумажными цепями. Себастьяно не поленился. Вот что с человеком делает портвейн.
— Уважаю, — сказала Оливия. — Оказывается, этот хлыщ может быть иногда полезен. У нас еще фонарики остались. Сегодня он будет работать по фонарикам.
Мы потихоньку прокрались в кухню. Там было практически безлюдью — пара служанок торопливо завтракала, а поварята растапливали огромную печь, вычищали медные котлы, таскали корзины с зеленью, овощами и фруктами. Поваренок ростом с доброго медведя и плечами такой же задумчиво рубил на куски огромную полуразмороженную свиную тушу. И ведь работал он практически бесшумно. Чувствовалось, что в мастерстве разрубания мяса он достиг великого совершенства.
На нас, конечно, обратили внимание, но как-то небрежно. Никто не предложил нам сесть, никто не приготовил завтрака. Думаю, что все просто были загнаны в связи с приближающимся торжеством. Но тут появилась Сюзанна, наше спасение и наказание.
— Герцогиня? — брови Сюзанны поползли вверх. — Доброго вам утра, что вы делаете здесь в такую рань?
— Сюзанночка, — тон Оливии был само шоколадное масло. — Мы со вчерашнего дня делали украшения для дома, вырезали, клеили, потом опять вырезали, клеили… Нам даже Себастьяно помогал, кстати, где он?
Сюзанна подошла к нам вплотную и втянула носом воздух.
— Бахрейнский портвейн, — взгляд ее был исполнен глубокого осуждения. — Как вы могли, девочки?
— Мы совсем немножко, — влезла я. — Только для поддержания сил и настроения. Буквально по мензурке.
— Настоящая девушка никогда не позволит себе спиртного! — строго сказала Сюзанна. — А вы катитесь по наклонной — кальян, портвейн. Что дальше?
— А дальше, Сюзанночка, мы очень голодны и хотим плотно позавтракать. Я бы не отказалась от яичницы с салом и помидорами, потом неплохо бы колбасы, сливочного масла и свежих булок… И кувшин ревеневого компота — без него просто никак! Люци, а ты?
— Поддерживаю, герцогиня.
Сюзанна вздохнула.
— Сейчас все будет. Но портвейн я тем не менее вам не простила. Вы у меня еще наплачетесь кровавыми слезами.
Покончив со страшными угрозами, Сюзанна быстро и ловко приготовила нам завтрак и усадила за столиком в уголке кухни. Себе она налила ромашкового чаю, взяла вазочку с сухариками и хотела было уйти, но мы ее упросили сесть с нами.
— Герцогиня, не дело простой экономиссе сидеть с вами за одним столом.
— Ну, удостой меня такой чести, Сюзанночка! Заодно расскажешь, как идут дела по подготовке к часу икс.
Но сначала мы просто накинулись на еду. Готовила Сюзанна так, что я не понимала, как ее еще не похитили из замка Монтессори и не сделали главной королевской поварихой. Лишь перейдя к ревеневому компоту, мы с Оливией стали бросать на нашу дорогую экономиссу просящие взгляды.
— Ну что вы от меня хотите, девочки? — улыбнулась она. — Слава Святой Мензурке, вы вчера нашли себе наиболее безопасное занятие. А тут всем пришлось носиться. И у Фигаро были трудности с привлечением к работе дальних родственников герцога.
— Но?..
— Кто же смеет возражать Фигаро? Одним словом, все мужчины сначала очищали крышу от мусора под руководством главного конюха, а дамы вместе со мной и еще служанками доставали из кладовых ковры, выносили на улицу и выбивали из них пыль. Кстати, высокородным дамам безумно понравился процесс выбивания пыли. Они просто душу вкладывали в свои выбивалки. И после выглядели счастливыми и румяными. Я всегда считала, что активный труд на свежем воздухе облагораживает человека и разгоняет кровь. Потом был полдник, и, немного отдохнув, все мужское население замка потащило ковры на крышу. Там под руководством Фигаро и кузнеца ковры настелили в два слоя. Кузнец из железных полос наделал скоб, и все, кто умел держать молоток в руках, прибили ковры к крыше кровельными гвоздями. Фигаро потом показывал мне — получилось очень даже симпатично и торжественно. Лишь бы дождь не пошел во время визита Его Высокоблагочестия.
— Ну, он же в договоре с небесами, так что все будет просто зашибись. Сюзанна, а можно нам на крышу?
— Девочки, не сегодня. Нынешний день будет посвящен очистке чердака. Умоляю в это не соваться. Вы же приготовили украшения. Вот и украшайте. В восемь часов общий подъем и завтрак. Хотя, я полагаю, конюх и шорник уже начали вынимать стекла из чердачных окон. Ну, ступайте. Я должна приготовить большие корзины и длинные крепкие веревки — чтобы спускать мусор через окна. А вы…
— Все, все, все, — замахала руками Оливия. — Мы идем клеить ромашки на стены. Себастьяно оставьте нам.
— Да я его с прошлого вечера не видела…
— Мы сумеем его найти. Сюзанночка, спасибо за завтрак.
Мы встали.
— Эй, — подняла палец Сюзанна. — Со вчерашнего вечера винные погреба недоступны. Фигаро сменил замки, и ключи только у него.
— Гнусная жестокость! — проныла Оливия. — Да ладно, мы сейчас делом займемся.
Но прежде мы отыскали и разбудили Себастьяно. Он был в оранжерее, томный и усталый, на лавочке между кустов с чайными розами.
— Во сне он даже симпатичный, — пробормотала Оливия. — И это обрамление из чайных роз… Давай его отравим, и он будет лежать в гробу, спокойный и прекрасный, как спящий принц из сказки. В белом венчике из роз… Наденем траурные геннины, будем рыдать… Папашка сочинит бессмертный реквием… Ведь это ж какая красота и слава!
— Это позже, — категорично заявила я. — Сейчас он нужен нам живым. Мессер Себастьяно! Себастьяно, похотливый козел, просыпайся!
Козел открыл томные очи.
— Опять вы, — простонал он. — Мучительницы, палачихи, штрафы, пени, неустойки… Вы похожи на кредиторов, которые каждый день приходили к моему папе.
— Себастьяно, малыш, зачем ты так с нами, — проворковала Оливия. — Мы самые добрые в этом замке, полном боли и зла. Сравнивать нас с кредиторами — это уж слишком. Мы порядочные девушки, а не головорезы. Хочешь, я тебя поцелую?
— Нет! Я уже проснулся! — Себастьяно бодро вскочил со скамейки. — Я только отолью, умоюсь и снова за работу.
И он умчался из оранжереи с резвостью молодого оленя.
— Козел, — однообразно повторила Оливия. — Не захотел со мной целоваться.
— Он недостоин вас, ваша светлость. Идем в библиотеку.
И мы вернулись на круги своя. Себастьяно явился где-то через полчаса, умытый, розовощекий и подтянутый. Ему мы вручили коробку с фонариками и велели развесить их вдоль галереи второго этажа. Сами же сложили в корзинку нашу блестящую мишуру, коробку с просроченным клеем для искусственных челюстей и отправились заниматься украшательством.
Где-то к обеду на колоннах холла, стенах жилых покоев, в столовой и даже на рамах картин, изображающих весь род Монтессори, изобильно засверкали плоды нашего скромного труда.
— Хорошо, — одобрила Оливия, вытирая об лосины липкие от клея пальцы. — Живенько, празднично. Сразу видно — все мы настроены на радость, веселье и прочие положительные эмоции по поводу приезда Его Высокоблагочестия.
— Да, — кивнула я. — Теперь предлагаю привести себя в порядок и посмотреть, как выбрасывают мусор с чердака. Рыться в чердачном хламе — моя давняя детская мечта.
— Поддерживаю.
В покоях Оливии было достаточно теплой воды, чтобы отмыть руки от клея и умыться, переодеваться мы не стали, справедливо полагая, что раз уж мы будем копаться в мусоре, то нет смысла рядиться в роскошные наряды.
Мусор, выкидываемый из чердачных окон, вовсе не был таким уж мусором. Я приметила отличную коллекцию бронзовых колокольчиков, позеленевших от времени, большую медную вазу с полуобсыпавшейся инкрустацией перламутром и какую-то загадочно большую шкатулку темного дерева. Поломанные стулья, связки старых газет, какие-то мешки с тряпками, коробки с пожелтевшими треснувшими тарелками, рыболовные снасти, ржавые алебарды и поломанные арбалеты, лосиные рога, чучело медведя с подносом в лапах, рулоны войлока, рваные сапоги и туфли без числа, полуистлевшие гобелены… В общем, чердак был полон роскоши, которой самое место было на помойке.
Оливия деловито рылась в мусоре костылем.
— Из этого можно составить историю семейства Монтессори. Ты что-нибудь интересное нарыла?
— Колокольчики, вазу и здоровенную шкатулку, вон ту. Сердце мне подсказывает, что непростая это шкатулка.
— Согласна. Эй, малый!
Оливия костылем притормозила бег плечистого пацана с запыленным лицом. Тот взбрыкнул, как оскорбленный рысак.
— Я не малый, я князь Шеварнадзе!
— Гость?
— Да!
— Тогда паши. Перед тобой герцогиня Монтессори. Бери вон ту шкатулку и следуй за мной. Люци, надеюсь, колокольчики и вазу ты допрешь сама.
— А то, — согласилась я. — Своя ноша не тянет.
Артефакты припрятали у меня в комнате под кроватью, и тут как раз прозвучал гонг, созывающий всех к обеду.
О, это был незабываемый обед! Без всякого чинопочитания, елейных улыбок, реверансов и прочей аристократической чепухи. Высокородные гости, едва умывшись и причесавшись, накинулись на суп с клецками, жаркое, оладьи с горячим сыром, тушеную рыбу так, словно это была последняя трапеза в их жизни. И разговоры за столом были самые непринужденные, веселые и задорные. Все-таки труд сближает людей!
После обеда Фигаро пригласил всех отдохнуть в оранжерее с бокалами легкого напитка, секрет коего был известен лишь ему одному. Напиток невероятно бодрил, возвращал утраченные силы и повышал настроение. Мы с герцогиней тоже хлебнули, возвеселились душой и принялись кидаться друг в друга плодами декоративного хмеля, хихикать и дурачиться.
Дзенькнула дверь оранжереи — и веселья как не бывало, все напряглись. В оранжерею вошел маркиз Фра Анджело. Инсектоид, короче.
— Дамы и господа! — сжав передние лапки в зеленых кружевах, заговорил он. — Мне отрадно видеть ваше рвение и пыл, связанные с приближающимся торжеством.
— Мы приложили все усилия, маркиз, — за всех поклонился Фигаро. — Нашему поместью оказана высочайшая честь.
— У вас еще два дня. Помните, что вам следует мудро распределять свои силы, оставить время для того, чтобы привести себя в порядок, надеть лучшие платья и так далее. Я уже был на крыше. Работа выполнена прекрасно. Его Высокоблагочестие будет доволен. Полагаю, что и вопрос питания…
— Практически решен, маркиз, — молвил Фигаро. — Как только будет убран чердак, мы сервируем угощение и для Его Высокоблагочестия, и для свиты. Через полчаса на крышу принесут плетенки с яйцами, как вы указывали в своих рекомендациях. Погоду обещают солнечную, так что к визиту Его Высокоблагочестия яйца начнут тухнуть.
— Замечательно. Да, я еще хотел отметить, что все эти украшения из бумаги — очень мило. Его Высокоблагочестие любит труд детских ручек. Ему понравится.
— Мы не дети, — на грани слышимости прорычала Оливия. — Так и разбила бы ему череп костылем!
— Только не это, — одними губами проговорила я. — У него не череп. Он кузнечик. Неизвестно, что из него брызнет…
— Да знаю, — отмахнулась Оливия.
Маркиз ретировался. Через некоторое время со всех спало оцепенение, Фигаро подал еще напитка, и общее воодушевление продолжилось в активном труде.
К вечеру все были обессилевшие. Слуги сервировали ужин на свежем воздухе, снова были поданы плотные, насыщенные блюда, в изобилии имелось сыров и колбас. Фигаро и Сюзанна всех благодарили. Вассалы, что оставались в замке и без всяких капризов помогали, решили развести костер — большинство мусора, снятого с чердака, прекрасно в нем горело. Тут кто-то из баронетов вспомнил отроческие годы, обучение в колледже и предложил запекать в углях картошку — по его словам, божественное блюдо.
Мы с Оливией сидели на старой войлочной кошме, жевали ту самую картошку, посыпанную солью и душистыми травами, помалкивали и смотрели в стремительно чернеющее небо. Там начинался хоровод звезд, ярких и не очень, алых и синих, голубых и бледно-изумрудных. Там, среди бархатной тьмы, были тоже вселенные, были миры, где жили свои Оливии и Люции и, может быть, даже инсектоиды… Я подумала вдруг, что это на самом деле очень страшно — лететь среди черной бесконечности неизвестно откуда, неизвестно куда… Я поняла, что никогда, ни за какие коврижки не покину свою Планету. Я вырасту, поступлю в школу мичманов, сделаю карьеру на корабле и, когда стану капитаном, возьму с собой Оливию в кругосветное путешествие. По вечерам, когда океан тих, а команда в кубрике слаженно поет «Прощай, любимый город», мы с Оливией будем сидеть на шканцах, потягивать бахрейнский портвейн и говорить о том, какими глупыми девчонками мы были. А Себастьяно… Стоп! При чем здесь Себастьяно? Ему совершенно не место в моих грезах!
По тихому храпу у плеча я поняла, что моя герцогиня задремала. Аккуратно взяв у нее тарелку с недоеденной картошкой, я подхватила Оливию на руки. Это только казалось, что она тяжелая, неловкая, неудобная. У меня на руках она была уютной, как котенок. Я понесла ее к замку, кто-то шел за мной — видимо, нес герцогинины костыли.
В покоях Оливии я осторожно положила мою хозяйку на кровать, разула, накрыла легким одеялом. Да, еще протерла влажной батистовой салфеткой ее руки и лицо. Оливия бормотнула что-то сонно и опять захрапела.
Мне не спалось. Я зашла в свою комнату, переоделась в ночную сорочку, привела себя в порядок. В открытое окно доносились негромкие разговоры тружеников замка Монтессори — они тоже понемногу расползались на отдых.
— Мессер Софус, — негромко позвала я.
Нет ответа. Да и зачем мне звать мессера? Я сегодня все глаза обмозолила об тех, кто мне попадался на пути. Все нормальные люди, даже Себастьяно! Себастьяно… А ведь раньше он был не таким! В последние дни он вполне приличный парень, а до этого — ну отрава отравой!
— Ах, — схватилась я за голову. — Неизвестная сущность вселилась в Себастьяно, поэтому он и ведет себя так вежливо — боится себя выдать! Значит, Себастьяно — вторженец! Что же мне делать? Как вывести его на чистую воду? И если он покажет истинное лицо, мне что, тазиком для мытья ног его бить?
Я заметалась по комнате, не зная, что делать. Ах, если б здесь сейчас оказался мессер Софус, уж он бы посоветовал мне, что делать!
В дверь тихо постучались.
Я схватила щипцы для завивки и прошептала:
— Кто там?
— Я.
Голос был не Оливии.
— Конкретнее, — я подумала, что к щипцам надо добавить металлическую грелку на длинной ручке, чтоб пришибить врага наверняка.
— Себастьяно Монтанья к вашим услугам, прекрасная госпожа!
Нет, он точно вторженец! Только о нем подумала — нарисовался! Мысли читает, гад, даже на расстоянии. Явный признак пришельца из параллельной вселенной.
— На фиг ты приперся? — прошипела я. — Я сплю!
— Ага, свисти. Люци, впусти меня. У меня трезвость и бессонница. И мне грустно.
— Я тебе что, трубадур — развлекаться?!
— Трубадура. Ну, пусти.
Ладно. Это как раз шанс проверить его на признаки вторженца. А если он попытается лишить меня девичьей чести… да что это я, когда это ему надо было…
Я открыла дверь:
— Заходи!
Вошел. На первый взгляд Себастьяно как Себастьяно. Только подозрительно трезвый и робкий. И…
— У тебя изо рта мятой пахнет! — в ошеломлении ткнула я в гостя грелкой. — Ты что, сошел с ума и решил впервые в жизни почистить зубы?
— И что такого, все когда-нибудь случается впервые, — огрызнулся Себастьяно. — Чистить зубы легко и приятно. В кругах высшего света чистка зубов все больше входит в моду. Я, может быть, хочу начать новую жизнь.
Точно вторженец!
— С чего это вдруг тебя перестала устраивать старая?
Себастьяно вздохнул и покраснел.
— Ну! — я погремела грелкой. — Колись давай!
— А ты никому не расскажешь?
— Смотря что.
— Ну, пожалуйста. Поклянись, что не скажешь. Самой страшной клятвой!
— Чтоб мне век выливать помои в трактире «Рог и Единорог»!
— Верю. Ты настоящий друг, Люци.
— Ну, валяй свою страшную тайну.
— Я… Я полюбил.
— Опа. — От скуки у меня сразу свело челюсти. Я убрала на место грелку и щипцы. — В который раз?
— Так серьезно я полюбил впервые! Это по-настоящему! Раньше были просто увлечения, а теперь я понимаю: она — моя судьба, девушка моей мечты, мать моих будущих детей. Я хочу жениться на ней, Люци!
— Кто она? Как зовут?
— Я не могу тебе этого сказать, — еще сильнее покраснел Себастьяно. — Но знай: прекрасней ее нет на свете.
— Она хотя бы не из замка?
— Из замка. И в то же время как бы не из замка.
— Ты вообще где ее встретил?
— На скотном дворе. Она давала корм свиньям.
— То есть она здешняя свинарка?
— То-то и оно, что нет. Я позже наводил справки, описывал ее — никто такую девушку здесь ни разу не встречал. И потом. Она сыпала свиньям корм из большой корзины, блестевшей, как золото. Она была одета в легкие розовые шелка, которые развевались вокруг ее точеной фигурки. У нее были волосы золотые и искрящиеся на солнце, как свежевыпавший снег, а глаза голубые, словно сапфиры. На ее прелестных ножках сверкали стеклянные туфельки, она игриво подталкивала ими свиней…
— Стеклянные туфельки? Тогда все понятно… Портвейн, жара, тяжелый труд. Это ты сандрильонку словил.
— Кого?!
— Чернь называет ее Золушкой. Это такое видение, понимаешь? Когда слишком много выпьешь, или траванешься грибами, или накуришься какой-нибудь гадости… Себастьяно, отныне тебе нельзя пить ничего, кроме яблочного компота. Раз уже начались похмельные видения…
— Да, но сейчас я трезв!
— И что?
— Вот это!
И Себастьяно бережно вынул из кармана своего камзола стеклянную туфельку размером с мою ладонь.
— Если она — похмельное видение, откуда тогда на скотном дворе я обнаружил эту туфельку?
— А вот это требует уже серьезного разговора, — сказала я, понимая, что вторженец все-таки вторгся. — Идем в библиотеку.
— Зачем?
— Там есть приборы, позволяющие исследовать разные предметы под сильным увеличением. Типа такие увеличительные линзы. Я хочу изучить эту туфельку.
— Идем.
Никто не встретился нам по пути. В библиотеке Себастьяно зажег свечи в двух канделябрах, мы немного побродили туда-сюда по огромному помещению, отыскивая нужный стол, и нам повезло.
— Вот, — я указала на странноватый прибор, блеснувший рядами выпуклых линз и зеркал. — Называется микроскоп.
Мы поставили канделябры так, чтобы микроскоп был достаточно освещен. Под линзы мы подвели каблучок туфельки и по очереди принялись смотреть в окуляр.
— Ну что? — нетерпеливо спрашивала я.
— Ничего. Совсем ничего. Не понимаю, — пожал плечами Себастьяно. — Абсолютная прозрачность.
— Это в мозгах у тебя абсолютная прозрачность. Пусти, я посмотрю.
Я прикипела к окуляру, в то же время крутя ручку регулятора четкости.
Поначалу я тоже ничего не увидела. То есть абсолютная прозрачность. Тут мне в голову пришла идея развернуть линзы и зеркала под другим углом.
— Ой, — выдохнула я.
Туфелька была не просто туфелькой. Она состояла из множества живых клеток — я видела их ядра, вакуоли, усики, оболочки и что там еще нам рассказывали на уроках зоологии! То, что казалось нам стеклом, на самом деле было некой органической субстанцией! Живым организмом!
Я выпрямилась и, держа в руках туфельку, растерянно посмотрела на Себастьяно.
— Что? — расширил глаза он.
— Это не просто туфелька. Это живое существо. Состоящее из живых клеток.
— Не свисти. Этого не может быть. Живые существа не выглядят, как женские туфли на каблуках-шпильках.
Но я уже не слушала его. Я порылась в ящике стола, на котором стоял микроскоп, и отыскала молоток. Чему вы удивляетесь? В каждой приличной библиотеке должен быть молоток. И коробка с лекарствами первой необходимости, кстати. Библиотека — это вам не вздохи на скамейке. Это место повышенного душевного и физического травматизма.
Я поставила туфельку на стол, прицелилась и крепко вдарила молотком по острому изящному мыску, украшенному прозрачным бантиком.
— Нет! — взвизгнул Себастьяно.
Честно говоря, я тоже надеялась, что туфелька просто разлетится мелкой стеклянной пылью после такого удара. И то, что я увидела в микроскоп, — всего лишь последствия долгого похмелья после портвейна.
Туфелька уцелела. А вот молоток у меня в руке раскалился докрасна. Я отбросила его, и, не долетев до пола, он просто рассыпался белым пеплом.
Некоторое время мы с Себастьяно молчали, как перепуганные… В общем, ничего не приходит в голову для сравнения. Высшую степень обалдения мозга просто невозможно выразить одним и при этом приличным словом.
— А? — наконец выдавил из себя Себастьяно.
— Ага, — согласилась я. — Она разумная. Она защищалась, посчитав, что я на нее напала. Она… Сейчас на нас… меня кинется и жестоко отомстит. Святая Мензурка, я окончу жизнь, забитая до смерти стеклянной разумной туфлей!
— Погоди, не суетись. Она со мной уже провела достаточно времени, чтобы понять, как я ею дорожу, — Себастьяно нес бред, но было в этом бреде нечто конструктивное. — Ты отойди, я попытаюсь ее успокоить.
Я повиновалась, зашла за стеллаж с книгами по истории и робко выглядывала, ожидая (не без злорадства), что туфля набросится на Себастьяно, ища выход своему туфельному гневу.
Однако ничего такого не вышло. Себастьяно, воркуя, как влюбленный голубь, ласково погладил туфлю кончиками пальцев. Ничего. Тогда он взял ее в руки и принялся баюкать в ладонях, приговаривая:
— А вот наша милая красавица туфелька, а вот ничего ей и не сделалось… Больше глупая девчонка Люция не будет обижать милую беззащитную туфельку… Мы протрем туфельку бархатной тряпочкой и положим в красивую шкатулочку отдыхать…
У меня возникло стойкое впечатление, что в ладонях Себастьяно находится рассерженный, но уже успокаивающийся котенок. И через минуту он замурлычет.
— Себастьяно, — проговорила я. — А вдруг это… какая-нибудь ведьмовская штучка? К нам приезжает Его Высокоблагочестие, а всем известно, как ведьмы враждебны к святой юстиции и ее главе.
— Нет, — Себастьяно прижал туфельку к груди и нежно пощекотал ее под каблучком. — В ней нет ничего враждебного. Она прекрасна и совершенна.
— Да, но откуда она взялась?
— С ножки прекрасной незнакомки, которую я полюбил всей душой и навеки. Я буду хранить эту туфельку и начну искать ее хозяйку по всей Старой Литании.
— Ты сдурел. Это туфелька присосалась к твоему мозгу и завладела волей!
— Люци, не глупи. Знай, зайка, что по-настоящему моей волей и мозгом может завладеть только имбирный ликер «Три топора» восемнадцатилетней выдержки. И потом, я не обольщаюсь насчет количества у меня мозга и воли.
— Точно, она тебя захватила! Раньше ты не был таким самокритичным.
— Раньше я не любил, — у Себастьяно сделалось такое поэтическое лицо, что мне захотелось куда-нибудь плюнуть. Но я была хорошо воспитанной девушкой из пансиона и поэтому ограничилась тем, что в клочья порвала редкое издание «Козацко-запарiжския сказкi, пiсни & пляскi» народного бандуриста Дарiя Донца.
— Хорошо, — решительно сказала я Себастьяно. — Пусть она хранится у тебя.
— А по-другому и не выйдет. Я отныне с нею не расстанусь, даже спать с ней буду и мыться.
— Уволь меня от столь интимных подробностей. Ты берешь на себя полную ответственность за эту… обувь. И если она что-нибудь натворит в ближайшие дни, такие важные для всего замка…
— Не натворит, клянусь! Я ее чувствую, у нее мирный, добрый характер…
— Ой, держите меня, доктора из дурдома! Освежите меня галоперидолом, подкрепите алпразоламом с солями лития, ибо я изнемогаю от рекуррентной шизофрении… Ну что ты вылупился? Я тебе цитирую отрывок из «Песни песней кукушкина гнезда» — это классика мировой литературы! Бестолочь!
— Ну, мы пансионов не кончали, — ухмыльнулся Себастьяно.
— Оно и видно. Вот еще что. О туфельке — никому ни слова. Никому.
— Даже твоей госпоже Оливии?
— Тем более ей. Я тоже буду держать язык за зубами. Сейчас всем в замке не до этого.
— Ладно, согласен.
— Тогда уходи к себе. Я еще останусь здесь ненадолго. Надо прибрать весь этот мусор.
— Ну, удачной уборки!
Вот теперь Монтанья ухмыльнулся, как настоящий, наглый, бессовестный Монтанья.
Он ушел. Естественно, никакой уборкой я заниматься не стала. Я несколько раз пыталась вызвать мессера Софуса, то крутя колечко на пальце, то дуя на него, бесполезно. Видимо, мессер был вне зоны действия кольца. Я вздохнула и пошла к себе, чтоб хоть немного выспаться. Через несколько часов наступал новый день, полный забот, хлопот и всего того, что сваливается на голову в предвестии великих событий.
Глава десятая Встреча Особо Важной Особы — 2
Жизнь — процесс неторопливый. Окуклился? Виси себе спокойно в уголочке, жди, когда станехиъ бабочкой. Или не станешь.
В любом случае, зачем торопиться?
Из проповедей Его Высокоблагочестия, т. 453Утро, розовое, как панталоны настоятельницы аббатства Святого Сердца, уже заглядывало мне в окно, а я все не могла заставить себя оторвать голову от подушки. Видимо, сказывалась усталость прошедших дней. Но я всегда считала себя волевой, решительной, упрямой, сильной девушкой, поэтому поспала еще пять минут.
Выпрыгнув из постели, как безумный кузнечик (ух, неудачное сравнение!), я поздоровалась с ночным горшком, а потом принялась за умывание и прочие освежающие процедуры.
— Нас утро встречает прохладой, — напевала я, моя уши. — И бьет кулаком по башке, чтоб были мы искренне рады, что живы еще, хе-хе-хе!
Согласна, рифма так себе. Но я же не поэтесса там какая-нибудь. Вы же помните мое отношение к поэзии. Шалости аристократов.
Я с особым тщанием почистила зубы, тем более что служанка поставила мне новую баночку с зубным порошком из мела, соды и тертой мяты. Вот с волосами было больше возни, и я подумала, что жизнь с бритой, как у Оливии, головой, имеет свои плюсы. Я заплела две косы и уложила их, закрепив заколками. Итак, каково расписание на сегодняшний день?
Прежде всего я отправилась к своей госпоже. Перед тем как войти в ее комнату, я полюбовалась дверью. Благодаря моим убеждениям и тайным вылазкам с мокрой щеткой, дверь герцогининой комнаты была начисто освобождена от гадких наклеек, так портящих благородный мореный дуб. Ничего. Я имею на Оливию все большее влияние. Возможно, я даже сумею отговорить ее от очередной татуировки.
— Доброго утра, экселенса, — проговорила я, входя, легко поймала пущенный в меня стилет (наша повседневная церемония, применяемая для выработки ловкости и быстроты реакции) и пустила его обратно.
Стилет воткнулся в колонну алькова рядом с плечом Оливии.
— Похоже, я сегодня не в форме, — вздохнула Оливия. — Как-то расклеилась вся. Нет настроения щериться. Может, это от погоды?
Она выдернула стилет и сунула его под подушку.
— Оливия, погода прекрасная.
— То-то и оно. Обо мне такого не скажешь.
— Ни слова больше, я знаю, как это исправить.
Я подошла к комоду и в верхнем ящике обнаружила целый арсенал различных мазей, целебных притираний и масел. Выбрав самые, на мой взгляд, сильнодействующие, я подошла к кровати.
— Моя герцогиня, — я аккуратно сняла с нее сорочку и принялась растирать кривой, бугорчатый позвоночник Оливии. Обычно это делали служанки, но с некоторых пор я взяла эту процедуру на себя. Мне казалось, что я чувствую боль Оливии кончиками пальцев, стараюсь впитать в себя эту боль, а герцогине передать хоть немного своей здоровой силы и энергии. Ну и потом это был лишний повод потрепаться наедине.
— Вот здесь сильно болит? — я слегка надавила на шестой шейный позвонок.
— Уй! Медведица! Тумба с кирпичами!
— Очень интересное сравнение. Позвонок смещен. Если б была возможность вправить его, твое здоровье и жизнь были бы намного легче.
— Еще ты не вздумай вправлять! — Оливия всегда ярилась во время лечебных процедур, считая их бесполезной тратой времени. — Тебе даже коровник не доверят чистить!
— Не вижу прямой связи между твоей спиной и чисткой коровника. Оливия, я придумала одну вещь.
— Лить с крепостной стены горящую смолу на приезжающих гостей? Ох, разбейся Святая Мензурка, как же больно! Убери свои лапы от меня, коровища непотребная!
— Не уберу. Я еще должна как следует промассировать тебе плечи и лопатки. А будешь выпендриваться — пожалуюсь на тебя Сюзанне.
— Ябеда. Гнусная, толстомордая, наглая ябеда!
— Насчет толстомордости ты не права. Это просто здоровый овал лица.
— Конечно, здоровый! Ты когда идешь, у тебя щеки из-за спины видно, коровища!
— Ты меня уже три недели не называла коровищей. А тут зачастила. Экселенса, случилось что-то в самом деле неприятное?
И тут я услышала всхлипы. Правда, они были сильно приглушены подушкой, но что-что, а всхлипы смертельно обиженного человека я различу даже с расстояния в тысячу миль. Особенно если этот человек — мой… моя… экселенса, в общем. Эй вы, кто сейчас обвинил меня в чувствительности, заткнитесь быстро, иначе я вас вычислю и лично разобью хлебальники!
Оливия была не из тех людей, что, рыдая, бросаются на шею и немедленно перечисляют свои горести в алфавитном порядке. Надо было запастись терпением, чтобы дождаться ее доверия. И ответа.
Я налила на ладонь эвкалиптового масла, смешанного с камфарой и соком алоэ, и принялась методично растирать сведенные плечи герцогини, стараясь почувствовать пальцами каждый сустав и мышцу, снять с них боль и напряжение. Минут через пять Оливия перестала всхлипывать.
— Люци, — чуть повернулась ко мне она.
— Да?
— Как ты считаешь, я — действительно полное ничтожество?
— Я нахожу это утверждение абсурдным, экселенса. Даже когда ты вылила в мою постель суточное содержимое кухонного помойного ведра, подобные мысли не приходили мне в голову.
— А какие приходили?
— Ну, что ты — просто гений по части коварства и издевательства над ближними. Что в отместку стоило бы тебя прикончить каким-нибудь необычным способом. Ну и еще мне было ясно, что придется менять все постельное белье и самолично его выстирать, иначе в глазах служанок я уроню свое реноме.
— Чего уронишь?
— Они будут смеяться надо мной, как над последней неудачницей, и плевать в подаваемый мне суп.
— Но ты мне отомстила за помои? Или еще вынашиваешь коварные планы?
— Вынашиваю, успокойся. Как говорил кто-то мудрый, месть — это блюдо, которое надо подавать холодным.
— Мороженое, что ли?
— В том числе. Есть классическая повесть о том, как муж отравил свою жену, подав ей яд в вазочке мороженого. Он посчитал, что у жены есть любовник. Любовника не было, но жена все равно померла, а он рехнулся.
— Кто же от этого выиграл?
— А никто. Суть повести была не в том.
— А в чем?
— Экселенса, мы отошли от первоначальной темы. Из-за чего ты тут разыгрываешь оскорбленного мышонка? Или из-за кого? Ты только скажи, и я пройду огнем и мечом по всем твоим врагам.
Оливия для начала посопела, а потом ее прорвало:
— Я калека, урод с детства. Меня всегда приучали к мысли, что я — убогое существо, которое шагу ступить не может без мамок, нянек, лекарей и прочей соболезнующей шушеры. Никто никогда не восхитился тем, что в три года я самостоятельно выучилась читать, и второй моей любимой книгой стало «Элементарное введение в абстрактную алгебру».
— А первой?
— Смеяться не будешь?
— «Синие паруса». Читала?
— Да.
— Скажешь — дешевая романтика, слезы-сопли, сказки-мечты?
— Не скажу. Мне тоже нравится эта книга. Правда, я прочла ее не в три года, позже и тайком от монахинь пансиона, и я полюбила в ней главное.
— Дождаться своего принца под синими парусами?
— Нет. Самой быть принцем, парусами и даже морем, если все это очень нужно человеку, который офигительно несчастен. Ты не думай, я такие мысли прятала очень-очень глубоко. В пансионе Святого Сердца для них не было места. Я же сирота, подброшенная на порог трактира, а не высокородная девочка. Поэтому я лицемерила, лгала и воровала там так же легко, как и дышала. Другого они не заслуживали. И когда высокородная пансионерка при всех плевала в мою овсянку, я тут же выливала эту овсянку на ее изящную головку…
— Уважаю. Даже хочу пожать тебе руку.
— Успеется. Я еще должна тебе промассировать крестцово-поясничный отдел. Для этого подойдет мазь со змеиным ядом. Лежи! Впереди день, полный великих дел, и ты просто обязана показать этому дню, какова герцогиня Монтессори. Однако продолжим тему. Я слушаю.
— Я росла и понимала, что меня не считают полноценным человеком. Это проявлялось не в презрении и оскорблениях, нет. Просто меня словно старались обложить ватой и войлоком в несколько слоев, чтобы я постепенно задохнулась, умерла и освободила всех от тягостного чувства стыда перед калекой. Но я решила бороться. Всеми доступными мне способами. Я протестовала, а меня считали капризной неженкой (исключая пристрастие к шоколаду, конечно). Однажды я оставила на столе отца тетрадь, где были мои решения задач из учебника алгебры для колледжей первой ступени. Верные решения. На следующий день я обнаружила эту тетрадь в корзине для бумаг вместе с измятыми и порванными вариантами отцовских поэм и сонетов. Он швырнул ее в мусор, даже не потрудившись пролистать.
— С-скотина, — вырвалось у меня.
— Я дневала и ночевала в библиотеке, читала книги по физике, анатомии, астрономии, даже священные манускрипты и законы святой юстиции прочла! Я хотела, чтобы отец увидел во мне ровню, с которой можно говорить о серьезных и важных вещах. Но он всегда прерывал меня и уходил, сменив тему разговора. В конце концов он просто перестал приходить в большую библиотеку и писал только в своем скриптории. Да и в замке он проводил едва ли больше трех месяцев в году. Вот тогда я и стала удивляться тому, почему он меня не прикончил во младенчестве, если уж я так омерзительна ему. Однажды он был в отъезде целый год. За этот год я прочла все книги его стихов, поэм, путевых записок, воспоминаний о Десятилетней войне — всё. Да, мой отец был гениальным мастером слова. Он управлял словами, как пастух — стадом овец, он повелевал рифмами и размерами, формами и жанрами. Я потеряла покой — я не знала, как стать достойной этого величия. Я все-таки хотела, чтобы он меня хотя бы заметил.
И вот он вернулся из долгого путешествия, но не один — с ним в замок приехала графиня де Манон, женщина неописуемой красоты и глупости. Видимо, отец хотел жениться на ней, чтобы наградить меня мачехой, тупой, как винная пробка. Чтобы поставить между собой и мной очаровательную преграду из кружев, бриллиантов и мехов, чтобы эта графиня целыми днями сюсюкала со мной и вздыхала о том, какая я бедняжка и как меня обидела судьба. Я подожгла ее будуар, когда она спала.
— Я тебя понимаю.
— Не волнуйся, графиня выжила, красоты почти не потеряла, но ум утратила окончательно, и ее близким пришлось немедленно выдать ее замуж за какого-то невероятно богатого росского барина. Меня пороли три дня, с перерывом на сон и трапезу. Во время порки я не плакала, я наизусть читала отцовские стихи, особенно те, где много говорится о любви, милосердии, жертвенности и прочей слюнявой дряни. Потом я четыре месяца лежала в нервной горячке, не приходя в себя. Отец запретил всем служанкам ухаживать за мной и вызывать лекаря, он ждал, когда я сдохну в собственных испражнениях, без лекарств, без еды, без стакана воды.
Я поняла, что до боли стиснула кулаки, слушая этот рассказ. Ногти впились в кожу ладоней. В груди у меня разрастался огненный шар, вроде того, в котором однажды явился мне мессер Софус.
— Говорили, что я бредила… Меня спасли Фигаро и Сюзанна. Хотя они не любят об этом вспоминать. Ты знаешь, что Фигаро — высокого, хоть и разорившегося рода?
— Нет.
— Как высокородный, он имел право драться с отцом на дуэли. И он бросил в лицо отцу перчатку и назвал его подлецом и бессердечным ублюдком. Нет большего оскорбления, чем назвать чистокровного герцога ублюдком, верно?
— Да, — каменея лицом, выговорила я. Герцог Альбино, клянусь, если б не мое темное происхождение, вы дрались бы и со мной!
— Они сразились. Фигаро был настоящим мастером клинка, через десять минут после начала дуэли он уже приставил к груди отца свой эспадрон и поклялся, что доведет поражающее движение до конца, если герцог откажется пригласить лекарей к больному ребенку. Видимо, папочке была дорога его жизнь — ведь он великий поэт! — и он обещал Фигаро не препятствовать моему лечению. Но Фигаро был настоящим человеком чести, и, чтобы герцог не забыл своих обещаний, он полоснул его эспадроном по щеке. Теперь отец носит этот шрам, как вечное напоминание о своей низости и чужом благородстве. А Сюзанна… Она дежурила у моей постели день и ночь, меняла мне простыни, поила собственноручно приготовленными целебными настойками, обтирала тело отварами трав. Она не доверяла приглашенным отцом лекарям, боялась, что они меня отравят, как бы случайно. Ты же знаешь Сюзанну — противостоять ей невозможно, это скала, а не женщина. Она вернула меня к жизни, и с той поры, я-то вижу, хоть и не подаю виду, она наблюдает за мной, за тем, как ко мне относятся, какую подают пищу. Если бы у меня была возможность обрести мать, ею стала бы Сюзанна… В общем, теперь ты понимаешь, какой полной и интересной жизнью я жила. А сейчас она вообще захватывающая.
— Благодаря тому, что с утра можно швырнуть стилет в компаньонку?
— Да, и быть уверенной, что она его поймает. Но иногда я реву. Когда вижу, как на меня смотрят всякие Юлианы Северянины и Мильчики Кошаковичи…
— Я немедленно сниму с них скальпы, экселенса!
— Я просто хочу, чтобы меня воспринимали всерьез. Чтобы видели, что я умна, коварна и зла, а это очень полезные качества для женщины в Старой Литании. Тем более для женщины-калеки.
— Я тебя понимаю. Еще тошно смотреть, как все носятся с прибытием этого святого теодитора, который только и годен, что наносить визиты и пугать всех до поросячьего визга своим величием.
— Да пропади он пропадом! Урод в вуалетке! Чудище в железном гробу!
— И верно! Этот Высокоблагочестие даже не знает, что такое подпространство, порожденное векторами, зуб даю!
— И линейная зависимость!
— И гомоморфизм векторных пространств!
— Куда ему! Это же не ведьм толпами жечь, это ж головой думать надо!
Мы расхохотались.
— Так, хватит елозить руками у меня по заднице, — отсмеявшись, взбрыкнула Оливия. — Уберись на безопасное расстояние. Я встаю навстречу умывальнику и новому дню.
Я перестала массировать ее спину и сочла своим долгом заметить, что пояснично-крестцовый отдел и задница — вещи разные, как квадратура круга и теория струн. Вымыв руки от масла, я принялась за выбор сегодняшнего наряда для герцогини. Методом обычного перебрехивания и посылания друг друга в векторные пространства, мы договорились на черных лосинах, алой тунике и широком кожаном поясе с металлическими заклепками — он еще хорош был как корсет и давал спине Оливии некоторое облегчение.
— Вы великолепны, экселенса, — подвела я к зеркалу свою госпожу.
Она провела ладонью по отросшей на голове щетине:
— Не пора ли мне побриться?
— Я нахожу теперешнюю длину твоих волос идеальной. Знаешь что?
— А?
— Я тоже побрею башку. Нет ни терпения, ни сил возиться с этими длинными волосами. Какой дурак выдумал, что длинные волосы у женщин — это красиво, круто и сногсшибательно?
— Не дурак, а явный женоненавистник. Но этот вопрос обсудим позже. Умираю от голода. И любопытства — как там все остальное население замка?
Родовитое (и пугающе голодное, но очень веселое) население замка уже фланировало по трапезной, бурно обсуждая прошедшие трудовые будни. Дамы восторженно хвалили выбивалки и фантазировали на тему использования выбивалки в супружеской спальне. Мужчины (особливо юнцы вроде Себастьяно) кичились вдруг появившимися мускулами и врали насчет своей причастности к боевым операциям регулярной армии Старой Литании. Оба пола вдруг стали проявлять друг к другу повышенный интерес, завязалось несколько весьма интригующих бесед, но тут прозвучал гонг, и все поспешили усесться за стол. Я увидела Себастьяно, кажется, у него опять были почищены зубы. Похоже, это войдет у него в привычку; вот как меняет человека большая и чистая любовь! Себастьяно поклонился Оливии, а мне послал выразительный взгляд, напоминающий о клятве молчать насчет его стеклянной подружки.
В зал вошел Фигаро. После рассказа Оливии я поняла, что благородство его лица — это истинное благородство, а не маска, надеваемая слугой перед знатью.
— Доброе утро, дамы и господа, — негромко молвил он. — Кастелло ди ла Перла сердечно благодарит каждого из вас за оказанную помощь в подготовке к великому событию. И чтобы оставшиеся перед визитом Его Высокоблагочестия дни были для вас незабываемыми во всем, наш главный повар, мессер Кальве, составил особое меню, мало того, он изобрел несколько совершенно новых блюд, дабы разнообразить стол. Сейчас внесут первое из них. Мессер Кальве надеется, что оно угодит вашим изысканным вкусам.
Двое слуг внесли в зал большие серебряные чаши. Немедленно распространился новый, будоражащий аппетит, пряно-остро-свежий аромат.
— Ах, — экзальтированно воскликнула одна из дам. — Верно, это что-то невероятное!
Фигаро сказал:
— Это салат, который уместен и за завтраком, и при подаче аперитива в обеденное время, и даже за ужином, если вы не опасаетесь за свою фигуру…
Все зааплодировали. Слуги принялись раскладывать салат по тарелкам. Мы с Оливией тоже получили свою порцию. Здесь было много чего, порезанного кубиками и соломкой, но, главное, все было заправлено остро пахнущим плотным белым соусом.
— Рискнем? — спросила Оливия. — Главный повар не ошибается.
— За твое здоровье, экселенса, — я подцепила салат вилкой и отправила в рот. Долго и вдумчиво жевала.
— Этому салату суждено великое будущее, — проглотив и почувствовав бабочек в животе, прошептала я. — Наворачивай давай, скоро все распробуют, начнут просить добавки, а я, пожалуй, съела бы его целое ведро.
— Обжора, — Оливия тоже прожевала. — Ум-м-м! Сюда добавили что-то одурманивающее? Почему это так вкусно?!
— Вопросы потом, — теперь и я стала разговаривать с набитым ртом. — Дай пожрать по-человечески.
Судя по грохоту вилок, остальные меня поддерживали. Где-то минут через пять возник вопрос о добавке, и слуги опустошили чаши до последнего кусочка петрушки.
— И это все? — ахнул кто-то.
— Сейчас подадут навагу в кляре, блинчики с черной икрой, тарталетки с горячим гусиным паштетом, а также… — но Фигаро не слушали. Поднялся возмущенный гул, утверждающий, что прекрасное блюдо не дали распробовать и одним зубом.
— Соблюдайте спокойствие, дамы и господа. Салат изготовляется в надлежащем количестве, под четким контролем главного повара. Никто не останется обиженным.
— Этому салату надо дать какое-нибудь красивое название, — заявила одна из дам. — Например, «Восторг».
— Экстаз!
— Шедевр!
— Прошу прощения, дамы и господа, — по лицу Фигаро скользнула столь прозрачная тень улыбки, что заметить ее могли только очень натренированные люди. — Мессер Кальве, как автор рецепта, сам взял на себя смелость дать название новому блюду.
— Какое же оно?!
— Не томите, Фигаро!
— Проявляя уважения к господам, у которых он служит без малого три десятка лет, мессер Кальве назвал салат именем юной герцогини Оливии Монтессори.
— А?
— Э?!
— Салат называется «Оливье», дамы и господа, — Фигаро поклонился вроде бы всем, но я-то просекла, что кланяется он Оливии, которая от удивления поперхнулась, и мне пришлось ее отпаивать апельсиновым соком.
— Дрынасе, — пробормотала она, когда смогла говорить.
А я была в восторге! Салат такой вкусный, что его можно есть бесконечно, и название ему подходит!
— Ужас, — горько проговорила Оливия. — Все, чего я достигла в жизни, — моим именем назвали салат.
— Дура, — сурово сказала я (это я так впервые с герцогиней!). — Гордись! Это же вечная слава. Твое имя станет нарицательным. Когда-нибудь рецепт салата войдет во все кулинарные книги мира, люди будут есть оливье, наслаждаться, и тем самым отдавать почести твоей памяти… Пройдут годы, десятилетия, может быть, даже века, а салат оливье будет на столах миллионов людей в разных странах! Может быть, он даже станет традиционным блюдом праздничных посиделок!
— Убедила, — Оливия осушила бокал апельсинового сока. — Кстати, а где скачет наш прыткий кузнечик? Что-то без его жутких глазок замок кажется пустым…
— Должен отметить, дамы и господа, — подал голос Фигаро, — что маркиз Фра Анджело еще затемно отбыл в своем экипаже. Он оставил ряд указаний по поводу оформления двора замка, проверил, как идет сервировка угощения для Его Высокоблагочестия и свиты. В целом он доволен, как прошла подготовка к великому дню.
— Да уж, — усмехнулась одна из дам, — мы трудились просто как рабы на галерах!
— Не говорите, что вам это не понравилось, баронесса, — язвительно встряла ее соседка. — Вы же ковры выбивали в одном исподнем! В кои-то веки вам выпал шанс обнажить свои немощные прелести!
— Нахалка! — баронесса угрожающе подняла вилку. — Да вы сами полуголая обжимались на чердаке с каким-то слишком мускулистым молодчиком под предлогом выноса плетеного кресла!
— Кхе-кхе, — напомнил о себе неизменно благородный Фигаро. — Дамы и господа, прошу вас воздержаться от распрей и оскорблений. Ваш труд будет щедро вознагражден, я лично доложу его светлости об этом. К тому же все вы сподобитесь удивительной возможности поклониться святому теодитору. Однако я предлагаю вам оставшееся до приезда Его Высокоблагочестия время провести в очищении своих душ и тел, выборе нарядов и украшений. Все служанки замка будут в распоряжении дам с вечера сегодняшнего дня. До этого они закончат уборку в ваших комнатах.
— А мне неинтересно сидеть и бездельничать! — заявила довольно молоденькая княжна, и я подумала, что со временем из нее выйдет толк. — Что, если во все вазы замка поставить живые цветы? Кажется, за западной стеной замка есть огромный сад, где цветут осенние цветы — я видела это из окна своей спальни. Я когда-то училась составлять букеты, уверяю, я справлюсь, только дайте мне садовые ножницы и несколько корзин.
— Я добавлю вам в помощь двух служанок…
— А вот и нет! — подала голос Оливия. — Княжна, мы пойдем с вами, надеюсь, вам не наскучит наше общество.
— Это большая честь для меня, герцогиня! — радостно воскликнула княжна.
— Можете называть меня просто Оливией, а мою компаньонку — Люцией.
— Тогда я — просто Марыся.
— Вы дочь пшепрашамского кнеса Милюковича?
— Смидовича, с вашего позволения.
— Ладно, сейчас не до этого.
Едва все покончили с завтраком, как общество разделилось: наиболее ленивые дамы отправились принимать ванны и потрошить свои гардеробы, мужчины решили, что праздность — это порок, и попросили располагать ими в делах по окончательной очистке двора. Фигаро пообещал трудягам несколько бутылок коллекционного крепленого «Лиль де Валуа», а на закуску еще оливье, что вызвало всеобщий одобрительный гул.
И снова в замке закипела работа. Оливия была удивительно бодра, и в сад почти побежала на своих костылях. Я заметила, что вот уже много недель она не пользуется своим тяжелым калечным креслом. Может быть, она понемногу исцеляется? Из-за моих ли ежедневный растираний, или оттого, что мы постоянно шпыняем друг друга и будоражим кровь? Впрочем, что об этом думать! Главное — новый день все-таки заставил ее улыбаться.
В западной стене замка были ворота, опутанные плющом и хмелем до такой степени, что становилось ясно — ими лет сто никто не пользовался. Фигаро дал нам ключ — большой, из начищенной бронзы, с затейливой головкой. Мы с Марысей раздвинули ветки плюща, а Оливия нашла замок и отперла ворота. Они подались с протяжным скрипом, и мы друг за другом вошли в безлюдную тишину осеннего сада.
— Я даже не знала, что этот сад существует, — сказала Оливия. — Он весь зарос, за ним никто не ухаживает… Почему?
— Думаю, его светлость слишком занят возделыванием того сада, что у него в голове. Имею в виду поэзию, — молвила Марыся.
Я уже не думала о герцоге Альбино так снисходительно. Если у него в голове и есть сад — то мертвый, где стоят сожженные гордыней, презрением и высокомерием деревья прошлых грез. Ничего я выразилась?! Да я любого менестреля заткну за пояс всякими гиперболами, литотами, метафорами и анафорами! Может, я бы тоже стала великим поэтом, если б не считала поэзию делом никчемным. Вот мореплавание — это да!
В саду были разбиты огромные клумбы, на которых цвели одичавшие розы, хризантемы, георгины и астры. Яркие фонарики физалиса, пестрые циннии, бугенвиллеи, гвоздики — они выглядели и пахли какой-то сказкой, которой еще не придумали конца.
— Я ужасно мечтала попасть в этот сад, — Марыся восторженно прижала к груди садовые ножницы. — Ах, если мне разрешат ухаживать за этим садом, я вложу в него всю свою душу и сделаю его прекрасным уголком!
— Да пожалуйста, разрешаю, — махнула рукой Оливия. — Об этом куске земли никто не вспоминал ни разу на моей памяти. Я вообще не знала, что он существует.
— Просто его видно только в окно моей спальни, — сказала Марыся. — Я сама не своя от цветов и деревьев и с тех пор, как гощу у вас, мечтаю об этом саде.
— Приятно, когда ты можешь исполнить чью-то мечту, верно, Люци? — спросила меня Оливия со странным блеском в глазах.
— Безусловно, экселенса, — кивнула я.
Марыся оказалась настоящей находкой. Прежде всего она под корень срезала ряды крапивы, болиголова и борщевика, чтобы мы могли пройти к клумбам, не обжигаясь об эти злонравные сорняки. Травяными соками, цветами, вишневой смолой и яблочной падалицей пахло так упоительно, что хотелось плюхнуться в ближайшую клумбу и наслаждаться остановившимся мгновеньем. Но с Оливией не понаслаждаешься. Действуя костылем как указкой, она показывала, какие цветы, по ее мнению, достойны попасть в вазы. В плоские плетеные корзины мы с Марысей собрали воздушные султаны спаржи и плети физалиса, шпалерные розы и хризантемы с огромными бутонами цвета сливочного масла… Марыся, увлекшись, не брезговала и какими-то простыми цветочками и веточками, и я поняла, что эта маленькая княгиня уже составляет праздничные букеты в своей голове. Вот умница!
— Слушай, а она отличная девчонка, — вполголоса сказала я Оливии.
— Да, и не такая испорченная, как мы. У меня есть идея.
— Коварная?
— Смотря для кого.
— Оливия, прошу, не делай ей каверз, для этого у тебя есть я…
— Кто тут вообще говорит о каверзах? — невинно пучила глаза Оливия.
— Никто. Марыся, как вы считаете, вот эти маленькие лохматенькие цветочки…
— Настурции, Люция, — немедленно отозвалась Марыся.
— Может быть, из них выйдут отличные маленькие букеты, которые можно приколоть к гобеленам?
— Вы правы! А знаете, что еще я думаю? Нужно попросить плотника сделать арку, прямо перед входом в замок. Мы обовьем ее цветами, хмелем, виноградными лозами. Будет очень красиво…
Предвосхищая события, скажу, что и арка была сделана плотником Джиакомо, и цветами мы ее украсили, и конец дня встретили донельзя вымотанными. Попрощавшись с Марысей, я отвела клюющую носом экселенсу в ее покои, помогла раздеться и умыться и уложила в постель. Она уже видела десятый сон.
Придя к себе, я посмотрела на свое отражение в зеркале — в волосах застряли веточки, листики, какая-то паутина и прочая дрянь. Что ж, недаром я сегодня подумала, что я самостоятельная девушка и могу не зависеть от принятых в обществе правил. Переодевшись в пеньюар, я взяла свечу и поспешила на этаж, где жила прислуга.
Среди служанок, которые выполняли чистую работу (смена белья, помощь в принятии ванны, укладка причесок, уход за нарядами господ, кройка-шитье и прочая жуть), я давно приметила весьма расторопную и толковую девушку, которая раньше брила голову Оливии, а мне — когда того требовал этикет — так красиво укладывала волосы, что я чувствовала себя прямо-таки принцессой. Полетта терпеливо обихаживала знатных дам замка и вообще старалась никому не отказывать в помощи. Я постучалась в дверь ее комнаты.
— Полетта, — тихо позвала я.
Дверь отворилась. Полетта стояла в ночной сорочке, с чепчиком на голове — просто сахарный ангелочек!
— Госпожа Люция? — удивилась она. — Что случилось?
— Полетта, извини, я тебя, наверное, разбудила…
— Нет, я еще не ложилась, я как раз только закончила молитвы Исцелителю и святой юстиции…
— Твое благочестие воистину спасет всех нас. Но мне, Полетта, нужны твои таланты куафера, прямо сейчас.
— Я вижу, у вас волосы ужасно выглядят.
— Завтра все будут вас расхватывать и наводить красоту, а я вас попрошу уделить мне время сейчас.
— Я только возьму свои гребешки и ножницы…
— Они не суть важны. Главное — возьми бритву.
— Госпожа? Вы хотите… побрить голову?
— Да, как ее светлость. Только мне до блеска.
— Но зачем?! Волосы — это гордость женщины, ее красота!
— Я еще не женщина, и вообще красота — понятие условное. Идем?
Полетта вздохнула.
— Как вам будет угодно, госпожа Люция.
В своей комнате я зажгла все свечи и уселась в кресло перед зеркалом. Мужественно посмотрела на свое отражение:
— Начинай, Полетта!
И закрыла глаза.
Сначала Полетта щелкала ножницами и приятным голоском напевала какую-то песенку. Чувствуя, что проваливаюсь в сон от ее монотонных движений, я решила завести разговор:
— Полетта, трудно быть служанкой в таком огромном замке?
— Что вы, госпожа Люция! У меня самая простая и легкая работа — гладить белье, перестилать постели, менять воду в умывальных кувшинах, следить за цветами в вазах… То, что дамы позволяют мне делать им прически, — это же так почетно! Я ужасно благодарна госпоже Сюзанне, что она еще в детстве забрала меня из деревни в замок и настояла на том, чтобы меня обучали мастерству куафера и камеристки. Для этого специально приезжал из столицы знаменитый куафер Серджио Анимале. Я никогда не забуду его уроков! И моя работа в замке — это благодарность госпоже Сюзанне за все, что она для меня сделала, что она вырастила меня мастерицей!
— И герцогу Альбино ты тоже благодарна, конечно?
— Конечно, — я уловила легкую заминку в голосе. Такую заминку делают, когда готовятся покривить душой. — Госпожа Люция, вы точно решили наголо? У вас сейчас чудесная длина, я срезала все ненужное, такая прическа называется «паж» и всегда в моде у молодых знатных девушек.
— Милая Полетта, я не знатная девушка, и говори мне ты. Наголо так наголо.
Полетта тяжело вздохнула и принялась густо намыливать мне голову.
— Что ты можешь сказать о герцоге Альбино, Полетта?
— Что может сказать о господине такая служанка, как я? Тем более что герцога мы, слуги, почти не видим. Если он не в отъезде, то целыми днями пишет стихи в скриптории или запирается в Костяной башне.
— Где? — я изумилась. — Вот уже столько времени я нахожусь в замке, но не слышала ни о какой Костяной башне.
— Вообще-то она правильно называется башня Слоновой Кости. Попасть в нее можно через второй этаж северного крыла, но этот этаж закрыт.
— А снаружи эту башню видно?
— Нет. Это тайная башня. Говорят, герцог Альбино хранит там волшебный камень, который вдохновляет его писать такие прекрасные стихи. Но об этом никому! Иначе герцога обвинят в колдовстве! И потом, может, это просто досужие сплетни слуг. Никто не может отыскать туда вход, сколько ни подглядывали. Правда, старый лакей герцога (сейчас он уже вкушает покой на небесах) проговорился однажды, что видел, как герцог Альбино с маленькой дочкой на руках и в сопровождении высокого мужчины в черном плаще открыл дверь в стене — и это был вход в Костяную башню. Потом эту дверь искали все кому не лень, но не нашли. Все-таки герцог Альбино владеет колдовскими чарами. Ни один смертный прошлого и настоящего не писал таких стихов, как пишет он.
— Да, но зачем он нес туда Оливию? Сколько ей было тогда лет?
— Не знаю, этого никто не знает. Может, тому лакею вообще все привиделось. Позвольте, я оботру вам голову мокрыми полотенцами.
— Что, уже все?
— Да, к сожалению. Я могла бы вам сделать такую очаровательную укладку, добавить шиньон, шпильки, ободок из шелковых цветов…
— Вот уж морока так морока! Я не из тех дам, что носят на голове целые корзины из волос, фруктов и цветов. Я компаньонка герцогини и хочу соответствовать ей и во внешнем виде. Итак?..
Полетта сняла с моей головы полотенца:
— Прошу, сударыня!
Я открыла глаза.
Из зеркала на меня смотрел очень испуганный лопоухий мальчик лет двенадцати. Его лысая голова блестела, как натертое маслом яйцо.
— Гм, — сказала я. — Выглядит очень свежо. Омолаживающе. Я столько лет жила и не подозревала о том, что у меня такая лопоухость!
Полетта жалобно вздохнула:
— Юноши будут над вами посмеиваться, как, впрочем, и дамы… Мне так жаль!
— Плевать мне на них с высокой башни… Башня. Очень интересную историю рассказала ты мне, Полетта.
— Только, пожалуйста, не говорите герцогине, а то с нее станется поломать все стены и перегородки в замке, лишь бы добраться до тайны. Повторяю — все это, может быть, просто старая легенда.
— Ладно, я поразмыслю об этом. Полетта, ты настоящий мастер! Я в восторге от своего нового образа. Чем я могу тебя вознаградить? Денег у меня нет, герцог кладет их на счет в банке, но…
— Я даже слушать не буду! Я сделала это от души, а не за награду!
— Ох, ну прости! Ну, давай подружимся, не дуйся!
— Если только…
— А?
— Вы не могли бы поделиться со мной своими шпильками и заколками — вам ведь они теперь без надобности, а мне пригодятся в работе…
— С удовольствием!
Мы расстались довольные друг другом. Я еще раз полюбовалась на лысину. Вытащила из комода плоеный воротник-колесо, обернула вокруг шеи и сразу стала похожа на молодую высокородную даму, гордую, совсем не лопоухую и хладнокровную.
— Да с меня портреты можно писать, у меня выраженный типаж отравительницы и дворцовой интриганки, — сказала я. — Кстати, с Оливии еще не написано ни одного портрета. Мой долг — исправить это упущение. А теперь я пойду спать.
Утром я встала бодрая, как никогда, умылась, еще полюбовалась собой, оделась, а на голову натянула чепец, чтобы Оливия, увидев меня, не сразу умерла от радостной неожиданности и прочего восторга.
Когда я вошла в покои герцогини, то увидела, что она крепко спит. Лицо бледное, синеватые круги залегли под глазами… События последних дней сильно ее вымотали, а ведь предстояло еще больше забот… Но мне было жалко ее будить, сейчас она выглядела абсолютно беззащитной, маленькой и никому не нужной, словно бездомный котенок… Узнай Оливия, что такие сравнения приходят мне в голову, она бы порезала меня на ломтики для копчения, поэтому я просто повернулась и на цыпочках пошла к двери. Пусть еще поспит. Но не тут-то было. Едва я взялась за дверную ручку, как услышала негромкое, но очень жесткое:
— Стоять!
— Экселенса, прости, я разбудила тебя…
— Ну-ка повернись, кто бы ты ни был! Люци?! Какого дрына ты напялила на себя кружевной чепец? Я подумала, что это смерть пришла за мной, типа вся в белом!
— Просто у меня для тебя есть сюрприз! — я улыбнулась и сняла чепец.
С минуту Оливия молча созерцала мою бритую голову, а я с наслаждением наблюдала за тем, как развиты лицевые мышцы у моей госпожи. Наконец Оливия выдохнула:
— Чтоб мне выйти за Себастьяно, ты побрилась!
— В наблюдательности тебе не откажешь, — рассмеялась я. — Верни на место свою нижнюю челюсть и скажи: мне идет?
— Как веревка висельнику. Какого дрына, Люция? Ты меня всегда убеждала, что брить голову — это для девушки неприлично и все такое, и вдруг сама стоишь передо мной с головой, лысой, как колено!
— Я просто тобой манипулировала.
— Манипулировала?!
— И не выманипулировала. К сожалению. Вчера ночью я полностью осознала, что ты — моя госпожа и я должна поддерживать тебя во всем вплоть до внешнего вида. Так что получается, что это ты манипулировала мной. Подсознательно.
Оливия торжествующе ухмыльнулась — эта мысль ей понравилась.
— Ну вот, теперь, когда мы сказали друг другу горькую правду, дай я переверну тебя на живот и займусь массажем.
— Люци, ты массируешь меня, как коновал!
— О? У тебя был такой интригующий опыт?
— Тьфу! Просто это бесполезно. Спина все равно останется кривой и будет болеть, и все эти мази и притирания — как евнуху жена… Ай-й! Больно же! Коровища!
— Вторые сутки слышу про коровищу. Похоже, у тебя воспаление межпозвоночных хрящей.
— Это у тебя воспаление — всего мозга сразу! Ай! Когда-нибудь я убью тебя, Люци!
— Всегда пожалуйста, но не раньше, чем я сделаю массаж.
— Ты лопоухая уродина, я давно хотела тебе это сказать, ты…
— Голову вот так, пожалуйста. Расслабься. Так кто я там еще?
— Коровища уже была?
— Да.
— Ты гнусная растлительница юных Себастьянчиков!
— А ты пьяница, у которой от запаха винного погреба начинается нервная икота.
— Сложно, не поняла. А ты — толстозадая пивная бочка!
— А ты — ночной кошмар золотарей! Твой горшок неисчерпаем!
— А ты… Что-то из мифологии надо… А, вот! Ты — жирная медуза, от одного взгляда на которую у всех рвота начинается! Эй! Чего молчишь? Возразить нечем? Значит, я победила?
— Угу, — рассеянно ответила я. Я снова возилась со смещенным позвонком Оливии. Я потихоньку обминала его кончиками пальцев и так и сяк. Я не могла отвязаться от мысли, что если я большим пальцем нажму сюда, а указательным и средним — сюда и сюда, то позвонок встанет на место, освободив защемленный нерв. И боль уйдет. И надо не рассуждать, а просто это сделать. На раз, два. Три.
— Я победила! — завопила Оливия, но я услышала неслышимое — щелчок, с которым позвонок встал на место. — Ай!
— Что? — я положила растопыренную ладонь на больной участок. — Болит? Где?
— Э… Гм… Люци, у меня нигде не болит. Что ты сделала?
— Пошевели руками. Так. Ногами.
— Что ты со мной сделала?!
— Попробуй перевернуться на спину самостоятельно.
— Это не выйдет, это никогда…
— Давай.
Оливия приподнялась на локте и повернулась на бок. Раньше такое движение стоило бы ей мучительной боли, сейчас она смотрела на меня, как будто я ее оглушила.
— Мне не больно, — прошептала она.
— На спину.
Она повиновалась. Зрачки у нее расширились — но не от боли, я знала, от потрясения.
— Сядь без моей помощи. Ты сможешь. Боли не будет.
Она села, опираясь ладонями о постель. Лицо белее муки, губы кривятся, дыхание прерывистое — но это не от боли! Я чувствовала!
— Что ты со мной сделала, Люци?! — прошептала она. — Мне не больно! Там, где было больно всегда!!! Ты волшебница? Великий лекарь? Или — сам Исцелитель?
— Еще чего, — я ответила нарочито грубо, чтобы вернуть Оливию в ее нормальное настроение. — Я жирная медуза, коровища и бездонный ночной горшок. И твоя компаньонка.
У Оливии потекли слезы по щекам, плечи затряслись. Она протянула ко мне руки.
— Так, а вот этого не надо! Оливия! Прекрати реветь! Где твоя фамильная гордость! И вообще! Я просто поставила на место смещенный позвонок. Было б из-за чего сопли распускать. Оливия! Вставай и пойдем набьем муравьев в штаны Себастьяно!
— А где мы найдем муравьев? — Оливия подавила всхлип и посмотрела на меня ясным взором.
— Вот это толковый вопрос. Думаю, что нигде, так что Себастьяно временно помилован. А теперь я помогу тебе встать с постели.
— А может я сама смогу, и даже без костылей?
— Я не уверена, один позвонок погоды не сделает. Но мне почему-то кажется, что со временем я смогу выправить твой позвоночник полностью. Не спрашивай почему.
Оливия встала и стояла около кровати, ни на что не опираясь. Такого с ней не было никогда.
— А если шагнуть?
— Давай не будем рисковать, — я протянула ей костыли. — И вообще, пусть это будет между нами. Ты же знаешь, право на целительство имеет только святая юстиция! Еще объявят меня ведьмой!
— Ты права. — Оливия выдохнула и посмотрела на меня как-то смущенно. — Спасибо, Люци.
— Спасибо не булькает, — я старалась вернуть обычный тон наших перепалок. — У тебя там еще портвешку за ночным горшком не завалялось? И лысину б мою заодно обмыли…
— Увы. Фигаро не только сменил замки на всех винных погребах, но и поставил часовых. К приезду Его Высокоблагочестия все должны быть трезвыми и почтительными. Прямо даже не знаю, что тут отчебучить на трезвую-то голову. До чего мы докатились: букетики собираем, звездочки вырезаем, с Себастьяно подружились…
— Ну, с Себастьяно всегда все можно переиграть. Пожалуйте умываться, экселенса.
— Зубы чистить не буду! Я не гонюсь за модой! Род Монтессори веками не чистил зубы, и я…
— А мне понравилось. Освежает. Заряд бодрости на весь день.
— Да? Ну, попробую.
Потом я помогла Оливии одеться. К завтраку мы спустились, сияя нашими бритыми головами, как праздничными лампионами.
Это произвело фурор.
— И эта облысела! — взвизгнула одна из дамочек. — В замке болезнь! Поветрие! Мы все облысеем!
— Ага, — довольно кивнула Оливия, теперь она была в своей стихии. — А знаете, где у нас еще волос нет?
— Ах, — в ужасе выдохнуло все благочестивое дамское общество и попыталось устроить групповой обморок.
— Спокойно! — рявкнула я. — Я не облысела, а побрилась, специально ко дню приезда Его Высокоблагочестия! Вы, индюшки, разве не знаете, что такое молитвенная жертва?
— А? — выпялились родовитые индюшки в роскошных перьях (платьях).
— Моя госпожа Оливия и я добровольно лишили себя главного украшения женщины, чтобы показать Его Высокоблагочестию, как мало мы ценим все мирское и как велики наши молитвенное рвение и желание совершенствоваться. Вы что, не знаете, как мы любим Его Высокоблагочестие?
— Мы все любим Его Высокоблагочестие, да, да, — загомонили индюшки, ну ладно, дамы.
— А я все равно сильней всех люблю Его Высокоблагочестие, — тихо пискнула какая-то сухопарая куропатка в уголке.
— Так вот! — я воздела руки, как заправский оратор. — Разве не учит нас святой теодитор, что мирские красота и блага ничтожны перед красотой истинной веры?! И истинная последовательница святой юстиции своим внешним видом должна побуждать мужчину не к соблазну, а к молитвенному рвению!
Оливия за моей спиной чуть ли не костыли грызла, чтобы не заржать во весь голос.
— Сестры мои!.. — разогналась было я, но тут Фигаро бесцеремонно пихнул меня острым локтем в бок и произнес самые правильные слова:
— Кушать подано!
Все, кроме нас с Оливией, забыли о высоком и ринулись к столу, где уже призывно пахли чаши с салатом оливье, копченый лосось, омлеты с зеленью и дыни во льду.
— Девочка, ты рехнулась? — спросил меня Фигаро. — Ты что тут проповедовать взялась? Герцогиня, перестаньте ржать, как боцман на тараканьих бегах. Ладно, вы обе дурака валяете, но если это будет заразно… У нас такая встреча на носу!
— Фигаро, не бойтесь, они уже обо всем забыли, — ухмыльнулась я. — Зато как я смотрюсь со своей госпожой!
— Два сапога пара, — кивнул Фигаро. — И не вздумайте на встречу с теодитором облачиться в лосины. Женщина не должна носить мужскую одежду — за это сразу колесование. Чтоб обе завтра утром были в платьях! И геннинах!
— Но, Фигаро…
— Иначе я за себя не отвечаю! — благородный дворецкий произнес это таким тоном, что я серьезно заопасалась за свою жизнь.
Мы с герцогиней вздохнули и сели завтракать. Еле уцепили себе миску оливье и омлет.
После завтрака все высокородные дамы отправились готовиться к завтрашнему торжеству. По замку туда-сюда засновали служанки и камеристки, нагруженные платьями, шалями, шкатулками с украшениями, духами и прочими вещами, составляющими смысл жизни женщины.
— Какая суетность! — чопорно молвила моя экселенса и тут же расхохоталась. — Пойдем во двор, кому-нибудь понадоедаем. Кстати, где Себастьяно? И муравьи? Тебе нигде не попадался хороший муравейник? Или приличных размеров осиное гнездо?
Во дворе замка нас встретили без особой любезности. Тут безжалостно выметалась последняя пыль, натирались до блеска последние медные ручки и мраморные колонны; слышна была ругань рабочих, вешавших фамильную орифламму, словом, не та обстановка, чтоб оттачивать остроумие. Из оранжереи нас тоже попер главный садовник, который вместе с княжной Марысей обирал увядшие бутоны и листья, а заодно развешивал среди ветвей экзотических деревьев маленькие стеклянные копии Святой Мензурки и Благословенного Градусника, наполненные благовонными маслами.
— Все такие деловые, — развела руками Оливия. — Одни мы болтаемся, как шуты на похоронах. Куда податься? Не в комнатах же сидеть и мух давить?
— Слушай, экселенса, — мне пришла в голову идея. — Я ни разу не была в картинной галерее твоего отца. Думаю, о ней все забыли; кому придет в голову ходить по картинным галереям в такое время, и мешать мы там никому не будем. А?
— Давай, — кивнула экселенса. — Я там, кстати, несколько лет не была.
Двери в галерею были не заперты.
— Неужели и там уборка? — прошипела Оливия, но нет.
Мы вошли и увидели огромное помещение, залитое солнечным светом, бьющим в громадные окна. Стены и сводчатые колонны были увешаны картинами. Мы принялись бродить от одной к другой, как вдруг…
Я замерла перед большой картиной. На ней был изображен герцог Альбино, более молодой и улыбчивый, чем сейчас. Он сидел в резном кресле и держал на руках маленькую девочку, чье личико почти было скрыто очаровательными белыми кудряшками. Рядом с креслом стоял высокий худой человек в глухом черном плаще.
— Я никогда не видела этой картины, — сказала Оливия.
Глава одиннадцатая Встреча Особо Важной Особы — 3, или Наконец-то!
Чем дольше ждешь, тем больше оснований не дождаться.
Или дождаться чего-нибудь не того.
Из проповедей Его Высокоблагочестия, т. 22Я никогда не видела этой картины, — повторила Оливия.
— Верю, — сказала я. — Маленькая белокурая девочка на ней — это ты?
— Я не знаю, — Оливия почему-то перешла на шепот. — С меня никогда не писали портретов. И насколько я помню, я не была белокурой.
— Ну, такая малышка могла этого и не запомнить… Сколько здесь тебе лет? Не больше полутора, по-моему…
— Но в то время отец был в военном походе, Десятилетняя война. Отец здесь очень, очень молод… Его почти не узнать.
— Если б твоя мать была жива, она тоже оказалась бы на картине. А тут какой-то мрачный мужик в плаще вроде тех, которые столетья назад носили Чистильщики Чумы. Да он и похож на Чистильщика! Только маски нет.
— Я ничего не понимаю…
— А в галерее есть портреты твоей матери? Другие портреты отца?
— Я не помню… Не уверена.
Мы принялись осматривать все картины. Портретов имелось много, но все это, судя по подписям, были давние предки Оливии, чуть ли не все родословное древо Монтессори.
— Вот, — остановилась Оливия.
Этот портрет герцога Альбино был, видимо, написан не так давно — герцог уже не улыбался, глаза его были холодны и лицо надменно. И шрам. Тот, которым низость герцога пометил благородный Фигаро. На портрете великий поэт всех времен стоял, опершись на бюро, где лежали свитки бумаги и перья. Одежду герцога составлял черный глухой плащ.
— Какой это год? Должна быть подпись…
Но у картины не было подписи. Как и у той — с белокурой девочкой.
— Знаешь, здесь что-то не так, — молвила Оливия. — У меня нюх на грязные семейные тайны. Что-то гадкое случилось в роде Монтессори, что-то, о чем все молчат.
— Давай спросим у Фигаро про эти картины.
— Нет, — отрезала Оливия. — Ему сейчас не до того. Разберемся сами. Родовые книги герцогства Монтессори должны быть в библиотеке. Мы посмотрим их, вообще все, что связано с моим родом. Никто и не заметит, где мы пропадаем, все будут толпиться около теодитора, и кто знает, может, мы что-нибудь нароем… Кстати, ты заметила? Девочка на портрете не выглядит так, словно у нее изуродован позвоночник.
— Заметила.
— Так, может, это не я? Может, это моя сестра, умершая во младенчестве? Нет, слишком попахивает романами для чувствительных дамочек. Идем в библиотеку.
Как я уже упоминала ранее — библиотека не была популярным местом посещения среди челяди и гостей замка. Но все-таки было заметно, что и в ней недавно прибирались. Завалы из книг и журналов, остатки наших с Оливией картонажных безумств, — все исчезло. В библиотеке пахло очистителем для мебели, книги на стеллажах стояли ровными рядами, как солдаты на плацу. Каждый стеллаж был снабжен алфавитным указателем находящихся на нем книг. Мы миновали все до указателя «Монтессори», но там были только многочисленные собрания сочинений герцога Альбино. Под указателем «Родословные» обнаружились родословные книги самых древних родов Старой Литании, но рода Монтессори среди них не было. Стеллаж «Герцоги, графы и пр.» был забит до отказа томами в потемневших кожаных переплетах, но и там о роде великого поэта не имелось ни одной записи.
— Не понимаю, — сказала Оливия. — Такое впечатление, что Монтессори просто не существуют в природе. Исключая тех дальних родственников, что гостят в замке и объедают нас на приличные суммы.
— Есть только произведения Альбино Монтессори. Поэта. Если же он все-таки герцог, должна быть карта родословного древа. Герб-то есть, вон орифламму вывесили!
— А что, если это герб не Монтессори, а какого-то давно исчезнувшего рода? И папаша его просто присвоил? Или герцог Альбино Монтессори вовсе не тот, за кого себя выдает?
Мы бродили по библиотеке и ломали головы над обрушившейся на нас загадкой. Так было до тех пор, пока мы не дошли до низенького шкапчика с надписью «Документы на право собственности».
Раньше на меня такое словосочетание подействовало бы, как хорошее снотворное, но сейчас я поняла: именно здесь хранятся бумаги, подтверждающие права рода Монтессори на поместье ди ла Перла, на все его бескрайние поля пшеницы и ржи, на вересковые пустоши, на два озера, полных потрясающей рыбы, на охотничьи угодья и прочая, прочая. Если такие бумаги существуют, значит, официально существует и род Монтессори.
Шкапчик был небольшим, скорее, он даже напоминал сундук, поставленный на попа. И самое интересное — у шкапчика нигде не было замочной скважины. Только на дверце имелся выпуклый диск, испещренный непонятными символами.
— Как же его открыть? — нахмурилась Оливия.
Я тронула диск. Оказалось, что он вертится во все стороны, но это никак не помогает нам в реализации наших намерений. Шкапчик был неприступен.
— А давай кувалду из кузницы принесем, — вдохновилась Оливия, она терпеть не могла, когда на жизненном пути появлялись вещи, не подвластные ее капризам.
— Тут нужна не кувалда, а хороший нож с тонким и прочным лезвием. Вводишь в щель меж дверцей и стенкой, отжимаешь, и дверца поддается. Во всяком случае, в пансионе Святого Сердца я таким образом не раз открывала сейф матери-казначейши. Она потом просто диву давалась, куда девались кошельки с пожертвованиями богатых прихожанок. Так что… Побудь здесь, а я быстренько смотаюсь на кухню и незаметно стащу подходящий нож.
— А если тебя засекут?
— Как будто я не смогу соврать, что моей госпоже срочно понадобился стакан теплого молока. Или корзинка печенья, или интимные услуги младшего поваренка…
— Люци!!! Мерзавка!
— Ой, как я люблю вот это выражение на твоем лице! Мне кажется, от него моментально сдохнет все живое на Планете.
— Только вот ты не сдыхаешь!
— У меня выработалось привыкание. И потом — я же тебе нужна. Хотя бы для того, чтобы открыть этот вот шкапчик. Пошла на кухню, вернусь с победой, жди.
— Слушай, тогда и уворуй там кастрюлю с оливье, если есть. У меня, кажется, тоже выработалось привыкание — к этому салату.
— Заметано.
Я шла в кухню обычным путем — через галерею первого этажа, потом — двадцать ступенек вниз и по коридору в цокольный этаж, где размещались не только кухня и столовая для прислуги, но и — еще ниже — вход в винные погреба и морозильные подвалы для мяса.
Я чувствовала себя прекрасно и уже подходила к дверям кухни, как вдруг земля подо мной качнулась. Это неверно, не только земля, все вокруг словно сместилось относительно меня, словно я была осью всего окружающего. Я совершенно четко ощутила, что одномоментно иду в кухню и прошу молока для Оливии, и я стала кольцом на своем же пальце, и, будучи этим кольцом, я существую в измерении, которое только что создал мессер Софус для того, чтобы мы могли приватно поговорить.
— Здравствуйте, мессер.
— Здравствуй, дорогуша. Извини, что вверг тебя в такое двусмысленное положение. Мне срочно понадобилось связаться с тобой, а так как я нахожусь сейчас в хронопространственном парадоксе Клейна — Воннегута, получилась такая вот петрушка.
— Ничего, я в порядке. Только немного смущают ощущение глаз под мышками и наличие пяти десятков ног в спине.
— Не обращай внимания. Это твое пространственное восприятие пытается себя осознать. И чтобы лишний раз его не мучить, давай сразу к делу. Как насчет вторженца?
— Похоже, он обнаружил себя, мессер. — И я рассказала Софусу о том, как Себастьяно узрел прекрасную незнакомку, кормившую свиней, и разжился стеклянной туфелькой, которая на самом деле являлась живым и разумным организмом.
— Туфелька… — протянул мессер Софус. — Похоже, это один из видов мозгового паразита из подпространства галактики У700-Z. У них перепроизводство органических паразитарных форм, оказывается, и сюда добрались.
— А где эта галактика?
— Правильнее спросить: когда эта галактика? Она самоуничтожилась примерно пять миллиардов световых лет назад. Но ты же знаешь, что ни материя, ни энергия не исчезают бесследно. С гибелью галактики возникло подпространство, а в нем прекрасно размножаются паразитические органические формы.
— Ой, какой ужас! Мое предположение о том, что туфелька захватила мозг Себастьяно, оправдалось! Что же будет дальше?
— Скорее всего, она вступит с ним в симбиоз и будет наслаждаться жизнью.
— А Себастьяно?!
— А что с ним?
— Будет ли он наслаждаться жизнью, став безмозглым рабом стеклянного паразита?
— Дорогуша, твоя детская наивность меня иногда умиляет до слез. Открою тебе простую и абсолютно непреложную истину: все сущее делится на две категории: паразитов и их носителей.
— Какой кошмар!
— Ничего не кошмар. Это фундаментальный закон сохранения жизни. Ты думаешь, что паразиты уничтожают своего носителя? Никоим образом. Наоборот, именно паразиты активно заботятся о том, чтобы их носители как можно дольше функционировали. Приведу простой пример: конь и его всадник. Конь — носитель. Всадник — паразит. Всаднику нужно, чтобы его конь всегда был здоров, бодр и выполнял его приказы. Соответственно, всадник ухаживает за конем, заботится о его питании, отдыхе, здоровье. А конь принимает это и покорен всаднику, иначе он может лишиться всего того, что всадник ему дает. Это элементарный…
— Симбиоз?
— Нет. Такие отношения называются конкордат. Или — на более высоком уровне — дружба. Или — на высочайшем — любовь.
— То есть равенства нет?
— Какого еще равенства?
— Ну, хоть между конем и всадником.
— Нет, конечно. И запомни навсегда: понятие равенства условно и имеет смысл только в математике. И мы должны быть благодарны всему сущему за то, что равенства в нем нет и никогда не будет. Равенство невозможно и абсурдно, как деление на ноль. На досуге поразмышляй об этом, дорогуша, и почитай что-нибудь по высшей математике. А также по биологии и философии. Лучшие умы вашей Планеты давно осознали идею конкордата и написали по этому поводу количество книг, массой равное массе четырнадцатого спутника планеты Робитрон-5.
Я молчала и только хлопала глазами — теми, что под мышками. От ресниц было щекотно.
— Но оставим абстрактные разговоры. Про туфлю я уже все понял — она опасности не представляет. Она просто проникла в ваш мир, прилепившись к вторженцу, как ракушка — к днищу корабля. Девушка, которую увидел ваш Себастьяно, вот это — серьезная опасность.
— Я так и знала. Она кормила свиней. Наверное, хотела отравить их. Или превратить в каких-нибудь чудовищ и вместе с ними завоевать нашу Планету!
Софус смешно пошевелил длинными усами:
— Ты что, комиксы на ночь читаешь?
— Я даже не знаю, что такое комиксы.
— Ну, твое счастье. Запомни, детка: вторженцы — это прежде всего разведчики. Их задача — осмотр, оценка и опись планеты, на которую они вторглись.
— Но для чего им это?
— Для продажи, конечно.
— А? Это же абсурд! Как можно продать целую планету?
— Легче легкого. Солнечные системы продают, галактики, кластеры, черные дыры… Спрос есть всегда.
— Но кто это купит?! Это же не диван или столовый сервиз!
— По-разному бывает. Кто-то ищет Солнечную систему с удобными орбитами планет. Кому-то дозарезу нужна хронодыра в определенном месте бесконечности. Кто-то польстился на чужую атмосферу или полезные ископаемые…
— Ну, это я поняла. Но кто они?
— Такие же представители разных цивилизаций, как ты — представитель цивилизации Планеты. Но сейчас не об этом. Сейчас о красотке в розовом. Насколько мне известно, эти существа работают на одну очень мощную черную дыру. И я вынужден с сожалением предположить, что через некоторое время ваша Планета, а возможно, и Солнечная система будут куплены.
— И что нам делать? В смысле, человечеству? Как этого избежать?
— Дорогуша, а зачем избегать? Смысл?
— Ну… А если нас поглотит черная дыра?
— И что?
— Как это?! Мы же перестанем существовать! Все и всё!
— Иногда мне кажется, что у тебя вместо мозгов овсянка. Я же говорил, ни материя, ни энергия не исчезают. Никогда. И ты — глупое скопление звездной пыли по имени Люция Веронезе — тоже никогда не исчезнешь. Твои атомы войдут в структуру сверхновой звезды. Или прорастут поющими подсолнечниками на планете К’айрон, что в галактике Ч’иуа.
— Но я тогда уже не буду Люцией Веронезе!
— Что значит имя? — усмехнулся Софус. — Набор случайных звуков. Как твое тело — набор случайно соединившихся атомов и девяносто процентов пустоты…
— Это неправда, — из глаз под мышками у меня потекли слезы. — Я не верю в случайности. Я верю, что все происходит так, как надо…
— Кому надо?
— Я… я не знаю. Всему сущему!
— Не плачь, глупышка. Усвой простую истину: на самом деле никому ничего не надо. Сущее — это великая Случайность, бессмысленный вихрь атомов среди пустоты.
— Я вам не верю! Если бы все было так ненужно и бессмысленно, зачем бы вы связались со мной, зачем рассказывали все это?! Чтобы я спасла Планету от продажи? Чтобы…
Мессер Софус посмотрел на меня с великой печалью.
— Я просто пытался спастись от одиночества, — тихо сказал он. — А ты такая славная девочка… Там, где на самом деле нет никакого там, тоска бывает такая, что от нее схлопываются галактики… Прости.
— Я, я ничего, мессер… Я не против, для меня большая честь общаться с вами.
— Я бы предпочел глагол «дружить»…
— Хорошо… Пожалуйста, не покидайте меня. Я тоже все время была одинокой до тех пор, пока в моей жизни не появились вы, а потом Оливия и все те, кто живет в замке ди ла Перла. И я так счастлива, что могу говорить с вами, хотя сейчас рот у меня на затылке.
— Спасибо… — улыбнулся Софус. — Знаешь что? Я попробую спасти Планету от продажи. Я выясню, кому это выгодно, я разберусь. Только ради тебя. А ты не кисни. Ты можешь гордиться тем, что ты дозарезу нужна хотя бы одному человеку.
— Оливии?
— Конечно. От ее тоски погибли восемнадцать тысяч сверхновых звезд! А с тех пор, как вы дружите, возникли четыре Солнечные системы и галактика Малая Центурия. Между прочим, очень симпатичная галактика. Оранжевый спектр.
— Как странно. Все астрологи твердят, что звезды влияют на судьбы людей.
— Шарлатаны и недоучки! Это люди влияют на судьбы звезд. Ну ладно. Мне пора. Да и тебе надо прийти в себя. Поосторожнее с инсектоидами. Если что — зови. Я теперь буду в пределах досягаемости.
— Хорошо. Удачи вам, мессер…
И наступила чернота.
Когда я пришла в себя, самой большой радостью было отсутствие полусотни ног на спине и глаз под мышками. Я лежала на кровати, до подбородка укрытая одеялом, и страшно потела. Осмотревшись, я поняла, что нахожусь в своей комнате, где вовсю топится камин, горят все свечи в канделябрах и дышать просто нечем. Да, и под ногами у меня грелка.
Я возмутилась такому количеству жары на единицу меня и попыталась встать, скинув одеяло. Но тут же услышала грозное:
— Лежи! Тебе нужен покой и тепло!
Около моей кровати сидела в кресле Оливия и хмурила брови так, что они были похожи на двух дерущихся гусениц.
— Оливия, ты поэтому решила меня зажарить? Или запечь в одеяле, как сардельку в тесте? Я задохнусь сейчас!
— У тебя было сильное переохлаждение организма.
— Почему?
— Это уж ты мне объясни почему.
— Э?
— Как мне помнится, ты отправилась на кухню за ножом, при помощи которого мы собирались взломать шкапчик с документами.
— Ну, это я помню, шла.
— Потом, по словам кухарок, ты вошла в кухню и не своим голосом попросила их налить стакан теплого молока для госпожи Оливии.
— Ну…
— Получив рекомый стакан молока, ты почему-то осталась стоять на месте, как шурупами к полу привернутая. И перестала дышать. Не реагировала ни на какие вопросы. Когда кто-то из челяди попытался к тебе прикоснуться, то заорат от ужаса, потому что ты была холоднее льда, что в морозильном подполе. И кстати, молоко у тебя в стакане замерзло. И во всей кухне стало намного холоднее.
— Оливия, я не знаю, как это объяснить.
— Лжешь.
Я помолчала. И что мне делать, мессер Софус? Выдать Оливии нашу с вами тайну?
— Хорошо. Оливия, я примерно знаю, что произошло, но пока не могу тебе объяснить.
— У тебя появились от меня тайны, сволочь ты этакая! — Оливия смотрела на меня с настоящей обидой.
— Эта тайна не только моя.
— Ты ведьма? Ты состоишь в ведьмовском сообществе?
— Нет, Оливия, все гораздо сложнее. Пожалуйста, дай мне немного времени. Я должна узнать, имею ли я право посвятить тебя во… все это.
— Я так недостойна? Вот теперь я ощущаю себя действительно полным ничтожеством, раз даже единственная подруга что-то от меня скрывает.
Может, кто-то неразговорчивый и выдержал бы такую пытку и промолчал. А я — увольте, тем более что Оливия в пылу своего бешенства назвала меня единственной подругой.
— Хорошо, я все расскажу, честно, без утайки, — сказала я. — Но сначала я вылезу из-под всех этих одеял, иначе у меня испекутся мозги. Я погашу камин и открою окно — дышать нечем.
Оливия молча следила за моими действиями, но обида с ее лица не сходила. И это было ужасно. Никогда бы не подумала, что эта лысая мерзавка будет вызывать у меня такие муки совести. Я вообще не подозревала, что у меня есть совесть.
Я села на кушетку у окна, с наслаждением вдыхая прохладный, как мятный леденец, осенний воздух. Собралась с мыслями и:
— Все началось еще тогда, когда в пансионе Святого Сердца меня заперли в карцер… Там я впервые встретила мессера Софуса…
Оливия слушала мой рассказ поначалу недоверчиво. Потом обида с ее лица исчезла, глаза загорелись, и вся она стала похожа на охотничью собаку, только что взявшую след. Идею многовариантности вселенных, парадокс времени, существование иных цивилизаций она поняла и осознала так же легко, как и утверждение, что вода — мокрая. Кстати, неудачное сравнение — вода имеет три агрегатных состояния, ой, ладно, а то и я запутаюсь.
Я выложила ей все. Вплоть до слов о том, что, возможно, нашу Планету кто-то собирается купить.
— Надо найти эту девицу в розовом, — загорелась Оливия. — И прижать к стенке — пусть сознается, на кого работает. Черная дыра — это все нелепые отмазки. Наверняка в самой глубине этой дыры сидит какой-нибудь мерзкий вселенский мультимиллионер и потирает грязные ручонки. Дрын ему в зад, а не Планету!
— Согласна, — сказала я. — Ставлю сто против ста, что она появится в поместье во время визита теодитора. Суета, суматоха, никто никого не узнает… Она найдет Себастьяно и заберет у него свою туфельку.
— И сделает Себастьяно своим рабом!
— А вот дрын ей, а не Себастьяно! Принципиально! Не позволю, чтоб простого парня с нашей Планеты окрутила какая-то межгалактическая фря!
Часы на каминной полке возвестили, что пришла полночь, а значит, наступил день приезда Его Высокоблагочестия.
— Экселенса, тебе надо поспать, завтра, то есть уже сегодня — нелегкий день. Давай пока отложим в сторону всякие космические проблемы и вернем свои мозги в замок Монтессори. Кстати, ведь завтра и его светлость приезжает. Так что, экселенса, давай я провожу тебя до твоих покоев, ты пообещаешь мне, что ляжешь спать, а не примешься немедленно искать вторженку по всему замку.
— Пф! Проводит она меня! Сама докостыляю!
— И точно ляжешь спать?
— Чтоб мне выйти замуж за Юлиана Северянина!
— Верю слову благородной герцогини.
Она встала, подхватила свои костыли и заковыляла к двери. На пороге она обернулась:
— Спасибо, Люци.
— За что?
— А ты догадайся.
Дверь за ней захлопнулась. Я догадалась, и от этого даже немножко захотелось поплакать. Но я решила не тратить время на слезы, а отоспаться. Мне снилось, что наши с Оливией атомы объединились и стали основой какой-то очень, очень далекой галактики…
Проснулась я ни свет ни заря. Нет, я с удовольствием повалялась бы в постели еще пару-тройку часов, но в дверь моей комнаты упрямо стучали.
— Иду, — простонала я.
В комнату ворвалась служанка и принялась трещать, так что ушам становилось больно:
— Вставайте, сударыня! Великий день настал, все уже готовятся, все собираются, одна вы дрыхнете, как суслик в шпинате! Умывайтесь, одевайтесь — вот для вас парадное платье, и чулки, и туфли, и геннин с вуалью, и немедленно ступайте готовить ее светлость к визиту высокого гостя!
— Она уже наверняка сама приготовилась. Она у нас герцогиня быстрого приготовления.
— К ней стучались, но она кричит, что только своей компаньонке она позволит одеть ее, как подобает.
— Все, все, уже иду. Геннин я после приколю.
— Я пока приберусь в вашей комнате. Вдруг высокий гость захочет осмотреть все комнаты в замке!
Наивная…
Оливия впустила меня в свои покои, находясь в самом лучезарном настроении.
— Ты сияешь, как новая монета номиналом в двести флоринов, — сказала я ей.
— А че б мне не сиять-то? — язвительно ухмыльнулась она. — Приезжает возлюбленный папаша, везет с собой всякую почтенную публику — праздник к нам приходит! И ради этого я впервые за много лет надену самое настоящее платье и даже геннин.
— Вы будете украшением торжества, экселенса.
— Да, и тебе тоже придется, не надейся увильнуть. Главное — обращай внимание на публику в розовом. И за Себастьяно следи. Он со своей туфлей неразлучен, мало ли что она ему прикажет вытворить…
Облачать в торжественный наряд Оливию было крайне сложно, тем более что обе мы понимали, насколько глупо выглядит эта показная торжественность. Уж в чем в чем, а в ненависти ко всяким регламентам, правилам и распорядкам мы были с нею едины как никогда.
В платье с кринолином и пышными рукавами, затянутая в корсет, чулки и туфли, Оливия выглядела чудовищно. Собственно, я была не лучше. Торжественные платья были неимоверно неудобными, тяжелыми и колючими из-за обилия парчи, бисера и подвесок из драгоценных камней. При каждом шаге они гремели, как жестяные ведра, в них невозможно было сидеть и уж тем более — справить нужду. Когда даме в торжественном кринолине приспичивало так, что беда, ее эвакуировали с мест торжества в особую комнату, где юркая служанка подныривала под подол с горшком. Полагаю, фасон этих платьев был разработан в аду. Как и фасон головного убора, кстати. Я уже объясняла ранее, что такое геннин. К волосам он крепился при помощи полусотни заколок и зажимов. К нашим лысым головам его можно было или приклеить, или прибить гвоздями, чтоб уж навсегда. Однако на то мы и Оливия Монтессори, и Люция Веронезе, чтоб не склоняться под ударами судьбы. Щипцами для бровей я провертела в каждом из геннинов по паре дырок и привязала к ним широкие ленты. Нахлобучив проклятые конуса на голову, мы завязали ленты под подбородком, и геннины держались как влитые. Главное — за дверные косяки ими не задевать.
— Мы похожи на два фрегата с маяками на грот-мачтах, — сказала я.
— Слышь, грот-мачта, — шмыгнула носом Оливия, — а костыли мне к чему крепить — к ватерлинии?
— На сегодня твоими костылями буду я. Я уже продумала особую систему поддержки. И возрадуйся — наши мучения в этих жестяных гробах продлятся недолго, только на время торжественной встречи.
Громыхая старинной парчой и звякая бриллиантовыми подвесками, герцогиня Оливия Монтессори с компаньонкой в кильватере вышла во двор замка. Все благородное население Кастелло ди ла Перла уже было тут, разделенное на две половины широкой ковровой дорожкой от въездных ворот до парадных дверей замка. Фигаро, благородный как никогда, указал Оливии (значит, и мне) место, где она должна стоять, быть представленной гостю и совершить положенный поклон. Фигаро, да благословит Исцелитель его добрую душу, расположил нас в приятной тени, снабженной легким сквознячком, тогда как всем остальным дамам и господам пришлось терпеть довольно жгучие лучи осеннего солнца. Мы с Оливией сверху вниз смотрели на озеро качающихся геннинов и без устали работающих вееров и просто наслаждались моментом. Через несколько минут все услышали скрежет цепей подъемного моста. Еще две минуты — и отворились тяжелые, окованные полосным железом ворота замка. В воротах показался всадник на взмыленной лошади:
— Едут! — завопил он. — Едут!
И свалился с коня без чувств. Его немедленно унесли отпаивать ледяным пивом, коня же увел главный конюх — бедному животному требовались отдых и уход.
Все с напряжением смотрели в огромный проем ворот, и воздух дрожал от зноя. Ранняя осень в Старой Литании — самое жаркое время года, время спелости и жатвы, время праздника Святого Исцеления.
Вдалеке заклубилась пыль. По рядам дам прошел стеклянный звон — они спешно доставали свои Святые Мензурки, чтобы высокий гость осенил их своим благословением. На нижней ступени замковой лестницы стоял Фигаро, строго справа от ковровой дорожки. Его лицо было непроницаемо.
Вот уже вся дорога покрылась пыльным занавесом, вот уже слышны грохот копыт и дребезг колес, вот уже первый всадник в черном плаще и на вороном коне влетел в ворота замка, спешился, отдал узду младшему конюшему и зашагал по алой ковровой дорожке, на ходу снимая шлем и расстегивая дорожный плащ.
— Герцог Альбино, — прошелестело по рядам, начались поклоны-реверансы, но экселенс не обращал на них внимания. Он бросил на руки подбежавшему слуге плащ и шлем и подошел к Фигаро.
— Надеюсь, все готово для достойного приема высокого гостя, — негромко сказал герцог Альбино, но все его услышали.
— Да, ваша светлость, — еще тише ответил Фигаро, но его тоже услышали все.
Герцог стал в центре алой дорожки. Вдруг налетел ветер, и его длинные белоснежные волосы затрепетали как знамя. Ветер взметнул вуали дам, сунулся под жестяные кринолины, словом попытался нарушить торжественность момента, но кринолины победили, и ветер помер посреди их жестяных оков.
В воротах показалась процессия, которую я не забуду, даже если мой мозг усохнет и станет размером с лесной орех. Впереди, сплошь закованные в сверкающие латы, строевым шагом шли священные гвардейцы Его Высокоблагочестия. Над их шлемами развевались плюмажи из желтых и черных перьев — цветов священной гвардии города Рома. Примерно посреди дороги они резко остановились и рассредоточились по всей длине ковровой дорожки с обеих сторон. В прорезях шлемов не было видно их глаз — только блестящая чернота, но, наверное, не у одной меня создалось ощущение, что эта чернота очень внимательно следит за всем, что происходит вокруг. Спины гвардейцев покрывали плащи — полупрозрачные, блестящие, как слюда, с сетью прожилок. Они напоминали…
— Крылья, — прошептала Оливия. — Это крылья.
Я вцепилась в ее рукав, чтоб она заткнулась, и без ее комментариев все выглядело жутче некуда.
Все вдруг услышали пение. Слов в нем невозможно было разобрать, словно хор цикад вел слаженную однотонную мелодию. Шла процессия святых послушников — существ, полностью закутанных в белые многослойные одежды. Это они пели. И, как показало время, насчет их видовой принадлежности я не ошиблась.
И наконец на алую ковровую дорожку ступили шесть рослых носильщиков, увешанных золотой бахромой. Но при внимательном рассмотрении выяснилось, что под сверкающими нитями находились огромные, до жути огромные богомолы.
— Люци, мне плохо, — услышала я шепот Оливии. — Меня тошнит. Это же…
— Молчи, ради всего святого! Держись!
— Но ты это видишь?!
— Да. Постарайся глубже дышать. Это уймет тошноту.
Носильщики остановились и опустили паланкин на землю. Только теперь я поняла, что высота паланкина в два человеческих роста. На его золоченой крыше щелкнули, отстегиваясь, крепления, и он распался на две половинки, как проросший боб. Только то, что было внутри, к бобовым не имело никакого отношения.
Носильщики и послушники пали ниц. Это словно послужило сигналом к обморокам и коленопреклонениям в толпе гостей. Только герцог Альбино, Фигаро, да еще мы с Оливией твердо стояли на ногах, несмотря на то, что по ковровой дорожке к дверям замка приближался гигант в перламутрово переливающейся мантии и сверкающей тиаре с плотной вуалью.
Герцог Альбино преклонил перед ним колено:
— Добро пожаловать в Кастелло ди ла Перла, ваше Высокоблагочестие.
В ответ послышалось низкое, глухое жужжание. Из складок мантии выпросталось что-то наподобие сухой корявой ветки и коснулось головы герцога.
Монотонно пели святые послушники. От священных гвардейцев пахло разоренным ульем. Его Высокоблагочестие ступил под своды замка.
Я поняла, что Оливия давно уже находится в глубоком обмороке и только мои руки не дают ей упасть.
Один из носильщиков священного паланкина оторвал другому голову. Я надеюсь, что кроме меня этого никто не заметил: гвардейцы быстро оцепили паланкин, а у гостей хватило ума поскорее ретироваться под своды замка и благочестиво попрятаться по своим комнатам.
Глава двенадцатая Свобода, равенство и тыква
Созерцание красот природы возвращает душевное равновесие.
Любуйтесь полями свеклы и турнепса, и будет вам счастье.
Из проповедей Его Высокоблагочестия, т. 370Ваше Высокоблагочестие, позвольте вам представить мою единственную дочь Оливию. А это ее компаньонка Люция Веронезе.
— Оч-ш-шень, оч-ш-шень приятно.
Оливия и я склонились перед теодитором. Ишь ты, все-таки звуки, похожие на человеческую речь, он может издавать.
— Ваше Высокоблагочестие, угодно ли вам проследовать в ваши покои для отдыха или вы сначала выступите перед публикой с проповедью?
— Нет. Отдохнуть. Сначала — отдохнуть. Крыш-ша?
— Да, ваше Высокоблагочестие. Там же сервирован обед для вас. Мой мажордом проводит вас по лестнице…
— Зач-ш-шем лестница? Я не люблю замкнутых помеш-щений. Я уж-ж-ж на свеж-ж-жий воздух…
В оцеплении из святых послушников, святой теодитор вышел из замка. За ним последовала некоторая толпа благочестиво настроенного населения (и мы) и стала свидетелем чуда. Его Высокоблагочестие распахнул свою перламутровую мантию как крылья (почему как, это и были крылья) и с жужжанием взлетел на крышу замка. За ним, треща прозрачными крылами, взлетели священная гвардия и послушники. Обживать чердак, надо полагать.
— Они вознеслись, — благоговейно прошептала одна из дам. — Воистину они не такие, как мы, грешники!
То, что они не такие, — и ежу понятно, и греховность или праведность здесь ни при чем, хотелось сказать мне, но тут подошел Фигаро:
— Его светлость ожидает вас в своих покоях через полчаса. Он также отметил, что торжественный прием окончен и вы можете переодеться в более удобную одежду. Лосины исключены.
— Понятно, — сказала Оливия. — С чего это папаша так заторопился меня увидеть?
Вопрос, как вы понимаете, был риторический.
Мы с огромным наслаждением переоделись. Оливия все-таки нацепила лосины, но зато туника у нее была до самых пят, да еще со шлейфом, так что в целом она производила впечатление очень благочестивой паломницы к какой-нибудь святыне. Да что уж там — главная святыня жужжала на крыше замка!
Я надела простое платье цвета спелой сливы, отороченное кружевами темно-красного цвета. Протерла влажным полотенцем лысину и решила, что выгляжу скромно и со вкусом.
Когда мы вошли в покои герцога, он стоял у окна и смотрел на расстилавшиеся вдали вересковые пустоши.
— Ваша светлость, — сказала я. — Прибыла герцогиня Оливия…
Он повернулся к нам. Лицо словно высечено из мрамора, ни одной эмоции.
— Садитесь, — он указал на кресла, а сам пристроился на углу своего огромного письменного стола.
Повисло неловкое молчание. Герцог рассматривал нас, я, опустив глаза, разглаживала складки платья, а Оливия принципиально смотрела отцу прямо в глаза.
— Оливия, ты выглядишь посвежевшей, у тебя здоровый цвет лица, — начал герцог. — Видимо, это заслуга твоей компаньонки.
— Никоим образом, ваша светлость, — поспешила отмазаться я. — Просто герцогиня ведет активный образ жизни. Например, мы очень бурно готовились к встрече с Его Высокоблагочестием, да что мы, все обитатели замка внесли посильный вклад в подготовку к этому торжеству.
— Для этого вы, Люция, и обрили голову? В порыве благочестия? Или просто за компанию с моей дочерью?
— Ваша светлость, но ведь Исцелитель в своих проповедях нигде не запрещал женщине брить голову. И установки насчет мужской одежды — это уже святая юстиция придумала.
— Жужжат, — вдруг тихо сказал герцог и посмотрел на потолок. — Жужжат.
— Наверное, их все устраивает, мессер отец. Жужжание звучит оптимистично. Вы позволите мне вопрос, мессер отец?
— Спрашивайте, дитя мое.
— Мы уже поняли, что священные гвардейцы — это осы. Ну, или шершни. У них и цвета на плюмажах…
— Верно.
— Послушники — это цикады.
— И сверчки. И, кажется, комары.
— А Его Высокоблагочестие…
— Хрущ. Гигантский жук-хрущ.
— Мессер отец, вы очень бледны. Все ли в порядке с вашим здоровьем?
— Мое здоровье сейчас заботит меня менее всего. Оливия, ты…
— Люция ежедневно делает мне укрепляющий массаж. Я очень хорошо себя чувствую.
— Я рад.
Ну как с трупом разговариваем!
— Все ли в порядке, ваша светлость? — вклинилась я.
Он дернул щекой.
— Все в полном порядке, Люция. Мы разорены.
— Отец?
— Мы разорены, Оливия. Мы нищие. Замок, земли — все это уже не наше.
— А чье?
— Святого престола и святой юстиции.
Герцог достал из ящика стола плоскую бутылку чистейшего яванского рома, вынул пробку и принялся пить прямо из горлышка. Тут-то я и поняла, что конец всего — во всяком случае в Кастелло ди ла Перла — не за горами.
Мы с Оливией переглянулись. Первой заговорила она:
— Как ваша дочь, я имею право знать причину, послужившую разорению рода Монтессори. Вы проиграли поместье в карты? В ма-цзян?
— Да оторвитесь вы от бутылки, ваша светлость! — заорала я. — Ведите себя достойно!
Герцог поставил бутылку на стол и вытер рот кружевным рукавом. Глаза у него были злые и трезвые.
— Милле грацие, дражайшая Люция. Я недаром выбрал вас в компаньонки к моей дочурке. Должен сознаться, что я несколько предвосхитил события. До конца года поместье Монтессори по-прежнему принадлежит мне и Оливии. То же касается и моих вкладов в банке. Однако если в первый день нового года я не предоставлю Святому престолу то, что так опрометчиво поклялся предоставить, — все мы оказываемся на улице.
— Что же такое вы пообещали этому хрущу, что оно столь невыполнимо? У нас есть целых три месяца, у нас есть слуги, у нас есть мы — давайте объединимся и исполним вашу клятву!
— Какой стыд! Какой стыд, — герцог Альбино ломал руки. — Лучше б я и впрямь проигрался в карты или спустил состояние со шлюхами!
— Конечно, — скептически протянула я. — А головой подумать не пробовали? Что вы натворили, ваша светлость?
— Мне стыдно об этом говорить.
— Ничего, нам можно, мы свои.
— Это самая большая ошибка в моей жизни!
— Вы нас уже заинтриговали, ваша светлость, так что мы готовы ко всему.
— Хорошо. Все началось еще на приеме у короля. Осенью его величество традиционно дает бал для всякой шушеры вроде меня — поэтов, писателей, художников, скульпторов, архитекторов…
Шушера, надо же!
— По-галльски это называется «бомонд», — влезла Оливия.
— Ага. Бал для бомонда проходит по одному и тому же распорядку: сначала король благодарит нас за творческий труд во славу Старой Литании; тем творцам, что уже дышат на ладан, раздают памятные медальки и позволяют пожать королю руку; традиционный тост за здравие его величества и процветание Литании; король уходит к себе, и начинается самое веселье. Кто-то танцует в бальной зале, кто-то нажирается дармовыми деликатесами (в основном писатели из глубинки), а кто-то, как и ваш покорный слуга, с умным видом ведет беседы о судьбе культуры в Старой Литании. И вот надо мне было вступить в перепалку с тем юным засранцем!
— Каким?
— Да Юлианом Северяниным, вы ж все его знаете!
— Ну да, он ваш поклонник, разве что пятки вам не целует… Кстати, что-то давно его не видно.
— Сей оборотистый юноша решил положить свою гениальность, как он сказал, на службу святой юстиции и всему Святому престолу. Он публично раскритиковал мои стихи за то, что они слишком оторваны от жизни и недоступны простому народу.
— Где святая юстиция и где народ?
— Девочки, ну разве вы не понимаете — это тактический ход. Юлиан просто смешал меня с грязью — при помощи слов, конечно. Мол, я могу писать только о серебряных розах, прекрасных незнакомках и прочих далеких от действительности красотах. А вот он — Юлиан — понимает, что Святому престолу ближе простота и обыденность повседневности, и в ней Его Высокоблагочестие видит истинную гениальность. И тут же Юлиан похвастался тем, что написал венок сонетов, посвященный липовому меду, и Его Высокоблагочестие оценил этот венок и назначил Юлиана своим приближенным поэтом. А потом я узнал, что Юлиан принял монашество, вступил в орден хранителей истинной культуры под патронажем Его Высокоблагочестия. И пишет оратории, молебны, каноны и прочие произведения религиозного характера. И заодно разругивает всех, кто ничего подобного писать не намерен. Ну и пес бы с ним, но однажды меня вызвали в покои теодитора. Там был и брат Юлиус.
— Юлиус… — прошептала я. А ведь производил впечатление нормального человека…
— В присутствии теодитора брат Юлиус заявил, что мои стихи обладают разлагающим влиянием на умы народа Старой Литании, что в них нет ничего, что прославляло бы нашу страну и ее правителя, что эти стихи далеки от действительности и идеологически вредны. Он привел много цитат, перевирал их, в общем… Ко мне уже подошли священные гвардейцы, чтобы препроводить в тюрьму. И я испугался. Я, девочки мои, из трусов трус.
— Это мы еще посмотрим, — сказала Оливия.
— Сохраняя остатки достоинства, я попросил у Его Высокоблагочестия возможность исправиться. Я сказал, что принимаю критику и готов писать только такие стихи, которые угодны Святому престолу… Знаете, какой длины жала у священных гвардейцев? С мою руку, и толщина такая же. Они полупрозрачные и видно, как в них клубится вязкий яд…
— Папочка! — Оливия прошептала это, наверное, впервые в жизни.
— Я поклялся, что к концу года предоставлю престолу стихи и поэмы на темы, которые Его Высокоблагочестие изволит мне дать.
— И что это за темы?
— Их озвучил брат Юлиус. Он предложил мне написать обо всех овощах и фруктах, произрастающих в Старой Литании. Это ведь так патриотично! И близко к народу. И поощряет производство отечественных продуктов. Я подписал договор, обязуясь предоставить стихи к концу года либо расстаться со всем имуществом в пользу Святого престола. Но время идет, а я не выдавил из себя ни строчки. Я не могу писать о клубнике, редисе и тыквах!
— Ну, мы с Оливией можем попробовать.
— Ах, милые девочки, в договоре есть пункт, запрещающий мне пользоваться помощью других поэтов, поклонников и тем более родственников. Вы что, думаете, весь этот инсектариум прибыл сюда Святые Мензурки благословлять? Они будут следить за мной. Уже следят.
— И хрущ? Тоже будет здесь все это время?
— Нет, он только осмотрит мои владения — ведь брат Юлиус уверил его, что с задачей мне не справиться и Его Высокоблагочестие уже может считать поместье Монтессори своим. А там кто знает — может быть, он решит остаться насовсем. Ведь я действительно не могу выполнить условия этого договора. Единственное, что мне еще подвластно: избавить вас и самых близких слуг от этой жужжащей беды: Оливия, я передам тебе драгоценности твоей покойной матери, с вами будут Фигаро и Сюзанна, и вы немедленно уедете из поместья. Фигаро отвезет вас к одному из моих старых друзей — он судовладелец. Вы сядете на корабль и покинете страну. Мне очень жаль. Я все сказал.
— Но, ваша светлость! — воскликнула я.
— Уходите, — герцог так посмотрел на меня, что я только обняла Оливию, и мы вместе вышли из покоев низложенного короля поэтов.
В парадной зале был сервирован праздничный обед, там уже вовсю шел пир, провозглашались тосты, пелись гимны, но нам было не до этого.
Вернувшись в покои Оливии, мы уселись друг напротив друга и принялись думать о грядущей беде.
— Люци, ты ведь тоже можешь сочинять всякие стишки.
— Могу, но ты же слышала условие — герцог должен писать сам, и за ним наблюдают. Постоянно.
— Мы можем передавать ему стихи тайком — например, запеченными в булочках. Он быстренько разворачивает бумажку, запоминает и записывает стих так, будто он его автор. А потом съедает бумажку…
— Оливия, для детского приключенческого романа это еще прокатит, но здесь и сейчас…
И мы безнадежно затихли.
— Даже не знаю, о чем мне больше жалеть: о позоре отца или о потере поместья, — сказала Оливия. — Знаешь, именно сейчас я могла бы отвернуться от него, как он всегда отворачивался от меня. Отомстить презрением и холодностью за все прошедшие годы. Но мне этого совсем не хочется. Он выглядел таким жалким…
— Нет, ты не права, он не был жалким! Просто его срубили под самый корень…
— Ага, как новогоднюю тую…
— Оливия, теперь мы все — товарищи по несчастью. Нужно поговорить с Фигаро и Сюзанной. И еще я хочу предложить герцогу разогнать всех родственничков-объедал. А то это просто пиршество на костях. Только пусть они не знают истинного положения дел. И еще — если мы пойдем в библиотеку и сделаем список овощей и фруктов, произрастающих в Старой Литании — это ведь не прямая помощь? Не думаю, что в нашей стране растут миллионы видов всякой съедобной вкуснятины.
— Но сотня названий — это точно. Слушай, надо подать эту мысль отцу. Пусть он сам сделает такой список. Лучше не рисковать, если за ним наблюдают…
В дверь постучали.
— Не заперто, входите, — замогильным голосом сказала Оливия. Настроение у нее упало ниже уровня горизонта.
Вошел сам Фигаро. Я никогда не видела на его лице такого выражения — отвращение вместе с тщательно скрываемым страхом. Но это выражение предназначалось не нам.
— Ваша светлость, вам следует немедленно выйти во двор замка. Остальные гости уже там.
— А что за очередная радость нам ниспосылается?
— Его Высокоблагочестие изволит произнести проповедь с крыши замка и благословить свою паству. Поторопитесь. Гвардейцы уже оцепили периметр. И давайте без глупостей, девочки, ладно?
Какие уж тут глупости.
Мы вышли во двор, где объевшаяся за праздничным столом паства, благочестиво взирала на крышу замка и кружащихся возле башен священных гвардейцев. Гвардейцы были без лат. Высота замка, конечно, немного скрадывала их истинные размеры, но все равно выглядело это как иллюстрация к какой-то очень страшной сказке, где много гигантских ос и наполненных ядом жал.
Его Высокоблагочестие изволил выйти на парапет. Его перламутровая мантия (она же крылья) была развернута и красиво трепетала на ветру. Тиара сверкала множеством бриллиантов. Плотная вуаль, видимо, была сделана из очень тяжелого материала, потому что она не шевелилась. По обе стороны от теодитора встали святые послушники, к счастью, они все еще были задрапированы белыми одеждами, а то ну совсем ужас.
Священный хрущ воздел передние лапки и заговорил:
— Возлюбленные во Исцелителе братья и сестры!
Голос у него был необычайно чистый и громкий. Ясно, что насекомое просто не смогло бы извлечь из себя такие чистые звуки. Значит, за спиной великого Жука стоял человек и произносил заученный текст. Я этому человеку сразу посочувствовала. Или… Жуку вживили голосовые связки человека… Ужас… Меж тем замковый двор смолк и благоговейно внимал речи:
— Прибыв сюда, я знал, что обрету среди всех вас истинную веру, преданность, благочестие и смирение. И зная это, я решил сегодня рассказать о свободе и равенстве. Вы, люди, часто употребляете эти слова, не понимая, какой истинный смысл за ними кроется. Как изложено в текстах святой юстиции, именно Исцелитель, возродивший жизнь на нашей погибающей Планете, провозгласил, каковы истинные свобода и равенство. Свобода — это возможность быть или не быть, верить или не верить, делать или не делать. Эту свободу имеет всякое живое мыслящее существо. Но, как дальше учит нас святая юстиция, истинно разумное существо должно добровольно следовать свободе быть, верить и делать. Есть, молиться и любить. Ну и так далее. Потому что именно такое поведение разумного существа ведет нас к процветанию и совершенству. Помните, никто не смеет вас к чему-либо принуждать. Святая юстиция только мудро напоминает, что главная добродетель свободы — это осознанная покорность тем, кто точно знает, как вести вас к процветанию. Каждый из вас также имеет представление о том, как немощна человеческая плоть и прихотлив разум, способный ввергнуть человека в самые страшные грехи и преступления. Но есть мы — Святой престол и святая юстиция, и мы со времен Исцелителя взяли на себя тяжкое, но почетное бремя направлять вашу свободу к вашему же благу и пользе. Именно мы храним человечество от бед, болезней и несчастий, принимая удар на себя. Чего же мы требуем взамен? Лишь любви и понимания. Доверия и крови, простите, оговорился — красоты, конечно же, красоты отношений меж вами и нами. Вы свободны, а свободу эту обеспечиваем мы. Но мы никогда не ставили себя выше, чем вы. Мы равны во всем: в желании жить и размножаться, например. Когда я говорю о равенстве, то вспоминаю слова моего предшественника: «Истинная мудрость — слушать мудреца, истинная свобода — зависеть от сильнейшего, истинное равенство — помнить, что всегда найдется тот, кто выше тебя во всем». Все ли вам понятно в моих словах, братья и сестры?
— Да! Да! — отозвались все, кто стоял вокруг нас. Я огляделась: людей будто опоили словами теодитора. Некоторые бились в экстазе. Некая дама, простирая руки к Хрущу, вопияла: «Возьми мою свободу, Святейший, возьми мою жизнь! Я вся твоя!» Ее увели с площади — уж очень сильно орала.
Мы с Оливией переглянулись. Интересная получилась проповедь у священного Жука.
— Надеюсь, он закончил? — пробормотала Оливия. — А то мне надо реализовать свою свободу в ближайшей уборной.
— Терпи. Ты же свободная личность и имеешь право терпеть. А в уборную за тебя сходит кто-нибудь из приближенных Его Высокоблагочестия.
Мы уж хотели рассмеяться, но тут вокруг нас стал нарезать круги весьма крупный комар, мы перепугались и тоже изобразили религиозный экстаз с воплями: «Да здравствует Его Высокоблагочестие! Слава тем, кто следит за нашей свободой!»
Вдруг снова воцарилась тишина.
— Я хотел еще вот что сказать, — изрек Его Высокоблагочестие. — Примером свободы и равенства можно назвать обычный, но столь прекрасный и полезный овощ, как тыква. Давайте поговорим о тыкве, дорогие братья и сестры! Взгляните на ее совершенную форму — форму шара. Тыква не имеет ни начала, ни конца — она в любой своей точке равна себе самой. Так же она равна другим тыквам на грядке. А о равенстве тыквенных семечек и говорить не стоит — все они равны и одинаково полезны. И каждое из этих семечек имеет свободу прорасти и стать новой тыквой, равной другим тыквам. Вот истинный пример свободы и равенства! Если бы я обладал поэтическим даром, то написал бы целую поэму о тыкве, как квинтэссенции добродетелей. Впрочем, здесь все не так печально. Недаром мы находимся во владениях великого поэта Старой Литании — герцога Альбино Монтессори! Его талант несомненен, и он во славу страны и Святого престола дал торжественную клятву написать поэму о каждом овоще и фрукте, произрастающем в Старой Литании! Вот это, я считаю, очень правильная и полезная поэзия…
— Считает он, — одними губами проговорила Оливия. — Хрущ безмозглый!
Я перепуганно дернула ее за рукав:
— Молчи!
В это время толпа вокруг нас рукоплескала и рыдала от счастья. Еще бы, ведь им открылся новый взгляд на такие «правильные и полезные» вещи!
— Ступайте же, братия и сестры! — возгласил Его Высокоблагочестие. — Ступайте в огороды и на плантации, и поучайтесь там истине великой свободы и равенства. Проповедь окончена.
Хрущ сомкнул свои крылья и ушел вглубь крыши, окруженный крылатой гвардией. А комары, крупные, с ладонь, и многочисленные, заставляли всех убираться в замок.
Герцога Альбино в его кабинете не было. Встретившийся нам слуга сказал, что его светлость и Фигаро изволили пойти в оранжерею.
— Я думаю, мы им не помешаем, — сказала Оливия.
Герцог сидел на подвесной скамье, пьяный в дымину. Фигаро стоял рядом и не давал герцогу раскачиваться, видимо, из опасения, что окружающим скамью кустам роз придется несладко.
— О, — криво улыбнулся нам герцог. — Мои лысые девочки пришли. Ну что, как вам проповедь? Я уже решил, что первая моя поэма будет называться так: «Истинная Тыква».
— Фигаро, не могли бы вы еще раз сменить замки на винных погребах? — спросила Оливия. — Я никогда не видела, чтоб отец напивался до такого состояния.
— Сменю, герцогиня, — отозвался Фигаро. — Уже послал за слесарем.
— Фигаро, я хозяин поместья — пока! — погрозил пальцем герцог. — Я не позволю вам лишать меня тихой радости глубокого алкогольного опьянения. Уходите — все! Я посвящу свое время тыкве, редису, абрикосам, дыням… А грейпфруты в Литании растут?
— Нет. Гранаты растут.
— Да! Именно! «Поэма о гранате»:
На что мне Гренада и свист соловья?
Граната, граната, граната моя!
— Фигаро, вам помочь отвести его светлость в спальню и проследить, чтобы он погрузился в глубокий, целительный сон?
— Я справлюсь, милые дамы, — улыбнулся Фигаро. — И буду стеречь его сон. Я уже приготовил особый отвар трав, который очень хорошо помогает от похмелья.
— Пусть он проспит до завтрашнего утра.
— Да, герцогиня.
Большой зал был пуст, по галереям никто не сновал — неужели и впрямь герцогские гости ринулись на ближние огороды постигать истинное равенство и глубокую свободу?
— Постигать суть тыквы и сокровенный смысл огурца — это реально круто! — сказала Оливия, вспоминая словечки, от которых я, как мне мнилось, ее уже давно отучила. Но вот снова…
— Сволочи они все! — зло сказала Оливия.
— Кто?
— Да родственнички! Сожрали все, что было на столе, как еще скатерть и тарелки не тронули. А у меня живот подводит от голода. Никто не позаботился о том, чтобы герцогиня Монтессори хотя бы поела!
— Я позабочусь. Идем на кухню. Там нас не обидят. И я покажу тебе как минимум двух поварят, которые испытывают к тебе самые нежные чувства.
На кухне нас немедленно усадили за стол и подали роскошный обед, в котором возлюбленному нами салату оливье было отведено почетное место.
— Мы за вас очень переживаем, ваша светлость, — сказала одна из кухарок. — Все эти гости с приездом Его Высокоблагочестия совсем обнаглели: ведут себя как захватчики. Вон, Антонио, младший лакей, поймал баронессу Розанетти на воровстве полотенец для ног и пяти серебряных соусников!
— Да они все воруют, эти благородные! — загомонили служанки. — И гобеленов недосчитываемся, и ваз, и каминных украшений…
— А я недосчиталась двух бутылей со средством для мытья полов! Ну ничем не брезгуют! — заявила младшая горничная. — Словно они крысы, а наше поместье — тонущий корабль!
— Значит, надо сделать что-то, что прогонит всех этих крыс и надолго отучит стучаться в двери герцогства!
— Да, госпожа, но вы сначала покушайте. Вот ваше любимое — запеканка с грибами…
— А можно нам с Люци вина? Ну хотя бы разбавленного?
— Пожалуйте.
Слуги стояли вокруг нас — растерянные и подавленные.
— Что вас так напугало? — спросила Оливия.
— Это правда, что святой теодитор и все его послушники и гвардейцы — насекомые?
— Да, — ответила я. — Вы же своими глазами видели. Гигантские, разумные насекомые. Их называют инсектоиды. И они господствуют над человечеством, потому что лучше умеют выживать и попросту до чертиков уродливые и страшные. Неужели вы не знали об этом раньше? Об этом же во всех букварях написано — существует раса, которая с любовью заботится о человечестве и много сил жертвует на то, чтобы человечеству хорошо жилось.
— Ну, мы думали, что это какие-то типа древние бессмертные люди. Или жители других планет. Ангелы…
— Нет. Это инсектоиды. И хватит об этом, а то аппетит пропал. Думайте лучше о том, как поскорее выставить герцогских нахлебников из замка.
— А давайте я заболею ветрянкой, — предложила Милли, юная горничная. — Я ею уже болела, так что могу очень правдиво притвориться.
Все согласились. Решили, что с кухни начнется ветряночная «эпидемия». А я вдруг подумала, что Милли сказала удивительные слова, и вся наша жизнь проходит в обучении умению «правдиво притворяться».
Тыквам в этом плане проще. И поневоле им, оранжевым, позавидуешь.
Глава тринадцатая Муза для страдающего гения
Иногда мне кажется, кто я совсем не понимаю этот мир.
Но благодаря святой юстиции, это быстро проходит.
Из проповедей Его Высокоблагочестия, т. 117Прошло три недели, как Его Высокоблагочестие гостил в замке. За это время коренное население поместья провело масштабную операцию под названием «Салют, я ветрянка!». Слуги и горничные, густо усыпанные зелеными точками лечебной тинктуры, ежеминутно почесывающиеся и издающие тошнотворные стоны, так напугали любителей пожрать на дармовщинку, что из родственников остался только Себастьяно Монтанья. Он, оказывается, ветрянкой переболел в детстве и теперь ничего не боялся. Но мы, собственно, и не хотели, чтобы Себастьяно смылся. Как вы помните, он стал носителем паразита — живой стеклянной туфельки из какого-то там подпространства.
Этот симбиоз в корне переродил Себастьяно. Из тупицы, обжоры и похотливого кобеля он превратился в элегантного кавальери, целыми днями просиживающего в библиотеке и изучающего серьезную литературу. Пить он бросил и иногда так глубоко уходил в себя, что это выглядело устрашающе.
Мы тоже основное время проводили в библиотеке. Благодаря нам на рабочем столе герцога воцарился «Полный атлас овощных и фруктовых культур Старой Литании». Оливия шепнула про атлас Фигаро, Фигаро намекнул герцогу во время бритья, и вышло, что его светлость как бы сам вспомнил о старинном атласе и пришел за ним в библиотеку. Наблюдатели в черно-желтую полоску вряд ли уловили всю хитрость нашего маневра. Поскольку на чердак ежедневно подавались чаны с медовухой, забродившим вареньем с щедрой долей имбирного ликера «Три топора», гвардейцы несколько разъелись, стали тяжелы на крыло и слабо контролировали наше поведение.
Его Высокоблагочестие ежедневно произносил проповедь оставшимся в замке представителям человеческой расы. Примером святой и благочестивой жизни он брал то картофель, то брюкву, то бабочек-однодневок. Потом Хрущ завтракал (бесперебойная подача варений, пастил, джемов и тухлых яиц) и совершал облет угодий герцогства. За ним вечно увязывались послушники в качестве звукового сопровождения.
Фигаро и Сюзанна выглядели крайне печальными. Оно и понятно: у великого поэта творческий кризис, и выхода из него не видно, а время идет, и значит… Ну, вы понимаете. Мы с Оливией тоже впали в некое оцепенение, и толку от нас было мало. Прямо сказать, опустили руки, скисли и растерялись — глаголы, к нам ранее не имеющие ни малейшего отношения. Но, на наше счастье, в поместье появился враг, на которого можно было излить весь праведный гнев и заодно воспламениться желанием немедленно исправить сложившуюся ситуацию. Ранними порывами трамонтаны к нам занесло благочестивого монаха Юлиуса. Известного ранее как родовито-нагловатый поэт Юлиан Северянин.
Да уж, благочестивая жизнь изменила его так, что поначалу мы его и не узнали. И лицом и телом он напоминал постную булочку из гречишной муки. Глазки опущены долу, ручки сложены поверх белого балахона, длинные кудри скрывает капюшон — подлинный пример святой жизни среди праведных и безгрешных насекомых.
Явился он под вечер. Уже почти стемнело (осенью сумерки — ранние), когда он постучался в ворота замка. Слуги, впустившие его, даже не узнали в сем бледном мотыльке прежнего задиру, забияку и острослова с яростно сияющими очами. Лишь Фигаро — глаз-алмаз — быстро понял, кто перед ним. Его балахонами не проведешь.
— Добрый вечер, мессер Юлиан…
— Я теперь смиренный брат Юлиус, дорогой Фигаро, — проблеял гость. — Найду ли я здесь скромный приют и прежнее гостеприимство?
— Разумеется, брат Юлиус, только соблаговолите сообщить, насколько скромны должны быть ваши покои. Сеновал, конюшня, кладовая для метел?
— А что, моя комната занята?
— Нет, новы…
— Приготовьте мне мою комнату, — с металлическим смирением в голосе потребовал брат Юлиус.
— Как будет угодно, — склонил голову Фигаро.
Брат Юлиус вошел в зал, осмотрелся. Все украшения, коими мы когда-то расцвечивали строгую обстановку замка, давно были сняты. Наиболее ценные гобелены рачительные служанки загодя скатали и попрятали по кладовым, дабы у отбывающих нахлебников не возникло желания прихватить их на память. Сервизы из редчайших сортов фарфора, золотые и серебряные безделушки — всё попрятали в лари и сундуки под сто замков. Сюзанна проследила за этим лично. Мало того, из обостренного чувства справедливости Сюзанна повелела обыскивать на выходе каждого отбывающего «родственничка». И все равно редкой обсидиановой чаше и старинному письменному прибору из росского малахита приделали ноги. В такой атмосфере, да еще когда над головами кружат здоровенные пьяные осы, даже великий праздник Святого Исцеления прошел тихо, как лекция в анатомическом театре. Вассалы не выкатывали бочки с пивом, не зажигали костер и не зажаривали целую тушу быка, чтоб порадовать своим пьяным видом владетеля-благодетеля. Не было турниров и бала. Крестьяне не устраивали плясок, как обычно, и не выбирали королеву и короля последнего снопа. Среди них тоже быстро разлетелась весть о том, какой беде подвергся герцог Альбино. Оказывается, несмотря на гордый нрав, холодность и чопорность, и вассалы, и крестьяне любили и уважали герцога — он всегда был справедлив к ним, не облагал непосильным налогом и сквозь пальцы смотрел на то, что иногда деревенские парни охотятся на зайцев и косуль в герцогском лесу…
Итак, брат Юлиус осмотрелся.
— Его Высокоблагочестие у себя?
— Да, на крыше. Час назад святой Защитник веры окончил проповедь о целомудрии моркови и удалился на отдых, приказав его не тревожить.
— А герцог Альбино?
— В большой библиотеке.
— Я пойду к нему. Да, и пусть герцогиня Оливия со своей компаньонкой тоже туда явятся.
— Но они…
— Я же смиренно попросил? — брат Юлиус растянул бескровные губы в улыбке. — Или мне надо смиренно приказать?!
— Будет выполнено, святой брат.
— Так-то, — и, подхватив полы белого балахона, брат Юлиус отправился в библиотеку. Очень смиренным шагом с кавалерийской отмашкой.
Мы примчались в библиотеку со всею возможною поспешностью. И узрели картину, достойную кисти великого мастера: кроткий брат Юлиус развалился в кресле, задрав ноги в грязных монашеских сандалиях на письменный стол герцога, а его светлость стоял перед ним прямо, как капитан захваченного пиратами корабля, — бледный, яростный, гордый. Он даже не повернул головы, когда мы вошли, так был сосредоточен на брате Юлиусе его гнев. Зато смиренный монашек сразу нас приметил и разулыбался:
— О, сиятельная герцогиня! Смотрю, вы по-прежнему бреете голову с великой тщательностью, да еще и компаньонку к этому приохотили! А ведь это большой грех для женского пола! Такое непотребство! И куда только смотрит святая юстиция!
— А ты им настучи, благочестивый ты наш, — сквозь зубы процедила Оливия.
— А я напишу донос куда следует, что, будучи мирянином, ты принуждал меня петь запрещенные срамные песни, — осенило меня.
— Какие песни? Когда это было? — запаниковал братец Юлиус.
— Как? А «Только кружка эля на столе»? Дуэтом же пели, одаренный ты наш! Все слуги подтвердят…
— Ладно. Кончай балаган, Люци, — зло сказала Оливия. — Убери ноги со стола моего отца, ты, быдло! Это стол, за которым творит великий поэт!
— Творил. Когда-то, — огрызнулся Юлиус, но ноги убрал. Счастливец. Я уже намылилась в кухню за тесаком, дабы отсечь наглому монашку лишние конечности. — Я что-то не вижу, чтобы герцог Альбино написал хоть строчку.
— А тебя что, подсматривать прислали? Что ты понимаешь в поэзии и творчестве вообще, бездарь! Это такой процесс, такой!
— Ничего особенного в этом процессе нет, — отмахнулся братец Юлиус. — В свое время я прекрасно ознакомился с творческим методом его светлости и не знаю, отчего он медлит с произведениями по заказу Его Высокоблагочестия.
— По заказу даже кошки не плодятся, — рыкнула Оливия. — Отец много работает над темой. Глубоко проникает, так сказать, в суть капусты и яблок. А также кабачков и апельсинов. Это тебе не молитвы тарабанить! Тут мозги нужны!
— Вы, герцогиня, оскорбляете во мне верующего человека. Это очень нехорошо. Вон ваша компаньонка знает, как опасно оскорблять чувства верующих. И помалкивает.
— У меня просто нет подходящих для тебя ругательств, воинствующий ты наш. Что тебе надо от его светлости?
— Для начала хороший ужин, ванну и полноценный отдых. Надеюсь, в Кастелло ди ла Перла еще чтут законы гостеприимства.
— Чтут, — гордо подняла голову Оливия. — Даже если гость — такой вонючий клоп, как ты.
— Ах, Оливия, ты играешь с огнем, так беззастенчиво оскорбляя меня!
— А надо застенчиво?! Щас я покраснею, задрожу и выматерю тебя так…
— Достаточно, — герцог уронил это слово, как камень в пруд с разоравшимися лягушками.
И воцарилась тишина. Мы все смотрели на герцога. Он взял со стола колокольчик и позвонил.
Вошел Фигаро, видимо, не доверяя брата Юлиуса никому из младших слуг.
— Да, мессер?
— Покои брата Юлиуса приготовлены? Ужин, ванна?
— Да, мессер.
— Сопроводите брата Юлиуса в его покои.
Юлиус поднялся, сладко потянулся, как сытый кот:
— Оставляю вас, герцог, наедине с вашими лысыми музами. Помните, что за завтраком вы обещали мне предоставить черновики целых двенадцати стихотворений!
— Сопроводите брата Юлиуса в его покои, — бесстрастно повторил герцог.
— Да, и не калечьте его по дороге, Фигаро, — мы бы сами, — прошептала я, когда дверь за Фигаро и незваным гостем закрылась.
Герцог и мы молчали — каждый в своем коконе отчаяния, гнева, беспомощности. Тут-то я и поняла, что выражение «сорвать ради кого-то пуп» вполне применимо ко мне, и я этот пуп сорву, но предоставлю герцогу нужные рукописи. Как — мое дело, главное сейчас — все сыграть так, чтобы убедить невидимых наблюдателей-жучков, паучков и гусеничек, коих в изобилии с некоторых пор расплодилось по замку, что рукописи уже есть, герцог просто их прячет из соображений собственной безопасности и повышенной скромности.
— Ваша светлость, — осипшим, но твердым голосом заговорила я. — Пусть судьба послала вам испытание в лице брата Юлиуса, это вовсе не повод доводить себя до пределов смирения. Да! Я знаю, куда вы прячете рукописи стихотворений, созданных для Святого престола. Вы считаете их малоталантливыми, слабыми, сырыми и так далее, но я прошу вас, умоляю: представьте их Юлиусу! Пусть он увидит их такими как есть, и я уверена, даже в неограненном виде, каждое из этих стихотворений — алмаз.
— Как вы… — начал герцог, но я не дала ему все испортить:
— Да! Я следила за вами. Ибо для меня всегда было огромным наслаждением исподтишка наблюдать за тем, как вы творите! Как черкаете пером, как мнете лист бумаги длинными, изящными пальцами, как ваше прекрасное лицо озаряется светом вдохновения!
— А-а, — проскрипел герцог, но я еще не закончила:
— Где бы вы ни находились, сочиняя свои шедевры, я таилась рядом, я даже знаю, что вы уже дали общее название этим стихам — «Похвала плодам». Так отбросьте ложную скромность, откройте ваш тайник, достаньте оттуда рукописи, и завтра брат Юлиус будет посрамлен!
— Н-но…
И тут я выдала мощный завершающий аккорд: бросилась на шею своему работодателю с воплями «О, мой гений!» и шепнула:
— Там, где будет белый бант.
Тут же я отскочила, словно устыдившись своего нескромного порыва. У Оливии был разинут рот, как у больной родимцем, да и герцог не производил впечатления человека, обогащенного словарным запасом. Надеюсь, он понял про белый бант! Вот только где я возьму этот белый бант?! И где возьму рукописи стихов об овощах и фруктах, написанные рукой герцога Альбино? И это мне надо сделать за ночь! Но первое — необходимо заставить герцога сделать вид, что он все понял и принял мое предложение.
Слава Святой Мензурке, герцог все-таки был не дурак. А может, он просто ошалел от моих объятий и дал себя увести с ласковыми увещеваниями: «Дорогой мессер отец, позвольте мы с Люци проводим вас в опочивальню. У вас завтра трудный день. Вы выглядите таким утомленным!», «Ваша светлость, вам нужно просто лечь в постель и уснуть. Как говорят в народе россов, утро вечера мудренее, так что отдыхайте, набирайтесь сил!»
Это ж как я могу манипулировать людьми, что здоровенного мужика уломала лечь в постель без чистки зубов и задавания лишних вопросов? И при этом в арьергарде у меня имелась бурлящая вопросами Оливия, у которой с каждой минутой лицо делалось похожим на ядро, только что вылетевшее из жерла фальконета.
Едва мы вышли из покоев мессера Альбино и взяли курс на спальню Оливии, я посмотрела ей прямо в глаза и шепнула:
— Тихо! Иди спать!
И что бы вы себе думали? Я просто адский манипулятор — Оливия онемела. И покорно пошла в свою комнату, немая, как райская рыбка гуппи.
Вот теперь можно было отправиться к себе и подумать, как за оставшееся время написать почерком герцога Альбино двенадцать стихотворений из цикла «Похвала плодам». Конечно, вы понимаете, что с головой у меня полный порядок, и раз уж я взялась играть в эту игру, есть у меня на руках кой-какой козырь. И зовут его мессер Софус. Правда, когда я его зову, он предпочитает не слушать, но тут случай исключительный. Именно поэтому я заперлась в кладовке для метел. Сидя в полной темноте на бочонке с жидким мылом, обоняя пыльный запах половых тряпок и щеточек для чистки ковров, я пришла в такое состояние тоски, отчаяния и всепоглощающего горя, что сама себе порадовалась.
— Ах, — всхлипнула я. — Мессер Софус, где же вы, вы бы меня спасли!
— Интриганка, — через некоторое время в пустоте послышался его мягкий, насмешливый голосок. — Тебе в театре играть. В пьесе «Школа злословия» писателя Шеридана, был такой в одной Солнечной системе. Тоску изобразила так натурально, что в Кривовидной туманности рванули два красных гиганта. Ты так всю метагалактику на пыль пустишь!
— Мессер Софус, как я рада вас… э, слышать!
— Не собираюсь материализовываться в кладовке для метел. Ниже моего достоинства.
— Но здесь нас никто не подслушает! Чулан — это место, где точно нет подслушивающих жучков-паучков святой инсектоидной юстиции! Здесь дустом посыпают!
— Значит, дело секретное?
— Еще какое! Зачем бы иначе я стала вас беспокоить!
— В таком случае, извини, но я материализуюсь у тебя на коленях.
— Это делает честь моим коленям, мессер.
— Что да, то да. Докладывай ситуацию.
Я доложила. Потом хотела еще доложить — для ясности, но мессер уже поднял искрящуюся голубым светом лапку:
— Я все понял. Я знаю, что тебе нужно. Правда, векторы туда расчислять замаешься, и Большое Кольцо сейчас в противовесе, но…
— Но?!
— Что не сделаешь ради хорошего друга! Тем более что ты так дисциплинированно отправляешь мне отчеты о пребывании в замке туфельки-паразита…
— Я. Э-э… стараюсь.
— Ладно. Почеши-ка мне спинку.
— О?
— Мне надо за несколько секунд совершить серию пространственно-временных перемещений, в то время как моя матрица будет находиться по-прежнему у тебя на коленях. А моя матрица очень уважительно относится к почесыванию спинки.
— Я могу и за ушками почесать, и подбородочек…
— Отлично! Приступай и не задавай вопросов. Да, у тебя могут возникнуть слуховые, зрительные или обонятельные галлюцинации. Не обращай внимания. Это все издержки вневекторных подпространств.
— Поняла. Вневекторные подпространства — чего проще!
Я принялась ласково поглаживать и почесывать шелковистую шерстку на спинке мессера Софуса. Кстати, очень приятное ощущение. От его шерстки шло легкое покалывание, особенно когда после бледно-голубого он начинал светиться ярко-фиолетовым или розовым. В какой-то из моментов мне стало страшно: глазки мессера вспыхнули ярким золотом, выскочили из орбит и, держась на тоненьких ниточках, немного покружили в пространстве чулана. К счастью, они быстро вернулись на место и приняли свой обычный вид. После этого в кладовке запахло клубникой и паленой резиной, хотя я сроду не знала, что такое резина, да еще паленая. На стенах моего убежища веерами сияли разноцветные полосы, в прутьях одной из метел вдруг появилась мордочка существа, напоминающего скопище маленьких мыльных пузырей. Неожиданно одна из стен кладовки пропала, за ней оказались заросли огромных растений с сиреневыми листьями и красными цветами, перепрыгивающими со стебля на стебель. Это почти довело меня до состояния острого когнитивного диссонанса, но то, что я непрестанно поглаживала ушки мессера Софуса, вернуло мое сознание к приемлемой реальности.
И как только я поняла, что вполне могу смириться с изобилием галлюцинаций, и это даже забавно, как все кончилось. Мессер Софус перестал сверкать, как новогодняя туя, и слегка задрожал.
— Мессер? — спросила я. — Вы уже тут?
— Место относительно, конечно, — пробормотал мессер, — как и время, но, дорогуша, да, спасибо, основной своей частью я вернулся. Судя по состоянию моей спины, ты ее очень интенсивно поглаживала. Копчик перестал болеть, а ведь шесть веков с ним мучился. Похоже, у тебя есть дар целительницы. Но об этом позже. Изволь, дорогая: вот то, что тебе нужно.
И мессер Софус обеими лапками вручил мне белоснежный кубик матового льда, размером примерно с половину моей ладони. И холоден кубик был, как лед…
— Это… — я не знала, что сказать.
— Это — вещица из очень далекого и нездешнего будущего, — сказал мессер Софус. — Ее изобретет некий инженер-механик, очень мечтающий прославиться, как поэт. Я позаимствовал его изобретение еще на стадии разработки, то есть, по сути, из его головы. Поэтому возможны некоторые сбои в его работе. Головы инженеров — это такие дебри, знаешь ли…
— То есть это предмет?
— Скорее, материализованная идея, наделенная разумом. Механическим, искусственным разумом. Поэтому не жди, что он станет твоим полноценным собеседником. Он задуман для выполнения определенной задачи — сочинения стихов. Его создатель назвал его анапестоном.
— Ух ты! А почему?
— Ну, слушай, мне там было не до того, чтобы доискиваться глубинных причин названия сего изобретения. Хорошо хоть это рабочая модель, до конца продуманная. Но опять же, не без сбоев. Так что тебе придется с ним потренироваться, прежде чем он выдаст нечто достойное.
— У меня только эта ночь.
— Ой, ну время-то я для тебя замедлю, это не проблема…
— А почему он такой ледяной?
— Энергию аккумулирует. Для полноценного функционирования. Потеплеет — значит, работает, процесс запущен. Да, вот еще что: чтобы привести его в рабочее состояние, нужно сказать: «О’кей, анапестон!»
— Волшебные слова?!
— Ой, ну какие волшебные! Техника и волшебство — это как компот и варежки!
— Варежки?!
— Забудь. Неудачный пример для твоей реальности. Так, давай опробуем приборчик. Мне тоже интересно, как процесс пойдет. Давай, говори ему.
— Что?
— Люция, у тебя творог в мозгах, что ли? Слова кодовые говори!
— Простите, мессер, это от волнения. Ладно. Итак… О’кей, анапестон!
Поначалу ничего не случилось. А потом кубик засветился голубоватым свечением и монотонно забормотал:
— Активирован: числа, месяца, года. Место активации: Кастелло ди ла Перла, Старая Литания, Планета, Система Желтого солнца, галактика А-778, кластер 0-12Z. Язык: старолитанийский, западная версия. Прошу авторизации.
— Э? — я глянула на мессера Софуса. Похоже, он тоже был потрясен.
— Назови себя, — прошептал мессер.
— Люция Веронезе.
— Пожалуйста, подождите. Авторизация завершена. Приветствую тебя, Люция Веронезе, я твой анапестон. Перечислить мои базовые функции?
— Что он умеет делать, — перевел мессер Софус.
— Перечисли, — согласилась я.
Зря я это сделала. Хорошо, что мессер Софус растянул время, а то этот прибор перечислял все, что он умеет, не меньше получаса. Правда, из всего перечисленного я поняла только то, что он умеет сочинять стихи на любую тему и на любом языке, правда, только анапестом.
— А почему другими размерами не можешь?
— У меня такая спецификация, — прогнусавил анапестон.
— О’кей, анапестон, сочини стихотворение о пользе моркови. Так… Раз размер — анапест, достаточно пяти катренов, язык — на котором я говорю…
— Старолитанийский, западная подгруппа.
— Верно.
— Пожалуйста, подождите… Готово. Продекламировать?
— Да.
Я не привожу здесь это стихотворение по причине сугубой лености. Стихотворение вышло прекрасное, с богатыми рифмами и отлично выраженной идеей полезности моркови.
— Замечательно, анапестон. Но… Нельзя ли придать твоему стихотворению, как бы это сказать, индивидуальные черты?
— То есть я должен стилизовать текст согласно творческой манере конкретного автора?
— Да.
— Введите имя автора.
— Альбино Монтессори. Герцог.
— Запускаю поиск… Найдено две тысячи сто семьдесят одно соответствие. Какой Альбино Монтессори требуется?
— А их много?!
— Душечка, сама же слышала, — у мессера Софуса дрожали лапки от нетерпения. — Миров множество! И таких Монтессори там тоже может быть немерено!
— Ага. Тогда нужен тот Альбино Монтессори, который правит Кастелло ди ла Перла, живет здесь, в Старой Литании, в настоящее время…
— Коррективы приняты, идет обработка… Найдены все опубликованные произведения Альбино Монтессори, герцога ди ла Перла, Старая Литания. Стилизовать стихотворение о моркови в соответствии с индивидуальными особенностями творчества данного автора?
— Да!
— Выполняю.
Когда прозвучало готовое стихотворение, я просто не сомневалась: оно вышло из-под пера герцога. Из-под пера… Все отлично, но мне нужно, чтобы имелся лист бумаги, на котором почерком герцога будет написано стихотворение! А это как сделать?
Я поделилась своей печалью с мессером Софусом и анапестоном. Оказалось — нет ничего проще: надо ввести базовую молекулярную структуру бумаги, чернил и образец почерка. Проще говоря — нужен кусочек бумаги со стихотворением, написанным рукой герцога. И вот только не надо смеяться над тем, что во внутреннем кармане моего платья оказался мятый лист бумаги с одной из версий стихотворения герцога о внутренней красоте репчатого лука! Подобрала, да. Вытащила из мусорной корзины. Чего такого? Просто хотела ознакомиться, и вообще, лет через двести эта бумажка, может, сотни тысяч будет стоить, как автограф великого мастера! Правда, мне до тех лет не дожить, но суть не в том… И вообще, что я все время оправдываюсь, как будто совершила преступление против всего человечества?!
Я продемонстрировала бумажку анапестону. Он выпустил из своих недр пучок голубоватых лучиков, и они суетливо заползали по образцу материального творчества герцога. При этом анапестон периодически попискивал, что-то бормотал, словно переговаривался со своей внутренней сущностью… Вдруг лучики пропали, а анапестон ощутимо потеплел.
— Чего это он, а? — глянула я на мессера Софуса.
— Внимание, идет процесс материализации, — неожиданно красивым женским голосом сказал анапестон. — Пожалуйста, подождите. Материализация завершена.
И из ниоткуда, из пустоты на ведро с ковровыми щетками спланировал лист бумаги.
— Получилось! — ахнула я.
— Для техники будущего нет ничего невозможного, — снисходительно сказал мессер Софус. — Ну-ка, посмотрим…
Он взял лист и протянул мне. Это был абсолютно такой же лист веленевой бумаги, которой всегда пользовался герцог для сочинительства. И чернила те же, и толщина пера, и почерк — один в один, с характерными закорючками в «т» и палочками под «ш»! И стихотворение о пользе моркови — так, как мог бы написать его только герцог Монтессори!
— Чтоб мне дрыном пирсинг сделали, — обалдевши от восхищения, выругалась я. — Получилось!
Мессер Софус довольно засмеялся:
— И не говори! Голова у того инженера все-таки работает как надо!
— Мессер Софус, — вдруг ахнула я.
— Что, дорогуша?
— Если вы позаимствовали идею анапестона из головы того инженера, то значит, в свое время он его не изобретет?!
— Ну да. Не переживай, изобретет что-нибудь другое, аналогичное. Какой-нибудь сонетофон. Главное, что его изобретение уже приносит пользу человечеству. Ты ведь представительница человечества?
— А то, — с достоинством согласилась я.
— Вот и радуйся. И давай поскорее закончим с этими стихотворениями — все-таки растягивать время — это не самое приятное занятие. К тому же может хлестнуть.
— Что?
— Петля времени. Как тетива лука — тянешь, тянешь, а отпустишь, чтоб все вернулось назад, она хлестнет отдачей. Хроносингулярность — это такая штука.
— Я поняла, я мигом. О’кей, анапестон!
— Нахожусь в рабочем режиме. Какие будут задачи?
— Мне нужно одиннадцать стихотворений. Параметры те же. Только одиннадцать разных тем. Темы сейчас задам. Так: внутренняя красота репчатого лука, яркая индивидуальность свеклы, картофель как идеал смирения, ценность горькой редьки, нежность персика, удивительная сладость дыни, что может быть мягче груши, яблоко как символ единения, многослойность капусты, виноград — источник блаженства, вишня словно поцелуй любимой… Одиннадцать?
— Да, — сказал Софус. — Ну, у тебя и фантазия, дорогуша.
— Задание получил, выполняю… Пожалуйста, подождите… Вопрос.
— Да?
— Следует ли на страницах имитировать помарки, которые были присущи матричному объекту?
— Делай, родной, делай, — милостиво разрешила я.
И «родной» принялся за труд, приятно гудя и потрескивая.
— Мессер Софус, — отважилась я на вопрос, надеясь, что почесывания спинки сблизили нас как никогда. — А каково там?
— Где, дорогуша? — рассеянно откликнулся мессер Софус. Он наблюдал за игрой лучей, испускаемых анапестоном.
— Ну, там, где вы бываете, в пространствах, подпространствах…
— А, ты об этом… По-всякому, дорогуша. И потом, я не так уж много путешествую, как тебе могло показаться. Это и ни к чему. Во-первых, большая часть всего сущего, это, как ни удивительно, — пустота. Иногда это кромешная пустота, иногда — сияющая, но результат один. Мне куда важнее наблюдать за перекрестками миров, имеющих хоть какую-то наполненность. Тогда, бывает, становишься свидетелем удивительных происшествий: энергия становится материей, или наоборот; рождаются и умирают звездные скопления, возникает жизнь. Или, наоборот, гибнет… Опять же, где жизнь, там потихоньку начинает возникать разум, развиваться, осознавать себя… Вот это интересно. А просто так мотаться из мира в мир — это все равно что в огромном чужом доме бродить из комнаты в комнату. Лучше всего, когда в доме есть комната, где тебя ждут…
— Я вас всегда жду, мессер Софус, — тихо прошептала я. — И буду ждать…
Мессер Софус закашлялся и потер лапкой свои чудесные глазки:
— Спасибо, дорогуша. Но смотри: твой анапестон выполнил свою работу!
Действительно, к странице со стихотворением о пользе моркови прибавилось одиннадцать страниц, восхваляющих вышеперечисленные мною плоды Старой Литании. Виват!!!
— Теперь тебе, дорогуша, остается выключить анапестон и подумать, где ты его спрячешь. Да, и положить страницы со стихами так, чтобы герцог завтра, нет, уже сегодня, смог их взять безо всякого удивления на своем надменном лице.
— Да уж, лицо у него… Но как же выключается анапестон?
— Скажи ему: «Спящий режим».
— Спящий режим, анапестон, — послушно сказала я.
Кубик затих, оледенел и перестал светиться.
Я достала носовой платок и бережно завернула в него анапестон. Сунула себе за пазуху. Ощущение, конечно, было такое, словно я сунула туда ледышку. Ничего, буду терпеть. Зато так у меня никто не свистнет драгоценный прибор.
— Женщины всех миров и пространств одинаковы, — усмехнулся мессер Софус. — Будь у нее тридцать грудей или ни одной, все равно самое ценное прячут за пазуху. Ну ладно, давай прощаться.
— Спасибо вам, милый, милый мессер Софус, — я нежно пожала ему лапки.
— Пустяки. Так, давай уж заодно и перемещу тебя из этого чулана в твою спальню, что по дому мотаться, еще нарвешься на какого-нибудь соглядатая.
— Нет, тогда лучше не в спальню, а в оранжерею. Я сказала, что стихи будут спрятаны там.
— Хорошо.
И вот я уже стояла под кроной ценной ало-пупырчатой пальмы в оранжерее. Сквозь стеклянную крышу светила бледная луна. Я осмотрелась. Ночное зрение у меня было так себе, но мы с Оливией бывали в оранжерее весьма часто, так что заблудиться я не могла.
В одном из углов оранжереи стоял стол, на котором садовник хранил горшочки для рассады, секаторы, клубки ниток для подвязывания плетей, опрыскиватели от вредителей и уже облезшие садовые фигуры, которые ему жалко было выкинуть. Под столом выстроился целый ряд леек — разных размеров и видов. Я выбрала среднюю, внимательно убедилась в том, что в ней нет воды или какой-нибудь разведенной в воде особо полезной для цветов грязи, свернула бумаги трубочкой и, прошептав краткую молитву Святой Мензурке, сунула стихи в металлическое нутро лейки. Хотела уж было поставить ее на место, но вспомнила про белый бант. Вот растяпа!
Банта у меня, конечно, не было, но я оторвала приличный кусок белых кружев от одной из своих нижних юбок и завязала пышный бант на ручке лейки. Вот теперь все готово! И я не я буду, если у брата Юлиуса не вытянется его постная мордочка, едва он прочтет сии великолепные вирши!
В спальню идти смысла не было, я немного подремала на подвесной скамейке в оранжерее, но едва небо из чернильного стало светло-серым, а потом бледно-розовым, я поспешила в покои герцогини Оливии.
Естественно, она не спала. Полностью одетая, она сидела в своем калечном кресле и испепеляла взглядом все, что попадется. Фигурально выражаясь. Как только я очутилась в поле ее зрения, она хищно зарычала:
— Где ты была, мерзкая даженезнаюкакоеподобратьпрозвище!
— Спокойно, — сказала я. — Я исполняла свой долг.
— Ы-р-р! Какой еще долг?!
— Ты и дальше будешь рычать или позволишь мне открыть тебе страшную тайну?
— Ы-р-р? Очень страшную?
— Страшнее не бывает.
Памятуя про следящих и подслушивающих жучков-паучков, я встала рядом с креслом герцогини и под предлогом примерки воротничка кратко изложила ей события, что произошли в чулане.
— Обалдеть, — прошептала герцогиня, добрея на глазах. — В смысле, говорю, вот этот ВОРОТНИЧОК ОБАЛДЕННО СМОТРИТСЯ! Его и надену! Дай костыли, пошли в оранжерею!
— Не рано ли?!
— Самое то. По дороге забежишь на кухню, скажешь, чтобы уже подавали туда завтрак на четыре персоны. Да, и пусть прислуживает Фигаро. И садовник не лезет со своими секаторами!
Когда Оливия окрылена идеей, то она… окрылена. Тут приходится даже чуток ее притормаживать, особенно на поворотах, чтобы она не ускакала в светлое будущее без костылей.
На кухне прислуга еще, позевывая, пила свой утренний чай, как заявилась я и от имени герцогини Монтессори повелела накрывать завтрак в оранжерее — для герцога, его дочери, ее компаньонки и смиренного брата Юлиуса.
— Будет сделано, — сказала старшая кухарка. — А вы не знаете, сегодня Его Высокоблагочестие будет проповедовать с крыши?
— Не знаю, а что такое?
— Обещали ураганный ветер… Мы беспокоимся о здоровье Его Высокоблагочестия…
— И на крыше уже холодно. Яйца там не тухнут…
— Я все выясню, — успокоила я народ. — Вы, главное, с завтраком не подкачайте.
Слуги не подкачали. Когда мы с Оливией вошли в оранжерею, там уже стоял стол, накрытый парадной скатертью с монограммами и сервированный лучшим серебром. Возле стола стоял Фигаро.
— Доброе утро, герцогиня, — склонился он. — Доброе утро, госпожа Веронезе.
— Приветствуем тебя, Фигаро, и просим прощения за столь ранний завтрак.
— Не стоит. Его светлость не изволил ложиться всю ночь. Поэтому, полагаю, ранний завтрак ему будет даже полезен. Он сейчас придет.
— А брат Юлиус?
— Насколько мне известно, его уже разбудили. И он на пути в оранжерею.
Мы сели за стол, пряча в глазах жгучее нетерпение. Оливия уже глянула на драгоценную лейку, глянула на меня, немного погримасничала, изображая скуку и равнодушие, но тут, к нашему счастью, появился герцог Альбино. Да, на его лице отражались следы бессонной ночи, но вел он себя как обычно — холодно, сдержанно и подтянуто.
Я будто ненароком сделала из белой салфетки бантик и помахала им в сторону садового столика. Герцог уловил мой маневр и слегка побледнел. Хлопнула дверь оранжереи — то явил себя миру смиреннейший брат Юлиус.
— А вы уже все в сборе, — улыбнулся он, глядя на нашу компанию. — Какое чудное единение!
— Да, только вас и ждали, чтобы его нарушить, — ответствовал герцог.
— Так что же, — продолжал улыбаться брат Юлиус, — вы покажете мне стихи?
— Стихи подождут, — герцог улыбнулся не менее зловеще. — Я что-то ужасно проголодался, а сегодня на завтрак отличные профитроли с копченым угрем. Приятного аппетита!
В глазах смиренного брата промелькнуло нечто вроде коровьего бешенства, но он унял себя и принялся за профитроли, оладьи с маслом, паштет из цыплят, маринованную спаржу и белужью икру. Мы с Оливией вели себя, как лучшие выпускницы пансиона Святого Сердца — то есть щебетали о высоких материях и заумных вещах типа взаимосвязи бытия и сознания. Герцог поглядывал на нас и, похоже, раскусил наши актерские маневры, но, не будучи одарен талантом светского проедания ушей, помалкивал и запивал профитроли полусухим вином.
Но вот роковой завтрак окончен. Слуги убрали со стола, оставив только кувшин с теплым напитком из сахара, корицы и апельсинового сока — в оранжерее было прохладно, чай, не лето…
— Итак, — хлопнул ладонями по столу брат Юлиан. — Герцог Монтессори, что вы можете мне показать? Я имею в виду поэзию. Вашу.
— Фигаро, — бесстрастно молвил его светлость, — ступайте к садовому столику. Там есть лейка, повязанная белым бантом… Принесите то, что в ней находится.
— Да, ваша светлость.
В этот момент герцог посмотрел на меня взглядом, который мне не забыть до самого смертного часа.
Через полминуты Фигаро вернулся и протянул герцогу Альбино чуть запылившиеся бумаги.
— Подайте бумаги брату Юлиусу, — приказал великий поэт современности.
Тот схватил их, развернул, принялся просматривать, как скряга просматривает дебет и кредит своего банковского счета…
— Не может быть, — прошептал он. — Это невероятно! Но как?!
Герцог снова смотрел на меня и снова — взглядом, который не забудешь, даже если совсем без мозгов останешься.
— Почерк ваш, герцог, это, безусловно, ваш стиль, ваш характер, все… ваше.
— А чего вы ждали, брат Юлиус? — спросил герцог очень мягко.
Тот вчитывался в стихи:
— То есть вы заявляете, что лично написали стихи о моркови и редьке, о луке, картошке и персиках?
— А вы хотите это опровергнуть? — в голосе герцога послышалась грусть. — Но отчего, мой бывший ученик?
— Я знаю вас! — завопил брат Юлиус, со злобой отшвыривая рукописи. — Вы надменный, гордый, хладнокровный мерзавец, считающий весь мир недостойным даже вашего пуканья! И вдруг вы соглашаетесь писать по заказу?! Про овощи?!
— Я изменился, — просто сказал герцог. — Людям свойственно меняться. Вы ведь тоже изменились, брат Юлиус.
— Ха-ха! — рекомый брат стукнул кулаком по столу. — Я выведу вас на чистую воду! Ну-ка, ну-ка… Кто-то сочинил их за вас, вы только переписали…
— Вы же знаете, что это не укрылось бы от… жучков-паучков, — молвил герцог. — Раз уж даже компаньонка моей дочери узнала, где я прячу эти рукописи.
— А почему вы их прятали?!
— Боялся, что на меня найдет искушение уничтожить их…
— Вот как?!
— Да что вы привязались к его светлости?! — заорала на брата Юлиуса я. — Он в вечном творческом поиске, вам этого не понять! А тут еще жучки! Паучки! Священные гвардейцы жужжат целыми днями — разве это назовешь спокойной обстановкой для полноценного творчества, а?! Вы бы уж оповестили о том Его Высокоблагочестие! Может, ему стоит почитать проповеди в каких-нибудь других вотчинах, а то все у нас да у нас? Мы уже такими благочестивыми стали, что ужас просто!
Юлиус, не обращая внимания на меня, лихорадочно читал стихи. Вдруг он сказал:
— А почему вы решили использовать только анапест, герцог?
— А почему нет? — поднял брови его светлость.
— Ну, просто раньше вы использовали другие стихотворные размеры…
— Все когда-нибудь случается в первый раз, — герцог улыбнулся такой обезоруживающей улыбкой, что я даже усомнилась: а он ли это? Вдруг вперся какой-нибудь двойник из сопредельной реальности?
— Что ж, — брат Юлиус встал и спрятал бумаги в рукав своего одеяния. — Я представлю эти стихи на суд Его Высокоблагочестия. Но не забывайте, двенадцатью виршами вы не ограничитесь, у нас в Старой Литании еще много фруктов и овощей!
— Восемьдесят три вида, — кивнул герцог. — Я должен еще семьдесят одно стихотворение. И не волнуйтесь, брат Юлиус: я не задерживаюсь с возвращением долгов.
— Прекрасно, прекрасно, — брат Юлиус вышел из оранжереи с лицом карточного шулера, которого только что обыграла слабоумная старушка.
Некоторое время мы сидели (Фигаро стоял) в молчании. Наконец герцог подал голос:
— Что там вы говорили о погоде, Фигаро?
— Надвигается ураганный ветер, ваша светлость, судя по природным приметам. Возможны метели, резкое похолодание…
— Что ж, таков наш суровый край…
— Да, а через неделю-другую вовсю задует трамонтана, так что и носа на улицу не высунешь. Год понемногу подходит к концу, ваша светлость. Птичницы докладывают, что куры стали хуже нестись…
— Вы говорите ужасные вещи, Фигаро, — печально молвил герцог, вставая. — Я удалюсь в свои покои, чтобы как следует обдумать сложившуюся ситуацию.
— Отнести вам туда имбирного ликеру «Три топора», ваша светлость, или крепленого мадьярского?
— И того, и другого. И до ужина меня не беспокоить. Дочь моя…
— Да, мессер отец?
— У вас прекрасная компаньонка.
— Я знаю, мессер отец. Мы можем рассчитывать на увеселительную прогулку?
— Только не сегодня. Вы же слышали: грядет ураган.
И герцог удалился, на прощанье бросив на меня третий незабываемый взгляд.
Глава четырнадцатая Трамонтана
Не люблю холода. И никто не любит. Как это грустно!
Ведь у природы нет плохой погоды.
Из проповедей Его Высокоблагочестия, т. 201Трамонтана — это не только красивое слово. Это ветер, возвещающий близкую зиму, ледяной, пронизывающий, жестокий, как росский заимодавец. И хотя ужин, к которому герцог вышел пьяным и невероятно элегантным, прошел под порывы обычного осеннего урагана, свое дело погода сделала. На следующее утро из столицы за Его Высокоблагочестием прислали кареты, запряженные обычными лошадьми. Однако сажать в кареты было некого — крыша и чердак оказались абсолютно пусты, насквозь продутые сильнейшим ветром. Даже скорлупок от яиц не осталось. Его Высокоблагочестие, видимо, вознесся на крыльях ветра вместе со всей свитой. Так возничим и объяснили, те развели руками и повернули в столицу — у Его Высокоблагочестия свои причуды.
Конечно, этих уже полусонных инсектоидов просто выдуло ветром и разметало по полям, лесам и горам. И не думаю, что это большая трагедия для святого града Рома: в его теплых подземных катакомбах наверняка уже вывелся не один гигантский Хрущ, готовый взять на себя бремя власти.
Кастелло ди ла Перла окончательно вздохнуло свободно, когда каждый угол его был продезинфицирован дустом, и слуги внимательнейшим образом изничтожили подслушивающих жучков, паучков, мушек и их личинки. Фигаро проследил, чтобы чердак снова накрепко застеклили и заперли.
И когда в замке наконец воцарились чистота, тишина и полный порядок, меня призвали к ответу. То есть потребовали объяснений.
Дело было в один из пасмурных осенних дней, когда Оливии до того надоело кидаться в меня стилетом, а мне — его ловить, что слова слуги «его светлость желает вас видеть» мы восприняли с сугубой радостью.
Свершилось нечто невероятное — нас привели не в покои герцога, а в его таинственный скрипторий — святилище его творчества, рассадник рифм и всяких там анжамбеманов. Ну, вы поняли.
Герцог Монтессори стоял у камина, и пламя бросало на его точеное лицо романтические отблески. Мы с Оливией сели в кресла напротив.
— Итак, — нарушил молчание герцог. — Замок провонял дустом, как бельевой шкаф Сюзанны — лавандой, а это говорит о том, что всякое насекомое в замке истреблено, подслушивающее оно или нет. И я хочу знать, Люция: каким образом вы это сделали?
— Да уж, — поддакнула Оливия. — Я тоже. Ты ведь со мной не поделилась своим секретом!
— Я так долго тянула с признанием только из опасения быть подслушанной врагами. Теперь же мне нечего таиться, — с этими словами я сняла с шеи бархатный мешочек, который недавно сшила, чтобы прятать в него свою тайну.
— Волшебные травы? — предположила Оливия, но я отмахнулась от нее. Развязала мешочек и аккуратно выложила на стол матовый белый кубик.
— Волшебный кубик, — заключила Оливия. Вот переклинило-то ее на волшебстве! — Я так и знала, что ты ведьма, Люция! Вот мы попали! Ура!
— Не ура. Оливия, я не ведьма, — мрачно сказала я. — Но изобрела бы какое-нибудь заклятие, чтобы ты заткнулась и дала мне все спокойно объяснить. Мессер, это устройство, или же прибор, или же механизм, не имеет никакого отношения к магии. Он обладает многими свойствами, в числе которых — написание стихов на любую тему. Устройство называется анапестоном и является воплощением идеи, которая возникнет в далеком будущем совсем не в нашем мире. Так что искать его здесь никому в голову не придет.
— Как он попал к вам, Люция?
— Ах, — молвила Оливия. — Я, кажется, поняла.
— Ваша светлость, так вышло, что еще в пансионе Святого Сердца у меня появился покровитель и друг — мессер Софус. Он поведал мне, что пространств множество, миры в них — неисчислимы и иногда пересекаются между собой. Мессер Софус — существо, которое может двигаться в разных направлениях времени и пространства, дабы соблюдать баланс всего сущего. Он еще называет себя попутчиком. Меня он изволил сделать своим доверенным лицом потому, что ваш замок, мессер, является точкой пересечения нескольких пространств, и моя задача — не только развлекать Оливию, но и наблюдать, не проникнут ли через замок на нашу Планету так называемые вторженцы.
— Существа из других пространств, — с видом знатока проговорила Оливия. — Между прочим, папочка, один такой вторженец уже в замке есть — живая стеклянная туфелька. Ее у себя прячет Себастьяно Монтанья, надеясь отыскать хозяйку и предложить ей руку и сердце…
Святая Мензурка! Оливия второй раз назвала герцога папочкой! Да сейчас небо рухнет на землю!
Но герцог, кажется, не заметил проскользнувшего у Оливии нежного слова. Он сказал:
— Так ли я должен понимать, Люция, что этот механизм вам предоставил ваш покровитель?
— Да, — кивнула я. — И он не оговорил сроков пользования им. Думаю, что мессер Софус оставит его у меня насовсем. И у нас будет достаточно времени, чтобы анапестон сочинил еще семьдесят одно стихотворение о плодах Старой Литании. Вы уложитесь в срок. Поместье, счета — все останется вашим и Оливии, Святой престол обломает о вас свои… жвалы.
— Но как он это делает? — герцог смотрел на прибор, будто на некое неприятное существо. Неблагодарный! — Без волшебства?
— Его нужно включить, задать задание, параметры, характеристики и дождаться, когда он выполнит работу.
— Что ж, — молвил герцог. — Покажите нам это, Люция. Ведь, если помните, стихи, что так споро забрал брат Юлиус, ко мне в руки не попадали, и я, хоть и числюсь их автором, даже не знаю, о чем и как они написаны. Хотелось бы взглянуть.
— Пожалуйста, — пожала плечами я. — О’кей, анапестон!
Кубик тихо загудел и стал голубоватым. Герцог и Оливия вздрогнули, глядя на это чудо техники.
— Прошу авторизации, — сказал анапестон.
— Люция Веронезе.
— Приветствую тебя, Люция Веронезе, я твой анапестон. Наблюдаю биотоки еще двух органических существ. Авторизовать их как дополнительных пользователей?
— Да, — на всякий случай сказала я. И папе с дочкой: — Назовите себя.
— Герцог Альбино Монтессори.
— Герцогиня Оливия Монтессори.
— Авторизация дополнительных пользователей завершена. Какие будут поручения, Люция Веронезе?
— Ты можешь снова воспроизвести на бумаге двенадцать стихотворений, которые сочинил раньше?
— Да, Люция Веронезе.
— Тогда сделай это.
— Выполняю. Пожалуйста, подождите, идет процесс…
Куб слегка завибрировал и стал испускать лучи. Вдруг из него зазвучали нежные звуки лютни.
— О’кей, анапестон, — удивилась я. — А музыка откуда?
— Я предположил, что музыка скрасит вам время ожидания и выбрал одну из музыкальных композиций вашего исторического периода.
— Замечательно, — сказала я.
Минут через десять анапестон выпустил веер голубых лучей, а на столе появились листы веленевой бумаги, исписанные почерком герцога.
— Процесс завершен, — доложился прибор. — Музыку оставить?
— Оставь. Вот, ваша светлость, извольте взглянуть.
Герцог взял в руки бумаги и принялся читать. Как всегда, он нацепил маску бесстрастия, так что истинные его чувства понять было невозможно. Я вдруг подумала, что этим он очень схож с анапестоном — все самое интересное внутри, и непонятно, как устроено.
Наконец герцог прочел все двенадцать стихотворений.
— И эти стихи сочинены механизмом?
— Анапестоном. Он не просто механизм, он обладает искусственным разумом.
— Я уже понял. С первого взгляда и не отличить, что писал не я…
— Ни с какого взгляда не отличить, ваша светлость, — с металлом в голосе сказала я. Нет, я ему помогла, а он еще и выкобенивается! — Все необходимые параметры учтены.
— Угу. Выключите, пожалуйста, свой прибор, Люция, а то мне кажется, что он за мной наблюдает.
— Спящий режим, анапестон. Ваша светлость, я не понимаю, чем вы недовольны.
— О, я всем доволен! Репутация великого поэта спасена при помощи механизма размером с помазок для бритья! Великолепно! Восхитительно! Одно это уже может стать темой для венка сонетов! Кстати, почему он пишет только анапестом?
— Спецификация такая, — мрачно сказала я. И убрала прибор в мешочек, а мешочек завязала покрепче и повесила себе на шею. Все ясно. Гордыня великого поэта не может примириться с действительностью, где какая-то машинка пишет стихи не хуже его, а в точности как он, а может, даже и лучше. Чувствую, к этому вопросу мы вернемся не скоро, а возможно, и никогда, если герцог не смирит свой норов.
— Девочки, вы можете идти, — сказал герцог, и мы — а что делать — удалились восвояси.
— Ко мне, — велела Оливия, и мы повернули в ее покои.
Усевшись у туалетного столика, Оливия сказала:
— Не могла бы ты мне шею растереть. Болит ужасно. Настойки обезболивающих трав уже ни дрына не помогают.
Я спустила с ее плеч платье, взяла целебное масло для растирания и принялась за дело, сказав при этом:
— Ты что, боишься лишних ушей? Жучков вытравили давно.
— Да никого я не боюсь. Просто болит. По-настоящему.
— Сейчас все исправим…
— Слушай, Люци, а папашка-то мой здорово взъярился.
— На кого?
— Тебе в алфавитном порядке перечислить? Во-первых, он взъярился на себя самого — что позволил себе слабость, из-за которой попал в ужасное положение сам и нас всех подставил. Во-вторых, он взъярился на тебя — что ты осмелилась ему помочь, ему — герцогу Монтессори, чей род насчитывает энное количество поколений истинной знати. Мало того, ты не просто осмелилась, ты — помогла! И конечно, он вне себя оттого, что существует прибор, который отлично справляется с написанием стихов на любую тему. Это его вообще довело до белого каления — он всю жизнь считает себя непревзойденным поэтом, а тут какой-то кубик за пять минут может сделать то, над чем ему приходится трудиться годами. Поверь, герцог Альбино Монтессори будет первым, кто возглавит ряды противников технического прогресса.
— Ну уж…
— Ты этот кубик подальше прячь. А то с папашки станется раздолбать его в пыль в порыве праведного творческого гнева.
— Ты знаешь, я всегда ношу его на шее. Даже во время купания с ним не расстаюсь…
— Ой.
— Что?
— Вот ты сейчас сказала насчет купания… Я сразу, знаешь, кого вспомнила?
— А?
— Себастьяно Монтанья. С его туфелькой-паразитом. Тоже не расстается. А вдруг твой кубик — похожий паразит?
— Нет, он просто механизм с искусственным разумом. Оливия!
— Да, вот тут потри сильней. Боль почти прошла. Спасибо. Что ты хотела сказать?
— Что туфелька Себастьяно — органическая. А кубик — прибор. Из неорганических соединений. Почувствуй разницу.
— Чувствую, — Оливия натянула на плечи платье. — Слушай, у тебя руки — просто сказка, так боль снимают… А вдруг ты — целительница?
— Какая еще целительница?
— Обыкновенная. Всемогущая. Вроде Исцелителя, который явился много-много лет назад.
— Сомнительно. Если б я была целительницей, я бы просто хлопнула в ладоши и сказала: «Оливия Монтессори, твоя болезнь исчезла навсегда!» А этого же не выходит.
— Ну, ты же не хлопаешь. Хлопни в ладоши.
— Охота тебе развлекаться. Ладно.
Я звучно хлопнула в ладоши и произнесла: «Оливия Монтессори, твоя болезнь исчезла навсегда!»
— Ну что? — спустя мгновение спросила я.
— По ощущениям — ничего.
— То-то и оно. А ты заладила: целительница, целительница. Еще этого нам не хватало! Узнает святая юстиция — башку мне снесет. Право на целительство есть только у нее, да у Святого престола города Рома. Так что давай эту тему не поднимать во избежание житейских осложнений. Меня волнует другой вопрос: твой отец что, не хочет, чтобы анапестон написал за него оставшиеся стихи?
— Об этом надо его самого спросить. Но лучше не лезь. Ты видела — у него глаза стали, как крыжовник?
— Зеленые?
— Круглые и кислючие! Когда у него делаются такие глаза, даже Фигаро принимается размышлять о том, на что станет жить без выходного пособия. Но ты заешь что? Ты все равно дай задание своему анапестону написать оставшиеся стихи. Пусть будут на всякий случай: на такой же бумаге, отцовским почерком… Даже еще можно, типа, варианты сгородить — черновики, типа…
— У тебя в речи опять появились слова-паразиты?
— Кстати, о паразитах. Давно мы с тобой не имели счастья лицезреть милейшего и прекраснейшего Себастьяно! Где же это он шляется? В каком углу замка милуется со своей туфелькой? Пойдем поищем. Все равно делать нечего, а моя природная злоба и коварство многих поколений герцогов Монтессори требуют выхода. Ни отравить тебе никого, ни прирезать в темном углу… Я слишком правильно живу, и это ужасно скучно…
И мы отправились блуждать по замку в поисках Себастьяно Монтаньи, дабы морально терзать его и калечить.
Как ни странно это прозвучит, но Себастьяно оказался в зале для рукоделий, среди многочисленных огромных станков, на которых были растянуты начатые гобелены.
Себастьяно сидел в нише высокого окна, похудевший и печальный, ни дать ни взять — герой романтической баллады. Свой бледный лик он обратил к пустынным просторам, расстилавшимся за окном. Просторы не обещали ничего хорошего — осень, чай, на исходе, так что едва хлопнула за нами дверь, мученик стеклянной туфельки воззрился на нас.
— Себастьянчик, — радостно помахала рукой я. — А это мы!
— О-о, — испустил обреченный вздох Себастьяно.
— А ты кого ждал? — Оливия уже раздула мехи своего кровного коварства. — Ты свою босоножку ждал? Романтическую возлюбленную? Чтобы туфлю ей вручить?
— Да, вместе со своим исстрадавшимся сердцем, — мрачно сказал Себастьяно. — А тут вы. Чего вам от меня надо, кровопускательницы?
— Мы соскучились по хорошему обществу, — сказала Оливия и уселась напротив окна. Я встала за ее спиной, изображая истинную компаньонку. К тому же я держала костыли Оливии. А то она часто стала их забывать и вскакивала с места безо всякой опоры, а при ее болезни это вредно. Совсем себя не бережет. — А покажи нам свою туфельку!
— Зачем? — нахмурился Себастьяно.
— Просто посмотреть. Интересно же. Форма жизни для нас неизвестная.
— Знаю я вас, чего вы хотите! — Себастьяно стиснул кулаки. — Вас святая юстиция подослала — это они все время следят за тем, как бы на Планете не появился кто-нибудь, кроме инсектоидов и людей! И животных! Они меня сразу в ереси обвинят и в колдовстве, а ничего такого нет! Сожгут на костре, а туфельку уничтожат! А она такая… такая… Она ведь все понимает, только по-нашему не говорит…
— А по-какому говорит? — немедленно встрепенулась Оливия, как гончая при звуке охотничьего рожка.
Себастьяно скрестил руки на груди и мрачно набычился, давая понять нам, что за туфельку стоять будет насмерть.
— Себастьянчик, ты дурак, извини, — сказала я. — Где святая юстиция и где мы? Да чтоб мы еще были стукачками! За одно такое обвинение тебя надо вызвать на дуэль и как следует натрепать по ушам! Разве ты не знаешь, что мы состоим в Сопротивлении?
— В каком Сопротивлении? — Себастьянчик разинул рот. Оливия, кажется, тоже. Странно, что ее до сих пор удивляют финты моей безграничной фантазии. Могла бы уже привыкнуть.
— В каком, в каком, — таинственно понизила голос я. — В каком сопротивляются.
— Ой, — тихо сказал Себастьяно и сделал большие глаза. — Ну вы, девчонки, даете…
— Да, — гордо сказала я. — Ты думаешь, этого священного Жука вместе со своими жужжащими приспешниками просто так взяло и ветром сдуло? Этот ветер не простой! Это ветер перемен, Себастьянчик! Впрочем, я даже не знаю, следует ли посвящать тебя в такие опасные дела… На нас-то уже пробы ставить негде, а ты существо нежное… Любовь у тебя, опять же…
— Я — потомственный кавальери! — напыжился Себастьяно. — И все, что вы доверите мне, умрет вместе со мной!
— Никому ничего не выболтаешь?
— Могила!
— Ну, слушай. У Сопротивления есть тайный знак — перечеркнутое изображение жука. Где увидишь, знай: там побывали наши.
— Наши! — кивнул Себастьяно.
— Еще есть пароль: «Смена всех!» — и отзыв: «Даешь молодежь!» Запомнил?
— Ага!
— Вот видишь, теперь ты с нами. Мы тебя как-нибудь познакомим с руководством. Кстати, знай: Фигаро — не тот, за кого себя выдает.
— Шпион святой юстиции?!
— Наоборот. Он — наша связь с Центром. Если у тебя есть сообщение в Центр, а нас с Оливией уже схватили и пытают, просто подойди к Фигаро и тихо ему скажи: «Примите сообщение». Он примет и передаст куда надо.
— Ух ты! Обалдеть! Ну, девчонки! Не соскучишься с вами! Ладно. Раз мы в одной лодке, так и быть…
И Себастьяно достал из-за пазухи стеклянную туфельку. Оказывается, за пазухой ценные вещи носят не только женщины.
— Вот она, моя хорошая, — ласково сказал Себастьяно. — Вы можете ее погладить, только нежно и осторожно. Тогда она станет какого-нибудь цвета и, может быть, даже заговорит…
— Ну, здравствуй, туфелька, — с максимальной нежностью в голосе сказала я. — Как поживаешь? Не скучно тебе все время сидеть за пазухой у Себастьяно?
Я погладила стеклянный бантик и увидела, что туфелька из прозрачной стала бледно-розовой.
— Каблучок ей почеши, — посоветовала Оливия. — Ей понравится.
— Оливия, с проявлениями иномирной органической жизни нужно быть терпимыми и ласковыми. У-тю-тю, какая у нас туфелька, какая вся розо… зелененькая, то есть синенькая, э-э-э, желтая в белый горошек. Ну, расскажи нам, туфелька, где была, расскажи-ка, милая, как, э-э, дела?
— Рамбатон, — мелодично сказала туфелька. — пум рабутап.
— Ага, — медленно кивнула я. — Понятно-понятно.
— Цырлах! — туфелька взвизгнула так, что все мы вздрогнули. — Чипирла бут рамбатон бурлам-бурлам!
— Святая Мензурка, ужас-то какой, — подала голос Оливия. — Чего она стала вся такая черно-фиолетовая? И в желтую полоску?! Она не взорвется? Давайте смываться, а?
— Цырлах! — рявкнула туфелька, и это явно прозвучало как «Всем оставаться на своих местах!». — Кондроцупо румбутан бут чипирла, у, у…
— Она же плачет! — поняла я. — Она разлучена со своей парой, и поэтому… Слушай, у меня идея!
— Ну, — и Оливия, и Себастьяно-подкаблучник глянули на меня с большим интересом.
— Думаю, что мой прибор, — я сняла с шеи мешочек и достала белый кубик. — Сможет распознать этот язык и перевести нам, что говорит туфля.
— Что это такое? — Себастьяно потрясенно глядел на анапестон.
— Новейшая разработка нездешних ученых, — небрежно сказала я. — Не спрашивай, как он у меня оказался, это жуткая тайна. Ну что ж, попробуем перевести. О’кей, анапестон!
— Готов к эксплуатации, — отозвался кубик. — Какие будут задания, Люция Веронезе?
— Анапестон, ты сколько языков знаешь?
— Назвать точное число? И живых и мертвых? Пространственных и подпространственных?
— Э-э, нам нужен один. Там вот слово есть… Э, рамбатон.
— Это словосочетание. Межгалактическая семиотическая полугруппа, Кривовидная туманность. Может переводиться как «Где я?» или «На ком я?» Еще тексты на указанном языке будут?
И тут туфелька разразилась целым потоком слов, а возможно, и словосочетаний и даже нецензурных выражений, не принятых в Кривовидной туманности. Я их здесь не привожу — смысл? — лучше дам перевод от кубика:
— Существа! Существа, среди которых, я надеюсь, есть цивилизованные! Я органоид из Кривовидной туманности, само не местное. Я отстало от органо-носителя, не имею энергетического заряда, самостоятельно перемещаться не могу. Прошу помощи! Прошу помощи! Захвачено в плен местным органическим монстром, связь с носителем потеряна. Нахожусь в опасности самоуничтожения. Прошу помощи! Прошу помощи!
— О как, — грустно сказал Себастьяно. — Я ей, значит, монстр. А еще бархоткой ее полировал…
— Себастьянчик, это — оно. Средний род. Но не это главное. Опасность самоуничтожения — это вам не шутки. А если она самоуничтожается с таким взрывом, что весь замок по камушку разнесет?
— Нужно найти ее носителя, — сказала Оливия. — Девицу, да, Себастьян?
— Выглядела как девица, — кивнул наш романтик. — А там кто знает.
— Вот что, — придумала я. — О’кей, анапестон! Переведи этому… существу: мы тебе не враги. Мы хотим найти твоего органоносителя, но не знаем, где и как. Подскажи нам, что делать.
Анапестон, умничка, перевел. И ответ тоже:
— Я не знаю, — сказало существо. — У меня мало интеллектуальных способностей, чтобы провести полный анализ ситуации и выдать конструктивное решение.
— Что с туфли возьмешь, — пробормотала Оливия.
— Но, может быть, тогда не надо самоуничтожаться? Ты пока спокойно сиди за пазухой у Себастьяно, а мы будем искать твоего органоносителя.
— Но мне грустно, — молвила туфелька. — А чем мне становится грустнее, тем ближе опасность самоуничтожения.
— Голубушка, ну мы ж не комедианты, чтоб тебя веселить. У нас дела. Важные. Анапестон, переведи.
— Вот что, — тут осенило Оливию. — Пускай тебе Себастьяно книги читает — сказки там, стихи…
— Я же ни слова не понимаю, — опять расстроилась туфелька. — Одно расстройство! Ой, сейчас как самоуничтожусь…
— Шантажистка, — я развела руками. — Себастьянчик, придется мне доверить тебе свой секретный прибор. Пусть прибор общается с туфелькой на языке ее родины, но как только завидишь кого чужого — прячь! О’кей, анапестон, проведи авторизацию Себастьяно Монтанья, теперь он тоже станет твоим пользователем.
Так что Себастьяно стал временным хранителем анапестона (вместе с бархатным мешочком) и по-прежнему депрессивно настроенной туфельки.
Некоторое время мы послушали, как анапестон читает туфельке сказку о принцессе, у которой были очень длинные косы и она обожала ими душить приезжавших свататься женихов. Сказку сочинили в какой-то очень далекой галактике, но я подумала, что принцессы везде одинаковы, хоть с косами, хоть лысые, хоть с рогами. Хорошо, что Оливия, по крайней мере, только герцогиня и бритая.
Когда нам стало скучно так, что впору подумать о самоуничтожении, мы оставили Себастьяно, еще раз надавали ему указаний, как прятать туфельку и анапестон от досужих глаз, и пошли прочь из гобеленной, болтая о том о сем. Оливия беспокоилась — успеет ли анапестон при такой на него нагрузке еще и стихи сочинить, но я советовала ей напрячь мозги на тему другого предмета — босоногой дамочки в розовом.
— Давай еще раз обойдем весь замок, — предложила я. — Вдруг она где-нибудь скрывается, в какой-нибудь комнатке, про которую никто не знает. Вон крыло с картинной галереей — там сроду никто не бывает, а вдруг там еще есть помещения, и эта прелестница там преспокойно проводит время, забыв о долге перед своей собственной обувью.
И мы направили наши стопы в картинную галерею.
Серый свет осеннего дня, проникавший в огромные окна, словно убивал все краски на картинах — они тоже становились какими-то серыми, выцветшими, а лица на них — плоскими, вялыми, пыльными и недовольными. Пейзажи, все как один, изображали некую пустошь, размытую дождем, или деревья, с которых облетают под порывами ветра последние листья. А про натюрморты я вообще молчу.
Дойдя до таинственной картины, где был изображен молодой герцог Альбино, незнакомец в глухом черном плаще и очаровательная белокурая девочка, мы остановились. Все-таки что это за незнакомец? А еще мне показалось, что в прошлый раз у картины была другая рама.
Я сказала об этом Оливии.
— Да ладно, — отмахнулась она, но тоже принялась изучать раму: — Смотри-ка, она действительно другая!
— Что ты имеешь в виду?
— Материал, из которого она сделана. Это не дерево, не металл, не стекло… Вот, потрогай. Холодное, да что там, просто ледяное!
Я коснулась рамы, провела по ней рукой. Да, несмотря на резьбу и позолоту, ясно было — вещь нездешняя.
— Она немного напоминает мне анапестон — по тому, какая ледяная. Мессер Софус говорил, что анапестон ледяной потому, что копит энергию. Значит, эта рама, может быть, вовсе и не рама, а какой-то прибор, тоже накапливающий энергию для чего-то… И может быть, это вовсе не картина, а окно. Или дверь. В какое-то другое пространство.
Я принялась трогать завитушки на раме, постучала по полотну картины — оно не прогнулось, сзади было что-то твердое. Точно, дверь.
— Знаешь, если эта штука похожа немного на анапестон, может, и работает она после тех же волшебных слов: «О’кей, дверь!»
— О’кей, дверь, — усмехнулась Оливия, и…
И ничего особенного не произошло. За исключением того, что рама запульсировала бледно-голубым светом и приятным женским голосом сказала:
— Подтвердите авторизацию.
— Вряд ли она распознает мое имя, — прошептала я. — А вот твое — наверняка. Ведь все это точно связано с твоим отцом!
— Герцогиня Оливия Монтессори, — хриплым от сбившегося дыхания голосом сказала Оливия.
— Авторизация подтверждена.
И картина просто… растаяла, осталась только мерцающая рама. За нею открывалась абсолютная чернота.
— Что там может быть? — спросила у меня Оливия.
— Абсолютно все что угодно. И поэтому я тебя туда не пущу и сама не полезу.
— Как это? Такая тайна, а мы отвернемся и спокойненько от нее уйдем?
— Да, как все нормальные люди.
— Но мы — не нормальные. Я — во всяком случае! Я урод, калека, так что мне не страшно соваться в какую-нибудь черную дыру!
— Так я и пустила тебя одну! От тебя даже черной дыре станет тошно! Отойди, я первая лезу. Если что, на мое жалованье поставишь мне памятник.
— Ага, и голубей прикормлю, чтоб они весь его загадили. Люци!
— Молчите, герцогиня. Да пребудет со мной Святая Мензурка!
Я повыше подобрала подол платья и переступила через серебристую раму. Ощущение было такое, будто меня мигом сунули в ком черной и очень холодной ваты.
— Оливия, тебе не стоит сюда… — обернулась я.
Сзади ничего не было. Чернота. Я вытянула руки и попыталась ими хоть что-то нащупать. Бесполезно.
— Ну вот, — сказала я в черное нечто. Или ничто. — Оливия может начинать хлопоты о моем памятнике.
Стоять в абсолютной темноте — не самое приятное ощущение из тех, которые мне довелось испытать за свою недолгую жизнь. Я попыталась сделать шаг вперед, потом назад. Не получилось. Я была как ложка, помещенная в бархатный футляр.
— Эй, — я решила подать голос. — О’кей, тьма! Тут есть еще кто-нибудь?
— Есть, — немедленно ответствовал странный голос, который не принадлежал ни мужчине, ни женщине и звучал прямо у меня в голове.
— Тогда кто вы? И что это за место?
— Это не место. Это состояние.
— Чье состояние?
— Ничье. Просто состояние.
— А вы кто?
— Голос у тебя в голове.
— Это я понимаю. Болезнь еще есть такая, когда голоса в голове начинаешь слышать. Но я не больна. Почему я здесь не могу двигаться?
— Потому что нет никакого «здесь».
— А вернуться обратно я могу?
— В любой момент линейного времени.
— Тогда я хочу вернуться.
— И ты решила вернуться вот просто так? Не узнав никакой страшной тайны, недоступной смертным?
— А ты что, знаешь такие тайны?
— Да, — в голосе появилось явное превосходство. — Я знаю почти все тайны обитаемого мира: от самых больших до крошечных, размером с коготок мышонка.
— Разве тайны имеют размер?
— Обязательно. Это же информация. А информация всегда имеет размер. И вес. И ценность.
— Я даже не знаю, какую тайну мне хотелось бы постичь…
— Обычно люди спрашивают о тайне бессмертия, или успеха, или любви. Спрашивают, как разбогатеть, как получить власть над миром, как избавиться от угрызений совести. Еще спрашивают, есть ли Бог, и если Он есть, то как Он все это допускает.
— Что «все это»?
— Это твой запрос?
— Нет… Я вообще-то не особо интересуюсь такими серьезными вещами. Мне только странно, что я попала в это «не-здесь» из картины, висящей в замке герцога Альбино Монтессори.
— А, ты знаешь Альбино? Очень пытливый молодой человек. Очень много вопросов задавал…
— Сейчас он уже не выглядит молодым человеком. Значит, он тоже был тут? В смысле…
— Ладно, не заморачивайся. Вам, людям, сложно мыслить без пространственной составляющей. Да, герцог Альбино был тут. Примерно в твои годы. Люди в этом возрасте очень желают стать великими, прославиться, обрести вечную любовь — в общем, всякая ерунда.
— Яне…
— Юному герцогу можно было посочувствовать — он рос нелюбимым ребенком, к тому же любая наука давалась ему крайне туго. Старшие братья, более способные, постоянно смеялись над тем, что он не может толком читать и писать. Почерк у герцога был ужасно корявый, читал он по складам, к тому же еще и заикался. И он не обладал никаким, ну никаким талантом! И герцог спросил меня, как обрести способности, за которые люди будут прославлять тебя и при жизни, и в веках. Способности, которые принесут богатство, любовь, славу, друзей, поклонников. Я посоветовал ему стать поэтом. Бедный ребенок заплакал. Он с детства ненавидел поэзию, потому что не понимал ее, да и задание учителя выучить стишок наизусть повергало его в ужас. Он не верил, что поэзия может вознести его на вершины славы и бессмертия. И тогда я показал ему некоторые картины из его будущего — как люди читают его книги, как его принимают при дворе королей и императоров, как во всех странах и на всех языках его признают величайшим поэтом… Я умею показать то, что человек хочет увидеть. Альбино задрожал и спросил, что ему нужно сделать, чтобы это будущее воплотилось. О, сказал я, нет ничего проще, просто доверься мне. Я поселюсь у тебя в голове, сказал я, и стану помогать постигать науки, писать стихи, делать правильные решения и хороший выбор.
— И ты поселился в голове герцога?
— Да. Ведь он — великий поэт, не правда ли? И у него есть богатство, замок, поклонники…
— Но у него нет любимой женщины, нет друзей…
— А это произошло потому, что в выборе невесты он мне воспротивился. Я настоятельно советовал ему юную графиню Бучетти, но он выбрал ту болезненную и хрупкую красавицу, которую сломили первые же роды. И то, что Оливия родилась слабой и больной неизлечимой болезнью, — плата за непослушание герцога. Я ведь не просто голос. Я голос Разума. Меня нельзя отвергать, нельзя не слушать. Во всяком случае, безнаказанно. Конечно, жена герцога была очень красива, но…
— Значит, это ты наслал на Оливию болезнь?
— Глупости какие. Я что, колдунья, ведьма, знахарка?! Брось ты эту чепуху! Я — голос Разума. Я — вне времени и пространства. И если человек не следует моим указаниям, я изменяю его будущее соответственно его непослушанию. Это ведь правда, что человек свободен выбирать свое будущее — если он не слушает меня. Но за такое будущее приходится платить. Иногда очень дорого.
— Подожди, подожди, ты сказал, что у герцога Альбино есть старшие братья…
— Да. Были братья. Я объяснил герцогу, что он не сможет унаследовать полностью все поместье Монтессори, пока они живы. Кроме того, они могли оказать плохое влияние на отношение старого герцога к своему отпрыску Альбино. Они так издевались над ним! У них были порочные натуры, склонные к насилию и распутству. Так что неудивительно то, как они погибли.
— Погибли?!
— Пьяная драка в трактире. Какой-то заезжий громила, которого они оскорбили, размозжил им головы своим моргенштерном. Их хоронили в закрытых гробах.
— Я думала, это герцог Альбино убил их!
— Не собственноручно. Он просто позволил мне действовать, создать условия, при которых гибель его братьев будет наиболее вероятна и наименее подозрительна. О, старый герцог был убит горем, и с тех пор всю свою любовь он обратил на Альбино. Он выписал ему лучших учителей, исполнял каждую его прихоть, но это уже было неважно — Альбино слушал меня. Тем более что я уже начал ему диктовать.
— Диктовать?
— Да. Первые стихотворения. Юношески неопытные, но уже настолько прекрасные, что это не могло не укрыться от взоров его учителей. Они заговорили о необыкновенных способностях мальчика, и дальше все пошло как по маслу.
— То есть получается, что герцог Альбино не сам сочинил свои стихи?
— Как это?
— Ну, ты ему их надиктовал.
— А, ну да, конечно. Если рассуждать строго, автором своих стихов герцог не является. Но, если опять-таки рассуждать строго и по справедливости, автором этих стихов не являюсь и я.
— Тогда кто?
— Дорогуша, есть понятия, которые трудно воспринять ограниченному разуму. Но мы попытаемся. Это ведь твой запрос?
— Да.
— Представь бесконечное, безграничное пространство. Оно неподвластно времени, оно неподвластно измерениям и состоит только из одного — из информации. Информация рассеяна по нему, как пыль, и ее такое множество, что изучить ее, познать полностью нет никакой возможности. Нет такого разума. Кроме меня. Потому что именно я владею этой информацией.
— И как это относится к герцогу Альбино Монтессори?
— Ну, если на простом примере… В какой-нибудь галактике, на планете стекловидных эллипсоидов некий эллипсоид сочинил гимн — во время цикла релаксации. Придя в состояние бодрости, он о гимне забыл — просто я этот гимн изъял из его разума, преобразовал и поместил в разум своего носителя — герцога Альбино. Ну зачем, скажи, эллипсоидам гимны? Они прекрасно без них обходятся, греют свои эллипсы под десятью солнцами, и ладно. А вы, человечество, получили прекрасное стихотворение.
— Какое именно?
— «Гимн зимней буре». Помнишь: «Как это небо мглой покрыто, как вихри снежные летят…» Все школьники на вашей Планете знают это стихотворение наизусть, даже те, кто живет в местах, где и снега-то никогда не бывало.
— И герцог сам, самостоятельно, не сочинил ни одного стихотворения?
— Ну, он пытался. Ведь благодаря мне его собственный разум стал острее и восприимчивее к прекрасному. Герцог изучил теорию стихосложения, полифонию, размеры, ритмику, тонику, но когда он пытался на основе одних только своих знаний создать стихотворение, у него получалось… так, нечто неудобоваримое. Я стал не просто голосом в его голове, я голос его вдохновения. Знаешь, иногда он даже пытался взбунтоваться против меня — не слушал моих советов, замыкался в себе, отказывался писать. Но потом все возвращалось на круги своя — ведь Альбино знал, что, если я покину его и уйду к другому поэту или писателю, тот станет гением всех времен, а герцог Монтессори будет обречен на бездарную старость…
— Мне жаль его, — искренне сказала я.
— Отчего же?
— Он просто кукла в руках кукловода. Игрушка.
— Заметь, прекрасная, талантливая игрушка! И все смотрят на него, а про кукловода никто и не подозревает. Я ведь делаю это не для собственной славы, а для его.
— Нет. Как раз для собственной!
— Вот еще. Никто обо мне не знает и никогда не узнает.
— Но вот я же — узнала.
— А, ты… Но ты будешь молчать. Во-первых, потому, что ты любишь свою подругу Оливию и не захочешь, чтобы она узнала о своем отце такую непонятную и ненужную правду. Во-вторых, тебе просто никто не поверит, скажут, что ты хочешь очернить имя великого мастера. Ну и в-третьих, я ведь могу очень жестоко наказывать.
— Как?
— Представь, что я буду звучать у тебя в голове. Постоянно. Приказывать тебе убивать людей, или калечить себя, или поджигать все вокруг… Все поймут, что ты больна, и в какой-то степени будут правы. Знаешь, что делают с больными, которые слышат голоса, куда их запирают? Очень мило шутить насчет смирительной рубашки, обитых войлоком стен и ледяного душа — до тех пор, пока это не испытаешь на себе.
— Я… Я буду молчать.
— Не сомневаюсь. Ну вот. Ты узнала тайну, может быть, не самую великую, но наверняка такую, которую примешь близко к сердцу. Вот теперь ты можешь возвращаться к себе. Или останешься? Тут абсолютный покой. Ты перестанешь быть собой, но ты будешь информацией о некой Люции Веронезе, бывшей и жившей когда-то и где-то… Кому-нибудь и когда-нибудь эта информация может пригодиться…
— Нет, пожалуйста, отпусти меня!
— Нет проблем. Удачного дня-я-я-я…
— Дня, дня, дня…
— Она лежит так уже четыре дня.
— Послушайте, должно же быть какое-то средство, чтобы привести ее в себя! Она же не мертвая! Дыхания нет, но зрачки реагируют на свет!
— Герцогиня, следует вызвать доктора из столицы…
— Он неделю будет ехать! Люци! Люци, отзовись, где ты! Ну, очнись же ты!
По щекам хлоп-хлоп. Кто ж так хлопает, мух, что ли, отгоняет?.. И вообще, это мои щеки, они не предназначены для жестокого обращения.
— А-а, — заявила об этом я.
— Она очнулась! — раздался истошный визг, в коем я узнала голос герцогини Оливии.
— Э-э, — я попыталась приветствовать ее, но забыла, где у меня находятся руки. Потом вспомнила. Подняла одну. Кстати, было нелегко.
— Вот видишь, Сюзанна, я верила, что она жива и очнется. Фигаро, давай вольем в нее твой антипохмельный бальзам! Я знаю, что у тебя там добавлена смесь жгучих перцев, селитра и жидкий хрен, так что…
— Нет! — вот, ура, мое первое связное слово. — Нет! Я сама!
— Что сама, коровища моя ненаглядная?! — Оливия стиснула меня в объятиях. — Ух, как ты меня напугала!
— Сама приду в себя, без хрена. — У меня ужасно болела голова и двоилось в глазах, но в остальном я чувствовала себя вполне сносно. — Оливия, где я?
— В собственной комнате, дорогуша, — вместо герцогини голос подала Сюзанна. — Ох, и напугали же вы всех нас!
— А что было? — посмотрела я на Оливию.
Она тоже на меня посмотрела. Взглядом, который предполагает, что Оливия будет лгать как сивый мерин.
— Бедняжка! — жалостливо сказала она мне. — Мы пошли с тобой в картинную галерею, и там ни с того ни с сего ты упала в обморок.
— Картина…
— Да, мы как раз стояли перед картиной… с натюрмортом. Я пыталась привести тебя в чувство, но ты не реагировала. Тогда я отправилась за помощью. Фигаро перенес тебя в комнату, а Сюзанна все эти дни помогала мне тебя оживить. Ты не дышала четыре дня, твое тело было твердым и холодным, как мрамор, только глаза были живые. Слава Святой Мензурке, что ты очнулась! А то Фигаро уже рассуждал на тему твоих похорон. А мне, знаешь, ли, как-то не улыбается остаться без компаньонки…
— Сударыня, Люции нужно выпить чего-нибудь горячительного и укрепляющего и поесть. Я пойду и подогрею вина и сделаю гренки с сыром. Фигаро, вы, наконец, можете отправляться спать.
— Да, но если что, зовите.
Фигаро внимательно посмотрел на меня и вышел.
— Сейчас глубоко за полночь, — ответила Оливия на мой немой вопрос. — Сюзанна, мне тоже сделайте вина и гренок. А то уход за этой несчастной совершенно выбил меня из колеи.
— Хорошо, сударыня.
Сюзанна вышла.
— А теперь говори, — стиснула меня за плечи Оливия. — Что ты там увидела?
— Где?
— В картине! Ой, не прикидывайся, будто ничего не помнишь. Ты вошла в картину.
Я задрожала. Я вспомнила, как все было.
— Там абсолютная тьма, Оливия. И на самом деле шагу никуда ступить невозможно, потому что нет никакого «куда». Это не место. Это состояние.
— Не понимаю.
— Я тоже. Тьма и пустота. И голос, звучащий в моей голове. Чужой голос.
— Что за голос?
— Он назвал себя голосом Разума.
— Чьего именно?
— Вообще Разума.
— И что он говорил тебе?
Я открыла рот и как-то поперхнулась. И изо рта у меня хлынул поток черных камешков — как тот, что когда-то дал мне мессер Софус, советуя держать его во рту, чтобы не сболтнуть чего лишнего. Камешки сыпались долго, и это было мучением, которое не согласишься испытать больше никогда в жизни.
Когда камешки закончились, я без сил повалилась на кровать. Оливия держала меня за руку и дрожала.
— Я все поняла, — прошептала она. — Ты узнала тайну, которая может стоить тебе жизни. Мы больше никогда не заговорим об этом, Люци, обещаю. Даже в галерею больше не пойдем. Только не умирай, пожалуйста…
— Это… камешки надо убрать… Увидят… Расспросы лишние…
— Сейчас. — Оливия сгребла камешки в свой платок, завязала узлом и сунула под кровать. — Я потом выброшу, найду момент.
Тут как раз пришла Сюзанна с вином и ароматными гренками. Вообще-то у меня не было аппетита, но они с Оливией так упрашивали. Я выпила бокал, съела гренки и вдруг невыносимо захотела спать.
— Что-то воет, — прошептала я.
— Трамонтана. Наступает зима, девочки, — сказала Сюзанна. — Герцогиня, давайте я провожу вас в ваши покои, а сама вернусь и подежурю с Люцией. Вы устали.
— Нет, я не уйду, — сказала Оливия. — Мы вполне поместимся на одной постели. А вы, Сюзанна, ступайте отдохните. Спасибо вам…
Последнее, что я видела, проваливаясь в сон, — профиль Оливии, освещенный пламенем камина. А еще, даже во сне, я чувствовала, что она держит меня за руку, и это наполняло меня счастьем, которого я не испытывала никогда в жизни.
Глава пятнадцатая Нежданная гостья
Незваный гость — как в репе гвоздь.
Поступайте с ним по ситуации, дети мои. И с репой тоже.
Из проповедей Его Высокоблагочестия, т. 116Наутро выпал снег. Первый снег наступающей зимы. Я увидела его, когда встала с постели и подошла к окну. Снег лежал на зубцах крепостной стены, на башнях и балконах, на прогулочной площадке второго этажа. Окно немного заиндевело. Я подышала на него и вывела на стекле монограмму Оливии.
— Что это ты делаешь? — моя экселенса была, как всегда, легка на помине. — Рисуешь что-то неприличное?
Я стерла свой рисунок и повернулась к ней.
— Доброе утро, герцогиня. Поздравляю с первым снегом.
— И тебе того же. Первый снег! Ура!
Оливия соскочила с кровати и в один миг подбежала к окну, встала рядом. Я потрясла головой — нет, наверное, привиделось…
Оливия была без костылей. И прекрасно при этом двигалась.
Это невозможно.
Я посмотрела на нее сбоку. Совершенно прямая спина. Лебединая шея… Потрясающая фигура изящной фарфоровой статуэтки.
— Экселенса…
— Наконец-то ты заметила.
Оливия смотрела на меня пронзительным взглядом, в котором читались насмешка и… восторг? Кем это она восторгается?
— Сюзанна первой заметила, что я давно забросила и калечное кресло, и костыли, — заговорила Оливия. — Но полное исцеление произошло, когда ты хлопнула в ладоши, помнишь? Я тогда ночью заснула и увидела сон о том, что совершенно здорова. Утром подошла к зеркалу — сон оказался явью. Ты исцелила меня. Может быть, ты — Исцелитель, сошедший на землю в другом обличье?
Я испуганно замахала руками:
— Нет, ты что! Я вообще не понимаю, как это произошло. Когда я делала тебе растирания, я просто думала о твоей боли и старалась убрать ее, выкинуть вон из тела… Оливия, какая разница, как это вышло, раз ты здорова?
— Нет, — Оливия серьезно смотрела на меня. — Я обязана тебе жизнью. Тебе, и никому больше.
— Оливия, пожалуйста, давай не будем считаться, кто чем кому обязан. Я ведь тоже только в этом замке почувствовала себя человеком. Нужным кому-то.
— Мне. — Оливия обняла меня, подышала носом в ухо. — Но ты не очень-то задавайся.
— Я и не буду. Вообще надо делать вид, что ничего особенного не произошло, и твое исцеление — следствие пребывания в замке Его Высокоблагочестия.
— Слуги так и думают, наверное.
— Ну вот и прекрасно. А теперь давай умываться. И завтракать, завтракать! Есть хочу ужасно!
Мы привели себя в порядок, полюбовались тем, как здорово смотрятся наши бритые головы в обрамлении свежих кружевных воротничков, и поспешили спуститься к завтраку.
Герцог Альбино уже сидел за столом. Фигаро только что налил вина в его бокал, но герцог не заметил — он погрузился в чтение каких-то бумаг. Нашего приветствия он тоже не услышал, так что мы просто сели и возрадовались тому, что к завтраку подали вкуснейшие мясные рулетики, перцы в сладком маринаде и — о шедевр! — салат оливье.
За столом сидел и Себастьяно и выглядел довольно приятно.
— Привет, дамочки, — сказал он. — Как жизнь?
— Да лучше всех, — сказала Оливия. — Чего это у тебя мордочка такая розовая?
— Этот ваш прибор, по-моему, заигрывает с моей туфелькой, — мужественно стиснул вилку Себастьяно. — Меня, как ее верного рыцаря, это несколько напрягает.
— Понятное дело, — покачала головой Оливия. — Куда катится мир! Все эти научные разработки вконец оборзели — отбивают возлюбленных у нормальных мужиков! Себастьяно, ты его на дуэль вызови.
Мы захихикали.
— Сколопендры ядовитые, — беззлобно ухмыльнулся Себастьяно. — Какие планы на день? Предлагаю устроить пешую прогулку под снегопадом.
— Поддерживаем, — немедленно отозвалась Оливия. — Подышим свежим воздухом, а то такое ощущение, что замок навсегда пропитался дустом.
Сказано — сделано. После завтрака мы все потеплее оделись и вышли через южные ворота замка. Перед нами была пустынная дорога, по обочинам которой росли огромные дубы и вязы, и пустоши, сейчас укрытые белыми простынями свежевыпавшего снега.
— Какой воздух! — вдохнула Оливия. — Пьянит лучше любого вина.
Мы потихоньку пошли по дороге, любуясь деревьями в снежных уборах и болтая о всякой чепухе. Скоро мы дошли до грачевника — несколько сросшихся стволами громадных тополей в своих спутанных кронах прятали десятки грачиных гнезд. Грачи переругивались, но злобности или тревоги в их криках не было — видно, первый снег порадовал всякую живую тварь.
Мы полюбовались гнездами и хотели было повернуть обратно, как вдруг Себастьяно побледнел и закричал:
— Смотрите! Там, в ветках!
Мы стали вглядываться в спутанный ком ветвей. И впрямь там было нечто странное — ярко-розовое и золотистое.
— Может, это какой-нибудь хлам грачи притащили для гнезда, — попыталась я дать версию увиденному, но тут Себастьяно снова возопил как помешанный:
— Я узнаю этот цвет! Именно такого цвета было одеяние моей возлюбленной!
И, не слушая наших уговоров, Себастьяно полез на тополь.
Оказалось, что он весьма ловко лазит по деревьям. Грачи выражали по этому поводу крайнее недовольство, некоторые из агрессивно настроенных пытались бить его крыльями и клюнуть прямо в лицо. Но наш герой был настроен решительно, от грачей отбивался ловко и, разворошив гнездо, добыл свой приз. Спускаться было потруднее, но и с этим Себастьянчик справился прекрасно. Мы зааплодировали и подошли поглядеть, что же такое он вытащил из грачиного гнезда.
Это было платье из розовой ткани, полупрозрачной и в то же время очень прочной. Хотя оно побывало в грачином гнезде, на нем не было ни пятнышка, ни дырочки, оно даже почти не помялось. Судя по размерам, хозяйка его была девушкой миниатюрной.
А золотистым пуком оказались волосы — крупные кольца длинных кудрей. Себастьяно прижал их к груди и зарыдал.
— Не рыдай, Себасгьянчик. Наверное, твоя красотка тоже решила побриться, как мы. А что, очень удобно, лысая башка нигде не застревает. И мыть легко.
— Глупости, — Оливия взяла золотистый ком и посмотрела: — Это не настоящие волосы. Это парик. Видите — швы, тканевый каркас изнутри? Ну вот. В столице парики сейчас очень модны, так что твоя дама сердца, Себастьянчик, видно, была столичной штучкой. Вот только зачем она рассталась со своим прикидом, непонятно. И где она сама бродит и в каком теперь наряде? Неужто в исподнем и всего при одной стеклянной туфельке? Сезон не тот, отморозит себе все полезные части тела.
— Я все равно найду ее! — пылко заверил небеса Себастьяно, свернул добычу и сунул под мышку. — Может быть, она все еще в замке.
— Это вряд ли. Скорее всего, она переоделась, села на коня и ускакала в неизвестном направлении. А одежду выбросила по дороге…
— Да, но зачем она переодевалась? Вообще бред какой-то.
— Не бред, а загадка поместья Монтессори, — назидательно молвил Себастьяно. — Хорошее название для романа.
— Какого еще романа? — в великом изумлении воззрились мы на Себастьянчика.
— Приключенческого, — голос Себастьяно зазвучал как-то гордо.
— Ты что, книжку пишешь? — захлопала ресницами Оливия.
— Ну да, — Себастьяно покраснел. — Нет, а что такого? Как будто благородный кавальери не может писать книги! Вон, герцог пишет же. Чем я хуже? Только у меня жанр другой будет… Тайны всякие, преступления, загадки, погони, дуэли, коварство и любовь. Люди любят такие книги.
— Это да. Но мой папашка считает это низкой литературой. Так что в его присутствии лучше об этом и не заикайся. К тому же никто не любит соперников по перу. Вдруг ты обгонишь моего папашу в славе? Он тебе этого никогда не простит, Себастьянчик.
Мы посмеялись.
— Тихо! — поднял руку будущий писатель. — Слышите?
Мы прислушались. В морозном воздухе раздались стук копыт и крик. А скоро мы увидели бешено несущуюся лошадь и истошно вопящую всадницу, вцепившуюся в поводья и пытающуюся остановить взбеленившегося коня.
— Лошадь понесла, — первым разобрался в ситуации Себастьяно. — Девочки, уйдите с дороги подальше!
Мы зашли за живую изгородь из бирючины и стали свидетельницами того, как Себастьяно бросился наперерез лошади, размахивая свернутым розовым платьем.
— Убьется, дурак! — возопила Оливия, но ничего подобного не случилось. Завидев Себастьяно, лошадь остановилась, дыша так тяжело, что ее бока ходили ходуном. Ее морда была в клочьях пены, она грызла удила, но Себастьяно бесстрашно подошел к ней и взял под уздцы.
— Хороший мой, хороший, — бормотал он примирительно и поглаживал лошадиную морду. — Все, успокойся, сейчас пойдем в конюшню…
— Смотри-ка, — удивленно сказала Оливия. — А Себастьянчик-то не слабак! Я думала, он только жрать да спать умеет, ан нет… Приятно, когда вот так разочаровываешься в людях.
— Подойдем к ним, — предложила я.
Себастьяно уже помогал хозяйке коня слезть с седла.
Она, как и полагалось даме, была в полуобморочном состоянии. Пришлось достать флакончик с нюхательными солями (всегда с собой ношу на всякий случай) и сунуть ей под изящный носик.
— Ах, — вдохнула дама, дернулась и открыла глаза.
Красоты она была такой, о какой только в романтических сонетах и пишут. И глаза, и ресницы, и румянец, и кожа, и губы — ну не придерешься. И еще такой поверх всего как бы налет — вот как у бабочек их цветные переливчатые чешуйки. Так что глаз оторвать невозможно. Себастьяно и прилип, и у него в глазах сразу обалдение появилось невероятное.
— Сударыня, — так и расплылся в поклоне он.
— О, — красотка ухитрилась объять взглядом всех нас разом. — Вы спасли мне жизнь!
— Вот ваш спаситель, сударыня, — Оливия указала на Себастьяно. — Мы лишь обеспечивали моральную поддержку.
— Кавальери Себастьяно Монтанья к вашим услугам, сударыня, — еще раз раскланялся наш дамский угодник.
— Я герцогиня Оливия Монтессори, а это моя компаньонка, Люция Веронезе, — экселенса смотрела на гостью очень внимательно. Ее одной красотой не расслабишь. — Хотелось бы узнать ваше имя…
— Я баронесса Беатриче Висконти, — даже удивительно, что у такого небесного создания оказалось вполне земное имя.
— Баронесса? Как же вы одна, без свиты? Куда вы направлялись?
— Ах, я сейчас все расскажу. Я выехала с камеристкой и слугами из поместья своего дяди и направлялась в город Торренто.
— Это гораздо южнее отсюда, вы сбились с пути…
— Мы проезжали через лог, и там на нас напали разбойники! Моих спутников убили, моя лошадь испугалась и понесла! Эта скачка продолжалась так долго, я уже не надеялась, что останусь в живых, я не представляла, в каком направлении двигаюсь! И вдруг — вы, чудесное спасение!
— Вы измучены и устали. Мы отведем вас в замок, баронесса.
— Здесь есть замок?
— Да, — сказала Оливия. — Вон виднеется. Вы находитесь в землях моего отца, герцога Альбино Монтессори.
— Великого поэта? — ахнула баронесса.
— Да.
— Ах, это просто чудо! Я обожаю стихи герцога Альбино!
— Ну, тогда поспешим в замок, будьте нашей гостьей.
Для измученной дамы баронесса довольно резво взяла с места и направилась к замку, так что мы едва за ней поспевали. Впрочем, спешить стоило — конь был слишком разгорячен, и следовало поскорее отвести его в конюшню.
Когда мы оказались во дворе замка, Себастьяно повел коня, заявив, что лично проследит за тем, чтобы уставшему животному был обеспечен надлежащий уход.
— Вот, баронесса, — Оливия обвела рукой замок и постройки. — Это Кастелло ди ла Перла. Добро пожаловать! Здесь вы сможете отдохнуть и набраться сил…
— О, благодарю вас! — баронесса восхищенно всплеснула руками. — Оказаться в поместье великого поэта — это честь, о которой я буду рассказывать своим детям!
— У вас есть дети, баронесса? — удивилась я. Возрастом госпожа Висконти была ну может на пару лет старше нас.
— Нет, — зарделась баронесса. — Но когда дядя выдаст меня замуж, появятся. Я на это очень надеюсь, я так люблю детей!
Мы вошли в холл. Слуге, что принимал наши шубы, Оливия сказала:
— Сообщи дворецкому, что с нами прибыла гостья.
Фигаро появился незамедлительно, почтительно поклонился баронессе и, поскольку девица сия вновь проявила признаки слабости и усталости, самолично отвел ее в гостевые покои.
— Просто удивительно, — заметила Оливия, когда мы поднялись в библиотеку. — У нас не дом, а прямо постоялый двор какой-то. То родственники толклись без конца, то крылатые благочестивцы, а теперь вот с первым снегом баронессу принесло.
— Это хорей, — улыбнулась я.
— Какой еще хорей? — воззрилась она на меня.
— «А теперь вот с первым снегом баронессу принесло». Трехстопный хорей с пиррихием. Видишь, в доме поэта даже ты заговорила в рамках стихотворных размеров.
— Тьфу, гадость! Стихи — вот первое, от чего я избавлюсь, когда стану полноправной хозяйкой замка.
— Да ладно тебе. Стихи — отличная штука, с ними жить интереснее.
— А у меня будут другие интересы. Я астрономией займусь. После того как узнала, что миров и вселенных такое множество. Как хочется их увидеть! Узнать, кто их населяет…
— Ну, вот туфельки стеклянные — к примеру. Кстати, где это наш Себастьянчик?
Он не замедлил явиться.
— Ну что, конь счастлив в герцогских конюшнях? — набросились мы на Себастьяно.
— Конь-то счастлив, — тон у Монтаньи был очень философический. — Много ли ему, коню, надо для счастья…
— Понятное дело, — хихикнула я. — А тебе, замечательный ты наш?
Себастьяно горестно вздохнул и положил на столик розовое платье и золотой парик:
— Где она теперь? Может быть, ее растерзали хищные звери…
— Ну, это вряд ли. Кстати, баронесса говорила о том, что на нее напали разбойники. Вот это интересно. В наших краях давным-давно нет никаких разбойников. Папашкины вассалы жестко разобрались со всеми шайками в округе…
— Значит, появились снова. Герцогу стоит отправить отряд рыцарей прочесать окрестности.
— Себастьяно, — вдруг взмолилась Оливия. — Убери ты эту свою добычу со стола, спрячь в своей комнате, а? Почему-то смотреть на нее противно. У меня возникает ощущение, что это ее кожа, твоей прекрасной незнакомки. И сейчас эта красотка бродит где-то в новом обличье, гадости творит.
— Почему обязательно гадости?
— Ну, а что еще может творить девица, которую ты встретил возле свиной кормушки? Была бы она нормальным, приличным человеком, она бы явилась в замок, представилась…
— Да суть-то как раз в том, что она не человек! Она вторженка из дальнего космоса! Раз даже туфельки у нее — органические формы внеземной жизни!
— Вот именно! Люци права. А я вот тут вообще задумалась — баронесса точно баронесса или тоже пришелица из какой-нибудь вневекторной реальности? Может, поэтому конь под ней и взбесился, почуял неземной объект? И потом, заметьте, она красивая просто до ужаса. Такой красоты на Земле не бывает. Вон, возьмите женские портреты великих художников — красавицы, но вполне земные, родинки там у них, прыщики, волосы секутся, бледность, ногти обкусаны… А тут — ну как кукла фарфоровая…
— Это ты просто завидуешь ее красоте, герцогиня, — мстительно сказал Себастьянчик.
— А вот и нет. Я просто объективно рассуждаю. Баронесса — вторженка, это точно. С красотой она перестаралась. Наверняка в истинном обличье она такая страхолюдина, что хоть беги. Люция, ты там сообщи, куда надо, насчет баронессы. Пусть твой друг примет меры. А то мало ли что…
— Хорошо, — кивнула я. — Мессер Софус обязательно будет в курсе.
— Скоро обед, — сказала Оливия. — Баронесса наверняка будет за столом. Вот и понаблюдаем за ней.
Мы пошли переодеваться к обеду, чтобы на фоне ослепительной баронессы не выглядеть совсем уж серыми мышками. Оливия, с тех пор как исцелилась, стала вместо лосин и туник надевать платья — простого приталенного силуэта, с длинным шлейфом и изящными рукавами. Ей очень шло, худенькая и отныне абсолютно стройная, она выглядела изумительно. А бритая голова, я считаю, добавляла ее образу некую пикантность. Конечно, все в замке заметили, что Оливия перестала быть калекой. Все, кроме герцога. Потому что он традиционно избегал смотреть на дочь и встречаться с ней. В последнее время он обедал в скриптории. Но сегодня за обедом предполагается гостья, так что мессер Альбино наверняка удостоит нас своим обществом.
Так оно и вышло. То есть герцог вышел к столу, холодно-вежливый и надменный, как всегда.
— Для меня большая честь, баронесса, принимать вас в своем скромном жилище…
— О, ваша светлость! — томно проворковала юная Беатриче. — Это я благодарю небеса и вас за то, что сподобилась лицезреть великого поэта современности! Ваше творчество — истинное наслаждение для ума и души!..
— Давайте сейчас не будем о моем творчестве, — довольно резко оборвал герцог баронессу. — Прошу за стол. Думается, после такой бурной прогулки вы нагуляли аппетит.
Как это ни удивительно, обед прошел практически в молчании. Баронесса, почувствовав, что ее восторги по поводу творчества герцога не находят отклика, как-то быстро сникла и принялась лопать оливье и жареных цыплят с аппетитом, который пристал бы трактирному обжоре. Ну, конечно, она переволновалась, страх за жизнь и все такое…
— Вашему коню обеспечен надлежащий уход, баронесса, — счел нужным сообщить Себастьяно.
— О, благодарю вас, — баронесса послала Себастьяно ослепительную улыбку. Тот расцвел, как куст флоксов.
— Ваша светлость, — подала голос Беатриче Висконти, когда подали десерт. — Не могли бы вы мне после обеда показать ваш замечательный замок…
При этом она стала прямо-таки ослепительной красоты, мы с Оливией аж прищурились, но герцог оказался непробиваем и сказал:
— В вашем распоряжении, баронесса, моя дочь Оливия и ее компаньонка. Думаю, они прекрасно справятся с этой задачей, а мне, извините, работать надо.
Хм. Прямо шахтер какой-то. Типа без его работы страна угля недосчитается. Небось вымучивает из себя посредственные вирши про фрукты и овощи — обратиться за помощью к анапестону ему гордость не позволяет. Ну и дрын с ним. Нам с Оливией несложно потратить время на красотку баронессу, тем более что заодно мы сможем методом непосредственного наблюдения выяснить, вторженка она или так, просто красавица.
После обеда мы показали баронессе картинную галерею, Оливия при этом вдохновенно врала про подвиги далеких предков из рода Монтессори (а может, и не врала). Я заметила, что в галерее больше нет картины, через которую я попала в никуда и узнала тайны, о которых хочется забыть. Вообще не было колонны, на которой висела картина. На этом месте высилась скульптурная группа: огромный жук с воздетыми вверх передними лапками, а вокруг — коленопреклоненные люди.
— Оливия, — морщась от отвращения, спросила я. — Откуда здесь эта уродская скульптура?
— Сама не знаю, — ошарашенно молвила Оливия. — Здесь же та картина была. И колонна! Ничего не понимаю.
— Что-то не так? — вклинилась в наш разговор любопытная баронесса.
— Все так, не обращайте внимания. Вы знаете, в замке герцога недавно гостил Его Высокоблагочестие со свитой…
— Ах!
— Вот этому великому событию и посвящена эта скульптура. Хотя я даже садовой фигурой ее бы не сделала.
— А у вас есть сад? — захлопала глазками баронесса.
— Да, небольшой и довольно запущенный. Сейчас там пустынно, неуютно. В оранжерее гораздо теплее, красивее и интереснее. Там много редких растений из других краев…
— Ах нет, пожалуйста, покажите мне ваш сад! — в голосе баронессы вдруг промелькнул металл.
— Да пожалуйста, — пожала плечами Оливия. — Только давайте сначала сходим за теплыми шалями — мерзнуть нам ни к чему.
И вот мы снова оказались в саду, где вместе с пшепрашамской княжной Марысей собирали осенние цветы, чтобы украсить замок к приезду священного Жука. Сейчас сад был засыпан снегом, клумбы и ретирады пустынны и грустны. Но баронесса просто зашлась от восторга и принялась бродить по саду, ахая и восхищаясь над каждым корявым кустиком.
— Что это она, а, Люци? — негромко спросила меня Оливия.
— Знаешь, у меня такое впечатление, — сказала я, — будто она пришла в место, давно ей известное. Как будто она здесь когда-то что-то спрятала, а теперь пытается найти.
— Ну точно вторженка, — заключила Оливия. — Разве нормальный человек будет что-нибудь прятать в этом саду?
— А давай ее спросим. Баронесса, что вы ищете в саду герцога Монтессори?
— Ах, — обернулась к нам Беатриче, лицо ее слегка исказилось — как будто смазались краски на портрете. — Я ничего… Я здесь впервые… Как я могу…
— Бросьте вы, — отчеканила Оливия. — Мы вам тут тоже не дурочки с переулочка. Вы — явная вторженка. Так что извольте объясниться: цель вторжения, откуда вы будете и так далее?
— Я не понимаю.
— Ой, хватит. Сейчас пойду и позову личную охрану отца. У нас в замке, между прочим, и камера пыток имеется.
— Что, правда? — удивилась я, но потом поняла, что у Оливии разыгралась ее буйная фантазия.
Баронесса вздохнула и опустила ручки, став еще больше похожей на фарфоровую куклу.
— Хорошо, — грустным голосом сказала она. — Я скажу всю правду. Только вам и больше никому. И обещайте, что вы мне поможете.
— Ну, это как масть пойдет, — сказала Оливия. — Может, вы нашу Планету уничтожить собираетесь, а мы вам помогай? А патриотизм?
— Мое настоящее имя Ай-Серез, если произносить вашими звуками, — сказала баронесса. — Я переместилась в вашу звездную систему из туманности Белого Возничего, это пять с половиной миллиардов световых лет до этой Планеты.
— Далеконько вам пришлось путешествовать, — сказала Оливия. — Наверное, цель у вас серьезная. Точно, небось взорвать Планету собираетесь. Или поработить.
— Нет, нет, что вы, у меня совсем другое, личное дело, — молитвенно сложила ручки баронесса. — Дело в том, что у меня есть старшая сестра. Нас разлучили очень давно, я тогда была еще ребенком и не имела достаточно жизненной энергии для того, чтобы перемещаться во вневекторных подпространствах. Однако, едва я достигла энергетического и информационного совершеннолетия, я немедленно отправилась в путешествие, дабы отыскать свою сестру.
— И при чем здесь этот сад?
— Понимаете, передвигаться во вневекторных подпространствах можно только определенным способом. И по определенным правилам. Иначе просто никуда не попадешь. Я долгое время вычисляла траекторию пути своей сестры. Однако я допустила неточность и в результате оказалась на Планете 1.0 — точной копии вашей Планеты. Там все абсолютно такое же, как здесь.
— Что, и люди?
— И люди. Они — ваши двойники. Или же — вы их. Там я почувствовала след сестры; понимаете, мы — существа с очень сильной эмпатией, кроме того, в нас очень сильны кровные узы. Хотя я никогда не видела своей сестры, я чувствую, ощущаю ее. Там это ощущение было необычайно сильным, особенно когда я оказалась в тамошнем Кастелло ди ла Перла.
— И замок называется так же?
— Да. Абсолютная идентичность. Но все дело в том, что сестры там не было. Там было просто знание о ней, словно там ждали, что она появится, предчувствовали, но она оказалась в ином пространстве. Я провела много времени, вычисляя, каким путем мне попасть на вашу Планету — она ведь находится в антисингулярности. Сложно объяснить.
— Но ты постарайся, — внимательно глядя на пришелицу, попросила Оливия.
— Я, да… — кивнула она. — Дело в том, что моя сестра, попав на вашу Планету, мгновенно прошла обратный жизненный цикл.
— То есть?
— Она превратилась в оплодотворенную яйцеклетку в матке женщины вашей Планеты. И стала развиваться, как развивается всякий человеческий плод. За девять месяцев пребывания в утробе своей здешней матери она обрела стандартные человеческие способности и родилась обычной девочкой. Однако с матерью ей не повезло. Это была незамужняя горничная из Кастелло ди ла Перла. Забеременела она в результате связи с молодым дворецким, и, сложись грани иначе, она родила бы обычного ребенка. Но в тот момент зародышем стала моя сестра. Горничная до последнего скрывала свое положение, а для родов отпросилась и уехала подальше от замка. Была зима. Дул ветер из степи. Несчастная девушка добралась до заброшенного кладбища. Там стояла старая часовня, и в ней бедняжка разрешилась от бремени. Она обтерла младенца загодя приготовленными полотенцами, потом запеленала ее в пеленки, которые украла в замке. На пеленках и одеяльце были монограммы, но она предварительно спорола их…
— Что? — дернулась я. — Нет, ничего, продолжайте.
— Юная мать понимала, что ей нельзя возвращаться в замок с младенцем. Она пошла к ближайшей деревне. Там был трактир «Рог и Единорог». На пороге этого трактира несчастная оставила свое дитя, а сама бежала, теряя силы…
— Таких совпадений не бывает… — ошарашенно прошептала я. — Святая Мензурка… Эта горничная вернулась в замок?
— Да, — сказала Беатриче. — Сейчас она экономисса в замке, ее зовут Сюзанна.
— В чем дело, Люци? — воззрилась на меня Оливия. — Подожди, черт, это же о тебе: младенец на пороге, трактир «Рог и Единорог», ты рассказывала!!! Это ты была тем младенцем, Люци! А Сюзанна, выходит, твоя мать?! А отец тогда — Фигаро?! Ой, подождите, дайте осмыслить.
— Чего уж тут осмыслять, — непослушными губами прошептала я. — Вряд ли на порог того трактира часто подбрасывали младенцев…
— Да, — улыбнулась Беатриче. Из глаз ее полились слезы — они светились, словно бриллианты и, падая на ее платье, застывали драгоценными камешками. — Да, Люция. Это ты — моя сестра. Я наконец-то нашла тебя.
Она раскрыла объятья, но я отшатнулась:
— Погоди, погоди… Это все, конечно, круто, но я ничего не помню о том, что жила когда-то на твоей планете. Я и себя-то помню лет с пяти, когда меня впервые выпороли за то, что пролила помои на сапоги клиента трактира… Ты хочешь сказать, что я нездешняя? Но ведь я обычная. У тебя вон из глаз бриллианты сыплются, а я нормально реву, как все люди. И мы с тобой совсем не похожи.
— Ну конечно же! — воскликнула Беатриче. — Твоя прошлая жизнь спрятана в тебе очень-очень глубоко! Ты даже не помнишь своего настоящего имени!
— Мне достаточно зваться Люцией Веронезе, — пробурчала я.
— Да, ты вправе зваться, как хочешь, но знай, что наша мать дала тебе прекрасное имя: Ай-Кеаль, что в переводе с нашего языка означает…
— Цветок поздней осени, — проговорили мои губы, прежде чем я успела что-либо сообразить.
— Вот видишь! — воскликнула Беатриче. — Ты вспомнила. Память другой жизни возвращается к тебе. Я вижу твое излучение, оно стало сильнее! Скоро к тебе возвратятся способности, которыми ты владела до второго рождения.
Тут Оливия посмотрела на меня:
— Теперь мне ясно, как ты смогла исцелить меня, Люци! Ты — вторженка, разбейся Святая Мензурка! Ты — нездешняя!
— Оливия, — прикладывая руки к груди, забормотала я. — Прости, ради всего святого. Я, клянусь, честно не знала, кто я и что и откуда взялась. И как исцелять — я тоже не понимала, просто чувствовала боль… И старалась ее унять…
— Она еще прощения просит! — воздела руки Оливия. — Ты подумай мозгом, Люци, у тебя родня нашлась, да не откуда-нибудь, а с офигительно далекой звезды.
— Да, — радостно выдохнула Беатриче, или как там ее зовут. — Позволь обнять тебя, старшая сестра!
Мы обнялись. Никаких родственных флюидов я не ощутила.
— Подожди, — сказала я. — Почему я старшая? Я ведь здесь живу всего пятнадцать лет.
— Это по здешнему летоисчислению. Согласно исчислениям нашей звездной системы, тебе пятьсот осеней.
— Кошмар какой. А тебе сколько тогда?
— Всего лишь триста две. Я едва достигла совершеннолетия, тогда как ты полна силы и мудрости, и скоро в тебе пробудится кровная память. Потому что я рядом. Ты вспомнишь родную планету, вспомнишь нашу мать — низложенную с престола королеву Н’Янму Порфироносную, кровавых диктаторов, захвативших власть. Когда тебя переместили за грани, эти двадцатиглавые мерзавцы решили, что отныне нашему роду пришел конец, ведь престол наследует только старшая сестра. Но мать, умирая на аннигиляционном столе, взяла с меня клятву найти тебя и вернуть планете законную правительницу.
— Ой-е-е-е, — протянула я. Мозг у меня шипел и плавился. — Вот только этого мне еще и не хватало: королевской родни из глубокого космоса. Имей в виду, Беатриче, я тебе не верю ни капли. Ни даже капелюшечки. Это просто какая-то ошибка. Я не утверждаю, что у тебя нет сестры, но я утверждаю, что эта сестра — не я. Я родилась на этой Планете, и других жизней по другим адресам у меня не было.
— Но ты же вспомнила свое имя! — горестно воскликнула Беатриче.
— Это случайность.
— А твои целительские способности? — вклинилась Оливия. Ей что, тоже хочется, чтоб я оказалась родом из какого-то подпространства?
— Ну… не знаю. Бывают же и люди — целители. А тут сразу бух по башке — ты с другой планеты, и ты — не ты, а наследная принцесса, и тебе после обеда придется метнуться до родины, чтоб свергнуть кровавых диктаторов! Ой, бред. Девочки, я в такие игры не играю…
Очнулась я на садовой скамейке. Она была холодная, и к реальности возвращала не хуже нюхательных солей. Беатриче и Оливия сидели по обе стороны от меня и спорили:
— Свинья ты все-таки, Беатриче, или как тебя там! Довела сестру до обморока! А если б у нее вообще случился сердечный приступ? А? И, кстати, Люци права: может, все твои разговоры — гнусная ложь.
— Нет, не ложь! — шипела Беатриче. Кстати, у нее было очень горячее тело, гораздо горячее, чем тело Оливии. Как будто с одной стороны я прислонилась к пышущей жаром печке. — И у меня есть доказательство.
— Это какое же? Свидетельство о рождении на планете Тру-ля-ля?
— Вовсе и нет. Доказательство — способности моей сестры.
— Ну да, то, что она исцелила меня, — это, конечно, выходит за рамки обыденного. Но в остальном…
— Смотри! — воскликнула Беатриче, и я взвизгнула от боли: она воткнула иголку мне в палец! Да больно как!
— Ты что? — возмутилась я, глядя, как набухает на кончике пальца кровавая капелька.
— Просто смотрите, — Беатриче взяла меня за палец, повернула его, и кровь стала капать на землю. И — я одна заметила это? — в полете капли светились, словно маленькие алые фонарики.
Поначалу ничего не происходило. А потом заснеженная земля, на которую капала моя кровь, вдруг оттаяла, и из нее полезли ростки травы и крокусов. И этот круг зеленеющей земли расширялся!
— Так, хватит, — сестра подула на мой палец, и кровь перестала капать. — А то мы заставим цвести зимой весь сад. Твоя кровь, Ай-Кеаль, обладает животворящей способностью и даже мертвое сделает живым.
Крокусы распустились, а я сидела и потрясенно смотрела на них.
— Значит, это правда, — наконец выдавила я. — То, что я не отсюда.
— Правда, — радостно кивнула Беатриче.
— Правда, — вздохнула Оливия.
— И что мне теперь делать?
Жалко крокусы. Скоро они почувствуют, что расцвели не вовремя, и съежатся от холода, умрут. Жаль. И виновата в их ненужной смерти моя кровь. Потому что я нездешняя. Я чужая. Снова и навсегда чужая этому миру и тем, кого успела полюбить. А где-то за тысячами граней тысячи миров есть моя настоящая родина, в которую мне совсем не хочется возвращаться, будь я даже трижды наследницей престола.
— Что же мне делать? — потрясенно повторила я.
И посмотрела на Оливию.
Я часто читала в ее глазах затаенную боль, отчаяние, тоску. Но такого открытого горя я не видала еще никогда. Слава Святой Мензурке и Благословенному Градуснику! Хоть я и не отсюда, здесь есть живая душа, которая не хочет меня лишиться. Которая по-настоящему меня любит и стала сестрой не по крови, а просто потому, что мы нашли друг друга. Терпеть не могу так высокопарно выражаться даже мысленно, но вот получилось.
— Оливия, ты знаешь, — медленно сказала я. — Я никуда отсюда не денусь. Даже если свергнуть кровавых диктаторов ну просто позарез как надо. В конце концов, вместе на досуге смотаемся и свергнем.
— Точно, — улыбнулась Оливия и тщательно загнала слезы в самую глубь своей коварной души.
— Как? — жалобно воскликнула Беатриче. — Ты не хочешь вернуться вместе со мной на свою истинную родину?
— Не хочу, — твердо заявила я. — Мне и здесь нравится. Тем более что выяснилось, кто мои мама и папа. Оливия, ведь это ж Сюзанна с Фигаро!
— Не дура, поняла, — ухмыльнулась Оливия.
— Представляешь, как мы их обрадуем? Они ж сами не свои станут. От счастья.
— Да, тоже в обмороки начнут падать, рыдать, сопли утирать большими шелковыми платками…
— С монограммами.
Мы расхохотались.
— Смотрите, — отсмеявшись, показала на землю я. — Холодно, а расцветшие крокусы не вянут.
— Они не завянут никогда, — с улыбкой объяснила Беатриче. — Они будут цвести вечно. И трава вот эта тоже вечно будет расти. Это дар твоей крови. Ай-Кеаль, я понимаю тебя. Ты после долгих лет одиночества обрела в Оливии подругу, а в замке герцога Монтессори — дом. Поэтому ты не можешь уйти отсюда в одночасье. Хорошо. Я буду ждать. Просто когда ты все решишь для себя, дай знать.
Я кивнула.
— Кстати, что ты искала в этом саду, Беатриче?
— Свидетельства твоего присутствия. Знаки. Ты касалась здешних деревьев и цветов…
— Да, но это было достаточно давно…
— Время не имеет значения. Даже простое твое прикосновение сделало больные растения здоровыми, старые — молодыми. Вот удивится здешний садовник, когда весной его сад распустится словно по волшебству. А волшебства-то никакого и нет.
— Иногда я думаю, что лучше бы Люци была волшебницей, окончила бы какую-нибудь академию магии или типа того…
— Тебе просто не терпится накатать на меня донос, как на ведьму, и сжечь на костре, — я показала Оливии язык.
— Уж конечно! — в тон ответила она. — Я должна быть коварной и зловредной или как? И потом, мне надо немного попухнуть от удушающей зависти — ты, Люци, принцесса, дрын тебе под мышку, а я всего лишь герцогиня!
— Ничего, у тебя все впереди. Метнемся в мою галактику, найдем какого-нибудь звездного мальчика помордастее и породовитей, и оп-ля — ты замужем за принцем, вся в мармеладе.
— Мармелад терпеть не могу. Кстати, о еде. Что-то пожевать захотелось. Ты как насчет перекусить, Беатриче?
— Кого перекусить? — Беатриче напряглась.
— Не, мы насчет еды… Кушать типа.
— А, — улыбнулась Беатриче. — С удовольствием. У вас потрясающе вкусная еда, и вся настоящая, не искусственная. Вот это блюдо, где горошек, ветчина, яйца, лук и белая заправка…
— Оливье?
— Да! Оно просто божественно!
— Оливия, ты чувствуешь, как салат имени тебя завоевывает даже космическое пространство?! Гордись!
— Само собой.
И мы пошли на кухню, так как до официального обеда еще оставалось часа полтора. Но мы терпеть не могли.
Нас встретили радушно, Сюзанна самолично подала нам суп-пюре с патиссонами и бараниной, салат, мясной хлеб и картофель во фритюре. В общем, мы несколько объелись. После чего решили немного отдохнуть в библиотеке. Там мы лениво рассматривали роскошно иллюстрированные гримуары со старинными преданиями и практически уже засыпали, разомлев от каминного тепла, как явился Себастьяно и все испортил.
Он встал на пороге библиотеки, рыдая в три ручья.
— Себастьянчик, что ревем? — лениво поинтересовалась Оливия, откладывая в сторону игриво иллюстрированный том росских заветных сказок.
— Она, она, — всхлипнул бедный кавальери.
— Аденома? — предположила я.
— Тьфу, дура, — некуртуазно ругнулся потомок Монтанья. — Скажет тоже, аденома. Фурункул тебе на язык!
— Тогда иди к нам, бледный рыцарь, пади в ноги и поведай свое горе, — королевским тоном предложила Оливия.
Бледный рыцарь пошел, но в ноги падать не стал, предпочтя уютную кушетку с кучей бархатных подушек.
— Выпить ничего нет? — спросил он. — Голова раскалывается просто.
— Тебе не выпивка нужна, а дрын хороший. — Оливия прямо на глазах мудрела и обретала серьезный жизненный опыт. — Не тяни козла за хвост, рассказывай, что стряслось и кто эта она?
— Туфелька, — всхлипнул Себастьяно. — Она исчезла. Просто как мыльный пузырь лопнул. Вот была, была, и — все, нет. За пазухой пусто. Кстати, Люци, на, возьми твой прибор. Он-то в целости и сохранности. Теперь он мне без надобности, кому теперь читать сказки и занятные истории…
И он зарыдал в подушку.
— Самоуничтожилась, — в один голос сказали мы с Оливией. — Не вынесла разлуки с органоносителем.
— Ну ты ничего, Себастьянчик, не кисни, — тоном счастливого гробовщика заговорила Оливия. — Ты думай о том, что твоя туфелька сейчас в лучшем мире, среди других туфелек вкушает покой и блаженство.
— И потом, — в тон добавила я. — Еще не факт, что она самоуничтожилась. Может быть, она просто таким образом вернулась к органоносителю. Мы же ничего толком не знаем о природе органических туфелек. У тебя, Себастьяно, была, конечно, возможность изучить туфельку попристальнее, но ты вертопрах, научная усидчивость и скрупулезность не по тебе. Ты все по верхам лазаешь, за розовыми подолами и золотыми кудрями…
— Да! — оторвался от подушки Себастьяно. — Платье и парик тоже пропали!
— Ну, может, горничная выкинула, как хлам…
— Я их в своем несессере прятал! А несессер на ключ запирал! Сегодня открыл — нету!
— Слушай, Себастьянчик, наверное, это твоя прекрасная незнакомка тишком проникла в замок и силой какого-нибудь животного магнетизма притянула к себе свои вещи.
— Ну зачем они ей? Она же их выбросила.
— Может, она фетишистка. Любит копить всякое барахло, с дерь… с ерундой не расстанется. Вот и забрала.
— А может быть, — начала строить версию Оливия, — она увидела, как ты страдаешь от неразделенной любви и решила освободить тебя от предметов страсти, исцелить, так сказать. Потому что сама ответить на твою любовь не в силах. Она же нездешняя. Надо понимать. Это тебе не девчонка с птичника. И вообще, Себастьянчик, можно ли так горевать о какой-то эфемерной красотке, когда здесь сидит баронесса Висконти? Где же твоя галантность?
— Ох, простите, дамы, не до галантности. Очень напиться хочется, а не мадригалы читать.
— Да, — мрачно молвила Оливия. — Так он и умирает, истинный рыцарский дух. А я еще удивляюсь, чего это папашкины вассалы все такие грубые и без лоску. Где ж нам с тобой, Люци, женихов искать?
— Придется по галактикам пошариться, во вневекторных подпространствах помотаться. Жениха искать — не мух ловить, дело серьезное.
В конце концов мы распотешили Себастьяно так, что он перестал оплакивать свои утраченные иллюзии и принялся рассказывать нам анекдоты из жизни мадьярского подпоручика Ржавского. Форменное безобразие, надо отметить, но было смешно.
И тут наше блаженное времяпрепровождение было бесцеремонно нарушено. В библиотеку вбежала запыхавшаяся служанка:
— Ваша светлость, его светлость требует, чтобы вы сей же час явились в парадную залу в сопровождении компаньонки.
— Хм, — сморщилась Оливия, будто надкусила гнилой персик. — Чего ему от меня надо? Ладно, идемте, посмотрим.
— Его светлость особо приказал, чтоб только вы и компаньонка.
— Ну хорошо, Беатриче, Себастьянчик, поскучайте тут без нас. В том шкафчике коробки с лото, монополией и трик-траком. Еще есть классная забава — кто дальше плюнет. Не скучайте. Мы потом придем и все вам расскажем.
И мы ушли из библиотеки со смутным ощущением того, что движемся навстречу крутым переменам в своей судьбе. Такие вот дела.
Глава шестнадцатая Матримониальные планы герцога Монтессори
Я не против браков. Размножение человеческих особей помогает улучшать сельскохозяйственные показатели. Я пришел к таким выводам, наблюдая за черенкованием и черешкованием.
Удивительный процесс!
Из проповедей Его Высокоблагочестия, т. 266Парадная зала замка сияла всеми люстрами и канделябрами. Прямо удивительно, до чего некоторые не экономят на свечах. Старые гобелены выглядели яркими и посвежевшими, мраморные колонны блестели как отполированные. Можно короля принимать.
Однако гостями герцога, сидящего в церемониальном кресле, оказались люди не королевской крови. Справа от герцога, занимая кресло покойной герцогини, сидела дама лет тридцати пяти, одетая по последней столичной моде и красивая настолько, что прямо глазам больно. Что-то зачастили к нам красавицы, это не к добру. Хотя грех жаловаться — все-таки красавицы лучше, чем священные жуки и гигантские, закованные в броню, осы.
Рядом с креслом красавицы стоял юноша, от одного взгляда на которого немел язык и подгибались колени. Со мной, во всяком случае, так и произошло. Насчет Оливии не знаю, она ко всем искушениям плоти устойчивая.
Юноша был красив, как закат на морском берегу, как россыпь жемчужин на синем бархате, как бисквитный торт, украшенный белым шоколадом, как… Ой, все, хватит. В общем, им немедленно хотелось завладеть, прижаться к его могучим плечам, накрутить на пальцы его длинные белокурые локоны, поцеловать его в сочные губы и запереть его в самой дальней комнате, чтоб никто не стащил. И ключ проглотить.
Я очень удивилась этим своим мыслям. До сего момента я к особям противоположного пола дышала ровно. Во всяком случае, у меня не было желания влюбиться или влюбить в себя какого-нибудь красавчика. Тут у меня мелькнула мысль, что это еще одно доказательство моего внеземного происхождения. Наверное, на моей далекой звездной родине красивые юноши имеют другие грани привлекательности — например, пушистый хвост, или огромные крылья, или третий — во лбу — глаз. Вот я на тутошних парней и не западаю. Разве исключая этого… Ну ладно, это все ерунда. Самое удивительное то, что и на мою экселенсу золотоволосый красавец не произвел никакого впечатления. Она гордо держала спину и выглядела, как королева в изгнании перед своим эшафотом.
— Мы прибыли, мессер отец, — громко отчеканила она.
— Княгиня Хелена, княжич Лукаш, позвольте вам представить мою дочь, герцогиню Оливию Монтессори, — сказал герцог. — А это ее компаньонка Люция.
— Нам бесконечно приятно знакомство с вами, герцогиня, — мило улыбнулась княгиня Хелена. Еще бы! Разве этикет позволяет гостье сидеть на месте хозяйки дома, пусть даже хозяйка и умерла давно?! Разве отец не должен сначала представить гостей дочери, а не наоборот? Я четко услышала, как пальцы Оливии стискиваются в кулаки и ногти впиваются в кожу. — Я Хелена-Матильда Гофмансталь, княгиня Волынская, а это мой двоюродный племянник Лукаш, княжич Забалдовский.
— О-о-очень приятно, — расползлась в реверансе Оливия, а улыбка у нее на лице обозначилась такая, что впору ею костры поджигать. Для всех гостей из Пшепрашамского королевства. — Я еще никогда не имела чести встречать гостей из такой далекой и загадочной страны.
— Ну, не такой уж далекой, — у княгини тоже улыбка была что надо, колбасу резать такой улыбкой можно. — И вовсе не загадочной. Вы полюбите Пшепрашам, когда узнаете страну ближе.
— Да зачем же мне узнавать ближе вашу пшепрашамскую шляхту? Я и здесь неплохо устроилась.
— Сейчас ваш почтенный отец все вам объяснит.
— Хорошо, — кивнула Оливия и села в свое кресло. Ну неужели герцог не видит, что она абсолютно здорова, что она стройна и изящна, что она чертовски похорошела? Неужели видит в ней всю ту же капризную калеку, которую можно презирать и окатывать безучастной холодностью?! Да Оливия — это лучшее его произведение, а все эти стихи, кто их помнить будет через сто лет? Нет, может, и будут, но Оливию точно никто не забудет. Уж об этом-то я позабочусь! Если моя кровь дарит вечную жизнь, я просто поделюсь с Оливией кровью. А потом рванем диктаторов крушить.
Я встала за спинкой кресла Оливии и натянула на лицо одно из самых удающихся мне выражений — надменной приветливости.
Герцог откашлялся.
— Оливия, дочь моя, — заговорил он. — Ты уже не маленькая девочка, которой прощались все ее капризы и баловство.
Так уж и прощались! А три дня беспрерывной порки, из-за которой Фигаро дрался на дуэли с герцогом?! Уже забыты?
Герцог продолжал:
— Оливия, ты девушка, и в твоем возрасте девушки оставляют шалости и забавы и выходят замуж. Пожалуйста, не перебивай. Княжич Лукаш просит твоей руки. Он знатен, богат, благодаря связям своей двоюродной тетушки вхож во двор пшепрашамского короля. С какой стороны ни посмотри, это очень выгодный брак.
— Лукашику принадлежат три разработки сланцевой нефти и угольный бассейн, — гордо сказала тетушка Хелена. — Он способен обеспечить беззаботное существование и своей супруге, и детям, и ближайшим родственникам. Надеюсь, вы понимаете, Оливия, что княжич богат также и родовою честью, хонором, как говорим мы, пшепрашамцы. В роду Забалдовских нет простолюдинов…
— А запоры у княжича бывают? — вдруг спросила Оливия, уставившись на прекрасного Лукаша так, что он лицом стал напоминать клюкву.
— Оливия! — рявкнул герцог.
— Кхм-кхм, — закашлялась княгиня Хелена. — А почему вас интересует этот вопрос, герцогиня?
— А почему нет? — удивилась Оливия. — Если я стану его женой, а у него запоры, он же мне всю плешь проест просьбами о приготовлении слабительного! И вообще, мужчина, склонный к запорам, излишне гневен, уныл, мрачен и склонен видеть жизнь в корич… в темном цвете. Такого мужа и за пять нефтяных вышек не захочешь!
— Лукашик, — пробормотала княгиня. — Что ты молчишь, в рот воды набрал? Скажи ей, что у тебя нет запоров.
— Тетушка!
— Хватит вам там перешептываться за веером. Отвечайте прямо, здесь все свои.
— Нет у меня запоров, — отчеканил княжич и стал совсем багровым. Ему пришлось даже ослабить узел своего парадного жабо из дорогущих кружев.
— Это хорошо! — воскликнула Оливия. — Это меня чрезвычайно радует. Это повышает ваши шансы на мою руку, дорогой Лукаш. А с поносами как? Беспокоят?
— Тысяча чертей! — прошипел Лукаш. — Нет! С пищеварением у меня все нормально! Я совершенно здоров! Я ежедневно делаю силовую гимнастику и обливаюсь ледяной водой. Я могу без устали пробежать сто миль! Я прекрасно владею холодным оружием, говорю на семи языках и… Чего еще ждете вы от своего избранника, герцогиня Оливия?
— Ах, — Оливия картинно оперлась о подлокотник кресла. — Вы хотите вскрыть мою трепетную девичью душу, как вскрывают устрицу и вызнать все ее тайны? Так знайте: я вижу своего избранника стройным, знойным, жгучим брюнетом в белых штанах и шелковом кашне на могучей шее. Его взгляд пронзителен, он знает пятьдесят способов законного отъема денег у населения, и он — единственный сын дурецко-подданного. Семь языков, сто миль, гимнастика и прекрасное пищеварение — это для какой-нибудь другой девушки станет идеалом и пожизненным счастьем. А я — существо испорченное неправильным воспитанием. И своим мужем я вижу карточного шулера, или пирата, или…
— Достаточно, Оливия! — крикнул герцог Альбино. — Не позорьте род, к которому принадлежите! Негодная девчонка!
— Да уж, ваша светлость, — протянула княгиня Хелена. — Мне говорили приватно, что ваша дочь — не лучшая партия для достойного молодого человека, но я не верила сплетням и слухам.
— А зря, — широко улыбнулась Оливия. — Все гадости, которые обо мне говорят в высоком обществе, — правда. Теперь вы сами имели честь в этом убедиться.
— Что ж, — княгиня высоко задрала острый подбородок. — В таком случае речи о браке и быть не может. Герцог Альбино, мы покидаем ваш замок в состоянии оскорбленной гордости…
— А пусть ваш щенок вызовет меня на дуэль, — улыбка Оливии стала вообще сумасшедшей. — И посмотрим, кто кого.
— Еще не хватало! Ваше поведение, герцогиня… Так не ведут себя даже метрески из веселых кварталов!
— А вы там были, что можете сравнивать?! То-то я смотрю, на настоящую княгиню вы не слишком похожи. Небось окрутили в лупанаре какого-нибудь шляхтича, так и стали знатной дамой.
— Это невыносимо! — княгиня вскочила с кресла. — Прощайте! Лукаш! За мной, мальчик!
— Да, беги, беги за тетушкой, а то твой хонор просто не выдержит, — напутствовала княгиню и княжича Оливия.
— Ну, мать, ты даешь, — восторженно прошептала я, едва за гостями захлопнулась дверь. — Ты просто мегера. Я в восхищении!
— Учись, пока я жива… Потому что у меня предчувствие, что в течение ближайших пяти минут я буду задушена собственным отцом.
— Ну нет, этого я ему не позволю.
Некоторое время в парадной зале царило молчание, освещаемое как минимум сотней дорогих парафиновых свечей. Оливия не выдержала первой.
— Мессер отец, я могу идти? — привстала она с кресла.
— Нет, — холодно ответил герцог. — Идти может ваша компаньонка. А вас, дочь моя, я попрошу остаться.
— Тогда я приказываю своей компаньонке никуда не уходить. При ней можно вести разговоры любой секретности.
— Секретность здесь ни при чем. Просто я щажу уши госпожи Люции — ей не стоит выслушивать то, что я собираюсь вам сказать, дитя мое.
— Я вытерплю, ваша светлость, — поклонилась я. — Мое детство прошло в трактире «Рог и Единорог», и мне известно, что в минуты сумасшедшего гнева мужчины употребляют нецензурные слова и дерутся пивными кружками. Здесь нет пивных кружек, и я считаю, что это уже шаг к цивилизованным переговорам. Позвольте мне быть третейским судьей между вами и вашей дочерью, герцог Альбино.
— Что ж, — пожал плечами тот. — Вы как грибок ногтей, Люция Веронезе, от вас невозможно избавиться.
— Ваша светлость, я буду считать это комплиментом.
Опять молчание.
— Итак, — герцог переплел свои длинные пальцы и противно похрустел ими. — Оливия, вы только что оскорбили и унизили одного из самых завидных женихов не только королевства Пшепрашам, но и всей нашей Планеты. Княжич Лукаш входит в десятку лучших холостяков мира. Владение нефтью и углем — это, по-вашему, мелочи?
— Мессер отец, выйдя замуж, я хочу спать с человеком, а не с нефтяной вышкой! Я понимаю, что вам не терпится поскорее сбыть меня с рук, только не понимаю — почему? Безусловно, я не вхожу в десятку самых благонравных и послушных дочерей. Даже в сотню не вхожу. Даже в тысячу. Но разве это повод для того, чтобы от меня спешно избавляться? Чем я вам в последнее время так насолила, мессер отец? Вы избегаете даже смотреть на меня, неужели я так уж уродлива?
Оливия встала перед отцом и медленно покружилась:
— Взгляните, я больше не калека. Мне не нужны костыли и проклятое калечное кресло. Я обычная девушка, на язык, конечно, острая, но ведь и не чудовище же!
— Своим выздоровлением вы обязаны только молитвам Его Высокоблагочестия, — начал было герцог, но Оливия перебила его:
— Отец, уж вы-то не верьте во всех этих благочестивых насекомых! К моему исцелению они не имеют никакого отношения. Кстати, в картинной галерее поставили совершенно уродскую статую. Кто вам ее изваял?
— Это работа Пчеллини, известного столичного скульптора. Он изваял ее специально в честь пребывания святого теодитора в нашем замке.
— Бездарь ваш Пчеллини, — мрачно сказала Оливия. — Я из глины и то лучше слеплю. Но не в этом суть. Отец, почему вы обращаетесь со мной хуже, чем с последней служанкой в замке? Я понимаю, что требовать от вас отцовской любви — пустая затея, но вы хотя бы могли уважать меня. Уважать в память женщины, которую когда-то любили и которая родила вам меня. В галерее нет ни одного портрета моей матери! Мне почти не рассказывали, какой она была. Или вы не любили ее? Ненавидели и поэтому вымещаете гнев на мне? Кого еще вы прочите мне в мужья, чтобы поскорей сплавить из замка? Так вот, имейте в виду: я не выйду замуж до тех пор, пока сама не выберу мужчину, достойного стать моим мужем. Я вам не барахло, герцог Альбино, и извольте считаться со мной и моим мнением.
— Погодите, — герцог, казалось, пропустил гневную тираду дочери мимо ушей. — Но если не Его Высокоблагочестие, тогда кто исцелил вас? Ведь ваша болезнь не поддавалась никаким лекарям?
— Оливия, не надо, — пробормотала я, но она только глазами сверкнула в ответ:
— Кажется, мессер отец, я ни разу не поблагодарила вас за мою компаньонку. Впрочем, Люция давно не компаньонка мне, а лучшая подруга, с которой я готова идти навстречу всем ужасам жизни и дружба с которой — честь для меня. Именно Люция, а не эти священные жуки и осы, исцелила меня. И я благодарю вас, отец, за тот день, когда вы привезли в замок Монтессори Люцию. На самом деле вы привезли мне настоящую жизнь.
Мне очень хотелось разреветься, но я знала, что этого лучше не делать. Потому что мне позднее влетит от Оливии за то, что она так разоткровенничалась. Девушке с уровнем ее коварства не следует впадать в сентиментальность — еще все человечество любить начнешь и совсем рехнешься. Но вообще, меня переполняла гордость за то, что Оливия назвала меня своей лучшей подругой.
Герцог Альбино посмотрел на меня очень пристально:
— Люция, какими тайнами и заклинаниями вы владеете, раз сумели совершить невозможное? Вы уже в пансионе были ведьмой, или волшебницей, или колдуньей, не знаю, как вас называть… Ибо такое действо под силу только великой магии.
Я решила подать голос:
— Магия, или волшебство, или как угодно назовите, здесь ни при чем. Я не ведьма, но все равно не стоит говорить обо мне представителям города Рома и святой юстиции. Они не поймут. Я и сама не совсем еще понимаю, как мне удалось исцелить Оливию. Наверное, так произошло потому, что я не совсем человек…
…Вдруг оказалось, что одновременно я стою в парадной зале Кастелло ди ла Перла и мчусь на шестикрылом змее, расстреливая из своего силового арбалета сторонников кровавого генерала Ай-ги. Мой змей (имя ему Шерл-и) настигает авангард генеральских войск, и я мысленно приказываю ему выдохнуть пламя. Шерл-и повинуется, и огромный огненный шар накрывает длинные ряды солдат Ай-ги.
— Молодец, Шерл-и! — кричу я…
…И понимаю, что по-прежнему стою в парадной зале и только что выкрикнула фразу на языке, который не знает никто на этой Планете. Никто, кроме меня и моей младшей сестры, она же баронесса Беатриче Висконти.
— Ты и правда не отсюда, Люция, — слышу я восхищенный шепот Оливии.
Я делаю шаг в направлении герцога и не понимаю, почему он вскакивает с кресла.
— Ваша светлость, — говорю я и понимаю, что страшно напугала этого ледяного человека.
— Люция, опустись на пол, пожалуйста, — просит Оливия. — Так нам будет проще с тобой разговаривать.
Я смотрю себе под ноги и понимаю, что парю в воздухе ярдах в трех от пола. А как же мне опуститься, я же не…
Тут я и опускаюсь, нелепо взмахнув руками и отбивши свой тощий зад.
— Извините, — стискиваю руки я. — Я сама не знала, что такое умею. Понимаете, ваша светлость, я только несколько часов назад узнала, что моя родина находится очень далеко, в другой вселенной. Там я родилась впервые, и мое имя было Ай-Кеаль. Но потом…
…Едким желтым дымом заволокло глаза. Шерл-и ранен, его крылья обуглены. Мысленно я умоляю его не исчезать бесследно. «Прости, крошка-двуножка, — ловлю его мысль я, — когда-то ведь надо и исчезнуть». У меня больше не будет такого друга, как ты, Шерл-и, я исцелю тебя, кричу я, из глаз моих сыплются блестящие камушки слез и гремят о его золотую чешую, я не хочу быть без тебя! Будет друг, угасая, посылает мне последний импульс мой змей, и вот на месте его — пустота, и оранжево-черные небеса слушают мои бессильные проклятья.
— Там идет бесконечная война, вся та вселенная втянута в войну. Ей не предвиделось конца, и я бежала…
…Потому, что больше нет Шерл-и, потому что планеты моей вселенной схлопываются одна за другой от ударов орудий Ставленника Кластера. Я бежала потому, что струсила. Я оставила свою мать, свою сестру, свой дом. Я предательница.
Я осознала это не как Люция Веронезе, а как Ай-Кеаль, Цветок поздней осени, старшая принцесса планеты Нимб. И заплакала я как Ай-Кеаль, и мои слезы блестящими камушками сыпались у меня из глаз и стучали по каменному полу, как рассыпавшиеся бусины. Я упала на колени, словно подрубленная невидимым мечом стыда. Слез-камушков становилось все больше, и я страстно возжелала немедленного самоисчезновения. Я недостойна жить, пусть даже в этой вселенной и быть просто Люцией Веронезе! Довольно мне прятаться от суда собственной совести!
Наверное, я исчезла бы, оставив в ткани бытия пустоту, но чьи-то горячие и цепкие руки крепко обхватили меня:
— Ну-ну, — услышала я. — Не дури, Люци, или как тебя там! Даже и не надейся куда-нибудь исчезнуть, я не позволяю. Ты у меня в лучших подругах ходишь, так что изволь-ка прийти в себя!
Оливия. Вечно она все испортит. Вот зачем так крутить мне уши, я что, без этого дешевого рукоприкладства не соображу, как мне быть? Гм-м. Больно же!
— Отпусти мои уши, гоноконда! — просипела я.
— То-то же, — Оливия посмотрела на свои руки как на универсальное средство от совершения всяких глупостей. — А кто это — гоноконда?
— Зверек такой, белый и пушистый на планете Нимб…
— Ну слава небесам, врать ты не разучилась. Это радует. Вставай.
Оливия протягивала мне руку. Я ухватилась за нее, и на долю мгновения мне показалось, что это розовое крыло моего змея.
— Спасибо, Шерл-и, где бы ты ни был, — мысленно проговорила я.
И герцогу:
— Ваша светлость, в Кастелло ди ла Перла сейчас находится моя младшая сестра, взявшая себе псевдоним Беатриче Висконти. Если у вас возникли вопросы относительно меня, вам лучше будет переговорить с нею. Ко мне начала возвращаться память, но урывками, ненадолго. И от этого очень ломит все тело, суставы будто сейчас лопнут…
— Эй, ты не вздумай в кого-нибудь превратиться! — заорала на меня Оливия. — Может, воды тебе выпить?
— Выпить, — прошептала я. — Да, это хорошая мысль. Вина, да покрепче. А иначе мой мозг не справляется с присутствием в одном теле двух сознаний.
— Само собой, — Оливия позвонила в колокольчик, вызывая слугу. — Тут с одним-то сознанием не знаешь как управиться… Малый, где тебя носит?! Быстро бутылку левзейского «Черного рыцаря», лучше две…
— Ага, — поддержала я. — И оливье…
— И чтоб ведро оливье немедля. Я тоже с тобой выпью и закушу, Люци.
— Я третьим буду, — услышала я голос герцога и провалилась в беспамятство.
Однако Оливия Монтессори не была бы тою, кто она есть, если б дала мне валяться без сознания. Следующая увиденная мною картина была композиционно выстроена так.
Стол. Небольшой. За ним сидит герцог Альбино, моя сестра Ай-Серез, я (нетвердо) и Оливия, чья железная рука не дает мне потерять сознание методом регулярного тычка в бок. У меня там будет синяк. Или два. Или вообще сломанные ребра. Но я не сержусь на Оливию, ибо понимаю, что это она делает ради моего же блага. Какая она все-таки чудесная негодяйка!
— Неземная моя, пей! — приказывает Оливия, и я вижу у своих губ серебряный бокал, доверху наполненный густой рубиново-черной жидкостью. Аромат просто как от парфюмерной лавки.
— Пей до дна! — приказывает Оливия. — За обе наши вселенные!
Я осушаю бокал и понимаю, что не могу сделать вдох. Оливия бодро бьет меня по спине, я вновь дышу, и передо мной уже стоит миска оливье плюс отличный кусок жареной телятины.
— Ешь, чужестранка, а то опозоримся перед всеми вселенными, что в замке Монтессори плохо кормят.
— Не опозоримся, — чавкаю я. Святая Мензурка, как же вкусно!
— Давай по второй, — наливает мне Оливия, и я слышу голос герцога.
— Дочь моя, я запрещаю вам пить крепкое вино в таких количествах. У меня рыцари так не пьют. Люции можно, она нездешняя, но вы, дочь моя…
— Я за компанию, — быстро говорит Оливия. — Вдруг я выйду замуж за пьяницу? Надо же будет разделять интересы мужа!
Тут что-то говорит моя сестра (она несколько двоится, ведь по второму бокалу мы выпили-таки), а герцог совершенно не по-герцогски хохочет. Из какого сорта винограда делают этого «Черного ры…»
— Ры… — икаю я.
— Точно! — поднимает указательный палец Оливия. — Рыба сейчас будет. Форель на… На чем-то там. Под рыбу надо обязательно выпить. Люци, третий бокал давай за дружбу!
— Жбждрждр, — соглашаюсь я, выпиваю третий бокал и засыпаю. Оливия предусмотрительно убирает оливье с пути моего лица, поэтому я засыпаю в миске с пикулями. Уютненько, между прочим.
Глава семнадцатая Внезапно
Люди — очень сложные для понимания существа.
Они напоминают мне капусту и репчатый лук — снимешь слой, а там еще двадцать.
Из проповедей Его Высокоблагочестия, т. 231Я проснулась в постели, где простыни нежно пахли лавандой. Запах отменный, но я его терпеть не могу, сразу принимаюсь чихать. Вот и в этот раз…
— Будь здорова, девочка моя.
Я открываю глаза и вижу, что напротив моей кровати сидит Сюзанна. Моя здешняя мать. Знает ли она о том, что это меня ей пришлось оставить в корзинке на пороге трактира «Рог и Единорог»? Я вижу, какие заплаканные у нее глаза, и все понимаю.
— Здравствуйте, Сюзанна, а который теперь час? Апчхи!
— Десять утра. Ты проспала два дня, доченька… Ты ведь позволишь так называть себя мне, твоей преступной матери, бросившей тебя на произвол судьбы?!
— Ну, конечно, Сю… мама. Ну, только не надо плакать. Так получилось. Я же знаю местные неписаные законы: девушку, забеременевшую вне брака, до смерти забивают камнями. Кто бы тогда стал экономиссой Кастелло ди ла Перла и радовал нас чудесным желе из черной смородины? Или козьим сыром с пряностями? Я не обижаюсь и не сержусь. Одно мне только непонятно: почему Фигаро, мой отец, не женился тогда на тебе? Он же, наверное, любил тебя?
— И сейчас любит, — вздохнула Сюзанна. — Но в то время он был не свободен. Именно его жена была тогда экономиссой замка. А разводы в Старой Литании запрещены под страхом смертной казни. Его жена умерла от горячки, но перед тем прошло десять долгих лет, источивших мое сердце страданиями и думами о тебе.
— А что вам мешает пожениться сейчас?
— К чему? И потом, ты думаешь, я простила ему то, что он не был со мной в часовне, где я разрешилась от бремени? Он ни разу не спрашивал о тебе! И, оставшись вдовцом, он не делал мне никаких предложений! Его сердце очерствело за все эти годы. Но я… Видит Святая Мензурка, я так счастлива, что ты есть и ты — моя дочь.
Мы обнялись, и меня словно опалило жаром великой жизненной энергии. Мы смотрели друг другу в глаза и плакали — одинаково, простыми солеными слезами…
— Мама, — как странно произносить сейчас это слово. — Моя сестра хочет, чтобы я вернулась на свою родину… Но я не хочу этого. Во всяком случае, не сейчас. Я не хочу оставлять тебя, Оливию — на этой Планете никого ближе вас я не имею. И потом, кругом столько загадок!
— Каких загадок, милая?
— Ну хотя бы картина в галерее. На ней изображены герцог, маленькая светловолосая девочка и какой-то мужчина в черном плаще. Девочка — это ведь Оливия, да?
— Да, — кивнула Сюзанна. — Когда писали эту картину, заболевание Оливии еще не проявилось…
— А мужчина в черном? Кто он?
— Этого я не знаю. Да и никто, наверное, кроме герцога. И на картине его изобразил сам экселенс, а не художник. Герцог ведь прекрасно рисует, он талантлив во всем…
— Кроме способности любить, — прошептала я.
— Ну что ты… Когда-то у герцога было горячее и любящее сердце. Он обожал свою жену. Но когда она умерла, скорбь убила все другие чувства. Он словно заморозил в себе все человеческое и стал только поэтом. А поэты видят все иначе, чем обычные люди. И живут по-другому, и чувствуют. Мне одно время думалось, что тот черный человек — колдун, похитивший сердце экселенса, но со временем я поняла, что герцог сам сделал себя холодным, как могильный камень. Мне очень жаль его. Ведь на самом деле калека не Оливия, а он — герцог Альбино. Мне кажется, он это понимает.
— Поэтому нигде нет портретов покойной герцогини — чтобы ему не гореть от стыда перед памятью любимой женщины? Да?
— Да. Все портреты герцогини Анджелы сняли и спрятали после ее смерти. Но у меня есть медальон с ее изображением. Я хочу отдать его Оливии, когда ей исполнится шестнадцать. А ты знаешь, что родилась с Оливией в один день — 5 февруария?
— Нет…
— В тот день мне удалось незаметно уехать только потому, что все старшие служанки были у постели герцогини Анджелы, вызвали также всех окрестных повитух. Роды были очень тяжелыми, герцогиня потеряла много крови… Я узнала это позже, когда незаметно вернулась и услышала от домоправительницы приказ всем надеть траур.
— Но как ты сама выдержала роды — зимой, в промерзшей каменной часовне?
— Ты помогла мне. — Сюзанна взяла мою руку и поцеловала. Я проделала то же самое с ее рукой. — Ты вообще была удивительным младенцем. Моего живота никто не замечал, Фигаро знал, но мы не разговаривали с ним об этом. Вынашивая тебя, я не испытывала никаких неудобств, разве что снились мне удивительные сны, красивые, добрые, яркие… Когда в часовне у меня отошли воды, я стала просить не Исцелителя, не святую юстицию, а тебя — о том, чтобы роды прошли легко, чтобы ты родилась здоровой и крепкой, потому что твоя судьба будет нелегкой и полной испытаний. Я почти и не почувствовала родовых мук — ты выскочила из моего чрева, как спелая горошинка из стручка. И сразу закричала так звонко, что в часовне стены загудели… Я скорее обтерла и запеленала тебя, надеясь, что никто не хватится краденых пеленок и одеяльца. Какая ты была красавица, не передать словами! Твое розовое личико словно светилось, а в широко распахнутых глазах сияла любовь! Я разревелась — ведь я должна была оставить тебя, подкинуть и вернуться в замок, и не сметь даже спрашивать о тебе… И тогда ты улыбнулась мне, эту улыбку я никогда не забуду…
— Мамочка, не плачь… Какое удовольствие — произносить это слово! Должна признаться, я у тебя дочка с характером.
— Уж это я знаю, — улыбнулась Сюзанна. — Один кальян чего стоит! Вы с Оливией два сапога пара, недаром, видно, родились в один день. Обе остры на язык и скоры на всякие проказы. А уж если доберетесь до вина…
— Вино мы с Оливией употребляем исключительно в лечебных целях. Кстати, мне давно пора встать и навестить свою госпожу. А то она со скуки сотворит какую-нибудь грандиозную каверзу.
— Понимаю. Ну, вставай, я помогу тебе одеться. Доставь мне это удовольствие — одевать собственную дочь.
— Но на людях мы будем вести себя по-прежнему, да? Ведь то, что ты родила меня вне брака, — преступление без срока давности. Я не позволю побивать тебя камнями! Милая мама, позволь, я сейчас расцелую тебя и как дочь, и как Люция Веронезе!
Мы расцеловались. Когда я стала одеваться, выяснилось, что мама приготовила мне сюрприз — новое, очаровательное платье из светло-сиреневого бархата. Длинные манжеты были украшены бисерной вышивкой, к стоячему накрахмаленному воротнику из кружев сзади крепился пышный лиловый кунтуш, доходивший до середины талии. В этом платье я выглядела как принцесса.
— Мама, а слуги не будут шептаться насчет того, что у меня чересчур роскошный наряд?
— Будут, конечно. Но это Оливия приказала — сшить тебе полдюжины парадных платьев. Ибо, цитирую, ей надоело, что ее компаньонка ходит в каких-то позорных лохмотьях. Она еще добавила выражение «ноблесс оближ», видимо, это какое-то заковыристое ругательство.
— Нет, — улыбнулась я. — Это галльское выражение, означающее «положение обязывает».
— А, ну тогда все правильно. Ты, в конце концов, не поломойка, а подруга герцогини. А если еще вспомнить, что раньше ты была принцессой в какой-то звездной системе, то тут вообще руки опускаются.
— Мама, не стоит об этом распространяться. Ту свою жизнь я очень мало помню. А если и вспомню что-то, то это не значит, что мне обязательно нужно туда. Оливия не отпустит. В кого она будет метать стилет по утрам?
— Ах, — всплеснула руками моя земная мама. — Вы до сих пор так развлекаетесь? Не забывайте, вы девушки, к тому же брачного возраста. Не дело играть с оружием, пора привыкать быть разумными и благовоспитанными.
— Мам, ты сама-то в это веришь?
— Нет, конечно. Но как женщина, умудренная опытом, я должна изрекать подобные фразы. Для пользы вашего воспитания.
— Ага. Ну что ж, пойду к своей госпоже, похвастаюсь новым нарядом.
Моя госпожа, едва я вошла в ее покои, швырнула в меня стилет и рявкнула:
— Не могла пораньше прийти? Я уже помираю со скуки тут одна!
— Прошу великодушно простить меня, герцогиня, — я, как всегда, поймала стилет и вернула его хозяйке. — Я была уверена, что ты весело проводишь время в компании безутешного Себастьянчика либо моей сестры.
— Да? А ты их найди сначала! У меня такое впечатление, что они решили совместно переместиться на твою планету.
— Это вряд ли. Кстати, — я подошла вплотную к Оливии. — Дай-ка стилет на минуточку.
— Зачем? Покушение на меня устроить хочешь?
— Что-то типа того. Ну дай. И обещай не дергаться.
Я взяла стилет и провела им по своей ладони. Показалась кровь, она переливалась и сверкала, как драгоценный камень.
— Что ты хочешь делать? — завороженно прошептала Оливия.
— Дай свою руку.
Она протянула мне руку, я сделала ранку на ее ладони и прижала к своей ране.
— Я хочу, чтобы наша кровь смешалась, — проговорила я. — Чтобы частицы моей крови попали в твою. Если через кровь я могу дарить вечную жизнь, то вот, прими мой подарок.
Мне кажется, прошло долгое-долгое мгновение, прежде чем мы разняли руки. Ранки затянулись, Оливия стала бледна и смотрела на меня странно.
— Что? — воскликнула я. — Тебе плохо?
— Нет, — прошептала Оливия. — Просто у меня такое ощущение, будто я зависла в воздухе…
— Вот так? — я со смехом подпрыгнула и… повисла в воздухе, как легкое семечко одуванчика. — Давай, не робей, Оливия, у тебя все получится.
И получилось! Мы с Оливией висели в воздухе и болтали ногами. Попробовали подняться к самому потолку (а потолки в замке высокие) — и получилось. Взявшись за руки, мы закружились, как в хороводе.
— Кстати, — воскликнула я. — Как ты оцениваешь мое новое платье?
— Ниче, сойдет на каждый день…
— Оливия! Это великолепное платье! И я ужасно благодарна тебе за то, что ты заботишься о моем гардеробе.
— Это нормально — ты же заботишься о моем. Кто приказал сшить для меня дюжину муслиновых нижних сорочек? Ты же знаешь, я терпеть не могу нижнее белье.
— Пора привыкать к тому, что мы — большие девочки, а большим девочкам полагаются нижние сорочки. И кружевные панталоны.
— Ужас! Ненавижу!
— Кстати, мы с тобой родились не только в один год, но и в один день.
— О?! А ты и рада. Решила сэкономить на праздничном пироге?
— А то.
Наконец мы опустились на пол.
— Было отлично, — сообщила Оливия. — И зачем мне замужество, если я теперь умею летать?
— Но, герцогиня, — чопорно села я на диван. — Вы должны осчастливить какого-нибудь юнца своими талантами.
— Обойдутся, — резонно заметила Оливия. — К тому же эти таланты лучше скрывать, а то святая юстиция сожжет нас на костре.
Мы посерьезнели.
— И о том, что я — дочь Сюзанны, тоже молчок, — сказала я. — Я незаконнорожденная. Это клеймо — все равно что клеймо каторжника.
Мы сидели рядом на диване и молча смотрели на пламя камина. Нам не скучно было молчать вдвоем. Я думала о том, что в моей жизни произошли удивительные перемены, но самого главного они не коснулись — моей дружбы с Оливией. Я буду счастлива за нее, если она встретит хорошего парня, влюбится в него и выйдет замуж — я буду нянчить ее детей. Хотя… Я же собиралась быть капитаном… Хм, буду нянчить детей Оливии, возвращаясь из плавания, привозя им заморские подарки и диковинки…
Мессер Софус вышел из камина, стряхивая с себя огненные языки, как пыль. Мы с Оливией, разумеется, онемели. Потом я приаша в себя — пора уж привыкнуть, что мессер Софус любит эффектные появления. А нынче он и одет был, как первый министр двора.
— Мессер Софус! — я вскочила и сделала реверанс. — Какая честь видеть вас!
— Ой! — Оливия тоже вскочила и изящно поклонилась. — Я наслышана, мессер…
— Ладно вам, девочки, давайте без этикету, — мессер Софус вскочил на диван и жестами велел сесть нам рядом. — Мы же не на королевском балу. Я вообще-то просил Люцию не болтать обо мне, но понимаю, что сделала она это из чувства дружбы и солидарности. Герцогиня, надеюсь, вы сохраните тайну моего существования.
— Клянусь! — с чувством сказала Оливия. — Вы, ой, вы такой ПОТРЯСАЮЩИЙ!
— Герцогиня, умеете вы польстить мужчине, — мессер Софус похлопал передними лапками, затянутыми в изящные белые перчатки. — Но сейчас не об этом. Неприятно быть гонцом, приносящим дурные вести, но увы: замку Монтессори, а значит, и всем живущим в нем, грозит серьезная опасность.
— Какая? — подобрались мы.
— Межпространственные торги, — трагическим шепотом сказал мессер Софус.
— Что это значит? — наморщила лоб Оливия. — Кто-то хочет купить с торгов наше поместье? Но, насколько мне известно, отец его не продает и в ближайшее время продавать не собирается. Тем более на торгах.
— К несчастью, потенциальные покупатели совершенно не интересуются мнением вашего почтенного батюшки. Вообще ничьим мнением и желанием, кроме своего. Я уже говорил Оливии, что Кастелло ди ла Перла — не просто замок, это точка пересечения большого количества вневекторных пространств, а каждое такое пространство содержит в себе неисчислимое количество миров. Такая точка называется Абсолютный Ноль, и владеть ею — значит владеть возможностью попасть в любое пространство, в любой мир или во все сразу — такое тоже может быть. По сути, это полная власть над всем сущим. И за эту власть бьются все кому не лень. И это бои без правил.
— Но нельзя же просто так явиться сюда и купить наш замок.
— Купить — это еще ничего, — поправил паричок мессер Софус. — Существам, которые соберутся на торги, просто наплевать на то, что этот замок обитаем. Они настолько далеко ушли в своем развитии от человечества, что люди для них — все равно что для вас молочнокислые бактерии. Вас просто не заметят. У замка будет новый хозяин.
— Ну уж нет! — воскликнула Оливия. — Мы будем сражаться!
— Вы погибнете, — просто сказал мессер Софус. — При любом раскладе. Кстати, Люция, поздравляю с обретенной здешней мамой.
— Вы знали, что я — нездешняя?
— Конечно. Ты — наследная принцесса планеты Нимб, прошедшая обратный цикл и родившаяся на Планете как человек. И кстати, благодаря своему высокому происхождению, ты могла бы участвовать в торгах и даже победить…
— Тогда я обязательно буду в них участвовать!
— Но…
— Мессер Софус, ваши «но» звучат так многозначительно! Говорите, не томите!
— Торгов вообще может не быть, дорогуша. И замок останется у его теперешних владельцев, и никто не станет претендовать на него, если…
— Если?..
— Мессер Софус!!!
— Если герцог Монтессори женится на принцессе планеты Нимб. То есть на тебе, Люция.
…Наверное, сейчас мы с Оливией напоминали две одинаковые садовые фигуры: жабы с разинутыми ртами. Жаба по имени Люция опомнилась первой:
— Это невозможно! Невозможно! Абсолютно!
Тут очнулась жаба Оливия:
— А почему, собственно, нет?
Я опять захлопала челюстью да еще и глаза выпучила:
— Ты хочешь сказать, что твой отец, который жуткий надменный сноб и все такое, женится на мне, безродной и беспородной?
— Ты не беспородная. Ты принцесса. И кстати, ради спасения поместья мой отец женится даже на садовой жабе.
Я принялась лупить себя по бритой голове от избытка чувств:
— Твой отец ради спасения поместья не может написать семьдесят стихов про редис и брокколи, а ты о какой-то женитьбе толкуешь!
— Это будет фиктивный брак, — быстро сказала Оливия. — Думаешь, я не понимаю? Это ж бред — тебе, юной и прекрасной, выходить за моего престарелого папашку! Ноль удовольствия. Абсолютный.
— Мессер Софус, а нельзя придумать что-нибудь попроще? Чтоб не замуж? Может, я убью кого из претендентов, на дуэль вызову… Опять же, отравить попытаюсь — у Оливии отличная коллекция ядов…
— Нет, девочки, — грустно сказал мессер Софус. — Это паллиативы.
— Но даже если предположить, что герцог согласится жениться на мне ради поместья, как сказать ему об этом? Как ему рассказать о вас, мессер, об Абсолютном Нуле, о вневекторных подпространствах? Кто ему все это скажет, кого он послушает? Нас с Оливией он точно слушать не станет…
— А… — Оливия снова стала садовой фигурой. — А…
До меня дошло. Я клацнула челюстью, изображая решимость:
— Мессер Софус, вы лично должны побеседовать с герцогом Альбино. Как мужчина с мужчиной, в конце концов! Вас он послушает! Не думаю, что в его жизни было много светящихся крыс в бархатных камзолах и лайковых перчатках, при этом говорящих и вообще разумных!
— Люция дело говорит, — уважительно молвила Оливия.
— Мессер, — я продолжала наливаться решимостью, как спелая слива нектаром: — Давайте не откладывать это дело в долгий ящик. Идемте все к его светлости! Вы будете говорить с ним, а мы станем вас морально поддерживать. По-другому никак.
— Что ж, — мессер Софус развел лапками. — Я ожидал чего-то подобного. Люция, девочка, ты не будешь против, если во время переговоров я буду сидеть у тебя на плече?
— Это честь для моего плеча, выбирайте любое, мессер, — сказала я.
И мы пошли.
Счастье, что на нашем пути не встречалось слуг. Просто не хотелось ненужных объяснений по поводу светящейся крысы на моем плече. Точно ведь ведьмой сочтут и накатают донос в святой город Ром, канцелярию святой юстиции.
Оливия без стука распахнула дверь в покои герцога:
— Мессер отец, я прошу немедленной аудиенции…
Мы замерли на пороге. Герцог Альбино стоял у своего стола, белый, как мука самого высшего сорта. Напротив него наблюдалась золотоволосая красавица в элегантном розовом платье и стеклянных туфельках на изящных ступнях. Красавица ослепительно улыбалась, целясь в Альбино Монтессори из силового арбалета. Марка АК (Адское Копье), 47-я разработка. Я сразу определила. Я сама из такого стреляла в прошлой жизни.
— Ни шагу дальше, — мягко приказала красавица. — Иначе я расплавлю его гениальные мозги.
— Арбалет у нее что надо, — прошептала я. — Мессер Софус, кто это?
— Скорее всего, агент по недвижимости, — вздохнул мессер. — Мы опоздали. Увы.
Глава восемнадцатая Бытие определяет сознание
Мне кажется, люди все время путаются в понятиях: где у них сознание, где — бытие…
Проще надо быть и жить по понятиям.
Из проповедей Его Высокоблагочестия, т. 188Ну, это мы еще посмотрим, кто кого, — сказала Оливия, подтягивая повыше кружевные манжеты на платье. — Ты, коровища нездешняя, как смеешь угрожать оружием великому поэту?
— Протестую, — немедленно подала голос я. — Я требую называть коровищей исключительно меня, на правах близкой подруги. Она на коровищу не тянет.
— Ты права, Люци, — кивнула герцогиня. — У нее манеры суслика.
— Давайте не будем о грызунах, — мягко напомнил о себе мессер Софус.
Я кивнула и сказала:
— Опусти оружие, кем бы ты ни была.
— Иначе что? — насмешливо оскалилась златовласка. Это она зря. Демонстрация четырех рядов острых зубов еще никому не добавляла очарования.
— Иначе тебе придется иметь дело со мной, — развела руками я.
— А кто ты такая, чтоб я тебя боялась?
— Старшая принцесса планеты Нимб. И, кстати, арбалет ты держишь вверх ногами, и он у тебя на двойном предохранителе.
— А? — растерялась златовласка, и этого мгновения мне хватило, чтобы мелькнуть у нее перед глазами и одним движением рук вырвать арбалет. Я даже сама сообразить не успела, до чего быстро я это сделала.
— Ха-ха, — сказала Оливия. — Может, теперь поговорим, как цивилизованные лю… существа? Мессер отец, присядьте. А ты, розовое пирожное, вон в тот угол отойди, я за тобой следить буду, глаз не спущу. Мессер Софус, вам слово.
Мой дорогой сияющий крыс спрыгнул с плеча и стал прохаживаться по столу герцога. Поэт сидел немой и бледный, на лбу испарина, глаза следят за каждым шагом мессера Софуса.
— Ваша светлость, — заговорил мессер Софус. — Не думаю, что для вас станет новостью знание о том, что миров и пространств бесконечное множество.
— Это утверждение считается еретическим, — сказал герцог. — За него положено сжигать еретика живьем в медном быке…
— Тем не менее это учение правдиво. Миры — разные — существуют. И очень часто они пересекаются в одной точке. Ваш замок — как раз точка пересечения разных миров. И вас не должно удивлять то, что замок выставлен на межгалактические торги. Разумеется, вас никто в известность не поставил — ваша раса считается неполноценной в большом количестве вселенных. Эта девица в розовом — агент по продаже недвижимости, и раз уж она наставила на вас силовой арбалет, значит, она не собирается вам предлагать золото или драгоценности в обмен на замок.
— Еще чего! — фыркнула розовая красотка. — Еще скажите, платину ему предлагать или иридий. Может, еще право на межгалактические заправки с высокооктановым бензином ему предложить? Он же тля! Скажите спасибо, что я просто не снесла ему голову и не расправилась с ним, как с предыдущим риелтором. У нее, между прочим, не было лицензии на риелторскую деятельность. Так что стеклянные туфельки, розовое платье и золотой парик она носила незаконно. Пришлось ее аннигилировать.
— А что, эти наряды так важны?
— Конечно. Это стандартная межгалактическая форма агентов по недвижимости. Я — настоящий агент, вот, кстати, моя лицензия…
Красотка щелкнула пальцами, и на стол герцога упал крупный розовый кристалл. Мессер Софус взял его в лапки, осмотрел…
— Да, лицензия настоящая.
— Вот-вот, — промолвила златовласка. — А моя предшественница была черным риелтором. Они работают на Кластер Черных Фракталов. Если бы не я, тут бы уже вакуум зиял. Так что верните мне арбалет и скажите этому микробу за два здешних часа покинуть точку. Мне торги начинать надо, а клиенты не любят, когда на торгах ошивается мелюзга всякая.
— Мессер Софус! — воскликнула я. — Объясните все герцогу! Мы же договорились!
— Да, дорогуша, — кивнул мне крыс и повернулся к поэту: — Ваша светлость, есть шанс, что торги вообще не будут проводиться и ваш замок, ваше поместье останутся собственностью рода Монтессори. И вот эта, в розовом, уберется восвояси.
— Шанс ничтожно мал, — усмехнулась риелторша. — На расстоянии пятидесяти тысяч световых лет нет ни одной звездной принцессы. Я проверяла.
— Плохо проверяли, — в улыбке мессер Софус продемонстрировал свои алые клычки. — Звездная принцесса имеется. Она перед вами.
И тут я поняла, что пришел мой черед ошарашить бедного Альбино Монтессори. Я ощутила, как во мне раскрывается жаркий цветок с ослепительными лепестками. Этот свет рванулся из меня во все стороны, круша все на своем пути…
— Мое имя Ай-Кеаль, я старшая звездная принцесса планеты Нимб, — я сказала это на нескольких языках сразу. Что-то грохнуло. Запахло гарью.
— Люци, перестань сверкать!!! — услышала я вопль мессера Софуса. — Мебель уже горит!
Я резко выдохнула. Цветок во мне погас. Я огляделась — два громадных книжных шкафа рухнули и загорелись. Оливия подушками сбивала языки пламени и ругалась на чем свет стоит. Я сказала:
— Надеюсь, теперь ни у кого нет сомнений в моей звездной принцессости, — и бросилась помогать Оливии тушить занявшиеся книги.
Нашими общими усилиями возгорание было ликвидировано. Тогда ошарашенная риелторша подала голос:
— Чтоб мне стать метеорным потоком, это настоящая принцесса! Но это не отменяет торгов!
— Отменяет, еще как, — сказал мессер Софус. — Потому что герцог Монтессори немедленно женится на принцессе Ай-Кеаль. Немедленно.
И мессер Софус очень внимательно посмотрел на герцога своими золотыми глазками.
Герцог и без того был сам не свой, а тут вообще впал в ступор.
— Я должен жениться? — выдавил он и стал бледным, как зубной порошок. — На ком?
— На принцессе, — указал в мою сторону крыс. — Этот брак спасет ваше поместье от торгов.
— Но ведь это всего лишь компаньонка моей дочери!
— Да, и наследная звездная принцесса планеты Нимб. Герцог, придите уже в себя! Вы же мужчина, в конце концов!
— Я ничего не понимаю, — пробормотал герцог Монтессори. — Что, простите, за фигня происходит в этом замке? Почему мне видятся говорящие крысы? Я перепил имбирного ликера? Ах, нельзя, категорически нельзя смешивать имбирный ликер с полынным ромом!..
Мессер Софус беспомощно развел лапками:
— У герцога когнитивный диссонанс. Его сознание отказывается воспринимать эту действительность. Придется ввести его в транс и сделать внушение.
Мессер Софус хлопнул в ладоши — и вокруг головы герцога образовался рой сверкающих золотых пылинок.
— Ваша светлость, вы спокойны.
— Спокоен.
— Сейчас вы встанете, подойдете к Люции и возьмете ее за руку.
— Да.
— И пойдете с нею и вашей дочерью в замковую церковь.
— Да.
— Там вы с Люцией заключите брачное соглашение.
— Между прочим, — вякнула златовласка, — такой брак можно оспорить! Герцог не идет на него по доброй воле и в здравом разуме!
Я без лишних разговоров наставила на нее арбалет, предварительно двинув верньер спуска на максимум:
— Только попробуй ляпни об этом кому-нибудь! Я, принцесса, иду на брак с герцогом по своей воле и в офигительно здравом рассудке! Так что брак будет действителен. А если ты считаешь иначе, я тебя с огромным удовольствием аннигилирую прямо здесь. Одним агентом по недвижимости станет меньше, только и всего.
— Я буду молчать, хорошо! — вскинула руки златовласка. Их у нее вдруг оказалось четыре, видимо, сквозь наложенную личность проступал истинный облик. — Но в связи со свадьбой я могу рассчитывать на какой-нибудь памятный подарок?
— Например? — подала голос Оливия.
— Золото, бриллианты, — быстро сказала агентша. — Столовое серебро и фарфор тоже подойдут. И меха. На межгалактических рынках очень ценятся меха.
— Мессер Софус, не могли бы вы проследить, чтобы этой красотке отдали мою норковую шубу и фарфоровый сервиз «Матильда». Сюзанна, конечно, будет вне себя, но вы же объясните ей всю ситуацию…
— Хорошо, детка, — кивнул Оливии милый крыс. — Поспешите в церковь.
— Само собой, я же подружка невесты! Но нужен шафер… Фигаро!
— Ди квалита, ди квалита! — зачем-то пропела я.
Мы захватили с собой Фигаро по дороге в церковь. Суть дела изложили очень лаконично: герцог должен жениться на мне, чтобы поместье оставалось вотчиной рода Монтессори. Фигаро, конечно, разинул рот насчет мезальянса, но тут уж Оливия ввела его в курс моего высокого статуса. Фигаро был потрясен. Пусть скажет спасибо, что не знает, кто мой здешний отец.
В замковой церкви было прохладно и пустынно. Пахло благовониями. Белые стены, громадный подсвечник перед алтарем, грубые деревянные скамьи для прихожан. На алтаре копии Святой Мензурки, Целительной Таблетки и Благословенного Градусника. Из ризницы на стук наших шагов вышел донельзя изумленный священник — церковь в поместье Монтессори посещали чрезвычайно редко.
— Падре Филоменус, — обратилась к нему Оливия. — Пожалуйста, пожените моего папу и мою подругу. Я и Фигаро будем свидетелями.
— К-как? — захлопал глазами падре. — Его светлость намеревается жениться?
— Намеревается, видите, сам не свой от счастья.
— Да, — пробормотал герцог Альбино. — Я сам не свой.
— Люци, — прошептала Оливия. — Во-первых, дай мне эту свою стрелялку, ты же не будешь выходить замуж с оружием в руках.
— А, да.
— Во-вторых, под каким именем ты будешь выходить замуж?
— О, я и не знаю!!! А нельзя как-то без имен?
— Спрошу у падре. — Оливия пошепталась с изумленным священником и вернулась ко мне: — Он проведет краткую церемонию безо всяких имен.
— Отлично. Тогда вы с Фигаро ведите нас к алтарю.
— Эх, жалко, на лютне никто нам не подыгрывает, ну что за свадьба без музыки. Я буду подпевать: лай-ла-ла-ла, лай-ла-ла-ла…
— Замолчи, пожалуйста, ты напеваешь похоронный марш… И мы пришли.
— Возлюбленные об Исцелителе братья и сестры! — заговорил священник. — Сегодня мы собрались здесь, дабы сочетать священными узами брака этого мужчину и эту женщину. Сын мой, по доброй ли воле и разумению берешь ты в жены эту женщину?
— Да, — не своим голосом промолвил герцог Альбино.
— Обещаешь ли ты любить ее и заботиться о ней, пока смерть не разлучит вас?
— Да.
— А ты, дочь моя, по доброй ли воле и здравому разумению берешь этого мужчину себе в мужья?
— Само собой. То есть да.
— Обещаешь ли ты…
— Обещаю.
— Согласно законам Старой Литании объявляю вас мужем и женой. Распишитесь вот здесь и здесь.
Мы по очереди расписались.
— Поздравляю вас, дети мои, — улыбнулся священник. — Можете поцеловаться…
— Мы потом, мы спешим, — улыбнулась я виновато. — Большое спасибо за церемонию.
И мы выскочили из церкви, будто нас уже ждала карета с надписью: «Молодожены».
Конечно, никакой кареты не было. Во дворе замка нас встретила агент по недвижимости.
— Поздравляю, как говорится, — она с любовью провела тремя руками по норковой шубке. В четвертой она зажимала коробку с сервизом. — Торги считаются отмененными. И, ваше высочество, вы теперь самая богатая принцесса на миллион световых лет в округе. Вы владеете Абсолютным Нулем. Это реально круто! Если вам понадобятся мои услуги, только свистните.
— Само собой, — в тон ответила я.
И агентша исчезла, только на мгновение мелькнуло что-то розовое. Я посмотрела на герцога. Он выглядел, как потерявшийся во вневекторном подпространстве котенок.
— Слушай, Оливия, по-моему, надо его светлость отвести в опочивальню, дать успокоительных капель и проследить, чтоб он уснул. А то мне на него смотреть страшно — совсем не ловит действительность.
— Само собой. Фигаро, пожалуйста, отведите герцога в опочивальню и уложите спать. У нас еще есть дела.
— Я на кухню, насчет праздничного стола, — сказала Оливия. — И арбалет твой заодно спрячу в оружейной комнате.
А я поспешила в библиотеку, где меня ждал мессер Софус.
Увидев меня, он улыбнулся:
— Могу я поцеловать новобрачную?
— Всегда пожалуйста, — я ощутила влажный носик милого крыса на своей щеке: — Мессер, все получилось!
— Ну, ты погоди слишком сильно радоваться, — охладил меня Софус. — Когда герцог придет в себя, он может неадекватно среагировать на ваш… брак.
— Ничего. Драться ко мне он не полезет, разводы в Старой Литании запрещены, вмешиваться в его жизнь я не буду, просто стану сдерживающим фактором на пути разных вторженцев. Не думаю, что кто-то захочет диктовать свои условия звездной принцессе.
— Да уж, особенно когда увидит, как ты сияешь. Ты с этим поаккуратнее, детка. Но теперь за этот сектор подпространства я спокоен. И как попутчик попутчику, я хочу преподнести тебе подарок, свадьба же все-таки.
Мессер Софус нарисовал в воздухе замысловатый узор, а потом в его лапках сверкнула изумительно яркими камнями роскошная диадема.
— Какая красота! — ахнула я.
— Это королевские опалы с планеты Теревинф, галактика У-555. Примерь.
Я повиновалась. Посмотрела на себя в свое карманное зеркальце: Святая Мензурка, да я просто ослепляю своей красотой!
— Спасибо, мессер, — улыбнулась я, снимая диадему. — Я буду хранить ее и надевать только в самых торжественных случаях. Когда захочу показать, что я Ай-Кеаль. Но сейчас я хочу жить, как жила и живет Люция Веронезе. Сейчас Оливия вернется с выпивкой и закуской, отметим свадьбу как-никак.
— Да я могу сам все сотворить!
— Как тогда, в карцере пансиона? Тогда вы угощали меня, теперь — я хочу угостить вас. Давайте напьемся и будем бродить по замку, распевая похабные песни и наводя ужас на окрестности.
Мессер Софус расхохотался:
— Ты неисправима, крошка моя!
— И это просто отлично! — воскликнула Оливия, входя. — Мне снова повезло! На кухне — удивительно даже! — не оказалось ни души, зато в холодильном шкафу стояла большая чаша с оливье и поднос с зажаренным молочным поросенком. Там же я нашла две бутылки галльского игристого вина — большая неосмотрительность со стороны Фигаро!
Пока мы накрывали на стол, мессер Софус заинтересовался шкафчиком, хранящим документы о наследовании поместья — помню, мы с Оливией хотели взломать этот шкафчик, но что-то нас отвлекло. Теперь же милый крыс, покрутив замок, спокойно доставал бумаги из открытого шкафчика и внимательно их просматривал.
— Что там, мессер? — спросила я.
— Документы на землю, кадастровые паспорта, милочка, завещания, — ответил Софус. — Я все это просматриваю, чтобы быть уверенным, что жена герцога Монтессори — полноправная хозяйка Кастелло ди ла Перла. Я хочу обезопасить тебя от любых посягательств.
— Спасибо, мессер, но я все равно считаю Оливию главной в замке. И мы уже сервировали стол…
— Прекрасно! Выпьем, перекусим, а потом вместе займемся бумагами. Я закольцевал время в библиотеке, так что нам никто не помешает.
— Ой, — вдруг вскрикнула я. — Оливия, я тебе теперь получаюсь мачехой?
— Да.
Ух, как засверкали глаза моей падчерицы!
— Ужас. Не миновать мне теперь ведра помоев в кровати!
— Да, и она ужасно тебя любит, — улыбнулся мессер Оливии.
— Я тоже ее ужасно люблю.
— Только попробуй полезть ко мне обниматься! — завопила Оливия. — Придушу.
— С чего это я полезу к тебе обниматься? — усмехнулась я. — Пускай всякие слюнявые поэтессы рассуждают на темы дружбы и привязанности, я предпочитаю словам дело.
— Ну, тогда я открою вино, девочки.
Мессер Софус открыл бутылку и наполнил наши бокалы пенящимся ароматным вином:
— За тебя, Люция Монтессори, герцогиня ди ла Перла! Что ты удивляешься — так теперь звучит твое имя! За тебя, Оливия, падчерица звездной принцессы и главная во всех мирах хулиганка!
— За вас, мессер! Наша признательность вам безгранична.
Мы выпили до дна и принялись за еду.
— Какое отличное блюдо — этот салат, — молвил мессер Софус. — И ведь чем больше его ешь, тем больше хочется. Колдовство какое-то!
— Значит, главный повар герцога — колдун, — хихикнула я. — Но святая юстиция не казнит его. Они просто сделают его личным поваром города Рома.
Наверное, мы довольно долго сидели за столом. Времени не чувствовалось — это все проделки мессера Софуса. Игристое вино настроило меня и Оливию на сонный лад. Падчерица дремала на диване, я сидела на полу, опершись о шкафчик, а мессер Софус просматривал документы, изредка комментируя их. Получалось, что я прямая наследница поместья в случае смерти герцога, а еще я при жизни мужа и даже без его ведома могу кому угодно подарить часть поместья или даже все целиком. Мне в связи с этим вспомнилась княжна Марыся Смидович. Она так восхищалась замковым садом! Вот бы ей подарить его! Но это надо с Оливией посовещаться. Как минимум. Когда мы протрезвеем.
Скоро я услышала забористый храп Оливии и решила кое-что обсудить с мессером Софусом.
— Мессер Софус, знаете, тут со мной такое произошло… Но я боюсь об этом говорить… Похоже, я узнала главную тайну герцога.
— Про голос у него в голове?
— Вам это известно?!
— Конечно, ведь я пользуюсь информацией самого разного плана. Герцог Альбино пошел на эту сделку ради славы и богатства, но он несчастный человек. Сейчас он в расцвете своих жизненных сил, но беда в том, что его поэтический талант угасает. Голос в голове — ненадежный друг. Вообще не друг. И герцог это понимает. Его медленно затягивают зыбучие пески тщеславия и честолюбия, и он не знает, как спастись, ведь без голоса он сейчас и детской считалки не сочинит. Может быть, тебе удастся спасти его, Люция…
— Что мне для этого сделать?
— Так сразу и не ответишь. Я подумаю. Кстати, человек в черном плаще на картине — это голос. Таким его видит сам герцог — это его мучитель и вдохновитель.
— Герцогу нужно найти новый источник вдохновения! Если б он мог влюбиться!.. К примеру…
— Посмотрим. Ладно, с документами все ясно, можно закрыть сейф. И давай еще по бокальчику. Отличное вино.
— И поросенка жареного мы практически не съели…
— Угу…
Как это было приятно — слушать храп любимой подруги и сидеть за одним столом с мессером Софусом! Он рассказывал занимательные истории из жизни галактик и звездных скоплений… Цитировал великих писателей, чьих книг мне никогда не прочесть — они написаны в другом измерении… Потом я ощутила, что тоже засыпаю и мессер Софус покидает меня, предварительно укрыв накидкой с дивана…
— Спи, дитя, — прошептал мне он.
Я улыбнулась ему сквозь сон. И заснула крепко-крепко в свою первую брачную ночь.
Глава девятнадцатая Жизнь в новом статусе
Вот так всегда бывает: живишь-живешь, а потом бац! — и живешь по-другому. И ничего, привыкаешь.
Из проповедей Его Высокоблагочестия, т. 78Разбудила меня Оливия. Она вскочила ни свет ни заря и принялась ругать меня за то, что мы тут с крысом пировали, а опохмелиться не оставили. И конечно:
— Ты теперь моя мачеха во веки веков! Ну, отольются тебе все мои детские слезы!
И тяжеленным томом старолитанийской энциклопедии в меня бабах! Еле увернулась:
— Оливия! Так и убить можно! Или крупно покалечить!
Она села рядом и фыркнула:
— Тебя покалечишь, пожалуй. Обжора и пьяница. То-то с утра на кухне хватились кое-чего вкусного!
— Подумаешь! Еще приготовят.
— Да тебя просто не прокормить! Коровища толстозадая! Мы так по миру пойдем!
— Кстати, о хождении по миру. Как ты думаешь, если я теперь жена твоего отца, согласится он на то, что стихи за него напишет анапестон?
— Ой, не знаю. Я еще не была в его покоях. Еще неизвестно, как он воспримет новость о том, что ты его законная супруга. Ой, не могу! Точно ничего выпить не осталось?
— Увы. Но, как законная супруга герцога, я же могу попросить Фигаро открыть винный погреб?
— Попросить можешь. А я рядом постою. Мне интересно узнать, куда пошлет тебя Фигаро вместе с просьбой.
— Тогда я отчалю в свою комнату, умоюсь и переоденусь. Ой, экселенса, что-то мне страшно.
— В смысле?
— А вдруг твой отец решит во второй раз стать вдовцом? И немедленно. Как ты думаешь: он меня задушит, выбросит из окна или просто зарежет?
— Мне самой интересно. Давай выйдем к завтраку с видом «а ничего и не случилось». И понаблюдаем за твоим благоверным.
— Ой, Оливия, что-то мне нехорошо. Я, пожалуй, посижу где-нибудь в уголочке… В кладовочке для метел можно очень хорошо устроиться… А ты мне еду будешь носить и компот. Без компота я погибну…
— Поздно. Привыкай к новому положению.
Я только всхлипнула. Все Монтессори такие безжалостные!
И мы вышли к завтраку. Я одновременно дрожала и вся обливалась потом, а моя экселенса жизнерадостно насвистывала какой-то мотивчик. Змея подколодная, радуется моему несчастью!
Герцог уже сидел за столом. Увидев нас, он изобразил какую-то непонятную эмоцию на лице.
— Доброго утра, мессер, — присела я в поклоне.
— Доброе утро, папочка, — Оливия, когда надо, может так улыбнуться, что все поколения рода Монтессори дружно перевернутся в своих мраморных гробницах. — Доброе утро, милая мамочка!
— Я тебе никогда этого не забуду, доченька, — я тоже неплохо владею искусством жуткой улыбки. Так что мы были квиты и сели за стол, не скрывая своего злоковарного торжества.
Подали мою любимую воздушную запеканку из творога, политую вишневым сиропом. В замке я стала настоящей гурманкой, хотя Оливия все время проезжалась насчет моих пышных форм. Однако запеканку она тоже обожала, несмотря на боязнь потолстеть.
Завтрак проходил в молчании, но герцог вдруг подал голос:
— Люция, я хотел вас спросить… Вы случайно не умеете толковать сны?
— К сожалению, нет, мессер Альбино. А вам приснился какой-то необычный сон?
— Да. Удивительный сон. Мне приснилась говорящая крыса, и говорила она со мной. Потом что-то случилось, какой-то провал, и я увидел себя стоящим в церкви и дающим брачные обеты юной девушке. Этой девушкой были вы, Люция. Как странно…
— Ваша светлость, я сожалею, но это был не сон. Вчера я стала вашей женой, о чем сделана запись в церковной книге поместья Монтессори.
— О небеса! — герцог схватился за голову. — Я много натворил в жизни глупостей, но чтоб такую…
Мне стало обидно.
— Ваша светлость, я тоже не в восторге от нашего брака. Но он был необходим, иначе вы и Оливия лишились бы поместья. Это, надеюсь, вы помните? Наш брак — только условие, при котором замок и окрестные угодья будут по-прежнему принадлежать роду Монтессори.
— Да, да, я вспомнил, — герцог стиснул в руке батистовую салфетку. — Вы же не просто компаньонка моей дочери, вы какая-то звездная принцесса…
— Совершенно верно.
— И что же, я теперь должен обращаться к вам «ваше высочество»?
Адский сноб!
— Никоим образом, мессер. Этот брак ничего не поменяет в наших отношениях. Я по-прежнему буду компаньонкой Оливии.
— Гм. А я уж думал сэкономить на вашем жалованье: раз вы принцесса, то наверняка состоятельная.
— Великому поэту не к лицу скаредность, — усмехнулась я. — Впрочем, я проживу и без жалованья. Если уж совсем обнищаю, заложу свою диадему. Не пропадем. На салат оливье всегда хватит.
Оливия не выдержала и захихикала. Потом посерьезнела и сказала:
— Мессер отец, Люция — ваша законная супруга. И ей вы должны ответить на вопрос — как продвигается работа над стихами для Святого престола? Меня вы можете игнорировать, я всего лишь ваша дочь, но Люции вы…
— Я понимаю, — герцог отшвырнул несчастную салфетку. — Я не могу дать ответ сейчас. Вы услышите его через три недели.
— Но через три недели наступит Новый год! День, когда вы должны представить свои стихи теодитору!
— Что ж, накануне я обязательно познакомлю вас с этими стихами. Вы, Люция, кажется, неплохо разбираетесь в поэзии. Вот и скажете, каково качество моих стихов.
— Мессер отец, у вас нет сердца! — грохнула кулаком по столу Оливия. — Если б не Люция, нас бы уже здесь не было. Вообще ничего здесь бы не было! А вы глумитесь, издеваетесь!..
— Никоим образом, дочь моя. Я с глубоким уважением отношусь к вашей прекрасной компаньонке и весьма ей благодарен.
Он поднялся и вышел из-за стола:
— Прошу меня извинить — еда не лезет в горло, когда осеняет вдохновение. Мне пришла пора творить. Жена моя, надеюсь, вы не заскучаете в компании падчерицы.
И герцог вышел из столовой с грацией ледяной скульптуры.
— Убила бы на месте! — рыкнула Оливия.
— Еще чего! — замахала на нее руками я. — Он такой не от хорошей жизни, поверь мне.
— Ты про ту самую тайну, которую не можешь мне открыть?
— Да. Прости. Все, что я могу сказать — мне жаль твоего отца. Он губит себя. Наверное, он и сам понимает это, оттого и прячется в ледяной панцирь. Он запрещает себе любовь и привязанность, потому что считает себя недостойным ни любви, ни привязанности.
— Круто ты загнула, мать, — с уважением поглядела на меня Оливия. — Это, наверное, в тебе нездешняя мудрость проявляется.
— Наверное, — вздохнула я.
Закончив завтрак, мы отправились в оранжерею, где нашли Себастьянчика и мою сестру, воркующих как влюбленные голубки.
— Себастьянчик, — ехидно заулыбалась Оливия. — А ты, смотрю, времени даром не теряешь.
— И не только он, — добавила я. — Сестрица, смотрю, тебе по душе местные кавальери.
— Мне по душе Себастьяно, — зарделась Ай-Серез.
— Я разве против? — я рассмеялась. — Может быть, вам стоит вдвоем отправиться на планету Нимб? Покажешь Себастьяно тот мир, он ведь хочет стать писателем… Ему будут полезны новые впечатления.
— Мы вообще-то как раз об этом разговаривали, — сказал Себастьяно. — Аечка — моя прекрасная дама, и я буду сопровождать ее куда угодно, даже в ад!
— Да ты влюблен, негодник! — зааплодировала Оливия.
Себастьяно покраснел, как вареный рак.
— Не стесняйся, — хлопнула его по плечу Оливия. — Теперь хоть нормальная у тебя избранница, без стеклянных туфелек. Как окажетесь там, сделай ей предложение. Она ведь младшая принцесса планеты Нимб! Не хухры-мухры. Глядишь, тамошним правителем заделаешься, а здесь тебе что терять, кроме жадных родственников?
— Это верно…
И жизнь пошла себе потихоньку. Где-то через неделю в ворота замка принялись стучаться разносчики всяких новогодних безделушек — украшений для туи, имбирных пряников с пожеланиями, фейерверков, хлопушек, сахарных петушков, — всего того, что создает предпраздничное настроение и помогает забыть про повседневные заботы. Мы с Оливией накупили всякой всячины, двое слуг привезли в замок и установили большую, пушистую, разлапистую, отсверкивающую серебром тую. Она стояла в парадной зале, пахла терпко и сладко и ничем не напоминала те крошечные корявые веточки, которые в пансионе Святого Сердца ставили в кувшины и украшали бумажными снежинками. Честь украсить тую мы с Оливией взяли на себя, впрочем, Себастьянчик тоже лез со своей стремянкой помогать, а его Аечка осуществляла общее руководство процессом. Были принесены два плетеных короба игрушек из стекла, серебра, парчовой ткани, фарфора и шелка. Я задыхалась от восторга, погружаясь в душистые ветки. Я думала о том, как удивительно сложилась моя жизнь — от безвестной сиротки из пансиона до принцессы и супруги герцога и великого поэта.
Герцог, кстати, совсем не показывался. Еду, воду для умывания и смены белья ему относили в скрипторий. Я думала, что ему просто неприятно встречаться со мной, а к дочери он пожизненно питал особую неприязнь… Я старалась не размышлять об этом. Анапестон написал семьдесят одно стихотворение, созданные им листы бумаги хранились в нижнем ящике моего комода, как раз под стопками нижних юбок. Если герцог ничего не сочинит за оставшееся время, эти стихи я сама отдам брату Юлиусу — я почему-то не сомневалась, что забирать герцогскую работу приедет именно он. И я с наслаждением думала о том, как вытянется его постная рожа, когда он получит эти стихи.
С тех пор, как украсили тую, мы с Оливией полюбили по вечерам сидеть у камина в парадной зале и болтать о том о сем. Самым замечательным было то, что я сделала копию ключа от винных погребов (не без помощи Оливии, разумеется). Теперь мы усиживали бутылочку под сыр или сладости и, кажется, превращались в заправских пьяниц. Об этом нам не преминул сказать Себастьяно — он стал суровым трезвенником с тех пор, как моя сестра стала его невестой. Они собирались покинуть нас — перейти через грань на планету Нимб. Но ведь они обязательно вернутся! Хотя бы ради того, чтобы не дать нам спиться окончательно.
Я впервые увидела, как происходит переход, впервые почувствовала всем своим существом. Себастьян и Ай-Серез, держась за руки, стояли посреди библиотеки — именно здесь, по словам моей сестры, четче всего сходились грани. Ай-Серез вскинула руку, словно прощаясь, и мы увидели, как в одном пространстве открылось другое, третье, бесчисленное, будто анфилада дверей. Это длилось долю секунды, а потом библиотека замка приняла свой обычный вид. Не было только нашей славной парочки…
— Люци, — Оливия называла меня по-прежнему, и я ужасно была рада этому: плевать ей на мой звездный статус, главное — я ее подруга. — Люци, а ты сможешь вот так?
— Идти через грань? Наверное. Мы с тобой обязательно это попробуем, но позже.
— А что нам сейчас мешает?
— Оливия, а вдруг мы попадем в какое-нибудь измерение и не сможем вернуться? Я этого очень боюсь. Хоть я и родилась на планете Нимб, я родилась также и на этой Планете, и она мне очень дорога. Давай после Нового года попробуем, на наш общий день рождения. Я ведь никогда по-настоящему не праздновала Новый год… В пансионе не было такой красоты, и… тебя не было.
— Кажется, моя приемная мамочка настроилась на чувствительный лад? — Оливия расслабляться не давала.
— Да вот еще, — в тон ответила я. — Просто салат оливье могут не подать к столу в другом измерении. Опять же, винные погреба тут что надо.
Мы расхохотались.
Однако судьба, чтобы немного уравновесить нас, прислала Оливии простуду. Моя экселенса кашляла, поминутно чихала, громогласно сморкалась, изводя кучу платков, и выглядела так вяло, что даже не бросала в меня стилет, когда я приходила в ее комнату с лекарствами и теплым питьем.
— Люци, мне скучно, — жаловалась она. — Из носа течет, из глаз течет, жизнь просто безжалостная сука!
— Я могу тебе петь разные песни, — предлагала я.
— Только не это! — Оливия отмахивалась как от пчелиного роя. — Твоим голосом можно железо резать, а вот петь — ни-ни! Иначе все подумают, что в замке Монтессори с кого-то живьем сдирают кожу.
— У меня отличный голос, — кобенилась я. — Когда я пою в ванной, никто не жалуется.
— Само собой, все убегают подальше от твоей комнаты и прячутся, чтобы барабанные перепонки не лопнули.
В общем, я старалась поддержать в Оливии настроение и бодрый дух. Однажды мне пришло в голову читать ей что-нибудь жизнеутверждающее, и я отправилась в библиотеку.
Я рылась в шкафах с книгами, когда услышала стук двери и шаги. Я обернулась — передо мной стоял герцог Альбино, он же мой муж.
— Добрый день, ваша светлость, — я слезла со стремянки и сделала реверанс. — Чем могу вам служить?
— Просмотрите вот это, — герцог протянул мне стопку веленевой бумаги. — Просмотрите и скажите ваше мнение. Завтра за обедом.
— Хорошо, ва…
— Люция, вы же моя жена. Могли бы обращаться ко мне менее официально.
— Нет, герцог Альбино.
— Почему?
— Другого обращения вы не заслуживаете.
— Я так плох? Чем же?
— Тем, что подчинили свой разум, совесть, сердце, всего себя…
— Кому? — герцог стал очень бледен.
— Он звучит в вашей голове. Постоянно. Он ваш хозяин, кукловод. А вы несчастная кукла с человеческим лицом. Да, я знаю вашу тайну. Никто в замке больше не знает ее.
— А вы разболтайте всем, опозорьте и погубите меня! — крикнул герцог, лицо его исказилось гневом и стыдом.
— Нет. Я люблю Оливию, люблю Сюзанну и Фигаро, и Полетту и… весь замок Монтессори. И я знаю, что вы старались никому не причинять зла, кроме собственной дочери и себя самого. Ваша тайна умрет вместе со мной. Останьтесь для всего мира величайшим поэтом. В конце концов, стихи, что вы пишете, — они прекрасны, даже если сочинили их в какой-нибудь далекой-далекой галактике… Ну что же вы стоите? На столе лежит нож для разрезания бумаги — им вполне можно перерезать мне горло…
— Люция, вы сдурели? Вы что несете? Совместные попойки с моей дочерью, похоже, лишили вас разума. Придется Фигаро еще раз вызывать слесаря.
— Я все равно сделаю отмычку.
— Я не потерплю, чтобы мои жена и дочь превратились в пьяниц. Прекращайте это безобразие. И вот еще что: раз уж вы стали моей женой, придется вам потрудиться и родить мне пару-тройку мальчишек.
— А-а-а…
— Не прямо сейчас, конечно. Но в перспективе… Сейчас прочтите то, что я вам принес.
— Х-х-хорошо…
…Я влетела в комнату Оливии в буквальном смысле слова — то есть не касаясь ногами пола, я очень торопилась!
— Оливия! — заорала я, едва за мной захлопнулась дверь.
— Чего? — шмыгая покрасневшим носом, осведомилась моя экселенса.
— Это мне только что дал герцог! — я потрясла пачкой бумаги. — Велел прочесть и завтра сказать свое мнение.
— Неужели? Он таки родил их — стихи про овощи и фрукты! Разбейся Святая Мензурка, если я не права!
Мы сели, разделили листы примерно поровну и принялись читать. Это было что-то потрясающее!!! Обыкновенные овощи и фрукты воспевались так, словно они, минимум, небесные светила, озаряющие бренность человеческого пути. И — главное — все стихи были написаны анапестом!
— Он справился, — благоговейно прошептала Оливия. — Он смог. Прикольный все-таки чувак мой отец.
— Герцогиня! Я требую, чтоб вы оставили этот тон! Я сама офигеваю…
— Сейчас бы не помешала бутылочка «Черного рыцаря». Все, герцогиня, с выпивкой надо завязывать.
— А что так?
— Герцог хочет, чтобы я родила ему пару-тройку мальчишек, как он выразился. И вообще он недоволен тем, что мы так бесшабашно пьянствуем. Думаю, что он введет в замке моду на здоровый образ жизни.
Оливия немного помолчала, а потом спокойно молвила:
— Что ж, переживем и это.
И мы пережили. Правда, предварительно я все-таки проникла в винный погреб и вынесла под передником полдюжины бутылок «Черного рыцаря». И нашему стремлению вести исключительно здоровый образ жизни это ни-ик! — как не помешало.
Стихи герцога были отправлены с нарочным в святой град Ром, к престолу свежевылупившегося Его Высокоблагочестия. Второй экземпляр — в подарочном оформлении виньетками из сусального золота — получил король. И стихи немедленно стали предметом восхищения у столичной знати. Какой-то досужий музыкант переложил их для лютни и арфы, и представители бомонда распевали арии и песенки о морковке, репе и баклажанах. Кстати, почему-то самой популярной стала песня именно о баклажанах. Наверное, из-за интересной рифмы…
А потом начались снегопады, и огромные сугробы спрятали Кастелло ди ла Перла от всего мира. Так что курьер, везущий герцогу приглашение на королевскую тую, вынужден был остаться в замке. И никто никуда не поехал. Да и зачем? Наша туя была не хуже королевской, уж поверьте мне. И стол накрыли просто потрясающий, и отмычку к замкам винных погребов я смастерила на досуге… И в замке был чудесный праздник…
Но сейчас я кладу себе под язык камушек мессера Софуса, чтобы не выболтать очень хрупкую и чудесную тайну. Я помолчу. И пока я молчу, вы можете придумывать все что угодно, про меня, Оливию и герцога Альбино. Все равно реальность будет еще интереснее и невероятнее. Уж я-то знаю.
Эпилог
— Фигаро?
— Ваша светлость, это письмо пришло с вечерней почтой.
— Письмо? Мне? Странно, я никогда не получала писем. И тем более как Люция Монтессори! Спасибо, Фигаро.
Я вскрыла письмо. В нем не было ни слова, только рисунок: большой жук, перечеркнутый крест-накрест.
— Ой, — меня словно по голове стукнули. — Ой.
Фигаро внимательно посмотрел на меня:
— Не будет ли у вас сообщений в Центр, герцогиня? — деликатно осведомился он.







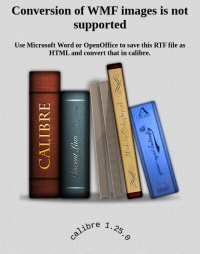





Комментарии к книге «Принцесса с дурной репутацией», Надежда Валентиновна Первухина
Всего 0 комментариев