На блёстки дней, зажатые в руке,
Не купишь тайны, где то вдалеке.
А тут и ложь, на волосок от правды.
И жизнь твоя, сама на волоске.
Омар Хайям
«Шли и шли и пели «Вечную память»», – вертелась в голове строчка из какой-то давным-давно прочитанной книги. Каблучок левого сапога то и дело проваливался в грязный серый снег, туда, где подмокший край ковровой дорожки граничил с обочиной. Ада Фрейн шла вместе с людским потоком и останавливалась с ним вместе, постукивала в паузе туго затянутой в кожу ногой по посеревшему от тысяч следов красно-черному ворсу, стряхивая снег. А на следующем шаге оступалась снова.
«И почему не убрали дочиста, совсем?» – думала, зябко кутаясь в черные искусственные меха. Было время и думать и вспоминать – шли медленно, делали несколько шагов, останавливались, ждали. С усилием, там, впереди, проталкивались в узкие двери крематория, перед которыми нужно будет еще подняться по бесконечным ступеням, опираясь на спины и плечи сограждан, повернуть голову, предоставляя жадным зрачкам фотоаппаратов свое печальное выражение лица в идеальном ракурсе, чтобы в завтрашних газетах появиться символическим выражением всенародного горя. Но это не повод для беспокойства – Аде Фрейн удавалось в жизни немногое, но она всегда умела выходить на фотографиях так, как нужно. Потому сейчас с сосредоточенностью маленького ребенка она разглядывала чуть загибающийся край грязной дорожки под ногами, напоминавший, что нужно идти аккуратно. Упасть – когда вокруг столько людей! – не хватало еще. Могла бы держаться ближе к центру, но продолжала идти по грязному краю, чтобы вот так – в стороне от всех. Как стеной отгородиться скорбным видом, прямой спиной и молчанием. Была бы возможность, шла бы последней, отстала бы от этой толпы с ее унылыми, нескончаемым потоком журчащими разговорами. Но как тут отстанешь, если впереди полнеба скрывшая громада крематория, а позади тысячи человек, позади железные ворота. А там, за воротами напирает толпа тех, кто не получил вчера маленькой черной карточки, приглашавшей на прощание в Центральный Крематорий Столицы, кто ждал с самого утра, кому придется довольствоваться смутной надеждой, что под вечер пустят к покойнику. Страшно подумать, как они там мерзли с утра в это унылое межсезонье, когда время года еще само не понимает, чем ему быть: задержавшейся зимой или рано наступившей весной. Там зато плакала бы свободно, и не говорили бы вокруг о ерунде, и там можно было бы остаться одной, совсем одной посреди толпы. Но она была здесь, а не там, и на этом точка. Благодарить усопшего следовало за это, а еще организаторов прощания, включивших ее в список избранных, но то ли забывших, то ли просто не подумавших убрать снег вокруг ковровой дорожки.
Из-за спины раздались – не в лад взятому шествием темпу – дробные быстрые шаги. Кто-то спешил, проталкивался, кто-то умудрялся лавировать в толпе, нарушая мерный ход процессии. Ада уловила краем глаза, что справа из-за спины к ней приближаются остроносые, начищенные ботинки – педантично, ровно, чтобы не оступиться в грязный снег, не споткнуться ненароком. Ниже опустила голову.
– Ада… – Она узнала и голос, и ботинки. Конечно, кто-нибудь обязательно должен был подойти. Но тут не кто-нибудь. Тут Илья Арфов, ее друг, ее менеджер, ее персональный «агент-хранитель», как он сам порой в шутку себя называл.
– Что? – Спросила раздраженно, догадывалась, зачем он к ней спешил.
– Ты как?
– Не пила, – хрипло ответила, не глядя на него. – Тебя же это беспокоит? Как стеклышко. А теперь отвали, Арфов.
– Не злись, – он улыбнулся. Даже не видя его лица, она по голосу слышала, что улыбнулся. Испытал облегчение, не так ли? – Я знаю, ты переживаешь.
– Мы все переживаем, – механически-заученная фраза сорвалась с губ вопреки ее желанию промолчать.
Именно такими банальностями она прокладывала себе дорогу в жизнь, именно с них всегда начинались ее неприятности – не все неприятности, конечно, и глупо было бы думать, что тогда, много лет назад что-то зависело от того, скажет она очередную глупость или нет, но сердце-то защемило. Слишком многое напоминало о прошлом.
Он словно прочитал ее мысли – как случалось с ним довольно часто – и сжал ее руку, неправильно интерпретируя прочитанное – что тоже порой случалось.
– О Вельде думаешь?
И ведь правильно уловил, что дело в муже, не настолько давно она его хоронила, чтобы не вспомнить теперь. Но, конечно, в главном Илья ошибся – она думала об их первой встрече, а не о тех скромных проводах, которые ему устроили. Промолчала, не желая об этом говорить и надеясь, что он куда-нибудь пропадет, просто исчезнет и выпадет из памяти вместе с мыслями о Вельде и необходимостью стоять в бесконечной очереди. Но он пропадать не собирался, существовал рядом необоримым обстоятельством – как и глупая дорожка под ногами, снег по обочине, ее усталость, желание закурить, угнетающее ожидание, невозможность сохранить хоть какое-то подобие личного пространства.
Он знал ее слишком хорошо и тоже молчал, ожидая, и она не выдержала первой – всегда не выдерживала. Заговорила:
– Как там, долго еще?
Такая тоска в голосе – Ада сама удивилась – вдруг прозвучала, что он снова встревожился, захотел поддержать и зачем-то сильно сжал ее замерзшие в тонких перчатках пальцы. Ада подняла голову, посмотрела на него, пытаясь взглядом выразить благодарность, которой не испытывала.
– Думаю, полчаса, не больше. Довольно быстро двигаемся, – оптимистично сообщил он, оживился, замахал свободной рукой кому-то знакомому в толпе безусловно знакомых ему людей. Его заметили – заулыбался, забывшись.
Она снова отвернулась, отдернула руку. В такой момент – и на виду. Как же она сейчас ненавидела это привычное состояние. И хуже всего, что в такой момент и на виду и не одна.
Но время шло и шло, и они шли шаг за шагом, медленно, чтобы дать впереди идущим проститься. Приближались к огромному, серого кирпича зданию по мокрой ковровой дорожке под начинающимся легким снегом. С одинаковыми, у кого-то лучше, у кого-то хуже получавшимися скорбными лицами, ощущая пустоту и торжественность момента. Партийные шишки прошли первыми – мрачная черная стая уже давно скрылась в темном проеме, в который теперь протискивались знаменитые на всю страну ученые. Хорошо, потому что следом за ними уже все сплошь знакомые лица деятелей культуры: признанных поэтов, закормленных государственными наградами писателей, уважаемых композиторов, модных режиссеров. А следом за мэтрами – ее коллеги и она сама – пестрая, даже если одета в траур, толпа актеров и актрис, скорбь на лицах которых отчего-то выглядела самой наигранной. Ползли, подумала Ада, как муравьи те, чья карьера еще недавно так сильно зависела от человека, который мертвый и ко всему безучастный теперь лежал – жемчужина в раковине – в здании серого кирпича.
Отчего-то ей хотелось плакать среди не плачущей толпы. Три дня назад они все, все, все, она знала наверняка, они все рыдали. Когда телевизионные и радиопередачи вдруг остановились, когда в кинотеатрах посреди сеансов включился свет, когда светофоры загорелись красным, останавливая слабый поток машин, когда приспустили флаги, когда детей задержали в школе, когда жизнь встала, замерла, вслушиваясь в новость, прочитанную диктором с покрасневшими глазами, в которых боль, – они рыдали. Умер. Умер и нет его больше – «на восемьдесят пятом году ушел из жизни знакомый и любимый всеми бессчетное число лет простоявший у кормила в юности много времени посвящавший прекрасный семьянин любящий отец заботливый добрый все на свете знающий автор многочисленных сочинений по глубине соперничающих с величайшими произведениями философов прошлого великий реформатор гарант свободы и независимости оплот процветания прекрасный человек всенародно любимый пожизненно назначенный» – умер, и нет больше на свете. Первого Президента Объединенной Евразии Олега Вячеславовича Горецкого. Так и звучало – сплошные прописные буквы.
Все тогда испугались. И минуты молчания три дня назад так легко перерастали в получасия, и каждый думал – и каждый боялся – а что теперь? А теперь – как? И Ада думала, думала даже теперь, когда жизнь перевалила через паузу, как через ухаб на дороге, потекла дальше, стыдливо поглядывая на покойника, из-под полы торгуя привычными радостями, пытаясь незаметно войти в колею, прийти в норму. Сегодня, когда уже никто не плакал навзрыд, все еще думала. Вроде бы слишком быстро утешились, отвлеклись, но не остановилось же время за эти три дня, и Земля не сошла с орбиты, и ничего не произошло – всего лишь умер старик, с которым у многих из тех, кто шел сейчас к крематорию, было даже некое подобие личных отношений. И плакать сейчас неразумно, если не непристойно. Оптимизм – это задача каждого гражданина, уныние – непозволительная роскошь в стране, которая каждый день совершает подвиг, оставаясь целостной посреди хаоса. Ада наклонила голову ниже, глотая обиду за мертвого и за себя, слезы глотая, и отерла холодными перчатками холодные щеки. Нормально было изображать скорбь. Горевать – ненормально.
– А доктор твой где? – Нарушил молчание Арфов, заметивший ее жест.
Она знала, он думает, что не его дело сейчас идти с ней, компрометируя себя. Не он должен быть рядом, а ее ухажер, раз уж она настаивает на том, что у них все серьезно.
– Не знаю. Я хотела побыть одна.
Но он не понял намека, считая, что с ним она почти что одна. Или, что к нему это не относится. Или еще что-то. Может, он и был прав. Но от того, что он так хорошо ее знал, становилось противно. Подумала, не спросить ли про его жену, которая, наверняка, неподалеку, ревнивым, яростным взглядом сверлит их спины, но сдержалась. Не стоило сейчас ссориться по таким пустякам. И замолчала так окончательно, что Арфов бросил попытки пробиться к ней. Вот закончится все, и тогда он попытается снова.
Наконец, дошли, преодолели ступени, поднялись плечом к плечу, обернулись к репортерам, предоставив свои лица в распоряжение прессы, втиснулись в полутемный зал след в след за коллегами, наступая друг другу на пятки, толкаясь и терпя толчки. Было темно, и тесно, и почему-то не теплее, чем на улице, но пахло как-то затхло. Неужели не могли позаботиться? А с другой стороны, что сделаешь, если с самого утра тут толпа народу, идут, идут, идут…
Только одно место в комнате было хорошо освещено – возвышение с гробом, окруженное невысокой решеткой. Великий покойник лежал там – старый, хрупкий, бело-блестящий, неподвижный, приковывающий взгляды. Ада встала у решетки, замерла, вцепившись в безучастный металл, смотрела – по пальцам рук можно пересчитать сколько раз в жизни видела его так близко. Смотрела и узнавала знакомое уже тридцать с лишним лет лицо отполированное смертью. Сейчас ей показалось, что он величественнее, выше, умнее, чем был при жизни, и она замерла, впитывая, запоминая его. Она чувствовала страшное облегчение, моментальное исчезновение испытанного беспокойства – и даже себе не могла объяснить, чего боялась. Может, она ожидала, что придется увидеть невысокого противного старика с трясущимися руками, слезящимися глазами, в выражении которых хитринка смешивалась с первыми признаками старческого слабоумия? Может, это, может, что-то другое. Но явно то, что могло подсказать ей, как неправа она была, все эти годы уверенно утверждая, что Президент ведет страну единственно правильным курсом. А теперь убедилась, что все в порядке – он в смерти принял свой истинный облик – можно успокоиться. Президент был прекрасен даже со всеми своими морщинами и седыми волосами, еще бы, он же заработал все это, беспокоясь о благе страны, о благе народа.
Обнадеженная, успокоенная, Ада обернулась к молчаливо стоявшим рядом с гробом, к жене покойного, кажется, заснувшей в своем инвалидном кресле, к одной из его дочерей, высокой, дебелой пятидесятилетней женщине, выглядевшей даже старше своих лет. Одетая в черные меха, та нескромно и непросто молчала, но в ее сухих, узких глазах Ада прочитала – не горечь и даже не страх – панику.
Ада Фрейн тряхнула головой, обретая растерянную уверенность, выпрямилась гордо – пусть все смотрят, она не упадет, не ударится в слезы – подошла. Смерила взглядом, в котором и соболезнование, и участие, и насмешка, и высокомерие. По извечной женской привычке сравнила с собой дочь президента и почувствовала себя лучше, убедившись, что она моложе, красивее, тверже, бесстрашнее. Протянула руку, выражая соболезнование коротко и громко – все громче и громче, пусть слышат, пусть смотрят.
– Он всегда любил ваши фильмы, – откликнулась дочь Первого Президента, и Ада кивнула, принимая комплимент как признание очевидного факта. Конечно, любил – она это знала. Ей рассказывали, что даже пересматривал некоторые из картин с ее участием по нескольку раз. Конечно, любил – иначе не видать бы ей таких гонораров, и постоянных предложений, и славы. Конечно, любил – и однажды разговаривал с ней лично, в тот самый раз, когда она видела его даже ближе, чем сейчас, пусть и всего пять минут, пусть и почти десять лет назад. Зато один на один, если не считать серых теней его охраны. Он называл ее милочкой, хвалил за патриотизм, обещал, что все ее проблемы решатся, и не может страна потерять такую одаренную артистку и красивую женщину только из-за недоразумения с ее женихом – она помнила, она была польщена. Тем более что была тогда – ничто, дебютантка. И даже если ей самой претило то, в чем приходилось сниматься, ему-то нравилось. А разве он не умнее, не старше, не опытнее нее? Он верил – и она поверила, пусть ненадолго. Конечно, любил – а кто не любил ее в эти годы?
– Крепитесь, дорогая, – громко ответила Ада самым сладким голосом, на который была способна. Липкий ужас в глазах дочери покойного затмевал горе, если эта женщина, вообще, испытывала его. Дочь молча кивнула – как же ее все-таки зовут? – и хотела уже отвернуться к следующему желающему выразить соболезнования. Но Ада не успокаивалась.
– Не время для слез. Он бы хотел, чтобы мы были мужественными, – опять банальности срывались с ее языка как слова хорошо заученной роли. Но она не могла остановиться, желая покрасоваться, желая прогнать этот страх из глаз собеседницы, желая запомниться. И еще упрекнуть дочь усопшего за равнодушие – или малодушие? – за недостаток душевности в такой момент. Почему эта женщина не плачет об отце, не скорбит? Почему она боится? И чего? Потерять все, чем владеет ее семья? Какая мерзость, какая же мерзость.
– Нам нужно быть мужественными, чтобы сохранить то прекрасное, что он оставил нам в наследство, то, над чем он работал всю жизнь, – получалось даже лучше, чем она хотела. Ни дать ни взять та заплаканная дикторша, только эмоциональнее, ярче, сильнее. – Нашу страну, нашу культуру, нашу свободу. Он был великим патриотом, гуманным человеком, истинным другом…
Готовая фраза чуть не сорвалась с языка – «если, конечно, это правда, что он умер», и Ада как всегда не знала, что это значит и кто это сказал, откуда это взялось в ее голове. Но, привыкшая к тому, что мысли ее чуть ли не сплошь состоят из цитат, не обратила внимания. Только поздравила себя с тем, что вовремя прикусила язык, а подоспевший Арфов уже уводил ее, взяв под руку, вежливо улыбаясь, соболезнуя, раскланиваясь, прерывая ее импровизированный митинг, чтобы она не сболтнула лишнего. Конечно, она сказала ему, что не пила, но разве ей можно верить? Когда Аде, вообще, можно было верить? Актриса врет, как дышит.
Под руку Илья повел ее по проходу – выход находился ровно напротив входа в зал, но был шире и еще раз стоять в очереди не пришлось. Ада остановилась на улице, вдохнула сладкий после тусклого помещения воздух, на вкус напомнивший холодное молоко. Закрыла глаза, наслаждаясь мокрыми поцелуями усилившегося снега, ласкавшего ее уставшее лицо. Она не спала трое суток – слишком много для тридцатипятилетней женщины. Она бы сегодня валилась с ног, если бы предыдущей ночью не удалось немного поспать, да и то только благодаря таблеткам, которые дал Дима.
– И что это было такое? – Осведомился Илья, закуривая, недовольно глядя на нее, давая и ей прикурить. – Репетировала? Или так, экспромт?
– Отстань. Ты все равно не поймешь, – затянулась, укутываясь в табачный дым и неожиданно чувствуя себя намного лучше – не то оттого, что все закончилось, и можно было, наконец, покурить, освободиться от этого мерзкого чувства ожидания, от необходимости соответствовать, не то просто довольная своей выходкой. Огляделась в поисках своего волшебного доктора.
– А где Дима? – Королевские ужимки возвращались, как мокрый снег, налипая на каждое ее слово, каждую интонацию. Капризно протянутое имя любовника, строгий спрос с агента-хранителя, словно он не только мог, но и обязан был знать, где находится то, чего ей хочется, и как это немедленно достать. Словно забыла, что еще недавно он сам спрашивал ее о том же.
– Может и не пойму, но слушай, Ада… – Пропустил мимо ушей ее вопрос. Илья терпеть не мог ее нового любовника, уж точно не собирался искать его по ее капризу. – Сейчас время такое… надо быть потише. Понимаешь меня? Непонятно пока, непонятно… А на мероприятие я сам тебя отвезу.
Ада поморщилась – не хотелось ей никаких поминок, продолжения сегодняшнего спектакля. Хотелось выпить красного вина, закутаться в плед и с ногами забраться в кресло – и может быть, даже уснуть. А тут придется еще несколько часов держать спину и печально-обаятельную улыбку прикрепить к губам.
– Я домой хочу, – проговорила тоном обиженного ребенка, словно забыв, что на него это уже тысячу лет как не действует – если вообще когда-нибудь действовало.
– Ничего не знаю. Ты должна там хотя бы показаться. В понедельник нам на Комиссию, получать разрешение на выпуск. Да и все, что у нас есть – это ведь благодаря нему, необходимо подчеркнуть, что ты умеешь ценить внимание к твоей особе и быть благодарной. Пригодится еще, – бросил быстрый взгляд за плечо, на дверь, из которой они только недавно вышли.
– Знаю, – сама успела осудить себя за неблагодарность.
И правда – должна была. Скольким она была ему обязана, да?
– Как думаешь, что теперь будет?
– Понятия не имею, – он понизил голос, оглядевшись, взял ее под руку и повел к выходу с территории. Там, за задними воротами должна ждать машина. Он не был бы ее агентом-хранителем, если бы не умел предусматривать все на свете, и, в первую очередь, ее ссоры с мужчинами, которым полагалось ее подвозить. – И никто не знает. Наверное, назначат исполняющего обязанности, выборы начнут готовить… Только все это мне не нравится. Суета, толпа, хлопоты, непорядок. Так хорошо было, а теперь…
Она согласно кивнула. Бывало по-всякому, конечно. Но в стране все было хорошо. Никакого терроризма (почти), никаких кризисов (почти). Тихо. Можно жить.
– И чего ему вздумалось умереть… Хотя Дима твой мне говорил, что уже несколько лет, как налицо все признаки слабоумия, а в последние дни он был совсем плох, хоть и говорили, что идет на поправку… Но посмотреть на него – старая развалина, – он говорил совсем тихо, но она все равно вспыхнула, разозленная его словами, отдернула руку. Еще и не похоронили даже, а уже грязь – и такая опасная. Странно было представить, что даже такой циник как Дима стал говорить об этом с кем-то, кроме нее – а она обычно не слушала. Еще три дня назад не осмелился бы. И Арфов не осмелился бы слушать, не то, что повторять. Но сейчас все не так – в головах что-то переключилось. Даже у осторожного Ильи страх куда-то пропал, несмотря на его собственное недавнее предупреждение быть потише. А самое удивительное, он даже не понимал, даже не заметил, как перестал бояться повторять подобные гнусные сплетни. Как снег под ногами, память крошилась, таяла, пригретая солнцем. Вчерашние слезы и страхи сегодня ни для кого ничего не значили. Страна, очевидно, на всех парах неслась к катастрофе, масштабы которой не могло охватить даже воспаленное воображение Ады Фрейн.
Он придержал перед ней створку ворот, и она выпорхнула, стрельнув глазами по сторонам – профессиональная привычка, а вдруг и здесь притаились репортеры? Но никакой прессы, только вереница поджидающих вдоль обочины автомобилей, да серые лица службы охраны, следящей, чтобы никто из желающих попрощаться не проник на территорию без разрешения. Обернулась через плечо, напоследок.
–
Больше таких глупостей при мне не повторяй! Неужели нельзя проявить хоть
немного уважения?
***
В машине было неожиданно тепло, видимо, Арфов знал о ее скандале с Димой больше, чем пытался показать. И предвидя возможность того, что везти Аду придется ему, позаботился о том, чтобы водитель не выключал двигатель во время ожидания. При нынешних ценах на электричество, это было если не крайней роскошью, то, во всяком случае, недешевым удовольствием. Ада блаженно потянулась, стягивая с плеч мнимо-меховую накидку, вытягивая ноги, насколько позволяло расстояние до спинки водительского сидения. Развалилась довольной кошкой, льнущей к теплу, вытащила сигареты, покосилась на Илью, занявшего сидение рядом с водителем, взглядом сообщая ему и о своей благодарности, чуть улыбнулась – он-то на нее не смотрел. По его немного расслабившимся плечам догадалась, что Илья в целом доволен ее поведением и в ближайшее время выговоров не предвидится. Все, что он собирался ей сказать, уже было сказано. Ада прильнула щекой к прохладному стеклу, на секунду закрыла глаза, наслаждаясь очередной сигаретой и несколькими мгновениями покоя. Вот сейчас, еще секундочку, и нужно будет снова встряхнуться, завести неприятный разговор, может быть, поскандалить, потому что за ним числился маленький должок, а его хваленая предусмотрительность, судя по всему, была ничем иным, как мерзким шпионажем, в котором она давно его подозревала, но никак не могла уличить.
Машина плавно тронулась, Ада открыла глаза, мягко улыбаясь плечу Арфова. Сколько она его знала, Илья всегда был страстным автомобилистом, но с некоторых пор за руль не садился, особенно, если предполагалось, что в машине с ним поедет его подопечная. Не доверял он и автопилоту, который мог бы вести автомобиль по кратчайшему маршруту до места назначения, но, во-первых, с удручающе медленной скоростью, а во-вторых, автоматика не могла бы свидетельствовать о том, что между ним и Адой ничего непристойного не происходит. Жена не давала ему покоя со своей бессмысленной ревностью, и он всегда старался обеспечить себе алиби, чтобы в любой момент иметь возможность доказать Майе их с Адой пристойное поведение.
Пепел упал прямо на обивку, но Арфов ничего не заметил, и Ада постучала по сигарете, надеясь, что еще что-нибудь упадет. Нужно еще понять, с кем он успел поговорить. С Димой? Это было бы весьма плохо, так как меньше всего она хотела, чтобы ее мужчины нашли между собой общий язык. Или с Норой, приходившей убирать ее квартиру? Еще хуже, от любовника она устала куда больше, чем от домработницы и расстаться с ним ей было бы куда легче. Но не успела она открыть рот, чтобы привлечь к себе внимание, не успела толком разозлиться, как Илья потянулся к панели, и на спинке впереди стоящего кресла вспыхнул экран.
Хорошенькая дикторша, сидя за столом, беззвучно шевелила губами, а за ее спиной шли кадры, которые вся страна безостановочно смотрела последние три дня. Новости и развлекательные программы, которыми славилось телевидение, стыдливо уступили место пространным рассказам о том, как много сделал для страны покойный. Видимо, чтобы благодарный народ не забыл своего вождя и его заслуги неприлично быстро.
– Сделай громче.
– Не наслушалась еще? Подожди, доедем, речей будет предостаточно…
– Я сказала, сделай громче, – потребовала снова. Злость, отогревшаяся в теплой машине, вроде бы стихшая, снова заледенела в голосе. И Арфов, свернувшаяся в панцире улитка, покачал головой, подчинился.
«…начало века было омрачено не только многочисленными экономическими кризисами, сотрясавшими государства, располагавшиеся на территории нашей великой страны. В то время евразийцы ошибочно полагали, что экономического объединения достаточно для того, чтобы противостоять многочисленным угрозам, идущим с Востока и Запада. Оказавшись между двух великих игроков, – речь о США и Китае, – Евразия сотрясалась от местных, локальных конфликтов, вызванных нашествием эмигрантов из арабского мира и стран Африки, а так же бедственным положением, в которое попало коренное население благодаря притоку дешевой рабочей силы. Белый человек, поставленный в положение вечно извиняющегося экс-рабовладельца в США, уничтожаемый и унижаемый мусульманским миром, не мог найти свой кров и на собственной Родине, в Европе и европейской части России. Белый человек должен был быть уничтожен, стерт с лица земли иными расами, и наша великая история, великая культура должны были быть поглощены благодаря гнусной политике мультикультурности, пропагандируемой продажными политиками Европы и, в меньшей степени, на территориях бывшего Советского Союза».
Ада знала это место наизусть. Так начинался один из трудов покойного президента, не то его автобиография, не то его исторические сочинения, она никогда не обращала внимания на источник. Скорее автобиография, он ведь никогда не отделял свою личную жизнь от жизни страны, которую создал, свою историю от истории века, с которым родился почти одновременно. Так и нужно, думала, только так и нужно – что мы, если не иллюстрации, не микро-повторения глобальных процессов? Мы только соль, растворенная в море, и каждый наш шаг вершит историю, и каждый вздох истории вершит наши судьбы. Где она почерпнула эти мысли? Родились ли они в ее собственной глупой голове? Не нужно, не нужно об этом думать, и она достала зеркальце, принялась прихорашиваться – как здорово, что удалось все же поспать накануне, хитрые косметические приемы уже почти не помогали от черных кругов под измученными глазами…
«Вооруженный конфликт, разгоревшийся, когда мне едва исполнилось пятнадцать лет, и получивший позднее название Третьей Мировой Войны, поставил перед евразийцами роковой вопрос – стоит ли продолжать бороться за то, что народу Евразии не нужно и никогда не было нужно. Действительно ли белому человеку необходимо принимать участие в войнах между почти полностью поглощенными негроидами Соединенными Штатами, относящимися к нам с презрением азиатами, постепенно объединяющимися под игом Китая, и разобщенным, но крайне опасным мусульманским миром? Я никогда не утверждал, что одна раса лучше другой, что одна культура важнее другой, но факт состоит в том, что с эволюционной точки зрения белый человек почти не имеет шансов сохраниться как вид, потому что и негры и азиаты естественным образом будут доминировать над нами генетически и фенотипически. Речь шла уже не о националисических идеях, не о ксенофобии, но о борьбе за то, чтобы Венера Боттичелли не казалась нашим внукам как женщиной с другой планеты. Что касается мусульман, то их религиозный фанатизм, их сжирающая все на своем пути культура, их агрессия – в арабских странах шли нескончаемые вооруженные столкновения, а расцветший буйным цветом терроризм распространился по всему миру – заставляли предполагать, что они объявили войну всему человечеству».
Пуховка мягко прошлась по светлой коже – лето впереди, холодное, мутное евразийское лето, с его туманами и дождями, но, если выдадутся солнечные дни, нужно побеспокоиться о защитных масках, не хватало только загореть. Уже много лет только совсем светлая, молочная кожа считалась признаком здоровья. От природы Ада была скорее склонна смуглеть, и с этим небольшим недостатком приходилось бороться не на жизнь, а на смерть.
«Глобальные катаклизмы сопровождали этот ложный путь истории человечества. Многочисленные землетрясения и цунами в Японии, перераставшие в техногенные катастрофы, сделавшие острова непригодными для жизни, поставили под угрозу интересы Китая и США – так начался первый в череде конфликтов первой половины века. Азиатам не хватало территорий, места для жизни, США не хватало денег и рынков сбыта, арабским странам не хватало крови, и только обделенный Белый нуждался в доме. В семье. В теплых летних вечерах на своей, пропитанной историей земле. И тогда мы решили, что пора бороться за то, чтобы каждому нашлось место на земном шаре. Пора бросить притворство. Пора дать отпор всем тем, кто, подобно древним гуннам пытался уничтожить цивилизацию, не желая, в отличие от прежних варваров, ассимилироваться, принимать правила игры, которые были установлены здесь веками».
В зеркальце отразились глаза, правый, левый, стрелки были нарисованы идеально ровно. Ада сощурилась по-кошачьи, репетируя свой фирменный, томно-лукавый взгляд. Ее классические черты были бы скучны, она сама это знала, если бы не эта неожиданная вспышка серо-голубой радужки, при определенном освещении приобретавшей фиолетовый оттенок. Выражение ее глаз было приручено, как бывают приручены мелкие животные и птицы, оно никогда не принадлежало ей полностью, но часто оказывалось послушно ее желаниям. Она чуть улыбнулась, обновляя блеск на красиво очерченных губах. Удовлетворенная, вздохнула, захлопнув зеркальце. Она была красавицей, так говорили все, она и сама это знала, но, чтобы не забывать об этом ни на секунду, все еще требовались усилия. В ее семье, когда-то давно, ее убеждали, что важна не внешняя красота, а ум, эрудиция, принципиальность – то, что молодой женщине, как она теперь знала доподлинно, не нужно совершенно. И понадобились годы, годы и потоки слез, чтобы научиться отделять зерна от плевел, чтобы научиться видеть себя такой, какой ее создал Господь.
Дикторша переводила дух, пока на экране шли кадры старой съемки – голодные, измученные лица людей, изуродованные, разрушенные города, глаза детей, граффити на грязных улицах. Теперь такого нигде не увидишь – надо всем господствует чистота и порядок, ровный светло-серый цвет домов и темно-серый цвет асфальта, а еще стекло, очень много стекла. «Старые города разрушили, новые города построили. В новых городах здания были выше, площади шире, парки больше, монорельсовые вагоны бежали в них быстрее, но ходили реже», – вспомнилась ей цитата – и снова из какой-то много лет назад прочитанной книги. Вот и вся суть их новой жизни в двух предложениях, и как все-таки здорово умели некоторые писатели предсказывать будущее. А все же ни один из них так и не угадал, как им будет житься в этой новой реальности.
Предсказывали, предсказывали катастрофы, ущемление личности, господство технологий, потерю души – и не сбылось, технологии топтались на месте, катастрофы, хоть и случались, не носили такого уж разрушительного характера, и разве где-нибудь хоть кто-нибудь молился богу так организовано, как это делали граждане ОЕ? Прекрасна была их жизнь в дивном новом мире, прекрасна, и надо не забывать оптимистично улыбаться, поддерживать тех, кто тащит страну в светлое завтра на своих сильных плечах. В ОЕ же их стараниями, несмотря ни на что, порядок, покой и уверенность, что завтра будет ничем не хуже, чем вчера. И ничего, что с транспортом сейчас так трудно – ходить пешком полезно, дышать свежим экологически чистым воздухом – полезно.
На экране снова появилась дикторша с сияющими глазами – энтузиазм был профессиональным требованием. Дальше, Ада знала, конкретика уступит место лозунгам, формулам, патриотическим воззваниям – период Третьей Мировой войны был одной из самых плохо изученных эпох в мировой истории, словно темные века – и таким же было это место в биографии их покойного президента. Никто не брался за то, чтобы пролить свет на те события. Клио больше не была игрушкой в руках спекулянтов, история Евразии была известна здесь каждому и не допускала переосмыслений. Это было то прошлое, которое разрешалось помнить, то прошлое, о котором постоянно напоминали. Первые десятилетия – вспыхивали в голове строчки учебника вслед за словами дикторши, причины, поводы, следствия, хроника событий, она даже помнила как сверстан был текст, но об этом никому не следовало знать – холодная война, грозившая вот-вот перерасти в вооруженный конфликт. Пытаясь противостоять растущей численности азиатского мира, США изобретали все новые и новые супервирусы, работу над которыми не скрывали. Китай отвечал точечными бомбардировками Японских территорий, ставших непригодными для жизни, но продолжавших считаться зоной влияния Штатов, и намекал на то, что ему вполне под силу обрушить подобные удары на Вашингтон. Страны исламского мира переживали одну за другой революции, в результате которых к власти приходили агрессивно настроенные фундаменталисты. Для того, чтобы не допустить создания крупной мусульманской формации, США и Китай спонсировали, в зависимости от конкретных задач, то официальную власть, то оппозиционеров, то и тех и других, не позволяя затихнуть тлеющему пламени войны. Уже не игравшие никакой особенной роли на мировой арене, Европа и Россия старались просто выживать. К тридцатым годам Россия раскололась вдоль Урала, потеряв Сибирь со всеми ее ресурсами и все южные теорритории. Вначале Сибирь объявила о своей автономии, но вскоре была взята под контроль Китаем, что было, разумеется, негативно воспринято Соединенными Штатами и вызвало новый всплеск напряжения, что в конечном итоге привело к введению миротворческих сил, вооруженных по последнему слову техники, на территорию России. ООН была расформирована, но большинство европейских стран находилось в таком глубоком экономическом кризисе, что это принесло Европе скорее облегчение. Европейский Союз сохранялся только формально, национальные валюты европейских стран снова были введены в оборот, а границы закрыты.
И постепенно зрело внутри разорванной Евразии понимание, что дальше молчать невозможно, что эта почти феодальная раздробленность приведет, в конечном итоге, только к тому, что Евразия будет растащена на кусочки, захвачена более сильными странами, что противостоять хаосу может только объединение. К сороковым годам отдельные группы внутри Европы и России уже активно вели пропагандистскую работу, которую, как сейчас считалось, чуть ли не полностью инспирировал и возглавлял человек, которому в будущем предстояло создать новую страну. Последней каплей стало решение США обрушить ядерный удар на Сибирские территории, чтобы показать Китаю, насколько серьезные последствия ждут азиатов, если они не умерят свои аппетиты. К этому времени Европейские страны уже снова слипались в единое государство, как мокрый снег, и несмотря ни на какое сопротивление, группе молодых политиков удалось казалось бы невозможное – спаять крепкое государство, взять под крыло остатки России и не позволить ни одной из враждующих сторон оказать свое влияние. На карте мира родилась новая империя, и ни у истощенных Штатов, ни у перенаселенного Китая, ни у вымирающей Африки, ни у огромных финансовых корпораций, ни у воинствующего ислама не оказалось сил ничего противопоставить этой новой формации. Тем более, что кроме экономического и политического единства, Союз Европейских стран и России, который постепенно стали называть просто Объединенной Евразией или ОЕ, крепче крепкого спаяла единая идеология, единая мечта. В какой-то момент белый человек, наконец, понял, что будь он англичанин или поляк, француз или русский, он остается представителем одного вида, одной культуры. Христианство, со всеми его ответвлениями и ересями подало пример, когда Папа Римский и Патриарх Русской Православной Церкви обнялись как братья, и было осознано, что Христова вера, если не будут раздирать ее внутренние противоречия, может стать мощным оружием против религиозных влияний других стран. Раскинувшаяся от побережья Атлантического океана до Уральских гор, включившая в себя Скандинавские страны и Великобританию, сформировавшая на юге зоны влияния, не включенные в состав ОЕ только по той причине, что южные народы едва ли полностью соответствовали понятию «белый человек», Объединенная Евразия подняла голову и гордо оглядела разрушающийся мир. Сплоченность стала их идолом, Свобода – лозунгом, Вера – путеводной звездой, а расовая принадлежность – отличительным признаком, границей, основанием их прав. «Право белых» – так называлась доктрина, рожденная почти одновременно с самой Адой, в середине века, право белого человека на жизнь, культуру, развитие, счастье. Это означало, что на территории ОЕ больше нет места мусульманам и буддистам, арабам, неграм и азиатам, всем тем, кто не подходил под определение «исконного европейца», определение весьма смутное, но достаточное для того, чтобы выгнать из страны всех, кто вызывал хоть малейшее подозрение в нечистокровности или религиозной распущенности. Иудаизм признавался постыдным, но не наказуемым заблуждением. В остальном свобода совести упразднялась.
Поначалу всем желающим уехать предоставлялась такая возможность, мулатам же предписывалось переселяться в южные районы, где они могли работать на благо Евразии и не надеяться когда-либо увидеть Столицу или какой-нибудь из крупных Евразийских городов. Евразия не хотела участвовать в войнах, хотя позже, когда и Штаты и Китай поняли масштаб угрозы, на границах стало неспокойно. Евразия не хотела чужого. Но Евразия и не принимала чужаков. В рамках новой доктрины было признано необходимым увеличение численности населения, и бездетные семьи облагались специальным налогом, разводы осуществлялись только с разрешения Церкви Христовой, получить которое было почти невозможно, гомосексуальные связи объявлены вне закона. Экономика причудливо смешивала капитализм и плановое производство товаров потребления, и во главе встала «Белая партия», различные отделения которой время от времени принимались конкурировать между собой, что создавало вполне достаточное политическое напряжение, не позволяя стране свернуть с выбрано курса вне зависимости от политических дрязг. Президента выбирали, но так как раз за разом на выборах побеждал Олег Горецкий, ему, в конечном итоге, было предоставлено уникальное пожизненное назначение, которое, которое…
Которое подошло к концу три дня назад. Ада, почти задремавшая с открытыми глазами, вдруг встрепенулась. Дикторша на экране перешла к главе, в которой подробным образом обосновывалось превосходство белой расы, а так же содержалось значительное количество выпадов против сексуальной свободы, которую Горецкий не одобрял. Слушать про внебрачные связи, гомосексуализм и прочие извращения для Ады было невыносимо. Прошлое наползало грозовой тучей – притворяйся не притворяйся, а все равно наталкиваешься на одно и то же, все равно не можешь не вспоминать.
– Остановите, – резко приказала она и коленом ударила по спинке водителя, когда тот не выполнил ее требование. Она почувствовала внезапно подкатившую тошноту, и сладкий голос дикторши вдруг показался ядом, залитым в уши доброго короля. Ада судорожно начала натягивать накидку на плечи, помнила, на улице холодно и мокро, и нужно ни в коем случае не простудиться. Умнее было бы не останавливаться, не смотреть, спокойно ехать дальше, может быть, просто отключить звук, если уж так невыносимо опять, все это…. Но она чувствовала, ее уверенность, оптимизм и энтузиазм дают какой-то странный крен, трещину – строчки учебника так и прыгали перед глазами, намекая на неустранимое противоречие между постулируемыми идеалами и их реальной прекрасной жизнью. А такого быть просто не могло, такому нельзя позволять происходить – иначе так и не будет в жизни покоя и порядка. Еще не осознаваемая ошибка закралась в ее мысли, и, чтобы выбросить эти глупости из головы, нужно было выйти, нужно было вдохнуть чистый, светлый воздух ее родной страны, нужно было оглядеть прекрасный блестяще-серый город, кое-где тронутый красно-черными пятнами приспущенных государственных флагов. Нужно было снова влюбиться в привычные идеалы, чтобы заглушить мысли, которые лезли и лезли в ее глупую голову, вопросы, на которые никто никогда не мог дать ей ответ.
– Что такое? Нехорошо? – Обеспокоенно спросил Арфов и – она по тону почувствовала – испугался. Наверное, думает сейчас, не беременна ли она, не подхватила ли какую-нибудь другую заразу. Волнуется как всегда за нее, за работоспособность.
– Просто, остановите, – и едва машина встала у обочины, у высоких перил эстакады, возвышавшейся над дорогой, ведущей к крематорию, выскочила, подошла к краю, широко раскрытыми глазами посмотрела вниз. Там были электромобили – сотни, тысячи машин, столпившиеся в пробке – она легко вспомнила это слово, хотя не слышала его уже больше двадцати лет. И не видела подобного столько же – с тех пор, как в тринадцать лет уехала из своего родного города и перебралась в Столицу.
«Столица строится с расчетом на насыщенное движение. Широкие проспекты, многоуровневые развязки, почти полное отсутствие светофоров – все сделано для того, чтобы в новом городе никогда не возникло проблемы удушающих многочасовых пробок, от которых страдали города прошлого», – вспомнила дословно слышанное в раннем детстве. Даже догадаться не могла, сколько ей было лет – но кухонный стол тогда казался очень высоким, а папа – просто великаном. Она, наверное, и говорить тогда толком не умела, потому что о ее феноменальной памяти в доме еще не знали. И стала внезапно – тот, очарованный, восхищенный ребенок – смотрела на непривычное зрелище. В Столице до этого дня никогда не бывало пробок, то ли в силу грамотного устройства движения, то ли из-за неимоверно высокой цены на электричество, сделавшей личный электромобиль редкой роскошью.
Но сегодня весь город, нет, вся страна, кажется, собрала последние гроши, чтобы добраться до крематория, чтобы хотя бы приблизиться к нему, чтобы водители сами увидели… хотя бы издали… дым. И почувствовали запах гари.
– Ты когда-нибудь видел подобное? – Осторожно, чтобы не испачкаться, она положила руку на ограждение, когда Илья подошел к ней. Провозглашенный курс разумной экономии, оправдывавший ходьбу пешком, был послан к черту, да? Все из-за того, что он умер.
– Видел, – он покачал головой. – Но не думал, что увижу снова. Перестройка городов почти закончена, еще пара лет и такого не останется больше нигде в Евразии.
Когда население начало неуклонно расти, и оказалось, что не хватает еды, не хватает места, не хватает занятий, началась массовая перестройка городов. «Люди важнее камней», – говорил президент Горецкий, приказывая разрушить очередной городок с вековой историей и возвести на его месте огромный блестящий белый город, подобный всем остальным городам Объединенной Евразии. «Каждая семья имеет право не ютится в землянке, а жить в комфортной современной квартире» – и почти каждая семья спустя всего пару десятилетий это право релизовала. Сохранились только самые известные памятники архитектуры, достопримечтальности, но и они мало-помалу приходили в упадок, а потом оказывалось, что реставрировать эти развалины слишком дорого – и исчезали с лица земли величественные соборы, роскошные особняки и дворцы прежних властелинов мира. Единообразие правило всем – и было это хорошо – но вот только с людской памятью что-то происходило. И еще у Ады не укладывались в голове Венера Боттичелли и эти прекрасные, блестящие небоскребы, такие комфортные, но такие одинаковые. А никто словно не замечал этого противоречия, и она думала – это с ней что-то не так или слишком она глупа, чтобы понять. Спрашивать стеснялась – да и кого? Кто был близок настолько – и при этом достаточно умен, – чтобы не посмеяться над ней, а объяснить?
И потому Арфова она спросила о другом.
– А утром мы почему не застряли так?
– Так мы ехали по выделенной трассе для приглашенных, об этом не забыли позаботиться, – он улыбнулся, равнодушный к заключенным в жестяных коробках, застрявших под их ногами.
«А о снеге забыли», – она нахмурилась, но ничего не сказала. Запахнулась плотнее, почувствовав, какой тут сильный ветер, отвернулась, пошла к машине. Эта пробка – просто еще один звоночек, что что-то разваливается прямо на глазах, что-то идет не так. И теперь так будет всегда? Еще долго уж точно. Пока не появится кто-то, кто наведет порядок, может быть, прежний, может быть новый. Но так, как было, уже не будет никогда. Она вдруг вспомнила о самоубийстве мужа. Но об этом тоже не решилась заговорить.
***
В хорошо освещенном зале собрались только лучшие из лучших, богатейшие из богатых, известнейшие из известных – все в черном. Она поискала глазами Диму, но не нашла и сразу отправилась к столу с напитками, как ни косился на нее Арфов. К счастью, он не мог ей помешать – был занят очередным выяснением отношений с Майей, которая прибыла на праздник раньше них и, едва они рука об руку вошли в зал, встретила холодными злыми глазами и словами, яда в которых содержалось так много, что его можно было сцеживать. Ада лучезарно улыбнулась, поправляя чуть растрепавшиеся темно-каштановые волосы жестом, который она когда-то заимствовала у самой Майи. Они были ровесницами и некогда даже числились в лучших подругах. Было это так давно, что и вспомнить смешно, но они обе помнили – судя по тому, какой ненавистью искажалось лицо высокой блондинки. С удовольствием Ада отметила про себя, что Майя стареет немного быстрее нее самой – вот таких морщинок в уголках глаз у самой Ады еще не было, и веки еще совсем не так отяжелели, несмотря на то, что ее жизнь и жизнь Майи даже близко нельзя сравнить. Майя ничем не занимается, только изводит Илью бесконечными сценами, а Аде приходится работать как проклятой, чтобы оставаться молодой, привлекательной и успешной, чтобы не потерять так быстро завоеванное звание самой знаменитой молодой актрисы ОЕ.
Это соперничество началось так давно, что стало частью их жизни, необходимой деталью. Вместе они формировали треугольник, самую устойчивую фигуру на свете – ее агент, ее друг, которого она в глубине души боялась и не любила, и его жена, с которой их связывала взаимная неприязнь, подпитываемая некогда самой искренней дружбой. Две женщины вечно делили Арфова, и сейчас, мучаясь ревностью, жена допрашивала его, почему именно он вез Аду и почему они ехали так долго. Как будто за несколько минут, проведенных на мосту, она могла бы его соблазнить… могла бы теоретически, но только лет десять назад, когда он еще не был женат, а она не была его актрисой. Теперь же, когда они работали вместе, когда он привык к ней, это было почти невозможно. Аду это не беспокоило, но какое же удовольствие она испытывала, чувствуя, что все еще вызывает в женщинах ревность.
Она сделала большой глоток красного вина, наслаждаясь вкусом дорогого напитка, из тех, что нечасто выходит попробовать – на черном рынке такого не достанешь. Раньше было не достать, поправила себя, может быть, теперь…
Дима нашел ее легко – за несколько месяцев их романа он уже прекрасно изучил ее и знал, где искать. Она следила издали, как он приближается, с тоской думая о том, что сейчас все начнется – удушающая забота, опека, самодовольство, притворство. Он нравился ей когда-то, такой правильный, такой дотошный, такой успешный. В свои тридцать с небольшим уже главный ассистент крупнейшего хирурга… кардиохирурга? или нет?.. она так хорошо запоминала то, что слышала, что в последние годы ей пришлось научиться не слушать.
Он был моложе нее – его самый главный недостаток – всего на три года, но для Ады это было действительно важно, Словно она расписывалась в собственной старости, когда замечала, что привлекательный мужчина может быть младше нее. Еще немного и они все будут младше. И хотя об этом не судачили, ведь он старался выглядеть старше своих лет, а она – моложе, это ничего не меняло. И только вопросом времени было, когда этот диссонанс, когда ее неизбежное старение бросится в глаза окружающим.
Дима подошел, неодобрительно глядя на стакан в ее руке и гадая, который он по счету за этот вечер. Она скривилась, чуть отвернув голову, так что его легкий поцелуй лишь мазанул ее по щеке. Они старались не афишировать.
– Дорогая, как ты? – Осторожно спросил, без боязни, но с напряжением.
– Расстроена. И замерзла. Ты давно здесь? Я хотела сразу поехать домой, – пробормотала, делая глоток. Это было бы, конечно, ошибкой, она теперь понимала, ей необходимо быть здесь. Но верному рыцарю следовало оказаться рядом, разве нет?
– Извини. Я прошел раньше, и меня пригласили проехать в машине Сайровского.
Скривилась, услышав фамилию видного партийного деятеля, которого прочили даже на пост следующего Президента. Ян Сайровский что, настолько стар, подумала она, чтобы привечать подающих надежды хирургов? Кардиохирургов, теперь она точно вспомнила. Но Дима, Дима… Карьерист, а не рыцарь, и это было мерзко, и то, что ей всегда в нем так нравилось, теперь неожиданно вызвало негодование.
– Поскольку Арфов обещал присмотреть за тобой, я решил, что не могу упустить такой возможности, – он быстро и четко изложил свою точку зрения, спокойно глядя на нее из-под стекол своих блестящих очков. Дима такой чистенький, точный, такой омерзительно правильный, такой правильный, такой правильный, что ее от него – на мгновение всего, правда же – но затошнило. Захотелось швырнуть в него бокал, устроить скандал, стереть с его лица эту самодовольную гримасу.
– Да неужели? И тебе в голову не пришло, что мне плохо, что я жду тебя, что я волнуюсь? – Угрожающе начала она, не обращая внимания на то, что окружающие начинают оборачиваться на звук ее хорошо поставленного голоса, в котором искорками заметались истерические нотки.
– Тише, тише, – первое, что выдавил из себя он, оглядевшись. – Ты в таком настроении, – в его небольших, идеальной красоты руках появилось что-то детское, беззащитное.
Такой большой мальчик с такими чуткими пальцами, ребенок, запутавшийся в собственном несуразном теле. Когда она бывала «в таком настроении», с него слетала вся его уверенность. Он был как ребенок, любующийся фейерверком – красиво издали. А вблизи фейерверк ничуть не безопаснее пороховой бочки.
– Да, я в таком настроение, черт возьми! – Она залпом осушила бокал, отставила куда-то в сторону, но говорила уже тише.
Его беспомощность рождала в ней раздражение и укоры совести, тушила агрессию. И вино действовало, внутри становилось все легче, словно надувался воздушный шарик из пузырьков, и можно было оторваться от земли, лететь, ничему и никому не принадлежа…
– Не думаю, что тебе стоит пить, – прозвучало как-то кротко, и Ада нервно рассмеялась. Он думал, что все дело в алкоголе. А она считала, что все дело в нем.
– Отвали. Чтобы я больше никогда в жизни тебя не видела и забыла о твоем существовании, – зло бросила, потянулась за вторым бокалом, и с удовольствием отметила, как его поднявшаяся было рука, чуть не коснувшаяся ее запястья в безусловном желании остановить, бессильно опустилась.
Он растерянно посмотрел на нее, промолчал, отошел в сторону. Такие вспышки он видел уже не раз и постепенно привыкал, учился понимать, как мало они значат, но каждый раз все равно боялся, что она серьезно. Она могла его бросить, правда, могла, но он даже не представлял себе, какой мукой стало бы для нее очередное расставание. А пока не представлял, можно было продолжать вести себя как обычно. Ада тряхнула головой, выпрямляясь. Знала, он смотрит на нее со стороны, знала, он видит то же, что и они все – тридцатипятилетнюю красивую женщину со следами усталости на лице, напивающуюся, может быть, излишне часто напивающуюся на таких сборищах, истеричку. Она знала, что он видит то же, что они все, но не могла этого изменить. Если бы он только захотел, он мог заглянуть ей в душу, и увидеть ее глазами этот мир, и понять, чего она боится. Она дала ему все возможности, а он ими пренебрег. А ведь вначале ей казалось, что он на это способен, что он этого хочет. Вначале она думала, что ей будет спокойно рядом с его скромной самоуверенностью, что его правильность станет основой ее защищенности. Дура, опять прогадала. Рядом с ним ей было просто скучно.
Когда ты уже научишься, Ада Фрейн, подумала, когда же, наконец, повзрослеешь? Разве мало было истории с Вельдом, разве не научили тебя ничему последовавшие за коротким браком еще более короткие романы, разве ты не знаешь мужчин, которые попадаются на твоем пути? Может, где-то и существуют другие отношения, другие люди, рыцари и защитники, интересующиеся не только твоими ногами и твоей славой, но ты же не встречала их. И сколько можно верить, что очередные вожделеющие глаза, наблюдающие из толпы, будут через месяц смотреть на тебя все так же, без страха, без пренебрежения, без скрытого равнодушия?
Вдруг подумала – «мы в этом зале встретились впервые» – так странно, она же целый день вспоминает о нем, о покойном муже, но отчего только сейчас поняла, что сейчас как тогда стоит столик с напитками, как тогда она возле, в одиночестве, как тогда люди по двое, по трое и оглядываются на нее, но не подходят, только шепчутся.
Еще глоток, и прошлое ожило, и зазвучала неслышная никому музыка, и из толпы посмотрели на нее черные глаза погибшего мужа, и она стала на восемь лет моложе, свежее, глупее, но все так же горели ее голубые с фиолетовой чертинкой глаза, и дерзко поднимала подбородок, перепачканная своей славой, сплетнями, что окутывали ее точно кокон, оберегая от того, что кто-то сможет проникнуть к ней в душу. Тогда она была целое скопище противоречий, повод для сплетен – выскочка, выстреливашая единственным своим сверхуспешным фильмом, подозрительная персона, только что вынырнувшая из жуткого скандала, одинокая как никто, обласканная властью как никогда прежде…
Она была уверена в себе, ведь всего за несколько часов до того вечера, еще живой, старый и сморщенный Первый Президент Горецкий жал ей руки, говорил, что она милочка, трепал за щечки, хвалил за патриотизм, да-да, именно тогда это и случилось, он еще обещал, что глупость, в которую она ввязалась, не будет иметь никаких последствий, ведь она абсолютно чиста, абсолютно предана, и это видит каждый, кто только имеет глаза. Но на том приеме об этом еще не знали и отворачивались при виде нее, и боялись подойти – не замараться бы! – а из толпы на нее смотрели его глубокие черные глаза, не отрываясь, не отвлекаясь, как сейчас смотрит Дима. Так да не так, Вельд был знаменит своими глазами сатира. Вельд мог раздевать взглядом, мог обладать взглядом, мог соблазнять взглядом. Он всегда смотрел жадно, открыто, самоуверенно. Он смотрел, ощущая свои права, свою силу. Не только на нее, на саму жизнь он смотрел, как на игрушку, как на вещь, принадлежащую ему, и мнилось, каждый миг он готов подойти и взять то, чего ему хочется, не испытывая ни малейших угрызений совести или сомнений. И – пусть недолго – но ей ведь это нравилось. Нравилось куда больше, чем овечьи, обиженные глаза нынешнего ухажера.
Она так не хотела вспоминать – ведь знала же, чем заканчивается эта история, она уже один раз пережила это наяву и тысячи раз проживала во сне, – но не могла остановиться. Еще глоток, и перед ее повлажневшими глазами возникла его фигура. Высокий, черноволосый, решительный, с большими руками, в которых, ей казалось, могла поместиться вся ее маленькая жизнь, измозоленными руками музыканта, которыми он размахивал на ходу, не заботясь о том, чтобы кого-то не задеть, он подходил к ней, оставляя за спиной каких-то девиц, смотревших с завистью и насмешкой. И его удивительная грация большого хищника, кривая улыбка его полных, не по-мужски чувственных губ, его низкий голос снова звали ее куда-то, куда она мечтала и боялась пойти. И он снова, как тогда, приглашал ее на танец, а она, как тогда, не верила ему, ожидая насмешки, подвоха, ведь до выступления, когда будет невзначай объявлено, что она – лишь случайная жертва мерзкого извращенца, а не предательница, не преступница – было еще так долго, и он не мог знать, что с ней снова можно разговаривать, не боясь замараться. Он не мог знать, неоткуда было, но все же подошел, пригласил, рассмеялся на ее резкий ответ и вздернутый подбородок, рассмеялся хорошо, открыто, как только он один и позволял себе смеяться в то время.
– Ну, давай, не ломайся, ты же и забыла, небось, что такое настоящий мужчина, пока путалась со своим золотым извращенным мальчиком, – сквозь смех пролаял он, не пытаясь ни скрасить, ни облегчить ее положение, не льстя, а называя вещи своими именами. Она растерялась, не узнав в пригласившем ее известного музыканта и распутника, пораженная его наглостью и – не в последнюю очередь – смелостью.
Они даже не были в то время представлены друг другу, но он, видимо, точно знал, кто она. И она вдруг согласилась, готовая выдержать все насмешки, все, что приготовили – она тогда не сомневалась в этом – девицы, смеявшиеся за его спиной. Ведь скоро ее оправдают – и тогда им, а не ей придется краснеть за свою черствость. А еще ей внезапно польстило его внимание и то, как открыто он смеялся над ней в глаза, смеялся над тем, что причиняло ей боль, так просто, так грубо, что и ей захотелось рассмеяться. Вельд всегда умел ее смешить, она не понимала как ему это удается, но даже когда он говорил что-то злое и вовсе не пытался шутить, она смеялась. И в тот, первый раз она тоже смеялась, чувствуя свою зависимость от него, и принималась язвить в ответ.
– Ты, что ли, напомнишь? Не обольщайся, такие, как ты… – Но он уже понял, что она согласилась, уже увлек ее в центр зала, приобняв за талию, и его рука словно обожгла ей кожу сквозь платье, и он наклонился к ее уху, и напел своим знаменитым ласкающим голосом какую-то глупость. Она замолчала, отдалась танцу, потерянная в его казавшихся такими огромными руках, в песенке, которой он баловал ее слух. Она закрыла глаза, чувствуя, как внутри что-то зажигается, разгорается тот огонек, который последний ее роман, как ей казалось, должен был погасить навсегда. Оркестр в углу играл какой-то простой мотивчик, и он, пел, сочиняя на ходу что-то о глазах, волосах и губах, а потом, вдруг, закружив, зашептал:
Ада бьется, бьется Ада,
Словно пойманная птица,
И сама уже не рада,
Что ей Вельд ночами снится.
Она такая смешная была тогда, отпрянула, почти ударила его, яростно глядя ему в глаза, задохнувшаяся от его наглости и того сладкого, томительного чувства, которое переполняло ее существо. Она чувствовала себя совсем девчонкой рядом с ним. Но его стишок представил его и она тут же узнала в нем известного музыканта, который прославился своими легкими победами и похождениями, чьи сладкие песенки по радио она всегда переключала, потому что ни секунды не могла выносить их фальшиво-страстных интонаций, и, узнав его, почувствовала себя польщенной и оскорбленной. Актриса в ней взбунтовалась, женщина растаяла как воск. Как хорошо, как правильно было бы поддаться ему, позволить ему решать, напиться, забыть в его руках и… завтра услышать новые сплетни о себе? Кому и что доказала бы она, позволив возникнуть случайной связи в этот вечер, в вечер ее грядущего триумфа, когда – вот пройдет еще немного времени – и все кинутся утешать ее из-за ее разорванной помолвки, все будут сочувствовать, уверять в искренней дружбе? Как могла она позволить этому всему сорваться просто из-за того, что известный распутник позволил себе помурлыкать что-то сладкое ей на ушко?
– Мечтай, – бросила она, отходя, не оглядываясь. И когда спиной почувствовала, что он идет за ней, добавила. – Отвратительные вирши.
Обернулась все же, когда он в ответ рассмеялся, и успела увидеть, как естественно и простодушно он развел руками, словно извиняя самого себя.
– И правда, не очень вышло. Ничего, в следующий раз повезет, – и, подмигнув, словно откинув какую-то мысль, отошел от нее. Ада поклялась себе, разъяренная, что не повезет, ни в следующий раз, ни в какой другой, что другого раза и не будет, что она принципиально не будет никогда с ним больше разговаривать, а уж тем более, танцевать, что она забудет о нем через две секунды. И, действительно, в тот раз почти сумела забыть, напившись, накачавшись триумфом, который грянул всего через полчаса, сумела выкинуть из головы, и не стала узнавать о нем подробностей и не искала его песен по радио. Но он напомнил о себе, и через несколько месяцев она стала его женой, и через год с небольшим он умер, и через восемь лет, теперь, стоя посреди этого проклятого зала, она помнила о нем и знала, что уже никогда не сможет забыть.
Ада вздрогнула, возвращаясь в реальность. Нужно было прекратить вспоминать, отвлечься, иначе она дойдет до самых мельчайших подробностей, восстановит точную картину и пойдет дальше, и снова, в который раз увидит, чем все закончится, и он снова придет к ней ночью в кошмарах, словно он не мертв уже давным-давно, словно его власть над ней все еще неоспорима. Чтобы бороться с этим нужен был алкоголь, нужно было снотворное, нужен был любовник, но Дима не мог прогнать ее кошмары. Вся его правильная расчетливость рассыпалась от одного прикосновения к ее огнедышащей иррациональной ярости, возникавшей из ничего. Единственное, что он мог ей дать – таблетки снотворного, которых не купить в обычной аптеке – может быть, поэтому она оставалась с ним. Но пока Дима об этом не подозревал, пока никто, кроме нее об этом не догадывался, она могла врать себе, что он ей нравится. Она умела врать себе, вот только на границе легкого опьянения и полной потери контроля таился ужасный момент, иногда секунда, порой гораздо больше, когда она видела все в истинном свете – и хватала следующий бокал, чтобы не думать о том, что только что поняла.
Подошел Арфов.
– Пьешь? – Не нуждаясь в ответе, он протянул руку за бокалом. И залпом осушил – Ада взглянула с пониманием и спрятала довольную улыбку за очередным глотком. Кто угодно сейчас годился, чтобы отвлечься от воспоминаний и тревожных раздумий о ее личной жизни, а личная жизнь Арфова годилась даже более чем, так как интересовала Аду с профессиональной точки зрения.
– Опять поссорились?
Он только махнул рукой, потупил глаза, но уже в следующую секунду нанес ответный удар.
– А Диму куда дела?
Она рассмеялась, чувствуя легкость и свежесть от опьянения. Омерзительный момент созерцания истины в прошлом, ее рефлексия в прошлом, и гори оно все синим пламенем. Умение переключаться – разве не оно нужно для того, чтобы быть по-настоящему хорошей актрисой? Может, не только оно, но профессия научила Аду именно этому.
– Да, мы с тобой как всегда в одной и той же заднице, – прозвучало несколько вульгарно, но он оценил и даже кисло улыбнулся в ответ, кивнув.
Они были такими разными – высокая моложавая женщина и ее стареющий агент с заметной лысиной и пивным брюшком, развязная истеричка и собранный профессиональный подлиза, но они были в одной упряжке и бежалось им вместе на удивление удобно. Она приносила ему небывалый доход, он вытаскивал ее из неприятностей и присматривал за ней, когда все остальные бросали. Она была его счастливым лотерейным билетом. Но признавала его правоту, когда он полушутливо-полусерьезно заявлял, что каждый заработанный им с ее помощью грош оплачен сединой в его волосах. И несчастным браком, могла бы добавить она. Ей всегда казалось, что Илья не подозревал, как много сознательного было в ее многолетней компании против его жены. И никогда бы не поверил, что эта несдержанная особа может быть такой предусмотрительной. Но иногда он говорил или делал что-то такое, что сбрасывало ее с небес на землю, напоминая, каким умным и коварным мог быть этот человек. Ссориться с ним было опасно, каким бы нелепым и простодушным он порой ни казался. Ада улыбнулась ласково, чокаясь со своим лучшим другом. У других женщин были подружки, с которыми можно поболтать о мужчинах и нарядах, а у нее только он, да домработница. Но этого было больше, чем достаточно.
– Когда-нибудь все наладится, – легко ввернула она, подразумевая, что когда-нибудь он разойдется с Майей, и тем самым она одержит окончательную победу, но Арфов понял все как всегда непредсказуемо, улыбнулся, возвращая подачу.
– Я тоже так думаю. Ты бросишь этого своего доктора, возьмешься за ум и, может быть, я даже выдам тебя замуж за нормального человека.
Один-один, он тоже знал, как ударить ее больнее.
***
Центральный концертный зал – огромная сфера из белого стекла и хромированного металла, надутый пузырь амбиций и роскоши – считался шедевром новой архитектуры. Верхнюю часть, отделенную от небосвода стеклянной крышей, в любую погоду сохранявшей прозрачность, занимал банкетный зал, который при необходимости мог превратиться во что угодно – от стадиона до кинотеатра. Сатурнианским кольцом опоясывал сферу балкон, вмещавший огромное количество народу и лишь исчезающе-тонким парапетом отделенный от улиц, раскинувшихся под ногами. Гости, собиравшиеся после похорон пока не выходили наружу, это позже, когда совсем стемнеет, они выскочат на балкон, чтобы полюбоваться на то, как из крематория, находившегося совсем рядом, повалит густой дым, окрашенный и подсвеченный – будут кремировать покойного, заканчивать эту главу истории Евразии и развлекать все еще живых. В ОЕ давно никого не предавали земле – земля нужна живым, вспомнилось Аде, мертвым она ни к чему – и похороны давно потеряли свой традиционный облик. Разве что в храмах отпоют, да вот еще на небольшую кафедру в центре зала взобрался какой-то видный церковный деятель, – кардинал, Папе нездоровилось в последнее время – читать проповедь, не отличимую от уже прозвучавших речей политиков, не отличимую от того, что еще будет сказано. Ада отвлеклась, мимо прошел человек, быстро, почти бегом, тоже едва ли слушая, что вещает с кафедры кардинал, и Аду поразило обеспокоенное выражение его лица, так контрастировавшее с абсолютно ровным выражением глаз, взгляд которых, как ей на секунду показалось, мгновенно сканировал каждого человека, попадавшего в поле его зрения, и задержавшегося на ней несколько дольше. Его глаза зафиксировались на ней, и Ада вздрогнула от чувства, что вся видна, насквозь, до костей, до самых потаенных мыслей. Она поторопилась опустить глаза в бокал с вином, но, едва он прошел мимо, снова стала искать его глазами, удивленная тем, насколько раздраженными выглядели его малейшие жесты. Она никогда не видела его таким встревоженным, и, могла поспорить, никто в ОЕ никогда не видел. Герман Бельке, главный хранитель Государства, начальник службы охраны порядка и общественной безопасности, структуры объединившей в себе полицейские, специальные, разведовательные и контр-разведовательные, следственные, прокурорские, и кто знает какие еще функции, славился своим спокойствием. Глядя на его строгое, словно из стали отлитое лицо, люди в ОЕ всегда чувствовали, что, пока он бдит, они в полной безопасности. Учитывая количество терактов, предотвращенных его службой, количество выявленных и осужденных шпионов, преступников и заговорщиков, можно было не сомневаться, что дело свое он знает очень хорошо. Ада, во всяком случае, никогда не сомневалась – люди в темно– серой форме, с их спокойными, гладкими лицами, мягкими, незапоминающимися голосами и пустой улыбкой, одно время, восемь лет назад, вызывали в ней ужас, но со временем она научила себя доверять. Ведь если не верить, что они озабочены только безопасностью – ее личной и ее страны – кому и чему вообще можно верить, как можно жить? Она знала, про ошибки, про просчеты, сама была свидетельницей их несколько топорной работы, но разве можно винить руководителя во всех грехах исполнителей? Он был совершенством, его подчиненные брали с него пример, и то, как жестко он расправлялся с теми, кто не соответствовал высоким требованиям, убеждало ее, что однажды все огрехи будут исправлены, и служба охраны сделается идеальной. А теперь он шел мимо, торопился, и выглядел таким… человечным, что внутри у Ады все сжалось. Может, он тоже чувствует это, подумала, может, тоже замечает, как много стало беспорядка, разброда вокруг, как ослабилась узда, и всякая гадость полезла из еще недавно таких благонадежных граждан. Ей стало неуютно – когда видишь тревогу на лице руководителя службы безопасности, поневоле начнешь волноваться.
– Что тут планируется? – Поинтересовалась шепотом у Арфова, когда окончательно потеряла Германа из виду, что было неудивительно, учитывая толпу, ее состояние и его высокий профессионализм. Неизвестно какой по счету бокал перекочевал из ее руки на поднос проходившего мимо официанта. Ада поняла, что еще немного, и она потеряет контроль над собой – и так уже в голове приятно шумело, пожалуй, громче, чем следовало бы. Домой, пора домой, взывало благоразумие, но это не она, это Илья должен принимать такие решения.
– А что может быть? Речи, речи и еще раз речи. В основном о неоценимом вкладе покойного в мир и становление нашей демократии. Не думаю, что планируется что-то интересное. Разве что ближе к ночи, когда начнут сжигать, но если хочешь, через пару часов можно будет незаметно ускользнуть домой. Ты только поосторожней с этим, – он выразительно покосился на ее бокал. – Не хочу, чтобы было как в прошлый раз, у нас Комиссия в понедельник…
– Да помню я! – Она улыбнулась, несмотря на резкость тона. Взяла его под руку, положила голову ему на плечо, наплевав на то, как на это отреагируют окружающие – его жена, Дима, кому там еще интересны их ни в малейшей степени не предосудительные отношения. Маленькой девочкой свернулась у него на плече, змеей пригрелась на груди, снова зашептала:
– Ты же присмотришь за мной, правда? Отвезешь домой… не сейчас, позже, конечно, как ты и сказал, но так не хочу никого больше видеть, так устала, а ты единственный, кому я могу доверять, и, знаешь, Илья, я вообще-то тебя очень… ты мне так дорог, ты мой единственный друг, – щекой почувствовала, как дернулось его плечо.
Улыбнулась в ткань его пиджака, поняла, что слишком опьянела, что совсем не злится на него за то, что он за ней шпионит, почувствовала растерянность, обескураженность. Мир рушился, ее отношения рушились, а жизнь продолжала идти так, словно ничего и не случилось. Но она теперь точно знала, сформулировала ощущение, возникшее, когда она увидела грязь вдоль ковровой дорожки. Что-то сдвинулось в мире. Словно сдернулись с нитей марионетки, заплясали пляской смерти по собственной воле, и не осталось ничего, за что можно было бы схватиться, на что можно было бы опереться, кроме разве что Ильи Арфова и его безупречного вкуса, судя по тому, как приятно льнул к щеке его пиджак.
– Ну-ну, – он неловко похлопал ее по плечу, отбирая из ее несопротивляющихся рук очередной, неизвестно как попавший в них снова бокал. – Совсем развезло… – смущение в его голосе не радовало ее, но наполняло покоем. Пусть он выбирает, пусть решает, пусть уже кто-нибудь начнет решать за нее, спрячет ее от необходимости думать, беспокоиться, пусть ей скажут слова роли, пусть объяснят, что играть, она сыграет, она согласна, правда, только оставьте ее в безопасности, тепле и уверенности, что завтрашний день не окажется хуже вчерашнего… Она верила когда-то, что Вельд с его грубой силой и беззастенчивой жаждой жизни защитит ее, она верила, что это сделает любовь, или ее карьера, а потом уповала на благосклонность Президента Горецкого, но сейчас не осталось ничего, даже Арфова, который, похоже, считал ее поведение не то очередным спектаклем, не то результатом действия алкоголя.
– Вот так лучше, – она вдруг поняла, что он куда-то ведет ее, поддерживая, заставляет делать шаг за шагом, и тихо рассмеялась тому, как безуспешно пытался он скрыться в толпе, не привлечь к себе внимания.
Интересно, что по его мнению лучше – если все поймут, что она опять напилась, или если решат, что они любовники. Аде было плевать, она держалась за Арфова как могла крепко, пусть он потом сам все разгребет, решит, выкрутится, он же так хорошо умеет выкручиваться, пусть опять спасает ее, пусть будет рядом, пусть так будет всегда-всегда, навеки, и ничего не меняется, потому что, когда что-то меняется, она уже знала, это всегда к худшему.
Прохладный воздух вдруг окружил ее, защекотал скопившееся внутри тепло. И она почувствовала, как он усаживает ее в одно из кресел, установленных на балконе, чтобы гостям, пожилым и нездоровым, а, может быть, просто слишком важным, чтобы стоять, было комфортнее наблюдать за тем, как великий человек развеется дымом в весеннем воздухе. Ада сползла ниже, подальше от любопытных глаз, запрокинула голову, беспокойно заулыбалась, глядя на тревожное лицо Арфова и испытывая в этот момент к нему такое чувство благодарности, что и слов не могла найти. Вот такой он и должен быть, вечно-вечно, беспокоящийся о ней. Ей все-таки удалось вынудить его взять за нее ответственность, в очередной раз, и от этого внутри стало так хорошо, спокойно.
– Посидишь тут? Буянить не будешь? Мне долго нельзя задерживаться, ну зачем нам опять слухи о нашем романе, правда?
Покачала головой, вытянув ноги и скинув туфли. Нет, никуда она его не отпустит, никому не отдаст.
– Я буду хорошо себя вести, – запела детским голосом, наплевать, что ей уже за тридцать, что за спиной столько всего страшного, что можно сойти с ума, что остались там, в зале, торжественные речи и завистливые лица. Протянула руку. – Не уходи только, я одна… боюсь.
Но в стеклянной двери уже мелькнуло холеное тело его жены, уже яростный взгляд скользнул по ним, и Арфов отпрянул, оглянувшись, беспомощно. Смешно, как сильно умный мужчина может зависеть от своей ревнивой жены, смешно и обидно.
– Ада, послушай меня, я скоро вернусь, хорошо?
Он исчез как-то, она даже не поняла, как это произошло, и когда заметила, что сидит совсем одна, бессмысленно глядя в пространство, разозлилась, изогнулась кошкой, швырнула одну из туфель куда-то в сторону двери, куда он ушел, конечно, не попала, и снова откинулась на спинку кресла, ощущая, как тепло внутри пульсирует, заставляя сдвинутый мир кружиться перед глазами. Бросил ее, ушел, как уходили все, как ушел Давид, как ушел Вельд, как ушел когда-то ее отец, как спрятался в скорлупу желторотый Дима, как когда-то Майя и ее собственная мать отвернулись в отвращении, прошли мимо, не волнуясь о том, что она тут одна, посреди огромного страшного города, подсвеченного кое-где белыми фонарями, бросавшими странные отблески на серо-стальные дома. Одна посреди Вселенной, никому не нужная и всеми забытая. Там, внутри, в зале остался ее образ, воспоминание о ней, слухи о ней, но сама она была тут, закутанная, как она вдруг заметила, в свою черную псевдо-меховую накидку, Арфов умел о ней заботиться, но он же ушел, предал ее, оставил одну, и так поступают всегда, наслаждаются ее игрой, ее образом, но сама она, кому и когда нужна была она сама, в тридцать пять уже считающаяся стареющей актриса в мире, где так ценится молодое мясо, упругая, свежая плоть, в мире, где каждый день она борется против времени, условий, одиночества, против самой себя, пьяная, глупая девочка в красивой обертке, напуганный зверек, затаившаяся кошечка, которой только и нужно, чтобы всегда были руки, способные гладить, руки, которые будут кормить и ласкать, и не давать думать, решать самой.
От нахлынувшей жалости к себе закипели в уголках глаз горячие пьяные слезы, и она свернулась комком, сжалась, сдуваясь как воздушный шарик к сморщенной сути себя, закрыла глаза. А звездное небо и замерший город смотрели на нее, и ветер теребил темно-каштановые волосы, рассыпавшиеся по плечам, развалившуюся сложную прическу, и внутри было так тепло, а снаружи так холодно, что она сжалась сильнее и плакала, не трезвея, засыпая.
***
Его серо-ледяные глаза напротив рождали в ней черные дыры. Ада сидела, плотно стиснув колени и крепко прижимая к себе сумочку. Ремешок скользил в пальцах, очерчивая ее нервозность. Их разделял столик, но ей казалось, что он ближе к ней, чем когда-либо был ее собственный муж. Он неторопливо глотнул пиво из высокого бокала, и все в нем – его четко выверенные движения, разворот плеч, посадка головы, взгляд – все, казалось ей, выдавало его род занятий, несмотря на то, что он явно пытался это скрыть, одевшись в гражданское.
– Вы изменяет мужу? – Тем временем поинтересовался он, ставя бокал точно по центру подставки, и она даже вспыхнула, возмущенная вопросом.
– Я замужем восемь месяцев, – посмотрела с вызовом, как будто это все должно было объяснить. На лице напротив ничего не отразилось, глупо было думать, что он этого не знал. Но для него это ничего не значило. Сглотнула, отпустила ремешок сумки, заставила себя вести себя естественней. Но ладоням не лежалось на столе, пришлось сцепить пальцы, чтобы не так заметна была дрожь. – Нет, не изменяю.
– А зря, – она недоверчиво посмотрела, не понимая, почему шутка звучит так сухо, но, столкнувшись все с тем же спокойным взглядом, поняла – это не шутка.
Раздались еле слышные шаги и в узкой полоске света под шторкой, отделявшей их «гнездышко» от остального зала, мелькнула тень. С невероятной скоростью рука мужчины метнулась через столик, легла на ее чуть дрожавшие руки, а лицо мгновенно приняло сладкое, даже приторное выражение, и только взгляд не изменился. Вошла официантка, и он отпрянул, дав девушке всего несколько мгновений, чтобы увидеть их прикосновения. Ада залилась краской, он чуть улыбнулся. Официантка поменяла пепельницу, тоже улыбаясь, вышла.
– Ну вот, теперь изменяете, – прокомментировал произошедшее он. Ада ощутила, как краска сходит с лица, и его заливает бледность. Она чувствовала себя как насекомое, попавшееся в лапы пауку – яд уже проникал в ее кровь, и скоро она станет такой мягкой. Податливой и готовой к употреблению. Скоро она будет полностью парализована. Какая мерзость. Отвращение мелькнуло на ее лице, и помимо воли вырвалось:
– Муж меня убьет, – и даже не одернула себя, почувствовав, что глубокая морщинка привычно пролегла между бровей. Тогда еще могла позволить себе не слишком волноваться о морщинах.
– Об этом вам не стоит беспокоиться, – он чуть заметно кивнул. – Мы позаботимся о вас. Мы вас защитим. Все, что вы рассказали – очень важно.
Он неторопливо допил пиво, вернул стакан на место все тем же простым и безупречным движением.
– Мне пора идти, – слова все еще давались с трудом, в горле першило, и она много отдала бы за то, чтобы вместо кофе заказать что-нибудь более крепкое, или хотя бы добавить в чашку виски, но ждать пока принесут этот новый заказ было невмоготу. Кожа рук, где он прикоснулся к ней, зудела так, словно никакой кожи больше не было. И хотелось мыть руки, мыть снова и снова, как леди Макбет, пытаясь избавиться от кровавых следов, следов преступления.
– Разумеется. Если вдруг что-то случится – что угодно – не обращайтесь… ни к кому. Звоните сразу по этому телефону, и вы будете избавлены от неприятностей.
Маленькая белая карточка легла на стол.
– Выходите быстро, не оборачивайтесь. Помните, теперь мы скрывающиеся любовники, – напоследок он улыбнулся чуть теплее, но от его взгляда у нее все еще бежали мурашки по спине. – Хорошего дня, гражданка Штибер.
Фамилия мужа резанула слух, и Ада засобиралась быстрее. Закрылась темными очками, сжимая сумочку, выскочила из ресторана. Она чувствовала себя такой грязной, что хотела только одного – добраться домой и принять душ. Отмыться от всего произошедшего, хотя позже, устраивая себе допрос с пристрастием, она не могла понять, что именно случилось. Ей казалось, она и впрямь изменила – или скорее, она была изнасилована в этом отдельном кабинете. Хотя единственное прикосновение и длилось не больше секунды. Но что это было, зачем был этот фарс, зачем столько унижения, если она больше никогда не встречала этого человека? И никто никогда ей не звонил, не напоминал об этом. Только слухи поползли, она до сих пор с ними иногда сталкивалась, но Вельд об этом так никогда и не узнал.
Все это было позже – много позже, а тогда она бежала из ресторана со всех ног, еще не зная, как скоро ей придется воспользоваться данным на случай каких-либо проблем телефонным номером…
Ада встрепенулась, выныривая из липкого пьяного сна, и поняла, что задремала прямо на улице. Поежилась, поднялась, пошатываясь. Хорошо, если никто ее не видел – но как могли не видеть, вездесущая служба охраны, наверняка, и за балконом следит в режиме реального времени. Оставалось надеяться, что ничего такого предосудительного она во сне не говорила. Впрочем, им ли было не знать о том случае, о том, как все закончилось, и к чему привело – ведь тогда она поступала абсолютно правильно, так что даже неплохо, если она говорила об этом во сне. Хотя лучше бы – кричала лозунги и повторяла патриотические воззвания. Но не снились ей, не снились, много лет не снились ее роли, а все только Вельд и его смерть, и еще тот страшный, на паука похожий человек в отедльном кабинете ресторана, который пришел на назначенную встречу выслушать донос на ее собственного мужа.
Было холодно. Ада поднялась, зябко ежась, обратила внимание, что куда-то делась правая туфля, и совершенно невозможно было в таком виде вернуться в зал. Смутно припоминала, как совершенно невменяемая с Арфовым шла дышать, и надеялась только на то, что никто из гостей не выходил еще – да и на то, что спала недолго. Впрочем, в этом можно было быть почти уверенной. Если бы с ее кошмарами она могла надолго засыпать, у нее бы не было столько проблем со снотворным, не так ли? Ада чувствовала, что от опьянения не осталось и следа и, разувшись, сделала несколько шагов, зорко вглядываясь в пространство окруженного парапетом балкона – куда же делась эта чертова туфля? Хорошо, что света было довольно много – он лился из окон зала, но если не подходить слишком близко, то ее, скорее всего, изнутри не увидят.
Выглядела она, скорее всего ужасно, и увы, увы ей, была уже слишком трезва, чтобы не беспокоится об этом. Дура проклятая, Илья же просил ее вести потише, и был прав, абсолютно прав, он в этих вещах всегда разбирался превосходно, гораздо лучше, чем она сама. А она что делает? Потекшая, наверняка, тушь, смятое платье, о волосах лучше даже и не думать – и в довершение ко всему босая. Бродяжка какая-то, грязная попрошайка, а вовсе не кинозвезда Объединенной Евразии, и будь она моложе, будь наглее, сама бы посмеялась над собой, но сейчас чувствовала себя просто глупо, и еще было холодно, и хотелось зайти обратно в зал, в тепло, выпить чего-нибудь согревающего, но где же, куда запропастилась эта чертова туфля? Осторожно шагая и вглядываясь во все темные углы, она почему-то шла вперед, хотя зашвырнуть обувь так далеко она едва ли смогла бы в своем состоянии. Нужно вернуться и поискать под креслом, подумала, но тут замерла.
Впереди стояла темная фигура, застыла у парапета с сигаретой в руке. Высокий мужчина, которого она не могла узнать со спины смотрел на здание крематория, находившееся совсем рядом, рукой подать и высотой даже превосходившее Концертный зал. Смутная вспышка надежды на то, что это Арфов поджидает ее пробуждения, погасла моментально. Слишком высокий рост, не тот разворот плеч и не свойственная Арфову поза. Мужчина стоял к ней спиной, спокойно курил, и Ада замерла, по-детски прижав к груди оставшуюся туфлю, прикусив губу и совершенно не зная, что делать дальше. Привлечь его внимание, попросить помощи? Вот глупости, тогда он увидит ее, и страшно подумать, какими заголовками завтра будут радовать читателей желтые газетенки. И так будут, конечно, но одно дело, слегка осоловевшая звезда в обнимку со своим менеджером, и совсем другое – то, как она выглядела сейчас. Можно, конечно, незаметно отойти обратно, спрятаться где-нибудь в глубокой тени и надеяться, что он не увидит ее, но скоро ведь гости все равно выйдут на балкон. Можно было попробовать тихо-тихо вернуться, и она даже начала постепенно отступать назад, надеясь, что он не обернется прямо сейчас и не увидит ее, глупую золушку, прозевавшую превращение кареты в тыкву. И все шло совсем неплохо, она, не отрываясь смотрела на застывшего мужчину, отступая назад и готовая, если он обернется, моментально метнуться к креслам. Стыд, вот что это такое было, и если она полагала, что забыла о существовании такого чувства, то она еще глупее, чем думали о ней окружающие. Но пока ей все удавалось, и она, ободренная, почти сумела обогнуть легкий изгиб стены, откуда ему уже не увидеть ее, и он вдруг одним движением поднял левую руку, как если бы посмотрел на часы, вышвырнул сигарету, и…
Мир содрогнулся. Там, за его левым плечом, она увидела яркую вспышку, подумала – странно, ведь еще не время – а потом все объял грохот, шум, громче которого она никогда не слышала, и уши заложило, и она подумала, скорость света быстрее скорости звука, и мужчина обернулся и во вспышке, отразившейся от стеклянных стен пиршественной залы, она увидела его лицо, а он увидел ее, и она вдруг поняла, что он узнал ее, и лицо его исказилось ужасом, а следом за тем он бросился вперед, и вторая вспышка, обгоняющая звук, мазанула по глазам, и ударная волна, подтолкнувшая его в спину, и сильный рывок на землю, и сверху ее накрыло чем-то тяжелым, а грохот и звон сливались с криками из зала, и она чувствовала как в ее щеку вжимается прохладная шерстяная ткань, и она кричала, а вокруг падали осколки, не причинявшие ей вреда, и в какой-то момент она попыталась повернуть голову, чтобы увидеть что происходит, полуслепая от ужаса, и ее сильнее вжало в землю, и чей-то голос надрывно прошептал – «лежи смирно!» – и вспомнился Вельд, воплощение всех взрывов и катастроф ее маленькой глупой жизни, и ужас затопил все чернотой, и она потеряла сознание.
***
Ада очнулась, лежа на боку, шерстинки раздражали щеку. Повернула голову, которая отчего-то сильно болела, оглядываясь. Попал в поле зрения диван, стоявший в небольшой комнате, наверное, одном из тех небольших кабинетов, располагавшихся ниже основного зала – то есть она все еще была в Концертном зале. Освещал комнату только торшер – и в кресле рядом, обеспокоенный, сидел Илья, смотрел на нее в упор.
– Арфов, – выдохнула она, удивленная тем, как хрипло звучит голос, словно она сорвала его. Почему-то сильно болело горло.
– Тихо-тихо, все в порядке, – забормотал он, поднимаясь и подходя к ней, но выражение лица противоречило его словам. Он потрогал ей лоб, видимо не зная, чем еще можно помочь. Ада попыталась поднять голову, и та оказалась неожиданно очень тяжелой.
– Что произошло? Там было что-то… что с крематорием.. Что со мной? – Она попыталась вспомнить, что было после того, как она услышала грохот, но все произошло так быстро, что она даже не поняла, что именно запомнила.
– Ты успокойся, – неуверенно сказал он, но, глядя на ее вмиг помрачневшее лицо, неохотно добавил. – Крематорий кто-то взорвал. А ты потеряла сознание и, видимо, ударилась головой, но тут я не уверен. А да, еще руку порезала.
Она с недоумением посмотрела на свою левую руку, перебинтованную наспех, но, очевидно профессионально.
– Я ничего не понимаю, – честно призналась она. – Что значит «кто-то взорвал»? Технические неполадки? – Учитывая, как все было организовано, это не казалось таким уж невероятным.
– Теракт, – коротко пояснил он, протягивая ей стакан с водой. – Много пострадавших, тех, кто был около здания – и внутри, конечно.
Он беспокоился – она это видела – о том, как она воспримет новости, но что-то еще тревожило его, это было явно, и он старался скрыть одно за другим. Она тоже иногда могла читать его мысли.
– И что еще?.. – Ада почему-то не испытала привычного страха, узнав о взрыве. Хотя и кричала – теперь она помнила, что кричала, – но страха не было, может, всему виной шок.
– Ада… ты на балконе была не одна? Что ты там делала? – Осторожно осведомился Илья, садясь на край дивана и принимая из ее рук пустой стакан.
– Я там отрубилась… ну то есть сидела и смотрела на звезды, потому что кое-кто ушел и бросил меня одну, – ядовито бросила. – Потом куда-то делась туфля, и я пошла ее искать, и там кто-то стоял, но я не знаю… – И тут же поняла, что знает, вспомнила лицо, но подумать об этом было так странно. – А потом грохот и свет и меня кто-то толкнул – и…А в чем дело?
– Ну у нас тут стекла повылетали, и есть несколько серьезно раненных, я уж не говорю, что на балконе тебе бы еще хуже пришлось, но тебя вовремя «толкнули» и прикрыли от осколков, – он поджал губы так плотно, что они стянулись в тонкую ниточку.
Он не шутил, и ей вдруг расхотелось его дразнить.
– Слушай, Ада, я, может быть, покажусь тебе старым параноиком, но Герман Бельке не тот человек, с которым стоит связываться.
– Герман? – Она удивилась, но больше тому, что Илья подумал, что у нее и начальника службы охраны может быть что-то общее. Ну и, разумеется, тому, что, даже не присутствуя на балконе лично, поглощенный суматохой вечера и истерией взрывов, после скандала с женой и ее собственной пьяной выходки, он умудрялся быть в курсе, где она была, чем занималась и кто конкретно прикрывал ее от летящих осколков. – При чем тут он…
– Ладно, ладно… может, это, конечно, ничего и не значит, и вы действительно совершенно случайно оказались оба на балконе, и он совершенно случайно изобразил из себя супергероя, спасая твое дорогущее личико и еще более дорогостоящие части тела от неприятных повреждений… – Илья отмахнулся, испытывая облегчение. Он убеждал самого себя – и весьма успешно, насколько она могла судить.
– Именно так все и было! – Вспыхнула она. Замолчала, чувствуя странное беспокойство и улыбку, помимо воли расползавшуюся по губам. Это было чертовски приятно сознавать, что спас тебя такой человек – и мгновенно он обрел ореол героя – и ей стало интересно, как именно он ее спас, и как прикрывал собой, и какой на ощупь был его костюм, и как чувствовались его руки, и как она сама при этом выглядела, и заметил ли он отсутствие проклятой туфли и ее в целом весьма непрезентабельный вид – жаль, что ничего из этого она никогда не узнает.
– Ада, – предупреждающе начал Илья, но она отмахнулась. – Дима, кстати, очень беспокоился, пока не нашел тебя, принес сюда, обработал тебе руку и отправился к месту катастрофы – оказывать помощь, если там конечно, еще остались те, кому нужно ее оказывать.
Она чуть заметно кивнула – двигать головой было больно, видимо, она все же ударилась, или это такое теперь у нее похмелье? – словно торжественно подтверждая, что оценила героизм своего официального ухажера, но не чувствуя никакого подъема. Это же было его работой, разве нет? И в этом не было ничего, что намекало бы на романтику, на из ряда вон выходящий поступок, вроде того, что совершил этим вечером Герман Бельке.
– Так он там… – Илья удовлетворенно выдохнул, надеясь, что она забудет те глупости, которые, как он подозревал, уже начали созревать в ее голове, но она уже продолжила, стирая облегчение с его лица. – Кто же отвезет меня домой в таком случае?
***
В квартире было совсем темно – и пусто, конечно. Норы не было, экономка уходила в девять вечера, если Ада не просила ее остаться. Но утром, тысячу лет назад, кто бы мог подумать, что ей будет нужна компания, что ей снова страшно будет оставаться одной? Она прошла по всем комнатам, дрожащей рукой включая свет, и нервно оглядываясь. Прежде, чем зайти в ванную, простояла у закрытой двери минут десять, не решаясь заглянуть. Только сейчас до нее начинало доходить произошедшее, но она отказывалась об этом думать. И все же мысли приходили – неужели опять? Так быстро – всего три дня, как мир лишился одной из своих опор – и уже гремят взрывы и умирают люди. Нет, раньше террористические акты тоже случались – не дремали враги Евразии, постепенно приобретавшие адский облик исламские фундаменталисты, заговорщики, мало ли кто еще – но исполнителей всегда ловили и примерно наказывали, и никогда эти теракты не были такими наглыми, такими беззастенчивыми. И еще происки врагов служба охраны часто предотвращала – когда-то каждые несколько месяцев объявляли о раскрытии очередной группировки, а в последние лет пять-шесть все как-то затихло. А теперь начнется снова. Ей было страшно, и, не в силах успокоиться, она бродила из комнаты в комнату – сизое приведение, тень самой себя с перевязанной рукой в измятом вечернем платье – черном, как и положено на похоронах. Так и не собралась с силами переодеться, хотя ее некогда такой красивый наряд за сегодняшний вечер успел превратиться в половую тряпку. Даже Норе не отдашь, чтобы привела в порядок, не подаришь – стыдно будет за такое «благодеяние».
Сердце колотилось как бешенное – и она все больше и больше злилась на Диму, который сейчас должен быть рядом с ней, а не в развалинах крематория. Он там уже ничем никому не поможет, думала, пытаясь не пустить за веки картины – раненных, убитых, искалеченных, пострадавших. А ей он бы так помог, появился, сияя уверенностью и порядком, живое воплощение спокойных, скучных и таких милых последних лет. Пусть тоскливых, пусть скучных – сейчас она многое отдала бы, чтобы Президент жил вечно и не было ни этих ужасных похорон, ни этого закравшегося сомнения, ни этого взрыва, беспрецедентного в своей наглости. Ведь это значит, враги пробрались в самое сердце Столицы, ничего не боятся негодяи. Был бы жив Президент, они бы не посмели, он бы защитил, самим фактом своего существования цементируя их хрупкий, хрустальный мир. Без него она ощущала себя сиротой, хотя он ничем не напоминал ее отца.
Наконец, Ада не выдержала и подошла к ночному столику, в верхнем ящике которого Дима иногда оставлял таблетки – в основном, когда не мог ночевать у нее или после жутких истерик, которые она закатывала ему, измучившись от бессонницы. Он иногда говорил, что ей следовало бы обратиться к врачу в связи с ее нарушениями сна – но небольшой опыт в этом вопросе, привел ее к выводу, что это бесполезно. Причиной ее бессонниц были кошмары, а о них она говорить не любила. Все ее проблемы составляли такой органичный замкнутый круг, что тут уж ничего не исправишь. Ее трудности со сном превосходно решались снотворным, а врачи, психологи полезут в душу, начнут копаться в том, в чем она копаться совершенно не собиралась и шантажировать ее – будьте умницей, гражданка Фрейн, вывернитесь наизнанку ради нашего удовольствия и тогда мы, может быть, дадим вам таблетки, чтобы вы могли уснуть, но до того, будьте так любезны немного душевного стриптиза… Нет уж, она знала все заранее, не нужны ей были никакие врачи, кроме тех, что без рецепта могли достать нужное лекарство.
Пилюли, которые давал Дима, помогали не всегда – и кончились еще вчера, она знала это точно, но, окрыленная какой-то иррациональной надеждой, все равно заглянула внутрь деревянного ящика и принялась торопливо, суетливо рыться, перебирать лежавшие там мелочи, выгребать все и складывать обратно. Через пять минут, не найдя лекарств, она с силой захлопнула ящик и выругалась, что позволял себе так редко. Ада чувствовала, что руки начинают дрожать сильнее. Перспектива бессонной ночи в одиночестве пугала ее все больше и больше. Она уже видела, как усталая, изломанная лежит в постели, чутко ловя каждый звук, каждый шорох, плача от бессилия, злясь и вспоминая – а она так не хотела ничего вспоминать. Это был слишком тяжелый день, слишком мучительный, чтобы длить и длить его, нет, только не это! Она резко отодвинула прикроватную тумбочку, окрыленная фантазией, что что-то могло завалиться за нее, перерыла все углы, и все полки – и нигде, нигде не могла найти свое снотворное.
Подрыв жилых домой был довольно редким явлением, но она почему-то была уверена, что если и начнут взрывать – то начнут с нее. Мистическая уверенность подкреплялась кое-какой логикой, но сильнее всего пугала не логика, а именно это определенное, четкое знание. Она словно уже слышала, как в ночи гулко разносится шорох и шепот, и идут, идут орды, и нет у них иной мечты, иного желания, кроме как причинять боль, и она будет первой в списке. Казалось, дверь подъезда открывается – одновременно бесшумные и грохочущие тени пробираются на ее этаж, скребутся о косяк, прилаживая к нему хитроумные устройства, чтобы разнести в щепу, чтобы залилась комната невыносимым жаром, чтобы плавилась кожа и мебель, горели глаза и наряды, и крик, крик рвался, но не вылетал из комнаты, заполняющейся дымом.
Она сняла и отшвырнула испорченное платье, накинула на плечи цветастый синтетический халатик, притворявшийся шелковым. Постаралась отвлечься, кинулась к телевизору, закурила, села в кресло, уставившись на экран, по которому раз за разом, бесконечно крутили кадры взрыва, словно помешались на этом, повторяли и повторяли одно и то же – снятый с разных точек, страшный пожар. И никаких комментариев не давали, вероятно, было еще слишком рано делать выводы о том, что все это значило. Она глубоко затянулась, понимая, что кошмар только начинается. Потом резко выключила телевизор, вскочила, выбежала в прихожую и как ненормальная принялась обшаривать все карманы – курток, плащей, но в основном пиджаков, пиджаков Димы. Рука ныряла в темную прохладную ткань и сердце замирало на мгновение, и она забывала сделать вдох, надеясь, что вот-вот, вот-вот…
Сумасшедшая наркоманка, сказала себе, но разве это имело значение? Не найдя ничего похожего на таблетки, она устало сползла по стене, села на полу, раздавленная, опрокинутая кукла, вытянув ноги, опустила голову и заплакала, тихо, по-детски всхлипывая. Сейчас она сделала бы что угодно, отдала бы что угодно за то, чтобы выгнать этот страх, а это мог сделать только сон или секс или алкоголь, но ни то ни другое ни третье ей было недоступно. Таблеток нет, Димы нет и нет ни грамма выпивки – за те три дня что она мучилась бессонницей, а Дима где-то пропадал, она выпила все, что только можно было выпить в доме.
Когда слезы немного утихли, она подползла к двери, проверяя замки. Щеколды в новых квартирах не устанавливались, запрещено, ну вдруг пожар, ну вдруг маленькие дети – но только сейчас пришло в голову – это же так небезопасно, придут враги, и чего им будет стоить открыть эту дверь? Мысль о том, чтобы выйти из дома, дойти до магазина пришла в голову и тут же упорхнула – комендантский час, магазины закрыты, даже тот маленький за углом, в трех минутах ходьбы, где иногда можно было купить алкоголь даже ночью, даже во время запрета на продажу, и он, наверняка, сейчас тоже открыт, – но как выйти в эту черноту, как найти в себе силы выползти из дома? Казалось, сердце разорвется от ужаса при одной мысли об этом.
Потянулась к телефону, набрала номер Арфова, но он не отвечал – видимо, опять ругался с женой на тему того, что отвез ее, Аду, домой, когда она прекрасно могла бы добраться сама. Ругался и отключил телефон, такое с ним бывало в последнее время все чаще, хотя когда-то он и убеждал ее – «звони в любое время» – может, она слишком уж часто пользовалась его расположением?
Протяжные всхлипывания превратились в тихое поскуливание, и вот она уже – напуганная собака, поджавшая хвост, уши прильнули к голове, и как хорошо было бы, будь у нее хозяин, человек-бог, способный защитить, способный позаботиться, хорошо бы стать собакой, но кому она нужна, стареющая глупая, глупая, глупая, совсем не милая и столько сил прикладывающая для того, чтобы выглядеть хотя бы пристойно? Все ее бросили, все, и она уже плакала об этом сегодня, пожалуй, слишком много слез для одного, пусть и страшного дня, но тогда она еще и не догадывалась о том, насколько напуганной, насколько одинокой можно быть. Полностью освещенная квартира подбиралась к ее босым ногам, тенями в лучах ослепительного электрического света подбиралась к ступням, какие-то чудища, прячущиеся на свету, готовились схватить ее и утащить куда-то в пропасть абсолютного безумия.
И пошевелиться казалось невозможно, но необходимо, и все так же, не поднимаясь с пола, она проползла по коридору в спальню, нашла постель и забралась на нее, закуталась в одеяло с головой, дрожа и плача. Перебинтованная рука натужно болела, но каким это было неважным по сравнению с тем, как болело сердце.
Она закрыла глаза, повторяя про себя – я могу уснуть, я могу уснуть, я могу уснуть – и еще – я в безопасности, я в безопасности. И не верила ни тому, ни другому. Одеяло прильнуло к коже, которая словно превратилась в один раскаленный нерв, но теперь только оно защищало от теней, прячущихся на свету, и как уснуть со светом, и как без него уснуть?
Кто-то учил ее – считать до десяти, до ста, и она начала, а потом еще – вспоминай что-нибудь по секундам, какая ирония, но она послушно принялась вспоминать, и как назло вспоминался только сегодняшний день. И утро в памяти минуло, и минул день, и потом расплывшееся пятно вместо вечера, и балкон, и, конечно же, грохот, обернувшееся к ней, искаженное лицо начальника службы охраны, который был там совсем один, словно сам не нуждался в охране. И его глаза, и их выражение, которое она вдруг вспомнила так отчетливо, но совсем не могла объяснить. Это было беспокойство или тревога, это было сомнение или нервозность, это было удивление или что-то еще – но в тот миг, когда он увидел ее, он не был безразличен, и смотрел не как рентген, не как очеловеченная пустота. Она зажмурилась крепче, понимая, что дальше помнит только удар, страх, темноту, темноту – и принялась представлять придумывать то, что произошло, то, чего она не видела. Она представила, как он бросился к ней, как дернул за руку на пол, не заботясь о том, ударится она или нет, понимая, что гораздо хуже ей придется, если она останется на ногах, о том, как прикрыл ее, как руки его обвили ее голову, пряча ее, словно птица птенца, словно мать младенца от летящих искр, осколков, которые летели, конечно, внутрь зала, странно как-то, зачем тогда… но неважно, он прикрывал ее, и она дернулась, и он приказал лежать спокойно, но в ее воображении совсем не так резко, как ей помнилось, и в его голосе не надрыв, не хрип, а полное спокойствие, уверенность, ведь ее защищал он, а кто лучше него умел защищать? Если в его руках помещалась безопасность всей огромной Объединенной Евразии, разве одна женщина не могла поместиться? Что ей могло угрожать, если так заботился о ней сам Герман Бельке, воплощение идеи безопасности, борьбы против всего плохого, что только могло случиться в этой стране? Она не помнила, но представляла его тело, которое казалось огромным, спаянным из несгораемого металла, не подверженного бурям, ни внешним, ни внутренним. И этот сверхчеловек, эта идея вжимала ее в пол, защищая ее голову, ее тело, каждую ее клеточку. И от этой воображаемой тяжести, от запаха его одеколона, от ощущения мягкой шерсти его пиджака внутри у нее вдруг рождалось что-то сродни религиозному экстазу.
Внезапно ей стало тепло и очень спокойно от этого ощущения, которое она себе вообразила. Он ходил без охраны, поняла она, потому что он сам был охраной, он был тем, кто все эти годы защищал их – и ее! А она-то, глупая, при встречах опасливо отводила глаза, она боялась его, да теперь можно сознаться, она все эти годы где-то в глубине души боялась его, ассоциируя с тем пауком, что так надругался над ее душой перед смертью ее мужа. Но нет, нет, он совсем не таков, потому, что, как бы ни был он страшен, бесчеловечен, он делал все, чтобы защитить их, и она почувствовала как страх постепенно проходит.
Дальше было не интересно фантазировать – потом их разлепили или он ушел сам, поспешил спасать кого-то еще, разбираться с тем, что произошло, а она оказалась на диване в кабинете, и был Арфов, может быть, его жена или журналисты, хотя нет, они, наверняка, все кинулись к крематорию в надежде на более вкусный материал, потом там был еще Дима, который методично и спокойно перебинтовывал ей руку, проявляя свой скромный и совсем не успокаивающий героизм. Все это было так обыденно, так кисло, что, чуть нахмурившись, она вернулась мысленно к началу эпизода, к тому, как они стояли на балконе, вдвоем, так близко – теперь она думала, что ей стоило с ним заговорить – а что такого? Ей стоило подойти к нему. Сейчас она бы так и сделала. Улыбаясь, она все прокручивала в голове этот вымышленный разговор, каждый раз добавляя к нему новые, причудливые, сладкие детали и расцвечивая его все ярче и ярче и делая его все продолжительней, и улыбалась, и, доходя до конца мгновения, до взрыва, начинала все сначала. Она могла бы подойти, улыбнуться, пошутить насчет своего внешнего вида, попросить его помощи, ей почему-то казалось, он непременно улыбнулся бы в ответ, но как ни старалась, она не могла представить себе его улыбки, и жалела, что упустила шанс увидеть это воочию. А потом с каждым повтором она представляла себя все более ухоженной, и растрепанные волосы уже не рассыпаны по плечам, и платье не измято, и тушь не потекла, и она искристо улыбалась, идеальная женщина, попавшая в затруднительную ситуацию, и в ее воображении, обмениваясь шутками, они искали вместе ее туфельку, и находили, и он помогал ей обуться, опустившись на колено, так аккуратно, так заботливо, и даже не совсем без эротического подтекста, а потом поднимался, смотрел ей в глаза, и улыбался, и в глазах была не пустота, а человек, которого она успела разглядеть за ту секунду, что он осознавал, кто перед ним, и он стоял и смотрел на нее, и никакого взрыва никогда не было, и все было идеально в этом ее мирке, все было хорошо.
В какой-то момент, она даже не поняла сама, как это произошло, в какой-то момент, ее напряженное лицо расслабилось, веки чуть приоткрылись, оставляя узкую полоску между ресницами, руки расслабились, губы чуть улыбались – и она крепко уснула.
И во сне она снова стояла на балконе. Босая стояла, прижимая туфлю к груди, а кто-то стоял у парапета, курил, и она бросилась к нему, торопясь предупредить, что сейчас прозвучит взрыв, и сказать, чтобы он что-нибудь предпринял, помешал этому произойти, но вот уже он оборачивается, и сквозь неожиданно окутавшую балкон тьму проступает лицо, знакомое лицо ночных кошмаров. Она замирает, пытается отступить на шаг, скрыться, но Вельд подходит, такой же как был всегда, самоуверенный, огромный, с тонким носом и пухлыми губами, и прядка темных волос как всегда падает на его высокий лоб, и вьется, вьется по лицу, словно червяк, и он протягивает руки, огромные руки, которые, кажется, могут сжать ее между двумя пальцами. Но он улыбается, распахивается, и она думает, это же мой муж, чего я боюсь, он улыбается, и она подходит, и она прижимается к нему, это же мой муж, это можно, можно обнять его, можно целовать, и как хорошо, что это именно он, можно не стыдиться, их же даже венчали в церкви, Богу, в которого она временами так слабо верила, угоден их союз, и она прижимается к нему, и думает, надо было родить ему сына, но мысль об этом кажется какой-то ужасной, мерзкой, и она инстинктивно пытается отшатнуться, но его руки уже сомкнулись за ее спиной, и к его широкой грудной клетке ее прижимает с огромной силой, словно она попала под пресс, и он давит, давит, а она пытается вырваться, задыхаясь, мне больно, больно, больно, кричит она, но он молчит, и по его лицу уже ползут червяки, а лицо гниет, рассыпается и только огромная улыбка-оскал никак не сходит с мертвеющих губ, и вдруг, словно ниоткуда берутся еще две руки, откуда у него еще две руки? – и они начинают душить ее, и она слышит, как хрустят под прессом кости ее грудной клетки, как умирает в ней сердце, как горло сдавило, и вдруг понимает, что он вовсе не пытается ее прикрыть, в тащит прямо к парапету, к тому месту, которое через мгновение должно окрасится кроваво-красным, чтобы сжечь ее глаза и то, что еще останется от нее, когда он раздавит ее своей мертвой любовью, когда задушит связывающей их нитью судьбы, он сожжет ее, и она кричит, хрипит, а он беззвучно шепчет, но она слышит его – лежи смирно, лежи смирно, лежи…
***
Кто-то схватил ее за плечо и она, вдруг смогла закричать, хотя еще секунду назад ее горло было сжато рукой мертвеца, и она, вскинувшись, начала отбиваться и закричала снова, почувствовав прикосновение к запястьям – кто-то пытался остановить ее руки, и только тут она поняла, что глаза еще закрыты. Моментально она распахнула их, чтобы начать хотя бы кусаться, для этого же надо было видеть врага, и подалась вперед, и вцепилась зубами в чье-то плечо, и услышала протестующий вскрик, и только тут поняла, что уже некоторое время слышит, как кто-то повторяет ее имя. И еще спустя секунду увидела знакомое лицо и опознала голос – это был Дима, всего лишь Дима. Запыхавшийся, усталый, без очков, которые она, видимо сбила с его носа… Это было так забавно, что она вдруг истерически рассмеялась, и, обессилев, рухнула на постель с трудом понимая, что он говорит.
– Ада, прекрати, успокойся, Ада, Ада, Ада, девочка моя, ну хватит, тише, тише… – он городил такую чушь, что ей снова стало смешно – и от этого недавний кошмар вдруг растворился, растаял. Не до конца, шрамом остался на грани сознания, но уже не тревожил и почти не ныл. Зато вдруг заныла рука, и Ада задалась вопросом, обо что же она так сильно могла порезаться, если осколки летели внутрь, а он защищал ее свои телом, но это… это можно будет обдумать потом, когда останется одна, потому что это же тоже часть сказки, которая, как оказалось, помогает засыпать. Незачем делиться сказкой с Димой, едва ли он оценит, что прикосновения другого мужчины – пусть и воображаемые, пусть и не совсем мужчины, а идеи – приносят ей такое успокоение.
– Дай мне сигарету, – выдохнула она, игнорируя его попытки поцеловать ее, погладить по голове. Он вдруг начал вызывать в ней какую-то инстинктивную неприязнь, которая постепенно перетекала в отвращение. Она отвела глаза, чтобы не видеть его лица, которое отчего-то сейчас жутко ее раздражало. Где-то в глубине души она признавала, что это было неправильно, нечестно и просто жестоко – потому, что несмотря ни на что, он, кажется, ее любил, но она ничего не могла с этим сделать – как отменить свои ощущения? Разве что притвориться, что этого всего нет – и пока будут силы притворяться, она, конечно, именно так и станет себя вести. Оборвала мысль – она касалась будущего, а про будущее Ада думать не любила. Потом, однажды, это все как-нибудь само собой разрешится, но зачем сейчас думать о том, как ей будет стыдно, а ему больно? Нет, сейчас об этом думать не следовало.
Покорно он протянул ей сигарету, стараясь заглянуть в глаза, но она аккуратно отворачивалась, прячась за дымом, за курением так, чтобы это не показалось нарочным.
– Кошмар приснился? – Осторожно спросил он, наконец. – Ты так хрипела во сне, как будто задыхаешься.
Она вздрогнула и поежилась.
– Приснился, – поджала губы, ставя точку.
Он вздохнул, скинул ботинки, забрался на кровать, не раздеваясь, игнорируя тот факт, что от его одежды несет гарью, потом и грязью, и потянулся к ней. Ада отстранилась.
– Ффф… может тебе стоит сходить в душ? Пахнешь отвратительно, – она смутилась и ощутила такой укор стыда, что тут же позволила себя обнять, вопреки собственным словам.
– Потом. Все потом. Я так устал, ты бы знала, – выдохнул он, прижимаясь губами к ее макушке, а она напряженная, застыла в кольце его рук, радуясь, что так он не может видеть выражение ее лица, морщась от запаха и ощущения грязи. Надо потерпеть, сказала себе – чуть-чуть. А потом попробовать снова.
– Что там было? – Спросила просто потому, что все равно же расскажет. Спросит она или нет, его явно так распирало от желания поделиться, что, хочет она того или нет, выслушать придется. Так зачем тянуть?
– Что… Преисподняя, что же еще. Все разрушено. Я такого в жизни не видел, – он выдохнул, прижимая ее к себе как куклу. – А я же врач. Но это… – он махнул рукой, и она почувствовала привычное раздражение от того, что он не мог объяснить. Все ее мужчины всегда владели словом, обманывали, конечно, плели сладкие песни, и это было неприятно, но слушать ей всегда нравилось, даже если она подозревала, что за словами нет ничего реального. Это было частью ее историй любви – она верит, он, кем бы этот «он» ни был, умеет словами поставить ей сети, загнать ее в ловушку. А Дима так не умел. И эта его «ущербность» тоже ее раздражала.
– А что произошло? – Спросила без особой надежды, раскачать его словоохотливость было почти нереально, но что-то же нужно делать. Она смотрела на его мягкие руки, сейчас в копоти и грязи, скрещенные под ее грудью.
– Взрыв, – коротко бросил, но она почувствовала, как под ее плечом напряглась его грудная клетка, словно ему понадобилось набрать больше воздуха, или вытолкнуть это единственное слово стоило больших трудов. Почему? Потому что не умел разговаривать? Но не настолько же, она называла его косноязычным только в сравнении с истинными мастерами обмана, говорить-то он умел. Так почему? Потому что был так потрясен? Она запуталась. Этот мужчина еще неделю назад уверенно вещал – правда, в темноте спальни и на ушко – о старческом слабоумии лидера страны. Этот мужчина оказался смелым настолько, что заговорил об этом не с ней, а с ее агентом, известным своей лояльностью. И тут вдруг…
– Не держи меня за идиотку, – сердито бросила Ада, отстранившись от очередного прикосновения к голове. Что он, в самом деле, принимает ее за маленькую девочку – нет, порой это приятно, если вспомнить, что она старше и сколько ей лет, но когда речь идет о серьезных вещах – это она, а не он, хоронила самоубийцу-мужа. Как минимум.
– Что там произошло? – С нажимом повторила вопрос, ловя его взгляд. Не то, чтобы ей так уж важно было знать – просто раздражало его сопротивление. Хотелось выжать из этого камня все до капли, просто сжав его рукой.
– Хорошо. Но это пока должно остаться между нами… слышишь? Никому, даже Илье Александровичу этого не передавай. Говорят, взрыв устроила Елена Горецкая, не делай такое лицо, ты не можешь не знать. Старшая дочь. Ты видела, она весь день стояла у гроба – нервная, я еще обратил внимание, но подумал, это так естественно, все же отец… И вот якобы она принесла бомбу в сумочке – ее, конечно, не проверяли, и, когда тело должны были отправить в зал кремаций, взорвала себя. Это был первый удар, небольшой и тихий довольно, разве что ты его могла слышать, если была на балконе, а в зале мы даже и не подозревали… Но там начался пожар, как-то моментально начался. Словом, в крематории хранились запасы горючего и огнеопасные окрашивающие вещества, и… – Он поджал губы – она спиной почувствовала эту гримасу и закрыла глаза. Как ни пыталась отворачиваться, он все равно был перед глазами.
Она нахмурилась и вызвала в памяти облик пятидесятилетней женщины с паникой в глазах, женщины, которую она так откровенно провоцировала, так издевалась над ней сегодня, и мгновенно у Ады по спине пробежали мурашки – а что если бы она сказала что-то невпопад и спровоцировала агрессию раньше? То есть уже тогда, когда они разговаривали, эта старая дура знала, что убьет себя, знала, и смеялась, должно быть над собственными словами, над Адой Фрейн, устроившей глупое шоу, хотя… как смеялась? В таком состоянии разве смеются.
– Но понимаешь в чем дело… там же все было разрушено – все! Зал, в котором происходило прощание, просто выгорел, полностью. Кто-то решил, что разумно хранить запасы горючего прямо под залом для прощаний, это отдельный вопрос, зачем так поступать, хотя, кто бы мог подумать. Но вот что странно, рядом с гробом слепая зона видеонаблюдения – я слышал, как об этом говорили охранники, именно поэтому их туда пригнали дежурить. А я-то удивлялся, что за почетный караул, когда все давным-давно оборудовали камерами наблюдения, как будто мы не в двадцать первом веке. Ему бы это не понравилось, покойнику то есть, он же всегда был за модернизацию и прогресс, а тут такие порядки…
Она чуть пожала плечами, не понимая, к чему он это все говорит.
– И что? Ну, слепая зона, ну, поставили охрану…
– Как они узнали, что это она? Я имею в виду, не осталось же никаких записей и свидетельств, никто не может сказать – я видел, как это произошло. Все, кто был внутри, погибли. Ее останки до сих пор не обнаружены, как и ее матери, а те, кого мы нашли, их же просто невозможно идентифицировать. Но об этом в ближайшее время объявят официально, и Бельке…
– Бельке? – Она встрепенулась, это имя вызывало у нее реакцию… как у охотничьей собаки команда, наверное. Она чувствовала, как ее воображаемые охотничье-собачьи ушки прижимаются к голове.
– Да, он там был, конечно. Прибыл еще даже раньше медбригад. Там оцепили все, внутрь никого не пускали – а мы помогали раненным на улице – тем, кому еще можно было помочь. Его ввели в заблуждение или я не знаю, что…
– Послушай, ты доктор, а не следователь, конечно, ничерта ты не знаешь! – Она сорвалась.
Подумала в ярости – если он еще раз дотронется до моей головы, я закричу. Вырвалась из его мягких рук, встала. Тряхнула головой, злая, и, наконец, имеющая возможность высказать свою злость. Повод и сам по себе был достаточно раздражающим, как он посмел сомневаться, как он вообще посмел подумать, что служба охраны может чего-то не учесть, что Германа Бельке кто-то может ввести в заблуждение после того, как сегодня он практически спас ей жизнь, она и сама не заметила, до каких масштабов всего за несколько часов вырос его поступок. Но Дима, в любом случае, не имел никакого права сеять в ней сомнения или выражать несогласие. Он даже говорить о Германе Бельке, даже думать о нем не имел права.
– Откуда тебе знать! Они профессионалы, они знают, о чем говорят, и едва ли ошибаются. Я говорила с этой женщиной, я стояла рядом с ней добрых десять минут, а она в это время держала бомбу, она могла психануть и взорвать меня! Я могла умереть! Но тебя беспокоит только то, что ты не понимаешь, как работают спецслужбы. А по-моему, они огромные молодцы, раз так быстро смогли разобраться в ситуации. По-моему это признак профессионализма, а ты ничего не понимаешь, и не тебе судить. И лучше бы ты подумал обо мне и от том, как я добиралась до дома, и о том, что я тут не смогу спать после сегодняшнего, и что, если усну, меня будут мучить кошмары! Но конечно, твой врачебный-якобы-долг важнее.
И вдруг почувствовала, что вся просто переполнена яростью, словно внутри у нее огненный меч, и лезвие его рвет ей внутренности, и нагревает кровь, и она принялась ходить по комнате, чувствуя, что ей нужно, физически нужно разбить что-нибудь, растоптать, пусть бы какую-нибудь глупую вазочку, пусть человека, сидевшего на ее постели и ставшего вдруг не важнее какой-нибудь глупой вазочки.
– Я вообще не понимаю, что ты там делал, если людям было не помочь. Просто, по-моему, это еще один способ показать, как тебе на меня наплевать, и… – она подавилась вдохом, словно возмущением, резко развернулась и стремительно ушла в ванную, громко хлопнув дверью. Нужно было уйти, пока она не уничтожила что-нибудь, о чем потом придется жалеть.
Заперлась, прижалась к двери ней спиной и стояла так минут пять, тяжело, словно после бега, дыша. С Вельдом такие фокусы не проходили, вспомнила вдруг. Вельд бы уже ломился в дверь, да и так орать он бы ей не позволил, одним своим окриком заглушил бы ее долгие тирады. Но Вельд был мертв, а то, что с тех пор было предоставлено в ее распоряжение, ни на секунду не могло сравниться с покойным мужем. Не придет, подумала Ада, не придет он за мной. И не станет стучать, и кричать не станет, звать, пытаться вытащить отсюда, чтобы встряхнуть за плечи, вперится взглядом в глаза, подминая мою волю, не придет, чтобы ударить, не придет, чтобы встать на колени, обнять мои ноги и просить прощения. Ни на что его не хватит, глупого мальчишки. И не вопрос даже, чем она его так зацепила, вопрос, ей-то зачем эта спокойная, пенсионная семейная жизнь? Ей, еще не такой старой, не такой уставшей, зачем это подобие мужчины?
Закрытые глаза смотрели за веки, сквозь веки, и видели его глупое лицо, и она тихо рассмеялась, так чтобы если что, было похоже на всхлипывание, и удивилась сама своему смеху и своей предусмотрительности. Что ей за дело, разве важно, что он там подумает, но накидывать на любое свое чувство маскировочную сетку давно стало ее потребностью, ее профессиональным достижением. Иногда эмоции оказывались слишком сильными, слишком непредсказуемыми, чтобы она могла контролировать их или успевать что-то исправить, но каждый такой эпизод она считала своим личным поражением. С чужими людьми она как могла старалась не быть самой собой, и то, что Дима неожиданно, по ей самой неведомой причине, оказался среди тех, при ком нужно притворяться, о многом говорило.
Открыла глаза, снова улыбаясь зеркалу, и только глаза ее не улыбались, отметила про себя. Актерское мастерство не могло научить ее быть счастливой, когда внутри все рвется от боли, не могло принести покой сжавшемуся от страха внутреннему ребенку, но, разумеется, помогало притвориться, что она счастлива и спокойна. Деловито, спокойно, она начала наполнять ванную теплой водой, добавила бархатисто пахнущей пены, разделась, кинув на себя в зеркало торжествующий взгляд. Все же ее красота служила утешением. Можно любоваться собой, не на экране, не на фотографиях, не на рекламных плакатах, а вот так, в одиночестве, отмечая все достоинства, закрывая глаза на недостатки. Она плохо спала, плохо ела, старела, разумеется, но сейчас ее широко расширенные глаза, раскрасневшиеся от злости щеки – это было красиво. Провела руками по бокам, по похудевшим бедрам, нужно будет подумать о рационе, нельзя так худеть. В прошлом веке, она отчего-то помнила, женщины убивали себя, худея чуть ли не до костей, но войны и потрясения прервали эту пагубную практику, в моде снова была плоть, а не болезненность, и ей следовало немного поправиться, а так она все еще оставалась прекрасно сложенной молодой женщиной.
Словно дарохранительницу, погрузила себя в воду, мягко пахнущую воду, бедра, ноги, спину, блаженно потянулась. Ванная была переполнена зеркалами, иногда это угнетало, когда хотелось спрятаться от самой себя, но чаще всего – бодрило. И теперь, смотрела то на свое отражение, то на выступающие из воды гладкие колени, чувствуя, словно вернулась домой, к самой сути себя, сути вещей, и никто не был ей нужен.
Повязка на руке только мешала, и она осторожно сняла бинт, пусть останется шрам, пусть, на память, пусть у нее будет что-то свое, личное, пусть этот вечер останется навсегда выгравированным на ее коже, и она уже представила, как спустя время будет касаться тонкой белой полоски на предплечье и вспоминать, и улыбаться тайной улыбкой, о которой ее станут спрашивать репортеры, которую будут пытаться разгадать зрители – и никто-никто не узнает, что на самом деле, это память о сказке, которую она сочинила для себя этой ночью.
Ее мысли ушли далеко-далеко от оставшегося в спальне мужчины, который, как она думала, тяжело переживает их ссору. Он был виноват перед ней – вот пусть и почувствует это получше. Она же расслабилась, закрыла глаза – актриса, идеально разыгравшая скандал, чтобы он больше не трогал ее, больше не гладил по голове, а главное, не говорил ей глупостей. А Герман Бельке все правильно понял – она отчего-то была абсолютно в этом уверена – никто не мог ввести его в заблуждение. С таким человеком рядом можно ничего не бояться, и ей стало так стыдно, что она не знала раньше, о том, как близко к сердцу он принимает жизни и здоровье граждан страны. Иначе быть не могло – нельзя броситься к человеку, прикрыть его собой, если не принимаешь близко к сердцу его судьбу. Сладко-сладко внутри сквозила мысль о том, что, может быть, будь на ее месте кто-то другой, он бы не повел себя так, но это и не имело особенного значения.
Спустя время, выбираясь из ванной, кутаясь в широкое, мягкое – и как это Норе удавалось превращать обычные жесткие полотенца в такую прелесть? – она вдруг подумала о Диме, от которого не слышала ни звука. Сколько она провалялась в ванной, она не знала – но вода успела остыть, и он уже давно должен был как-то проявить себя. Поскрестись в дверь, как нашкодивший щенок, она презрительно улыбнулась, скорее всего. Или постучать, как разъяренный мужчина, что маловероятно, конечно. Но не было ничего. Ни звука.
«Он меня бросил», – вдруг поняла она, неторопливо вытирая волосы полотенцем. – «После того, что произошло, он обязан был меня бросить».
Это было бы так логично, так естественно. Сколько еще он может терпеть? Он ушел – и она выйдет сейчас из ванной и увидит пустую комнату, разоренную, разворошенную – и ни одного его пиджака в прихожей, ни одной его рубашки, ничего. Квартира будет смотреться сиротой без мужчины, опрокинутая, изнасилованная. Он ушел, бросил, подумала, выдыхая и чувствуя облегчение пополам с какой-то непонятной тоской. Опять все вышло так, но хотя бы никто не умер на этот раз, хотя бы… Ада вышла из ванной, накинув все тот же светлый пестрый халатик, уже готовая заплакать от жалости к своей не сложившейся счастливой жизни, хотя его уход и стал бы для нее облегчением. Вышла – и застыла в проеме двери, держась за косяк и глядя на кровать.
Он спал. Как младенец, подложив руку под щеку, спал прямо в одежде на ее половине кровати. Спал и тревожно хмурился во сне. Спал…
Она ощутила, как внутри что-то оборвалось, надежда или что? Совесть?
Ада чувствовала себя обманутой, словно он что-то ей обещал, она чувствовала себя бессильной, она чувствовала презрение. И подумала – «я сама его брошу». Еще чуть-чуть, еще только один эпизод, чтобы решиться наверняка, и все будет кончено, и плевать, что она опять выйдет виноватой. В горле застрял ком. Она тряхнула головой, понимая, что скорее умрет, чем позволит ему еще раз дотронуться до своих волос, и пошла на кухню варить кофе. Ложиться уже не имело смысла – небо на востоке начинало светлеть, не говоря уж о том, что спать ей совсем не хотелось.
Она выпила кофе, привела себя в порядок, накрасилась, оделась, рассмотрела себя в зеркале – достаточно ли хорошо замаскированы следы усталости? – накинула пальто, подхватила сумочку и телефон, и ушла из дома. Так тихо, так быстро, он даже не проснулся.
***
Идти некуда – завтракать в кафе одной слишком тоскливо, а друзей у нее практически не было. Вероятно, это было совсем уж глупостью выходить одной в такое тревожное время. Но утром она чувствовала себя в безопасности, может быть, потому что основные кошмары ее жизни происходили по ночам. Она шла по мокрому, еще в снегу тротуару, глухо цокая каблуками, и вдыхая мягкий утренний воздух – очевидно, сегодня должен был родиться теплый день – подогретый вчерашним взрывом. Она задумалась об этом, ощутив, что ей кажется, что взрыв прогремел три миллиона лет назад… ну то есть очень-очень давно. Она шла, бесцельно, спокойно, не чувствуя холода и недостатка сигарет, оглядывая высокие, серые в утреннем свете здания города, выстроенного в одном цвете, гармоничного, идеального.
Новая Столица была построена уже после ее рождения, на месте одного из старых европейских городов. И кто теперь закончит придание единства облику страны, кто доделает перестройку старых городов, начатую Горецким? Идея безумная, расточительная, смелая – создать города в одном стиле, в одной геометрической правильности, соединить их прямыми ровными дорогами, соткать стеклянно-хромированную паутину, победить трущобы, антисанитарию, грязь, перенаселенность одних районов и запустение других, победить безработицу. Идея гениальная. Когда поднялся визг и вопль – она этого уже почти не помнила – об истреблении памятников и исторического облика, Первый Президент, тогда еще живой и энергичный, резонно ответил, что между культурой и комфортом людей, он выберет людей. Культура в головах, прошлое в головах, уверенно говорил он, а не в груде камней, которые давно пора сравнять с землей. Если бы ОЕ обладала большей территорией или меньшим населением, можно было бы подумать о сохранении этих резерваций. И что-то такое дальше. Ада не оценивала это критически. Вообще не оценивала. Ее собственный город начали перестраивать, когда ей было десять, а закончили, когда она уже оттуда уехала. Она не спорила – просто шла по Столице, залитой светом утреннего ласкового солнца, которое пока никто не брался переделывать, чувствуя как холодеют щеки и зная, что от ходьбы и улыбки, на них выступит прелестный румянец, который очень порадовал бы Арфова.
При этой мысли она огляделась и поняла, что сама не заметила как дошла до его офиса. Было это не так уж плохо – там ее напоят вкусным кофе и выслушают, если ей придет в голову чем-то поделиться. Арфов трудоголик и никогда не опаздывает, а подождать на удобном диване в приемной, куда ее, конечно, пустят, вовсе не самая плохая идея.
На улице никого не было – то ли слишком ранний час, то ли слишком поздний – а вдруг все уже были на работе? А может быть, сегодня объявлен выходной? Она редко выходила на улицу раньше полудня. Подняла голову, рассматривая высокое, красивого жемчужного оттенка здание, окруженное стеклом и металлом. Таких зданий было в городе великое множество, но номер дома и название улицы, не давали ошибиться. Ада поднялась по ступеням, постучала в стеклянные двери, которые не хотели открываться, лучезарно улыбнулась заспанному охраннику. Он торопливо поздоровался, слегка порозовев от ее приветствия, долго извинялся, объясняя, что сейчас еще очень рано, и в офисе, наверное, никого, он сменился в пять утра и с тех пор никто не приходил, но ей он, конечно, даст ключ, любой ключ, все, какие есть, ключи. Она рассмеялась, покачала головой, наслаждаясь тем, что ее узнали, отметилась сигналом сотового в электронном реестре посетителей, расписалась на книге, которую он читал – какой-то порнографический детектив, как она поняла, – пожурила его за то, что пускает всех, кого ни попадя, а ведь сейчас в стране неспокойно, выслушала торопливые заверения в том, что она не кто-то там, а самая что ни на есть, поднялась на лифте на двадцатый этаж, подошла к знакомой двери – точно такой же, как все остальные двери, вставила ключ в замочную скважину…
Дверь оказалась незапертой, и офис, вопреки домыслам охранника, не пустовал. На диване в приемной, укрывшись тонким пледом, дремал Илья.
Аду почему-то позабавила его поза – почти такая же, как у Димы, с щекой лежащей на пухлой ладони. Мужчины как дети, когда спят, – подумала она, и отогнала от себя мысль о том, в каких монстров они превращаются, просыпаясь. Тихо прокралась в комнату, где-то за секретарским столом обнаружила кофеварку, сделала две чашки крепкого и без сахара напитка, поставила на поднос и с торжественным видом понесла ему – своему агенту-хранителю, своему крестному отцу в этом бизнесе.
– Доброе утро, любимый, – проворковала, присаживаясь на край дивана и осторожно держа поднос так, чтобы Арфов ни в коем случае его не сбил, если вздумает просыпаться, вскакивая и размахивая руками.
Предусмотрительность оказалась не лишней – от звука ее голоса он подскочил с перекошенным ртом, чуть не выбил поднос из ее рук – и несколько мгновений на его лице читались все эмоции, вся его внутренняя сущность – как всегда у только-только проснувшихся людей. Именно поэтому, наверное, таким испытанием становится совместная жизнь, подумала она, протягивая ему кофе.
– Ада? Ты что здесь делаешь?
– Просто пришла проведать любимого мужчину, – шелковисто произнесла она, поправляя волосы. – А ты почему спишь здесь?
Но он мог и не отвечать. Наверное, Майя опять выставила его из дома вчера ночью. А идти ему – как и ей – было больше некуда.
– Так… вышло, – бросил он, подозрительно глядя на ее сияющее лицо и делая глоток кофе. – Ты отвратительно готовишь, ты знаешь? Я бы не взял тебя работать секретаршей.
Она рассмеялась, склонив голову к плечу.
– Не будь таким занудой. Мне и не нужно уметь готовить, пока я умею делать кое-что получше.
– Да. Но такую тебя замуж точно никто не возьмет, – пробурчал он, и продолжил ворчать. – Нет, ну как тебе удалось испортить кофе в кофеварке? Там же всего только и надо нажать две кнопки.
Она почувствовала себя задетой.
– Ну и не пей. Какая же ты свинья, Илья Александрович, – она прекрасно понимала, почему он срывается на нее, она вольно или невольно – и он не догадывался насколько сознательно – была причиной его проблем. Но это не давало ему права говорить ей гадости, верно? Поэтому она швырнула поднос со своей чашкой в стену, резко встала, и отвернулась. Кофе, действительно получившийся слишком горьким, растекся грязной лужей по чисто вымытому полу, осколки чашки раскатились по углам. Арфов чуть вздрогнул, но не испугался ее выходки, как испугался бы Дима, а просто пожал плечами. Он к ней привык и знал, что она способна и не на такое. А еще, она почувствовала спиной, устыдился, но извиняться, конечно, не стал.
– Сегодня у нас понедельник, да? – Зевнув, чтобы забить неловкую паузу проговорил он, пока она, отвернувшись, закуривала у окна.
– Вроде бы, – вяло пожала плечами, притворно сердясь, и чувствуя себя на самом деле уязвленной – это было так обидно, то, что он сказал, что она и виду не собиралась подать, как он ее задел. Протянула руку и включила телевизор, попав – ну, разумеется – на новости.
– …расследование загадочных обстоятельств вчерашнего теракта, – уверенно бормотала миловидная дикторша лет на пять моложе Ады. – Со своими комментариями выступил первый помощник а теперь исполняющий обязанности президента Ян Сайровский… – Картинка сменилась и уверенный в себе пожилой человек с весело блестевшими глазами и гривой седых волос заговорил об уже известных Аде обстоятельствах дела. Она сделала звук погромче, потому что Арфов, возможно, еще не знал новостей, увлеченный проблемами в своей личной жизни. Да и сама хотела рассмотреть этого Яна Сайровского, угадать в его голосе, жестах, мимике обещание, что все будет хорошо, что все будет как раньше, что он тот же Горецкий, только на несколько лет моложе, что он готов вытащить страну из той катастрофы, в которую она неминуемо скатится без чуткого руководства, что он вовсе не допустит никаких катастроф. Аде почти удалось.
– Что ты об этом думаешь? – Спросила она Илью, когда началась пауза – из экрана полилась легкая музыка и улыбающиеся дети распевали патриотическую песню – рекламы на телевидении почти не осталось.
– А что я могу об этом думать? Сумасшедшая… или хуже – заговорщица, – он чуть побледнел, при мысли о том, что вчера произошло. – Лучше, если она просто больная – плохо если нет. Ты с ней вчера разговаривала, дольно долго, громко и… Ада, а что конкретно ты ей говорила?
Он вдруг поднялся, нервно потянулся к сигаретам, уже предвидя всевозможные осложнения, о которых она сама пока даже не могла догадаться. Но ведь это было его работой – предвидеть и лавировать… и то, что он ни слова не сказал о Сайровском, с которым так удачно поладил Дима, тоже о многом говорило.
– Не помню, – соврала она, пожав плечами. – Какие-то банальности, ну… соболезнования, я думаю.
Он постучал пальцами по подбородку, что всегда было признаком напряженной работы его мозга.
– И надо же было тебе… Так, слушай. Ты вспомни все, что ей говорила, а? Потому что сегодня после полудня Комиссия, а еще расследование будет. Нет, я не думаю, что ты имеешь к этому какое-то отношение, но не исключено, что тебя решат вызвать, а кто-то – ты же знаешь сколько у тебя доброжелателей – может придумать что-нибудь… колоритное. Сама понимаешь.
Она равнодушно пожала плечами, уверенная в своей лояльности. Ада никогда ни словом, ни делом не предавала их идеалы, она никогда даже не позволяла себе сомневаться в том, что делает Президент. Так чего ей опасаться в самой справедливой стране на свете?
– Думаю, ты зря беспокоишься. Даже если меня вызовут, все очень быстро разрешится. Я же ничего такого не делала.
– Ну да, ну да, – пробормотал он и замолчал, допивая кофе. Ей вдруг стало его жалко.
Это был единственный человек, которому она могла доверять – они так сильно зависели друг от друга. Когда-то, восемь лет назад он остался рядом с ней в самое тяжелое время, еще перед ее замужеством, после скандала, верил в нее, бегал по студиям, предлагая ее, защищая ее. Может быть, он просто жалел потраченных на нее сил, может, сыграла роль его интуиция – и действительно она принесла ему за это время такое количество денег, как ни одна другая актриса своему агенту. Но он остался верен ей тогда, и, какими бы ни были его мотивы, она это ценила. Если бы она не знала, что в глубине души он ее просто ненавидит за все неприятности, что она ему причинила, она могла бы даже полностью на него положиться. Но он то ли не отдавал себе отчета в этой ненависти, то ли просто не принимал ее в расчет, умело отделяя эмоции от работы. В любом случае, если бы он помогал ей тогда из чисто альтруистических соображений, она бы ему не доверяла. Она не привыкла считать, что людям от нее ничего не нужно.
– А что с Комиссией? – Спросила только для того, чтобы его отвлечь.
– Да, как обычно, придем и будем доказывать, что фильм не надо сокращать вдвое. Там претензии к хронометражу и паре эпизодов, один с тобой.
– Тот, что с монологом, или без белья? – С любопытством спросила она. Цензурный комитет временами был непредсказуем. То пропускал откровенно эротичные фильмы, то резал за простое появление на экране без бюстгальтера.
– С монологом, – он отмахнулся. – Нам не так уж важно, зарежут его или нет, но режиссер взбеленился. Считает это ключевым моментом твоей роли, я ему обещал помочь.
Она рассмеялась.
– Ключевой? Он дурак, я давно это говорила. В моих фильмах все ключевые эпизоды происходят в постели.
Она не могла не понимать, что критики – их было немного и с годами они звучали все тише – утверждавшие, что играет она из рук вон плохо, правы. Она, наверное, умела лучше. Но что играть? Что? Пустые пафосные страдания, обнажения, преувеличенные сентиментальные страсти? Она старалась, как могла. Но если в фильме не было мелодрамы и сцены, в которой она раздевалась, фильм проваливался в широком прокате.
Она хотела, и не раз хотела все бросить. Она скандалила, швырялась сценариями с очередной патриотической чушью один в один повторявшей ее первый, неимоверно успешный фильм, но Арфов всегда умудрялся ее переубедить. Он просто выжидал, когда она проорется, а потом напоминал о… о чем угодно. Что не обставлена квартира. Что она не снималась уже полгода. Что смерть ее мужа и то, как она ему изменяла, уже почти забыто. Что ее любит и хвалит сам Президент. Все шло в дело – угроза разорения, лесть, напоминание о триумфах – все ее болевые точки. И она не могла ему сопротивляться. Ведь это создал ее, сочинил от и до, превратил из миловидной, но обыкновенной девочки только что закончившей театральный в самую популярную молодую актрису в стране. Ада и ее на тот момент лучшая подруга Майя пришли к нему по рекомендации, положили локти на стол, выпрямили гибкие спины и сказали – мы хотим работать. И Арфов, немного посомневавшись, взял шефство над обеими, а спустя каких-то полгода Ада уже снималась, а Майя носила обручальное кольцо.
Он научил ее всему – как приручить камеру, как скандалить, как одеваться, как на пустом месте построить свою легенду, этот Пигмалион, конечно, имел власть над своей Галатеей, даже если иной раз она думала, что в их тандеме верховодит она. Она поддавалась на его уговоры раз за разом, а там уже включались правила, которые она сама не стала бы нарушать. Не сниматься полуобнаженной было нельзя – надо было постоянно доказывать – себе в первую очередь, – что ее тело все еще молодо и прекрасно. Стоит хоть раз отказаться и поползут слухи, что у нее обвисает грудь, что начались возрастные изменения, что она беременна, что неудачно сделала пластическую операцию, или еще какая-нибудь мерзость. И дублерши тут не помогут – вся страна знала расположение родинок на ее теле.
– Не говори так, – попросил Илья, морщась. Ее цинизм, кажется, задевал его. Но каждый раз именно он был тем, кто приносил ей сценарий и объяснял, почему ей опять нужно раздеться. С тех пор как кино стали создавать в рекордно короткие сроки, уделяя основное внимание спецэффектам, ее молодая, красивая плоть поднялась в цене. Людям время от времени хотелось отвлечься от компьютерных взрывов, прикоснуться к чему-то живому, теплому – например, к ней. Смутно Ада чувствовала, что некогда – когда-то давно – до революции в кинематографе произведенной компьютерными технологиями, ее место на киноолимпе было бы гораздо менее престижным – но каким, она представить себе не могла. Вроде бы то, что она делала, не было чистой воды порнографией, во всяком случае, это было порно классом выше того, что продолжали снимать на подпольных студиях. Не было это и искусством, поскольку привлечение зрителя вкусным – плотью, кровью или банальным сюжетным ходом – оставалось основой каждого сценария. Не было и просто развлечением, поскольку все ее фильмы носили ярко выраженный идеологический характер, и никто, она могла в этом поклясться, никто в их время не умел так, как она, блестеть глазами и завораживать интонациями, произнося бесконечные славословия в адрес их великой страны. Ее богатый интонациями голос как будто был создан для того, чтобы воспевать нечто высокое и прекрасное, и как говорил покойный ныне Президент, она сделала для идеологической борьбы столько, сколько и не снилось многим комитетам и комиссиям, созданным специально для этой цели. А это, как ни крути, многого стоило даже теперь, когда Горецкий умер, а она не так уж свежа, и ей все труднее повторять одно и то же, понимая, что зритель ждет не этих высокопарных слов, хотя и они идут в счет, а момента, когда она опять покажется на экране в прозрачной сорочке. Но спорить с Ильей Ада не стала.
Подъехал лифт, и вошла секретарша Арфова, высокая средних лет женщина, так туго стягивавшая саму себя, что, казалось, ей должно быть трудно дышать. Волосы на голове были гладкими, словно вылепленными из пластилина, а ее тело стиснуто жесткой блузой, узкой юбкой, старомодными туфлями. Она покосилась на них весьма определенно, вежливо поздоровалась, лишь слегка поджав губы, когда приветствовала Аду. Посмотрела на пятно кофе на полу и разбитую чашку и валяющийся поднос. Ада широко улыбнулась, видя ее тщательно стянутое в узел, зафиксированное негодование.
– Ну что, – как-то смутился Арфов. – Что-то мы засиделись здесь. Пойдем-ка лучше в кабинет. Нелли, дорогая, будь добра, принеси нам кофе и газеты.
Подхватив Аду, под руку, он торопливо нырнул в кабинет. Внутри она, уже не сдерживаясь, рассмеялась, прижавшись к двери спиной.
– И давно «Нелли-дорогая» стучит твоей жене?
Он резко вскинул голову, замялся.
– С чего ты взяла? Нелли? Да быть того не может…
Она пожала плечами с легкой улыбкой, чувствуя, что день начинает выныривать из пучины бессмысленности и ужаса, как все постепенно налаживается. Ада терпеть не могла эту сушеную сливу за какие-то давно не важные мелочи, и считала, что Арфова стоит избавить от ее общества. Так они и жили: он руководил ею, оставляя иллюзию свободного полета; она старалась влиять на всевозможные мелочи в его личной жизни, создавая у него ощущение, что она его союзница, а ее интуиции и чутье на людей – удивительно точны. Она прошлась по кабинету, мягко трогая кончиками пальцев все выступы – корешки папок и книг в изобилии заполнявших шкафы, закрывавшие все стены, угол его большого стола, стоявшего у окна, мягкую спинку кресла. Мечтательная улыбка плавала по ее губам.
Арфов молчал, делая вид, что занят, перебирал папки на столе. Но она видела, что он хорошенько задумался. Этот умный мужчина предпочитал не подпускать женщин слишком близко, зная, насколько они могут быть непредсказуемы, опасны, как они умеют все портить, не доверяя самому себе в отношениях с ними. Он не подпускал к себе женщин, но двух гадюк все же пригрел на груди – собственную жену и свою лучшую актрису.
Проходя мимо, она скользнула рукой по его плечу – он просто попался на ее пути, как до этого шкафы с книгами и угол стола, но надо же было именно в этот момент распахнуться двери и появиться секретарше. Ада постаралась не расхохотаться, заметив выражение лица сушеной сливы.
– Ваш кофе. Утренняя пресса, – отчеканила женщина, устанавливая поднос на маленьком кофейном столике, и быстро удалилась.
Илья порозовел.
– Думаешь, она? – Словно они и не прерывали разговор.
– Ну я не могу быть уверена. Но ты видел ее взгляд? Словно она и не удивилась, нет, скорее просто поймала жирную рыбку к обеду. Ее можно понять – раннее утро, офис выглядит так, словно ты в нем ночевал, но что здесь делаю я?
Она старалась не смеяться, но предательская улыбка все время прорывалась. Пару раз ей пришлось даже сделать паузу, глубоко вдохнуть – так ее разбирал смех.
– Ну да, да, – пробормотал он, листая принесенные газеты и, наконец, отбросив папку.
– Я, кстати, хочу расстаться с Димой, – сообщила, просто чтобы как-то его поддержать. Не каждый день приходится узнавать, что правая рука стучит твоей благоверной. Сообщила для него, не для себя, но внутри вдруг что-то расслабилось, словно разжался кулак, словно груз свалился с плеч. «Поговорю с ним вечером», – подумала. И глубоко вдохнула новый, сладкий воздух освобожденности, неокольцованности, но Арфов не проявил к новости должного интереса. Обычно он реагировал весьма бурно, называл ее разрывы – особенно с теми, кого считал неподходящей ей парой, а большинство ее романов именно такими и были – «отличной новостью и прямо с утра», заказывал шампанского, выслушивал ее жалобы и всячески поздравлял. Он считал, что для такой женщины, как она, в порядке вещей порхать от одного любовника к другому. И хотя, по его мнению, каждый следующий ее ухажер был значительно хуже предыдущего, сам факт того, что она котируется среди мужчин, вселял в него уверенность. Он каждый раз так реагировал на ее разрывы, что ей становилось легче поверить в то, что она не стареющая, никому не нужная актриса, не способная построить близких отношений и удержать возле себя мужчину. Видя его реакцию, она всегда могла считать себя роковой красавицей.
– О… а что случилось? – Довольно сдержанно отреагировал он, листая какую-то желтую газетенку в поисках сплетен о вчерашнем вечере. – Отрок понял, с кем связался? Или ты, наконец, решила послушать меня, твоего старого мудрого друга?
Она надулась, почувствовав себя обманутой. Он должен был поддержать ее, а вместо этого начал язвить. Она ненавидела, когда он намекал на возраст Димы – он-то уж точно был среди тех, кто обращал внимание на то, что она старше.
– Ты свинья. Ничего не буду тебе рассказывать.
Роль лучшей подружки Илье, этому стареющему, лысеющему, круглому и улыбчивому мужчине шла не так уж хорошо, но за годы, что они провели рядом, он выработал такую линию поведения, которая не унижала его мужского достоинства и одновременно оставляла ему право быть сплетником. Только сегодня эта тактика отчего-то его подводила.
– Извини. Ночь была ужасная, – пробормотал он, уставившись в газету. Отвечал он механически и почти ее не слушал. – Я тебя поздравляю. Он совершенно тебе не подходил. Ты у меня умница.
– Я у тебя дура, – вздохнула она, надеясь привлечь его внимание хотя бы старой шуткой. – Мне нужно было выйти замуж за тебя, пока была такая возможность.
– С ума сошла? – Вроде бы как обычно отреагировал он, не отрывая взгляда от статьи, но тут же зачем-то добавил. – Вельд был покрепче меня, но и его не хватило даже на год вашей совместной жизни.
Ада вспыхнула. Кто, как не он, знал, как обстояли дела на самом деле? Она же все – ну почти все! – ему рассказала. И, хотя она принимала его постоянную потребность на людях шутить по этому поводу, ненавязчиво напоминая всем, как именно ушел из жизни ее супруг, создавая и укрепляя ее репутацию женщины, приносящей любовникам счастье и смерть в одном флаконе – здесь, наедине, он мог бы сдержаться. Мог бы проявить такт, в конце концов.
Она резко отодвинулась от окна и подошла к нему с твердым намерением вырвать из его рук треклятую газетенку и сказать в глаза все, что она о нем думает. Потому что он потерял всякий стыд, разговаривал с ней так, словно она не была его трофеем, и кзался увлеченным какой-то статейкой больше, чем ее личной жизнью, которая, по ее мнению, должна была быть для него на первом месте.
– Да что там, наконец, та… – Она уже протянула руку, но тут ее взгляд наткнулся на страницу, которая так привлекла его внимание. Ада замерла.
Треть полосы занимала большая, четкая фотография, под которой красовалась короткая заметка, поясняющая кадр. На фотографии была Ада – никаких сомнений – ее лицо было повернуто к объективу и, судя по всему, она была без сознания. Ее расслабленное, но очень привлекательно получившееся на фото тело поддерживали чьи-то руки, словно ее только что подняли с пола. На заднем плане виднелись искаженные ужасом лица людей, осколки, кровь, но рассмотреть того, кто стоял с ней, было невозможно – в кадр попали только руки и край темного пиджака. Но она-то знала, внутри что-то странно екнуло. Внутри что-то вспыхнуло. Внутри загорелось – словно она перебрала с алкоголем или слишком глубоко затянулась сигаретой. И воздуха вдруг стало не хватать.
– Что…
– Ты еще почитай! – Он с отвращением оттолкнул газету, схватившись за голову. – Говорил же я тебе, что это все закончится плохо…
Он причитал, но она не слушала, погрузившись в чтение. Всего несколько строк сообщали о том, что вчера во время взрыва пострадали не только прекрасные люди, но и прекрасные женщины, которые, к счастью, всегда могут рассчитывать на помощь настоящих, героических мужчин. Ни единого слова о Германе не было сказано, не было даже намека, хотя фотограф, конечно, видел, кто именно держал Аду в руках, и едва ли скрыл это от редакции.
– Да что такого-то? – Она удивленно посмотрела на Илью, складывая газету так чтобы не помять фотографию и осторожно опуская ее в карман пальто. – Я неплохо получилась и ничего обидного не сказано… даже ни слова о том, что я там напилась как свинья.
– Ты точно с ним не… Нет, нет. Конечно, нет… Так.
Он словно бы и не заметил ее движения, не пошутил насчет ее клептомании, не поинтересовался, что именно она хочет сохранить на память о своем обмороке, и Ада, уже приготовившаяся как-то объяснять свой поступок, удовлетворенно выдохнула, села в кресло, вытянув ноги.
– Нам сегодня на Комиссию. А еще мы ищем для тебя новый фильм – сейчас это и без того нелегко, время смутное. А тут еще такие сплетни – и на этот раз… как думаешь, сколько людей видели твой обморок? А то, как я увел тебя из зала? А сколько из них заметили, что именно Бельке… Ада, Ада, Ада, – его маршрут пролегал рядом с креслом, куда она села, и он вдруг остановился, схватил ее за руки. – Скажи мне правду, скажи, ты оказалась там случайно? И с ним тебя ничего не связывает?
Он заглядывал ей в глаза, и она рассмеялась, нервно, потому что то, что он считал величайшей бедой, ей самой казалось волшебной сказкой. А в сказки ее отучили верить самым изощренным, самым мучительным способом, и она уже не собиралась попадаться на этот крючок. Одно дело мечтать о чем-то, фантазировать, успокаивая нервы, вызывая сон, а совсем другое, считать, что всему этому суждено осуществиться. Так не бывает. Он политик, он начальник службы охраны, он идеал, не человек, не мужчина. Он недостижим, как умершие легенды прошлого. Она стеснялась даже думать о нем, как о мужчине – чувствовала, что так далеко она даже фантазировать не имеет права. И их ничего не могло связывать. Поэтому она уверенно ответила – нет, конечно, что за глупости – а про себя твердо решила, что газету надо вытащить из кармана, только незаметно от Ильи, и оставить в офисе. Ни в коем случае не забирать с собой.
– Так, хорошо, хорошо. Потому что если что-то… ты же мне скажешь, девочка моя? Скажешь? – Он схватился за телефон, не дожидаясь ее ответа, и начал набирать чей-то номер.
– Алло, Гречин? Так соедините меня с ним немедленно! Что за люди… Привет, это Арфов. Ты видел, что твои напечатали о Фрейн? – Гаркнул он в трубку, и Ада сообразила, что он звонит редактору желтой газетенки.
– Нет, это ты послушай меня. Возьми газету. Взял? Открой ее на пятой полосе. Видишь фотографию? Смотри внимательно, да, да, – Арфов набрал в грудь воздуха, но сейчас он был слишком зол, чтобы бояться. – Как думаешь, кто этот мужчина на фото? Не знаешь? Что ты за редактор, мать твою! Так ты спроси своих остолопов, что они наделали… Нет, они слишком тупы. Что ты мне заливаешь… Хорошо, я тебе скажу. Это один особый человек. Да не в том дело, не женат он… Ну я подожду-подожду, давай.
Он обернулся к Аде, зажав рукой микрофон.
– Этот кретин даже не знал, кто на полном снимке, выпускающий обрезал фотографию, ну хоть у кого-то там есть подобие мозга, но только подобие, иначе бы они вовсе не стали бы печатать. Сейчас ему принесут оригиналы, посмотрим, как он запоет. А, да, я слушаю. Посмотрел? До тебя доходит. Нет? Как думаешь, что станет с твоей туалетной бумагой, если – когда – это попадет ему в руки? А с твоей тупой башкой?
Ада зажала рот рукой, восхищенно глядя на Арфова. Он сам в ужасе от перспективы связи между ней и начальником службы охраны, и тем не менее запугивает этим же своего обидчика. Он был умен, ее Арфов. Иногда ей казалось, что ей стоило бы у него кое-чему поучиться. Превратить угрозу себе в угрозу другому. Она чуть не зааплодировала.
– Да я понимаю, что уже не отозвать… Какое, к чертям, мужество, ты что, издеваешься? Опровержение… ну попробуй опровергнуть. Я посмотрю… придумай, что хочешь! Мне плевать, я тебя предупредил. Монтаж? Можно попробовать… «Раскрыта личность таинственного спасителя»… Да, неплохо, банально, но неплохо, домохозяйки будут в восто… что ты говоришь? А, верно. Позвони мне через полчаса, я скажу, кто нам подойдет. И ты же понимаешь, да, что теперь за тобой ржавеет?.. Я подумаю, но как минимум больше никаких публикаций об абортах и беременности – мы сообщим, если что, да. Тебе первому, да. Я перезвоню.
И Илья нажал отбой на телефоне так, словно швырнул перчатку в лицо обидчику.
– Ты прекрасен, – рассмеялась Ада. – Как же мне нравится, когда ты становишься таким вот бессовестным подонком.
Он кисло улыбнулся, все еще явно нервничая.
– Они хотят в следующем номере дать полную фотографию с монтажом, так что… Дима там будет уместнее всего смотреться, я полагаю. Вас давно видят вместе, он нравится Сайровскому, подает надежды и все такое прочее.
Ее словно ударили в живот.
– Подожди, но я же решила…
– Я помню. Извини, Ада, но сейчас не время для мелодрам. Как мне ни неприятно это говорить, но я тебе запрещаю. Он будет на завтрашних фотографиях. В общем, сейчас ты не имеешь права его бросать. Это все. А теперь иди, погуляй, выпей кофе, смирись с продолжением своего романа, – он посмотрел на часы. – Мы через полтора часа выезжаем.
Когда Арфов начинал высказываться в таком тоне, спорить с ним было бесполезно. Шутовство слетало с него как листья с деревьев поздней осенью, и он, фактически, оставлял собеседнику два выхода – сделать то, что от того требовалось, или отправляться в самостоятельное плавание с разными, но всегда предполагаемо неприятными последствиями. Для Ады вопроса о том, чтобы плыть самой, не стояло – она просто не знала, как это делается. Когда-то, много лет назад он взял над ней шефство и с тех пор был настолько незаменим, что она и представить себе не могла своей жизни без его руководства. Хуже того, его почти абсолютное чутье на время и на людей, позволяло ему с удивительной точностью просчитывать ситуации и извлекать из них максимальную пользу. Ада знала, ее успех во многом, конечно, определялся ее внешностью и талантом, частично зависел от удачного стечения обстоятельств, но самый значительный вклад в построение ее карьеры вложил Илья Арфов. И если он начинал говорить таким тоном, придется его послушаться, хотя все внутри у нее и рвалось от негодования. Она даже не знала, что бесит ее больше – то, что ей придется тянуть моментально ставшие ненавистными отношения, или то, что героический поступок Германа теперь припишут скучному Диме. А ведь он, ей почему-то стало так казаться, не был способен ни на что героическое даже в рамках собственной профессии.
Ада устроилась в приемной, в самом углу, схватила какой-то журнал, бездумно листала его, пила кофе, завтракала приготовленными «дорогой Нелли» тостами, едва ли утешаясь тем, что той уже недолго работать на Илью. Она по точному выражению своего агента пыталась смириться со своим романом, с тем, что придется так скоро встретиться с Димой, придется видеть его каждый день, каждую ночь, придется быть милой, позировать для фотографов и изображать счастье. Разумеется, Арфов раздует из этой ерунды сладкую любовную историю, и нужно уже сейчас подумать о том, как остановить его. Иначе он, разогнавшись, действительно, может выдать ее замуж, а ей останется только хлопать глазами и удивляться, как ловко ему удалось все провернуть. Иногда Ада забывалась, иногда становилась излишне самоуверенной, но с Арфовым так нельзя, с ним всегда нужно было держаться настороже. Ее же предупреждали.
Давным-давно, словно в прошлой жизни, когда она только закончила театральный и несколько месяцев пробегала совершенно без толку по разным конторам, пытаясь найти себе работу, согласная сниматься уже не то, что в рекламе, а даже в порнографии, она, отчаявшаяся, пришла к дяде за помощью. Он был известным ученым, обласканным властью экономистом, с удивительной скоростью создававший научные труды в нужном стране духе, профессором и очень уважаемым человеком. Именно к нему, единственному оставшемуся у нее родственнику, Ада переехала в тринадцать лет, когда отец умер, а мать начала вести себя настолько вызывающе, что не нужно было быть доктором, чтобы понять, что ей нужна скорая психиатрическая помощь или она окажется под арестом. У Ады был небольшой выбор – социальный приют с потенциальной возможностью усыновления приближавшейся к нулю или родственники отца, и она предпочла Столицу, где ее приняли без особого восторга. У дяди и его пожилой, вечно всем недовольной жены не было собственных детей и, Ада подозревала, опеку над ней они согласились взять только для того, чтобы не платить налог на стерильность. Она жила в их большой и красивой квартире тенью, ходила в школу и ела за общим столом, но никто и никогда не интересовался ни ее планами на жизнь, ни ее друзьями, которыми ей, девочке из провинции, так трудно было обзавестись, ни ее проблемами. Они не беспокоили ее, она старалась отвечать тем же. Инстинктом кошки чувствовала всю шаткость своего положения в этом доме – чуть что, и ее отправят в приют, потому что у этих людей, которые превыше всего ценили свой комфорт, не было к ней никакой привязанности. Казалось, они каждый миг подсчитывают, не обходится ли им содержание племянницы дороже, чем налог, не прогадали ли они, не портит ли она своим присутствием их стерильно-правильный образ жизни. Именно тогда она научилась играть, улыбаться, когда хочется рыдать, скрывать каждое искреннее душевное движение, потому что, если позволить этим движениям жить и развиваться, они приведут только к истерике, к скандалу, который заставит попрощаться с красивым домом, Столицей и надежной когда-нибудь чего-нибудь добиться. Это желание представлять из себя что-нибудь значительное заставляло ее хорошо учиться и мечтать о большем. Когда после окончания школы с отличием, Ада заявила, что собирается поступать в театральный, дядя и его жена просто пожали плечами, договорились с ней о том содержании, которое будут выплачивать до достижения ею совершеннолетия, и распрощались на несколько лет. Они были недовольны, она это чувствовала, и не собирались позволять ей дальше жить в их доме, а ее это даже не обидело. Они не верили в нее, но она была благодарна за главное – они не стали ей мешать.
Ада поселилась в общежитии, где ей тоже особенно никто не интересовался, мало ли красивых девочек мечтают стать актрисами, и хотя она поступила без особенных проблем и учеба не представляла трудностей, она довольно быстро поняла, что на киноолимп ей не пробиться. Слишком невыразителен был ее талант, слишком призрачны связи, слишком стандартна внешность симпатичной девочки. А еще мешало, и это тяготило больше всего, ее воспитание, не позволявшее ей даже на секунду представить, что она начнет обольщать и соблазнять, отдаваться ради попадания в кинобизнес. У нее были поклонники, были приятели и приятельницы, но от всех она тщательно скрывала эту свою неспособность переступить через принципы. Она вовсе не была зубастой в то время, и почти не верила в себя. Ее поддерживало только то, что мимолетные романы никогда не оставляли пятен на ее репутации и подпалин в душе. А потом появилась Майя – высокая блондина с роскошными темными глазами лани и породистыми чертами лица. Иногда они смотрели на себя в зеркала, стоя рядом и обнявшись, и смеялись тому, как удивительно они похожи. Разные мастью, они своими классически красивыми чертами лица и фигур напоминали друг друга как родные сестры. Не то это внешнее сходство, не то полная противоположность их натур очень сблизили их. Ада, импульсивная, порой резкая и до ужаса романтичная, и Майя, холодная, циничная и крайне сдержанная – их даже называли девочки-шоколад, белый, молочный, такими близкими они казались. Они помогали друг другу ставить цели и подпитывались друг от друга энергией, необходимой для достижения желаемого. Они учились в одной группе одному и тому же – и обе подавали одинаково смутные надежды, обе не имели понятия о том, как пробиться наверх. Но если Ада, склонная то видеть все в черном цвете, то очаровываться верой в сказочно-счастливые финалы, больше времени уделяла беготне по кастингам, стараясь обаянием произвести нужное впечатление, то Майя, хотя и ходила вместе с подругой, гораздо больше времени тратила на составление Плана. Ада никогда не слушала длинных размышлений подруги и мало внимания обращала на накапливаемую той информацию о режиссерах, проектах, актерах и агентах. В какой-то момент именно Майя предложила Аде сходить к ее дяде, попросить его помощи, и хотя та отнекивалась и твердила, что это унижение будет абсолютно бесполезным, Майя знала – профессорский круг общения хоть и включает в себя очень ограниченное число представителей искусства, – но обращение к ему все же дает им шанс. По математически точному подсчету блондинки, этот шанс был не настолько мал, чтобы не пытаться.
Лучше одно унижение, чем порнография, решилась Ада однажды. И пошла, и встретила презрительный, умный взгляд серо-голубых, почти таких же, как у нее, глаз. Ей было холодно в его теплом кабинете и горько от того, что он говорил своим хорошо поставленным голосом профессионального лектора.
– Мне не нравится род деятельности, который ты для себя выбрала, – сказал он, потом отвел взгляд и продолжил своим ровным тоном, глядя куда-то в сторону высокого книжного шкафа, в котором, она могла поклясться, никогда не стояло ни одной запрещенной книги. – И еще больше мне не нравится то, что, зная об этом, ты приходишь просить помощи. Я даже не знаю, что хуже, если ты опустишься до самого дна или если прославишься, запятнав фамилию ученых, инженеров и учителей своей мерзкой карьерой.
Он был известен своей нелюбовью к богеме, и к этому моменту, сгорая от унижения, Ада уже готова была проклясть все на свете и сбежать. Но стояла на месте, судорожно стиснув зубы, потому что, кроме всего прочего, она была еще очень молода и очень наивна. Чудеса бывают, думала она, сказки могут ожить, и кто больше меня достоин того, чтобы волшебство пришло? И оно пришло. После паузы, которая была и вполовину не так тяжела, как его отповеди, дядя продолжил:
– Однако ты мне родная кровь, и я знаю, твой отец был бы доволен, он всегда отличался эксцентричностью. Так что, к несчастью, я могу тебе помочь. Есть один человек, я его не люблю, он меня тоже, но не признать, что он профессионал, я не могу. Я позвоню ему. Он не работает со звездами первой величины и не имеет успеха, но я уверен, вскоре его добьется. С его-то отвратительными моральными качествами и хваткой уличного торгаша. Я сделаю это еще по одной причине, кроме озвученных.
Сердце тогда забилось так громко, что она, кажется, едва ли могла расслышать его слова. Он может помочь, он поможет! А остальное, эта унизительная сцена, эта поза просительницы, это некрасивое пальтецо, которое он так презрительно окинул взглядом, хотя она старалась одеться как можно элегантнее к их встрече – разве это все имеет значение? Она готова была слушать и дальше, целый день так простоять, хотя ее и начинало жечь нетерпение от его всегда неторопливой манеры говорить и объяснять каждое свое слово.
– Он, насколько я знаю, никогда не пользуется доверием женщин, с которыми работает. Ты взрослая девочка и должна понимать, что я имею в виду. К тому же ты, к моему удивлению, еще и красивая девочка, хотя совершенно не умеешь это подать. Но в любом случае то, что ты красивая девочка, делает крайне важным, чтобы человек, от которого ты будешь зависеть, не пользовался тобой… в неблагородных целях. Арфову же, несмотря на всю его аморальность, я бы доверил собственную дочь, если бы она у меня была и оказалась так глупа и безрассудна, что решила бы пробоваться в шоубизнесе. К счастью, дочери у меня нет.
Она знала, нужно молчать, смотреть благодарно, и она молчала и смотрела, бедный воробышек, в этой роли в ее-то двадцать с небольшим лет ей не было равных. Это позже она станет элегантной женщиной, покорительницей сердец, а тогда она была – трогательное создание, тополиный пух, ребенок в развившемся теле… тем более, что дяде именно такой нужно было ее видеть, чтобы не заподозрить в аморальном поведении и не отказать с порога.
– Но прежде, чем я дам тебе его номер телефона у меня будет к тебе условие – ты больше никогда не придешь ко мне с подобными просьбами. И за деньгами тоже. Я бы хотел также, чтобы ты взяла псевдоним. Я не могу заставить тебя, но ожидаю, что твое уважение ко мне и твоей тете подскажут тебе, как поступить. Конечно, в случае твоих маловероятных удач, журналисты все равно узнают о твоей настоящей фамилии, однако вероятность этого настолько мала, что я хочу быть хотя бы спокоен насчет того, что фамилию нашей семьи не будут писать в титрах фильмов для взрослых.
Если бы он знал, как близка она была от этого, подумала. Если бы только догадывался… но ее прямой, честный, серо-фиолетовый взгляд был прозрачен и простодушен. Может быть, она все равно на такое не решилась бы, ведь не могла же она, в самом деле, предать свое существо. Если вдуматься, только расчетливая холодность и стремительность Майи все еще заставляли Аду пытаться, идти по скользкому льду.
– И еще одно, – напоследок прибавил он, проницательно глядя на нее. Ада ежилась, неужели еще какие-то условия? Она и так собиралась нарушить одно из установленных им правил, не собиралась брать никаких псевдонимов. Это фамилия не только ее дяди и его скучной как осенний дождь жены. Это ее фамилия, это фамилия ее отца, так и не достигшего известности. Дядя не имел права претендовать на право распоряжаться судьбой всей семьи, тем более, что это именно он много лет назад оставил родного брата без поддержки.
Но профессор заговорил о другом. Как будто хотел ей добра. Он ее предупредил:
– Илья Арфов хитрая бестия. Никогда не пытайся его надуть.
– В каком смысле? – Голос прозвучал хрипло, так долго она молчала. Но тут не удержалась – перебивать его во время лекции не стоило, но тут уже речь шла о важных вещах, о том, что ей понадобится, если она собирается действительно обращаться к этому Арфову.
– В любом. Не ври ему, не обольщай его, не играй с ним и не думай, что ты умнее. Он может показаться круглым дураком, шутом при встрече с тобой, но это далеко не так. Он видит насквозь людей, которые хотят, чтобы он с ними работал, особенно женщин и особенно молодых. Играй как можешь хорошо, если ты вообще на это способна, производи на него впечатление своими талантами, если они у тебя есть, но не думай, что тебе удастся ввести его в заблуждение, очаровать или провести. Если из тебя может выйти толк, он и так это увидит, если нет, то ваши женские штучки тебе не помогут.
Много лет спустя Ада убедилась, что это было одной из самых точных характеристик ее агента, которую она когда-либо слышала. Но и сейчас ей иногда казалось, что она может обмануть Илью, запутать, и порой, очень редко, ей это действительно удавалось. А тогда они с Майей и не думали о том, чтобы диктовать условия. Они понеслись, ослепленные мотыльки, девочки – молочный шоколад, белый шоколад – полетели на огонек, окрыленные мечтой. Они пришли к нему вместе, чуть ли не держась за руки, потому что, несмотря на всю свою браваду и веру, были напуганы перспективой жизни, которую он мог открыть им.
И тогда же в их дружбе возникла первая трещинка, незаметная постороннему взгляду. Ада не могла простить Майе, что ей пришлось пойти на поклон к дяде, хотя это и было в их общих интересах, и в качестве компенсации не стала рассказывать о последнем предупреждении. В конце концов, это могло быть глупостью, это могло быть неправдой, думала, зачем Майе эти сложности. Тем более, что, если блондинка что-то решит, ее едва ли остановит какое-то там предупреждение. А Ада верила дяде. Хотела верить потому, что мысль о том, чтобы отдаваться за роль, все еще казалась ей нестерпимо мерзкой. И еще потому, что это давало ей, более скованной и более застенчивой, чем Майя, хоть призрачный, но козырь в войне, которая еще не была объявлена, но постепенно назревала.
***
В Объединенной Евразии, самой демократичной из стран земного шара, разумеется, не могло существовать никакой цензуры. Никому не было запрещено думать, говорить, писать или снимать что угодно, но ровно до тех пор, пока снятое, написанное, сказанное или даже подуманное не ставило под угрозу существование государства. Это было логично и справедливо, никто никогда не возмущался. Свобода твоего носа заканчивается там, и так далее и тому подобное. Никто уже не помнил, в какой момент оказалось, что сохранность государства зависит от столь многих вещей.
Ада Фрейн никогда не ставила под сомнение справедливость существования Комиссии, оценивающей, насколько тот или иной фильм будет способствовать распространению таких чудесных и нужных вещей как патриотизм, вера в главенство закона, любовь к искусству, уважение к естественным потребностям человеческого существа. Она знала, что такое заблуждения – знала на примере собственного отца, который всю жизнь прожил ни с кем, кроме родного брата, не поспорив и, тем не менее, стал автором запрещенной книги. Знала по опыту матери, ничем и никогда не интересовавшейся, кроме собственного мужа, и, тем не менее, сошедшей с ума и начавшей вести антиправительственную пропаганду. Да и собственные ошибки учили многому. Быть настоящим, преданным гражданином оказалось тяжелым трудом, ежедневным подвигом по обузданию собственных заблуждений и прихотей. Искусство призвано было помогать в этом подвиге, а не мешать, но хаос, из которого оно рождалось, нуждался в контроле сверху. Для того и нужны были комиссии, комитеты, советники, служба охраны, Арфов, наконец. Ада знала, что такое поддаваться собственным прихотям и капризам, знала, как далеко это все может завести, боялась этого и понимала – самое страшное, что никто не может доверять самому себе.
Она ехала молча в его машине, думала, как жить дальше. Он был прав, она чувствовала, он так редко ошибался, и нужно поверить ему, и нужно сделать, как он требует, пусть это и трудно и неприятно. Но она же не возмущается, когда режут фильмы с ее участием, она же не сомневается, что после работы Комиссии ее творчество становится лучше, а не хуже. Чем же так отличается ее личная жизнь, которую кроил и правил на свой вкус ее агент? Ведь что-то же она нашла в этом Диме, когда начала с ним встречаться, значит, снова что-то найдет в нем, значит, снова сумеет влюбиться в него. А если не выйдет, то она же актриса, она справится, а долго это не может продлится. Мир сошел с ума, мир осиротел, растерялся немного, но так не может продолжаться, все вот-вот наладится, станет по-прежнему, и тогда она снова станет прежней и сможет сама выбирать, кого любить, с кем встречаться, и Арфов будет только ворчать, но не противиться. А пока этот тяжелый, переходный период и нужно проявить благоразумие, нужно быть послушной. Бедняга Илья, каково-то ему приходится? Он столько лет плел свою паутину, проникал в самые закрытые комитеты, пил с самыми высокопоставленными людьми – и все ради нее. А теперь нити, глядишь, вот-вот порвутся, все держится только на привычке, но она слабый заслон перед новыми амбициозными девицами и новыми агрессивными политиками. Нужно затаиться, нужно выждать, твердила себе она, и хорошо, что рядом Дима, а не, скажем, Вельд, ведь последний, в отличие от первого внушал ей не скуку, а самый настоящий ужас. А кто может лучше ее нынешнего кавалера предоставить убежище, болото, в котором можно спрятаться, переждать? Она уговаривала себя, она повторяла раз за разом, что Арфов все знает лучше, глядя на его плечо над передним сидением, но все равно отчего-то ныло внутри отвращение. И отчаяние, если разобраться.
Они выехали заранее, а пробки – какое смешное слово из забытого прошлого – исчезли и, она надеялась, больше никогда не повторятся. Вчерашняя толкотня на дороге была словно символом беспорядка, который уже четвертый день властвовал в стране. Подспудно набирал силы и крушил потихоньку, исподволь все связи, которые установились между людьми. Эпоха перемен, переходный период, вспоминались какие-то формулы, но, что они означали, она только теперь начинала понимать по-настоящему.
Даже Комиссия, внешне сохранявшая привычную форму, внутри как-то размякла, словно продавливалась – только пальцем коснись. Вроде бы сидели все те же, уже привычные строгие лица все за теми же длинными белыми столами, все так же пили свою минеральную воду, все так же перекладывали из одной стопки в другую бумаги – то сценарий фильма, то смету, то какую-то еще документацию. Все так же мелькали черные машинописные буквы, исчерченные красными чернилами, все так же поднимались до спора голоса, пронзительные – женщин, глубокие – мужчин, все так же смотрели глаза, большинство из-за стекол очков, и она наблюдала эту картину уже очень много лет, так что знала весь этот ритуал наизусть, но сегодня в нем что-то шло не так.
В начале ее карьеры ей всегда приходилось отбиваться от обвинений и вопросов, и она, даже улыбаясь, даже пробуя шутить, чувствовала себя глубоко виноватой. Словно она сделала что-то плохое, хотя чаще всего она просто выполняла распоряжения режиссеров, предписания одобренного этими же комиссиями сценария или указания собственного агента. Но фильмы походили друг на друга как близнецы, и претензии всегда были примерно одинаковыми. Когда-то ей пришлось пройти немало таких комиссий – сначала перед пробами на роль, потом при согласовании сценария. Позже, когда она завоевала любовь руководства страны и приносила стабильный успех почти любой картине, ее участие в подобных обсуждениях свелось к минимуму, ей начали доверять. Арфов теперь брал ее с собой только в случае, когда нужно было, чтобы ее репутация, сияющая улыбка или почтительно-униженно обхождение повлияли на какой-нибудь спорный момент. В этих вопросах она всегда доверяла ему абсолютно, все равно спустя годы, так и не смогла разобраться во всех тонкостях. Ей было непонятно, почему одно слово считалось удачным и патриотическим, а другое – порождающим сомнения, а потому подлежащим устранению. Со временем ее начало даже развлекать подобное времяпрепровождение.
Она вдруг вспомнила себя на одном из первых таких собраний, когда еще тряслась от ужаса, а Арфов говорил и говорил, а она улыбалась, сияя глазами – от испуга, от сознания торжественности момента, от веры в то, что эти люди, неотличимые один от другого, знают так много, судят так верно. Она тогда произвела хорошее впечатление, Арфов одобрительно кивал, и она взяла этот взгляд на вооружение и уже не ходила на подобные встречи неподготовленной. Как-то инстинктивно сразу нашла верный тон, правильную дозу восхищения, лести, ужаса и сознания собственной безусловной неидеальности. Она правильно почувствовала, что должна быть перед ними виноватой, ведь если все сделать слишком хорошо, зачем нужна будет комиссия, что будут делать все эти люди, которые за годы так сроднились со своими белыми столами, что Ада иногда, искоса, по-детски опускала глаза, смотрела под столы, пыталась убедить себя, что у них есть ноги, что они не вросли в свои белые кресла. Опущенные глаза тоже нравились комиссии. А она была – такая молодая, такая свежая, просто разрывающаяся от желания играть и счастья, что ей предоставлена возможность, переполненная неизрасходованными запасами любви. Это спустя годы в ней что-то стерлось, и энтузиазм превратился в маску, в привычную роль, выученную так хорошо, что она не требовала никаких усилий. Да и зритель всегда привыкает, подумала, к актеру. Если год за годом смотреть один и тот же спектакль, то невольно начнешь помогать исполнителю там, где он от скуки начнет недорабатывать. Она любила комиссии за то, что они видели в ней всю ту же девчонку, переполненную глупостью и свежестью. С ними она вспоминала, как тогда одним взглядом, тягучим, тлеющим взглядом в камеру могла заставить сердца биться чаще. Он и сейчас был при ней, но из него исчезла прелесть находки. Годы словно выветрили из нее что-то, оставив голый остов, скелет ее существа. И наполнялась эта форма сплошной ерундой. Помимо своей воли она запоминала все, что слышала и уж тем более говорила. За последние годы она услышала и произнесла столько чепухи, что, кажется, и сама превратилась в чепуху.
А тогда, впервые, все было по-другому, тогда слова, срывавшиеся с ее губ, были новыми, словно только что придуманными, только что сотворенными, ее голос звучал новорожденным. Ее азарт и энтузиазм были не наигранными. Они и сейчас оставались такими, конечно же, напомнила она себе. Ее вера, ее патриотизм при ней, и нет никакой необходимости сомневаться в них. Но лицезрение собственного мужа, запачкавшего своей кровью и мозгами ковер в гостиной, многое меняет в мировосприятии женщины. Хотя было бы несправедливо считать, что в ее опустошенности, выскобленности виноват только Вельд.
Машина шла ровно, не отвлечься, Арфов молчал, напряженный, в ожидании тяжелого дня – это ей только и нужно, что улыбаться и быть милой, а ему придется биться за режиссера, за фильм, за их общее счастливое грядущее, и она даже посочувствовала ему. Молчал экран – по телевизору только крутили раз за разом кадры взрыва, кадры похорон, кадры торжественного вечера, объявление о том, что Сайровский назначен исполняющим обязанности, и снова кадры взрыв, кадры похорон… Ничего нового не сообщалось, Ада знала, почему. Разве готово общество узнать, что дочь Первого президента – рехнувшаяся старуха – пожертвовала собственной жизнью и искалечила столько людей? Искалечила и жизнь Ады, если вдуматься, но думать об этом не хотелось. Она все уговаривала себя – Дима не так уж плох. А потом вдруг вспоминала его облик, как он трогал ее волосы, как был самонадеян, как критиковал Германа, позволял себе сомневаться в службе охраны, и ей становилась невыносима сама мысль о том, что она теперь у него в заложниках. И подумала – надо было рвать раньше, пока он не заразил ее этой своей насмешливой глупостью. Пока она могла не беспокоиться хотя бы о том, что происходит вокруг. Пока ее уверенность непоколебима. Знала, как легко начать заблуждаться – и не хотела этого, но теперь, как теперь быть?
А Герман Бельке в ее воображении постепенно приобретал все больше черт, контрастировавших с Димой, он демонстрировал уверенность не в себе, а в своем деле, и за эту уверенность она была ему благодарна. Сама не заметила, как получилось, что она думала о нем – так часто, почти каждая вторая мысль – о нем. Но мысль чистая, простая, сияющая в своей платоничности. Так ей казалось. Мысль стерильная. Ее охватывала дрожь, но она списывала это на восторг.
Так они и хороводили в ее голове, мужчины. Один мертвый, другой недостижимый, третий – раздражающий. Неужели и правда, что женщина только и думает, что о мужчинах, а больше ни на что она не годна? Ада не знала.
Они вышли из машины, не потрудившись ее закрыть – укоренилась привычка. Угонов было слишком мало, чтобы об этом беспокоиться. Неожиданное появление у кого-то такой роскоши, как электромобиль, немедленно привело бы в действие закон соседского глаза, кто-нибудь обязательно сообщил бы в полицию, моментально угонщик был бы пойман. И хотя сейчас мир сходил с ума от неизвестности – привычки и заученные жесты придавали всему видимость порядка. «Прошлое надежно законсервировано в нас. Мы сами – наша демократия», – мелькнуло в голове, но Ада не стала развивать эту мысль. Сейчас стоило немного собраться, чтобы не подвести Илью, и, может быть, умаслить его этим, чтобы он подумал еще раз, вспомнил, как сам смеялся над «ее доктором», отказался от своего плана.
Они прошли по длинному коридору, в конце которого маячила сутулая фигура режиссера, нервно теребившего в руках какие-то бумаги. На его еще молодом лице было написано нервное возбуждение – и Ада поняла, что для него это, возможно, первое подобное собрание. Вспомнила даже – его первый серьезный фильм. Ей не понравилось с ним работать – скучно – но в целом, он был неплохом руководителем. Не мешал ей играть, как она хотела, не портил настроение, требуя, чтобы она делала все, что он скажет. Даже с пониманием отнесся к ее отказу раздеваться полностью и позволил прикрывать правую грудь волосами и ночнушкой – а то и локтем. А для нее это маленькая победа многое значило – оставлять хоть что-то для себя, хоть клеточку своего тела – это было роскошью, которую она не так часто могла себе позволить. Она давно не была той застенчивой девочкой, которая верила, что секс для карьеры – это страшный проступок, которая была напичкана устаревшими принципами, но маленькие девочки ведь никогда никуда не исчезают. Каждая женщина знает – все, что она делает, на самом деле, оценивается и переживается маленькой девочкой, живущей внутри.
– Здравствуйте, – нервно промямлил режиссер, кивнув Аде и посмотрев на нее с некоторым страхом. Она улыбнулась – в этом и состояла ее миссия здесь, разве не так? Улыбаться, щебетать… краем глаза она заметила, что и Илья преобразился из надутого властелина ее судьбы в смешного, полнеющего человечка с отменным чувством юмора и крайне гибкой спиной.
– Доброе утро. Слышали новости? Все произошло так неожиданно, – она принялась поправлять волосы, рассматривать свое отражение в маленьком зеркальце, словно по мановению волшебной палочки, оказавшемуся в руке, хлопать ресницами. Играла роль красивой женщины, озабоченной только своей красотой, очаровательно глупой и пустой. «Мы все – это просто наши привычки. Все будет хорошо, – подумала. – Мы так привыкли жить спокойно, что вскоре все придет в норму. Поправится, обязательно».
Вошли гуськом в открывшуюся дверь, поздоровались с каждым из шести членов комиссии – кое с кем даже довольно нежно. Трое мужчин, трое женщин – в серых, невыразительных костюмах, средний возраст около пятидесяти. И еще хороший знак, что шестеро. Фильм, который стоило зарезать, рассматривал обычно один человек, максимум двое. И едва ли в присутствии актрисы и режиссера. Директор картины запаздывал, но его ждать не стали.
Расселись, началось обсуждение сцен, всех сцен, отмечали удачи, и через несколько минут Ада заскучала. Сидела, откинувшись на высокую спинку жесткого стула и время от времени строила глазки, когда тон обсуждения становился уж больно горячим. Слова она старалась не слушать – не хотела запоминать очередную порцию ерунды. Зато по интонациям слышала, когда стоит вступить в игру, а когда – притихнуть. Сидела, думала ни о чем, а на лице в это время держалось выражение внимательного участия и интереса. Спустя какое-то время она вдруг осознала, что рассматривает одну из женщин – высокую, моложавую, моложе, чем остальные члены комиссии. Она была некрасива – тяжелый подбородок, слишком сухопарая фигура, но явно следила за собой и – как это Ада сразу не заметила? – чем-то отличалась от остальных членов комиссии. На ее лице было написано не плохо скрываемое равнодушие, не скука, а высасывающий душу интерес. Она цеплялась взглядом как обезьяна пальцами, она искала в их лицах что-то, известное только ей, говорила мало и явно не симпатизировала их компании. Ей все равно, осенило Аду, что я самая знаменитая актриса в Евразии, ей наплевать на мою лояльность и на то, что мои фильмы любит президент… любил президент.
Аде стало вдруг неуютно. Во взгляде, в позе, в редких, но неприятных вопросах этой женщины скрывалось то, чего Ада боялась больше всего. Словно кот, добравшийся до сметаны, словно паук, поймавший муху, она смотрела и, казалось, она много лет ждала этого шанса. «Больше меня никто и ничто не защищает», – вдруг поняла Ада. Только Арфов, но и он этой гадине не противник. «Она ненавидит меня», – поняла Ада. – «Нет, хуже. Она меня не любит».
– Вам не кажется, что специфика настоящего момента делает фильм несколько неуместным? – Подала голос женщина, и он прозвучал в наступившей мгновенно тишине как-то уж очень вкрадчиво.
– Прошу прощения? – Опешил режиссер.
– Вся страна переживает тяжелейшую утрату, все мы ищем в себе силы справиться с горем, а в это время вы создаете фильм, переполненный пессимистическими настроениями и тревогой.
– Но я полагал, что катарсис…
– А вы, – обратилась она вдруг к Аде, и та застыла. Она так давно не удостаивалась вопросов комиссии, что уже и забыла, как и что отвечать. Внутренне она взмолилась, чтобы Арфов пришел на помощь, но не могла даже бросить ему взгляд с просьбой о поддержке, змеиные глаза женщины словно загипнотизировали ее. – Вы полагаете, что в сложившихся обстоятельствах уместно выпускать фильм, затрагивающий тему смерти и страданий?
– Я, на самом деле… – Ада просто не понимала, что от нее хотят, и это наполняло ее существо такой паникой, что слова отказывались срываться с губ, даже слова привычные, затверженные. – Этот монолог ближе к финалу, он…
– Монолог хороший, – отрезала женщина, и Ада, отмерев, успела уловить, как просиял режиссер, больше всего боявшийся, что сократят кульминацию, как подобрался Арфов. Из своих источников он узнал, каковы будут претензии к фильму и не слишком беспокоился. Но то ли источники соврали, то ли все успело измениться. Ада могла поклясться, что верно последнее.
– Сам по себе монолог – это лучшее, что есть в этом фильме. Он патриотичен, несет на себе отпечаток наших традиций, напоминает о ваших прежних ролях и вызывает светлую надежду на будущее, – комиссия тоже притихла. Шеи укорачивались, головы втягивались в плечи, как у древних, неподвижных черепах, и только женщина с твердым подбородком недобро сверкала глазами, вытягиваясь, словно змея, обвивающая Аде грудь. – Но почему вы произносите его так безжизненно, где подъем? Где вера в то, что вы говорите? Я наблюдала за вами много лет, и мне всегда казалось, что ваша уверенность в нашем светлом будущем непоколебима. А теперь я этого не вижу – если вы не верите в наши идеалы сами, как в это поверят ваши зрители? Может быть, последние события как-то повлияли на вашу оценку действительности? Может быть, вам нужен отпуск? И вы уже не способны заниматься своим делом с должным усердием?
В горле пересохло. Черепахи шептались, мысленно шептались, они думали одинаково и одновременно, за столько лет научились, и Ада будто слышала, что они говорят друг другу на тайном, телепатичском черепашьем языке – что женщина права, что сама Ада уже постарела, что она не так свежа, не так искренна, как была когда-то. Что ее страстные слова уже не так легко срываются с губ, что из глаз исчез прежний блеск. Что нет в ней ни веры, ни сил, а значит, судьба ее – второстепенные роли стареющих мамаш во второсортных фильмах, и некому было ее защитить, некому было прийти на помощь. Раньше ее охраняло имя президента, а теперь…а теперь она вдруг почувствовала, как сильно зависела от этого человека, и как много потеряла с его смертью. Арфов молчал, Ада сжалась а своем стуле, чувствуя себя, действительно, недостаточно юной, недостаточно страстной. И самое смешное, она была уверена, что ее последний фильм ничуть не хуже предыдущего, а точнее, ничем не отличается от него. Но изменился мир, ушел покровитель, и все стало другим.
Ее пробрал холод, и она поежилась, закутываясь в пальто плотнее, и рука скользнула в карман, нащупав сегодняшнюю утреннюю газету, и вдруг она поняла, что происходит, словно дешевая бумага подсказала ей ключ. Ей нужно было срочно доказать, что она не устаревает, что у нее еще будут покровители, что она верна, сильна, лояльна. Это фотография придала ей сил, и, прежде чем заговорить, она прикрыла глаза, прощаясь. То, что было поставлено на карту, важнее ее воздушных замков, то, о чем шла речь, стоило того, чтобы терпеть Диму, да и не только Диму, кого угодно в своей постели. Но как же больно было самой, собственными руками разрушать последнюю преграду. Она надеялась умаслить Илью, глупая. Теперь это будет бесполезно, но…оно того стоит.
– Да, я думаю… я была очень расстроена в последний месяц, на съемках не могла собраться, – это было ложью, ложью, ложью, но она прибавила во взгляд покаяния, прибавила трогательности в голос. Играла, как никогда на экране, играла хорошо. – Мой жених, он работал одним из ассистентов лечащего врача первого президента, как-то обмолвился, что здоровье нашего дорогого лидера не так блестяще. И я предалась постыдному унынию. Я сознаю свою ошибку сейчас и думаю, я могла бы все исправить, пересняться, если…
– Ваш жених, – неопределенно протянула женщина, и Ада подняла на нее глаза, пытаясь вызывать симпатию. Бесполезно, конечно. – Мы не слышали ничего о вашей помолвке.
– Да, мы хотели проверить свои чувства и не афишировали, но вчерашний вечер… – Внутри загудели трубы, забили барабаны, внутри рвалось и рвалось ее искреннее чувство, неоформленное, как зародыш, которого еще не назовешь даже ребенком, просто комочек, но уже почти живой. Оно мучилось там, внутри, корчилось, преданное, то, что могло бы стать чем-то таким всеобъемлющим, таким живым, если бы дать ему вырасти, чистое-чистое, какого, она вдруг поняла, она никогда не испытывала. Ее глупая романтичность была с ней все эти годы, и теперь так больно убивать собственными руками мечту. Но мечта о рыцарях и реальность – эти вещи в жизни Ады никогда не хотели идти рука об руку, нужно было выбирать. – Вчера он проявил себя настоящим героем, вы знаете, я же была на балконе, очень близко и… – Она чуть закатала рукав, показывая порез, который сегодня выглядел совсем шуточным, но она же была знаменита своей эксцентричностью, пусть репутация поработает на нее. – И мы решили объявить об этом официально. Знаете, несмотря ни на что, мне кажется, это самый счастливый день моей жизни, и я с оптимизмом смотрю в будущее, – все было в порядке, она попала в струю, забытые слова вернулись к ней, и эту чушь она могла нести часами, и глаза, как по команде, заблестели, улыбка тронула губы, спина выпрямилась. И даже Ада не знала точно, что этот блеск в глазах – счастье или слезы.
Комиссия взяла перерыв для того, чтобы обсудить ситуацию.
Она курила, глядя в окно на пустой, бело-стальной город в полуденном свете. Слезы тихо текли по щекам, и Арфов, остановившийся за ее спиной, молчал. Ей было все равно.
– Теперь все, да? – Наконец, не выдеражала она. Странно, как все меняется, еще вчера она думала, что Дима вполне ей подходит, дразнила им Илью, а теперь чувствовала, будто совершила самую страшную ошибку в своей жизни. И он, и мысли о нем были невыносимы. Выйти замуж после того, что случилось с Вельдом, было само по себе тяжело. Но невозможность потом развестись – она уже проходила через это – пугала в тысячу раз сильнее. Придется заводить детей, придется с ним жить – и навеки она в этой ловушке, пока не состарится настолько, что всем будет все равно. Но ведь и ей будет все равно, и как это жутко – именно сейчас.
– Успокойся. Пока ничего не произошло, жених еще не муж, и все может обойтись. Но ты молодец. Даже я лучше не придумал бы, а так у них аргументов не осталось, влюбленная женщина по определению полна энтузиазма, а Дима еще и известен тем, как хорошо к нему относится Сайровский, так что тут тоже все…
– Я не хочу замуж, – она вдруг зарыдала, как маленькая девочка, обернулась к нему. Уткнулась куда-то ему в плечо, хотя он был ниже, и это было так неудобно, скинула каблуки, плакала, плакала. – Ни за кого, а тем более за него, но что я еще могла сделать, что я могла сделать, Илья, они думают, что я уже ни на что не способна…
– Тихо, тихо. Теперь ты должна лучиться от счастья, помнишь? Какое там не способна, сыграно-то было как нотам, я даже заволновался, чуть не поверил, что ты и впрямь в него влюбилась, – он попытался пошутить, но добился только еще большего потока слез, и тогда обнял ее. – Не надо плакать. Мы что-нибудь придумаем. Мы обязательно что-нибудь придумаем. Ты только теперь не забудь заставить его сделать тебе предложение.
– Он уже делал.
– Тогда пусть сделает снова, а ты ответь, что нужно ответить. И хватит реветь! Нас того и гляди позовут обратно.
***
За эти годы Арфов хорошо научил ее многому, но лучше всего, пожалуй, тому, что нужно изо всех сил держаться за то, чего она добилась. Год за годом он объяснял ей, как тяжел путь наверх и как быстро можно сорваться, год за годом она сомневалась, спорила, рисковала, скандалила, но в итоге поняла, что он прав. Было бы ей двадцать пять, хотя бы тридцать лет, она, может быть, еще повоевала бы, ведь когда-то переживала и худшее, но ей было уже тридцать три и через несколько месяцев станет еще больше, и Ада чувствовала – сил на еще один подъем у нее уже не осталось. Вроде бы мелочь, эта Комиссия, подумаешь, какая-то партийная зараза с холодными глазами засомневалась в ней, но она сама так мало верила в свою способность не сгибаться под ударами судьбы, что даже это маленькое сомнение требовало решительного отпора. Ада не хотела стареть, не хотела выходить в тираж, не хотела даже не потому, что ее тщеславие оказалось бы слишком уж уязвленным, но и потому что ее до паники, до белеющих щек пугала возможность оказаться выброшенной. Она не представляла себе жизни без съемок, без скандалов, без того образа, который создавала годами.
Она думала об этом, прихорашиваясь перед зеркалом, разглядывая себя критически. Мир любил свежее мясо, ему нужна юная плоть, и она, сколько могла, старалась давать ему желаемое, даже рискуя быть обглоданной до костей. Но слишком много лет, слишком давно длился этот жестокий танец, чтобы она не понимала – так вечно продолжаться не будет. И все же хотелось длить и длить эти мгновения славы, осмысленности жизни, хотелось оставить навсегда все таким, как оно есть. И она привычно наносила на кожу питающие крема, привычно рисовала стрелки в уголках своих роскошных глаз, привычно собирала волосы в сложную прическу, надевала откровенные, эксклюзивные платья и высокие каблуки, готовилась порхать, хотя на душе у нее висел камень, гнувший ее плечи к земле.
Когда осчастливленный положительным вердиктом комиссии («при условии внесения поправок и доработки следующих эпизодов: …, фильм «Метущаяся душа» допущен к прокату на территории Объединенной Евразии»), режиссер предложил отпраздновать это событие, Ада, уже успокоенная, уже приготовившаяся выдержать этот бой, даже не думала отказываться. Впервые в жизни ей придется играть роль счастливой женщины, играть двадцать четыре часа в сутки, и она решила, что сможет, что это не самая трудная актерская задача, ведь она много лет именно к этому и готовилась, разве нет? И она поторопилась домой, щебеча в телефонную трубку, позвала Диму в ресторан, стоически выдержала известие о том, что Арфов придет с женой, а режиссер с подругой. Женщины куда строже мужчин, подумала, тщательно оправляя свое новое платье, эффектное сочетание густого черного цвета и алых полос вдоль лифа, подчеркивающих грудь и талию, уходящее в пол, дразнящее разрезом юбки чуть ли не до бедра, чтобы желающие полюбоваться ее ногами имели время от времени такую возможность. Маскировалась, наряжалась дольше, чем перед выходом на сцену, тщательнее, ведь на сцене спасают софиты и отделенность, отрезанность от зрителя, а здесь придется сидеть с ними на расстоянии вытянутой руки и только бы не соврать, только не сорваться. Внутри у нее, словно шок от анестезии, все замерзло, замерло, и она поклялась себе – это были последние слезы, хватит, теперь надо быть разумнее, теперь надо быть осторожнее. Не было ее вины в том, что все случилось, как случилось, умер президент, его вина, не ее, но теперь ей никто, кроме нее самой, помочь не может. И она готова была себе помогать.
Ресторан назывался «Парижанин» и поражал роскошью, казавшейся ненормальной, почти извращенной в их стерильно-геометрическом городе. Переполненный предметами прошлого и позапрошлого веков, он весь был словно напоминание о тревожном, мятущемся времени, которое простым людям полагалось забыть и отринуть. Но созданный специально для видных партийных функционеров, священнослужителей, ученой элиты и, если вдруг удавалось достать разрешение, некоторых представителей искусства, он словно огромный корабль плыл по серому городу, подчиняясь только своим внутренним законам. Здесь всегда подавали лучший алкоголь, и никогда не было недостатка в деликатесах, которые считались вредным для здоровья граждан излишеством. «Простая пища для простых людей», говаривали самые известные люди страны в рекламных роликах, продвигаясь с тележкой по одному из самых обычных супермаркетов, где можно было приобрести лишь синтетические аналоги натуральных продуктов, которые и составляли основной рацион всех жителей Евразии. А потом приходили ужинать в «Парижанин» или подобный ему закрытый ресторан, где даже официанты, как Аде иногда казалось, были членами партии, если не работниками службы охраны. Но с другой стороны, те, кто жертвовал стране так многим, имели право время от времени побаловать себя – в небольших количествах, разумеется – особенно питательными блюдами, особенно вкусным вином. И она, отдавшая, как ей казалось, часть собственной души, могла позволить себе такую прихоть.
О том, как достать разрешения, должна была болеть голова Арфова, не ее, и Илья, едва она обмолвилась об этом желании, не стал спорить. Она выглядела такой подавленной в машине, что он начинал опасаться, выдержит ли, но этот каприз давал надежду. Ада знала, что поставлено на карту, и если она готова в этот же вечер сунуться в осиное гнездо и показать всем, как она счастлива со своим женихом – тем лучше. Она чувствовала, он думает именно так, и сама думала об этом же, и снова они вошли в один ритм, бились синхронно, не портили друг другу кровь и строили свое, одно на двоих, процветание.
Дима ждал у входа, галантно подал ей руку, помогая выйти из электромобиля, поддержал под локоть. Она смотрела на него, благодаря каблукам чуть ли не сверху вниз, смотрела ласково и лукаво, с поволокой и нежностью, со всем, с чем и должна смотреть влюбленная женщина на своего мужчину. Вспоминала, как это – видеть в нем не катастрофу, не занудного очкарика, не отвратительно самодовольное ничтожество, а своего господина и повелителя. И Дима верил ее игре, она замечала это по смягчившемуся рисунку его губ, по чуть дрожащей ладони, по трогательной заботе, которую она ощущала в нем и от которой больше всего на свете хотелось сбежать. Но бежать было некуда, и она, мягко прижавшись к нему, шествовала ко входу в ресторан, как на свою персональную Голгофу.
Арфов умудрился добыть для них столик в самом центре зала, где их яркая компания сразу бросалась в глаза. Режиссер, похоже, был здесь впервые, а уж о его подружке, несколько вульгарной девице лет двадцати с небольшим, и говорить не приходилось, но они были лишь статистами, и Ада быстро потеряла к ним интерес. Эта парочка, похоже, даже не понимала, что пропускает, восторженно перешептываясь и обсуждая убранство «Парижанина», вышколенность обслуги, а затем вкус и сервировку каждого блюда. Когда поутих их первый восторг, они заметили других посетителей ресторана, каждый из которых был известен всей стране в том или ином качестве, и восхищение забурлило с новой силой. Девица, правда, некоторое время пыталась привлечь внимание Ады и навязаться ей в подруги, но быстро оставила эту затею, наткнувшись на мягкий взгляд и пару ядовитых реплик. Ничего, утешится, думала Ада, раздраженно делая глоток белого вина, заказанного к ужину, не забывая улыбаться и сиять глазами. Здесь и так для нее впечатлений на всю жизнь, и совсем я не обязана с ней общаться.
Майя Арфова – совсем другое дело. В этой ухоженной, красивой женщине с грустно опущенными уголками губ, Ада едва узнавала свою прежнюю подругу, хотя и вынуждена была признать, что выглядит та даже лучше, чем в молодости. С годами в ней появилась стать и уверенность, а холодность пряталась теперь только в уголках глаз. Они обе изменились, импульсивность Ады уравновесилась опытом, расчетливость Майи научила последнюю играть скандалы и истерики. «В конечном итоге, мы с тобой похожи», – передала Ада мысленное послание Майе, чуть улыбнулась, ядовито, а та ответила точно таким же взглядом и почти такой же улыбкой. Чувствовалось, что блондинка торжествует – ну еще бы, Илья, наверняка все рассказал своей жене, и она думает, что теперь-то будет восстановлена справедливость. Ведь Аде тоже грозит брак с нелюбимым мужчиной, от которого никогда и никак она не сможет отвязаться.
«Ты сама этого хотела, помнишь, ты сама этого добивалась?» – годы, как оказалось, ничего не изменили, и они все еще могли читать мысли друг друга, поддерживая ничего не значащий, светский разговор и поглаживать руки своих кавалеров, одного окольцованного, другого – пока нет. Майя презрительно кривилась, но Ада знала, что права. Тогда, много лет назад, это Майя затеяла нечестную игру, это Майя принялась обольщать их агента.
Когда они пришли к нему вместе и с обеими он согласился работать, он первое время не разделял их, настолько они казались подходящими друг другу, сыгранными не общими работами, а ролями подруг, которые давались им так естественно. Он не выделял ни из них, Ада чувствовала это очень хорошо, общался с ними подчеркнуто вежливо и, действительно, не пытался, по старомодному выражению ее дяди, воспользоваться их доверием. Он просто искал для них фильм.
И однажды, случилось, запускалась новая картина, но вот беда, нужна была только одна актриса, молодая и яркая, и, хотя роль, которая была совсем небольшой в первоначальном сценарии, не представляла собой ничего выдающегося, она все же прокладывала дорогу в кинематограф, не через постель, не через порнографию. Неделями Майя и Ада атаковали Илью вопросом, кого из них он предпочтет, не впрямую, конечно, но он декодировал их зашифрованные взгляды, распутывал завуалированные намеки и все тянул, тянул с ответом. Сценарий чем-то не понравился комиссии, его переписывали, Арфов молчал, хотя они обе точно знали, что у него есть определенные договоренности на их счет, что одна из них непременно – если, конечно, на очередном этапе переработки сценария роль не вырежут полностью, – будет играть. Но кто? Блондинка с ее ледяным лицом, темными глазами лани и породой, читавшейся в каждом жесте? Брюнетка с копной каштановых волос, к которым так пойдет черно-алая гамма планировавшегося фильма? Они обе, он понял это сразу, справились бы с его заданием, каждая по-своему, но обе, безусловно, успешно. Одна привнесла бы в фильм сдержанного интеллекта, другая эмоциональной сексуальности, но и тот и другой вариант мог оказаться выигрышным. И тогда Майя совершила ошибку.
Ада видела, как зарождалась эта связь, как подруга, не объявив войны, не предупредив ее, начала играть свою звездную роль, ту, которой суждено было стать ее последней. Майя тоже умела смотреть с поволокой, тоже умела улыбаться не заискивающе, как они привыкли, а тепло, сердечно. И она обрушила всю силу своего обаяния на Илью Арфова, невысокого, смешного человека, не обласканного особенным вниманием женщин, за исключением его собственных начинающих актрис. На несчастного Илью Арфова, полнеющего, лысеющего, умного и одинокого, как перст. Кусая от злости губы, бессильно, Ада смотрела, как Майя подвигала локоть ближе к его локтю, поворачивала голое колено куда-то в сторону его паха, как она стремилась сесть непременно рядом с ним. А ведь ради этого, ей, Аде пришлось идти к дяде, пришлось унижаться, и разве не договаривались они – не вслух, конечно, но внутренне, как только умеют женщины, разве не создавали они женскую дружбу, ведьминский союз, чтобы выиграть вместе или вместе же проиграть? И можно было бы попробовать вступить в эту игру, можно было начать те же пассы, что подруга, но время было упущено – Илья уже розовел, когда Майя входила в комнату, уже искал ее глазами – да и собственные принципы держали закованной не хуже средневековой брони. Но она помнила слова своего дяди, верила ему. Ада оставалась корректной, дружелюбной, лишенной какого бы то ни было интереса к Илье, как к мужчине.
Вскоре Майя и Илья уже могли часами болтать на веранде, потягивая коктейли, о них поползли слухи, и как-то незаметно они стали уходить вместе вечером, приезжать вместе утром, а проклятый сценарий все переписывали и переписывали, и Ада теряла последнюю надежду, что когда-нибудь она станет актрисой. Майя завладела телом, сердцем и кошельком их агента, он серьезно влюбился в нее, но зачем-то все тянул с ответом, все не решался назвать имя, и, не сдержавшись, Майя принялась давить.
Ада рыдала на их свадьбе, на которую была приглашена одна из немногих в качестве лучшей подруги невесты. Стоя в уголке, никому не нужная, она с завистью смотрела на белое платье, на сияющего жениха и считала себя самой несчастной дурой на свете. Отгремел гимн, и в гостиной сгустилось так много людей, лиц и имен, казавшихся смутно знакомыми по кинобинесу. Она думала, надо не сдаваться, начать новую игру, пусть этот случай упущен, пусть Арфов окручен, пусть она осталась одна, но вино на свадьбе хорошее, она все так же свежа и молода и есть другие агенты и будут другие фильмы, может, именно сейчас своим унынием она отпугивает шанс… Она тогда совсем не умела пить. Ада охотилась – вот это пожилой, седеющий мужчина, кажется, смотрел на нее с интересом, но как тут поймешь, чего в этом интересе больше – сексуального влечения или внимания профессионала? И есть ли разница в этом чертовом мире? Пока выходило, что разницы нет никакой, Майя одержала победу, а ей оставалось только потягивать вино и ненавидеть себя за проигрыш.
Кто-то тронул ее за локоть и она, обернувшись, увидела счастливого жениха. Тот серьезно смотрел на нее своими бледно-голубыми глазами решительного человека. Когда он вот так собирался, от его очарования не оставалось ни следа. Он казался очень жестким, он казался совершенно не околдованным своей невестой, стоящей в другом углу комнаты и обворожительно улыбавшейся гостям.
– Скучаете?
– Наоборот, я в восторге, в полном восторге. Он так невыносим, что я даже боюсь его не вынести. Я бы, кажется, сейчас могла бы расцарапать кому-нибудь лицо или взорваться от счастья, – сообщила она, чувствуя, что ее словоохотливость – результат воздействия вина.
– Постарайтесь сдержаться, здесь слишком много нужных вам людей, – хохотнув, сообщил он, глядя на нее с интересом. Она почти слышала, как в его мозгу происходит какой-то процесс. Решение, должно быть, он уже принял, естественно принял, и сейчас подводил баланс. Наверняка просто проверяет, что она такое и кто она такая, что он теряет, ставя на роль Майю, и Аде сделалось невыносимо душно.
– Постараюсь, – сухо кивнула она, порываясь уйти. Глупая идея была приходить на эту свадьбу. Разве мало Майе ее торжества, разве нужно еще проходить через это унижение?
– Не пейте больше, и у вас это получится куда легче, – посоветовал он. – Тем более, что утром вам нужно будет хорошо выглядеть. Да, кстати, завтра в офисе в девять, не опаздывайте. Будем обсуждать поправки в сценарий «Ангела», с учетом ваших особенностей. Он пока не готов полностью, но кое-какие ваши сцены решено начать снимать со следующего понедельника.
Он отошел. Обескураженная, Ада стояла столбом, сжимая в руке бокал с вином. Кажется, у нее даже приоткрылся рот, отвисла челюсть, как называла это ее мама, всегда шлепая ее по подбородку в таких случаях. Не могла поверить – неужели он отказывает своей молодой жене ради нее? Как, когда, почему?
И только спустя годы, во время какой-то пьяной вечеринки, после скандала с женой, Илья признался ей, как, почему и когда.
– Ада, ты у меня редкая дурочка. Ну, неужели я мог бы позволить своей жене играть в этом фильме, разгуливать в одном белье, обниматься со всеми этими красавцами на камеру? Моей молодой жене, которую во мне интересовала только возможность сделать карьеру и мой кошелек? Чтобы она начала мне изменять сразу же? Чтобы ее выходки погубили мою карьеру – а ей только сделали имя? Чтобы она стала той, кем стала ты? Не смеши меня.
Только спустя годы она поняла. Арфов не спал со своими актрисами и жениться на актрисе тоже не собирался. В тот момент, когда Майя затащила его в постель, она перестала быть для него проектом. На ее карьере был поставлен крест, а сама Ада взлетела вверх, как воздушный шарик, подхваченный ветром.
И сейчас она смотрела на него, на своего агента-хранителя, на его жену из-за кромки бокала с белым вином, смотрела и думала, кто же в итоге выиграл от их с Майей войны, кто победил? Ведь не было в жизни Ады ни одного дня, когда она не спросила бы себя – а может, лучше вот так, семья, муж, который любит, который умен, успешен, могли бы быть дети даже, и никакой тяжелой работы притворщицы, никаких душевных бурь, но все такие же дорогие шляпки, такие же яркие наряды? Ей ведь теперь тоже это грозило, хотя Дима никогда не настаивал на том, чтобы она отказалась от своей карьеры. Но может начать настаивать, кто знает, что скрывает его запертая черепная коробка, о чем он думает, чего хочет. Ведь не может человек состоять только из самодовольства.
Не отрывая взгляда от Арфова, шутя в ответ на какую-то несмешную шутку режиссера, она переплела свои пальцы с пальцами Димы, подумала – здесь могло бы быть обручальное кольцо. А Майя смотрела просто, зло, словно говорила – «зато у тебя есть, зачем жить, за что бороться, а у меня ничего, кроме этого мерзкого скромного женского счастья, в котором насильно запер меня муж. И твое лицо с каждого плаката напоминает о том, что я проиграла».
***
А потом Ада подняла взгляд за плечо сидевшей напротив соперницы и увидела его. Улыбка застряла на губах, и сердце пропустило удар, а потом затрепетало где-то в горле, и кровь прилила к щекам, и она с силой сжала руку Димы, так что он слегка удивленно посмотрел на нее, но это уже не имело никакого значения.
Он сидел там, совсем недалеко, вполоборота, не смотрел в их сторону, но она вдруг ощутила – видит. Он выглядел почти так же как вчера – это было только вчера, а кажется, прошло уже невероятно много лет с того момента, как их взгляды встретились там, на балконе, в ее голове прошло уже много лет, она уже навоображала себе о нем столько, что хватило бы на долгую совместную жизнь. И вот он, совсем рядом, из плоти и крови, вот что-то сказал своему собеседнику, вот поднял стоявший перед ним стакан с водой, сделал глоток, она видела так хорошо, так четко, как заходило его горло. Он усмехнулся, оттянулись мышцы, блеснули зубы, неприятная, фальшивая усмешка, она-то знала в них толк, поправил полу пиджака, что-то ответил.
– Ада, что такое? Тебе нехорошо?
Она не слушала, она смотрела только на него – вот поднялся, простым движением, чуть повернул голову, свет и тень мазанули по его щеке, и она вдруг поймала его взгляд.
– Да, что-то я не очень…
Уже отвернулся, неужели уходит, подумала, но как же так, нет, никаких рукопожатий, а ведь он бы попрощался, и его собеседник еще и не думал подниматься, вероятно, он еще побудет здесь, может быть, полчаса, час, и она будет вот так же смотреть, но…
– Не очень хорошо себя чувствую.
– Может быть, поедем домой? – Дима пытался заглянуть в глаза, эта его отвратительная привычка все контролировать, ощупывать пульс, мерить давление, врываться в ее святая святых, под кожу, будто в душу влезает. Покачала головой, стараясь следить взглядом, порывисто поднялась.
– Нет, нет, я сейчас…
И выпущенным из пращи Давида камнем полетела, не разбирая дороги, не понимая цели, туда, в маленький коридор, ведущий в дамскую комнату, куда и он отправился, и какая же глупость, только подростки так делают, что еще за блажь – подкарауливать возле туалета, но ей было все равно. Ей уже давно не к лицу быть смешной, но она не хотела об этом думать. Главное, коридорчик, ведущий к туалетам, прикрыт занавеской, а за ней – дверь, и их не видно будет из общего зала, главное, она сможет шепнуть ему что-то, нет, даже не шепнуть, а просто пройти рядом, может быть, коснуться плечом ткани его пиджака, вдохнуть его запах, ощутить себя снова не в клетке, но в безопасности. Занавеска качнулась, она замерла в пустоте коридора, но вот он вышел из-за угла, с сигаретой в руке и какой-то странной, ровной улыбкой на губах, улыбкой, не затрагивавшей его глаз.
– Здравствуйте, – он собирался пройти мимо – ровно, холодно.
– Я хотела поблагодарить вас, – голос прозвучал хрипло, и она почувствовала, что говорит не то, не о том, ведь у них всего пара мгновений, и нет времени даже понять, чего она сама-то ждала от этой встречи.
– Это мой долг, – равнодушно ответил он, а потом добавил как-то отстраненно и одновременно испытующе глядя на нее. – Вас, я слышал, можно поздравить?
Внутри что-то оборвалось, и она почему-то сразу подумала – как быстро он обо всем узнал, и еще ему, может быть, неприятно, что то, что сделал он, приписано другому.
– Я не хотела… – И надеялась, что он поймет, ведь не могут эти глаза-рентгены не видеть, как она рвется, какой запутанной себя чувствует. – Вы не сердитесь? Так вышло, я была против, я говорила, но разве меня кто-нибудь слушает?
Почувствовала себя маленькой девочкой, и он вдруг напомнил ей отца, тот порой смотрел так же – тепло и немного рассеянно.
– Нет, конечно, я не сержусь.
– Вы мне жизнь спасли, – серьезно сообщила, пытаясь объяснить ему, как она благодарна не то за его прощение, не то за его взгляд, не то за то, что было на балконе. А может быть, за то, что она почувствовала себя живой только в тот момент, когда он оттолкнул ее, когда защитил. – Это несправедливо, и мне хочется, чтобы все знали, что это сделали вы и то, как я вам…как я вами…
– Зачем эта шумиха? Мне достаточно того, что вы сказали, – сухо отозвался он, и она вдруг потянулась, всем своим существом устремилась к нему, и ощутила всю двусмысленность момента. Они словно скрывающиеся любовники, а он так ровен, так равнодушен, словно не красивая женщина рядом с ним, ищет его взгляда, его одобрения, его восхищения, а бесполый манекен.
– Вам пора. Иначе ваш друг начнет волноваться, – словно пощечиной ответил на ее непроизвольный движение – прижаться, прильнуть, спрятаться в нем от всего на свете – и открыл дверь. – Идите же. Мы еще поговорим.
Краска прилила к ее щекам, стало стыдно, так стыдно своего порыва, что она вышла без слов, разве что чуть кивнув напоследок, и вернулась к столику и села и улыбнулась Диме, и старалась больше не смотреть в его сторону, и поклялась себе больше никогда не смотреть в его сторону, но где-то внутри нее кошка проснулась, сощурилась, и охотница выгнула спину, спросила себя – не из металла же он, не из стали, есть же брешь в его превосходной броне, что-то же должно тронуть его, но что? Вот как тогда на балконе, когда он бросился к ней, в его мертвых глазах был же такой живой страх, и когда он увидел ее в коридоре, не удивление, не тень ли живого чувства мелькнула в глазах?
Он растает, решила, он обязан растаять, он обязан проникнуться, ведь он еще не стар, и я не так уродлива, он будет еще смотреть на меня, с тревогой, с живым чувством, я найду брешь в его панцире, подцеплю острым коготком и вытащу наружу его живое, горячее сердце, и он будет, обязательно будет – я не знаю, как и когда, но я уверена – он будет… Но даже внутри себя не могла закончить эту мысль.
***
Было ли когда-нибудь по-другому? Она знала – но не решалась помнить. Признавая только то, что твердили день за днем официальные источники, она и не хотела находить несостыковки. Ада родилась в мире, который стремительно менялся, но заметила это только в тринадцать лет – со смертью отца. До того она жила в тихой, уютной, затхлой безопасности родительского крова. Это был Старый Город, старая жизнь, с узкими – таких сейчас и не увидишь нигде – тихими улицами, неровными, почти дикими парками, буйной природой по весне, травой и разбитыми тротуарами. Там, в детстве, была маленькая даже с высоты ее детского роста, квартира с кухней, гостиной, где она спала, родительской комнатой и кабинетом, где как медведь в берлоге прятался ее отец.
Там, в детстве, были редкие прогулки и постоянные таблетки – она много болела и нечасто выходила на улицу. Там, в детстве, была постоянная тяжесть в груди, кашель, вечно усталая, красивая мама, тонкая как струна, изможденная своими домашними обязанностями и работой в школе – она трудилась учительницей начальных классов. Мама уходила с утра на работу, оставляя их с отцом в волшебном мире бесконечных пыльных шкафов и тишины. Папа давал Аде в руки толстую книгу – и неважно были там картинки или нет – оставлял сидеть в гостиной, а сам запирался в кабинете. Шуметь было нельзя – она помнила – папа работал. Историк по профессии, он занимался общим анализом первой половины двадцать первого века, включая историю литературы, войн и религий. Никто и никогда не знал, с чего ее отец взял, что кому-то нужен такой научный труд, но вся семья жила в священном трепете перед важностью этой работы.
Изредка ей разрешалось заглянуть в кабинет с условием ничего там не трогать и вести себя тихо – и она очень любила эти моменты. Сидела, смирно сложив руки на сдвинутых коленках, и во все глаза смотрела на большого, склонившегося над своими бумагами отца, на складки и морщины на его огромном лице, на то, как его светлые глаза бегали от строчки к строчке и как иногда лицо его вдруг вспыхивало радостью, восторгом, преображая усталую старость.
Она рано научилась читать и глотала все книги подряд – все те случайные книги, которые он давал ей. Он не тратил время на выбор для нее чтения, подходящего ей по возрасту, и в ее маленькой голове перемешивались причудливо страшный мир Оруэлла и усталая прелесть Пруста, детские сказки и саркастичность Бальзака, детективы Конан Дойля и древнегреческие мифы. Она как губка впитывала слова и строчки, запоминая все, что читала, и почти ничего из прочитанного не понимала. Она любила книги, в которых не знала половину слов – ей казалось, что она творит волшебство. Ее гибкая детская память позволяла узнавать сложные слова, встречая их из книги в книгу, даже не понимая смысла. Ее пытливый ум через несколько лет позволил самой догадаться о смысле прочитанного. А еще она запоминала – каждое слово, каждую запятую, каждую мысль – и поначалу ей не приходило в голову, что в этой способности есть нечто выдающееся. Она помнила себя чуть ли не с младенчества, особенно то, что люди говорили, стоя рядом с ней, еще ничего не понимающим младенцем, но воспоминания оставались расплывчатыми. Печатное слово она запоминала без искажений.
Мама приходила поздно – ей приходилось брать учеников, потому что нужно было кормить семью, хотя детям в начальной школе дополнительные занятия почти не требовались. Домой она никогда учеников не водила, чтобы не мешать своему больному ребенку и погруженному в научный труд мужу. Ада никогда не задавалась вопросом, кто из них – она или ее отец – на самом деле был причиной такого решения, кому она боялась помешать в первую очередь, потому что, фактически, это значило спросить: «мама, а кого ты любишь больше?» А она боялась услышать ответ.
Ада помнила, что мама обожала отца. Она никогда не роптала на то, что его не финансируемая научная работа поставила семью на самую грань нищеты. Она восхищалась его умом, и считала, что, когда его труд будет закончен, вся семья будет вознаграждена за годы лишений. И даже несмотря на то, что вознаграждение все откладывалось и откладывалось, она тихо и верно выполняла свои обязанности ни разу – насколько помнила Ада – не теряла надежды. Кажется, даже если бы его труд никогда бы не был оценен, это не поколебало бы ее тихой, почти фанатичной веры. Она положила свою жизнь на алтарь, и спустя много лет Ада иногда задумывалась – в те редкие моменты, когда вспомнила свое детство – как же сильно она похожа на мать. Они обе пытались найти себе идола, чтобы поклоняться ему. Матери повезло, а Аде нет – вот и вся разница.
Когда пришло время Аде идти в школу, против этого резко выступил отец, повергая мать в полное отчаяние. Она приняла это с тем стоическим мужеством, которое было свойственно ее характеру, но часто Ада видела ужас в глазах матери, ужас и холодное, невыносимое отчаяние. Отец был непреклонен, хотя обычно он не вмешивался в воспитание дочери. Он утверждал, что дома сможет научить девочку всему, что нужно, а чему не сможет – то ей объяснят приходящие учителя. Это стало бы еще одной статьей расходов для едва сводившей концы с концами семьи, но он не желал слушать возражений. Он так упорствовал, что даже пригрозил бросить свою работу и найти заработок. Мать была поражена настолько, что тут же бросила споры. И только взгляд, который она с тех пор то и дело бросала на дочь говорил о том, кого именно она винит в произошедшем. Домашнее обучение получилось скомканным и односторонним – Ада прекрасна знала литературу, чуть хуже историю, а вот с естественными и точными науками все было гораздо сложнее. Приглашенные учителя находили ее способной, даже слишком способной. Она задавала вопросы, на которые эти провинциальные менторы не имели ответов. Врать и выкручиваться не имело смысла, раздражающе хорошая память девочки позволяла ей проверять информацию в книгах и том, что осталось от всемирной паутины ко второй половине двадцать первого века. А когда находила, что учителя ошиблись или соврали, считала своим долгом им об этом сообщить. Спорить с ней было бесполезно, объяснять, что она все не так поняла – тем более. Она могла слово в слово повторить все сказанное учителем. Ее феноменальная память в семье воспринималась как нечто само собой разумеющееся, и скорее вызывала беспокойство, чем являлась поводом для гордости. Память в Объединенной Евразии никогда не считалась особенным достоинством.
Однажды, когда ей было лет семь, Ада, нарушая все правила, поздно вечером постучалась в кабинет отца, напуганная, заплаканная.
– Папа, – всхлипывая, она подошла к отцу, который недовольно оторвавшись от своей работы, вопросительно смотрел на тонкокостного, бледного ребенка. Мгновение и недовольство на его лице вытеснила жалость, и Ада всхлипнула громче, проверяя эффект.
– Да, милая, – тихо отозвался он, отодвигая бумаги, и притягивая ее к себе.– Что случилось?
– Дядя в телевизоре… – она уже знала, как всегда знают это наблюдательные дети, что тихие слезы куда эффективнее истерик. Прижалась к нему, чувствуя себя защищенной в тени всезнающего великана. – …соврал.
Она залилась слезами, непритворными, испуганными – родители говорят, что врать нельзя, а по телевизору врут. Вчера говорили одно, а сегодня совсем другое и все делают вид, что так и нужно и будто совсем не помнят, что было сказано вчера. А она помнила, и это ее пугало.
И без расспросов отец понимал, в чем дело. В своих речах политики, особенно президент, говорили только о свободе, отсутствии запретов и власти народа. Но в действительности список запрещенной литературы, кино, даже музыки ширился с каждым днем. А может быть, речь шла об инфляции – вопреки официальным объявлениям о том, как дешевеет жизнь, цены продолжали расти.
– А может быть, он не соврал? – Это было единственное, что отец смог ответить ей. Как еще объяснить ребенку, что нужно принимать происходящее так, как есть, не лезть в политику, не заниматься ерундой. У ее отца было призвание, долг перед наукой и людьми, и он не желал отвлекаться на злободневные проблемы. Он искренне считал, что каждый должен знать свое место и не вмешиваться в то, в чем не очень разбирается. – Ты не думаешь, что он мог ошибиться?
– А разве дяди-президенты ошибаются? – Удивленно пролепетала она.
– Конечно, – рассмеялся отец. – Они такие же люди, как мы с тобой. Помнишь, ты неправильно прочитала слово в той книжке, которую я тебе давал? Ты ошиблась, и тебе было стыдно. И он, наверное, ошибся – представляешь, как стыдно теперь ему? Ведь он же хочет сделать как лучше, – он щелкнул ее по носу, и Ада, наконец, улыбнулась.
– Мы должны быть более снисходительны к тем, кто совершает ошибки, милая. Они там, наверняка, раскаиваются и казнят себя за промах. Каждый просто должен стараться как можно лучше делать свое дело. Которым мне, кстати, давно пора заняться…
Она поняла без дальнейших намеков, спрыгнула с его коленей, и почти побежала обратно в гостиную, к телевизору, но потом вспомнила, что бегать нельзя, и замедлила шаг, тихо-тихо выходя из кабинета. Отец, погрузившийся в размышления, вслед ей не смотрел. Он, изучавший все эти бесконечные войны, истории голода, жестокости и смерти, предпочитал знать о них только на бумаге. Он не хотел революции и кровопролития в собственном доме. И ему гораздо удобнее было думать, что государством руководят знающие люди. В конце концов, удавалось же им провести ОЕ по тонкому льду между враждующими Штатами и Востоком. Куда проще, куда спокойнее было доверять.
Тогда Ада этого не понимала – едва ли поняла и позже. Не позволяла себе понимать. Но его уверенность передалась ей и руководила ее поступками долгие годы. Тогда он успокоил ее – да, ошибиться может каждый. И чем критиковать и бить по больному месту людей, которые и так тащат на себе огромную ответственность за страну на своих плечах, нужно поддержать. Нужно сделать вид, что все идет хорошо. Нужно притвориться, что никакой ошибки и не было, улыбаться и не унывать. Уже тогда уныние в ОЕ считалось не слишком похвальным чувством и порой даже требовало принудительного лечения.
Ее отец не решился объяснить ей, что люди бывают злы, и жадны, и глупы – даже в высших эшелонах власти. И совсем не подумал о том, какие выводы может сделать девочка и этой беседы. Но ведь ей было всего семь лет! Что она могла запомнить из этого эпизода, вероятно, успокоил он себя. В его словах была правда – люди ошибаются. И он ошибся – Ада запомнила все слишком хорошо.
А потом ей исполнилось тринадцать, и мир рухнул, когда отца прямо за его столом накрыл сердечный приступ – и до вечера ни она, ни мать этого не знали, потому что не решались зайти к нему в кабинет. А после похорон мать взяла его неоконченный труд и отправилась к издателям и разослала копии рукописи, куда только могла. И, конечно, получила отказ в публикации – не только потому, что этот труд был никому не нужен. В нем содержались «сведения, не соответствующие действительности», проще говоря, не совпадавшие с официальной версией событий. И, Ада помнила, мать ходила и скандалила, кричала, раздавала копии людям на улицах, читала отрывки своим ученикам в школе, и, в конце концов, была признана нуждающейся в принудительном лечении. Аде грозил детский дом, но брат отца, который поссорился с ним много лет назад и никогда не проявлявший интереса к его судьбе, пригласил девочку в свой дом.
***
Воспоминания о прошлом были одним из тех немногих развлечений, что были доступны ей в первые дни после теракта. Она выполняла наказ отца с поразившей бы его – она была уверена – старательностью. С тех далеких пор она узнала, что люди в большинстве своем глупы или злы, но продолжала верить, что те, кто вознесен над толпой, иные. И они могут ошибаться, твердила она себе, но единственно оттого, что они пытаются сделать как лучше. Не ошибается тот, кто ничего не делает.
От нее требовалось верить, улыбаться и не унывать, и она старалась, и не унывала, когда дубль за дублем проваливала этот ненавистный монолог в финале застрявшего фильма, и улыбалась, когда видела Диму, и верила, когда Герман Бельке, выступая с официальным заявлением спустя несколько дней, сообщил, что теракт совершила дочь первого президента, и никак не прокомментировал, откуда ему известно, что все происходило именно так. Сайровский взял бразды правления в свои руки, сообщил о дате выборов, на которых собирался победить, объявил амнистию по ряду преступлений для граждан, более пяти лет проведших в заключении или на исправительных работах. Это было нелогично, странно, не соотносилось с общим уровнем опасений из-за недавнего теракта, но он, наверняка, знал, что делает, и Ада только равнодушно пожимала плечами – не отпустят же они тех, кто может быть опасен, глупо было бы думать иначе, а в остальном – не лучше ли им знать?
Она верила и не роптала, когда ужесточился комендантский час и был объявлен режим Особой Бдительности. Это означало постоянные проверки документов, ограничение доступа в и без того ограниченный интернет на всей территории ОЕ, запрет на отключение сотовых телефонов, которые, как многие уже знали доподлинно, служили прослушивающими устройствами и позволяли установить местонахождение любого гражданина, несколько допросов насчет дня похорон и постоянные выпуски новостей, в которых ничего нового не сообщалось. Усиленные патрули на улицах. И рекомендация – отнюдь не приказ – воздержаться от использования личного транспорта, общественный транспорт ходил очень плохо. Проезд в некоторые районы Столицы и вовсе был закрыт – и она часто в окно видела шеренги плетущихся на работу и с работы людей, усталых, изможденных, в серых, блеклых одеждах, таких одинаковых, что они невольно сливались в однородную массу.
Все эти дни Ада жила как в дурмане, как в бреду, стараясь не вспоминать события после взрыва и свои глупые мечты и то, как равнодушно разговаривал с ней ее спаситель. Все ее мысли, все ее существо так сосредоточилось на том, чтобы не думать, не стыдиться собственных желаний, что в реальности она стала мягче, нежнее, сдержаннее, и появилась у нее на губах странная, тающая улыбка, и глаза часто замирали в одной точке, словно она силилась и не могла прогнать какую-то мысль, какой-то навязчивый образ, не пугающий, но обескураживающий. Видя ее кротость, Дима осмелел, в очередной раз сделал ей предложение, не потому, что так уж сильно был в нее влюблен, она вдруг поняла это с кристальной ясностью. Просто этот брак не испортил бы ему биографию и еще с ней, такой, обессиленной, задумчивой, он думал, что сможет ужиться.
Ей было все равно, и она согласилась, попросив только отложить празднование помолвки, пока не выйдет фильм, она якобы была так загружена работой – переделкой этого проклятого эпизода и переозвучкой некоторых других моментов, презентациями и съемками промо-материалов, – что ни о чем больше не могла думать. На самом деле, она не могла сосредоточиться и на работе, но там, на съемочной площадке она могла врать, что занята помолвкой, приготовлениями, ощущением себя невестой… и ей прощали ее рассеянность. Между ложью и ложью она прятала свои искренние чувства, самое свое существование, много гуляла по городу в разрешенные часы, рассматривая одинаковые бело-серые здания, ровные площади, изучая незнакомые районы, в которых словно и не было ничего незнакомого. Она принимала снотворное, не пропуская ни дня, и много думала о прошлом, чтобы не думать о будущем, но призраки отступили и не беспокоили ее, словно испуганные ее апатией.
В какой-то момент, вышагивая по ровным аллеям парка, прилегавшего к киностудии, лениво куря и равнодушно глядя на сухой асфальт под ногами, она вдруг поняла, что влюблена. Осознание было шокирующим, так давно с ней не случалось ничего подобного – если вообще когда-нибудь случалось. Она заблуждалась, думая, что и не случится больше никогда, все прекрасные принцы в ее жизни старательно отучали ее верить в чудеса, но вот пришел ледяной король и растопил сердце маленькой Герды, и, хотя в сказке все было по-другому, что ей за дело? Под его равнодушным взглядом ей не сложить слово «вечность», ей даже не пошевелиться толком, не побежать спасать глупого Кая. Это чувство, которое всегда причиняет столько неприятностей, просто жило в ней, кроткое, мягкое, округлое, жило, не спрашивая ее разрешения и не требуя никаких действий – только смотреть на его редкие выступления и искать в выражении его глаз то, ей знакомое, человеческое. Ее любовь по определению возникла безответной, безмолвной, апатичной, и охотница-кошка внутри стушевалась. Как расставлять ловушки, как ловить в плен глаз, если ее собственные глаза стали такими мягкими, податливыми, если у нее нет сил изображать равнодушие в его присутствии? Она видела его пару раз, то в ресторане, то на какой-то презентации, но больше не подходила к нему, не стремилась заговорить, прятала глаза, чтобы он не прочитал в них то, что, как ей казалось, стало теперь очевидно. Но никто ничего не замечал, даже Арфов – впрочем, у него были свои заботы, Майя как-то приободрилась после того вечера в ресторане, и по косвенным признакам Ада догадалась, что у них начался второй медовый месяц. Но даже это ее теперь не задевало.
Злополучная газетная фотография, та, что не была искажена монтажом, аккуратно сложенная покоилась в ящике ее прикроватной тумбочки, куда, наверняка, время от времени заглядывала Нора, приходившая убираться, но едва ли домработница могла догадаться, как много значил для Ады этот газетный листок. По вечерам, когда Дима задерживался на работе, она, приняв снотворное, доставала фотографию из ящика и долго смотрела на нее, проводила кончиками пальцев по смутному силуэту рядом с собственным изображением. Словно советовалась с ним обо всем, что происходило в ее жизни, и каждый раз чувствовала странный трепет, как если бы рукой без перчатки дотронулась до гладкой поверхности искрящегося льда. Ожидала удара током, страсти, упоения, но ощущала только прохладную безукоризненность. Словно прикасалась к некой эссенции власти. И странной казалась ей самой эта любовь.
Но разве она вообще знала, что такое любовь? Не назвать же любовью ее короткие увлечения или страсть к Вельду? Так, может быть, это и есть любовь – вялое бессилие, напавшее на нее, равнодушие ко всему? И ища ответ на эти вопросы, она перебирала в памяти свои романы, вспоминала каждый в подробностях, отматывая время назад, и неминуемо пришла к началу, к узлу, с которого началась ее бесчувственность. И замерла в ужасе от мыслей и воспоминаний, которые столько лет гнала от себя.
Это случилось как-то вечером, она сидела в кресле, поджав ноги, закутанная в плед, а в руке был уже привычный бокал вина, единственный разрешенный ей Димой бокал в день, и Нора, помыв посуду, зашла сказать, что она почти закончила с уборкой. Ада равнодушно кивнула, так много нужно было привести в порядок перед тем, как Дима окончательно переедет к ней, но ей было не жаль ни старых вещей, ни прошлых снов. Нора добавила, что нашла в кладовой коробку с какими-то мелочами, и не хочет ли Ада на нее посмотреть, и Ада ответила, что хочет, хотя не испытывала никакого интереса. Нора принесла простую картонную коробку из-под обуви, в которой пряталось прошлое, и Ада почувствовала, как внутри застонало от боли что-то давным-давно выброшенное из мыслей, но не из души, и боль была так приятна по сравнению со сковывавщей ее апатией, что она взяла коробку, принялась разбирать, и конечно, наткнулась на то, на что и должна была – красивый, удивительно красивый молодой человек, чье имя было стерто теперь из истории, улыбался ей с фотографии чуть ли не десятилетней давности.
***
Давид. Так его звали.
Имя его отзывалось звоном колоколов – как она когда-то мечтала, наверное, когда еще умела мечтать о простом, девчоночьем, когда верила всем в детстве прочитанным книгам, от которых отреклась после смерти отца. Имя его звучало белым. Имя его было – полет белых голубей, синева неба, убеленная облаками, белое платье в пол. Ей было едва за двадцать, она еще никогда ни в кого по-настоящему сильно не влюблялась, но была уверена, что этот момент вот-вот настанет. А пока она занималась собой, своим будущим, снималась в своем первом фильме, тряслась, что не справится, а Илья не помогал.
Когда она его спросила, как ей себя вести, он рассмеялся, уточнил, читала ли она сценарий.
– Выучила, – обескуражено ответила она, не упоминая, что учить ей, в общем-то, и не было нужно. Ее уникальная память позволяла всего пару раз прочитать текст, чтобы запомнить его от слова до слова.
– Зря, – отрезал он. – Забудь все, что помнишь. – И смилостивившись, объяснил. – Путай текст, забывай слова. Но смотрись в кадре хорошо. Идеально, если сможешь что-нибудь импровизировать. Нам нужно, чтобы с тобой было сделано много лишнего материала.
Он ничего не объяснил, а она боялась, что поняла его неправильно, и что, поступая, как он хочет, она все испортит, и ее выгонят, что он просто издевается над ней… Но стоило ей попасть на площадку, и страхов стало в тысячи раз больше. Ее ждал партнер – молодой, белозубый, потрясший ее какой-то невыносимой, античной красотой. От него словно исходило сияние, так добродушно, так открыто и светло он улыбался ей, обещая, что все будет хорошо и у нее все получится, еще до того, как назвать свое имя.
А потом все же представился – и имя его было Давид.
Она испортила первую сцену, забыв, что вообще должна что-то говорить, просто глядя в его большие прозрачно-голубые глаза. Она испортила второй дубль, невовремя рассмеявшись тому, как он слегка пощекотал ей запястье, беря за руку. Она была смущена, но смущение шло ей в то время, как шло платье героини, как шли бессмысленно мелодраматичные реплики. Она расслабилась, она поняла, что никто не собирается над ней издеваться, и уже не тратила время зря, путала текст, шутила, меняла мизансцены, следя за тем, как падает свет, как она двигается, что именно фиксирует камера. В тот день они не сняли ничего толкового, но не было почти ни одного кадра, где она получилась бы плохо. Арфов одобрительно подмигивал ей из-за плеча измученного режиссера, а новый знакомый как будто был в восторге от ее выходок и сам все время провоцировал какую-нибудь шутку. За чашкой кофе в кафе, куда он пригласил ее после съемок, он признался, что устал от этого фильма. Что они снимают уже месяц, и не проходит и дня, чтобы сценарий не поменяли, ту или иную сцену не зарезали, превращая всю проделанную работу в ничто. Приходилось начинать все сначала, и все такие издерганные, такие злые, а она – Ада Фрейн, кстати, хорошее имя для актрисы – такая веселая, что ему сегодня даже удалось получить удовольствие от набившего оскомину персонажа.
Ада начинала понимать, и все сбылось, как задумал Арфов, сценарий меняли и меняли, и ее маленькая роль все росла и росла, пока не заслонила своим значением все остальные. И материал, отснятый с ней в эти первые дни, послужил ей лучшим портфолио, и кое-что даже пошло в работу, и Давида сменил более именитый актер, но было поздно, Аде уже не был нужен никто другой.
Она так никогда и не смогла понять, что так тянуло ее к нему, его красота или его обаяние. Но невозможно было представить Давида иным, без его широкой улыбки, без искрящихся смехом глаз, без мягкого юмора, без этой атмосферы светлого праздника, которую он вносил всюду, где бы ни появлялся. В него были влюблены, казалось, все, кто с ним встречался, и она решила, что влюбилась, просто, беззастенчиво, впервые в жизни, а он всегда был рядом, и не понять – этот теплый свет, исходивший от него, был ли он дружеским участием или более интимным, более нежным чувством? Но тогда она тоже не ломала себе голову над этим, ей просто было хорошо рядом с ним, волшебно, словно принц из сказки, в которые она верила, подошел и взял ее за руку, просто и открыто, предлагая ей быть его принцессой. Он так и называл ее, «принцесса», и никому в голову не приходило, как много издевки было в сахарном прозвище, которое он ей дал.
Ада решила, что нашла человека, с которым проведет всю свою жизнь. Он так идеально вписывался в ее представления о том, каким должен быть ее спутник, что порой сложно было поверить, что он существует в реальности, а не только в ее мечтах. Она верила ему всеми силами своей романтичной юной души, верила даже больше, чем любила, как ей казалось теперь, и он затрагивал все ее чувства разом – и гордость, и оптимизм, и романтичность, и неуверенность в себе. Его трогательное поклонение ее расцветающей красоте внушало ей, что она особенная. Нет, они вместе – особенные. И пусть он лгал, – но зато как лгал! волшебно, витьевато, шутливо – она никогда не могла узнать наверняка, есть у него кто-то или нет. Он всегда провожал ее домой, в общежитие, трогательно, по-братски целовал в щечку, уходил в темноту, спиной вперед якобы для того, чтобы дольше видеть ее спину и то, как она поднимается по лестнице, следить за ее силуэтом в окне, но куда он уходил? С кем проводил эти ночи? Кого целовал по утрам? Она не знала и не могла придумать, как узнать, разве что спросить напрямую, но он отшучивался в ответ на ее вопросы, переводил разговор на другую тему, и был так предупредителен и добр, что она, в конце концов, перестала спрашивать.
Съемки шли своим чередом и в итоге, ко всеобщему удивлению, у них даже получился более-менее связный фильм. В нем, правда, было несколько несостыковок, но они искупались юностью и искренностью актеров, патриотическим содержанием и обилием сцен, балансировавших на грани эротики. По сюжету, который в итоге слепили сценаристы, главная героиня, Джулия против воли становится женой омерзительного человека, который думает только о том, как ему обмануть жену, убить их ребенка и устроить теракт. Он оказывается не то евреем (в то время шла активная антисемитская пропаганда), не то умалишенным, не то предателем Родины, не то иностранцем, не то исламским фундаменталистом. В зависимости от господствовавшего направления его роль можно было трактовать как угодно, что относилось к гениальных находкам ленты. Джулия же, не любя и страдая, постепенно разбирается в характере мужа и радостно сдает его властям, предотвратив убийство многих невинных. Такой сюжет не оставлял места эротике – ведь не могла же благонамеренная гражданка страны спать с таким монстром, даже если она не знала о том, что он монстр и вообще-то был связан с ней узами брака. Кроме того утверждалось, что муж ее законченный импотент, а появление у них общего ребенка не объяснялось никак. Ребенок исчезал в первые же полчаса фильма, и главный негодяй вскользь упоминал, что убил его собственными руками, чем усиливала законное отвращение к персонажу – и подспудно внушал мысль о том, что для иностранцев (евреев, гомосексуалистов, иностранцев, мусульман – выбрать нужное) такие поступки в порядке вещей.
Для нужд проката необходимо было появление положительного мужского персонажа и вторым гениальным ходом стало приглашение в фильм с никому не известной дебютанткой целого ряда ведущих актеров, отличавшихся прекрасной внешностью и положительным амплуа. Изначально фильм планировался как мощный боевик, где ей была отведена короткая и незамысловатая роль несчастной жертвы террориста, чей возлюбленный, которого играл Давид, решает мстить. Но эта идея была признана скучной, и вот уже целая плеяда красавцев начинала ухаживать за Джулией. С ними – надежными партийными деятелями, мудрыми школьными учителями, врачами, военными, полицейскими она спать могла совершенно безнаказанно – и фильм пестрил полуобнаженной натурой, восхищая зрителей обоего пола. Женщины плакали, глядя на судьбу несчастной Джулии – всех ее возлюбленных одного за другим коварный супруг сводил в могилу непонятными, но изощренными способами, оправдавшими использование спецэффектов, таким образом, расчищал место для следующего красавца. Мужчины мелодраматическую линию игнорировали, но высоко оценили эротизм картины и привлекательность актрисы. В конце концов, зло было повержено, а прекрасная героиня не вышла замуж – занялась общественно полезной деятельностью и отдала свое сердце Партии, а не мужчине.
Сколько они смеялись над напыщенной глупостью, над ляпами в сюжете, над распущенным поведением «Джулии», над тем, как им приходилось играть влюбленных – Давид был просто неиссякаем, и временами, уже тогда, она замечала странную злость, мелькавшую в его всегда таких тонких шутках, но старалась не обращать внимания. Тем более, что как бы ни был убог сюжет, ей удалось, глядя в камеру произнести то, что давно рвалось с ее губ – признание в любви ко всему миру, к стране, к людям, что помогли, поддержали ее. Сияя глазами, повторяя всю эту патриотическую чушь, она думала об отце, о дяде, даже о своем агенте, которому с тех пор стала говорить «ты». И главное, о Давиде. Где еще, в какие еще времена, в какой стране, могла она вот так вознестись, не поступившись ни одним своим принципом, где еще зло и предательство, ассоциировавшиеся в ее душе с поступками Майи, были бы так быстро и справедливо наказаны?
Глупый или нет, фильм принес ей славу, а Давида укрепил в позиции одного из самых многообещающих актеров. Она получила квартиру. Как-то после празднования, посвященного окончанию съемок, они с Давидом шли по городу под дождем, теплым, июльским дождем. Они бежали, смеялись, как дети, он, держа на вытянутых руках свой пиджак, она, задрав подол длинного платья, прижимая к груди бутылку вина. Они ввалились в ее новую квартиру, хмельные, счастливые, словно в сказке, лучшие друзья, юные влюбленные. А там еще ничего не было, даже одежды, только плед и две чашки в красный цветочек, и они сидели на полу, скрестив ноги, разливали вино по чайным чашкам, дрожа в мокрой одежде, и он первым стянул с себя рубашку, и Ада, совсем не стыдясь, последовала его примеру, и они закутались в плед, раздетые до белья, обнялись, сцепились, как дети, пытаясь согреться, и пили, пили, пили свое вино из чайных чашек и шутили, болтали до рассвета, и она чувствовала – он не просто дорог ей, он ей доверяет, он видит в ней половинку самого себя, и она не сдержалась, потянулась, нашла его губы, поцеловала. И так сладок был этот поцелуй, что голова закружилась сильнее, чем от вина, а губы у него были нежными, почти девичьими, и его мягкая кожа как будто вовсе не нуждалась в бритве. Свет уличного фонаря и огни рекламы, висящей напротив освещали его лицо, и она долго-долго смотрела ему в глаза, пытаясь понять, почему он медлит, что его останавливает, может быть, вовсе не так она все поняла, и он не находит ее красивой и желанной, а он, помолчав, отстранил ее, и принялся ходить по комнате, а потом вдруг подошел, встал на колени и посреди ночи в пустой квартире, почти так романтично, как она когда-то мечтала, пусть без кольца и предисловий, попросил ее стать его женой.
Она кинулась ему на шею, прижимаясь к нему, пытаясь прильнуть к нему всем своим существом, кожей врасти в его кожу, и думала, как я хочу его, как я люблю его, моего античного бога, а он обнимал ее как хрупкую фарфоровую куклу, гладил кончиками пальцами ее скулы и линию подбородка и убеждал, что они не должны торопиться, что это, возможно, смешно – но он не верит в секс до брака, что он бесконечно счастлив будет назвать ее своей, и что она единственная женщина в его жизни.
И хотя Аду неумолимо жгло внутри желание прикоснуться и врасти, она верила, она сдерживалась, убеждая себя, что это так романтично, так идеально, что он настоящий принц из сказки, а ведь ни в одной сказке, настоящей сказке, конечно, ни один принц не стал бы приставать к принцессе, и так это чудесно и так он, видимо, религиозен, что этим можно только восхищаться.
Она слушала, слушала и слушала его, убаюканная собственными мечтами, слушала, наслаждаясь тем, как от его теплых рук у нее внутри все замирает и трепещет, словно крылья какой-то глупой бабочки. Много-много бабочек внутри, в груди, бились, в кровь бились от нежности, которой она не могла противостоять. И ведь тогда, как она могла не поверить? Он пришел и принес ей мечту, какой больше не было ни у кого, любовь, которой и не могло существовать в их несчастном двадцать первом веке, и они положили меч, как будто были героями средневековой поэмы, и она трепетала в ожидании свадьбы, принимая поздравления, славу, приглашения в новые проекты, уверенная, что теперь у нее все и всегда будет хорошо. Она считала дни, и знала, что с каждой минутой все больше и больше влюбляется в своего хрустального принца.
А потом сказка оборвалась, недоигранным аккордом повисла в воздухе, и маленький звук, одно, всего лишь одно слово уничтожило все, во что Ада верила, и словно в воронку втянуло всю ее жизнь в непрекращающийся ужас. И слово это было «гомосексуализм».
Она позвала Нору, и та явилась моментально, вышколенное приведение, вытирая руки полотенцем.
– А у меня дома есть диски с моими фильмами? – Спросила, даже не чувствуя забавности этого вопроса, ну кому, как не Норе знать, где тут что лежит. Сама Ада не любила смотреть на себя, но сегодня отчего-то захотелось, раз уж Дима на дежурстве и, к счастью, придет еще не скоро, а Нора, наоборот, скоро уйдет, и что ей тогда останется? Домработница молча открыла тумбочку под телевизором, вопросительно посмотрела на Аду, а та улыбнулась. Если уж делать себе больно, так на полную катушку, чтобы онемела душа, чтобы сердце остановилось.
– Поставьте «Ангела», пожалуйста.
И когда зазвучала знакомая музыка, когда потянулись знакомые фамилии титрами по экрану, Ада закрыла глаза, и губы шевелились, она помнила все наизусть. Из-за того скандала чуть фильм не запретили, и она тогда чуть не поплатилась своей карьерой, и никто не верил, что она тоже была обманута, что ничего не знала о том, что ее жених – изверг, извращенец. Но президент поверил ей, а фильм перемонтировали, все равно он был скроен кое-как, и Давида выкинули из истории, убрали на полку его работы, а из этого, последнего вырезали почти полностью, только мелькало его лицо на заднем плане один раз, ближе к концу, но она-то помнила все их пробы, все их дубли, помнила так, будто они происходили минуту назад. И думала, как же так, почему вся страна живет мгновением, будущим, надеждами, и только на нее, на символ Евразии, как ее называли, чтобы польстить, прошлое наползает и наползает так неотвратимо, придавливает к земле, не дает вдохнуть?
Она не смотрела фильм уже много лет – не до того было, но этим вечером прошлое вторглось, разрывая ткань реальности. Прошлое не желало уходить – и она могла только сдаться, повторять за собой на десять лет моложе текст, смеяться воспоминаниям о съемках, и ждать, ждать, когда он появится тенью на ее истории, забытым на заднем плане персонажем, искалечившим ей судьбу. Ведь не будь его, разве она поверила бы Вельду, разве поддалась бы его чарам, суть которых была только похоть и соблазн? Но ей тогда так нужно было доказать себе, что она женщина, желанная, любимая, а не кусок никому не интересной плоти, равнодушен к которой оказался даже ее собственный жених.
Он появился секунда в секунду – вечно молодой, красивый, горящий как факел в ночи, и она пошире распахнула глаза, пытаясь увидеть все, что не замечала тогда, околдованная его обаянием и красотой. Остановила вопроизведение и смотрела, смотрела на его чуть расплывшееся, не в фокусе лицо, и жалела, что в этот момент на экране крупным планом она сама, и желала проникнуть глубже, туда, нырнуть в изображение, взять его за руку и посмотреть ему в глаза – и спросить, спросить…
Она искала ответ на вопрос – что он чувствовал, касаясь ее? Какую же эмоцию он так тщательно выдавал за любовь, что обмануты оказались все, даже Арфов, прекрасно ловивший любые подводные течения? Она готова была увидеть презрение, отвращение в его глазах – но нет, нет, их там не было. Не было печати извращенности, не было злобы и склонности к преступлению в этих светлых бархатистых веках, на этом высоком гладком лбу, словно позаимствованном у античных статуй. Не было коварства и лжи, следов порока на его лице… А с другой стороны, ей ли не знать, что значит быть актером? Разве сейчас она не так же дурачит Диму, разве она не скрывает отвращение к своему жениху, как когда-то Давид, она могла поспорить, скрывал его к своей невесте. Она спросила фигуру, застывшую на экране – молча, одним взглядом – почему ты обманул меня? Но существующий только на экране человек не ответил. Она спросила – почему ты оказался таким выродком? Но он молчал.
Ей было бы приятно, сейчас, спустя столько лет, с высоты своего опыта и знания убедиться, что он злодей, негодяй, плохой актер, что она обманулась его смазливым личиком и ласковым голосом, но даже в этом расплывшемся изображении чувствовала его безумный шарм. Словно ничему не научили ее эти годы, ее замужество, ее вдовство. Подумала, пусть бы он оказался убийцей, заговорщиком, двоеженцем, все куда лучше, чем это его непозволительное, отвратительное, незаконное свойство. И она вспомнила, как после скандала спрашивала всех, кому хоть немного могла доверять – что такое гомосексуализм? Болезнь? Преступление? Почему люди делают это, если могут не делать? Неужели она была так плоха, так уродлива, так несостоятельна, если он предпочел ей свою отвратительную склонность? А если это болезнь, то почему за болезнь вычеркивают из истории, стирают с лица земли, отправляют в лагеря, казнят?
Она не знала ответа – и никто не знал.
Ада смотрела в лживые светлые глаза и вдруг почувствовала, как ее апатия отступает. Ни алкоголь, ни снотворное, ни новое чувство, сделавшее ее такой податливой, мягкой в последние дни не спасало от ненависти, которая вдруг обрушилась на нее. Она сама, ладно, пусть, но Арфов и Майя, и режиссер и вся съемочная группа пострадали от того, что человек, попросивший ее стать его женой, не смог справиться со своим животным началом, не смог жить нормальной жизнью. Их карьеры висели на волоске просто из-за того, что один из актеров оказался блудодеем. А если смотреть дальше – то Вельд, Вельд тоже пострадал из-за Давида.
Он умер – да-да, умер! – потому что она кинулась к нему, как кидаются в пропасть, потому что они не подходили друг другу, потому что ее горе подпитывало его тягу к саморазрушению, и, может быть, не стань она его женой, он бы не стал стрелять, он бы не решился покончить с собой, может быть, он смог бы прийти в себя и стать тем, кем должен был. И все не пошло бы кувырком, если бы не оказался этот ангелоподобный юноша гомосексуалистом, если бы не открылось все накануне свадьбы и не грянул скандал, так почему же столько лет призрак погибшего мужа приходит к ней, а не к тому, с кого началась эта цепочка бедствий? И она, озлобленная, пожелала Давиду, где бы он ни находился, кошмаров, самых страшных снов, самых страшных бед. Но видимо, он, где бы он ни находился, пожелал ей того же. Потому что в эту ночь, впервые с того вечера в ресторане, ее кошмары пришли к ней. И она была им рада, как старым, любимым друзьям.
***
Ада словно перерождалась. И перерождалась страна, опаленный феникс, возникающий из пепла. Спустя почти месяц проверок, арестов, допросов и пустых новостей, был снят режим Особой Бдительности и комендантский час стал начинаться позже. Постепенно до городов добирались амнистированные, и их иногда можно было видеть на улицах – странных людей с затравленными глазами, посеревшей кожей, худых, но казавшихся неожиданно сильными. Они были согласны на любую работу и вели себя так скромно, что, казалось, всем своим видом доказывали, что наказания в Объединенной Евразии действительно способствуют перевоспитанию даже самых закоренелых преступников.
Ада решила бороться. Оказалось, она жить не может без своих бессонных ночей, без своих милых призраков, любивших ее, принадлежавших ей и только ей, и стоило им умолкнуть, как она впала в спячку, но теперь они вернулись, и у нее снова появились силы убегать от них, бежать быстрее ветра, сражаться со всем остальным миром. Возможно, она сходила с ума, как когда-то ее мать, но, в любом случае, это безумие было знакомым, привычным и оно позволяло жить, а не прозябать. Она с трудом представляла себе, чего она добивается, но знала точно, пока этот адреналин гонит ее вперед, она не остановится, не опустит рук и не позволит какому-то самодовольному выскочке, по ошибке ставшему ее женихом, пребывать в сытой уверенности, что теперь все будет хорошо. С этой новой энергией, подпитываемой ненавистью и страхом, она ожила, и в два счета разделалась с проклятым монологом, с промо-акциями, с рекламными съемками, с повторной комиссией, со всем, что стояло у нее на пути. Она снова пила, снова скандалила, закатывали Диме истерики, а Арфова настраивала против его непотопляемой секретарши, не потому что действительно опасалась ее, а просто для развлечения. Когда фильм, наконец, отправился на финальный монтаж, и были розданы все интервью, сфотографированы все ее улыбки и все костюмы, поцелованы все партнеры по фильму, которых стоило целовать, заказаны все платья, которые хотелось заказать к лету, выпит весь кофе, прочитаны все новые сценарии и отклонены – все, она поняла, что ей чего-то не хватает. Помолвка прошла довольно скромно, и счастливо улыбаясь с фотографий, позволяя руке Димы обвивать ее талию, откидывая голову назад и заливисто смеясь, она твердо знала, что никакой свадьбы не будет. Пусть, сейчас она и не могла ничего сделать – пока не найдет новых покровителей, пока не обезопасит себя, она готова была притворяться счастливой, но никогда не войдет она в храм, никогда не скажет «да» этому человеку, и, целуя его, она почти до крови кусала его губы, и ласково проводя по его щеке, думала – как же ты жалок, как же я тебя ненавижу.
Смонтированное фото стало основой для романтической истории любви, которую придумал Арфов и кто-то из редакторов желтой прессы, но на все вопросы о нем Ада всегда опускала глаза и отмалчивалась, а иногда дарила интервьюера загадочной улыбкой, показывающей, что он вместе со своими читателями может думать все, что ему заблагорассудится. И это давало свои плоды – публикации на эту тему не сходили со страниц желтых газет, и они с Димой очень скоро стали самой сладкой парочкой всей Объединенной Евразии, сказкой, которую хотела прочитать каждая домохозяйка, несчастная в браке, каждый романтичный подросток. А Ада не изменяла себе и тому маленькому комочку живого чувства, что все так же пряталось в ней, мягкого, сладкого как карамель и пугающего, как бука, живший за распахнутыми дверцами шкафа в ее детстве. Она стала видеть и слышать больше, чем когда-либо в своей жизни, и часто ей не хватало времени, не хватало светового дня, чтобы сделать все, что ей хотелось сделать, встретиться со всеми, кого она хотела видеть. И иной раз, торопясь домой, чтобы не опоздать к началу комендантского часа, она будто слышала за собой тихие шаги, будто чувствовала, как какая-то тень движется за ней. И она пугалась, и бежала быстрее, и дыхание сбивалось, и таким сладким, таким дорогим был ей этот страх, что она стала задерживаться специально. Она часто натыкалась на патрули, показывала разрешения на позднее возвращение, которые выдавались вместе с приглашениями на всевозможные мероприятиями, улыбалась, и никогда не отказывала бравым офицерам в возможности проводить ее домой.
А когда все срочные дела закончились, она принялась теребить Арфова, чтобы заполнил ее расписание, чтобы нашел ей больше интервью, придумал шоу на телевидении, вырвал роль в какой-нибудь новой пьесе. Она получила членство в нескольких благотворительных организациях, встречалась с известными людьми, читала новые пьесы и перечитывала старые. Лихорадка гнала ее дальше и дальше, она вспомнила навыки вождения и вечерами, когда освобождалась раньше, она уже колесила по городу, выбрасывая на ветер баснословно дорогую электроэнергию и не думая о том, сколько ей придется работать, чтобы покрыть эти бесполезные траты. Она носила темные очки, потому что светило солнце и потому, что снова стала плохо спать, несмотря на снотворное, которое помогало все меньше, зато смеялась так много, что иногда по вечерам чувствовала, что у нее болят губы. Она познакомилась с видными политиками, среди которых был даже Сайровский, который готовился к своим заранее выигранным выборам, но, тем не менее, находил время, чтобы подойти и старомодно поцеловать ей руку. Она кокетничала с ним и видела, польщенная, что он неравнодушен к ее чарам, и хотя он внушал ей какое-то смутное беспокойство, какую-то инстинктивную неприязнь, она была уверена, что его поддержку она получит, даже если не будет прикрываться именем Димы, которому тот почему-то благоволил. Ей нравилось то, как он на нее смотрит, как всегда отмечает, что она хорошеет с каждым днем, ей нравилась откровенность его восхищения и вежливые манеры. Она планировала использовать его на всю катушку, для чего даже снялась в нескольких роликах для его предвыборной компании, которая, кажется, никому, кроме него самого, не была нужна.
И, конечно, куда бы она ни шла, с кем бы ни смеялась, о ком бы ни думала, глаза ее всегда и всюду в толпе искали Германа, чтобы подойти к нему не той разбитой, глупой, грустной женщиной, но кошкой, вцепиться в него, поймать как мышку, опрокинуть на лопатки и растерзать. Служба охраны как-то притихла, подобралась, это чувствовалось даже в выражении всегда бесстрастных лиц ее сотрудников. А их начальник и вовсе куда-то пропал, не появлялся ни на одном мероприятии, где она бывала, хотя, выбирая, как провести вечер, она всегда уточняла, насколько высокопоставленными будут гости. И напрасно она искала его глазами в толпе, напрасно точила когти – он словно испарился.
Каждый вечер, каждую ночь, когда она не встречала его, она хваталась за нечеткую фотографию его силуэта и долго смотрела сухими глазами, набираясь решимости. Она жила как будто в непрекращающейся истерике, но по сравнению с прежней апатией, это состояние хотя бы напоминало ей жизнь.
***
Постепенно недостаток сна давал о себе знать, и через несколько недель этого бешеного существования Ада поймала себя на том, что уже не понимает, где сон, а где реальность. Она требовала от Димы новых и новых лекарств и он, безропотный, приносил ей снотворное – и только держа в кончиках пальцев очередную порцию сна, она расслаблялась. Сомы грамм и нету драм, – из какой-то книги, из какой? – цитировала она, не особенно заботясь о том, что книга могла быть запрещена. Кто же теперь вспомнит, откуда эта цитата, если книгу нельзя читать? Вот такая странная безопасность. Но когда Дима возмущался и отказывал ей в таблетках, у нее всегда было вино или, что гораздо лучше – ром из небольшого магазинчика за углом, куда можно было добежать даже после наступления комендантского часа, главное, не очень шуметь и внимательно следить, чтобы не попасться на глаза патрулю. Это добавляло в жизнь адреналина, а потому в ее нынешнем состоянии нравилось ей гораздо больше необходимости о чем-то просить своего жениха.
Однажды вечером, после очередного скандала, она выскочила на улицу, гибкой тенью прокралась к магазину, но тот – рано или поздно это должно было случиться – оказался закрыт. Магазин держали пожилые супруги, неразговорчивые, мрачные люди, с которыми у нее наладилось нечто вроде договоренности – они в любое время дня и ночи готовы были продать ей что угодно из своего небольшого ассортимента, она переплачивала. Ада даже не догадывалась, что это называется «черный рынок» и карается по закону, а они молчали. Но теперь, видимо, кто-то донес, а может, просто умер кто-то из стариков, но в любом случае, магазин был закрыт, а дома ждал Дима и необходимость объясняться с ним, а потом провести ночь без сна. Ада замерла, растеряно соображая, что теперь делать. Лучше всего было бы вернуться домой, улица уже опустела, значит, вот-вот пробьет девять, и выйдут на улицы патрули, и попробуй им объясни, что просто гуляла.
Но вдруг подумала – а зачем же ей тогда имя, репутация, покровители, Арфов, если не для того, чтобы выручать? И потом, она же не собиралась попадаться. Тут недалеко, она слышала, есть похожая точка, и можно успеть сбегать туда и обратно за полчаса. Мысль была такой манящей и привлекательной, что Ада поправила темные очки – непременный атрибут даже ночью, если не хочешь, чтобы замучили просьбами об автографах. Хотя сейчас автографы просить некому, все сидят по домам, но на всякий случай…
До места она добралась довольно быстро и безо всяких приключений, мрачного вида молодой человек отпустил ей ром, несмотря на то, что торговля алкоголем после шести вечера была запрещена, ее любимый сыр и булочки, казавшиеся довольно свежими, добавил от себя шоколадку и даже улыбнулся, когда узнал ее, несмотря на темные очки и то, что она, смеясь, отрицала всякую свою связь с известной актрисой. Он пожелал ей добраться без приключений и предлагал даже проводить, но Ада не решилась – не надо бы ему знать, где она живет, мало ли, что произошло со стариками. Паранойя удивительным образом сочеталась в ней с безрассудностью, и удивляясь сложности своей натуры, она пустилась в обратный путь. И, разумеется, заблудилась.
Сотовый телефон остался лежать дома, ну разумеется, ведь иначе не было никакого смысла бегать от патрулей, если носишь с собой маячок, тем более, что она не думала, что идти придется так далеко. Дома и улицы казались абсолютно одинаковыми, сердце билось как ненормальное, и она шла, почти бежала, вздрагивая от каждой тени, плутала и, конечно, через некоторое время потерялась окончательно. Она находилась где-то в центре города и издали, среди высоких зданий видела сферу концертного зала, навевавшего грустные воспоминания, но точнее сориентироваться никак не могла. А вокруг была тишина. Плотная, вязкая, напряженная, как небо перед грозой. Город замкнулся в себя, замер, готовился к чему-то. Вся страна готовится, подумала она, вся страна сейчас смотрит в саму себя, словно женщина перед приходом месячных. Она никак не могла избавиться от этой ассоциации – надувшееся, отяжелевшее тело, готовое выбросить из себя все лишнее вместе с потоками красной, отвратительной по своему происхождению крови. Ада думала о том, что любая женщина ненавидит месячные – и именно поэтому чувствует боль. Мужской организм устроен иначе, для них, странных, самодовольных, половая зрелость – это повод для гордости и, может быть, смущения. Женщине же всегда стыдно и больно, наверное, потому, что каждые месячные – это очередной невыношенный, незачатый ребенок. Очередная трата жизненных сил впустую. Самонадеянное неисполнение своего биологического долга. Она думала об этом, чтобы не бояться, выводила эти странные максимы, но они не помогали. Тишина вокруг объедала звук ее собственных шагов, и странный шорох за спиной становился все слышней и слышней, и вот в нем уже можно распознать чьи-то шаги, и тень мелькнула рядом с ее тенью, и она вдруг поняла, что не так в этом звуке. Будь это патруль, она бы спокойно обернулась, призналась, что заблудилась, наплела с три короба, в крайнем случае, позвала бы на помощь Илью – все это неприятно, конечно, особенно учитывая бутылку рома в ее сумочке, но терпимо. Только вот шел за ней не патруль – и дело даже не в том, что ее не окликнули, не осветили фонарями, не потребовали остановиться, может, боялись, что она кинется в бегство. Но человек, который шел за ней приволакивал ногу, она вдруг поняла, шаг и шорох, шаг и шорох – гулко отражались звуки – и этого просто не могло быть, никак не могло, все патрули набирались из сотрудников службы охраны, а служба охраны была физически совершенна, это же так естественно, и значит этот незнакомец, что шел за ней мог оказаться кем угодно – преступником, поклонником, соглядатаем – но он явно не был приличным человеком, потому что все приличные люди сидели по домам, а не крались за одинокими женщинами по темному городу. А тень все приближалась, и шаг-шорох становился все неразборчивей, все быстрее, и она, наконец, не выдержала, переместилась на середину улицы, чтобы было ее видно отовсюду из окон и побежала, поднимая шум, разве что не кричала, но чувствовала, еще немного – и закричит. Пусть ее увидят, пусть позовут патруль, пусть хоть кто-нибудь придет на помощь, но город молчал, город притаился, и в легких так быстро кончился воздух, и больно стало дышать, а тень чуть отставала, но явно не прекращала ее преследовать.
Ада остановилась, огляделась – перекресток – куда бежать, где ее дом? Но дом был далеко, а рядом возвышалось какое-то смутно знакомое здание, и она подумала – есть же сторожа, есть охрана, есть ночные смотрители, – и подбежала к знакомым неузнаваемым дверям, замолотила кулаками, и дверь распахнулась, приглашая ее внутрь, беззвучно, и она нырнула в темноту еще более непроглядную, чем серая темнота улиц, и, прижавшись спиной к двери, пыталась отдышаться, надеясь, что он, ее странный преследователь, не придет за ней сюда… в театр.
Она удивленно огляделась, глаза привыкали к темноте, а потом рассмеялась, звонко, истерично. Куда же еще она могла бежать от всех проблем, от всех страхов – конечно, в театр. Ночью он казался совсем не таким, как днем, не таким, как она привыкла его видеть.
– Эй, здравствуйте! – Закричала она в темноту, когда смех стих, но отозвалось только эхо, и она, повинуясь странной фантазии, пошла вперед, по знакомым коридорам и пролетам, к зрительному залу, к ровным рядам кресел, по проходу, скользя руками по обивке, слушая, как гулко звучат шаги в тишине, успокаиваясь. Она очень редко играла в театре, очень, и теперь, думала, надо это исправить, ведь здесь так привычно, так безопасно, но хороших пьес не пишут, вот беда, а старых, что были бы актуальны, почти и не осталось. А театр не кино, не отвлечешь зрителя ни телом, – слишком уж далеко, не коснуться, – ни спецэффектами. Но как же она любила это место – сейчас вдруг осознала, всегда любила, и скучала по нему – пыльная обивка кресел под бархат, уверенное возвышение сцены, горько-ностальгический запах пустоты.
Не просто театр – квинтэссенция театра, театр ночью, лишенный зрителей. Наверное, не будь она актрисой, она ощущала бы страх или грусть в этом помещении, но она была тем, кем была. И внутри казавшегося заброшенным здания, она ощущала себя как в коконе, как в материнском чреве. Она словно сама была таким театром, в его гулкой пыльной безлюдности чудилось ей отражение собственной нечастной души. Здесь кто-то был, она вспомнила, кто-то всегда есть в общественных зданиях, но охранник все не появлялся, и ни звука, кроме цоканья ее каблуков и ее сбившегося дыхания, и она, улыбнувшись, кинула сумочку на край сцены, поднялась сама, слушая, как изменился звук ее шагов – стал значительнее, громоподобнее. Подумала – а вдруг тень, что шла за ней, сейчас прячется в зрительном зале, и посмотрела туда, в гулкую пустоту сиротливых кресел, но никого не видела, никого и ничего, и только горел в уголке указатель пожарного выхода, и никого не было в целом мире. Но разве здесь с ней что-то может случиться? Она ощутила себя колдуньей в собственном колдовском королевстве, и ее фантазия, разыгравшись, успокоила ее, убедив – тень только примерещилась ей, охранник спит давным-давно, и никто не станет ей мешать.
Ада закрыла глаза и дышала, дышала этой сценой, представляла себе ряды зрителей, застывшее и следящие за ее игрой – игрой, Господи! Не за тем, как под тонким свитером обрисовывается контур ее груди, не за тем, как искажается ее лицо в пароксизме притворной страсти, не за тем, как она оголяет плечо или красуется стройными ногами. Нет, им важно, как движутся ее руки и ноги, ее гибкое, все еще молодое тело, как звучит в пустом помещении ее чуть охрипший голос, как горят, ярче всех софитов ее необыкновенные глаза.
Она вдруг почувствовала этих людей, призраков отмененного прошлого. Вот они сидят, в первом ряду, мертвецы – отец, доработавшийся до остановки сердца, мать, умершая неизвестно от чего в психиатрической лечебнице, может быть, даже покончившая с собой, мать, которую так ненавидел ее дядя, что даже перестал общаться с собственным братом, когда тот на ней женился. А вот и сам дядя, мирно ушедший в мир иной в своей постели на шестьдесят пятом году жизни. И еще, Вельд, улыбающийся, искрящийся счастьем, самоубийца Вельд с двумя пулевыми в голове, черт возьми, Вельд! Вильгельм Штибер, стеснявшийся своего имени настолько, что не расставался с псевдонимом ни на сцене, ни в постели. Единственный человек на свете, который умудрился покончить с собой двумя выстрелами – в висок и почему-то в затылок – и так хорошо притворявшийся самоубийцей, что она не задавала вопросов, не спорила и хоронила его в закрытом гробу. Но сейчас он выглядел вполне живым и не терзал ей душу. Она видела горящие глаза ее близких и друзей – и тех, кто не был ей близок и не дружил с ней, мертвецов, с которых уже нет никакого спроса за то, что они когда-то поступали с ней несправедливо. И одно из кресел пустовало, место для Давида, подумала, но и радовалась, что не видит его среди собравшихся. Она смотрела в пустоту восхищения мертвых глаз, и слова сами собой начинали срываться с ее губ – она исторгала из себя, как менструирующая женщина – все лишнее, все уже ненужное, то, что так хотела бы уметь забывать. Все прочитанные когда-то книги, заученные пьесы, пустые монологи, цитаты. Она сыпала правительственными сводками, она выкрикивала официальные лозунги, она произносила, она играла – отдавала миру всю эту уже не нужную ей информацию. И чувствовала, как освобождается от этих пустых слов, как светлеет в голове, как становится легче дышать. И прекрасно понимала, что это самообман, что пройдет совсем немного времени и в ее теле опять накопятся запасы сил, энергии и информации достаточной, чтобы подарить новую жизнь, сильную, смелую в своей безнадежном сражении со смертью. Она знала, что все, что она исторгнет в мир, скоро снова народится и скопится в ней, распространится и начнет давить тягучей полнотой внизу живота, пока стрелки ее внутренних часов не перейдут за полночь, и все, что скопилось, выльется отвратительным грязным потоком. Так очищается тело, так очищался и ее разум, чтобы потом начать все сначала. Обычно она избавлялась от лишних слов в собственной квартире, когда оставалась одна, но в пустом театре это было как-то естественнее, проще… действеннее.
Шумно выдохнула, стоя посреди сцены, закрыла глаза – ушло почти все, почти вся память истлела, проговоренная, но оставалось кое-что еще, кое-что, чего она не решалась трогать – но, может быть, сегодня решиться? Распахнулась и заговорила, задрожала, заискрила монологом из пьесы, которую так и не сыграла – это были те слова, которые они с Давидом говорили друг другу со сцены во время репетиций.
«Двое и пустота», она называлась… пустота, это уж точно. Пьесу планировали представить широкой публике накануне их свадьбы, тем более, что в ней кроме них с Давидом и занят-то был только один человек, в эпизодической роли, такой замысловатый подарок публике, влюбленной в их пару. Это была странная пьеса, но Аде она нравилась. Правда, играть приходилось чересчур рациональную истеричку, но это так отличалось от всех ее ролей, что сами слова приятно грели, обжигая горло, как хороший глоток рома. Она заговорила, громко, тягуче, перевирая интонации, которые замыслил автор и решил режиссер, играла, как играла бы с Давидом и почти видела его глаза, смотрящие на нее из зрительного зала. Может, он все же сядет там, на свободном месте, рядом с Вельдом и взглянет на нее призраком прощения? Она сейчас приняла бы даже его.
– Не оставляй меня, не оставляй… – Она заламывала руки, крутилась, кричала, колдовала, звала, плакала. Она играла так, словно жила этими словами, и опускалась на колени, и поднималась, и не думала о том, что мнет юбку и пачкает приталенное пальто, ставшее причиной зависти всех ее коллег.
Она была героиней, безымянной – какое же счастье, если вдуматься, не иметь никакого имени вовсе! Она растворялась в роли, которая растворялась в темноте, которая растворялась в свете. И все это коловращение было историей о любви женщины и безумии мужчины, что отвечает на призывы тьмы, и уходит, уходит, бросая ее одну… Смысл, который вкладывал автор, оставался не очень ясен, не режиссер решил, что это история о выборе героем Родины и отказе от личного счастья. В такой трактовке пьеса оказывалась весьма актуальна. А сама Ада думала о том, что это история о тотальном непонимании между женщиной и мужчиной. О том, что он бросает ту, которая слишком приземлена, по его мнению, слишком физиологична, ради каких-то своих таинственных высоких целей. И когда он уходил со словами – «Я не люблю тебя. Я люблю ЕЕ. ОНА – все. Она добра», а несчастная женщина оставалась одна в своем запертом мирке из темноты и одиночества, ненавидя эту таинственную соперницу, Ада думала, это слишком символично, чтобы быть понято правильно. И слишком правдиво, чтобы однажды быть поставлено так, как стоило это ставить. Она была неприятна в этой роли, склочная, истеричная, не способная принять истину сияющего высшего блага, но какой же она была настоящей! Призраки аплодировали ей, когда она подошла к финалу, произнося только свои реплики и выжидая паузы, достаточные для того, чтобы ответил ее партнер – не хотела играть за него, и так ведь слышала его голос. И Давид словно живой возникал в ее воображении, и связывала их не любовь, как она когда-то думала, не дружба даже, а этот сияющий, ослепительный момент совместного творчества, делающий их ближе, чем мог бы сделать секс. Вот что он предал, поняла, вот в чем он обманул, вот, что никогда я не смогу ему простить…
…в пыли и тиши кулис раздался шорох – она вздрогнула. И голос, знакомый, но какой-то хриплый, усталый голос изумительно коверкая некоторые слова и смыслы произнес следующую реплику – произнес не правильно, не так, как нужно, но в самом конце вдруг мелькнула интонация его, Давида интонация, замеченная так точно, что это просто не мог быть никто иной.
Ада не закричала. Подумала – это игра воображения. Но голос продолжал говорить, говорить – финальный, небольшой монолог героя, – и она выдавила из себя следующую реплику, ловя краем уха чуть слышные шаги, скрип досок под чьими-то ногами, движение в углу правой кулисы. Она подавилась своей репликой, застыла, тревожно вглядываясь в темноту, и ждала, что он выйдет на тускло освещенную сцену к ней – молодой, мертвый, вернувшийся из прошлого отпечаток ее боли. А потом он, наверное, остановит ей сердце, раз сумел вырваться из первого ряда кресел, раз сумел подойти так близко. Зачем же еще возвращаются призраки.
– Г-где ты? – Наконец выдавила из себя в тишину, и знакомый голос ответил:
– Здесь.
И показалась из-за кулис темная фигура человека – и она подумала, что сошла с ума, – и он продолжил, пропустив ее реплику, продолжил не так, как в ее воспоминаниях, путая слова, меняя местами, пропуская что-то, искажая интонации, и голос звучал так непохоже на него, словно прежнему Давиду кто-то сдавил руками горло. Ее призраки должны были говорить все правильно, и именно его ошибки вдруг убедили ее в реальности происходящего.
Она застыла, не зная, что ей делать: бежать, звать на помощь – но куда, но кого? – подойти к нему. Когда он вышел на более освещенный участок сцены, она, уже подготовленная к этому зрелищу искаженным звуком его голоса, не закричала.
– О боже, – выдохнула только, глядя в мутном свете на то, что когда-то было ее пропуском в рай, на то, что осталось от этого человека. Он стал как будто ниже – и сутулился – хотя она запомнила его высоким и статным, никогда не опускавшим гордой, белокурой головы. Его тело стало бледным и как будто переломанным, хотя в его руках чувствовалась сила. Но самое страшное случилось с его лицом. Вместо привычного ей идеального профиля – перебитый нос и несколько шрамов, сухая, потрескавшаяся кожа, шелушившаяся легкими струпьями, бледные почти отсутствующие губы. Он облысел – хотя ему было всего лишь немногим больше тридцати, и жалкая короткая поросль, оставшаяся от белокурых кудрей, топорщилась на висках. И в глазах – ужасно – в знакомых ей глазах застыло затравленное, усталое, безнадежное выражение загнанного животного, сжимающегося от каждого резкого звука. Глаза были все такими же голубыми – она видела это даже в полумраке зала, – но как-то потускнели, поблекли, будто вылиняли, и их озорной блеск стал влажновато-старческим.
Давид казался ей глубоким стариком, хотя был только немногим старше нее самой.
– Д-давид? – Слова не доигранной пьесы повисли между ними как взятое на себя обязательство, как невыполненный долг, как не сделанное признание.
Он улыбнулся, обнажая некогда белые, а теперь посеревшие, поредевшие зубы, и она догадалась, что еще смущало ее в его интонациях – легкая шепелявость.
– Ада, – он развел руками, демонстрируя себя с насмешкой и разглядывая ее – с завистью, ненавистью и облегчением. – Ада, Ада, Ада, Ада… Моя принцесса. Ну что же ты не обнимешь своего принца?
Она задрожала под его взглядом, осознав вдруг, что он живой, настоящий. Она подумала – он рехнулся, он сумасшедший. Она подумала – нет смысла кричать, никто не придет, никто не услышит, и она не сможет защитить себя, скованная ужасом перед этим его взглядом мертвеца, уставившегося на живую, трепетную плоть. Она подумала – это он шел за мной в темноте, это он напугал меня на улице, а теперь загнал в ловушку, из которой мне не выбраться. Но в следующую секунду его поднятые руки безвольно рухнули вдоль тела, а с оскаленного лица стекла, разливаясь под ноги, кривая угрожающая ухмылка вместе с выражением злости. И он стал мгновенно – слабый, измученный, безопасный старик.
– М-да, принц, увы, выглядит так, что ни одной принцессе не захочется к нему приближаться. Ничего, дорогая, ничего. Я прекрасно тебя понимаю.
Он словно осел – как осело, она помнила, здание крематория, словно эта вспышка ярости и бравада поглотили все его немногие силы.
– Что…
Она никак не могла заговорить, не могла облечь мысли в слова, а в воздухе все летали и не таяли слова недоигранной пьесы.
– Что ты здесь делаешь? – Пришла на помощь память, позволяя цитатами изъясняться, почти так, как нужно. Там где не хватало своих слов, на помощь приходила вся мировая литература и сотни прочитанных сценариев.
– Думала, я умер? – С интересом и снова мелькнувшей злостью осведомился он, но тут же сел прямо на пол, не заботясь о своей одежде. Ада только сейчас заметила, что на нем не обноски, не обрывки, которые так сочетались бы с его внешностью, а сероватая форма сторожа. – Пришел тебя послушать, а вообще я здесь работаю. Теперь. Ты отлично выглядишь.
Из нагрудного кармана он достал пачку дешевых сигарет – а раньше ведь не курил – чиркнул спичкой. Огонек выхватил бейджик, на левой стороне его груди, «Давид Стратан». В театре, конечно, нельзя было курить, но Давиду бы простили нарушение этого правила за его обаяние, ему всегда все прощали, вспомнилось ей. Почти все.
Она словно провалилась в дурной, бесконечный сон. Все, начиная с глупой беготни по улицам, напоминало кошмар, но количество мелких деталей, которые не могло создать ее воображение, указывало на то, что это реальность и так просто она не исчезнет. Снова вгляделась в его лицо, в его очень бледные пальцы, подносившие к криво ухмыляющемуся рту сигарету, и неожиданно для себя разрыдалась.
Она сама не знала, чего было больше в этих слезах – нервного напряжения последних недель, шока, испытанного страха или жалости к этому человеку. Тогда, десять лет назад она тысячи раз мысленно представляла себе их встречу, потому что чувствовала, что должна что-то сказать ему, что-то объяснить, оскорбить его, наконец, – как он оскорбил ее. Потом она отвлеклась, жизнь закружила, и она перестала думать о нем, не простив. И никогда не представляла, что будет плакать о нем, а теперь, вопреки тому, как она относилась к Давиду, вопреки тому, как подло он с ней поступил, ее сердце рвалось на части от сожалений о потерянной, уничтоженной, растоптанной красоте. Несмотря на все ее бесконечные мысленные репетиции, ей совершенно нечего ему сказать, не о чем его спросить. Не только потому, что прошло слишком много лет. То, во что он превратился, совсем не напоминало ее фантазии. И прошлое, которое было между ними, вдруг стало легче, прозрачней, сползло шелковой накидкой по ее плечам, упало к ногам. Она ощутила себя так, словно скинула с души огромный камень, который зачем-то тащила с собой все эти годы. Она почувствовала – он ничего не должен ей. И она ему ничего не должна. А он молчал, удивленно глядя на нее сквозь клубы табачного дыма, и, сознавая свое уродство, не смел подойти к ней и успокоить. Да и какие могли быть утешения – там, где умирает красота, женщину не утешить ничем.
– Что они с тобой сделали? – Рыдания постепенно стихали, и Ада уже принялась вытирать щеки, не чувствуя, что размазывает по ним потекшую тушь, превращающуюся в грязь.
– О… о… это долгая история совершенно не предназначенная для твоих нежных ушек, – он снова щербато улыбнулся. Ада не чувствовала никакого злорадства – только боль, глядя в ощеренную темными зубами уродливую пещеру его рта. Она покачала головой, потом быстро нашла сумочку, извлекла из нее бутылку рома, булочки, сыр, шоколад. Искала сигареты, конечно же, но, по мере того, как доставала еду, в ней крепла уверенность, что нужно его угостить. Давид казался таким… истощенным. Еда, вода и ночлег – самое естественное, что может дать один человек другому, вспомнилось ей. Неужели тоже какая-то книга? Или что-то из ее собственных мыслей?
– Будешь? – Она боялась подходить к нему близко, словно его уродство могло ее заразить, но, обругав себя бесчувственной тварью, все же подошла. Протянула ему еду, засомневалась насчет алкоголя. Стаканов не было, а пить из горлышка при нем… после него…
Ада зажмурилась, сделала большой глоток рома, и протянула ему бутылку, чувствуя, как внутри все обожжено возмутилось такому варварству. Но от этого горячего, почти уже привычного чувства все вдруг стало не таким безумным, а он – не таким уж пугающим. Даже если это он шел за ней по пятам, пугая. Давид… то, что некогда было Давидом, прозрачно кивнул, устраиваясь удобнее и принимая угощение. Она подумала, что раньше он проявил бы чуть больше такта. Наверное, прошедшие годы его научили принимать то, что дают, без разговоров.
– Спасибо, – наконец, выдавил из себя он, расправляясь с булочками, быстро, аккуратно, так чтобы ни одна крошка не упала на пол. С прожорливостью вечно недоедающего. – В последнее время я научился есть, даже если не испытываю голода, но это не страшно. Как видишь, к ожирению это не привело.
Он шутил. Он все время шутил насчет того, что с ним было, и это так напоминало прежнего Давида, который мог смеяться, кажется, надо всем на свете, что она решилась и села рядом.
Это было слишком – пахло от него как-то странно, бестелесно, лекарствами и мылом, но не человеком. А еще дешевым табаком. Аду затошнило, но не вскакивать же теперь, и она просто сидела рядом, смотрела прямо перед собой, чтобы не смотреть на него. Опустошенная, уставшая, марионетка, сдернутая с нити.
– Зачем ты шел за мной на улице, ты меня напугал.
– Я? – В его голосе послышался смех. – Я же сказал, я тут ночным сторожем тружусь. Думаешь, я стал бы отлучаться, чтобы побегать по улицам за какой-то девчонкой, рискуя потерять эту прекрасную работу?
Она чуть кивнула. Он же не хромал – глупо было подозревать его.
– Расскажи мне о себе. Кое-что доходило даже до нас, но из первых уст это, наверняка, прозвучит гораздо более захватывающе. Нам иногда даже кино показывали с твоим участием, – он покосился на ром, потом, словно решившись, сделал глоток, протянул бутылку ей, как когда-то давно, в их общем розово-романтическом прошлом, но она отрицательно покачала головой. Он усмехнулся, она услышала этот шепелявый всхлип, и почувствовала укол стыда.
– Работаю. Если видел фильмы, значит, знаешь и все остальное. Замужем была.
Он вздохнул как-то шумно и спросил, как-то безучастно, хотя она слышала ложь в его интонациях.
– Была? Разошлись что ли?
– Он умер, – отрезала, догадываясь, что он знает это и без нее. О самоубийстве Вельда долго шумели. Но она вовсе не собиралась об этом говорить с Давидом – да и ни с кем не собиралась об этом говорить. Замолчали.
– Моя карьера тоже, знаешь ли, была стремительной, – через паузу, точную театральную паузу зачем-то поделился он. – Менее фееричной, чем твоя, конечно, но что ты хочешь – провинция. Хотя и мне есть, чем гордиться. Два года в закрытой клинике, потом стройка у черта на куличиках. Потом немного ближе чертовых куличек. И так постепенно все ближе и ближе к Столице. А пару недель назад пришел приказ об амнистии, спасибо нашим великим бессменным и бесценным руководителям. Они решили, что бессмысленно кормить меня дальше за государственный счет. В целом они правы, я несколько… подрастерял прежнюю выносливость.
Она не слышала даже горечи в его шутках. Только усталую гулкую пустоту.
– Я много думал о тебе все это время. Знаешь, как это бывает. Ловил все слухи о тебе, смотрел все фильмы с тобой по многу-многу раз, думал, какой она красивой стала, моя принцесса, – так же ровно проговорил он, а она вдруг разозлилась. Это обращение – такая издевка, особенно если вспомнить, как он с ней поступил. Еще секунду назад чувствовала, что им нечего делить, и надо же было ему опять сунуться к ней в душу. Оказалось, обида там не выкипела, только притаилась.
– Да? А я думала, что я настолько тупа, что не вижу дальше своего носа, и всегда вызывала у тебя отвращение, граничащее с ненавистью, – процитировала она ему его же показания. Арфов нашел способ ее с ними ознакомить – как раз, когда она металась в истерике и кричала, что все ложь, что Давид абсолютно нормален, что он не мог так с ней поступить.
Он удивленно посмотрел на нее и даже протянул руку, чтобы коснуться, но тут же отдернул, спохватившись. Его привычнее жесты и то, как он останавливал себя, вызывали в ней острое чувство стыда, настолько острое, что оно затачивало ее злость еще сильнее.
– Черт, Ад, ты что, злишься? – Он выглядел ошарашенным – она посмотрела на него, чтобы убедиться в этом. На обезображенном лице светилось недоумение.
– Я думал, ты поймешь. Что должен был им сказать, что мы были близкими друзьями? Тогда они вряд ли поверили бы, что ты не знала о моей… склонности.
Она ощутила, как ей обожгло руки, щеки, шею, внутри что-то оборвалось. Она тогда придумала сотни возможных объяснений его поступку. Но это… он что, сделал это ради нее? Ей стало противно – куда противнее, чем смотреть на его лицо. Ей и так было стыдно за свою цветущую красоту и счастливую, черт возьми, жизнь, а теперь поднялась и новая волна злости, обманутой женской злости. Столько лет прошло, а оказывается все это время в ней тлело это презрение к нему, эта боль, куда более сильная даже, чем горечь утраты, которую она испытала, когда умер Вельд. Может быть, потому что в смерти мужа было и некоторое облегчение, а в предательстве Давида – только унижение. И теперь, как оказалось, беспомощность.
– Мы были близкими друзьями, говоришь? Да уж, близкими. Настолько, что ты не стеснялся лгать мне о своей любви, не признался в извращении!
– И что бы ты сделала, если бы признался? – Кротко спросил он, подбирая незаметные ей крошки со своих форменных брюк. – Сдала меня? Скрывала бы? На кой черт тебе нужна была эта правда, если она заставила бы тебя делать такой выбор? Ты мне можешь, конечно, не верить, но я пытался тебя защитить, как мог, – как же равнодушно звучал его голос. Ада поняла – эти годы выжгли в нем все. Все эмоции, всю правду, весь пыл. Ничего не осталось, кроме этой пустой оболочки, да насмешек. Давид умер. И его смерть давала возможность этому искалеченному существу признаваться в самых чистых и самых постыдных своих поступках совершенно свободно. Он не собирался ей лгать – зачем ему? – и он был прав. Ада раздраженно закурила. Ей нечего было ему возразить, и некуда было от него уйти. Хочешь – не хочешь, а придется сидеть здесь до утра. Слишком страшны оказались для нее улицы по ночам. Но как же все-таки бесило это чисто мужское, оскорбительное стремление защищать, спасать, даже когда она не нуждалась в защите, не хотела быть спасенной. И было еще что-то, что совсем не нужно было говорить, что было глупо – здесь, сейчас, после десяти лет, после ужаса его жизни и сияющего блеска ее успеха, после замужества и вдовства, после того, как она снова смогла влюбиться, снова смогла почувствовать, что у нее есть будущее – и увидела, что у Давида его нет. Но сколько лет она мучилась, сколько перенесла просто из-за того, что он тогда выбрал ее – и давняя обида облеклась в слова, бессмысленные обвинения. Давно канувшая в лету глупая принцесса отчитывает своего мертвого жениха, что может быть смешнее, что может быть нелепее, но нужно же получить ответ на вопрос, нужно же узнать, и женское, обидчивое, в ней вскинулось.
– Почему ты так со мной поступил? – Он молчал, опустив голову, и пока не угасла первая вспышка, она подкинула веток в костер своей злости, вспоминая все то, за что она его винила. – Давид, я же тебе верила! А ты меня использовал, гнусно и подло. Ты же мог выбрать любую, ну любую женщину! Какого черта ты решил изгадить именно мою жизнь – ведь я верила! Я знаю, многие так делали, женились для отвода глаз, их потом все равно обнаруживали, ты не один такой, но какого черта, если я была тебе так дорога, как ты говоришь? Почему ты решил поиздеваться надо мной? Я ведь только из-за тебя выскочила замуж, не разбирая за кого, и мой муж умер. Ты знаешь, что мои роли все жалкие повторения одного и того же, что я была одинока несчастна, каждый день несчастна, что так и отважилась родить ребенка – все думала, а вдруг он будет как ты? Вдруг я сделаю что-то не так, ведь есть же во мне какой-то изъян, раз ты выбрал меня? Что я уже почти забыла, что значит влюбляться и верить? Что в каждом мужчине я годами видела только презрение к тому, что я женщина? Почему я, Давид? Почему?
Вопрошала будто не его, а саму судьбу, и судьба молчала, криво улыбаясь с его искореженного лица. Потом он все же ответил, закурив снова, не оправдываясь. Что ему, року, судьбе, искалеченному ангелу до ее упреков?
– Я любил тебя, Ада. И не смотри на меня так – любил. Да, не хотел как женщину, но я не виноват, что я вообще не хочу женщин. Не думай, что я не пытался вылечиться, я искал выход всю свою жизнь, особенно, когда был подростком. Но у меня ничего не получалось ни с одной девушкой. И все они были такими… одинаковыми. А потом появилась ты, ты казалась такой особенной, ты давала мне шанс. Ты была для меня той единственной, с кем я мог бы прожить всю жизнь. И не моя вина, что ничего не вышло.
– Всю жизнь? – Она вдруг представила на мгновение такую жизнь и заледенела. В реальности у нее был хотя бы Вельд и его пьяная похоть, был Дима, были такие же как Дима, бесчисленные повторения посредственности, отличающиеся только именем и цветом глаз, но они хотя бы находили ее привлекательной. А что у нее было бы с ее прекрасным принцем? Года, десятилетия презрения к себе, презрения тем более сильного, что она не знала бы причины его равнодушия. – А как ты собирался провести первую брачную ночь? Напоить меня и отправиться блудить со своими дружками? А как ты планировал родить со мной детей? Твою мать, Давид, на что ты думал меня обречь, урод несчастный?!
Растерянность мелькнула на его лице, словно он никогда не думал об этом под таким углом, но даже этого чувства было для него слишком много теперь. Она спрашивала, он отвечал, не испытывая ни малейшей нужды в этой исповеди. Его больше нет, Давида больше нет, нет, нет, кружилось у нее в голове, и бессмысленно добиваться от него раскаяния.
Он пожал плечами.
– Ада, я не виноват, что родился таким. Я должен был выживать. Ни один человек не подал бы мне руки, если бы знал правду. Что мне оставалось? Никто не жалел меня. Но мне нравилось думать, что ты пожалела бы, если бы узнала. Проверять я не собирался, мне было достаточно этой глупой мечты. А ты… Ну, ты бы мне изменяла. Как мужу своему.
Она резко развернулась и ударила его прежде, чем поняла, что делает.
– Заткнись, заткнись, заткнись! Я никогда не изменяла Вельду!
Пощечина вышла хлесткой, звонкой, но он словно и не почувствовал. Зато почувствовала она – струпики с его кожи щекотали ее ладонь. Какая шершавая кожа, какие тусклые у него глаза, как трудно с этим справиться. Он недоверчиво фыркнул, неудивленный ее выходкой, словно ожидал чего-то подобного.
– Вот за это ты мне всегда и нравилась. Ты сильная. Ты сумасшедшая кошка, Ада. Ты все то, чего никогда не было и не могло быть у меня. Ты ничего не боишься, – но она уже гладила его лицо, его искалеченное лицо, она уже обняла его, как поломанную, избитую куклу, и плача – сколько же можно плакать? – она уже говорила ему:
– Нет, нет, нет, я боюсь, до тошноты боюсь всего и вся, и самой себя и того, что мне приходится делать. И я стала слабая, ты даже не представляешь, какая я слабая, сильным был он, но даже он умер, – и она говорила о Вельде, впервые в жизни говорила о Вельде, а Давид слушал, склонив голову к плечу и принимая ее объятие и ее бесстрашие и ее исповедь так равнодушно. Она вдруг почувствовала – он не умер, он умирает. Он – смертельно раненное животное, которое приползло в свою нору, забилось, и ждет, когда кончится мука, смотрит вперед без страха, без сожалений, даже не торопит смерть, прошла пора, когда торопил. Просто ждет. И ему можно рассказать обо всем, и ничто его не тронет, ничего он не осудит, ничему не удивится. И потому она рассказала, как рассказывала в детстве свои секреты кукле, и чувствовала, что его смерть освободит ее от памяти куда лучше, чем тысячи криков в тысячах театров.
***
Они сидели голова к голове, в темном театральном зале, и она рассказывала ему все. Рассказала о том, как Вельд ворвался в ее жизнь, обжигающе яркий, как не понравился ей, как раздражала ее его самодовольная, самонадеянная манера относиться ко всему, в первую очередь к ней самой. Раздражала и привлекала одновременно – их с Давидом неудачной помолвки ей казалось где-то в глубине души, что она и не заслуживает иного, трогательного отношения, и Вельд в избытке давал ей унижений и страсти, всего пополам. После той встречи, когда она переживала мучительный скандал, когда он пел ей на ушко песенку, он вцепился в нее мертвой хваткой, словно, действительно, влюбился, хотя, может быть, просто играл. Он считал, что она испорчена до мозга костей, и словно был очарован этой мнимой испорченностью. Приглашая ее на танец всякий раз, когда они встречались, он всегда мешал ей танцевать, нашептывая что-нибудь скабрезное. И со все возраставшим интересом она слушала его. Он говорил, что она редкая стерва, он всегда любил таких, он придумывал, что она распущена, он был уверен, что она не просто знала о Давиде, но и участвовала в каких-то мифических оргиях. И Ада, которая в глубине души все еще оставалась застенчивой девочкой, с трудом преодолевавшей привлекательность собственного тела, чувствовала, что эти рассказы манят ее куда-то в темноту, в бездну, в нереальную трясину, где душно, гадко, нечем дышать, но так сладко пахнет смертью и развратом. Сердце билось чаще, когда он подходил к ней, и вот она уже начинала делать радио громче, когда играли его песни, интересоваться им, ждать, что он пригласит ее на очередной танец и опять споет какую-нибудь гнусность, которую ее воображение подхватывало с таким удивительным упоением. Он был слишком огромен для нее, всеобъемлющ, слишком силен, слишком размашист, но ей нравилось, что перед ней, такой маленькой, он мог встать на колени посреди огромного зала, позируя для фотовспышек, мог подхватить ее на руки и закружить, мог сорвать поцелуй и долго гордиться пощечиной, которой она отвечала, мог приехать к ее квартире в своей открытой машине, заполненной цветами так, что ему самому почти не оставалось места, мог петь под ее окнами свои песни до самого утра в тот короткий период, когда отменили комендантский час. Где-то в глубине души она понимала, что это поза, рисовка, что это во многом лишь дань его имиджу Казановы и способ раскрутить новый альбом сладких песенок про любовь, но не могла не поддаться. Вельд говорил ей – мы похожи, девочка, мы поладим, – и постепенно она поверила в это, захотела поладить с ним, тем более, что в его глазах читалась неприкрытая страсть, а ей так хотелось доказать самой себе, доказать всему миру, даже Давиду доказать, что она желанна и прекрасна.
Когда они познакомились, он спел пророческий стишок и вскоре стал сниться ей, ее ужасный Вельд, чудовище из сказки о красавице и монстре. Он и был монстром, сатиром, прятавшимся за дерзким взглядом темных глаз, за непослушной прядью, выбивавшейся на белый лоб, за его широкой, дурашливой улыбкой, за его видом большого ребенка. Подававший надежды музыкант. Лидер сверхпопулярной музыкальной группы. Автор собственных песен с бесконечно чувственными губами и глубоким голосом, от которого, она слышала, некоторые женщины приходили в такой восторг, что сдирали с себя белье. Он и говорил так – глуховато, негромко, низко, как-то неприлично, от чего ей становилось так сладко не по себе. Он был сатиром и не скрывал этого, он был алкоголиком и совсем немного умалишенным. Он был жутким эгоистом, и, пробуя на вкус этот мир, не собирался останавливаться, чем бы ни грозила ему неумеренность. Но это была не любовь, тогда нет.
– Я знаю людей, которые считают, что он был гением, – бросил Давид.
Она кинула. Вероятнее всего, был. Слишком его было много, так не бывает, чтобы человек такой широты не был поцелован Богом. Но он тратил так много сил на то, что не имело к божественности никакого отношения, что в итоге загнал в ловушку самого себя.
Он был словно пожар в джунглях, опасный и всесокрушающий, и когда он пришел и сказал, что она змея, она согласилась быть для него змеей. Их страсть, вспыхнувшая от одного слова, одного взгляда готова была разрушить все на своем пути и, прежде всего, их собственные жизни. Но ему мало было завоевать ее, ему хотелось, чтобы она пошла с ним во тьму, в ужас и сладость болота, в котором он жил, и потому он никогда не притворялся, был с ней тем, кем являлся в действительности, он хотел, чтобы она доросла до него – или опустилась до его уровня, и, завороженная, она шла на все. И вот уже они ни дня не проводили без выпивки – и именно он объяснил, что вино – обман, а истина в джине, роме, в виски, он учил ее пить, учил ее разврату, учил ее не стыдиться собственного тела, и это было так уместно, это готово было стать ее профессией. Он портил ее, а ей казалось – она учится жизни, учится получать удовольствие от каждой минуты, они скандалили как сумасшедшие, клялись никогда больше не встречаться друг с другом, но проходило несколько дней – или часов – и их снова тянуло друг к другу и они кидались навстречу, словно изголодавшиеся, дикие звери.
Но она искала в нем то, чего ей недоставало. А он – то, что любил в самом себе. И прежде, чем они разобрались, он сделал ей предложение, а она согласилась, и Арфов пришел в ужас, убеждая ее, что кончится это плохо. Что она домашняя девочка до мозга костей, и он даже сомневается, можно ли это из нее вытравить, а Вельд – негодяй и развратник, что они разойдутся меньше, чем через год, что он ее бросит, а Илье потом вытаскивать ее из депрессии, что она от него сбежит, а Илье потом выкручиваться и пытаться устроить развод, что даже для него будет проблематично.
Ада смеялась в ответ, кричала, что она счастлива, и так уверенно лгала об этом, что верила самой себе. Она не рисовала себе будущее – будущее с Вельдом не существовало, но не существовало и прошлое, а это так прекрасно, это так лечило ее от боли, от разочарования, что – почему было не рискнуть?
Она рискнула, они поженились, и была пьяная вечеринка, отличавшаяся от всех остальных вечеринок только цветом ее платья, и был недельный загул по барам, по дорогам, по городам ОЕ, которые все были так похожи, что едва ли она могла найти в них различия, и было возвращение, и работа, на которой так трудно сосредоточиться с похмелья, и Вельд, зависший в своей студии, писавший новый альбом, приходивший домой все злее и злее, пивший все больше и больше. Он оживлялся, только когда она закатывала ему скандалы, словно и ему нужно было унижение, чтобы любить ее, и они жили так, вцепившись друг другу в горло, не в силах расстаться, не в силах стать нормальными. Илья причитал, но продолжал вытаскивать ее из неприятностей, подсчитывать деньги и уверять всех, что творческий союз и не может быть спокойным, а сам в глубине души боялся, он признавался ей позже, что она погубит свою карьеру на корню. Но пока все шло даже слишком хорошо, ей прощали ее выходки, а желтая пресса любила их – и делала им рейтинги, повышала к ним интерес.
Вельд часто взрывался по поводу и без, но со временем она заметила, что больше всего его раздражает их странное положение. Самая скандальная пара в стране, он преуспевающий музыкант, она известная актриса, но на ужин у них вся та же синтетическая пища. Его оскорбляло, что его женщина носит искусственные украшения и фальшивые меха, чтобы поехать куда-то отдохнуть, нужно просить разрешение, а ведь Ада никогда в жизни не видела моря. В те моменты, когда в нем просыпалась какая-то дикая, невыносимая нежность к ней, он грозился, что отправится далеко-далеко от Столицы и там своими руками завалит какого-нибудь медведя, чтобы одеть ее как королеву, чтобы доказать, что он может получить даже невозможное. И Ада смеялась – он всегда ее смешил – и думала, он так опоздал родиться, ему бы в пещеры, забивать мамонтов, зачинать бесконечное количество детей и умереть совсем молодым стариком. Но моменты нежности случались с ним все реже и реже, а потом Вельд и вовсе стал поднимать на нее руку. Их постель всегда была полем битвы, но она готова была это терпеть, потому что порой Вельд был фантастичен, но однажды он ударил ее во время бурной ссоры, и вскоре это стало скорее правилом, чем исключением, и она узнала, у него появилась любовница, потом другая, потом третья, а потом она потеряла им счет. Однажды она решила, что беременна – ошиблась, это был просто сбой цикла, вызванный слишком бурным образом жизни, – но сказала об этом ему, и он носил ее на руках несколько дней, пока в очередной раз они не поссорились, и он не ударил ее в живот, расчетливо, злобно, крича, что лучше ее ублюдок сдохнет сейчас, чем родится в этом гребаном нищем мире.
С того дня в ней что-то надломилось, и, хотя она все так же замазывала синяки на скулах, все так же кричала на него, все так же ревновала, все так же чувствовала себя оскорбленной – как он мог предпочитать ей каких-то шлюх? – что-то в ней изменилось, она теперь словно повторяла давно затверженную роль, без прежнего чувства, без прежнего отчаяния.
Иногда, возвращаясь со съемок раньше положенного, она встречала дома не приятелей Вельда, а других, странных мужчин, не одурманенных наркотиками, и удивительно трезвый муж только мрачно смотрел на нее, быстро выпроваживая своих гостей, и они скомкано прощались, убегая и пряча в свои серые портфели какие-то бумаги. И когда, случайно ей в руки попал один из таких листков, и она увидела, что это стихи, гнусные вирши, высмеивающие Президента, ОЕ, саму жизнь, она не колебалась, она донесла. А потом была встреча в ресторане, странное предложение агента службы охраны считать себя его любовницей, она теперь думала – неужели они тоже пытались так ее защитить? – а потом был долгий путь домой, когда она просто не могла вернуться в их квартиру, было блуждание по улицам, какой-то гостиничный номер, где она простояла под душем несколько часов. А потом было возвращение домой, и Вельд в гостиной, мертвый, убитый двумя выстрелами, а вовсе не застрелившийся, как об этом объявили – и не стоило рассказывать об этом никому, но она рассказала Давиду, все, все до самого нутра – как тогда сползла на пол, как вцепилась в ковер и выла, выла как собака от тоски, что Вельд ушел, что его больше нет, потом смеялась от облегчения, и звонила по данному ей номеру, и просила приехать, и как носила траур, и как почти бросила пить, и как молчала, закованная не то в свое горе, не то в свою тайну, не то в облегчение. Как хоронила мужа в закрытом гробу, как стояла рядом с матерью покойного, которую видела впервые в жизни, как эта серая от горя женщина смотрела на нее, гладила по голове, утешая, как пыталась поддержать, и от этой поддержки самой Аде становилось невмоготу, но она не могла даже плакать. И никому не могла обо всем этом рассказать, конечно же, даже Илье, который, кажется, все-все понимал, но никогда не обсуждал напрямую…
Она рассказала про Диму, про Илью, про то, как жила и как живет сейчас, и только про Германа умолчала, скованная какой-то внезапной стеснительностью – эта ее мечта была слишком хрупкой, чтобы говорить о ней вслух. А еще даже ее эгоистичность пасовала перед таким признанием. Каково было бы Давиду, каким бы равнодушным он ни казался, выслушивать, что новый герой ее грез – начальник службы охраны.
Утро наступило почти неожиданно. Давид отстранился, потянулся, смешно прижимая к себе искалеченную руку, и Ада не испуганно, но сочувственно смотрела на него, глаза ослепли от слез, но она как-то умудрялась видеть, каким серым было его лицо. Он включил свет, шесть утра, ему сменяться скоро. Она молчала, глядя на него и не понимая, как посмела, как решилась поделиться с ним, с предателем, но невозможно же столько лет носить в себе это, рано или поздно она бы кому-нибудь рассказала. Пусть это будет Давид, подумала. Мы же с ним, несмотря ни на что – родные. Подумала – у него же кроме меня и нет никого. Ну, кроме его дружков, таких же извращенцев, но знала, сердцем чуяла – они сгинули давно. Никому он не нужен, никто о нем и не помнит, это она одна, как дура, все хранит тот фильм с ним, слова пьесы вспоминает – только это тоже немало, вдруг поняла, стоит ее исповеди. И чувствовала – он ничего не знает ни про фильм, ни про то, что она о нем вспоминала, – а все равно думает так же. Может, выслушать ее исповедь – это его попытка попросить прощение. А может, он и правда любил ее когда-то, может, ему просто не все равно.
– Я так много наболтала… А о тебе ничего и не спросила.
– Я умираю, Ада, – просто ответил он, и она кивнула – подтвердил ее догадку. И не стала утешать – как тут утешишь, что скажешь?
– Может, тебе найти какого-нибудь врача, может, деньги нужны?
Он отмахнулся, указал на бутылку рома, о которой они так и забыли, и ей стало тепло – он не пил, не спал всю ночь. Он, правда, ее слушал. И есть ли разница, что он собирается делать с этой информацией?
– Это и так слишком много. Приду, лягу, выпью за твоего покойника, хотя он того и не стоит. Но я так много о нем знаю, да и через тебя он мне теперь считай, что родственник.
– Как думаешь, он… его… из-за меня? Из-за того, что я сделала?
Давид криво усмехнулся.
– Нет, Ада. Это из-за того, что сделал он. Донесла бы ты или нет – он бы все равно попался, все попадаются. Только он тогда утащил бы тебя с собой без малейшего сожаления, а глядя на меня, ты можешь убедиться, что тебе бы там не понравилось. Но ты зря надеешься, что я отпущу тебе грехи и утешу твое раздутое чувство вины, – он щербато улыбнулся. – В богатстве и бедности, да? В болезни и радости, ты должна помнить, мы с тобой когда-то тоже так собирались. Может быть, оно и лучше было бы для тебя, окажись ты там. Красивой жизнью это не назовешь, но вот всякой дряни типа твоего нынешнего женишка или агентика – гораздо меньше.
– Дима? Да нет, он же просто… – но Давид уже приложил палец к губам, указал на левое запястье, и скрылся куда-то за кулисы, и сколько бы она его ни звала, не вышел к ней. Отчаявшись его дозваться, она собралась и незаметно выскользнула на улицу – уже начал ходить транспорт, уже было совсем светло, не страшно, можно ехать домой.
Она вернулась в свою квартиру, упала в постель, к счастью, пустующую, крепко уснула, надеясь, когда проснется, сходить в театр еще раз, узнать адрес их ночного охранника, найти его, может быть, чем-то помочь…
Но когда она выспалась, эта мысль показалась ей глупой, а потом позвонил Илья и долго орал в трубку насчет того, что она проспала все на свете, и потекли такие загруженные дни, что у нее просто не хватало времени навестить театр и Давида, хотя она думала об этом каждый день. И каждый день говорила себе «завтра», не слишком торопясь исполнить собственное намерение. И когда все же попала в театр, и узнала, что Давид умер несколько дней назад, испытала облегчение. Теперь ее секреты были в полной безопасности. Она даже не уточнила, когда именно это произошло, от чего.
Мертвым все равно, подумала. И чувство вины перед Вельдом отступило, хотя Давид и грозился, что этого не произойдет. Она продолжала работать, продолжала улыбаться с рекламных плакатов, заигрывать с политиками, обманывать Диму, дразнить Арфова и втайне желать, каждую ночь засыпая, каждое утро просыпаясь, что Герман куда-то испарившийся, появится, что она увидит его, и они, наконец, поговорят, как он когда-то ей обещал. Чувствуя себя достаточно чистой для него теперь, она ничего так не желала, как встретить его снова. Но прошел май и наступил июнь, и отгремели выборы прежде, чем ее желанию суждено было осуществиться.
***
Вечер начался со скандалов – Ада хотела поехать на очередную вечеринку, которую Сайровский устраивал в своем предвыборном штабе для «своих друзей», то есть тех, кто поддержал его компанию и способствовал победе. Конкурентов, впрочем, у него и так не было, но не один Арфов считал, что необходимо демонстрировать свою способность быть благодарным, а потому подобные этой вечеринки и концерты без перерыва продолжались уже неделю. Дима ехать отказался наотрез. У него была запланирована серьезная операция на следующее утро, и он хотел выспаться вместо того, чтобы весь вечер следить за тем, сколько Ада пьет и с кем кокетничает. Она же, больше раздраженная тем, что он не слушается ее капризов, чем действительно мечтая туда попасть, назло ему надела одно из самых своих вызывающих платьев в любимой, патриотичной черно-алой расцветке, пригрозила, что он еще пожалеет о том, что бросил ее одну. Выскочила из дома и принялась звонить Арфову – пожаловаться и потребовать, чтобы он сопровождал ее на празднике. После получаса криков, слез, угроз отправиться туда пешком и в одиночестве, Илья все же согласился заехать за ней, но только для того, чтобы отвезти на мероприятие. Остаться там он не мог – у Ады было приглашение всего на два лица, и его жена в этот дуэт не вписывалась никоим образом.
Он примчался через пятнадцать минут, злой и растревоженный, молчал чуть ли не всю дорогу, постоянно поглядывая на часы. Ада хмурилась, но в глубине души была довольна. Если он так с ней поступает, то скандал с женой – это то, чего он заслуживает.
– Такси не могла вызвать? – Нервно бросил Илья, когда она в очередной раз пнула коленкой водительское сидение, от злости ну и для того, чтобы не расслаблялся, конечно.
– Еще чего. Я и так иду туда одна. Представляешь, как это будет выглядеть?
– Сама выкручивайся. Я вообще не понимаю, что ты там забыла, – сердито бросил он, выжимая газ на полупустой трассе. Ясно, торопится к жене, но и она торопилась, потому что с этими скандалами и ссорами уже опаздывала к началу. Вынула зеркальце, критически оглядела собственное лицо. Глаза блестели недобро, сердито, и ей это даже шло, особенно в сочетании с агрессивным макияжем и открытым платьем. Могла бы и отрицательных героинь играть, подумала, но это, конечно, не обсуждается. Ее успех предопределил ее амплуа, теперь уж не исправить.
– Слухи могут поползти, сплетни, – подразнила она Илью, который и сам успел об этом задуматься, судя по тому, как дернулось его лицо в зеркале заднего вида. Она с интересом наблюдала, как мысль зарождается в морщинках вокруг его глаз, как собирается в улыбку, сладкую, почти приторную.
– Но ты же будешь хорошо себя вести, правда? Чудесно выглядишь, кстати, – она с торжеством улыбнулась, вот он уже сообразил, что за ней совершенно некому будет присмотреть, и, хотя мероприятие планировалось не таким уж многолюдным, иногда достаточно одной пары глаз и языка, чтобы испортить женщине репутацию. Тем более, что Ада всегда давала для этого кучу поводов.
– Конечно, – протянула она, поправляя волосы и снова улыбаясь. Там, конечно, будет тоска зеленая, сплошные разговоры о политике, едва ли приличная музыка, может быть, сносное угощение … Но помотать нервы Илье и Диме, это уже само по себе развлечение. Гораздо лучше, чем сидеть дома и притворяться примерной девочкой.
Наконец, доехали. Открывая ей дверь и подавая руку, Арфов выглядел как-то кисло, словно успел засомневаться в ней, но она бы не сказала, что он не находит себе места от тревоги. Это было меньше, чем она ожидала, но тоже неплохо.
– Ну все, пока, дорогой, – она быстро обняла его и поцеловала в щеку, а вдруг повезло и где-нибудь за углом скрываются папарацци, вот будет радость. Он похлопал ее по плечу, усмехаясь.
– Не напейся там смотри, дорогая, и предохраняться тоже не забывай, – и умчался, издевались габаритные огни. Она раздраженно посмотрела ему вслед, тряхнула головой, выгоняя мысли, выпрямилась, посмотрела на вход в здание. Там стояло двое молодых людей, с совершенно одинаковыми, безучастными лицами. Она бы и внимания не обратила, так давно служба охраны стала неотъемлемой частью города, но что-то в них было не так, и ее взгляд невольно на них задержался. Что-то не в порядке… Спустя секунду, она сообразила, что они одеты в новенькую темно-серую форму с черной окантовкой. Смотрелось неплохо.
«Очень мило, – мелькнуло в ее голове, и она даже замедлила шаг, проходя мимо, чтобы рассмотреть получше. – Надо будет заказать платье такого цвета, только немного синевы добавить». Этот серый, она подумала, пошел бы ее глазам.
В зале было немноголюдно, но все стояли, повернувшись к эстраде, с которой как раз спускался Сайровский, очевидно только что закончивший какую-то речь, которую она со всеми этими треволнениями умудрилась пропустить. В глубине души была рада: и опоздания ее никто не заметил, поскольку все слушали речь, и ей терпеть очередной рассказ о том, как процветает ОЕ, не пришлось. Об этом, на ее вкус, слишком много говорили – и так понятно, что процветает, неужели других тем нет. Было это не слишком патриотично, но только чуть-чуть, а потому – позволительно. Она лучезарно улыбнулась, кивнула нескольким знакомым в толпе, откидывая голову назад, да, пришла одна, что с того? Глаза не заплаканы, выглядит превосходно, кажется, моложе и счастливее, чем на самом деле, так что не надо так на нее смотреть, ни с кем она не ссорилась, ни с кем не расставалась.
Столик с напитками, конечно, поставили как можно дальше от двери, разумеется, и теперь придется незаметно продвигаться к нему, задерживаясь и болтая то с одним, то с другим, потому что в таком обществе броситься к этому столику сразу – значит объявить во всеуслышание, что она алкоголичка. И хотя в этом была доля правды, Ада пока не чувствовала себя готовой к таким признаниям. Вышколенные официанты сновали с подносами между гостями, но, как назло, ни один не прошел мимо.
Она огляделась, прочерчивала маршрут, планировала вечер, который, Арфов оказался прав, обещал быть очень скучным, но не успела сделать и нескольких шагов по направлению к группе не самых неприятных ей людей, как услышала, что ее окликают. Обернулась. К ней, с двумя бокалами шампанского спешил сам виновник торжества, и она расцвела обязательной счастливой улыбкой. Словно вся, до кончиков ногтей стала изгибом губ и радостью его видеть. Еще бы, не каждой женщине бокал подносит свежеизбранный президент огромной страны.
– Здравствуйте, – чуть наклонила голову, едва заметный знак благодарности за его галантность, а он уже целовал ей руку, старомодная привычка, которая невероятно шла его образу обаятельного пожилого господина. Ада знала толк в притворстве и костюмах, и поклясться могла, что Ян Сайровский играет на публику каждую минуту. Его лицо, с ровными чертами, благородными морщинами, его костюм, всегда идеальный и всегда чуть нарушенный какой-нибудь затейливой мелочью, розой в петлице, цепочкой от часов на жилете, шейным платком, его львиная грива абсолютно белых волос – все работало на создание образа, на внушение доверия. И только его глаза казались удивительно неприятными и, иной раз мелькало в них выражение, которое иначе как презрением не назовешь. Он старался произвести впечатление немного эксцентричного, обаятельного, добродушного и умного руководителя, и все в нем вроде бы не противоречило этой иллюзии, но слишком уж гладкими были его речи, слишком уж благородными – морщины, и иной раз ей становилось просто неприятно на него смотреть. А приходилось.
Они поболтали о вечере, о его победе, о ее фильме, о Диме, который отсутствовал, о том, что Сайровский постарается не дать ей заскучать – все так легкомысленно, так беззаботно. Но она ловила и ловила на себе его взгляды, и понадобилось время, чтобы осознать – да он же мысленно уже раздел ее. И совсем неудивительно после этого открытие прозвучало его признание, что на вечере слишком уж шумно и много народу, но что делать, придется некоторое время поиграть роль гостеприимного хозяина, но позже он будет счастлив, если она составит ему компанию и прокатится с ним в одно место…
Не то, чтобы это чувство не было ей знакомо, при ее профессии, внешности и репутации приходилось иной раз терпеть и не такое, но почему-то в его исполнении это оказывалось особенно мерзко, не тешило тщеславие, а унижало. Словно она уже давно со всеми потрохами, со всеми своими тайнами и надеждами, чувствами и переживаниями ничего не стоила, а была только холеным телом, которому он – господин. И не было даже у Вельда такого взгляда, потому что эта похоть не была следствием страстности натуры или воздействия ее красоты, а только холодным пренебрежением ко всему, что она ценила в себе. Ада попыталась взрастить в себе симпатию к новому президенту, ухаживала за ней, как за цветком, но ничего не получалось, это его холодное пренебрежение душило в ней все живое, и она вдруг почувствовала себя грязной, и захотелось отмыться, до костей тереть свою кожу, только бы сошло это липкое чувство, но она только пила свое шампанское, улыбалась и дышать старалась осторожнее, чтобы не слишком оттягивался вниз вырез платья, который теперь казался ей чересчур глубоким. Наконец, его кто-то отозвал в сторону.
– Извините, я должен ненадолго вас покинуть, – галантно произнес он, и она снова заулыбалась, заученно, мертво, но и облегченно тоже. – Только вот я обещал, что вам не придется скучать… Герман!
Она уже и сама увидела, а прежде, чем увидеть, ощутила по запаху, неуловимому человеческим обонянием, по собственному сердцу, ломанувшемуся о ребра, по воздуху, внезапно ставшему странно густым. Герман Бельке возник как тень, когда солнце вдруг выходит из-за туч, моментально, четко, прямо за плечом Сайровского.
– Вы ведь, кажется, знакомы? В любом случае, я хочу, чтобы гражданке Фрейн было весело. Ты постарайся, а я скоро вернусь, – сколько она его не видела? Месяц, полтора? Внутри точно канонада взрывов, и, наверняка, румянец проступит под слоем пудры на щеках, и, наверняка, дрогнули губы, и ее предает собственная, так ладно сидевшая маска, идет трещинами, разваливается на куски. Но даже захлестнувшие эмоции не помешали заметить и ненавидящий взгляд Сайровского, брошенный на Германа, и то, как он подозвал начальника службы охраны, второго человека в стране! – точно собаке приказал «к ноге». И как бесстрастно все это выслушал ее безупречный рыцарь, низвергнутый идеал, как ни один мускул не дрогнул на его лице. Она вдруг подумала – как унизительно, должно быть, для него стоять сейчас рядом с ней, охранять ее, точно пес от других гостей, чтобы ни один не приблизился, не покусился на кусочек мяса, который присмотрел для себя хозяин.
А ведь Сайровский и ей тоже хозяин, подумала, и странно ощутила себя – словно десерт на праздничном столе, словно Изольда, в плену у Тристана, словно осколок других историй, попавший по ошибке в современный, скучно-серый калейдоскоп. Но так было это смешно, так невероятно, что вот она на праздничном ужине, и все словно специально складывается так, что закончить ночь ей в постели сегодняшнего триумфатора, и ни Димы, как ни удивительно, ни Ильи рядом, чтобы отбить, защитить, ограничить его произвол, а рядом стоит и смотрит, чтобы она не сбежала, чтобы не претендовал на нее никто больше – тот единственный, в чьей постели ей бы хотелось оказаться.
Рассмеялась, допивая шампанское и ставя куда-то в сторону пустой бокал.
– Отличный вечер, не правда ли? – Страх перед ним совсем ушел, испарился. Ей до ночи точно ничто не угрожает, а там такая мерзость начнется, что впору наутро самой в петлю, так чего ж теперь бояться, стесняться чего?
– Да, – он ответил бесстрастно, но настолько бесстрастно, словно само это слово далось ему с трудом, застряло в горле и никак не желало выходить наружу.
– И повод какой чудесный, – заявила и снова рассмеялась, не могла удержаться, так горько, так обидно ей было, что она уже поделена и распределена. Как-то сразу все поняла и почувствовала, догадалась вдруг, почему новый президент был с ней так обходителен, так внимателен, а теперь пришло время платить по счетам. И надо же, она никогда не думала, что с ней это может произойти, Горецкий был так стар, что она как женщина его не интересовала абсолютно, а другие, видя его покровительство, не решались с ней так обращаться, но теперь все по-другому. Так смешно – она с первого своего дня в профессии бежала от этого ощущения поруганности, со всех ног бежала, а оказалось, осталась на месте и теперь все, не шевельнешься, паутина вокруг, и не выбраться. Да и надо ли выбираться, когда он тут стоит рядом, такой безучастный, и есть ли разница – Дима, этот мерзкий старик с розой в петлице, кто-то другой?
– Плохо вы меня развлекаете, – и снова расхохоталась, так что даже слезы выступили на глаза, и кое-кто даже обернулся, и она ответила вызывающим взглядом, принялась утирать кончиками пальцев выступившие слезы, чтобы только не испортился макияж.
– А мне показалось, вам весело, – она впервые взглянула на него, и так и замерла с пальцами, прижатыми к уголку левого глаза, потому что глянула на нее из его зрачков такая ледяная злость, такой зверь, что она задохнулась. Герман Бельке был в ярости – и она стала невольной причиной, и, в самом деле, он же тоже чувствует себя униженным, поняла. Но что такое его унижение по сравнению с тем, что приготовлено ей? И все же – вот оно, этого она хотела, подцепить его панцирь, взглянуть на его суть, увидела, что теперь, довольна? Неприглядным было это зрелище и обидней всего, что не она – причина, но разве он виноват, он-то что может сделать? Это же она, если так посмотреть, это она снималась в предвыборных роликах Сайровского и очаровывала его, так что по всему выходит, Герман тут не при чем, и не имеет она права на нем срываться. Этот образ мыслей был ей несвойственен, она подумала, вот глупая влюбленная девчонка, уже находишь ему оправдания.
– Вы танцуете? – Смех исчез, испарился, обожженный его ледяной злостью, и она уже смотрела примирительно, чуть ли не заискивающе. – Хотя нет, не стоит, пожалуй. Лучше давайте выпьем еще шампанского!
Она показала глазами на проходившего официанта, пусть ухаживает за ней, убранной к жертвоприношению овцой, от некоторых привычек было так трудно отказаться.
– Я не пью, да и вам, пожалуй, уже достаточно, – медленно произнес он с каким-то странным выражением глядя на нее.
– Думаете, для этого… может быть достаточно? – Тихо ответила, поймала его взгляд, и по рукам, по скулам побежали искры, ледяные, колючие, ток по рукам, по лодыжкам, по всему телу, и это не похоть, не отчаяние, что-то другое, незнакомое, заговорщическое, сладкое. Смотрела ему в глаза, мысленно все объясняла, что не удалось объяснить в тот раз и, случая, может быть, больше не представится, все рассказывала, без утайки и без надежды быть понятой. Но он как будто понял, чуть заметно кивнул, подозвал официанта, протянул ей бокал, чуть усмехнулся, взял себе, и она подумала, какой он, когда выпьет? А какой по утрам? А как он спит? Она часто видела его с сигаретой, интересно, пахнут ли его руки табаком? С кем он живет, кого любит, что ему снится? Так ли жестки его губы, как кажется, когда он пытается улыбнуться, когда молчит? Он, ее ледяной король, оказался человеком, но что это был за человек? Молится ли он перед сном, как пьет кофе по утрам, пьет ли? Что такое чувствовать прикосновение его руки к обнаженной коже? Целует ли он любовницу в плечо после?
Два бокала с тихим звоном соединились.
Словно похороны или свадьба, не разберешь, а он, чуть усмехаясь, стоял рядом, и не было вопроса важнее того, какими становятся его глаза в полной темноте спальни. Прикусила край бокала, пробуя на вкус безвкусное стекло, пригубила напиток и вдруг сообразила, никакого тоста не было, но он, сделав символический глоток, уже убрал стакан, и она поморщилась. Мог бы поддержать ее, некрасиво напиваться в одиночестве, одиноко так напиваться, но ведь это для нее завтра не будет, а ему еще жить, ему еще работать, хранить закон и порядок в этой чертовой Объединенной Евразии, объевшей ее жизнь со всех сторон. Она нахмурилась и залпом допила бокал, вот так, именно так, и если уж очень хочется заполучить ее, так пусть ее душа, ее память этого не сохранят, и может быть, тогда получится жить дальше, просыпаться по утрам и дальше, играть, конечно, теперь у нее будут только лучшие роли, и никакие Комиссии ей не страшны. Но все равно чувствовала – это проводы, похороны части ее души, еще одного маленького кусочка, и никому не объяснишь, в чем разница, между пьяными загулами с Вельдом, между ее нескончаемыми случайными романами, между ее фарсом с Димой, и этим грызущим, насилующим чувством, которое вызывает в ней перспектива ночи с Сайровским. Герман косвенно подтвердил, но ей и не нужны были подтверждения, она все верно поняла. И в голову не приходило, что можно уйти, можно уехать – так это будет демонстративно, но дело даже не в том – просто не было в ней решимости, ни капли, не хватит ей сил взять и выйти из зала, найти машину, сбежать. Не хватит смелости, так уверенно ею уже распорядились, что у нее словно руки отнялись, голова отказала.
Он мягко забрал из ее рук очередной пустой бокал, и она почувствовала, как искры побежали по коже снова, пробежали, взрываясь тысячей маленьких салютов в каждой клеточке ее тела. Чуть покачнулась, специально, конечно, и он взял ее под руку, отводя в угол, к креслам, что стояли по периметру, так, словно она вовсе не опьянела, не чувствовала себя плохо, а просто решила присесть, взял так жестко, что она вдруг почувствовала себя в тисках, и не было в нем больше ничего от робота, от рыцаря, а был только мужчина, который самодовольно распоряжался, но это оказалось неожиданно приятно, и так сладостно было снова чувствовать прикосновение его пиджака к голой руке, вдыхать запах, ощущать себя под охраной, в полной безопасности, и она чувствовала, нетвердо ступая, садясь, глядя на него снизу вверх, угадывая все бесчисленные выражения его невыразительного лица, что никакой он не робот, но внутри, там, за клеткой глаз, таится такое чудовище, которое нельзя выпускать на свет. Она сама была такой, чувствовала сродство, видовое сходство. Все что угодно можно отдать, только бы никто не увидел, не понял, что там, внутри живет, питается кровью и страхом. Она сама играла, чтобы скрыть это – огнедышащую ненависть, энергию ядерных бомб, мечтающих уничтожить все и вся. Он носила в себе бездну, в которой сгинуло столько людей, и делала все, чтобы казаться проще, глупее, скандальнее, предсказуемее, чем была, чтобы никто и никогда не узнал этого дракона, который таился внутри. И он прятал свое чудовище за сухостью, бесстрастностью, – она понимала. Можно убивать, предавать, пытать, можно делать, что угодно, ради того, чтобы монстр был сыт и не рвался бы наружу.
И прижималась к его рукаву, чувствуя, что он уже владеет ее рукой, а потом и плечами, за которые он придержал ее, усаживая на стул, а потом шеей, по которой скользнуло его дыхание, когда он наклонился к ней, и ее глазами, которые не отрывались от него, умоляя о чем-то, и каждой ее мыслью, и каждым ее вдохом и выдохом. Они почти не разговаривали, но он так точно выполнял приказ, и ей не было ни мгновения скучно, только тепло и искорки бегали и бегали, и когда одна из них попала на язык, она сказала.
– Я хочу уехать, я хочу домой.
Он посмотрел странно, опять, так, как когда-то смотрел отец, и она не уловила – а обычно это было так легко, – что за мысль пронеслась в его голове.
– Вы понимаете, что это большая ошибка?
– Я понимаю, но я не могу, просто не могу…
– Вы пьяны. Утром вы будете об этом жалеть.
– Я хочу уехать.
Он огляделся. Праздник продолжался, но на них уже смотрели с любопытством, и он подозвал одного из официантов, прошептав что-то ему на ухо, потом исчез, и напрасно она искала его в толпе глазами, напрасно оглядывалась, пока официант помогал ей выйти из зала, спуститься по ступенькам. Она видела, краем глаза, серо-черный форменный ворот рубашки под черным пиджаком, и понимала, что она идет с один из службы охраны, потому не вырывалась, и он осторожно помог ей спуститься по ступеням, сесть в какую-то машину, где она откинулась на сидении и закрыла глаза. Куда он повезет ее, может быть, к Сайровскому, туда, где ей и нужно находиться? Может быть, сейчас дверь откроется, и сядет в машину президент, и за ними поедет сопровождение, и будет все гнусно и грязно, может быть, даже не очень долго, и может быть, прямо в машине, а еще, может быть, ее потом доставят домой, и на пороге встретит Дима, и ни о чем не спросит, потому что он так отвратительно тактичен, а может, он ничего и не поймет, а может, он знал, давно знал, что так будет.
Но дверь открылась, и на сидение рядом с ней скользнул Герман.
– Я сказал, что вам стало нехорошо. Это все, что я мог для вас сделать, – сухо пояснил он, она кивнула – глупо было рассчитывать, что он станет ради нее изобретать сложную ложь. Да и ни к чему. Машина тронулась, и когда чуть качнулась на повороте, она почувствовала, как ее колено прижалось к его ноге, и как он отстранился, назвал адрес ее квартиры. С тихим писком навигатор принял маршрут.
Ехали в молчании. Ада смотрела в окно, огни города уплывали назад, а она все ехала и ехала, кажется, целую вечность, рядом с ним, и так хорошо, так сладко было от этого, что хотелось, чтобы они не приехали никогда. В какой-то момент она закрыла глаза, но не уснула, а просто ушла в себя, в свои ощущения, в тишину и простоту этой ночи, боясь пропустить хоть один миг наедине. Машина начала тормозить, Герман чуть тронул ее за руку.
– Вы почти дома. Рад был вам помочь, – просто форма вежливости, он тут же отстранился, и тогда Ада открыла глаза, повернулась к нему.
– Я хотела попросить вас кое о чем…
– Да? – Он обернулся, и она увидела в темноте его лицо, и свет фонаря мазанул его по щеке, и так причудливо заиграл в темных зрачках, словно языки пламени лизнули его глаза. Она тряхнула головой, потянулась. Ему некуда было бежать, и когда ее руки скользнули по его плечам, ее губы нашли его рот, он просто не мог отстраниться.
***
При тусклом свете торшера, стоявшего у постели, смогла, наконец, разглядеть. У него были самые обычные карие глаза, и резкие морщины полосовали высокий лоб. Ему было за сорок, волосы на висках уже начинали серебриться, но постоянные тренировки делали его тело почти совершенным, она знала и тридцатилетних, которые не могли похвастаться такой фигурой. На левом плече красовался след от давнего сильного ожога, а на спине, слева, где-то у сердца три родинки складывались в равнобедренный треугольник. Внизу живота, змеился шрам, и, водя по нему кончиками пальцев, она думала, банальный аппендицит или, может быть, предательский удар ножом? Его кожа была очень здорового, светлого оттенка. Его губы оказались жесткими. Она всегда видела его только тщательно выбритым, а сейчас щетина постепенно начинала проступать, но еще не царапалась. Она изучала его тело как дорожную карту, искала путь к его сердцу, но, конечно же, заплутала. Ничего о нем не говорили эти детали, как не говорила его квартира – чистая, просторная, хорошо обставленная, но как-то чувствовалось, что женщины в ней появляются ненадолго и нерегулярно. Торшер стоял близко к постели, а еще несколько книг стопкой лежали на прикроватной тумбочке, значит, он читает перед сном – или читал много месяцев назад, потому что никак нельзя было понять, живет ли он здесь регулярно или просто приводит сюда женщин, оказавшихся достаточно настойчивыми, глупыми – или влюбленными, как она.
Он изучал ее тело, как избалованный ребенок свой рождественский подарок – сперва с восторгом разрывая яркую упаковку, потом со все нарастающим интересом пытаясь узнать, чем эта железная дорога или гоночная машинка отличается от сотен тысяч других железных дорог и гоночных машинок. И, конечно же, она чувствовала, с неизбежным разочарованием, которое могло наступить в любой момент – ведь, в самом деле, что за разница может быть между одним телом и другим. Ее души он не трогал, к своей не подпускал, – и может быть от этого, а может быть, потому что вовсе не было в нем примерещившихся ей чувств, а только злость и желание отомстить унизившему его Сайровскому – он показался ей довольно эгоистичным любовником, больше озабоченным своими, чем ее ощущениями.
И все же она торжествовала, и кошка, свернувшаяся у нее в животе, довольно урчала, потягивалась, щурилась одним глазом – праздновала победу. Столько она этого ждала – а пары алкоголя и собственные чувства с лихвой компенсировали его отстраненность. Но был у этой победы горький привкус, и она закурила, чтобы о нем не думать. Герман тоже курил, гладя в потолок со своим фирменным равнодушным выражением лица, и она, глядя на него, ловила себя на том, что пытается проникнуть в его мысли. Но вопреки тому, что обычно мужчины раскалывались как орех – то сами выбалтывали свои секреты, то просто становились настолько прозрачными, что и спрашивать ни о чем не нужно было, Герман оставался закрытой книгой. Было это странно, как если бы он считал произошедшее еще одной разновидностью физического упражнения, приносящего, как любой спорт, довольно приятные ощущения, может быть, даже более приятные, чем бег или отжимания, но, в сущности, сильно переоцененные.
«Глупый, – мурлыкала кошка, свернувшаяся у Ады в животе. – Я тебя еще всему научу». Но Ада не верила кошке. Он стал как будто дальше от нее, чем раньше, недостижимее, и о чем он думает, оставалось загадкой. И все же он заговорил первым.
– Ну что, стоило оно того? – Какая-то горькая ирония мелькнула в его ровном голосе, и не поймешь, спрашивал он ее или себя, но Ада ответила прежде, чем сообразила, что обращаться он мог и не к ней. Во всяком случае, на нее он не смотрел.
– А разве нет? – Курить, лежа в постели, стало вдруг как-то неловко, и она села, чтобы лучше видеть его лицо, не заботясь о том, что простыня скользнула вниз, даже красуясь, словно спрашивая – неужели мало тебе моей красоты, чего же ты еще от меня хочешь?
Он как-то странно улыбнулся, осознанно, четко, и она вдруг почувствовала липкий ужас от этой улыбки – словно пришли в движение невидимые ей механизмы, завертелись шестеренки, застучали молоточки, и растянулись его губы, автоматически, мертво. Она вдруг вспомнила о Давиде и подумала – не палач улыбается, а гильотина. И следом за ужасом удивительный жар полыхнул внутри, по помертвевшим, заледеневшим щекам. «Больная» – Вельд так называл ее, и кто-то потом тоже, но теперь она вдруг подумала – а что если и правда больная? Должна бы чувствовать себя уязвленной, а вместо этого хочет его – снова! – и готова что угодно терпеть, даже то, что близость его отдаляет ее, а улыбка – и вовсе пугает. Не удержалась, протянула руку и коснулась его груди, где билось сердце – билось ровно, сильно, равнодушно. Но даже это не остудило – она подумала вдруг – хотела ведь узнать, что у него внутри, и, кажется, ошиблась, ничего там нет, только пустота в броне из принципов, сухости и порядка. Только равнодушие… но не складывалось, или шампанское было виновато в том, что она разглядела в нем дракона, родственного той змее, что жила в ней? Но нет, невозможно, в сполохах огня, в грохоте взрыва видела ведь его глаза, а за глазами – жизнь, гнусную тварь, которую надо ото всех скрывать, но именно твари с некоторых пор Аду и интересовали. Вельд не так уж в ней ошибся, просто, думала, разбудил в ней чудовище, а сам с ним не справился. В себе он ошибся, не в ней. Она же выжила – и это было еще одним подарком Давида – вот это понимание. Она же выживала и выживала, может, именно это умирающий силой называл?
Сердце билось под ее рукой, словно уверяя ее – нет, нет, нет здесь ничего, уходи, не суйся. Почувствуй себя оскорбленной, почувствуй задетой, ты же так хорошо умеешь обижаться, обидься, не лезь.
– И долго ты собираешься от него вот так бегать? Знаешь же, что далеко не убежишь, – произнес Герман, и Ада покачала головой. Зачем сейчас говорить о Сайровском, о том, что ждет за порогом его квартиры, о завтрашнем дне, о необходимости снова притворяться, и – хуже всего – решать что-то. Сейчас она другую загадку пыталась решить, в кого же угораздило ее так втрескаться – в призрак, в миф, в его ауру уверенности, в эту его пустоту? Или не ошибалась в ней змея, чувствовала сквозь клеть его ребер дракона, чувствовала монстра, их родство, и присматривалась и стремилась прильнуть, обвиться вокруг?
Молчала – что тут ответишь? Да знает она все, знает, но к чему сейчас об этом, если он сам не собирается раскрывать ей свои тайны. И не будь она так очарована им, ей бы хватила этого адюльтера, и она бы ушла в рассвет, спокойная, довольная, но ей было мало. Может, это любовь, может, жадность, может, монстры ее души, только ей мучительно хотелось, чтобы он раскрылся, показал, что там у него внутри живет, а он, как назло, все крепче запирался, возводил бастионы, и она думала – есть ли в нем то, что стоит так охранять? Если есть – она сделает все, чтобы оно вырвалось наружу, пусть даже спалит ее, как она спалила Вельда, пусть даже мир уничтожит. Чего стоит мир, в котором она не может его, настоящего, обнимать?
Его не устроил ответ, и он, наконец, потушил сигарету, посмотрел на нее, и за его зрачками, ей показалось, бесновалось пламя, но сердце билось ровно. Он повернулся на бок, устраивая подушку между рукой и щекой, одним движением устраиваясь комфортно, и избавляясь от ее прикосновения. Посмотрел на нее внимательно. Не спрашивал снова, но она чувствовала, ждет ее ответа. Ей стало неуютно – и она подумала, он же людей допрашивает, это его работа. Он не только ходит на приемы, сообщает стране, что не о чем волноваться, он же еще в серых комнатах с искусственным светом смотрит на преступников, лжецов, террористов, убийц, каждый день смотрит много-много лет подряд. И если он хочет услышать ответ на вопрос, нужно же ответить, но почему он так впился в нее взглядом, словно думает, что она что-то скрывает – ведь она, вся перед ним, до самых последних, самых грязных мыслей, до самых светлых, самых нежных надежд. Она поежилась – ей стало холодно от его взгляда. Потянулась, чтобы закутаться в простыню, согреться, спрятаться, но он протянул руку, оттянул белую ткань вниз, мягко, но так, что не поспоришь.
– Я… я не знаю. Я не хочу, – тряхнула головой. Так по-детски это прозвучало, но как еще объяснить эту беспомощность перед ним, перед президентом, перед любым, кто имеет власть, когда она зависит от воли даже каких-то безымянных чиновников из комиссии, что уж говорить о лидерах страны. И зачем это объяснять? Он ведь сам все понимает, сам все сказал: бегай – не бегай, не убежишь.
– Не хочешь, – ровно произнес он, и она вдруг подумала – да он же сдерживается из последних сил. Неужели может быть так, что все это – его барьеры, его агрессия, ровная, гладкая, внеуничтожающая холодность – это просто попытка скрыться от нее, потому что она подобралась слишком близко? Не верилось – но верить так хотелось. И он снова протянул руку, и коснулся ее груди, и ледяной шок обжег ей щеки, и она посмотрела на него так нежно, как только могла. – И что с того?
Не понимала, что он от нее хочет услышать, что, какой ответ ему нужен, но от его рук снова разбегались искорки по телу, и она могла не это преодолеть, не могла собраться с мыслями, только покачала головой, прикусила губы, чувствуя, что в ее жизни, кажется, не было еще ни одного настолько болезненного эротического переживания. И вдруг поняла – он не верит ни одному ее слову. Она с ним откровенна, открыта, но ее натиск, ее погоня за ним – разве он может этому поверить, он, чья профессия – раскрывать ложь, разве он может верить ей – профессиональной лгунье?
И вдруг все стало на свои места – она даже может не выйти из этой квартиры живой, потому что никто не знает, где она, а она сама так много узнала о нем, так близко к нему подобралась, действительно близко, теперь не было никаких сомнений, угнездилась где-то в его мыслях. Она вдруг поняла, он гадает, почему она выбрала его, хотя, по всему судя, должна была выбрать Сайровского, что за инстинкт движет ей, что за интерес, что она надеется выиграть? И как объяснить ему, что в ней, во всей ее красивой глупой голове просто не умещается, давно, безусловно не умещается идея о том, что он не способен ее защитить, что он не станет ее защищать. И еще вдруг подумала – она же подставила его, он тоже рискует. Сайровский явно его не любит, только терпит, и новая форма у службы охраны, наверное, что-то означает, и, может быть, эти выборы и ее участие в них для Германа Бельке – предательство, безусловное свидетельство того, что она играет в свою игру, а то, как она вешается на него – только очередной маневр, который он должен разгадать. Но тогда то, что он все же поддался – это попытка ее разгадать? Или риск, на который он пошел потому, потому что…
Он причинял боль, его пальцы слишком сильно впивались в ее плоть, и от боли ее глаза блестели ярче. Ада задыхалась – от его прикосновения, от того, как много переплетенных нитей, узлов, интриг, интересов спелось сейчас в этой комнате, как звенит воздух от напряжения – его напряжения, его немых вопросов. И как ответить на них, она не знала – знала только точно, что нельзя ударяться в слезы, нельзя пытаться манипулировать, потому что сейчас он и сам ходит по краю, и малейшая ошибка с ее стороны, он уничтожит ее, всякое упоминание о ней сотрет из истории, и не будет никого, кто вспомнит о ней, как не нашлось никого, кто вспомнил бы о Давиде. Даже она чуть не забыла – потому что приказано было забыть.
– Вижу, ты начинаешь что-то соображать, – сказал он все так же ровно, отводя руку, и она инстинктивно потянулась за ним, схватилась – длить и длить бы эту сладкую боль – сжала дрожащими пальцами его пальцы, и ловила, ловила, ловила его взгляд, чтобы он увидел, она не боится, она достаточно безумна, чтобы не бояться никого и ничего, пока он рядом. То, что она переживала сейчас было важнее, проще, слаще, величественней и дороже, чем все, что случалось до этого в ее маленькой глупой жизни. Словно все ее существование, вся ее история существовала только для того, чтобы был этот момент, а остальное, прошлое, будущее, дружба, связи, человечность, прощение – все, что казалось ей значительным, не имеет никакого значения.
– Я его ненавижу, ненавижу, – выдохнула будто призналась ему в любви, и сама поразилась тому, что до сих пор не понимала, откуда в ней эта неприязнь к их президенту, к его программе, к новой форме службы охраны, к тому, как он подозвал Германа, словно собаку, словно ничтожество. Ненависть обожгла ей щеки, и глаза ее заблестели, слезами – но не женскими, слабыми, а слезами ярости, которая все росла и росла в ней как восстание против произвола, против страха, в котором она жила столько лет, восстание против поруганной жизни Давида, против гибели мужа, против невозможности развестись, или гулять по городу по ночам, против запрета открыто любить его, против необходимости вечно притворяться той, кем она не была ни секунды и не иметь возможности, понять, а кем же она все-таки была. И Герман был не тем человеком, который должен был это услышать, ведь он и сам – инструмент этой машины, годами ломавшей ей жизнь, но сейчас она думала – если уж необходим произвол, если уж нужна власть, так пусть это будет выбранная ею власть, ею позволенный произвол. Она видела в нем человека и все гнала о себя мысль о том, что он больше, чем человек, и все пыталась заставить его тоже об этом забыть.
– Я их всех ненавижу, я бы уничтожила их, если бы могла, – он так криво улыбнулся, но зато по-настоящему, и ее трясло, и она все прижимала и прижимала его руку к своей груди, – пусть вырвет ей сердце, если хочет – и уже неспособная остановиться все твердила:
– Пусть бы был только ты, остался только ты, и никого больше не нужно, неужели ты не понимаешь, что я люблю, люблю, бесконечно люблю тебя, – и звучало это так вычурно, но ее уже била истерика, и он, улыбаясь, все смотрел, и она целовала и целовала его руку, его пальцы, вдыхая запах кожи, запах табака, запах крови, круживший ей голову. Да-да, руки его были в крови, она знала это, но она готова была простить ему это, готова была бороться, чтобы все изменить, пусть бы даже мир сошел с ума, сгорел, развалился, пусть бы больше никогда не было покоя и порядка, пусть бы умирали люди и была война. То, что сделало из него палача, а из нее – шлюху, разве стоит того, чтобы существовать? И она целовала его, и прощала ему все, что он сделал и сделает и просила только об одном, чтобы и он простил ее. И он, кажется, поверил – не до конца, конечно, но чуть-чуть приоткрылись двери, запирающие его дракона, и пламя полыхало в глазах, и он привлек ее к себе так, словно никогда в жизни ничего прекраснее и дороже нее не держал в своих руках.
***
С утра моросил дождь – мелкая водяная пыль, блестевшая в лучах солнца, то и дело проглядывавшего сквозь разрывы туч. И пахло особенно – мокрым асфальтом, поздним цветением, жизнью, и дышать, дышать хотелось этим новым, сладким воздухом, этим чувством, переполнявшим ее, пока, осторожно оглядываясь, она шла домой по улицам просыпающегося города. Он сказал – пройди пару кварталов, а потом можешь взять машину или сесть на монорельс – и она послушно выполняла его приказ. Он сказал – не беспокойся, с тобой все будет в порядке – и она точно знала, что так и будет. Он сказал – я не смогу тебе позвонить, но мы скоро увидимся, обязательно – и она уже считала минуты до этой встречи.
Аде казалось, что ее переполняет, разрывает на куски и делает равной всему миру странное чувство, которое в такой полноте она испытывала только в детстве. Счастье и покой – и уверенность, что, что бы ни произошло теперь – она всесильна, она безупречна, она безгранична. Ноги стали такими легкими, что несли ее сами – далеко-далеко, за край горизонта, за кромку земного шара, прямиком в небо, к тучам и облакам, разметанным по голубоватому летнему небу.
Лишь добравшись до дома, сообразила, сколько пришлось отшагать пешком – но никакой усталости не чувствовала, как и голода, как и желания курить. Не хлебом единым, подумала и рассмеялась, тихо, но так легко, как, кажется никогда в жизни. Чувствовала, это утро будет особенным, и все же чуть помедлила прежде, чем зайти в подъезд – было бы так неловко сейчас столкнуться с Димой. Если что, скажет ему что перебрала вчера вечером и уснула – и это будет почти правдой – и едва ли он, с его тактичностью, станет допрашивать, где именно уснула и почему кто-то говорит, что ей вчера на вечере стало плохо. Открыла дверь квартиры ключом, мысленно репетируя свою речь, прислушалась – но в квартире царила тишина, видимо, он уже уехал в больницу резать кого-то высокопоставленного. Это было даже немного обидно, но к лучшему – чем меньше вопросов, притворства и вранья, тем безопасней. Каким бы нечеловеческим счастьем ни наполняла ее прожитая ночь, здравый смысл подсказывал, что как раз теперь ей нужна вся ее сосредоточенность, вся осторожность. Существование мухи в паутине, вот, что это напоминало ей, и требовалось приложить максимум усилий, чтобы не увязнуть, не влипнуть сильнее, чем она уже влипла.
А потому Ада подавила в себе желание как можно скорее позвонить Арфову, подавила желание включить телевизор, подавила желание куда-то торопиться и что-то делать, а просто разделась, бросилась в постель – даже не умываясь – и закрыла глаза. Скоро должна была прийти Нора, которой привычнее видеть ее спящей до полудня. К ее удивлению, она очень быстро уснула, и снилось ей все снова и заново – ночь и его руки, и его губы, и его шрамы, и его глаза, и то, как он поверил ей – или притворился, что поверил. Но там во сне, как и наяву она готова была на все, чтобы убедить его в своей преданности. Сквозь сон слышала, как открылась входная дверь, и тяжелые шаги Норы, и ее горестный вздох, когда она заглянула в спальню, и счастливо улыбнулась, плотнее смыкая веки, глубже погружаясь в сон. А проснулась только к полудню.
Нора была на кухне, готовила поздний завтрак, когда Ада, стараясь не выглядеть слишком уж счастливой, вышла из спальни, потягиваясь и старательно хмурясь. Получалось так плохо – все хотелось смеяться и петь, словно ей шестнадцать и она влюбилась впервые в жизни.
– Проснулись, наконец, – буркнула Нора, ставя перед ней чашку кофе, а Ада только молча кивнула. Чувствовала – заговорит, и зазвенит ее голос нездешней радостью, и никакие актерские ухищрения не сработают.
– Опять, небось, полночи гуляли, – продолжала ворчать домработница, и сквозь розовый туман, заливавший кухню счастьем и радостью, Ада вдруг разглядела эту женщину, приходившую к ней убираться вот уже без малого десять лет. Старая, грузная, незамысловатая, но очень ловкая. Способная таскать на себе огромные пакеты с продуктами, торговаться на рынке до срыва голосовых связок, по выходным закладывавшая за воротник. Одинокая старуха – ее собственный сын тоже прошел по статье за гомосексуализм, когда-то давно, только он сознался матери, а та его за руку отвела в службу охраны. С тех пор у ее губ пролегла суровая складка, словно страдание превратилось в морщину. Странно, но эта история тогда, много лет назад не сблизила их, не создала молчаливый заговор. Их взаимопонимание было иллюзией, хотя Нора давно превратилась в неизменный атрибут ее жизни. Ада совсем не умела заботиться о быте – или делала вид, что не умеет, раз и навсегда усвоив придуманный для нее Арфовым образ.
– Даааа… – Протянула Ада, потягиваясь. Счастливая улыбка все равно соскользнула с губ жемчужиной.
– Крепко спали, а я уж думала, давно проснетесь. Такой тут проходной двор устроили, – ворчала домработница, и Ада насторожилась. Обычно к ней никто не приходил с утра, все знали, что раньше двенадцати ее лучше не беспокоить.
– Сначала, часов в десять пришел какой-то, я его тут не видела, разговаривает странно, извините да прошу прощения за беспокойство, но одет так, что хрен ему, а не извинения – сразу видно сплошные у него беспокойства. На священника похож, только что-то без сутаны, наверно, денег просить хотел – я ему сказала, чтобы позже зашел. Потом еще от Ильи Александровича телефон обрывают, часов с одиннадцати. А потом это, – она высочила из кухни с проворством, которое едва ли можно было предположить в ее грузном теле, и вернулась с корзиной, полной цветов, ярко-алых, словно истекающих кровью.
– Принес, так с виду важный, сразу видно не мальчишка-посыльный. Но, помяните мое слово, нельзя так себя вести, если вы замуж собрались, Дмитрий-то Николаич хороший, положительный молодой человек и негоже, чтобы его невесте такие веники таскали, пусть она хоть какая актриса, я понимаю еще если б спектакль или кино…
Но Ада уже не слушала, завороженная букетом, завороженная мыслью. Это не могло быть от Германа, она сама все понимала, и он же сказал, что не сможет ей звонить, даже звонить, но вдруг, если без записки – кто узнает, кто догадается?
Среди цветов записки не оказалось, и она прикусила губу.
– А он не сказал, от кого?..
Нора возмущенно фыркнула.
– Не сказал. И я вообще думаю, лучше было его спустить с лестницы вместе с этим его букетом, а то, что вы даже не знаете, кто вам такие подарки шлет, и вовсе стыд и срам.
– Что ты ворчишь, может, это от Димы вообще, – вспыхнула Ада. – Почему ты сразу обо мне что-то плохое думаешь?
Нора покачала головой, взяла тряпку и ушла протирать несуществующую пыль в гостиной, а Ада взяла корзину на колени, укачивая ее, как маленького ребенка, мечтательно улыбаясь. Зазвонил телефон, она взяла трубку, проворковала:
– Да-да?
– Надеюсь, я не разбудил вас? – Голос на том конце был каким-то смутно знакомым, но не настолько, чтобы она сразу его узнала. Даже отнесла трубку от уха, чтобы проверить номер, высветившийся на экране, но цифры ни о чем ей не говорили.
– Нет, вовсе нет, но…
– Как вы себя чувствуете? Вчера вы скрылись так внезапно – и вечер потерял все свое очарование разом, – Сайровский. И обрушилась на нее сразу снежной лавиной реальность, отчаянное ее положение. Как Герман был прав. Беги, беги, куда же ты скроешься? Народный избранник не собирался отступать, поняла. Просто потому, что всегда берет то, чего ему хочется.
– Много лучше, спасибо… Шампанское не мой напиток, точно, – она даже нашла в себе силы рассмеяться. Нужно помнить – не одно ее самолюбие задето, не о ней вообще речь. Если вдуматься, этому старику только повод дай, и он Германа уничтожит. Обвинит в каких-нибудь мифических преступлениях – или даже реальных – но она теперь прекрасно понимала, есть вещи, которые, как бы они ни были тебе противны, приходится делать. Потому что на кону стоит слишком много – если бы она поняла это раньше, то не жгло бы так мучительно ее чувство вины перед Вельдом. Сайровский на том конце линии молчал, видимо, ждал чего-то, и вдруг она поняла – розы от него, вовсе не от Германа, и даже не от Димы и не от какого-нибудь тайного поклонника, и словно укололась о цветок, который рассеянно поглаживала во время разговора.
– И спасибо за… цветы. Они великолепны, – хотелось отшвырнуть корзину, скорее, скорее убрать с колен этот гнусны знак того, что она так просто не отделается, а на том конце звучал смех, довольный, сытый смех, и Ада почувствовала, как от ненависти скручивает все ее внутренности.
– Ну что вы, такая мелочь. Они и вполовину не так прекрасны как вы. Надеюсь, я скоро увижу вас?
– Надо уточнить у Ильи… у моего агента насчет расписания… я совсем ничего не могу запомнить, а он знает все мои свободные минутки, – протянула она, убирая корзину на стол, отходя на другой конец кухни, чтобы только не смотреть на эти проклятые цветы.
– Что ж, мой секретарь у него уточнит, – он рассыпался в комплиментах, пожеланиях здоровья и витьевато попрощался. Ада стояла у окна, в бессильной ярости сжимая в руке телефон, чувствуя, как поруганное, надрывается ее самоуважение – даже не спросил, что она сама думает по этому поводу, даже не поинтересовался. Вот так – поручит секретарю, и они сядут с Арфовым на телефон, сверяя расписания, есть же и у президента дела, много дел, и, конечно, это ее график подчинится, и все будет будут отложено, чтобы угодить первому человеку в стране, и назначат дату, даже впишут в ежедневник, наверное – и как это будет звучать? «Вторник, 13, 13:00 – обед, 14:30 – трахнуть Аду Фрейн, 15:00 – встреча с…». И, могла поспорить, назначат свидание на самое ближайшее время, короткой строчкой – между обедами, встречами, подписанием бумаг, между важными государственными делами – пригвоздят ее душу к позорному столбу. И она ничего не сможет сделать, и Арфов ничего не сможет. Даже если она будет на коленях перед Ильей стоять, разве он ее послушает? Что ему ее чувства, он всегда точно знает, как для нее лучше – и это, конечно, все происходящее, и этот звонок, и эти розы – это успех, редкая удача, но отчего так хочется выть, так хочется что-нибудь разбить, почему так хочется, чтобы было плохо и еще хуже, но только бы не это «лучшее»? Она резко обернулась, швырнула телефон в стену, чувствуя, как ярость слезами подкатывает к глазам, кинулась к корзине с цветами, скинула ее на пол, и принялась топтать, топать эти чертовы розы, чувствуя, как шипы врезаются в босые ноги, и эта боль утоляла ярость, и эта боль была яростью, и она приносила облегчение.
Наконец успокоилась, повернула голову, глядя на Нору, застывшую в дверном проеме, и подумала, а ты, старая карга, на кого шпионишь ты, кому докладываешь? Арфову, это ясно, но, может быть, кому-нибудь еще? Может, службе охраны, Герману, может, желтой прессе, зарабатываешь свои лишние тридцать серебряников, может быть, людям Сайровского, кому, кому? Глупо думать, что Нора ей верна – она же собственного сына обрекла на муки, на смерть. Какие могут быть сомнения, едва Ада выйдет из комнаты, та бросится звонить, бросится доносить – и вопрос только в том, кто об это узнает первым? Кто узнает, как она сейчас топтала подарок от президента страны? Что же за мука – эта жизнь в аквариуме, на виду у всех, где нельзя просто разозлиться, нельзя просто рассвирепеть.
– Эта дурацкая роза меня уколола, – ну и глупости лезут с ее длинного языка, но что сказано, то сказано, что сделано, то сделано. Ада отступила на шаг, разглядывая разорванные, переломанные цветы, алые, такие же алые как капли ее крови на зеленых листьях.
– Ну и намусорили вы, – ровно произнесла Нора и принялась убирать с пола цветы. Ада сбежала в ванную, заперлась, и там уже, включив воду, позволила себе разрыдаться, и так не хватало ей Германа, так не хватало его – даже не совета, нет, просто присутствия рядом, чтобы помог усмирить эту ярость внутри, это отчаяние, чтобы своими простыми карими глазами смотрел на нее, чтобы сказал, что делать, или просто обнял, чтобы обратил в страсть ее злость, чтобы в плену его самоконтроля и она смогла взять себя под контроль, и придумала бы, как вырваться из замкнутого круга, как все исправить – но его не было рядом, и не будет никогда, вдруг поняла она, не будет, не будет, не может быть, пока все идет так, как идет.
Страшно было встретиться с Норой и опять гадать, что и кому она расскажет, и когда из офиса Арфова снова позвонили, она даже обрадовалась голосу «дорогой-Нелли».
– Гражданка Фрейн, вы нам срочно нужны, – ее суховатый тон давал какой-то сбой, впервые на ее памяти Ада слышала такую нервозность в ровном официальном тоне. – У нас тут ЧП, приезжайте как можно быстрее.
***
Офис гудел, как растревоженный улей, даже охранник не улыбнулся ей на входе, а «дорогая-Нелли» была так бледна, что, казалось, может слиться цветом с листом писчей бумаги. Ада впорхнула в приемную, поймала взгляд этой женщины, которую по ее мнению давно следовало уволить, и сама удивилась тому, как равнодушно отнеслась к провалу собственных интриг. Разве имело это значение сейчас – их непонятная вражда, ее происки? Она же делала это не только для самоутверждения и не потому, что была так уж зла – а просто потому, что иначе ее жизнь оказалась бы совсем пустой. Привычка находить врагов, противников, не слишком опасных, но достаточно интересных, почти стала ее второй натурой, но теперь, когда в ее жизни, наконец, начало происходить что-то по-настоящему значительное, она отказалась от этой привычки с легкостью, поразившей ее саму. Как ни пыталась, не могла найти в себе ни озлобленности, ни даже раздражения против Нелли, и та, словно почувствовала – так благодарно, облегченно посмотрела на Аду. Словно тронулся весенний лед, и Ада, которая стала вдруг там много замечать и столькому придавать значение, подумала, да ведь эта старая дева же просто-напросто влюблена в Арфова. Влюблена давно, безнадежно и бесповоротно. Поняла вдруг, сколько муки та терпит, пожалела ее, сама была в таком же положении – ну почти в таком же. И ласково улыбнулась. Может, конечно, ей просто казалось, что все вокруг должны быть влюблены из-за ее собственного состояния, но внезапная трезвость видения противоречила этому предположению.
– Что за шум, что за суета? – Пропела она, стараясь казаться максимально расслабленной и одновременно не слишком сияющей, не время сиять.
Нелли покачала головой и указала на дверь кабинета Арфова.
– Вам лучше сразу к нему…
Ада кивнула, секунду помедлила у двери в кабинет, набрала в грудь побольше воздуха, всего секунда, чтобы сосредоточиться, нырнуть в ледяную воду и – играть, играть, играть как никогда не играла. Арфов был бледен, еще бледнее Нелли, она никогда не видела его таким. Он широкими шагами ходил по кабинету, у него тряслись руки.
– Ты хоть понимаешь, что ты натворила? – Заорал он, едва за ней закрылась дверь. Значит, зря она надеялась, что все сойдет с рук, значит завертелись уже механизмы. Но ее жизнь так круто начала меняться, было бы странно, если бы это не коснулось окружающих – но она же старалась быть осторожна… И тут же вспомнила о цветах, о том как неожиданно вчера уехала с праздника, о том, как вызывающе на этот праздник собиралась – да уж, осторожна. Она никогда не слышала, чтобы Арфов так орал – ну то есть никогда не слышала, чтобы он так орал на нее, какими бы из ряда вон выходящими ни были ее поступки. Из чего следовало заключить, что он что-то знает – вот только что? За время, прошедшее с их последней встречи, она умудрилась натворить многое – и любой из этих поступков был достоин порицания. С другой стороны, пока ей неизвестно, что именно он имеет в виду, нельзя было подавать виду, что за ней числятся какие-то грешки – начнешь каяться и расскажешь слишком много. А ни отношения с Германом, ни то, что случилось с розами Сайровского, ни даже ее новый образ мыслей, как ей казалось, не приведут в восторг ее агента. И делиться с ним всем этим она не собиралась до тех пор, пока он не прижмет ее к стенке.
– Ты чего орешь? – Спокойно осведомилась она, плотнее закрывая дверь, проходя по его кабинету и удобно устраиваясь в кресле. Требовалось все ее самообладание, чтобы сейчас не подать виду, как ее испугала его ярость.
– Да потому что ты делаешь хрен знает что, подставляешь нас всех и вообще не думаешь своей тупой головой! И зачем я только с тобой связался, идиотка!
Она подождала пока он проорется, надеясь услышать что-то конкретное, но это были эмоции, эмоции и еще раз эмоции – и никак не поймешь, что его взбесило. Ада почувствовала, что начинает заражаться от него, но продолжала играть в непонимание – для нее более естественным было бы орать в ответ, но сейчас это не годилось. Она спросила себя – что сделал бы Герман? – и ответ пришел сам собой, словно он был рядом, словно он шептал ей на ухо. Бесстрастность была его сильнейшим оружием, и Ада старалась казаться равнодушной.
– Да что случилось-то? – Она все же позволила своим рукам задрожать, вытаскивая сигарету, закуривая, она позволила себе выдать нервозность – но только так, чтобы не показалось, будто она в чем-то чувствует себя виноватой. Как же тонко надо было играть, чуть ли не за гранью ее возможностей, но если она где-то и фальшивила, если ее и выдавали глаза или мимика, Арфов был не в том состоянии, чтобы заметить.
– Шляешься непонятно где, спишь непонятно с кем, но ты бы хоть думала башкой, когда снимаешь номера в отеле на свое имя, хоть следи, чтобы не попадаться журналистам, у тебя же свадьба скоро! Фильм! Карьера чертова твоя! Сайровский в тебе заинтересован – а ты все это хочешь похерить?! Дрянь блудливая!
Его оскорбления пролетели мимо – так она удивилась – и когда он на секунду замолчал, успела вставить слово:
– Какие еще отели?
Он быстро подошел и швырнул ей на колени пачку фотографий. Неплохое качество, профессиональная работа, в очень хорошем разрешении, хотя явно снимали издали. И была на этих фотографиях она сама, собственной персоной, оглядываясь через плечо, подходила к какому-то зданию. На следующем фото, видно было, что это отель, скверный, как ей показалось, из дешевых. Его название поместилось в кадр почти полностью – и Ада могла поклясться, что никогда в нем не бывала. На третьей фотографии к ней подходил мужчина, протягивал руку, его лицо попало в тень, и она не смогла понять, знакомы ли они. А дальше шла съемка в максимальном приближении – мужчина обнимал ее за талию, рука скользила ниже, и этот хозяйский, похотливый жест, казалось, достаточно говорил об отношениях, что связывали этих людей.
– Может, теперь прекратишь, наконец, врать? – Проревел Арфов, продолжая метаться по кабинету. – И хорошо еще, что Гречин мне должен, хорошо, что это его идиоты сняли – и я первым узнал, а если бы нет? А если ты еще где-то наследила, дура набитая?!
Ада тряхнула головой, стараясь прогнать его крик, который мешал ей сосредоточиться. Недоуменно рассматривала саму себя – она точно знала, что ничего подобного не делала, но может, сошла с ума, может, сама не отдает себе отчет в своих поступках? Может, у нее раздвоение личности или амнезия на почве алкоголизма? Может, она лунатик? И когда это снято – ведь не может быть, что вчера, вчера она была совсем в другом месте, совсем с другим человеком, но это – не могло же ей присниться? – в любом случае алиби не назовешь. Она снова и снова рассматривала фотографии, приглядывалась – но это же она, она – это ее темные очки, закрывающие половину лица, ее манера повязывать платок на голову, выбивается из-под которого прядь ее темно-каштановых мягких волос, плащ…
Она пригляделась к фотографиям, где было видно только руку у бедра неизвестной женщины – у ее собственного бедра, то есть – стараясь смотреть объективно, не отвлекаться на изображение собственного лица, фигуры, на вопрос, не сошла ли она с ума. Плащ был почти точно ее, но вот только… Почти.
– Это не я, – она вскрикнула от радости, сделав это открытие, и Арфов, вдруг застыл посреди кабинета, она плечом, кожей чувствовала, что он готовится заорать снова – о том, что она лгунья, дрянь, предательница – и затараторила прежде, чем он смог начать.
– Посмотри, внимательно посмотри! Ну же, у тебя же есть глаза? Плащ – очень похож на мой, но мне-то шили на заказ, такого точно ни у кого больше нет, хотя и похоже вышло, но здесь подкладка темно-серая, а я сделала красную, вот здесь видно, смотри. И полы, смотри, чуть не так расходятся, потому что пуговицы пришиты ниже!
Теперь, когда она была уверена, что это не она, Ада вдруг увидела и другие мелочи. Она лихорадочно перебирала фотографии, азартно улыбаясь, словно ребенок, играющий в «найди десять отличий на этих картинках».
– У меня никогда не было такой сумочки! А нос, посмотри на нос, видишь?
Чуть-чуть другие пропорции фигуры, чуть-чуть не такой как у нее поворот головы, классические черты лица похожи – но то тут, то там мелькали отличия, которые могла бы заметить, пожалуй, только она… или тот, кто знал ее лицо так же хорошо, как она сама, косметолог, гример… Гример.
– Это же грим, кто-то загримирован и переодет, чтобы было похоже на меня. Родинка, смотри, родинка… – Она указала на собственную малозаметную родинку у виска, и у женщины на фотографии тоже была эта маленькая точечка, но чуть ниже и форма ровнее, словно ее нарисовали косметическим карандашом.
Арфов уже стоял у ее кресла, склонившись над ее плечом, и смотрел на фотографии. Она подняла голову, сияя от радости, и поразилась пустому, растерянному выражению его лица. Он смотрел на фотографию, смотрел и смотрел и вдруг посерел, хотя минуту назад казалось, что бледнее быть невозможно. В его глазах мелькнуло узнавание.
– Значит, не ты… – Через бесконечно долгие несколько мгновений произнес он, и Ада торопливо закивала, надеясь, что и он обрадуется вместе с ней. Но Илья не обрадовался, а как-то съежился, а потом словно старик прошаркал к собственному месту за широким столом, где он столько лет распоряжался ее судьбой. Из него словно выдернули какую-то пружину, и все разладилось, и он бессильно сполз в свое кресло, облокотился на стол, словно даже руки были слишком тяжелы для него, обхватил голову. Это испугало Аду даже больше, чем его крики и на мгновение показавшееся ей возможным ее собственное безумие. Она вдруг увидела – он совсем не так энергичен и вечно молод, как всегда казалось. И сколько ему, кстати? Пятьдесят, шестьдесят? Она поняла, что просто не знает этого – иначе бы вспомнила.
– Эй, не надо так расстраиваться, я на тебя даже не сержусь почти, – улыбнулась, вставая и подходя к нему. Села на край его стола, протянула руку, коснулась плеча. – И чего ты так разорался, первый раз, что ли, меня где-то видят, где меня никогда не было?.. Очередное недоразумение – вот и все. Какая-нибудь неверная жена с любовником скрывается, а чтобы муж не узнал, использует мое имя. Стоит назваться мной, одеться похоже – никто не станет приглядываться. Меня она, видимо, знает, хотя кто меня не знает, но деньги у нее явно есть, муж, наверное…
По мере того, как она говорила, его голова все ниже уходила в плечи, и Ада вдруг поняла, откуда этот его шок, откуда крики, и почему известие о том, что это все же не она, раздавило его окончательно, а не обрадовало.
– Майя? – Тихо спросила она, чувствуя, как внутри стало пусто и гулко. И потом в этой пустоте пыльным цветком выросло негодование. Эта стерва не только изменяла Илье, добрейшему Илье, на руках ее носившему, пусть Ада и пыталась этому помешать. Измена – это все же понятно, простительно, но она же чужим именем прикрывалась, именем той, кто им с Ильей обеспечивает сытую и красивую жизнь – и пальто это и сумочка – все ведь куплено на деньги, что Ада заработала, и это не просто измена выходит, это же самое настоящее предательство, гнусность. И сколько это длится? Желтая пресса часто придумывала ей любовников, они с Ильей обычно над этим смеялись, и фотографий – таких четких фотографий – никогда в газетах не появлялось, но, может, журналисты не всегда только лгали, может, они были просто обмануты – вряд ли, конечно, но…
– Она ушла, Ада, – после паузы прошелестел Илья. Его голос ее напугал – точно листья по осени, шурша падали к их ногам. – Вчера, когда я вернулся, ее не было дома. И она до сих пор неизвестно где. Вещи на месте… почти все. Ну то есть я так думаю, потому что кто его знает, как разобраться в ваших бабьих шмотках. Она от меня ушла…
– Украшения на месте? Деньги на месте? Белье? Арфов, успокойся, так от мужей не уходят. Вернется еще… если она тебе, конечно, нужна после такого.
Он поднял голову и так посмотрел на нее, что Ада тут же прикусила язык и подумала, что стоит, может быть, раз в жизни поступиться своими принципами, позаботиться о нем.
– Пожалуй, нам нужен кофе, – она пулей вылетела за дверь, быстро объяснила Нелли – два кофе и пусть в оба – не скупясь – добавит коньяку, скользнула обратно в кабинет. Арфов сидел, не двигаясь, и на его, ставшем внезапно таким жалким лице, отражалась пустота, словно сдернули марионетку с нитей, словно ударили его в самое больное место. Ада знала, как это может ощущаться. Она через похожее когда-то проходила с Вельдом, а потому теперь села рядом с Ильей, старалась его утешить. О Майе говорить не стоило – не сейчас, пусть пройдет шок, – и она болтала о работе, о новых сценариях, о том, как прошел вчерашний вечер. Ее успехи обычно так радовали его, и она постаралась нарисовать картинку как можно более благостную, даже рассказала о розах, присланных Сайровским, не уточняя, что с ними случилось потом.
Нелли принесла кофе, бесшумно выскользнула за дверь, но прежде Ада снова поймала ее взгляд – и не увидела в нем торжества, а только благодарность и немного горечи. Но что она могла сделать, что? Как научить человека благословлять не любимых, а любящих? Это тоже, наверное, было цитатой.
Кофе ли, а может, ее рассказ – но что-то определенно подействовало на Арфова, он как будто пришел в себя, хотя и оставался только тенью привычного ей, вечно изворотливого Ильи Александровича. Решил, видимо, что он мужчина и негоже ему перед ней так раскисать. Они поболтали о Сайровском, и она всеми силами старалась изобразить энтузиазм, а заодно предупредила о приглашении. И ввернула, что ей нехорошо – болит, подташнивает, эти ужасные дни, к счастью, ее цикл он не высчитывал и с Димиными сведениями не сверял, иначе не миновать бы ей неудобных вопросов и визита к врачу – поэтому нельзя ли отложить встречу, ей бы так не хотелось снова прерывать такие интересные беседы с президентом по причине недомогания, И Арфов, проницательный почти как всегда, согласно кивнул. В самом деле, было бы неловко – он попробует что-нибудь сделать. Они оба понимали, о чем, на самом деле, они говорят. Они оба делали вид, что не понимают.
И когда секретарь все же позвонил, и была назначена дата, она отстояла от настоящего момента на неделю. Целая неделя, подумала Ада, как невероятно много. Будто целая жизнь, будто вечность впереди, и хотя ничто не отменит, ничто не спасет от неизбежного, казалось, отсрочка – это воздух, которым можно дышать. Когда Илья более-менее пришел в себя, она рискнула затронуть больную тему, проверить, как он реагирует – не из садистских побуждений, а чтобы суметь вовремя среагировать – еще коньяка ему принести, на этот раз без кофе, например.
– Может, это вовсе не она была. Мало ли женщин пользуются такими отелями для встреч и пытаются мне подражать. Вот увидишь, она скоро найдется, и все разъяснится, – оптимистично заявила она, готовая в любой момент сорваться в приемную за новой порцией успокоения, но Илья только как-то неловко дернул плечом, недоверчиво усмехнулся – и она подумала, а что кажется ему более сомнительным – верность жены или ее возвращение? И что ранит его больше?
Ада как в воду глядела. Через полтора часа в офисе раздался звонок – Майя Арфова нашлась. В палате интенсивной терапии.
***
Это Нелли скользнула в кабинет и сообщила, что звонили из больницы – только что к ним поступила женщина, в сумочке которой нашлись квитанции из отеля на имя Ады Фрейн, а в теле – четыре пули. Не сговариваясь, Ада и Илья выскочили из кабинета, кинулись к машинам – каждый к своей, но Ада сейчас соображала быстрее, изменила решение – нельзя пускать Арфова за руль. Она гнала как безумная, торопясь попасть в городскую больницу быстрее, чем туда доберется смерть – и успела.
Они бежали по коридору, белые халаты хлопали по ногам, бахилы скользили по гладкому полу, они бежали – и Майя лежала там, опутанная проводами, и мигали, пища, какие-то огоньки приборов, которые держали душу в ее теле – две пули вошли в спину, лишь чудом не задев позвоночник, одну извлекли из легкого, четвертая – и это было хуже всего – была выпущена в затылок. Майя была еще жива, но врач, смутно напомнивший ей Диму, смотрел так спокойно и твердо, что Ада поняла – надежды нет.
Среди вещей пострадавшей был найден темный парик, квитанции из отеля, ключи. Сотовый телефон отсутствовал. А потом были какие-то люди, и Илью отвели в сторону, отпаивали успокоительным, разговаривали – Ада знала, психологи справятся лучше, чем она, но все же никак не могла уехать, не могла бросить Арфова. Горя не было, только какая-то странная пустота на том месте, где была в ее сердце старая подруга-соперница, словно распалась еще одна связь с прежней жизнью, не принося облегчения. Сплошные смерти, подумала, куда бы я ни шла, вокруг сплошные смерти, и началось это давно, а сейчас просто усилилось, думала, куря в больничном дворе, где было отведено для этого специальное место. События развивались так быстро, что она не успевала, не то, что анализировать – чувствовать, но зато в этой кутерьме она была в безопасности, ее тайны оставались при ней. Подошел Дима, который только освободился из операционной, где резал кого-то важного, примчался, как только узнал, и она подумала – надо с этим развязаться, надо закончить, потому что невозможно выходить замуж за одного, отдаваться по расписанию другому и любить третьего – слишком много получается тех, кому нужно врать. Но не успела об этом заговорить, а Дима уже убежал – убедился, что она в порядке, спросил, не нужно ли ей успокоительное или что-то вроде, обещал приглядеть за Арфовым, если Аде вдруг придется уехать. Она равнодушно пожимала плечами на все его вопросы и чувствовала себя спокойной как никогда – не апатичной, а именно спокойной. Будто в самом центре тайфуна.
В три часа тридцать шесть минут и сорок секунд пополудни Майя внезапно пришла в себя. Она бредила. Арфова, который пытался прорваться к ней в палату и преуспел – кричал, хватал жену за руки и плакал как ребенок, – силой вывели. Люди в сером зашли следом за ним в соседнюю пустовавшую палату и долго расспрашивали его о вчерашнем вечере, ночи, сегодняшнем утре. Спросили и Аду, но так аккуратно, что ей даже не пришлось изворачиваться и врать насчет того, где она ночевала. Она смотрела на людей, одетых в серое и как-то отстраненно размышляла о причине их тактичности – знают ли они о Германе или уверены, что она спала с Сайровским? Чьи они теперь, кому служат? Кого от кого охраняют? Спросили ее и о том, нет ли у не врагов, и она удивилась – причем здесь ее враги, когда Майя умирает в палате интенсивной терапии, а потом сообразила, и рассмеялась. У нее могла быть тысяча врагов и ни одного, в этом свихнувшемся мире она ничего не могла знать наверняка. Она не испугалась, только подумала – «это возможно, Майя ведь была актрисой и у нее были годы, чтобы изучить меня, лучшее нее никто не мог притвориться мной» – и что если убить хотели Аду Фрейн, а вовсе на Майю Арфову? «Какая ирония, – она подумала, – ты даже умираешь моей тенью, Майя, Майя, ты даже своего собственного убийцу не заслужила», и это не наполняло торжеством, как случилось бы прежде, а заставляло только горько улыбаться.
В четыре часа двадцать шесть минут пять секунд, в понедельник, двенадцатого июня две тысячи восемьдесят четвертого года Майи Арфовой не стало. А потом секундная стрелка на больших больничных часах, висевших у дверей уже не ее палаты, сдвинулась с места, и пошла шестая секунда двадцать седьмой минуты пятого часа, и земля продолжила вертеться.
***
В больничном дворе, который за эту пару часов будто стал ей вторым домом, Ада снова курила, рассматривая больных и выздоравливающих, прогуливавшихся по цветущим аллеям в больничных пижамах и куртках. День оказался очень теплым – не чета вчерашнему вечеру, когда отчего-то резко похолодало. Утренний дождь тоже не испортил погоды, и солнце сияло, обещая, что это навсегда – но Ада знала, врет. Погода в Столице отличалась непредсказуемостью и скверным характером.
Зазвонил телефон, и она ответила. Ян Сайровский знал о ее недомоганиях, но новость об утрате, которая ее постигла, не могла его оставить равнодушным. Не окажет ли Ада Фрейн ему честь, не составит ли ему компанию для послеполуденного чая? «Файфоклок», была такая традиция в одной из частей Объединенной Евразии, но очень-очень давно, а ему нравится, и он, когда позволяет его график, не отказывает себе в этой слабости. Времени у него немного, но она, вероятно, ничего не ела с самого утра – и ей сейчас, наверняка, нужна поддержка искреннего друга, и к тому же ему есть, о чем с ней поговорить. Это было даже слишком много поводов для встречи, Ада подумала, он мог бы ей, как Герману вчера, приказать «к ноге», разве она смогла бы отказаться? С другой стороны, эта озабоченность ее здоровьем, ее рационом – в этом было даже что-то трогательное. Так о ней Дима заботился, и ей это нравилось, пока не затошнило от ощущения затхлости, которое он привносил в ее жизнь. Дима. Будто знал, что Сайровский позвонит ей, пригласит на встречу и придется бросить Арфова одного – но поехать стоило, Илья бы этого хотел, она была уверена, Илья бы ее похвалил. А Дима… что ж, сам вызвался приглядеть за ее внезапно овдовевшим агентом. Она надеялась, что у жениха хватит интуиции отвезти Илью не домой, где все будет напоминать об утрате, хватит такта осторожно его напоить, хватит чуткости поговорить по-мужски. Но не была уверена, Дима, если вдуматься, оставался для нее задачей, которую ей скучно было решать – он иногда казался невероятно глупым, а потом вдруг выдавал такие вспышки прозрения, вот как со звонком нового президента, например.
Она согласилась, обновила макияж в больничном туалете, оглядела себя критически – выглядела превосходно, хотя вышла из дому, кажется, миллион лет назад, но время в ее черной дыре шло непривычно, не так как всегда, и оставалось только смириться с этим новым чувством – словно она живет быстрее, чем весь остальной мир. Машина прибыла через пять минут, а еще через десять она уже сидела в небольшой кофейне в центре города, откуда как-то подозрительно быстро исчезли все посетители. Лучше бы они остались, лучше бы хоть кто-то был здесь, кроме нее, этого старика и серых теней, застывших у каждого входа, но не она заказывала музыку, не она диктовала условия, и оставалось только надеяться, что Сайровский джентльмен не только на словах. «Джентльмен» – еще одно устаревшее слово, слово отжитых, никому не нужных веков, она надеялась, еще одна причуда президента, вроде розы в петлице, седой головы, вечернего чая.
Чай принесли, и печенье – миниатюрные кусочки гастрономического райского блаженства – Ада ела, как птичка, как птичка же чирикая, думала, не случись с ней Германа Бельке, она бы так себя и вела с этим новым поклонником, свободно, легко, лишь чуть-чуть более интимно, чем позволила бы себе со старым другом, и она старалась, излучая одновременно счастье и грусть об ушедшей. Сайровский старался, рассказывал ей какие-то забавные случаи из своей жизни, и она сдерживалась недолго, потом рассмеялась – действительно, забавно, – и он просиял, но просиял как-то холодно, словно тоже играл роль, которая давно ему наскучила.
– Вижу вам лучше. Я невероятно счастлив, вчера мне показалось, вы были чем-то расстроены… – Неужели это было так заметно, Ада напряглась.
– О, всего лишь недомогание.
– …А сегодня эта трагедия. Вам не идет грустить или пребывать в унынии, но что поделать, жизнь есть жизнь – и заканчивается она смертью. В моем возрасте это уже умеешь принимать, как должное, но вы еще слишком молоды для такого знания, разумеется.
Она уверила его, что он тоже выглядит совсем молодым, мальчишка, она не дала бы ему больше… Но он уже смеялся и жестом прерывал поток ее славословий. Она поняла – он так велеречив не потому, что хочет ее запутать, он просто любит слушать себя, не ее, себя, а значит, и она должна полюбить – неплохо. Многозначительно молчать Ада умела.
– Но вчера вечером, – дался ему этот вечер! Она молчала, чуть потупив глаза, перебирая в голове варианты того, как можно перевести разговор на другую тему, но для того, чтобы перевести разговор – нужно же заговорить, а он ясно дал ей понять, что слушать намерен только себя. – Вы были сами на себя не похожи. И я задался вопросом, что может так огорчить молодую, красивую женщину на самом пике ее карьеры, популярности, когда у ее ног лежит вся страна, когда к ее услугам поклонение миллионов мужчин? И тут я вспомнил, как вы вошли в зал, прекрасная, гордая, но – в одиночестве. И тут я все понял.
Сайровский, может быть, все понял, но Ада ничего не понимала, и только надеялась, что этот разговор не затянется слишком надолго и не перейдет к щекотливому вопросу о том, где она ночевала, куда поехала с Германом. Герман… Она вспомнила о нем и покраснела – просто перестала расчетливо, медленно дышать, и кровь прилила к щекам – этот трюк редко ей удавался, ведь чтобы вовремя покраснеть нужно и думать о чем-то вгоняющем в краску и не позволять этим мыслям возобладать над счетом дыхания. Но сейчас все получилось.
– Скажите мне, дорогая Ада – вы не против, чтобы я вас так называл? Вы мне годитесь в дочери и я полон к вам самого искреннего дружеского расположения, – он протянул руку и ее ладонь внезапно оказалась в тисках, и она подумала, какая холодная у него кожа, точно у жабы – она никогда не трогала жаб, даже никогда не видела вживую – но именно так, по ее представлениям и должна была ощущаться жабья кожа – холодная, мягкая и одновременно словно царапающая руки. Словом – мерзко.
– Дело в вашем предстоящем браке? Что-то не ладится с вашим женихом?
Она вскинула на него глаза, добавив во взгляд толику потаенной грусти. Он так тщательно изображал отеческое внимание, что на секунду она засомневалась – а может, все мираж, может, нет в нем этого самодовольства, похоти, гадости, может, все ей померещилось? И самое правильное сейчас довериться ему, все ему рассказать, и разрубить этот узел, и покончить разом со всей ложью, избавиться от Димы, жить нормально, не трястись от того, что он назначит ей приватную встречу сейчас, завтра, через неделю? Может, это она все портит, она же сама заигрывала с ним, а ему от нее ничего и не нужно, и он просто запутался, она ему голову задурила, и если поговорить откровенно, он все поймет, все рассудит, ведь те, что у власти – особенные люди, так говорил отец. И она изучала его, и сердце билось чуть быстрее, а он ждал, но потом она вдруг вспомнила прошедшую ночь, и Германа, и то, что он говорил, и поняла – нет, это ловушка, Ада, это все ложь, кругом ложь от первого и до последнего слова, и если даже он только из-за твоей несдержанности думает, что ты мечтаешь отдаться ему прямо на этом столе, все равно остается Герман. Она вспомнила и новую форму службы охраны и тот его повелительный тон, и подумала – даже если все было бы правдой, Сайровский ненавидит Германа. А раз так, то у нее просто нет выбора. Какими бы сладкими ни были слова этого человека, он не поймет, не простит, не примет, не благословит их союз, а потому – война не на жизнь, а на смерть, и в ход будут пущены самые гнусные приемы.
– Я… знаете, я все боюсь, что совершаю ошибку. Мы давно вместе, и он такой хороший человек, но я… я…
– Замечательный модой человек, вы правы. Я много общался с ним, он умен, у него прекрасны перспективы, его верность идеалам не вызывает сомнений, он любит вас, что же вам еще нужно?
– Но я не уверена, что люблю его, – и пунцово покраснела. Сайровский продолжал внимательно смотреть, она чувствовала кожей, но потом его взгляд будто смягчился, во всяком случае, ей так показалось – перестало давить тяжелое на склоненную голову.
– Вот как… В чем же дело? Не думайте, что я спрашиваю из праздного любопытства, но сколько лет живу, никак не могу разобраться в этом вопросе. У мужчины есть все, что только можно пожелать, но женщина его не любит. Чего же она хочет, что ей нужно, почему она не отвечает на чувства того, кто этого достоин?..
– Я не знаю, бывает по-разному, но… в моем случае все просто, – она подняла глаза, и тут же снова отвела взгляд, пролепетала. – Просто есть кое-кто еще более достойный, и…
Снова взгляд – словно стреляла по движущимся мишенями, и чувствовала – играет опасно, но лучше так, чем оставаться безвольной марионеткой. К тому же только сказала, почувствовала – он ей не поверит. Решит, что она дрянь, которая для карьеры, для имени, для своего тщеславия взялась играть в эту игру, решит и хорошо, и ладно, это будет льстить, все равно будет льстить его самолюбию. Его пост околдовал его, вот и все. И он так влюблен в свою власть, что ни за что не поверит, что она предпочтет его подчиненного, не первого – второго, а теперь может быть, последнего человека в стране. И чем дальше он от правды, тем лучше, так пусть будет игра, пусть. И он подыгрывал ей – внимательно смотрел, придвигаясь ближе.
– Кого же?
Подумала, придется целоваться. А по углам стоит эта служба охраны, и смотрит, смотрит, и если есть среди них хоть один верный Герману человек, она почему-то была теперь уверена, таких почти не осталось, но если есть – расскажет ему, и вдруг он перестанет ей верить, вдруг решит, что она лгала тогда – ведь она актриса и сама порой не знает, когда выглядит искреннее – когда исповедуется или когда лжет. Чуть отстранилась, улыбаясь – смущенно и лукаво, фирменно. Пусть он думает, что она заманивает его, пусть торжествует победу, считая, что раскусил пустоголовую девчонку.
– Я не могу. Он женат… и…
Сайровский усмехнулся. Мгновение ее сердце колотилось как безумное, она боялась, что он решит додавить, выпытать, и тогда уж точно придется целоваться, и она беспомощно огляделась, показывая глазами на службу охраны. Чувствовала – их он не выставит за дверь, слишком дорожит своей безопасностью, а значит, можно разыграть смущение от необходимости признаваться в присутствии посторонних.
– Нас слышат, – одними губами произнесла она. Он снова усмехнулся, но чуть отпрянул, и она облегченно выдохнула. Дело даже не в поцелуях и признаниях, они были взрослыми людьми, она и Герман, но мысль о том, что он может засомневаться в ней, вызывала ужас.
– Об этом не стоит беспокоиться, они слышат только то, что представляет угрозу для меня, говорят только то, что я им прикажу, и, порой мне кажется, даже дышат только тогда, когда им это позволено. Они великолепно вышколены, абсолютно верны и готовы заботиться о благе страны и… особенно ценных для страны людях. Кстати, вы мне напомнили, – он вернулся к своему чаю, и только тут Ада сообразила, что все это время его колено упиралось в ее бедро. – После сегодняшнего трагического происшествия, я считаю своим долгом – не только как вашего друга, но и как руководителя страны, который должен думать о чаяниях и нуждах своего народа, о том, что этот народ любит и потеря чего станет для него невосполнимой утратой, – Ада мельком удивилась тому, как он умудряется не запутаться в том, что говорит. Так же изъяснялся ее дядя – приходилось напрягать все силы, чтобы не упустить мысль, которую он пытался донести. – Так вот я считаю своим долгом приставить к вам охрану – мне сообщили, что есть серьезные основания считать, что жертвой должны были стать вы, а не несчастная девушка, и, как бы мы ни скорбели об этой утрате, мы должны думать о будущем. Которое без вашего творчества, разумеется, невозможно себе представить. Я говорю вам об этом для того, чтобы вы понимали – это делается не для того, чтобы следить за вами – а многие сейчас стали разделять странную, кощунственную точку зрения, будто служба охраны это шпионы и каратели, вы, я надеюсь, не из таких скептичных натур?
Во время всего его монолога Ада молчала, не делая попытки заговорить, огорошенная этой мыслью. И только под конец выдохнула:
– Нет, конечно, не из таких, я понимаю, но…
– Не спорьте только, прошу вас. Это будет сделано исключительно для вашей безопасности. И для того, чтобы вы не сомневались, я вам сообщаю – охрана будет постоянно дежурить у вашей квартиры, не показываясь открыто, разумеется, один из агентов будет ходить за вами по пятам. Контроль над всей это операцией я поручу самым проверенным и высокопоставленным сотрудникам. Все это ровно до тех пор, пока мы не поймаем мерзавца – потеря вас стала бы для нашей страны невосполнимой утратой, ведь вы стали… символом, да-да, символом всего, что мы любим… – Его рука снова потянулась к ее руке, но Ада уже выпрямилась, метая молнии глазами, понимая – это ее шанс, это их шанс, и сейчас нельзя давать ему свернуть на колею признаний в любви и домогательств – она готова была даже потерпеть домогательства, от этого, видимо, никуда не деться, но сначала хотела выяснить, так ли высока будет за них цена, как ей хотелось.
– Не стоит, мне кажется, отрывать людей от их непосредственных обязанностей, я найму кого-нибудь сама, чтобы вам было спокойнее, но…
Он ненавидел слова «нет» и «но», она заметила.
– Не спорьте со мной, я сказал. Бельке будет лично отчитываться мне о том, как вас охраняют и как идут поиски преступника, – краска отхлынула от ее щек – если он будет отчитываться, может, он будет руководить, если он будет руководить, может быть, она сможет его иногда видеть, иногда встречаться с ним, и это стоило «файфоклока», унижений, риска.
– Это так… так великодушно, я даже не знаю как вас благодарить, – он-то знал, она видела это по его глазам, но прежде, чем его настырное колено снова уперлось в ее плотно стиснутые, пытаясь развести ей ноги, она проговорила, сверкая глазами – хотела, чтобы это выглядело яростью.
– И раз уж все равно меня будут охранять, я бы хотела тоже знать о том, как идут поиски негодяя, убившего мою подругу.
Сайровский нашел это справедливым желанием и пообещал, что – не каждый день, разумеется, – начальник службы охраны будет заезжать с докладом и к ней. Она понимала, что для Германа это очередное унижение, что для Сайровского это просто еще один способ назвать начальника службы охраны шелудивым псом, но не могла об этом думать, околдованная открывающимися перспективами. Она будет видеть его, слышать его, он сможет ей звонить, и она сможет звонить ему – звонить по поводу и без, звонить в любое время дня и ночи, делиться придуманными страхами, что еще ждать от избалованной актриски. Все это было так прекрасно – так не бывает только во сне. Но необходимость стоически терпеть руку Сайровского, вслед за коленом принявшуюся изучать и поглаживать внутреннею сторону ее бедер, доказывала, что это реальность.
Ада справилась и была обворожительна до самого прихода секретаря, напомнившего, что президенту пора ехать на какую-то важную встречу. Она справилась, она была счастлива.
***
Это была, вероятно, самая счастливая неделя в ее жизни. Дима все время пропадал в своей больнице, а когда возвращался – сразу ложился спать. Он приходил позже нее, и, ей иногда казалось в полусне, что от него разит спиртным – но, вероятно, ей так только казалось. Он не делал ни малейшей попытки дотронуться до нее, иногда даже как будто отшатывался, когда она невзначай касалась его, но Ада была слишком счастлива, чтобы обращать на это внимание. И думала порой – если так будет продолжаться, может даже стоит выйти за него. Он стал так потрясающе незаметен. Он так чудесно умел не мешать. Впервые в жизни Ада ценила его – и смешно сказать – за то, что его в ее жизни толком и не было.
Агентов она не видела ни разу, то есть, наверняка, видела и не раз, но так и не смогла понять, кто из обычных людей, стоявших с ней возле лифта, поднимавшихся рядом на эскалаторе, галантно распахивавших перед ней дверь, когда она входила в подъезд, сидевших за соседним столиком ресторана, бравших у нее интервью, толпившихся в офисе Арфова, был агентом, а кто нет. Это наполняло ее странным чувством покоя, и хотя это игра в угадайку наскучила ей через пару дней, все же время от времени Ада принималась за нее снова – и это так здорово занимало ее мысли, что думать о плохом она просто не успевала.
Илья не появлялся. В офисе шептались, что он сидит в своей квартире и пьет горькую, кое-кто даже ходил его навещать и, в целом, подтверждал слухи, но как помочь ему справиться с горем никто не знал – и потому все старались не вмешиваться. Ада думала, что без Арфова она будет как без рук, но его отсутствие, к ее удивлению, совсем не сказывалось на ее делах – слишком давно были расписаны ее дни, слишком четко работала эта машина популярности, чтобы сбиться из-за того, что Илья на время сошел с дистанции. Там, где она не умела или не хотела управляться сама, помогала Нелли, и Ада с удивлением узнала, что с женщинами можно общаться не только как с обслугой или соперницами – друзьями они не стали, но глуховатый сухой голос секретарши не вызывал в ней раздражения, и о многом можно было говорить свободно – что болит голова, что она поправилась на несколько килограмм, а потому нужно позвонить портнихе и договориться о снятии мерок, что противозачаточные таблетки почти кончились и не может ли Нелли заказать их для Ады, ведь ей так неловко обращаться с этим к Диме, пусть он и врач. Она даже не представляла насколько проще могло быть то, на что с Ильей у них ушло так много лет и нервов. Тем не менее, ей не хватало Ильи, и она все собиралась заехать к нему, выразить соболезнования – но как-то не складывалось.
Ей надоедали визитами – тот самый человек, что приходил в день смерти Майи появлялся еще пару раз, но Ады то не оказывалось дома, то у нее не нашлось времени, и в итоге он сдался – попросил ее зайти в церковь, расположенную в соседнем квартале, когда ей будет удобно – ему о чем-то нужно было с ней поговорить. Но сообщил он об этом так неуверенно, словно сам сомневался, что игра стоит свеч. Нора оказалась права, священник, несмотря на гражданскую одежду, и Ада недоумевала – но потом сообразила, что он, вероятнее всего, хочет попросить, чтобы ее венчание состоялось именно в его церкви – пока какая-нибудь другая часовня, а то и храм, не опередили старался застолбить место. Она все откладывала и откладывала решение этого вопроса, Дима не напоминал, и они оба делали вид, что свадьба будет когда-нибудь в другой жизни, совсем нескоро. Хотя до нее оставалось всего полтора месяца – обвенчаться решили в ее день рождения, чтобы отвлечь публику от подсчета, а сколько же ей лет стукнет в этом году. Идея, конечно, принадлежала Илье, но Ада решила, что подумает об этом позже, подумает об этом завтра, как одна из героинь какой-то прочитанной ею книги, а пока можно просто расслабиться и получить то, чего у нее так много лет не было и в помине – драгоценные, редкие глотки свободы. Сайровский был так занят делами государства, что на некоторое время оставил свой каприз в покое, и все ограничивалось только несколькими телефонными звонками и ставшими традиционными букетами цветов – каждый раз разных, но всегда огромных, так что в итоге к концу недели ее квартира превратилась в оранжерею, и Ада мудро рассудив, что цветы ни в чем не виноваты, больше не пыталась выместить на них свою злость. Да и злости больше не было – все утонуло в ее абсолютном счастье.
Убийцу пока не нашли, о чем исправно сообщал ей Герман, каждый день – а то и несколько раз в день, звоня ей по телефону. Своим сухим, бесстрастным голосом он перечислял успехи, которые делало расследование. Был найден любовник Майи, по минутам установлено, где и с кем она провела вечер и ночь воскресенья, где было совершено нападение, во сколько. Любовник оказался ничего из себя не представлявшим молодым актером, но на время убийства у него было алиби, которое могли подтвердить как минимум десять человек, и даже допрос с применением спецсредств ничего не дал. Было установлено место, где стреляли в Майю, что она, вероятно, даже не успела увидеть того, кто убил ее – так что, даже приди она в себя, она бы ничего не смогла рассказать. Несколько подозрительных людей было обнаружено возле дома самой Ады, но и они оказались ничем не примечательны. Было установлено, что в городе за последнее время было совершено несколько схожих убийств – гибли молодые женщины, сходного с Адой роста и телосложения, но, служба охраны полагала, что они имеют дело с маньяком, чьей навязчивой идей была гражданка Фрейн, а не просто беззащитные женщины. Ада слушала его каждый день, почти не улавливая смысла того, что он говорил, кроме того факта, что негодяя еще не поймали, а значит, он позвонит ей снова. И пока он докладывал, представляла его в кабинете, представляла сколько ходит вокруг людей, и все заняты, и все увлечены работой, и все ищут того, кого, будь ее воля, не нашли бы никогда. С ними она ничего не боялась. В первый же вечер, приехав к ней, Герман дал понять, что присматривают за ней лучшие люди, его люди, а значит, все было под контролем, все было хорошо. Он приезжал почти каждый вечер, знаком показывал ей отключить телефон – он объяснил, на прослушке сидят очень разные люди, лучше не рисковать – и эти его доклады нравились ей гораздо больше сухого тона по телефону, хотя им приходилось торопиться, как подросткам, и он смотрел на цветы, расставленные в ее гостиной со все растущим раздражением, и хотя он приезжал почти каждый день, ей его мучительно не хватало. Но в этой муке тоже было счастье.
И все же, как она ни длила, как ни старалась представить, что это время никогда не кончится, неделя в положенный ей срок подошла к концу. В воскресенье он приехал позже обычного и не ответил на ее радостное приветствие. Указал на телефон и мрачно прошел на кухню, хотя она готова была с порога тащить его в спальню – у них всегда было так мало времени друг на друга, что тратить его на разговоры казалось кощунством. Но на этот раз он приехал с ней поговорить.
Она по его лицу, по напряженному взгляду, по поджатым губам поняла – что-то плохое случилось или вот-вот произойдет, и трепеща, скользнула на кухню вслед за ним, запахивая свой цветастый халатик, открывавший больше, чем скрывал. Забралась с ногами на стул напротив него, подперла кулаками подбородок и стала вдруг – маленькая девочка, которую собираются отчитать.
– Знаешь, что завтра за день? – Спросил Герман, его кадык как-то странно дернулся, словно ему с трудом давались эти слова. Она потянулась за сигаретами.
– Понедельник, – но взглянув на его лицо, поняла, не до шуток. – Знаю.
Он молчал. Молчала и она, ожидая от него ответа, совета, приказа, потому что сама ничего не могла придумать. Вспомнила – сколько ни бегай, не убежишь.
– Ты не… ты не обязана это делать, – наконец, проговорил он, и твердо посмотрел ей в глаза. Она прыснула от смеха – ничего не могла с этим поделать.
– Как ты себе это представляешь? Извините, вы меня не возбуждаете и вообще я сплю с начальником охраны, которого вы же, кстати, ко мне и приставили?
Герман побледнел, и она поняла, еле сдерживается, чтобы не ударить – ее, стол, стену, что угодно, кого угодно, а то и пойти в гостиную, разбить к черту все вазы с цветами, его, соперника, цветами, а потом разрядить обойму – не то в нее, не то в себя, не то в… но об этом даже думать было страшно. Ада знала этот взгляд – так на нее смотрел покойный муж, когда она оказывалась права, а его мужское самолюбие не могло смириться с тем, о чем она говорила. Но она стала старше, мудрее, и Вельд погиб из-за того, что она не научилась купировать эти приступы, а потому сейчас следовало быть разумнее, не рисковать, не язвить. Спрыгнула со стула и молниеносно, змей скользнула к нему на колени, прижимаясь всем телом.
– Милый, ты же знаешь, что это только из-за тебя. Если бы я могла, я бы не поехала, я бы ни за что не поехала – и плевать мне на карьеру, и плевать на все, пусть оно пропадет, но что будет с тобой, если он узнает? А как он может не узнать, если я не…не оправдаю ожиданий?
Они говорили об этом раньше, шепотом, торопливо, и по его скудным репликам, по его мрачному лицу, Ада понимала, что обо всем догадалась правильно, может быть, очень поверхностно, но правильно. На кону стояла не ее – его карьера. И может быть, даже жизнь.
– Зато мы можем видеться и…
– Я тебя вытащу, – она не поднимала глаз, но видела – с ним что-то не так. Медленно сжимались и разжимались его кулаки. Не угроза – он просто словно заставлял себя решиться, словно взвешивал все, не только каждое слово, но каждый вдох и выдох, каждый стук сердца. – Я вытащу тебя оттуда, – повторил он.
– Но тогда все откроется или… Как?
– Это уже не имеет значения, выбора у меня не осталось. Сегодня он отстранил меня от руководства, завтра объявит об этом официально, к концу недели начнет расследование, ну а дальше, – он криво улыбнулся. – Сама все должна понимать.
Она понимала. Перед глазами стоял Давид, перед глазами мелькал Вельд, и кто знает, что лучше – пуля в затылок – две пули, две, это была казнь, а не самоубийство – или медленное загнивание, но нет, для Германа Бельке, конечно, не будет никакого медленного загнивания, он слишком много знает о Сайровском, о других, чье могущество было немногим меньше, чем власть явных лидеров. А значит, приговор ему вынесен и подписан, и в такой момент он не бежит, не спасает свою жизнь, нет, он сидит на ее кухне и спрашивает – будет ли она спать с его соперником. От этого внезапно стало так тепло, так мягко, но и – страшно, и она хотела задать ему тысячу вопросов, хотела целовать его тысячу раз, но слезы уже текли по ее щекам, и она вскочила, и закричала на него – что же он медлит, чего ждет, почему так спокоен, когда надо бежать как можно быстрее, куда угодно, за край земли, и ей пришло в голову, что он здесь, чтобы просить ее помощи, что он здесь, чтобы просить ее ехать с ним. И так глупо, так романтично это было, а он был так не похож на глупца и романтика, но ей было все равно, и она побежала в комнату, и принялась обшаривать тумбочку в поисках наличных денег, которыми пользовалась только для покупки алкоголя мимо кассы – для всего остального существовали карточки и банковские счета, и наличность не приветствовалась, – но зачем ему карточка, которую легко отследить? Она вспомнила об украшениях, схватила шкатулку, вытрясла все на кровать, и кинулась к нему с горстями фальшивого жемчуга и колец – все побрякушки, мелочь – но что-то же за них дадут, сколько-то это все ведь стоит?
Герман стоял на пороге спальни, скрестив руки с каким-то странным выражением на лице, словно происходящее не то забавляло, не то раздражало его.
– Я соберусь за пять минут, и еще можно некоторое время ехать на моей машине, пока хватятся, если ты возьмешь меня с собой, а если нет, то вот, вот, вот, – она попыталась сунуть ему в руки свои сокровища, приметы долгих лет карьерного успеха, когда она не думала о деньгах, когда принимала подарки или отказывалась принимать, следуя исключительно своим капризам – а теперь жалела, и думала, что еще можно продать, что отдать, чем ему помочь. Куда он сбежит, где будет, увидятся ли они – он умный, он сможет придумать, сейчас важно было продлить хоть на день, хоть на час его жизнь, и украшения это меньшее, что она готова была за это отдать. Наконец, ему, видимо, все это надоело, и он схватил ее за руки, чуть встряхнул, и градом посыпались на пол ее сокровища, и она поняла, что бьется в истерике.
– Тихо, Ада, – от его окрика он вдруг замерла, загипнотизированная, только слезы все катились и катились из ее глаз. – Так не пойдет. Успокойся.
Она потянулась к нему, ища его губы, ища его защиты, и он поцеловал ее, обнял, отвел на кровать, усадил, сам сел рядом и начал что-то объяснять о том, что его предупредили верные люди, что время еще есть, но глупо так убегать – в ночь, ни к чему не подготовившись, не озаботившись местом, где можно будет укрыться. Земной шарик стал таким маленьким, что умещался в ладони, и может быть, вовсе нет для них на нем места, но он готов рискнуть, он готов поискать, а она – готова ли?
– Ты, правда, можешь бросить все? Подумай, не торопись, придется прятаться, притворяться всю жизнь, это может быть опасно, наконец, – но она мотала головой, глядя на него сияющими глазами – он пришел за ней, он спасет ее, как спас тогда, на балконе, прикроет от всего, и их будут искать, и, может быть, вероятнее всего, однажды найдут – но вдруг получится? А что ей оставлять здесь? Здесь все уже умерло, она поняла, и не стоит ее жизнь ничего – и так легко от нее отказаться. А что притворство, так она привыкла, это же ее профессия, она больше ничего и не умеет толком, и с ним она ничего не боится.
– Ты понимаешь, что здесь тебя все любят, даже если ты в это не веришь, даже если эта любовь принимает несколько извращенные формы, любят – а там ты будешь нужна только мне? Что ты больше не увидишь никого из тех, кто окружает тебя здесь?
Но она кивала, согласно кивала, готовая на все и твердила – да-да, только забери меня отсюда, только помоги мне, я такая глупая, совсем ничего не соображаю – она с раздражением оттолкнула брошку, упавшую на кровать, и шкатулку, и все это мусор, все это мне не нужно, только бы был ты.
***
Он объяснял долго, подробно, но не раньше, чем она успокоилась и устала его целовать. Лежать на рассыпанных кольцах и нитях фальшивого жемчуга было неудобно, но она не обращала на это внимания, боясь отпустить его хоть на минуту, боясь, что, как только отпустит, он исчезнет, придут и заберут его, и не останется у нее ничего.
План был прост. Служба охраны, разумеется, знала, где и как будет ужинать президент, хотя для остальных граждан ОЕ это с некоторых пор стало тайной за семью печатями – был выбран «Парижанин» – и Герман сказал, что это им на руку. В семь пятнадцать, не раньше, не позже, она должна была встать из-за стола, извиниться, выйти, проскользнуть по коридору, где когда-то поджидала его, зайти в мужской туалет, вылезти из окошка – а там спуститься по пожарной лестнице. Она не должна никого встретить – он сделает, что может, чтобы очистить ей путь, но и ей нельзя ни в коем случае упустить момент – у нее будет не больше полутора минут. Покинув здание, Ада пройдет по определенному маршруту, минуя патрули, – и он продиктовал ей название улиц и время, когда она должна там оказаться, а она повторила за ним без запинки, не заботясь о том, что теперь он узнал о ее фантастической памяти. Там, в конце пути, будет квартира, куда она должна подняться, где он будет ждать ее. Герман обещал ждать там с документами, деньгами, билетами, всем, что будет им необходимо в их новой жизни.
Он говорил об этом так просто, что она подумала – он успел проработать все детали плана, и на все ее вопросы отвечал – «я об этом позабочусь, я за этим прослежу, не беспокойся, тебе нужно сделать самую малость, а потом будет новая жизнь, дивный новый мир для нас двоих». Она теряла голову от его обещаний, но он сохранял трезвость мысли, трезвость, почти пугающую, отстранял ее руки, уворачивался от ее поцелуев, тряс за плечи и твердил – «Ада, Ада, это все очень серьезно, соберись».
Он потребовал, чтобы она показала платье, в котором собирается идти, и забраковал ее выбор – вылезать в окошко в таком бы безумием, и некоторое время они задумчиво изучали ее гардероб, пока не остановились на коротком, ярко-алом наряде, туфельках без ремешков, чтобы не тратить время на то, чтобы обуться и разуться и с удобным, хотя и высоким каблуком, миниатюрную сумочку. Он аккуратно разложил ее наряд на постели, стоял насколько минут над ним, задумчиво поглаживая подбородок. Она тоже задумалась – выглядеть в этом она будет очень откровенно, провокационно. Ужин назначен на шесть часов. Значит, больше часа ей придется провести в обществе президента – слишком долго для настолько вульгарного вида.
– Ты справишься, ты готова? – Спрашивал он снова и снова. Ада согласно кивала, план выглядел простым, а мечта о будущем, в которое она уже почти не верила, такой манящей, что она не сомневалась в себе.
– Что бы ни было – не пропусти момент, чтобы уйти. А уйдешь – не оборачивайся, – сказал он, и она видел, по его поджатым губам, заострившимся скулам, упрямо выдвинутому вперед жесткому подбородку, что он решился, окончательно и бесповоротно, и так странно было предположить, что он мог сомневаться до последнего, что ему вообще ведомы сомнения. – Не оборачивайся.
«Я Орфей, – думала она, – обернусь, и подземное царство отберет его у меня, утянет во тьму, но я – больше, чем Орфей, я не подведу его». Он поцеловал ее на пороге так, словно прощался навсегда, и она обняла его словно в последний раз – она верила в его план, но если что-то пойдет не так, они могут никогда больше не увидеться. Но завтра, завтра, стонало ее сердце, завтра я не отпущу его так просто, завтра он станет моим навсегда, и будет, все будет иначе, раз и навсегда. И думала – вот с ним, с ним одним и богатстве и в бедности, и в горе и в радости, и в болезни и в здравии, и как ее угораздило так влюбиться? Но налетело, накрыло, смело все на своем пути это безумное чувство, эта жадность, и так просто оказалось разрушить все, что она строила столько лет.
Ада забралась в постель, положив руку на платье, поглаживая ткань, легкую, струящуюся, пытаясь свыкнуться с мыслью, что это все в последний раз – с его уходом на нее вдруг навалилась вся тяжесть принятого решения. Вот так, и больше никогда не увидит она этого потолка, этих стен, кухни, мрачного лица Норы, не услышит голос Нелли, не пройдет знакомым путем к офису Арфова, не будет камер и журналистов, не повторится никогда триумф, не опьянит больше дорогое вино, не закружится голова от аплодисментов, не поедет она больше в ночь на какую-нибудь вечеринку, не встретит свою фотографию на страницах желтых газет. Их, наверное, объявят в розыск, как террористов, преступников. И ей придется изменить внешность – но это как раз меньшее из зол, Майя доказала, что не так это и сложно, своей смертью доказала.
Сгущались поздние июньские сумерки за окном, а она все лежала и думала, подсчитывала и подводила баланс, вспоминала все, от чего отказывается. И имя ее будет забыто, вычеркнуто из истории, а хотелось бы, чтобы ее помнили, жалко будет повторить судьбу Давида, но едва ли, скорее объявят – Герман ее похитил, и разве это не похоже на правду, разве этого не может быть? Она достаточно красива, чтобы эта легенда ожила, и думать, что она останется легендой, было приятно. Столько она отдала своей души, столько сил приложила, должна же быть компенсация, но если мир так несправедлив, если ее тщеславию суждено пострадать – что с того?
Ни пьяные вечеринки, ни шикарные наряды, ни побрякушки не сравнятся со счастьем обнимать его, и это так просто и понятно. Она никогда не думала, что она из тех женщин, которые все в своей жизни измеряют любовью и интересами своего мужчины, она смеялась над подобными историями, но только потому, что не знала никогда, что такое настоящие чувства. Удивительно было осознать это, удивительно узнать о себе такое только к тридцати пяти годам, но, может быть, это просто чувства изменили ее, а может, она изменилась сама и только потому, сумела влюбиться. Она и не заметила, как уснула, и сны, что пришли к ней были продолжением ее мыслей, и во сне было море, теплое море, вода накатывалась на камни, и стоял какой-то дом на берегу, и она была, залитая солнечным светом, и он был рядом, а впереди, исчезая в ослепительном свете, бежали босоногие, загорелые дети, и она вдруг сообразила – это ее дети, ее и Германа дети, и она торопилась, бежала за ними, чтобы посмотреть в маленькие личики, чтобы зацеловать сладкие щечки. Она почувствовала – для этого была создана, для детей, для семьи, для дома. И не страшна там, в раю, неизбежная старость, неизбежные морщины, и испепеленная солнцем кожа – потому что время, проведенное с родными, это прекрасно, время это прекрасно, и рука об руку через годы – это прекрасно, и любая женщина знает это, если только она любима и счастлива.
***
Ада проснулась словно от толчка и услышала, как что-то шуршит у входной двери, и темнота квартиры так неожиданно резанула глаза после яркого солнечного сна. Лежала в темноте, глядя на потолок, пытаясь смириться с тем, что мечта все еще не осуществлена, слушала стук собственного сердца и шорох ключа, который никак не мог попасть в скважину. Нехотя поднялась, прошла – говорила себе, в последний раз – по коридору, чувствуя, как холодный пол обжигает ступни, словно еще помнившие прикосновения раскаленного песка, распахнула дверь, равнодушно посмотрев на Диму, который был просто невероятно пьян: с трудом держался на ногах, очки съехали куда-то вбок – впустила в квартиру. Брезгливо подумала, и как он мог ей нравиться когда-то? Наверное, слишком она была одурманена своими бессонницами, алкоголем, одиночеством, славой, чтобы замечать, как он жалок, как непривлекателен, хваталась на первое попавшееся, чуть всю себя не разменяла на посредственные мысли и посредственных людей.
– И где ты так напился? – Ее это нисколько не интересовало, но должна же она была выдерживать тон – еще немного, еще чуть-чуть, всего до завтрашнего вечера, меньше двадцати четырех часов.
Он что-то пробурчал и ввалился в квартиру, сполз по стене коридора, как тысячи раз до него сползала она, и как будто уснул. Но когда Ада, плотно заперев дверь, хотела пройти мимо него в комнату и лечь спать снова – завтра нужно быть полной сил, а он взрослый мальчик, сам разберется, где и как ему ночевать, он неожиданно крепко схватил ее за лодыжку, не давая пройти, дернул на себя, и она поняла, что никогда не обращала внимания на то, сколько силы в его руках.
– Эй, с ума сошел, – взвизгнула она, потеряв равновесие и едва успев вытянуть руки, чтобы не ушибиться о пол – только синяков завтра не хватало. Она так сосредоточилась на завтрашнем дне, что даже не успела удивиться тому, как он себя ведет – напился, пристает, так на него не похоже.
– Ада моя, Ада, – слюняво бормотал он, пытаясь ее поцеловать, хотя она уворачивалась, не даваясь ему – глупости какие, нашел время.
– Твоя, твоя, – легко соврала она, пытаясь освободиться, ее забавляло это его поведение, он же не способен ни на что серьезное, опасное, никогда не был способен. – Только отпусти меня, дурак.
Смешно, у него не было никакой власти над ней, ну абсолютно, и она даже не сразу поняла, что он делает, когда его руки принялись стаскивать с нее халатик, не для него надетый, а когда сообразила, не удержалась от смеха. Она жила с ним, собиралась за него замуж еще недавно, но как-то умудрилась упустить из виду, что он мужчина, что он имеет на нее какие-то права.
– Отпусти, я тебе сказала, – она пыталась вырваться и хотя он был, очевидно, очень пьян, это оказалось неожиданно сложно.
– Смеешься, дрянь, – с неожиданной злобой пробормотал он и попытался ударить ее по щеке, но она легко увернулась, двигался он медленно, а у нее как-никак был большой опыт жертвы домашнего насилия, но сама мысль о том, что ее попытается ударить Дима казалась невероятной. Все изменилось, мелькнуло в ее голове, все стало не так и от каждого можно ожидать всего, что…
– Думаешь, я теперь для тебя слишком незначителен, да, так думаешь, сука? – Он снова замахнулся, его очки слетели, и она увидела в его больших глазах глупого ребенка ярость, которой не могла от него ожидать, и на этот раз он ударил ее, подло, в живот, так что она не успела увернуться, и воздуха не осталось, и все поплыло, а он уже схватил ее за волосы, оттягивая ее голову назад, примериваясь для следующего удара, но в ней вдруг тоже проснулось нечто, и она завизжала, замолотила руками и ногами, попадая по его плечам, рукам, по лицу, царапалась, как ненормальная кошка, и хотя он почти не чувствовал боли из-за анестезирующего действия алкоголя и своей злобы, она знала, как бить, знала, куда. И когда он скорчился на полу после рассчитанного удара в пах, отпустил ее волосы, она отползла, глотая воздух, слезы ярости, тяжело дыша, напряженно глядя на него, ожидая повторной атаки. Но, завалившись на бок, сжавшись как младенец, он уже плакал, всхлипывая, и она подумала – я дрянь, зачем я так с ним – и почти успела его пожалеть.
– Не любишь ты меня совсем не любишь, – бормотал он, пока она приходила в себя, пыталась отдышаться, – А он говорил, все будет по-другому, он говорил, что это только на один раз, просто дружеская услуга, а потом он выдаст тебя за меня замуж, силой погонит, заставит, если нужно, и никуда ты не денешься, будешь моя, совсем моя навеки и навсегда, – он бормотал, и Ада, внезапно успокоившаяся смотрела на него с отвращением. Ее распахнутый халат больше его не интересовал, и она тоже о нем забыла, села на пол, глядя на своего жениха, который, рыдая, лежал у стены.
– Кто «он»?
– Ян, – и ей потребовалось несколько секунд, чтобы сообразить, что речь идет о Сайровском. Значит, Дима все знал. Значит, он сам на это согласился. Значит, он просто подарил ее – вассал чертов своему чертову сюзерену ее подарил, нет, не так, предоставил в пользование, подонок. И стали вдруг понятны и его тактичность, и то, как он точно тогда в больнице обо всем догадался, и ее прошиб холодный пот – не приди сегодня Герман, не предложи свой план, и она бы попалась, она бы правда вышла замуж, и за кого, за этого подонка, и Аде от злости не хватало даже воздуха, чтобы начать на него орать, только кровь отлила от щек, и хотелось курить, необходимо было закурить.
– Только он врет, Ада, врет, было все, я-то знаю, когда ты не пришла ночевать, я все знаю, ты с ним, а теперь вы обманете меня, как он меня уже обманывал, – она дальше и слушать не хотела. И только запоздало испугалась – как близки они были к провалу, начни Дима обсуждать с Сайровским то, что она тогда не ночевала дома, в ту ночь, когда она была приготовлена и убрана как жертва цветами, как аппетитный десерт подана к столу. Значит, Дима думал, что она была с Сайровским, Сайровский – что дома, а на самом деле они с Германом ходили по краю, и сейчас весь их план мог полететь к черту, если бы Дима не считал, что президент способен его обмануть.
– Он обещал мне карьеру, обещал сделать меня главврачом, обманул, и тебя отобрал, а я ведь все для него сделал, – она выдохнула, как же хорошо, что эти гады не могут между собой договориться, не верят друг другу ни в чем, ее любовь была спасена – но надо быть осторожнее, хотя сейчас вроде бы пронесло. – Но мне еще повезло, знаешь. Я-то, правда, ни в чем не виноват, это было вроде эвтаназии, он-то уже совсем ничего не соображал, и семья его тоже была в курсе, а как бы они на такое могли согласиться, если бы это не для его блага. Ян умник, Ян всех обманул, потом взорвал этот проклятый крематорий, и люди погибли, и Горецкая с дочкой тоже, ба-баах и все, чтобы никто и не узнал, что мы сделали…
Он путано рассказывал о том, как умирал президент, как ему не оказывали помощи, как сам Дима, много времени проводивший в больнице, зашел в палату и сделал укол, и она будто видела – серая палата, ночь, а вдоль стен выстроились, словно молчаливые тени, гнусные палачи – дочь, престарелая жена президента, ближний круг, и руководил всем Сайровский, стоя и гадко усмехаясь над телом несчастного старика, который умирал долго и мучительно, хрипел, умоляя об уколе, чтобы облегчить боль, и Дима сделал, Дима облегчил боль – на веки вечные. И спросила себя – а знал ли Герман? – и понимала, что вероятно все произошло не так, буднично и просто, и никто не стоял над телом, любуясь агонией – кто же заподозрит, кто задастся вопросом, Горецкий был так стар. И снова перед глазами возник взорванный крематорий – а знал ли Герман, что террористы, которых он ловит, ближе, чем он думал?
– Но ты же простишь меня, добрая, хорошая, ты простишь, – он потянулся к ее рукам и она отскочила, словно он был гадюкой, которая хотела ее ужалить, хотя нет – в ней было презрение, а не ужас – словно он был тараканом. – Красавица моя, ты же меня простишь, куда ты денешься, ты же моя, а через месяц – будешь навсегда, потому что Яну ты скоро надоешь, потому что он-то на тебе не женится, он уже женат, и ты будешь моя, потому что он решает, он теперь главный, он обещал, – Дима перестал реветь и теперь хрипло смеялся, и она понимала – он прав. Все эти его признания ничего не меняли, но теперь у нее был Герман, и она могла…
Политика, она подумала. Кому какое дело? Горецкий мертв, мертва и его семья, а Дима… ей больше нет нужды думать о нем, уже завтра она будет далеко отсюда, в другой жизни, где нет этой грязи, этого копошения в экскрементах, но только одна мысль не давала ей покоя – это же она собиралась за Диму замуж, она сама все так решила, она с ним встречалась, и зачем такие сложности, она же и так выскочила бы за него, не подумав о последствиях. А потом вдруг поняла – так да не так, сколько раз она пыталась сбежать от этого союза, была уверена, что сбежит, но все время что-то случалось, и она откладывала, а если Дима был не так глуп, если он видел к чему все идет? Как они смогли загнать ее в эту ловушку, если только не…
– Илья знал? – Голос внезапно сел, и ей пришлось повторить вопрос, а потом снова и снова, и, преодолевая брезгливость трясти его за плечи, пытаясь разбудить, потому что, пока она размышляла, пока развязать этот запутанный узел, он уснул пьяным сном.
И когда Ада поняла, что ничего от него не добьется, она вскочила и стала собираться – ей нужно было навестить одного своего старого друга, одного своего агента-хранителя, чтобы задать ему пару неприятных вопросов. Она захватила с собой платье, которое они выбрали с Германом, какие-то украшения, обувь, сумочку – она не была уверена, что ей хватит сил ночевать с Димой под одной крышей, лучше уж отель, и плевать на безопасность и журналистов. Но еще прежде, чем она стала одеваться, она долго стояла под душем, пытаясь смыть ощущение, что все ее тело там, где ее касался Дима, покрыто чем-то мерзким и липким.
Ее охране сегодня придется за ней побегать, подумала, бедные мальчики. Но ничего, это в последний раз.
***
Не стоило выходить – комендантский час уже начался, и время было тревожное. Ей же надо вести себя естественно, но что такое естественно для женщины, которая готовится купить себе продолжение блестящей карьеры через постель с неприятным ей человеком, через брак – с отвратительным, кто мог сказать?
Она подумала, Илья не мог знать, не мог, он тоже обманулся, слишком было мерзко, если он сознательно загонял ее в эту петлю, и она приедет к нему и все объяснится. Она слишком много лет доверяла ему почти как себе, а иной раз больше, чем себе, она должна была узнать правду. Правду, которая волновала ее куда больше, чем то, что первого президента убили – эта новость как раз не поразила ее, просто заставила укрепиться в своем решении сбежать завтра, если бы у нее были сомнения, это могло стать последней каплей, но сомнений она не ведала – и отчего-то совсем не удивилась тому, что новый президент убил кучу людей только для того, чтобы скрыть другое свое преступление. А террористы – на них так удобно было все это свалить. Она восприняла эту новую информацию так, словно внутренне давно ожидала чего-то подобного. И теперь думала, аккуратно, но очень быстро ведя машину – не хватало только попасть в аварию в одном шаге от свободы – думала о другом, о том, что с Арфовым надо попрощаться, они ведь никогда больше не увидятся. Пусть он даже не поймет, что это прощание. Давно следовало навестить его в отшельничестве, а теперь еще, если вдруг – хотя верить в это не хотелось – если вдруг, то плюнуть ему в лицо. Завтра у нее весь день будет занят, надо столько всего успеть, так себя приготовить, чтобы выглядело, будто она собирается подать коронное блюдо к высочайшему столу, и выспаться стоит – кто знает, как именно Герман собирается сбежать из города, может быть, ей понадобится очень много сил. Завтра она просто не успеет к Илье, так что это даже объяснимо – что ее в ночь понесло к своему агенту – выглядит подозрительно, но она славилась своими выходками, пусть репутация работает на нее, пусть хоть раз в жизни будет от всего этого какая-то польза. И она думала, гнала машину, а фонари летели мимо яркими вспышками, и ни одной машины не попалось навстречу, а сзади, наверняка кто-то должен был ехать, ее же охраняют – и поэтому тоже стоило быть осторожней, ведь это люди Германа, почти сам Герман, это те, кому он, по его словам, доверил ее, значит, надо ехать так, чтобы им ничего не угрожало, они же будут пытаться не потерять ее из виду, они ведь ее единственная защита от маньяка, о котором тоже не следовало забывать. Она думала – «я под колпаком и все кругом так запуталось, что я даже не понимаю, плохо это или хорошо» – но следовало это ощущение распробовать до конца – завтра это закончится, завтра, завтра…
Она притормозила у подъезда, где жили Арфовы, и в очередной раз подумала, какое все кругом одинаковое, серое, как не похоже на солнечный сон, ради которого она теперь только и жила, и зашла в подъезд. Консьерж узнал ее, как будто не удивился ее позднему визиту, вежливо поздоровался, хотя она бывала у Ильи дома не так уж часто, Майя же приходила в ярость каждый раз как ее видела. Ада быстро поднялась на его этаж, позвонила в квартиру, вдруг спросила себя – а что если он не откроет, если он спит или уехал или… – но за дверью послышался шум, и он распахнул дверь, застыл на пороге. В первую секунду Аде показалось, что она ошиблась – перед ней стоял какой-то старик. Арфов, которого она знала, прятался где-то, этот человек не мог быть Ильей – седая щетина на щеках, растрепанные волосы, какой-то странный, заляпанный халат, открывавший его кривые тонкие ноги. Он мрачно взглянул на нее из-под кустистых бровей – и она вдруг поняла, что никогда не могла разглядеть Арфова как следует – он так умело прятался за своим обаянием, потаканием ее капризам, дорогими костюмами, манерой все знать и всем распоряжаться. Стоявший перед ней человек, похоже, не был в состоянии распорядиться даже собой.
– Чего притащилась? – Хрипло буркнул он, и она сообразила, что он тоже пьян – какая-то ерунда, все вокруг нее сегодня пьяны, и только она как стеклышко, невозможно, она бы сама в это не поверила еще неделю назад. Секунду они смотрели друг на друга, и она уже думала, он ее прогонит, но Илья махнул рукой, отвернулся.
– Проходи, что уж. Дверь закрой.
Шаркая, он прошел вперед, и она с удивлением поняла, что он носит какие-то жуткие шлепанцы, он, которого она привыкла видеть только в ультрамодных начищенных ботинках, кричавших о своей дороговизне. Ада крепко заперла дверь, и пошла вслед за ним – Арфов двигался так медленно, что ей не составило труда его догнать.
– Илья, – коридор такой же планировки, как в ее квартире, такой же, как в тысячах, в миллионах других квартир, изгибался, она знала, и вел на кухню. Дверцы стенных шкафов были распахнуты, и вся одежда хозяев валялась прямо на полу, кое-где уже примятая настолько, что становилось ясно, хозяин не только не пытался ее убирать, но и не затруднял себя даже тем, чтобы не наступать на эксклюзивные наряды покойной супруги. Он и сейчас шел, шаркая, и какая-то полупрозрачная блузка зацепилась за его ужасные шлепанцы, чего он даже не заметил. Легкая ткань тащилась за ним несколько шагов, потом он как-то дернул ногой и отшвырнул ее в сторону. Вещи, составлявшие когда-то такую важную часть его жизни, теперь валялись, мертвые, у его ног, из них исчез дух стяжательства, из них исчез статус, и они стали – цветные тряпки, наряд для чучела. Ада шла за ним, как могла переступала через трупы трудов модных модельеров.
– Илья, – она окликала его жалобно, но он не оборачивался.
Если в коридоре царил бардак, то на кухне, куда они, наконец, пришли, властвовала разруха. Пол был уставлен пустыми бутылками, распахнутый холодильник горестно стонал, напоминая об открытых дверцах, а полки были почти пусты, то же немногое, что ютилось по углам, не вызывало доверия. Пол был залит чем-то липким, один из стульев сломанный валялся в углу – и Ада спросила себя, как можно было так изгадить квартиру всего за неделю. Она радовалась, что не увидела спальню.
– Илья, – выдохнула, когда ее взгляд, цеплявшийся то за одну, то за другую мелочь, свидетельствующую о том, как изменился этот человек за короткий срок, наконец, сосредоточился на центре композиции. Кухонный стол был сравнительно чист, ей даже показалось, его пытались протирать, во всяком случае, тряпка лежала на столешнице. На столе стоял стакан, наполненный янтарным напитком. А ровно по середине стола возвышалась урна.
– Что ты заладила, илья-илья-илья, – ворчливо отозвался он, обозначая, что все же слышал ее, уселся на один из стульев, облокотился на стол, залпом допил из своего стакана. Посмотрел на нее, усмехнулся, почти как раньше, но тут же снова морщины на его лице расплылись в горестное, обрюзгшее выражение. – Садись. Пить будешь? Есть?
Он наклонился, извлек из-под стола початую бутылку. Аде показалось, он не мог потерпеть соседства бутылки рядом с урной, потому и держал ее под столом. Она не удержалась, наклонилась, заглянула под стол – коньяк, и в таком количестве, что при желании он мог довольно долго оставаться в таком состоянии.
– Есть? – Она посмотрела на холодильник, и не удержалась – закрыла его, тягостный стон звукового сигнала тут же прекратился. – У тебя тут, кажется, есть нечего…
– Не, там в кастрюле, – он махнул рукой в сторону плиты, и она увидела, действительно, несколько кастрюль. – Нелька приходит иногда, готовит что-то.
Нелька – «дорогая Нелли» – ну конечно. Ада кивнула. Надо было сразу догадаться. Но это к лучшему, Нелли за ним приглядит, даже если сейчас кажется, что он скатился куда-то на самое дно.
– Что же тут так грязно?
– Я ей не разрешал убирать. Хотя она-то пыталась, – он хохотнул, снова опустошил стакан. Ада видела – он действительно пьян, но еще не настолько, чтобы не быть способным вести диалог. Все, что она здесь увидела, заставило ее забыть о цели своего приезда, отложить выяснение отношений, не до того было, и так смешно выглядели бы все ее возможные претензии. Ада чувствовала себя удивительно бессильной. Хотелось встряхнуть его, хотелось обнять, как-то утешить, а может, наоборот, накричать на него, чтобы он, пришел в себя, но что-то подсказывало ей – это не принесет результатов.
– Чего стоишь, сядь я сказал, – она покосилась на свободный стул, но потом подумала, что одета достаточно просто, и есть ли вообще смысл сейчас беспокоиться об одежде, она же не собирается больше ее носить, и села. – Я бы ее прогнал, но жрать хочется, а она еду приносит.
Это было хорошо. Нелли из тех женщин, что способны на подвиги самопожертвования, она не испугается, не сбежит от его падения. Это было хорошо – когда Ады не будет, она приглядит за Ильей. Может даже, сумеет вытащить его. Может, у них что-нибудь и получится. Только Аде казалось – прежним он не будет. Эта мысль была страшной, и она постаралась отогнать ее.
– Ну и? – Он снова потянулся за бутылкой, и она подумала – ей тоже стоит выпить. Хотя бы для того, чтобы начать разговор. Бесполезно спрашивать его, где тут стаканы, она встала и принялась открывать шкафчики один за другим, пока не нашла коньячные рюмки.
– Мне тоже, – и он налил, и они выпили, не чокаясь, понятно, за кого, молча. Коньяк обжег горло, и почувствовала – ей этого не хватало, в голове прояснилось, и можно было начать разговор, тем более, что он опять уставился на нее – тупым, немигающим взглядом, ожидая, очевидно, ее ухода. Но уходить она не собиралась, еще нет. Проверила свой телефон – выключен – кое-чему Герман успел ее научить.
– Где твой мобильный? – Спросила как бы между прочим. Мало ли о чем пойдет разговор, и тут же сжалась – нехороший, непростой вопрос. – Я тебе звонила, но…
– Сел, давно, дня три назад, нахрен звонки, нахрен все, – она огладелась и сама увидела на столешнице его дорогой аппарат, мертвым черным экраном пялившийся в потолок. Хорошая новость. И очень плохая – одновременно. Сотовые отключать более, чем на несколько часов, считалось неприличным. А уж на несколько дней – это означало и вовсе попасть под подозрение. Но, возможно, Нелли докладывает о его состоянии – с нее станется, и это тоже – хорошо. Горе объяснит, она была уверена, горе многое оправдывает.
– Илья, что ты с собой делаешь? – Тихо спросила она, наткнувшись на его взгляд. Совершенно невозможно было злиться на него, когда он выглядел таким опустившимся – и как успел всего за неделю постареть на десять лет, истощиться? А без злости она не могла ни о чем его спросить. Коньяк помогал собраться с мыслями, вспомнила, сделала еще один глоток. Арфов промолчал, не собирался он обсуждать с ней свою жизнь. Словно раз и навсегда опустились ворота древнего замка, Илья замуровал свою душу и никого, ну ее точно, не собирался туда пускать.
– Ты для этого притащилась? Тогда вали.
– Нет, я… Я не выйду замуж за Диму, – он равнодушно пожал плечами, и она ощутила, как безразличны ему ее проблемы. Это было так непривычно. Она думала, он не хочет ее слушать, ему все равно, но продолжила. – Он меня… как вещь какую-то, как девку продал.
Илья продолжал тупо и прямо смотреть на нее, и Ада вдруг поняла – знает. С самого начала все знал. И не стыдится, и не собирается объясняться, и ему абсолютно все равно, что она по этому поводу думает.
– Ты знаешь, кому, да? – Голос пропал. Ада ощутила, с каким-то странным удивлением, что ей больно, по-настоящему, по-взрослому больно, потому что это было предательство, и потому что предал ее, как ей казалось, единственный друг. Он даже не отвел взгляд.
– Ты всегда держишь нос по ветру, ты не мог не знать, ты все это и устроил… ты делал вид, что тебе не нравится Дима, врал мне, что он не тот, а все это время…
– Ну нет, – он усмехнулся почти как раньше, но именно что – почти – и в этом маленьком, едва уловимом различии, состоял весь ужас его превращения. Грегор Замза превратился в страшное насекомое, подумала Ада, он смотрит на потолок и не может даже перевернуться. Он никогда не будет прежним. И все равно – боль не уходила, а только погружалась глубже, словно тонула в ее ужасе и сочувствии. – Он ничтожество, был им и есть он… оно. Не для тебя. Но когда он сблизился с Сайровским, а мне намекнули, я подумал – так будет лучше. В конце концов, глупый муж не самое страшное, что может случиться.
– Когда? – Горло сжималось, словно стенки слипались, и она знала, коньяк поможет, но больше пить не стоило, ей еще ехать домой. Как бы ни было больно, как бы ни хотелось забыться, притвориться, что это сон, нельзя, нельзя. Ей нужно помнить о завтрашнем дне, ей еще ехать домой. Здравомыслие никогда не было ей свойственно, вместо нее всегда думал Илья – и вот к чему это привело. Нужно учиться теперь решать самой, ответственность нести.
– Когда Горецкого поминали, – как он предусмотрителен, как догадлив. Ей-то понадобилось так много времени, чтобы понять, а он сразу все просчитал. И в каком-то смысле завтра в шесть он мог бы праздновать свою победу, но только она видела – не будет он праздновать. – Помнишь, вечеринка, хотя нет, ты-то не помнишь, ты там напилась. Как всегда.
Это он был пьян, она видела, как раздражение растет в нем, пьяное, больное раздражение, вызывая на откровенность, на словоохотливость.
– Ты, правда, решила все испортить, как всегда. Бельке этот твой…
– Бельке?
– Ада, я не тупой, я видел, как ты на него пялишься и таешь, как ты за ним как сучка течная побежала – в том ресторане, как его… но этого допустить нельзя было, никак нельзя. Бельке покойник, политический покойник, а мне нужны были покровители, которые хоть что-то из себя представляют. Но он, к счастью, не то импотент, не то голубой, так что все сошло, и никто ни о чем не узнал, – она выдохнула, думая, как же они близко были к краю, снова, уже второй раз. Повезет ли им снова? И еще подумала, как же Арфов хорошо ее знал. «Никогда не пытайся его надуть»… Ей все-таки удалось, им с Германом удалось, но теперь она понимала – это только из-за того, что он не в себе, это из-за того, что Майя умерла и он перестал за ней, за Адой следить.
– Значит тогда, когда… когда, после выборов, когда я поехала одна… – Это было и о Майе, но сейчас Аде хватило сил только на то, чтобы смягчить выражения. Она не могла не спросить. Илья отреагировал мгновенно, перевел взгляд на урну, и молчал, молчал, вспоминал, тогда ведь и он видел жену в последний раз, в последний раз говорил с ней, а потом уже палата интенсивной терапии, смерть и конец всему.
– Мне казалось, ты все понимаешь, – наконец, проговорил он, и она почувствовала, как краска заливает ей щеки. В самом деле, что еще он мог подумать, видя ее поведение. О чем она сама думала, раз сообразила так поздно? О Германе, конечно. О Давиде, о Германе и кто знает, о чем еще, только не о том, что происходило в реальности, не о том, что она сама делала, как выглядела со стороны.
– Только я ни о чем таком не подозревала, – проговорила она, пытаясь взять себя в руки. – Я тебе верила.
Снова его глухая усмешка, страшная, посмертная маска его прежнего «я».
– Я тебе верила, а ты отправил меня на панель. Знал, что я люблю другого, и все равно отпустил меня туда, – только не плачь, сказала себе. Хватит слез, хватит, он предал тебя, но завтра ты предашь его, и у тебя все будет хорошо, а у него – уже никогда. Ты отмщена, ты страшно, убийственно отмщена, так что не смей реветь.
– Люблю, люблю, – он как-то резко, зло захохотал. – Тоже мне нашлась, Джульетта, тебе пятнадцать лет что ли? Люблю. Да ты значения этого слова не знаешь, ты только берешь, берешь и берешь, пока от них не останется одна оболочка. Ты их высасываешь, сжираешь, а думаешь, что какая-то особенная. Ты все отбираешь – мечты, молодость, красоту, силу. Я думал, ты сожрешь Сайровского, всем станет легче, успокоишься на некоторое время, но нет. Тебя потянуло на что-то с перчиком, да, адреналину захотелось? Как за такой внешностью может скрываться столько дерьма, я никогда не мог понять, что ты, что подружка твоя – одного поля ягоды. Ты когда по Бельке сохла, тебя же не беспокоило, что он твоего Давида сажал, что он твоего муженька грохнул, что он кучу народу расстрелял, взорвал, арестовал, запытал? Нет, конечно, тебе пофигу, у тебя бешенство матки, и эта такая же была, – он снова уставился на урну. – Один к одному, бляди.
Полились, полились, предатели-глаза не выдержали, сердце-предатель не справилось, полились – от резкости, он ненависти, звучавшей в его тоне, от правды, которую он произносил, ведь она никогда не думала о Германе – так. Как-то уживались в ее голове два образа – машины, сломавший ее самых близких, когда-то любимых мужчин и того, кто, руководя этой машиной, стал ее последней любовью. Она уговаривала себя, что он был вынужден, что выбора у него не было, как не было выбора у нее – доносить или не доносить, предлагать себя или не предлагать – но ведь это разные вещи, мелькнуло у нее в голове, ведь она лгала себе, и никогда не думала, что именно Герман ставил подпись под приговором Давиду, что именно он отправил убийцу к Вельду… Нет, нет, нельзя об этом думать, поняла она, и слезы потекли сильнее, потому что он теперь ударил не ее – это она могла выдержать, – но он бил по самому больному, по чистой, по безупречной ее любви, и все в ней сопротивлялось, словно она чувствовала – эта любовь слишком хрупка, может и не выдержать таких ударов.
– Нет, это все не правда, все не так, это ты сделал из меня блядь, это все ты, и Дима и ваша мерзкая компания, а я никогда не буду с Сайровским, я лучше умру, слышишь, ты?
Она кричала что-то еще, пытаясь пробиться к нему, пытаясь задеть его, пытаясь доказать самой себе, что он не прав, не прав насчет нее, насчет Германа, но Арфов уже не слушал, он так и сидел, уставившись на прах своей жены, только когда она замолчала, бросил:
– Мне плевать, Ада, понимаешь? Трахнешь ты его, не трахнешь – мне плевать. Делай, что хочешь.
И она поняла – поняла вдруг, сразу, что никогда не была ему дорога. Все, что он делал, он делал не для нее, а ради ее карьеры, ради своих гонораров, ради Майи. Это она, ее неудачница-подруга была смыслом его жизни, его светом, его целью. Он знал, что она не любит его, никогда не полюбит, и он пытался купить ей земной рай, самые лучшие вещи, одевал ее как куклу, угадывал ее малейшие желания, и для того, чтобы обеспечивать ее растущие аппетиты, ему нужны были деньги, ему нужна была Ада. Но как бы он ни старался, он не мог дать жене того, чего ей действительно хотелось, и годами, годами, изо дня в день, он жил в этом аду, в этом бесконечном круге из которого просто не было выхода. А теперь она умерла – не изменила, это он готов был ей простить, несмотря на все грязные слова, которыми он их покрывал, он бы простил! – но теперь она умерла, и он тоже умер, и не было в его жизни больше никакого смысла, и ему, действительно, было плевать.
Она тихо поднялась.
– Прощай, Илья, – он даже не посмотрел в ее сторону. Но она и без того знала, где выход.
***
Она вышла из его квартиры в слезах – в слезах села в машину – в слезах тронулась с места. Но вскоре поняла, так нельзя, она просто не видит дрогу, и переключилась на автоматическое управление. Включила телефон, все равно в центр уже поступила информация о том, откуда и куда ее электромобиль двигается. Давно миновало время, когда ей положено было вернуться домой, но Ада считала, что сегодня для нее сделают исключение, часто делали, если подумать, почему сегодня – нет? А еще вспомнила, завтра это закончится, завтра она будет в бегах, завтра придется смотреть, куда идешь, с кем говоришь, как выглядишь. В ней было больше здравомыслия, чем она думала, но меньше, чем ей сейчас казалось. В сущности, это все выглядело приключением – и она не представляла, сколько времени это будет доставлять ей удовольствие. Арфов сделал с ней страшное – заронил сомнения, и она, как могла, пыталась от них избавиться, пока машина везла ее, медленно, слишком медленно, домой. Но дома был Дима, вспомнила, и слезы высохли, и словно песком присыпало глаза, защипало. Нет, только не он, и надо было выбрать отель, но отели теперь ассоциировались с Майей, и почему она не подумала об этом раньше?
Она уже въехала в свой квартал, точно такой же, как все остальные кварталы в городе, когда на глаза ей попалась маленькая церквушка, и решение возникло внезапно, острое, резкое, неожиданное для нее. Ей представились тишина, особая тишина, молчание горящих свечей, и она подумала – будет ли это выглядеть слишком вызывающим, если она пойдет и помолится? При церкви должна быть гостиница для тех, кто задерживался на службе и не хотел идти через город после комендантского часа, там ее приютят, и никуда не нужно ехать больше. Она остановила машину, взялась за руль и припарковалась возле. Думала оглянуться, проверяя, при ней ли ее охрана, но не решилась – вдруг они попались бы ей на глаза? Пришлось бы сомневаться еще и в этом, а она не готова была, одной навязчивой мысли было достаточно. Убивал, расстреливал, казнил, пытал – и все это он, все это руками, которые она успела так узнать, так полюбить. Нравственное чувство в ней не возмущалось, это было что-то другое, какая-то догадка, скользившая на краю сознания, но чтобы ее поймать, требовалось начать думать об этом, и она боялась. А вдруг в церкви есть утешение? Ведь зачем-то же их строят на каждом углу.
ОЕ формально считалась светски-христианским государством, что означало, что никто не обязан посещать церковь, молится и соблюдать обряды, кроме нескольких – крещения, брака, соборования и отпевания. Даже причащаться следовало только по случаю самых крупных праздников. Никто не заставлял верить, если это не казалось необходимым, но мягко напоминалось – всегда и везде, что вера помогает гражданину лучше служить своей стране. Церкви были в каждом квартале, потому что несмотря ни на что верующих среди населения было удивительно много. За свои услуги они брали заранее установленную таксу, и часто конкурировали друг с другом за право проведения обрядов, привлекающих особенное внимание публики. Церковь обладала определенным авторитетом, но по большей части занималась установкой морально-нравственных норм, например, объясняла причину контроля рождаемости или запрет разводов. Церковь примиряла непримиримых, давала дело истерично и фанатично скроенным натурам, удовлетворяла излишне любопытных насчет нравственного смысла некоторых законов ОЕ. Церковь давно превратилась в лавочку, торгующую обещаниями райского блаженства, и торговля шла бойко. Но в этот час в часовне, расположенной в ее квартале, покупателей не наблюдалось.
Ада медленно зашла под своды, чувствуя, как внутри все переполняется благоговением, которое она в себе не любила, оно мешало с чистой совестью жить так, как ей нравилось. Вокруг была тишина – и никого, кроме одиноко сидящего на лавке мужчины, который казался полностью погруженным в себя. Ада тихо вошла, вспоминая, была ли она здесь раньше – и не могла вспомнить. Ее-то уж точно нельзя было назвать верной прихожанкой, и посещения Храма Господнего было для нее в последние годы просто еще одним мероприятием, назначенным где-то между вечеринками и официальными приемами в честь того или иного религиозного праздника. Но сейчас ее душа была неспокойна, металась, и она искала успокоения в последнем прибежище. Ровные ряды скамей, освещенные свечами – она прошла мимо, стараясь ступать как можно тише, чтобы не потревожить другого молящегося, подошла к первому ряду, замерла перед огромным распятием, с которого на нее не глядел страдавший за человечество, опустилась на скамейку в первом ряду и начала твердить молитву, но слова ничего не значили, и сердце никак не могло успокоиться.
Она без толку просила об успокоении, об ответах на свои вопросы, молилась за себя и за Германа, за Илью, за то, чтобы нашлись в ней силы его простить. Она, привыкшая во всем полагаться на других людей, позволявшая им решать за нее, как ей жить, теперь осталась совсем одна, и приходилось думать самой, бороться самой, и это было так трудно, потому что она понятия не имела, как это делается. Время, когда добро и зло отличались друг от друга как день от ночи, осталось далеко позади, и теперь только молитва могла бы помочь ей понять, хорошо или дурно она поступит, сбежав с любимым. Но молитва не помогала, и никто не собирался больше подсказывать ей. Надо было подняться, найти священника, попроситься на ночлег, потому что здесь было нечего делать – вокруг торжествовала тишина, и пусто было это место, а благоговение, которого она всегда боялась, так и не сошло на нее – и никому невозможно было поверить теперь, ни себе, ни молчавшему Богу.
Ада открыла глаза, и стала подниматься, когда увидела мужчину, который невольно составил ей компанию. Он направлялся к ней. Странным он казался – одет в какой-то поношенный пиджак, плохо одет, но держится со странным достоинством. Лицо пожилое, а глаза – совсем молодые, словно у младенца, и улыбка на его губах была не заискивающей, не восхищенной, не сияющей – а просто улыбкой. Но внешность обманчива, она подумала. Он может оказаться одним из ее охраны, может оказаться маньяком, кем угодно. Или докучливым поклонником ее творчества, хотя оно мало сочеталось с заветами церкви, но чего только не бывает на свете.
Он же просто подошел к ней, протянул руку.
– Вы все же пришли, – мужчина снова улыбнулся, так особенно, а потом, увидев недоумение на ее лице, добавил. – Вы меня не помните? Я заходил к вам несколько раз и говорил, что мне необходимо с вами встретиться здесь…
Она вдруг вспомнила. Тот человек, которого Нора назвала источником неприятностей. Что он там хотел – просить о том, чтобы она здесь венчалась? Это было теперь так далеко, так неважно, что даже не сразу сообразишь, что ответить.
– Здравствуйте, – он пожала протянутую руку. – Простите, у меня совсем вылетело из головы, гражданин…
– Маршал, Теодор Маршал, – напомнил он, мягко пожимая ей руку. И, похоже, совсем не обиделся. – Можете называть меня Тео, меня по-другому давно никто не называет.
У них с «Тео» не могло быть общих тем для беседы, и не в ее обычаи было так фамильярничать с человеком много старше ее – Ада принялась быстро попрощаться.
– Вы хотели поговорить, но я здесь сегодня оказалась случайно, и, честно говоря, очень устала. Тяжелый был день, но если это о венчании, то…
– Нет, гражданка Фрейн, не о венчании, – он пожал плечами, и она вдруг сообразила, что он одет в гражданское. Выходит, не священник – но кто же еще станет говорить, что его всегда можно найти в церкви? Он начинал казаться ей очень подозрительным – а его глаза все так же оставались добрыми и прозрачными, словно глоток воды. – Я думаю, это может оказаться для вас важно. И вряд ли вы оказались здесь случайно.
Она удивленно посмотрела на него, и он бросил взгляд за ее спину, на громадное распятие.
– Я думаю, Он привел вас сюда сегодня вечером, и я рад, что мы наконец встретились. Но раз вы устали, то, действительно, можно и отложить. Если вы не против, я мог бы проводить вас к кастеляну, договорится о вашей комнате.
Ада не нашлась, что возразить, ведь и в самом деле, собиралась остаться здесь, не выходить из-под сводов церкви до наступления утра, и если он мог проводить ее – почему нет. Ее кошачье любопытство тоже давало о себе знать – не то, о чем он хотел поговорить, конечно, но сам по себе Теодор Маршал представлял собой загадку. Это было лучше, чем думать о словах Ильи, позволять расти неприятному червячку сомнения, и она согласилась.
– Извините за прямоту, но мне показалось, вы не очень-то верите в Бога, – просто сказал он, открывая перед ней незаметную дверцу справа от ряда простых скамей. – Я видел, как вы молились, словно твердили невыученный урок.
Она вздрогнула – таким неприличным было замечание. Нет, не то, чтобы это было запрещено, об этом просто не принято было говорить – вера считалось интимной потребностью граждан ОЕ, не станешь же обсуждать с каждым встречным свое здоровье? Но в его словах не слышалось осуждения, только немного любопытства и какая-то грусть. Она подумала – кто он такой?
– Молитвы не очень помогли, – призналась она. – Наверное, было бы правильнее сходить на исповедь, но в этот час…
– Если хотите, вы можете поговорить со мной, – он начинал навязываться, но делал это так просто, откровенно, что Ада снова растерялась. – Это, конечно, не то, что иметь дело со священником, да у меня и нет права вас исповедовать, но иногда людям нужно просто поговорить – и я к вашим услугам. Некоторые люди приходят ко мне именно за этим, и…
– Кто вы такой? О чем вы хотели со мной поговорить? Что вам от меня нужно? Почему вы поджидали меня в этой церкви, если вы не священник?
Он рассмеялся.
– Как много вопросов! Я вам все объясню, только давайте получим ваши ключи.
Они как раз поравнялись с конторкой, за которой сидел добродушного вида толстяк, смотревший телевизор.
– Привет, Тео. Гражданка?
Ада назвалась, продиктовала номер сотового, расписалась на экране, взяла ключи, все это автоматически, не задумываясь над тем, что делает. Теодор все это время запанибрата болтал с кастеляном, словно старый знакомый. Они успели обсудить кого-то из сегодняшних постояльцев: часто останавливавшуюся здесь пожилую вдову, какого-то человека, недавно амнистированного, который сегодня сообщил, что нашел работу.
– А как насчет молодых людей в третьей? – Спросил Теодор как будто между прочим. У Кастеляна забегали глаза. – Мне показалось, или они не связаны священными узами брака?
Толстяк пытался что-то сочинить, потом махнул рукой, и признался, что они получили комнату в обход правил, но зато заплатили несколько больше положенного. Тео неодобрительно покачал головой, когда кастелян сообщил об этом, нескромного хихикнув.
– Ты скажи им, что я бы с ними встретился, завтра утром, например, – только и сказал он, в ответ на что кастелян громко фыркнул.
– Чтобы они больше никогда здесь не появились, после беседы с тобой-то? Еще чего удумал, – Тео улыбнулся, прямо глядя на толстяка. – Ладно-ладно, я все понял, – внезапно пробурчал кастелян после того, как встретился с мужчиной глазами. – Деньги только вот…
– Твой сын давно мечтает о скутере, – только и ответил Теодор, беря Аду под руку. – Идемте, гражданка Фрейн, я вас провожу.
– Вы кто-то вроде местного надзирателя? Из службы охраны? – Пыталась угадать она, пока он вел ее по длинному коридору.
– Нет, вовсе нет, – улыбался он. – Даже наоборот, я под следствием.
Прежде, чем она успела что-то ответить, попрощаться или сбежать от этого человека, он уже остановился возле двери, на которой красовался тот же номер, что и на ее ключах.
– Вот вы и на месте. Я не хочу навязываться, тем более, что вас, видимо, смущает мое положение. Но если я вам понадоблюсь, вы найдете меня в восьмой комнате, это дальше по коридору. У меня есть чай и какое-то печенье, и я засыпаю довольно поздно, – он улыбнулся, и, махнув ей рукой, спокойно ушел. Ада застыла с ключом в руке, чувствуя себя как-то глупо – выходило, что ему вовсе не нужно срочно с ней поговорить? Как он мог так просто уйти после того, как приложил, вроде бы, столько усилий, чтобы она согласилась его выслушать? Почему он вел себя так, словно это она искала возможности с ним побеседовать?
Это все напоминало какую-то глупую шутку или хитрую манипуляцию, кто он такой? Ада раздраженно открыла дверь, зашла в полупустую комнату, кинула сумку на постель. Ни за что она не пойдет к нему, не о чем им разговаривать, совершенно не о чем. Нужно просто сразу лечь спать, потому что завтрашний день обещает стать очень трудным, и она даже почти привела свое намерение в исполнение, но не то кровать оказалась слишком жесткой, не то его интрига – действенной, но, проворочавшись полчаса, она поняла, что не сможет уснуть. Лезли в голову всякие мысли, завтрашний побег, и все ей казалось, она где-то просчиталась, что-то упустила, очевидное, что-то, что лежало на поверхности, но что ей делать, если выхода нет, если Дима был прав, и ей ничего не остается, только верить Герману, только бежать с ним. Как ей хотелось сейчас услышать его спокойный голос, поцеловать его, забыть обо всех сомнениях, позволить ему выбирать и решать за нее, но его не было рядом – и звонить ему было безумием. Она села на постели и закурила. Уснуть не получится, это уже очевидно, что же делать? Рядом с «Тео» она хотя бы отвлеклась, может, сходить к нему несмотря ни на что? Она думала, чем он ее зацепил, этот странный старик, – дело в глазах? Они ведь были словно глоток воды в жаркий день, чистой, колодезной воды. Или в его добродушной манере разговаривать? А, может, в том, как он беседовал с кастеляном, как человек облеченный властью – а потом сразу признался, что он под следствием. Под следствием… Она поняла. Тео вел себя так, словно ничего не боялся – ни того, что надменная звезда экрана обольет его презрением, ни того, что она может обидеться на нескромность его вопроса о Боге, ни того, что в отношении него возбуждено дело. Страха в нем не было – и она, привыкшая искать руководства, а теперь брошенная всеми, кинулась к нему за секретом бесстрашия, хотя сама едва ли отдавала себе в этом отчет.
Ада выскользнула из постели, оделась и на цыпочках вышла в коридор. Его комната оказалась последней в ряду четных комнат, и она застыла на пороге, кусая губы. Может быть, он утомит ее болтовней, и она сможет уснуть? Может быть, он расскажет ей что-нибудь интересное, и ночь пройдет не в мучительных раздумьях о том, где она ошиблась, не в горькой тоске по Герману, не в зависти к этой парочке, уединившейся в третьей комнате.
Ада едва успела постучать костяшками пальцев, как дверь уже распахнулась. Тео стоял на пороге, и она подумала – он гораздо старше, чем ей показалось сначала, точно старше Арфова, но в его глазах столько свежести, что морщин на лице словно не замечаешь. Тео кивнул.
– Проходите, пожалуйста, – и впустил ее внутрь. Его комната отличалась от ее – как небо от земли. Было очевидно, здесь не ночуют время от времени, а живут постоянно. На стене висело распятие, то тут, то там бросались в глаза всякие мелочи, безделушки, живые цветы, книги, комната выглядела обжитой. В углу, привлекая к себе внимание, стоял черный куб, мигавший красной лампочкой – глушитель сотового сигнала.
– Это обман, – она указала на куб, – Такие стоят в исповедальнях и они не работают.
– Почему сразу обман? Священники все равно обязаны докладывать о том, что рассказывают им на исповеди, так что некоторые из этих штук работают. А некоторые – включаются время от времени. Этот прибор не такой уж хитрый, я легко с ним разобрался, поэтому все сказанное в этой комнате здесь и остается, хотя я вас, кончено, не заставляю верить мне на слово. Но мне было бы приятно, если бы вы поверили, – посерьезнев добавил он.
– Кто вы такой?
– Все зовут меня Тео, я бывший священник этой церкви, а в данный момент – безработный и подследственный. А да, еще я формально бездомный, но пока живу здесь – и считаю это место своим домом. Какой чай вы предпочитаете?
Он уже деловито подошел к допотопной конфорке, которую в комнатах, наверняка держать запрещалось, поставил воду, выбрал чашки – Ада вздрогнула от совпадения. Это были тонкие фарфоровые чашки в красный цветочек, такие же, какими они пользовались с Давидом, когда-то очень-очень давно. Ничего удивительного в этом не было, распространенный рисунок, дешевый чайный набор, но она внезапно без сил опустилась в кресло.
– В чем вас обвиняют? Почему тогда кастелян перед вами как будто… почему он перед вами отчитывается?
– Меня лишили сана месяц назад, с тех пор и идет следствие. Открылось, что я не очень… скажем так, не слишком ретиво выполнял свой долг по оповещению специальных органов о настроениях моих прихожан. Проще говоря, воспринимал таинство исповеди слишком буквально, – он обернулся к ней, вопросительно глядя на нее.
Ада вспомнила, чай.
– Черный, пожалуйста, с сахаром, если можно. А кастелян?
– Он неплохой человек, но у него трудная жизнь, маленькая зарплата, большая семья и слишком мало веры в себя. Он не хочет гореть в аду за эти деньги и не хочет, чтобы его уволили. Раньше он боялся греха, а еще больше начальства – но мы с ним как-то раз поговорили, и теперь все наоборот. Другое дело, что он совсем не умеет противостоять искушению, вот я за ним и приглядываю. А он приглядывает за мной, чтобы я не сбежал от следствия и не слишком уж много проповедовал.
– Он за вами следит, доносит? – Поразилась Ада.
– Конечно, – с улыбкой отозвался Тео, ставя перед ней чашечку. – А что еще он может сделать?
Она не нашлась с ответом, и уткнулась в чашку. Чай оказался очень вкусным.
– Вы странный, – сообщила она, с удовольствием делая второй глоток. – Но это – просто сказка.
Тео кивнул.
– Иногда люди приходят ко мне, чтобы поговорить, и некоторые потом возвращаются, с подарками – чай вот, печенье… Печенье! – Он хлопнул себя по лбу, вскочил, принялся рыться в тумбочке и извлек оттуда коробку печенья, которое, подавали только в элитных ресторанах – оно было приготовлено вручную и из продуктов высшего качества, давно ставших роскошью.
– Разные люди приходят, – поймав ее взгляд, пояснил Тео. – А с тех пор как я, в некотором роде, подозрительная личность без работы и средств к существованию, я перестал отказывать от подарков. Не слишком красиво, конечно, но у меня, к сожалению, нет выбора. Надеюсь, вы не станете меня за это осуждать.
– Эти люди, они, наверное, очень вам благодарны, – осторожно предположила Ада, пробуя печенье. Оно было восхитительно. Ей показалось, что она поняла причину его спокойствия – покровители. Конечно, она и сама не раз пользовалась благосклонностью вышестоящих, чтобы получать только лучшее.
– Да, я полагаю, очень.
– Почему же тогда вы не попросите их, чтобы с вас сняли обвинение? Вернули сан? Неужели вам нравится так жить? – Строго спросила она, находя в его словах противоречние.
– Даже если бы это было им под силу, я не стал бы просить. Мне и так слишком много помогали. И раз за разом оказывалось, что я не слишком подхожу на роль священнослужителя, – он кивнул в сторону мигающей красной лампочки. – Наконец, я и сам это понял, а теперь дело зашло слишком далеко. Мне не хочется, чтобы люди, которые приходят ко мне за помощью, пострадали из-за того, что принимают слишком горячее участие в моей судьбе. Я, впрочем, уверен, что все будет в порядке, – он снова широко, по-мальчишески улыбнулся.
– Вас не раз ловили на том, что вы не раскрываете тайну исповеди? – Он кивнул. – Вы понимаете, что это звучит абсолютно неправдоподобно?
– Конечно, я не могу доказать вам, что это не провокация. В каком-то смысле, это она и есть. Но тут уж я ничего не могу поделать. Вы либо поверите мне, либо нет, это дело вашей души, а мне остается только надеяться, что она сделает правильный выбор.
Ада молча доела печенье, и, не удержавшись, взяла второе.
– Приятного аппетита, угощайтесь, я все равно сладкого не ем, – улыбнулся он, спокойно попивая свой чай. – В церкви вы выглядели очень расстроенной и одинокой.
– Я узнала сегодня, что мой жених – низкий и подлый человек. И что мой единственный друг меня предал. Второе гораздо обиднее, потому что я верила ему больше десяти лет, верила ему скорее, чем самой себе, – она сказала это как-то неожиданно легко и поспешила себя обругать. Тео оказался удивительным собеседником – он так обволакивал своей аурой доброты и понимания, что язык развязывался сам собой. Но не стоило забывать, в каком она положении, не стоило верить ему – и почему-то все равно верилось. Она снова сделала глоток чая. Тео ничего ей не ответил, только кивнул, словно она подтвердила его догадки.
– Вы подлили мне сыворотку правды в чай или подсыпали в печенье? – Уточнила она, чувствуя себя удивительно уютно. Теодор рассмеялся.
– Вы не первая об этом спрашиваете. Стоит человеку искренне признаться в том, что причиняет ему боль, и он начинает думать, что тут не обошлось без химии или какого-то трюка. Нет, я ничего не подсыпал вам. Но чтобы вы чувствовали себя спокойнее, я не буду задавать вам вопросы. Будем беседовать только о том, о чем вам самой захочется.
Ада снова встала в тупик – выбор был простой – верить или не верить, и он совершенно не собирался помогать ей этот выбор сделать. Она подумала – почему я не пришла к нему раньше? Ей было удивительно хорошо – не так как рядом с Германом, не так как рядом с Давидом, а скорее, как с…
– Вы похожи на моего папу, – внезапно сказала она. – Он тоже был странным человеком, – «и в отличие от вас никогда меня не слушал», могла бы прибавить она, но сдержалась. Просто ради того, чтобы проверить под силу ли ей оставить хоть какие-то мысли при себе. Получилось это без труда, очко в его пользу – но всегда оставалась вероятность того, что он манипулирует ею, даже если о сыворотке правды речь и не шла.
– Это для меня комплимент, – он чуть наклонил голову. – Я немного знал вашего отца, очень много лет назад… это был выдающийся ученый.
– Вы, наверное, имеете в виду моего дядю? – Никто и никогда не говорил так о ее отце, но фамилия часто вызывала эту путаницу.
– Дядю вашего я тоже немного знал, – он улыбнулся, и не прибавил комплиментов трудам признанного всеми светила экономической науки. Он не спутал, поняла Ада, он сказал именно то, что имел в виду. Странный, странный человек.
– Вы поэтому хотели меня видеть? Мой отец умер очень давно, – после паузы, справившись дыханием, проговорила она. Почему-то, когда речь зашла об отце, ей снова стало больно – но не так, как она ожидала. Словно эта боль была скорее придуманной, чем настоящей, и малейшего усилия было довольно, чтобы перестать ее чувствовать. Только захотеть – и все, пройдут обиды, пройдет напряжение, боль пройдет.
– Не совсем. То есть я, конечно, был в курсе того, что вы дочь моего знакомого, и ваша карьера была на виду, но мне никогда не казалось, что вы из тех людей, с кем мне стоит разговаривать. Вам это было бы бесполезно, а мне, вероятнее всего, неприятно, – она чуть не подавилась печеньем. Ей вдруг стало обидно – он что, счел ее недостойной его общества? Ее – звезду экрана, ее – символ всей их страны.
– Что же изменилось? – Холодно спросила она.
– Не обижайтесь, пожалуйста, я всего лишь человек и тоже ошибаюсь. И даже, к сожалению, очень часто. Но обычно люди, которым я могу помочь, приходят сами, мне не нужно их уговаривать или искать. Но тут, – он чуть замялся, и она подумала – вот и попался, солжет…
– Простите, мне придется говорить о мистических вещах, о том, во что вы, по всей вероятности, не верите. И вам, вероятно, покажется странным, что я придаю этому такое значение, но иначе никак не объяснить то, что произошло, а вы можете…
– Верить или не верить, – кивнула она. – Я помню.
Тео снова улыбнулся, и она впервые улыбнулась ему в ответ. Его улыбка была такой искренней, от нее разбегались лучиками морщины по его лицу.
– Недели три назад, вскоре после того, как я лишился места работы и только начал обустраиваться здесь, мне было видение, – увидев скептическое выражение лица, он поспешно поправился. – Хорошо, скажем, что это был сон. В нем юный воин сражался с гигантом, превосходящим его ростом и мастерством, вы знаете, Давид и Голиаф, – Ада чуть заметно кивнула, замерев. Он знал ее отца, знал о ее карьере, мог знать и о помолвке с Давидом, но вот только… Мог ли этот странный бывший священник знать, что Давид выпущен по амнистии? Что это за странные намеки?
– Только в моем сне все было неправильно, он молился Господу, но, видимо, без пользы, и камни, которые он клал в свою пращу, не долетали до Голиафа, а падали на землю у его ног. Конечно, гигант победил – он повалил юного пастуха на землю, занес над ним меч – и в этот момент тот повернул голову – а я забыл сказать, я словно стоял в толпе евреев, ожидавших исхода поединка – он повернул голову и посмотрел прямо на меня. Его золотые кудри рассыпались по камням, и он сказал мне: «Тео, ты должен вернуть то, что тебе не принадлежит». Я очнулся в ужасе – служба как раз заканчивалась, я сидел на последней скамье, в уголке, и, конечно, мог задремать, как вы вероятно, думаете. Но я не спал. Я тут же начал мучительно вспоминать, есть ли у меня что-то, что не принадлежит мне. Сначала подумал о подарках, конечно, но их тогда было значительно меньше, чем сейчас, и мне казалось, это не то, о чем говорило мое видение. Тем не менее, я постарался раздать все, что скопилось, а когда понял, сколько я съел за все это время, сколько денег потратил, меня обуял ужас. Но тут я ничего поделать не мог. Тогда я решил, что должен избавиться от квартиры. Это оказалось неожиданно просто – сходил, написал заявление, и ее вернули государству. У моего соседа как раз женился сын, и молодой семье грозили дать комнату на другом конце города… Так что вышло даже очень хорошо. Я испытал облегчение, когда от нее избавился, но видение продолжало меня беспокоить.
– Вы сумасшедший, – улыбнулась Ада. – Или святой. Мало ли кому что снится…
– Я же предупреждал, что рассказ может показаться вам несколько путанным, – Тео откашлялся. Ада вдруг поняла – ему неловко рассказывать об этом не потому, что его смущает то, что он серьезно ко всему этому относится, а потому, что она, вероятнее всего, отнесется к этому несерьезно. Ему за нее неловко было, за ее недоверие.
– Потом, неделю назад, Давид явился мне снова. На этот раз он лежал окровавленный на песке, и над ним стоял Голиаф, и меч его был в крови. Давид был мертв, но Голиаф повернул голову и я узнал в нем одного молодого человека, который приходил ко мне как-то, много лет назад. Я очнулся и сразу поспешил к вам, но вы были заняты, и потом…
– Почему ко мне?
– Когда он приходил, и мы разговаривали, он оставил кое-что. Не в качестве подарка, нет, но люди иногда оставляют у меня всякие вещи. Те, которые кажутся им ценными, которые они боятся потерять… В общем, вот, – с ловкостью фокусника он вынул откуда-то несколько листков бумаги, успевшей пожелтеть от времени, и протянул ей словно сокровище.
Она взяла листки – крупным, неровным почерком на них было что-то написано, ее глаза заскользили по строчкам.
– Но я все еще не понимаю… – А потом ее взгляд упал на подпись под одним из стихотворений, теперь-то она увидела, что это были стихи. – Вельд.
Тео кивнул, словно выдохнул – она кожей почувствовала подвох.
– Интересно. Отца моего вы знали, дядю знали, мой скандальный жених вам снится, и даже с моим мужем вы общались. Очень интересно получается, – оне не могла скрыть иронии – и не старалась. Он морочит ей голову, завопило внутри что-то паническое, он лжец, лжец, лжец, нельзя было к нему приходить, нельзя с ним разговаривать.
– Да, – просто сказал Тео. – Интересно.
Ада покачала головой. Он даже объясняться не собирался – верить или не верить, это ее выбор, только и всего, разница в частице «не» перед глаголом, а ощущение, что в ней умещается целая жизнь. Весь ее опыт. Все ее ошибки, все, что она узнала на собственной шкуре. Все ее грехи, тайны, надежды, все, от чего она вынуждена будет отказаться. Ее учили по-другому, ей день за днем доказывали, что так как он себя вести просто нельзя, но…
– Как у вас это получается? – Спросила у него тихо-тихо, теперь понимала, почему его слушался кастелян, почему к нему приходят люди, почему он не в лагере, не в тюрьме – и почему обязательно туда попадет. Ему верилось – странное, необъяснимое чувство в ее положении. Он только улыбнулся в ответ.
– Это у вас получается, я тут почти не при чем. Это все вы. Есть люди, которым это не дано, точнее, – он поспешил исправиться, словно извиниться за то, что думает о людях плохо. – Дано, я думаю, всем. Просто кто-то слишком напуган, кому-то дороже его привычки или еще что-то. Но вы молодец.
Неожиданно для себя, она зарделась от похвалы и, чтобы куда-то спрятать глаза, развернула листы бумаги, посмертную записку от ее мужа, написанную восемь лет назад. Она почему-то знала, догадалась сама, но все равно спросила, уже предчувствуя ответ.
– Когда он?..
– Накануне гибели. Я поэтому еще так удивился, услышав о его самоубийстве. Обычно люди так не поступают, такие как он, в том настроении, в котором он пребывал, но, я, конечно, всего не знаю. Может, я сказал что-то не так, может, что-то еще произошло.
– Его убили, официальная причина смерти – ложь, – и сама удивилась, как просто оказалось говорить правду. Возникало разве что странное жжение на языке – словно и другие правды просились наружу. «Вот я и начала признаваться», – подумала она.
– Понятно.
Она снова посмотрела на неровные строчки. Его почерк, она теперь узнала, но никогда она не читала такого – и не думала, что Вельд на это способен. Неплохо удавалась ему в основном сатира, но больше из-за его энергетики, чем из-за точности формы. А вершиной его творчества стал сборник стихов, в которых преобладала весьма выразительная любовная лирика, о которой, впрочем, вскоре все позабыли. Она знала, что он способен на большее, и часто говорила об этом, но Вельд был слишком увлечен растрачиванием своих душевных сил на развлечения, чтобы прислушаться. Она перевернула лист. На обратной стороне было стихотворение, посвященное ей – и она вдруг, во всей его полноте, во всей непредсказуемости поняла человека, который давно был мертв.
Мой язык был несдержанно груб,
А сказать тебе так и не смог,
Что с твоих ядом смазанных губ
Мне порой улыбается Бог.
И из глаз невозможного цвета,
Глаз – «уйди, ненавижу, не нужен» -
Смотрит вечность, любовью согрета,
В мою мелкую, жалкую душу.
Я давно обречен – знаю сам -
Кто-то зло посмеялся над нами:
Ты как море, что льнет к берегам,
А потом их терзает штормами.
Я же, тонущий, тщетно воюю
С беспредельной твоей глубиной.
Все надеясь, что встречу другую,
Ту тебя, что не стала тобой.
– Вы читали? – Спросила, пусто глядя на собственное имя вместо названия. И когда Тео ответил утвердительно, не удержалась. – По-вашему, это хорошие стихи?
– Я думаю, что имею права о них судить с этой точки зрения. Это его… искупление, осознание и прощание.
Она кивнула, абсолютно точно понимая, что он имел в виду.
На третьем листе было всего несколько строк, и Ада поняла – это последнее, что он написал в своей жизни.
– «Маленький зайка, – прочитала он вслух, нараспев. – На лесной опушке закрывает глазки, прижимает ушки, хвостиком не вертит, лапками не топчет – никому не верит, ничего не хочет». Как это на него не похоже…
Не хотелось обсуждать, даже с Теодором то, что Вельд написал о ней. Так и не могла понять – лестно ей, обидно, горько? Внутри на том месте, где было воспоминание о муже, страх, где была боль – теперь зияла пустота, пустота. Только стихи звучали.
– А мне кажется, наоборот, – скромно заметил Тео. – Просто он и сам не знал, да и вы не знали о том, насколько он хрупок и беззащитен.
Ада свернула листы, отложила в сторону, посмотрела в упор на Тео.
– Он меня бил.
– Его поэзия вовсе его не извиняет, – кивнул он. – Но он умер, и уже никогда не сможет попросить у вас прощения, так что вам придется сделать это самой.
– Сделать самой… сделать что?
– Простить его. Хотите еще чаю?
Пока Тео снова грел воду, Ада в упор смотрела на мигающую красную лампочку глушителя сигнала сотовых. Паранойя – естественный страх – разумная осторожность – все в ней возмущалось тем, что она все еще сидит здесь. Усталости она, правда не чувствовала, только пустоту. И знала – вскоре на месте этой пустоты снова появится страх, который неотступно был с ней всю ее жизнь, был с ними со всеми. Только Тео не боялся – и рядом с ним не боялась она. Когда бывший священник обернулся, ей показалось, что он помолодел лет на двадцать. Он с каждой секундой все больше и больше напоминал ей кого-то, что-то, но Ада никак не могла уловить что именно, не могла облечь это ощущение в мысль. Теперь ей вдруг показалось, что ему едва за тридцать, что он ее ровесник, чего, конечно, не могло быть – просто неверная игра света, теней и воображения.
– Вы оказались лучше, чем я о вас думал, – сообщил он, наливая еще одну чашку. Ада рассмеялась.
– А если я скажу, что люблю человека, который, возможно, имеет отношение к смерти моего мужа, что завтра мне нужно будет переспать с отвратительным мне стариком и что я донесла на Вельда в день его смерти?
– Тогда я буду вынужден признать, что женщины – дьявольские создания, которых мне никогда не понять, и что вы будете очень мучиться.
– Как вы умудряетесь быть таким обаятельным и нетактичным одновременно?
– Я просто стараюсь говорить правду… Хотя нет, не так. Правда – штука очень сложная, и я не могу претендовать на то, что она мне известна. Знаете, есть ведь разные виды истины, так же как и разные виды лжи. Но важна, я думаю, искренность – оборотная сторона доверия. Это тот редкий случай, когда намерения идут в счет. Быть искренним для души полезно, даже если человек чистосердечно говорит то, что не является истиной. Это все очень сложно.
– Я понимаю, я же актриса. Я всегда говорю то, что не является истиной, но если я сама в эти слова не поверю, то ничего и не получится, – проговорила Ада, вспомнив проклятый монолог, с которым мучилась в последнем фильме.
Теодор внимательно посмотрел на нее.
– Да, понимаете. Но многие – нет. Люди как-то разучились говорить откровенно, верить в возможность такого разговора и… вообще верить, так мне кажется. И это делает их жизнь такой трудной.
– Но разве так было не всегда? – Она вдруг увлеклась.
– Не знаю, не думаю. То есть ложь всегда существовала, но этот притворный оптимизм, которым все заболели, гораздо губительней, он уничтожает не одну душу, а словно… всех нас. Я вот люблю погрустить, и, думаю, любой человек имеет право не радоваться, когда ему не хочется этого. А все вокруг словно боятся быть самими собой – вечная борьба с унынием, вечное притворство, что мы живем в лучшей стране на планете, что у нас все хорошо, что нами управляют самые мудрые и добрые из правителей… это как-то нездорово.
Политика. Ада нахмурилась – не хотелось ей об этом сейчас. Она вспомнила – убийство Горецкого, взрыв крематория, а ей завтра ходить, улыбаться и притворяться – изображать все то, о чем говорил Тео. Еще вчера она делала это автоматически, даже не замечала, что именно на этом построено ее существование, а сегодня это стало очевидно, наверное, потому что ее прежняя жизнь уже подошла к концу. Завтра вот-вот наступит, и чем бы все ни обернулось, она понимала, пути назад уже нет. Она уже мыслит не так, знает о том, о чем нельзя знать, верит тому, кому, по всем признакам нельзя верить. Но это простой выбор, который делает душа – или глупость – и здесь не может быть третьего ответа.
– Самое страшное в этом, – продолжал Тео, и Ада вдруг поняла, что он уже перестал ее слушать. Теперь он вещал – проповедовал – а может, просто делился тем, о чем давно думал, не имея возможности никому об этом рассказать. Она подумала – я должна ему. Он не Давид, не оживший мертвец, ему еще есть, что сказать. – Мы застыли, мы никуда не движемся, только лжем самим себе, что процветаем. Но болото не может процветать, даже если кажется, что там идет бурная жизнь. Гниение – это способ существования, но разве Он завещал нам гнить? А мы именно этим и заняты. Девятнадцатый век сошел с ума от прогресса, двадцатый – перевернул представления людей о мире вокруг, макро– и микрокосм, расщепление атома, свободный интернет, широчайшие горизонты… А двадцать первый? Он вот-вот закончится, а мы так и остались карликами по сравнению с предыдущими поколениями. У нас только и есть, что электромобили без водителей, ровные дороги, идеальная сотовая связь, синтетическая пища и новые способы слежки за ближним.
– Но были же войны, биологическое оружие, и… это все так объяснимо, нам нужно было выживать. Когда войны закончатся… – Ада вдруг остановилась, какая опасная тема.
– Но все это было и раньше – и не мешало развитию, пусть ложному, пусть опасному. А люди все-таки стремились к новому, хотели нового, верили в новое, а теперь… А теперь мы боимся информации, мы цепляемся за прошлое, ставшее настоящим – и единственно возможным настоящим – наше будущее уже просто не существует, мы даже не смеем о нем мечтать. Разве вы никогда не ловили себя на ощущении, что готовы на все, лишь бы завтрашний день в точности повторял сегодняшний? А ведь это ненормально.
– Вы говорите очень опасные вещи, – попыталась она снова, но Тео не собирался останавливаться. Он не горел в лихорадке, она это видела, он просто излагал то, что давно копилось в его душе, и совершенно точно хотел, чтобы она выслушала до конца.
– Информационная гигиена! Потрясающее изобретение, гениальный способ контроля, и ведь она задумывалась как лекарство. Свободный интернет – сейчас такое просто невозможно представить, но так было, и информация шла неконтролируемым потоком. Диктатура информации привела к изменениям в человеческом мозге, долгосрочная память отмирала, как никому не нужный рудимент, как хвосты у обезьян, и поначалу люди не видели в этом ничего плохого. Любое тело стремится к абсолютному покою, мозг ищет и ищет способы сохранения своих ресурсов – зачем что-то учить и запоминать, если рядом мировое хранилище знаний, протяни руку и ты узнаешь все, что тебе нужно в данный момент? А потом забудешь. И люди забывали, а потом, однажды сообразив, что они не помнят даже вчерашний день, испугались, и появилась эта гигиена. Только бы не читать лишнего, не слушать лишнего, не думать о лишнем. И пришел контроль, вы, конечно, не помните, вы, наверное, были совсем крошкой, когда это случилось, и многие книги были названы лишними, запрещены…
– Я помню.
Она смотрела на Тео, который снова преобразился – словно перед ней сидел не старый священник, а двадцатилетний мальчишка, и он все молодел и молодел…
– Политика тут вовсе не при чем, это что-то другое, это какой-то более глубокий, злой процесс, яблоко забвения – по аналогии с яблоком познания. Но конечно, нашлись те, кто понял, какую пользу можно из всего этого извлечь. И из нас стали лепить совсем одинаковых, белых, сильных людей. А ведь мы были разными, и сто лет назад, я сказал бы вам, что я родился в Лондоне, а вы бы, я думаю, оказались еврейкой или русской – и мы бы даже разговаривали с вами на разных языках. Ведь то, что мы можем с вами общаться – это фальшивка, новояз, синтетика.
– Что же по-вашему теперь делать? – «Новояз», еще одно слово из далекого отмененного прошлого, из запрещенных книг. И этот Теодор – кто он?
Тео моментально постарел. В его глазах заплясали забавные огоньки.
– Милая моя, я старый, лишенный сана священник, у которого нет ни своего угла, ни более-менее определенного будущего. Откуда же я могу знать? Только, мне кажется, так не должно продолжаться. Мы постепенно превращаемся в неодушевленные предметы, часть интерьера нашего удивительно упорядоченного мира, расчерченного на квадраты полей и диаграммы городов. Наше счастливое будущее, наша демократия, наше сходство – все это ложь. Фальшивка…
– Вы не должны этого говорить, а я – слушать, – наконец, прервала его Ада, и он согласно кивнул.
– Иногда я становлюсь ужасно эгоистичным собеседником. Люди приходят ко мне не для того, чтобы я рассказал им, как плохо им живется. Все ищут другого – успокоения совести. И я счастлив, если могу помочь в этом, – он снова улыбнулся, как раньше – лучисто, мудро, внимательно. – Но это еще не все, вы понимаете? Выйдя из этой комнаты, вы снова начнете лгать, вам снова будет больно и одиноко в толпе вечно лгущих людей, и вас нельзя в том винить, это происходит со всеми. А я просто борюсь с ветряными мельницами, и иногда мечтаю изменить что-то. Но Бог не говорит мне, что я должен сделать, как я могу помочь, как я могу сделать больше. Он дал мне только одно – учить людей, что правда – это не ложь, знание – не зло, а свобода знать и говорить правду – непреходящая ценность. Мне остается разве что надеяться, что однажды те, кого я учил, станут учить других, и мир, может быть, начнет выздоравливать. Я просто человек, помните?
Она помнила.
– Надо возделывать свой сад, – кивнула, заговорила цитатой, не успев себя оборвать, и Тео счастливо улыбнулся.
– Она давно запрещена, вы в курсе?
Ада рассмеялась. У нее было ощущение, что впервые после смерти своего отца, она встретила человека, который читал те же книги, что и она.
– Почему вы не боитесь? Вы наговорили столько, что хватит на десять лет, а учитывая вашу ситуацию…
– Потому что Он присматривает за мной лучше, чем это делает служба охраны, – рассмеялся Тео, и вдруг снова стал – мальчишка мальчишкой. – Спасибо вам, мисс, – от устаревшего выражения ей стало так странно, такие слова только на страницах книг и встретишь, и сам он был словно страница из давно прочитанной книги, и было что-то…
– Я давно не мог об этом поговорить – а с вами смог. И я хочу вам кое-что показать, может быть, вам это поможет. Идемте?
Она подумала вдруг – комната сто один, куда еще идти мыслепреступникам, она подумала, неужели это провокация. Но поднялась и пошла – верить, решила ее душа, и она верила. Это было как опьянеть, как потеряться в детстве, как уснуть после трудного дня счастливой. Они прошли по коридору, к алтарю, она так и думала, но Тео не остановился рядом с ровными рядами скамей, не взглянул на распятие. Он вышел на улицу и остановился на пороге церкви.
– Дальше лучше не идти, но пока мы в дверях мы вроде бы и не нарушители, – он забавно подмигнул, и Ада снова рассмеялась. Она подчинялась его обаянию так естественно, как будто так и должно быть.
– Смотрите, – и в первую секунду она не поняла, на что смотреть, а потом проследила, куда направлен его взгляд и тоже запрокинула голову, глядя в ночное небо.
Усыпанное звездами, древнее, оно лежало над городом, словно огромный зверь и сыто дремало. Звезды яркие, голубовато блестевшие на черном фоне, казались жемчугом, разбросанным ее рукой, жемчугом, которого у нее никогда не было. Ада задохнулась от беспредельности этого неба, навалившегося на нее.
– Как давно я не…
– Тише, – прошептал Тео. – Просто смотрите.
И она смотрела. И вдруг почувствовала – пока ты смотришь на звезды, они смотрят на тебя. Это не равнодушные глыбы камней, это тысячи, миллионы глаз, и они смотрят, смотрят на тебя, на маленькую часть огромной Вселенной. И как ни назови это – Бог, Вечность, – оно видит тебя, даже когда ты думаешь, что ты совсем один. Она подумала, мир так добр, так огромен, что в нем есть место для всего – и для таких странных людей, как Теодор, и для таких, как она. И она, Ада Фрейн, в глазах этой огромной Вселенной – ценность, она смотрит и может смотреть целую вечность ночи до следующей вечности ночи. Но она – ценность равная ценности любого другого создания, равная камням, водам океана, которого она никогда не видела, травам, цветущим по весне, листьям, умирающим осенью, последней песчинке на берегу. И воздух вдруг стал – амброзия, и все остальное сделалось – неважно, и она подумала, что за глупость – были до нас, будут после нас – ведь они это и есть мы, и все, что мы делаем – их забота. Она ощутила себя вдруг так, словно сама поднимается в небо, сама становится одной из этих звезд, и что-то вспыхнуло перед глазами, и она вспомнила – когда зажигается звезда, это чья-то душа попала в объятия Бога.
– Вы видите, – тихо сказал Тео.
Она стала – небо, звезды, трава, – почувствовала, как безгранична, беспредельна ее душа, маленькая искорка где-то внутри, спокойная, как само спокойствие, живая, как сама жизнь. И вдруг поняла – Теодор это же она, она сама, и все прочитанные ею книги, все писатели, с которыми она беседовала в детстве в своем воображении, Пьер Безухов и мистер Проптер, Иисус и Будда, ее собственный отец и ее нерожденный сын, и миллионы людей по всей стране, смотревшие на ее лицо и находившие в нем утешение в бессмысленности своего существования, истина и красота, сопряженные с болью и страданием, ее любовь, первая настоящая любовь, ее вера, такая слабая, ее мечта о свободе, ее память, нет, больше, чем ее память, память всего человечества, мечта всего человечества, единого в своем подобии Богу… И она почувствовала – не поняла, потому что понимание больше не существовало, – почувствовала каждой клеточкой своего тела, как растут розы на другом конце земного шара, и дует морской бриз, как рождается где-то ребенок, и кричит, кричит от невыносимой муки узнавания мира, как умирает где-то старик, окруженный своими любимыми, как улыбается ее собственное лицо где-то на другом конце страны с экрана, и юный мальчик, пораженный теплом, исходящим из ее фиолетовых глаз, впервые понимает, что такое – женская улыбка, лишенная материнской любви, и она почувствовала, как раскинулась по горам и полям, от города до города, ровными дорогами опоясанная, бесконечная и ограниченная, безумная, любимая, никому не принадлежащая, выраставшая в небо вековыми деревьями, щебечущая птицами, текущая полноводными реками, собираемая по пылинке мельчайшими букашками, родная…
Ада очнулась уже утром, сидя на первом деревянных скамей церкви, и не могла вспомнить, как вернулась сюда. Ее сумка с платьем лежала с ней рядом, а вот стихов Вельда в ней не было, но она их помнила. Не было рядом и Теодора, и она растерянно огляделась, пытаясь понять, не приснилось ли ей все произошедшее.
***
Ее телефон разрывался от звонков – косметолог, массажист, салон красоты, где она подняла всех на уши, заставляя сделать себя сногсшибательной. Ее обязывало платье, повод, ее обязывало решение бежать, ее обязывала любовь, испуганно замершая в уголке сердца, как зайка из последнего стихотворения Вельда. Ее обязывал ночной разговор, не то случившийся, не то привидевшийся ей в церкви. Ее обязывало предательство Арфова и низость Димы. Ее обязывали те почти тридцать шесть лет, которые она прожила на свете.
Еще никогда Аде не удавалось быть настолько восхитительно, настолько точно той, кого она привыкла изображать, и даже то и дело возвращавшиеся воспоминания о вчерашнем крайне бурном вечере или о звездном небе над головой не мешали. Она подумала – что сделать для Тео, если он существует, как ему помочь, хотя он не просил помощи? Не посылать же ему дорогой парфюм, не пригласить же к нему массажиста, не дарить же ему какие-то безделушки. Ада могла за него попросить – но какой в этом смысл? Она собирается обставить всю эту жуткую политическую машину, куда ее саму чуть не завертело, и упоминание его имени при Сайровском не принесет священнику ничего, кроме неприятностей. И еще она думала – был ли он, может ли такое существовать? Этот странный человек, объяснивший ей, сам того не подозревая, что имел в виду ее отец, убеждая верить властьимущим. Она думала – «я тогда поняла его не так, и почему же он не постарался объяснить все правильно, почему не рассказал о своей работе, которая тоже была садом – невмешательством, – но и правдой, обнаженной колючей правдой, которая, конечно, оказалась никому не нужна?» Она подумала – а сам отец стал бы пытаться публиковать свои труды, он ведь совсем не был тщеславен? Может быть, там крылось что-то иное, может быть, он писал эту кигу для нее, для своей дочери, чтобы объяснить ей, как сложна, как запутана жизнь – и единственное, что можно сделать, чтобы сохранить себя – не лгать.
Но она лгала, лгала как никогда, обещая себе, что они с Германом с этого дня будут говорить друг другу только правду, будут самыми честными людьми на свете, поселившись на том солнечном острове. И как-нибудь ночью она покажет ему звезды – всю Вселенную, – то, что видел в ее глазах Вельд, то, что она вчера впервые увидела сама. И даже если он виновен, виновен как никто, если он грешник, то и она не лучше, но все это останется за спиной в сером городе, все это будет позади, и прошлое перестанет довлеть над ними и можно будет начать с чистого листа.
День пролетел так быстро, ничего не оставив за собой, и чем ближе был вечер, тем сильнее колотилось ее сердце, тем жестче становилась улыбка, тем истеричнее капризы. Ей несколько раз звонил Дима, но она сбрасывала вызов, не желая с ним разговаривать, Арфов не объявлялся, Нелли была великолепна.
– Я жалею, что не разглядела вас раньше, – с легкой грустью сказал ей Ада, когда стрелки часов указали на половину шестого. Она стояла перед большим зеркалом в офисе, рассматривая свой почти вульгарный наряд – удобные туфельки, откровенное платье, слишком короткое на ее вкус, не оставлявшее никакой загадки, но, как она понимала, крайне удобное для того, чтобы вылезать из окон – юбка достаточно просторная и короткая, чтобы не запутаться в ней. Зрелище, конечно, будет то еще, со смехом думала, уже представляя свое бегство, но что значит это все по сравнению с возможностью освободиться?
Нелли умиленно смотрела на нее как на куклу, приготовленную в подарок любимой дочери, гордилась плодами своих трудов, и ничего не отвечала, но ее взгляд и тон, когда она сообщила, что машина подана, говорили вместо нее. Словно мать, выдающая замуж свою дочь, подумала Ада, словно мать, отправляющая ребенка на фронт. Она чувствует, что с чем-то расстается.
– Такая честь, – всплеснула руками Нелли, когда они прощались у лифта. – Илья Александрович будет так счастлив.
Ада улыбнулась – нет, не будет, но к чему об этом сейчас. У них у каждого – свой праздник, свой повод для гордости и торжества. И хватит об этом думать.
Ее сердце колотилось так сильно, что Сайровский отметил ее румянец, и тут же принялся сверлить масляным взглядом ее чересчур откровенно открытую грудь, но это было неважно, так неважно, она думала, глядя на серые, безучастные лица службы охраны, стоявшие по периметру зала, который она так хорошо помнила по своему первому разговору с Германом. Никаких других посетителей сегодня, никаких лишних глаз – и все в строжайшей тайне. Сайровский не Герман, без охраны не ходит. Ада думала, он где-то там, дорогой, любимый, хлопочет, и ворковала, и зазывала, и тянула время, и считала минуты, секунды считала, и знала – он где-то там, втайне, тоже считает секунды, и часы тикали, и земля медленно вертелась, и жизнь была – сплошное ожидание, а Сайровскй нахваливал кухню и уютные отдельные кабинеты, где он собирался ей что-то показать. И на думала – это даже не противно, просто смешно – он так изолгался, что даже снятой шлюхе не может признаться, зачем ее снял, и она все собиралась пойти с ним, но вдруг ей хотелось десерта, хотелось клубники, ей хотелось шампанского, к которому она не притронулась, и она все думала, еще полчаса, еще пятнадцать минут, еще десять, пять, четыре с половиной, две…
Он целовал ей руку, когда она бросила взгляд на часы и поспешно поднялась.
– Я на секундочку.
– Разумеется, – и она поняла, если вернется, он не будет больше ждать, и без того заждался – ему наскучила эта игра, конец, пора собирать карты и рассчитываться с долгами. Но она же не собиралась возвращаться.
– Ада?
Она почти дошла до туалета, когда он окликнул ее. Быстрый взгляд на часы – у нее оставалось меньше минуты.
– Да? – Обворожительная улыбка, и сердце, пропустившее удар. Она вдруг поняла, что он знает, разумеется, знает, сейчас он остановит ее, сейчас он…
– Вы самая прекрасная женщина, которую я встречал.
Она снова улыбнулась, чуть кивнула, принимая комплимент, как привыкла принимать их – с равнодушным самодовольством красивой женщины. Поспешила скрыться за памятной занавеской, и никто не попался на пути, никто не остановил ее, и она скользнула в мужской туалет, где открытое окно выглядело так зовуще, так притягательно.
Получилось, неужели получилось? Она повесила сумочку на шею, скинула туфли, удобнее перехватила их, выглянула в окно – вот она лестница, вот он ее путь к свободе, вот еще несколько шагов, и она будет – еще не там, но, главное, уже не здесь, и она швырнула сотовый телефон в писсуар со злостью и торжеством, задрала юбку до талии, чтобы не мешалась, вылезла в окно.
Получилось, неужели, получилось? Сердце билось в горле, Ада не смотрела вниз, крепко цепляясь за перекладины, думая, а если кто-то поджидает внизу?
Но никто не поджидал, и она спрыгнула с лестницы, одернула юбку, надела туфли. Словно вынырнула из одного мира в другой, загадочный, только внешне похожий на прежний, но получилось же, неужели получилось, все так гладко вышло, только не сглазить. Она крадучись сделала несколько шагов, скользнула к стене рядом стоящего дома – окна его не выходили на эту сторону, заметила, какой же Герман молодец, как он все предусмотрел, ее никто не видел, никто, и никто пока не знает, что ее уже нет в здании, и она захотела рассмеяться, если бы сердце не колотилось так сильно, она бы обязательно рассмеялась. Хотелось бросить прощальный взгляд, хотелось торжествующе закричать, но Ада держала себя в руках, он же сказал – не оборачиваться. Она отвернулась от ресторана, помня, что как можно быстрее нужно уйти из поля зрения его окон, и скользнула за угол, словно тень, ярко-алая тень на серой глади города, и замерла, проверяя, нет ли кого-то рядом, – было слишком светло, ранний летний вечер, до сумерек так долго, а она так привлекает к себе внимание, – но никого не было, и Ада сделала шаг к свободе – и подумала – небо мое, солнце мое, мир мой, любимый мой, я иду к тебе – и в этот миг за ее спиной раздался взрыв.
***
Красный уровень опасности означал – не выходить из дома, не подходить к окнам, сидеть у репродуктора, работавшего от аварийного генератора, в ожидании сообщений, сотовый держать под рукой. Красный уровень опасности означал – патрули на улице, оцепление отдельных районов, полная боевая готовность, вой сирен, залитые красным светом стены домов. Красный уровень не включали на ее памяти никогда, не считая учений, – даже взрыв крематория обозначили средним, желтым цветом. Но теперь другое – покушение на президента страны, врыв в самом сердце Столицы, теракт, превосходящий по своей дерзости и наглости все, с чем сталкивалась ОЕ с тех пор, как Горецкий установил мир и порядок много-много лет назад. Все в городе знали, красный уровень – это очень, очень плохо.
Ада шла – в красном по красному городу, по красным улицам, обезлюдившим в миг, и свет предзакатного солнца тоже окрашивался красным, и никто не попадался ей навстречу, потому что Герман был так восхитительно предусмотрителен – и в оцеплении были бреши, и все она знала наизусть – и могла не торопиться, главное, не отставать от графика, не теряться, не позволять себе останавливаться, как в тот первый миг, когда угол дома защитил ее от летящих во все стороны обломков шикарного ресторана, но не от сомнений, не от паники, приковавшей к месту. Не от мыслей – «я подвела тебя, обернулась, и теперь я – Орфей, а ты навеки в подземном царстве, ты его порождение, но я так надеялась, что все еще можно поправить, я так верила, что может быть иначе».
И в первую секунду растерялась, не понимая, куда теперь идти – неужели по названному адресу, неужели к нему, к чудовищу, которое она так старательно будила – и преуспела? Но может, нет, все ложь, и никто ни в ком не будит никаких драконов, – а реальна только смерть, кровь, грязь и бесконечная, саму себя пожирающая ложь?
Но завыли сирены, и из репродукторов раздался механический голос, сообщивший о том, что объявлен красный уровень, и жители отпрянули от окон, и Ада видела, как моментально залил улицы красный свет, и подумала – а вдруг это совпадение, вдруг просто повезло? Герман был профессионалом, но его пытались сместить, отстранить, а ведь на нем держалась вся безопасность страны, может, Сайровский поплатился за самонадеянность, и это враги государства – мусульмане, заговорщики, содомиты, китайский след или след США, а может быть, это просто совпадение, и Океания всегда воевала с Остазией, и не нужно теперь – теперь поздно – не стоит теперь сомневаться. Нужно идти, поняла, к дракону или рыцарю, тому или другому, но в любом случае, ее любимому, единственному, кто мог ответить, что здесь произошло.
И пошла – красная по красному городу, и видела пустые глазницы домов, и другие окна, зажмурившиеся шторами, и знала, там должны быть люди, но город выглядел таким вымершим. Словно не осталось никого – ни одного живого человека, а только сирена, механический голос, предупреждения и красный, такой пугающий красный свет, означавший, что мир близок к своему полному уничтожению, и все у нее получалось – стук каблуков заглушался воем, платье цветом сливалось со стенами домов, и ее трясло, но она шла, уворачиваясь от патрулей, натренированных, как они все, как каждый в этом городе, идущих известным только им маршрутом, который не позволял им встретить ее. Учения, въевшиеся и ей в подкорку, тоже гнали ее в здания, спрятаться в квартире, замуроваться, сесть и бояться, но она шла туда, куда он сказал, потому что это было единственное место, где ее ждут, думала, та точка вселенной, вокруг которой вертится все мироздание, Бог или дьявол, один из двоих, и иного не дано. Она держалась графика, минута в минуту оказалась у его дома и, конечно, консьержа не должно было быть на месте, ведь никто не ходил по улицам во время красного уровня, кроме одной женщины.
Ада остановилась перед подъездом, посмотрела наверх, куда-то туда, где должны были быть его окна, замерла, потом решительно толкнула дверь, и…
– Гражданка Штибер,– раздался над ухом знакомый по ночным кошмарам голос, и она ощутила, как нечто уперлось в ее затылок. Закрыла глаза, мгновение, нет, меньше, и поняла, откуда знает этот голос. Паук, тот офицер, с которым она беседовала о Вельде, и знакомое ощущение мерзости бесчисленными насекомыми поползло по обнаженным рукам и ногам, но она даже не попыталась сделать рывок.
– Наконец, мы встретились. После вас, – она увидела руку, и рука эта показалась ей какой-то неправильной – что это за грязь, въевшаяся в его кожу, отчего?
Она послушно сделала шаг в темноту подъезда.
– Я шел за вами от самого ресторана, – пояснил голос, и она услышала, неожиданно, смешок вслед за словами. – Я думаю, мы с вами должны подняться вместе. Я думаю, нас ждет один мой старый знакомый.
Герман, подумала. Герман ждет наверху. Этот человек хочет добраться до Германа. Язык прилип к гортани.
– Я не советую вам делать что-то, что мне не понравится, – продолжил он, и она услышала еще один смешок. За прошедшие годы «паук» научился смеяться? – Я стал очень нервным в последнее время, а пистолет заряжен.
Она чуть-чуть кивнула, обозначая, что поняла приказ, и мимо пустого поста охраны они прошли к лестнице, конечно же, лифт не работал – красный уровень, электроэнергия расходуется экономно.
– Идите первая, только не слишком быстро. Кричать и пытаться убежать я вам не рекомендую, – но она и не побежала бы, и некого было звать на помощь. Герман, подумала. Наверху может ждать Герман, и он откроет дверь, когда увидит ее, а потом этот маньяк войдет в квартиру следом за ней и будет стрелять.
– Кого вы хотите увидеть наверху? – Спросила, думая, а если попытаться его обмануть, если позвонить в другую квартиру, на другом этаже, тогда… Им не откроют, поняла. Служба охраны входит без звонка, а больше никому в такой момент открывать не станут.
– Вы знаете, кого, – ответил мужчина. – Я следил за вами. Он снимал охрану с вашей квартиры, когда приходил к вам с докладами, но он не мог «снять» меня, потому что времена, когда мы работали вместе в прошлом.
Он снова хохотнул, громче, и она, наконец, испугалась. Лестница тянулась бесконечно, и он, хоть и был выше, больше не мог держать пистолет у ее затылка, но она знала, он сзади, идет по пятам, слышала тяжелое дыхание, слышала странноватый шорох его шагов, и поняла – он следил за ней, а она ничего не заметила – ведь выла сирена, и он, несмотря на хромоту – конечно, он же хромой, вот почему звук шагов так неритмичен, вот откуда это шарканье, шорох-шаг, шорох-шаг, – он умел ходить очень быстро, и она вспомнила ночь, когда встретила Давида.
– Его там нет, – попыталась она, преодолевая пролет.
– Не надо мне врать. А если даже его там нет, он рано или поздно появится. У меня много времени, мы подождем – вместе.
Тринадцатый этаж, подумала. Может быть, Герман и не появится. Может быть, он обманул ее – или тоже погиб – какая неожиданно сладкая мысль – но страшно, они будут одни в квартире с этим безумцем. Она почувствовала, он безумен, да-да, он сошел с ума, она поняла это вмиг, как и то, что он хромой, что именно он в ту ночь шел за ней и какое чудо, что она успела укрыться, что именно он Майю…
– Зачем вы убили мою подругу? – Повышать тон, звать на помощь бессмысленно, сирена на лестнице звучала приглушенно, так что они могли слышать друг друга, но едва ли кто-то решит прийти ей на помощь, все и без того напуганы.
– Подругу? Ах да. Я ошибся, она была очень похожа на вас, – он снова хохотнул, и смех звучал чуть дольше и снова слишком резко оборвался, и Ада поняла, именно этот момент – самый страшный. Не пистолет даже, направленный в спину, не то, что впереди квартира, где Герман, а то, как резко он обрывает смех, моментально, словно снимает иглу с патефона – она никогда не слышала патефон, но так много читала, что могла вообразить. Она много читала, всегда много читала, и могла вообразить, кажется, все, что угодно, но ни в одной книге не упоминалось, как справиться с этим безволием, сковывающим тело, когда понимаешь, что рядом сумасшедший, когда жизнь висит на волоске. В приключенческих книгах герой просто позволял противнику приблизиться, бил локтем в лицо, ломая нос, перехватывал пистолет, но она знала – ее враг тренирован куда лучше нее, он знает все эти трюки в реальности, а не фантазирует о них. В приключенческих романах героиню всегда спасал главный герой, но в ее истории главный герой еще имел все шансы оказаться главным злодеем, и она, возможно, не успеет узнать правду, потому что в любой момент этот безумец может выстрелить.
– Я как-то почти добрался до вас, как-то ночью, но вам удалось сбежать. А потом к вам приставили охрану, и мне оставалось только ждать – и я дождался. Но еще я понял, что Бельке добился своего, и, увидев как вы вылезаете по лестнице из окна ресторана, я подумал, что вы приведете меня к нему. Я многому научился, – довольно сообщил он, и она поняла – третий раз. Вот он, тот третий раз, когда им повезло – и для чего, чтобы теперь этот маньяк расстрелял их обоих? Может быть, подумала, это не такой уж плохой выход. В болезни и здравии, в богатстве и бедности, и даже смерть не разлучит.
Еще один пролет. Их скорость становилась все медленнее, он явно устал, Ада же была просто вымотана, но это равномерное движение все длилось и длилось, он все говорил и говорил, и она продолжала задавать вопросы – так он устанет сильнее, и если Герман будет достаточно удачлив, если появится быстро, «паук», может быть, не успеет отдохнуть. И это даст им лишний миг, может быть, лишнюю секунду – может, это спасет им жизнь. Она больше ничего не могла придумать.
– Добился своего?
– А вы думали. Бельке всегда получает, что хочет, ни перед чем не останавливается, но, – снова этот смех, звучавший дольше, пронзительней, словно идущий за ней хохотал бы и хохотал, и только остатки разума заставляли его сдерживаться. – Но он никогда не идет по прямой. О нет. Ему нужно, чтобы желаемое само пришло к нему, чтобы попросило – возьми меня, и тогда он милостиво соглашается. Так было всегда, сколько я его знаю.
– А вы давно его знаете?
– Очень давно, очень.
Еще пролет. Она услышала, как он переложил пистолет, как тяжело оперся освободившейся рукой на перила.
– А все эти женщины…
– Я тренировался, – она затихла, но потом снова собралась с силами. Она уже заставила его разговориться, значит все правильно, так и нужно. Но о чем еще спросить, о чем? На память шли все ее роли, и она вспомнила – Джулия, ее сумасшедший муж.
– Почему вы хотите меня убить? – Помимо воли ее голос дрогнул, и она поняла – опять начинает играть, опять, привычно, в кротость и беззащитность. – Я ничего вам не сделала…
И тут он захохотал. В голос, так, что сотряслись стены и сирена на миг затихла, хохотал зло, безумно, с истерикой, что пролезала сквозь хохот.
– Ничего не сделала, сучка? Из-за тебя я восемь лет просидел в лагерях. Из-за тебя, твоего муженька и гребанного Бельке, который тогда отправил меня на это чертово задание. Он говорил – ты сложный случай, ты ценна для президента и страны, и потому мы должны позаботиться о твоей репутации. И я потащился слушать твои сопливые признания, я, боевой офицер! Но я и не думал, что этот подонок тебя избивает. Я решил – расследование ни к чему, опять ты будешь измазана, лучше бы ты была вдовой, так сказал Бельке – и я пошел решить проблему, и решил ее, пусть не очень чисто, но он же был форменным психом, я думал он пьян и все будет в порядке, но не получилось, но я же знал, что наши ребята сделают все правильно. А Бельке не понравилось, что о тебе поползли слухи и что я держал тебя за ручку, ему не понравилось, что я в твоих глазах могу оказаться тем, кто защитил тебя от Штибера с его загонами. О нет, эту роль он приберег для себя. Официантка растрепала, тварь. Поэтому – служебное расследование, обвинение в превышении полномочий и в том, что теперь мы не узнаем, кто еще входил в состав группы заговорщиков… Штибер – заговорщик! Да это смешно просто, он все мозги к тому времени пропил, никого и знать не мог, а только кропал стишки, и Герман это знал, и все мы знали, но я все равно поехал по этапу, а он остался тут, делать свою гребаную блестящую карьеру, подбираться к тебе, сети свои плести, и стал большим начальником, и ты, конечно, потекла и побежала к нему, что еще от тебя ждать. Но теперь я вернулся, у меня есть претензии, и я думаю, все получилось превосходно – сначала я пристрелю тебя, его драгоценную Евразию, на его глазах, а потом с превеликим удовольствием снесу башку и ему, потому что…
Они как раз дошли до очередного пролета, она слышала – он опять перекладывает пистолет в другую руку потому, что, не опираясь на перила, не может идти и не может говорить, и в этот момент грохнуло где-то сверху, но она подумала – не может быть, это стреляли в меня, но тут такая акустика, может, так всегда кажется, если стреляют в упор, – и завизжала, бросившись вперед, ожидая каждый миг еще одного выстрела в спину, а боли почему-то не было, хотя может, так всегда, и вдруг она налетела на кого-то, врезалась в кого-то, и ее поймали чьи-то руки, и от слез она ничего не видела, но Герман, стоявший наверху, уже обнял ее, крепко держа, не давая ей вырваться, и говорил, говорил:
– Теперь все хорошо. Все прошло, все получилось, и теперь у нас с тобой все будет хорошо.
***
Она не помнила, как он завел ее в квартиру, уговаривая не шуметь, как запер за ними дверь, как усадил на кровать, как сунул в руки чашку с горячим напитком, кофе или чаем, она на поняла. Как добавил коньяк в ее чашку, как налил и себе – впервые он пил на ее памяти, не считая того глотка шампанского, и это так поразило ее, что она вдруг остановилась, – слезы замерли на глазах, – и глупо спросила:
– Ты пьешь?
Он рассмеялся, просто, облегченно, и Ада поняла, что никогда не видела его таким – словно огромный груз сняли с его плеч, и они чуть опустились, расслабились.
– Только когда для этого есть очень значительный повод, – он присел на кресло напротив нее, откинувшись на спинку, и сделал небольшой глоток, потом положил пистолет рядом с собой. Он больше не обнимал ее и, несмотря на его расслабленную позу, несмотря на то, что он пил, Ада видела, его глаза продолжают изучать ее, как бабочку под микроскопом, как какое-то затейливое насекомое.
– Ты все слышал?
– Не все, только с середины. Ты запаздывала, и я вышел на лестничную клетку, он как раз смеялся, мне это не понравилось, – Герман покачал головой. – Я спустился чуть ниже, увидел, что происходит, и стал ждать удобного момента. Ты умница, он отвлекся и…
– Откуда он взялся? – Поразилась собственному ровному голосу. Может быть, она недооценила себя, может, она способна бегать по городам, в которых объявлена тревога, отбиваться от маньяков, узнавать, что ее возлюбленный – лжец каких поискать, и не терять присутствия духа?
– Полагаю, вышел по амнистии, которую этот идиот Сайровский объявил, чтобы произвести впечатление. Я предупреждал, что это плохая идея, выйдет столько всякой дряни, которую мы годами пытались упрятать, но он и слушать ничего не хотел. Я, разумеется, оказался прав, но теперь это уже…
– Ты ничего не хочешь мне объяснить? – Она и сама не знала, о чем спрашивает. О взрыве, о том, что рассказал ей маньяк, о том, что сам Герман имел в виду, когда сказал ей «я тебя вытащу», о том, что они теперь будут делать? Вопросов было даже слишком много, и от шока она никак не могла понять, что же волнует ее в первую очередь.
– Смотря, что тебя интересует.
– Правда! – Ее била крупная дрожь, и она вскрикнула, когда горячий чай залил ей руки, больше от неожиданности, чем от боли. Размахнулась и швырнула чашку, обжегшую ей пальцы в стену, и Герман инстинктивно вскинулся, схватившись за пистолет, и она захохотала так громко, так в тон все еще вывшей сирене. – Стреляй же, стреляй, что ты ждешь? Кого на этот раз обвинят во взрыве? Дай угадаю, на этот раз бомбу принесла я, да? А потом мой труп найдут в ресторане, твои люди найдут, конечно, и плевать на пулевое ранение, так? Стреляй же, что ты ждешь?
Она орала, а он спокойно убрал пистолет в кобуру на груди, прикрыл пиджаком, удивленно посмотрел на нее, потом улыбнулся, поднялся.
– Зачем же так, если бы я хотел тебя убить, достаточно было позволить Марку дойти до квартиры и заставить ждать несколько часов. Он был на последней грани, ты бы что-нибудь не так сказала и… А то и вовсе не предупреждать тебя – и тебя действительно сейчас нашли бы, обгоревшую и безусловно мертвую, в ресторане. Ну успокойся же, послушай меня, – но его слова больше не действовали, и он попытался ее обнять, а она вырвалась, пытаясь расцарапать ему лицо, но он легко перехватывал ее руки.
– Ты, это все ты, это с самого начала был ты! С Горецкой ты тоже спал, она тоже тебя любила? Так ты все делаешь да? Какая же я дура, какая дура.
– Тихо, Ада, прекрати орать, – он встряхнул ее, потом поцеловал, но она извернулась и укусила его, чувствуя, как в ней постепенно не остается ничего, кроме ярости и боли. Все сомнения предыдущей ночи вернулись, и она поняла, все поняла – разве мог Сайровский провернуть все это один? Нет, нет, они сделали это вместе, но потом что-то не поделили, власть не поделили, и Сайровский принялся убирать тех, кто помогал ему, кроме Димы, конечно же, кроме Димы, который был так ничтожен, что его можно было купить – а такие как Герман не покупаются. И у одного были выигранные выборы, а у другого – чуть ли не лично преданная ему армия, Сайровский был хитер, а Герман еще хитрее. Притих, изображая желание сотрудничать, позволил перевербовывать своих людей, позволил переодевать их, отстранить себя позволил – и все это потому, что знал, что президенту недолго торжествовать. И никакой любви не было, а была только политика, грязная политика, и, может быть, ему нужен был этот ужин, нужна была Ада, чтобы Сайровский чуть-чуть потерял осторожность, поехал ужинать, взяв с собой минимум охраны, а Ада была просто – игрушка, и никакой любви, никакой, только ложь, бесконечная кровавая ложь.
– Как ты мог так со мной поступить? Как ты посмел?
– Как «так с тобой поступить», Ада? – Зло и устало спросил он, и Ада увидела на его губах кровь. Она так яростно кусалась, видимо, а он вытер рот не глядя, и ему было больно, но что значила эта его боль по сравнению с тем, что испытывала она? – Я вытащил тебя из ресторана, я нашел способ спасти тебя, хотя ты даже не догадываешься, чего мне это стоило. Несколько хороших ребят погибло там сегодня, а ты сидишь тут, живая и невредимая и еще на меня орешь.
– Ты лжец! Ты все это подстроил, ты солгал мне, ты обещал, что мы…
– Я вынужден был лгать, чтобы защитить тебя. Зато я спас тебя, прикрыл от всего, очистил от той гадости, что прилипла к тебе за всю жизнь. Ты же слышала Марка, я давно наблюдаю за тобой – и вначале это было просто профессиональное, уж очень ты подозрительный объект, но потом что-то произошло со мной, и я поймал себя на том, что защищаю тебя. А иначе, если бы я не присматривал за тобой, думаешь, ты бы жила припеваючи все эти годы? С твоими-то подозрительными родственниками, кругом общения, поведением? Тебе и голову не приходило, сколько сил тратила служба охраны, чтобы ни у кого никогда не возникло вопросов, почему гражданка Фрейн позволяет себе все то, что ты творила, начиная с твоих родителей и заканчивая твоим браком, ночными гулянками и контрафактным алкоголем. Тебя ведь никогда не арестовывали, хотя твое досье толще любого другого. Но ты ни разу не подвергалась даже более-менее серьезному допросу, ведь я заворачивал все попытки на тебя настучать. Или ты думаешь, их не было? Или ты, может быть, считаешь, что твои фильмы тебя спасали? Нет, это я, это был я, так что прекрати орать, драться и вести себя, как законченная истеричка.
– Вельд… ты убил Вельда…
– Это не так. Марк неправильно понял меня, я вовсе не собирался с ним расправляться, тем более так грубо, тем более практически у тебя на глазах. Я, не скрою, подумывал о передозировке наркотиков или автокатастрофе для него, но я не собирался так торопиться. Марк был болен, его шизофренические идеи заставляли его неадекватно воспринимать приказы – и он перестарался. Он был хорошим офицером, но травма головы давала о себе знать. Впрочем, я никогда не жалел, что ты стала вдовой, твой муж причинял тебе боль. Он тащил тебя на дно…
Она вдруг затихла в его руках.
– Значит, все эти годы ты… – Он кивнул, Ада чувствовала, как невозможно близко он теперь. Как таят его секреты, как она может коснуться любой тайны, и он не станет лгать. Но правда, какой горькой, какой невыносимой она, оказывается, может быть. Ада подняла голову, пытаясь что-то прочитать в его глазах. Но они оставались прежними – и было ли все сказанное ложью, было ли правдой – как понять? «Верить или не верить», вспомнилось ей не к месту. Этот выбор каждый раз делает душа, и разум должен замолчать. Оставалось только надеяться, что выбор будет правильным.
– Все эти годы ты стоял у меня за спиной и делал все эти ужасные вещи, и ты… направлял мою жизнь и ни одно решение…
– Твою жизнь я не мог направлять, ты слушаешься каждого, кому придет в голову покомандовать, и рядом с тобой все время кто-то терся… Я просто присматривал, чтобы ты не совершала уж слишком серьезных ошибок.
– Почему ты не пришел раньше, почему не… почему не поступил как нормальный человек?
– Ты бы посмеялась надо мной. Восемь лет назад я был почти никто, это последние события помогли мне пробиться наверх. И потом я не знал, могу ли тебе доверять. До последнего не знал, даже сегодня ты могла все испортить – случайно или намерено… Сайровский не был дураком. А что творится у тебя в голове иногда совершенно непредсказуемо, – в его голосе вдруг мелькнула нежность.
– Не доверял мне… – Ада почувствовала, как внутри что-то замерло. – Это была проверка. Ты рисковал моей жизнью, чтобы проверить меня…
Но он же был прав – она актриса. И предательница – они оба это знали. Разве после того, как она поступила с собственным мужем, пусть его это и устраивало, он мог хоть на секунду ей доверять? Разве можно винить его за осторожность? Но как ей жить с ним, как ей теперь любить его, ведь каждый миг она теперь будет ждать еще одного подвоха, теста, манипуляции… Сколько же нужно любви, чтобы выдержать это, чтобы и его душа выбрала «верить»?
– Я рисковал и своей жизнью. Если бы ты решила подставить меня, к рассвету я был бы мертв.
– Но мертвы другие, Горецкий, Сайровский, и вся страна готова упасть тебе в руки, так? – Вся страна, и она, Ада Фрейн, готова сдаться на милость победителя, испуганно прижаться к нему и умолять спасти их от ужаса, от хаоса, от неизвестности завтрашнего дня. Готова молиться о сильной руке, которая наведет порядок, которая поможет думать так, как нужно, чтобы жить спокойно и праведно, которая гарантирует безопасность. Мир сжался до таких размеров, вспомнила она, что поместится на ладони. И теперь это его ладонь. – Никто не стоит у тебя на пути. И поэтому ты пьешь коньяк и…
Он кивнул, убирая спутавшиеся пряди с ее лица, так нежно, словно эта победа не радовала его и вполовину так сильно, как то, что она рядом с ним, что он может касаться ее, защищать. Словно он боролся не только за место первого человека в стране, но и за нее, за глупую влюбленную актриску. И победил – она здесь, как и говорил маньяк, Марк, так его звали, она теперь не сможет забыть – беззащитная, пришедшая к нему за ответами, за решениями, за руководством, попросившая сама. И он теперь может благосклонно принимать этот дар, а спустя время даже жаловаться шутливо, на то, что эта ноша тяжела. Хотя он жаловаться не стал бы… или Германа она тоже представляет себе неверно? Что вообще она знала о нем, чему верила? Но были его надежные руки, его простые карие глаза, его мягкие прикосновения и жесткие губы, было чудовище внутри него и теперь смутная надежда, что он больше не будет лгать… Неужели ей этого мало?
– И мы не едем никуда? – Мало ей было, мало, какая же она жадная. Но горько стало, что не будет ни солнца, ни моря, ни счастья, ни детей, не будет свободы…
– Теперь я не могу уехать, Ада. Ты ошибаешься, если думаешь, что мой руководит жажда власти, вовсе нет. Просто я люблю нашу страну и хочу навести в ней порядок, я хочу ее благополучия и процветания, а то, что делал и планировал сделать Сайровский, в корне противоречило интересам страны, и тому, ради чего мы работали столько лет.
Ада поняла – амнистия, это только первый звоночек. Может быть, этот противный, гадкий старик хотел перемен, хотел что-то сдвинуть с мертвой точки, хотел изменить Объединенную Евразию, может быть, его предвыборные обещания были не красивыми словами, а настоящими намерениями. Теперь уже не узнать.
– Я хочу снова контролировать ситуацию, иначе начнется политическая возня, грязные игры, и все, во что мы верили, о чем мечтали, будет уничтожено. А ведь и враг не дремлет, и пусть последние годы казались спокойными, кому как не мне знать, что наша страна все еще в опасности.
«Наша страна все еще в опасности» – Ада предчувствовала, он будет видеть опасность до скончания времен. Он создан для того, чтобы оберегать и охранять – от внешних угроз, от внутренних неполадок – следить за тем, чтобы страна не наделала глупостей, даже если глупость продиктована свободным выбором. И он по-настоящему уникальный профессионал, он справится. Глупостей в их прекрасной Евразии больше не будет.
– А как же я?
– Ты уже объявлена умершей. Иначе было нельзя, слишком много людей знало, что ты едешь на встречу с Сайровским. Через некоторое время найдут тело, кто-нибудь тебя опознает. Не беспокойся, тебя не объявят виновной, ты слишком дорога людям. Ты станешь символом всего прекрасного, что может пострадать, если мы допустим… небрежность.
– А как же я? – Она повторила вопрос. – Мне нельзя больше…
– Ада Фрейн умерла. Так что тебе не придется больше сниматься, твоя прежняя жизнь закончилась. Мы выберем тебе новое имя, еще придется немного изменить внешность. Но ты актриса, потрясающе талантливая актриса, и эта роль…
– Какое имя? Какая еще роль?
Он улыбнулся, так светло и тепло, словно мальчишка, подаривший маме цветы, словно ребенок, получивший свою долгожданную железную дорогу. Он ждал этого так долго, она поняла, и вовсе не избалованностью было в нем то его странное отношение к ней в их первую ночь. Это был страх довериться, страх понадеяться, страх, что подразнят и отберут. Но теперь не отберут – нет в мире такой силы, кроме смерти разве что, но, она подозревала, он и смерти так просто ее не отдаст.
– Ну, например… Ева Бельке, первая леди Объединенной Евразии.
– Ева… – Первое библейское имя, конечно же, следом за вторым – как и он превращается из второго человека в стране в первого, берет ее с собой. – Это значит, что…
– Да, я прошу тебя стать моей женой.
Она рассмеялась. Так невозможно, так невероятно все это звучало.
– Меня же узнают!
– Не обязательно. Теперь конечно, тебе придется прекратить общение во всеми своими знакомыми. И придется все же делать что-то с цветом волос, но есть краска, есть линзы, есть пластическая хирургия. Ты можешь сделать себя какой захочешь. И потом люди обычно видят только то, что им показывают. Мы скажем, что ты просто похожа – и никто не станет копать глубже, тем более, что одеваться и вести себя ты станешь совсем по-другому. Ты сегодня родилась заново – для меня.
Он убил ее для всех, воскресил для себя и, если раньше она была его игрушкой на привязи из ее собственных чувств, то теперь на нее наденут тугой ошейник, и она вечно будет рядом с ним, неспособная пошевелиться без его приказа. Он отберет у нее все – и даст ей взамен огромную страну, солидную часть мира, и может быть, у них все же будут дети, и не придется прощаться с тем, к чему она так привыкла. Он оденет ее как королеву, то, чего так и не смог сделать для нее Вельд, в настоящие меха, в настоящие бриллианты, накормит самой свежей, самой качественной пищей, избавит от всяких хлопот. Но почему ей казалось теперь, что бриллианты и меха окажутся просто блестяшками, а качественная пища не полезет в горло? Может, она просто слишком горда? Может, все не так, как она подозревает, и он лепит из нее свою соратницу, новую Эвиту Перон, и у нее будет все, что и раньше – поклонение, лесть, благотворительность, имя – и то, чего у нее никогда не было – любимый человек рядом.
Она подумала, я могла бы научиться направлять его, незаметно, чутко, я бы помогла ему – он так недоверчив, так суров, у него не будет времени, чтобы заниматься людьми, чтобы завоевать не только их униженное поклонение, но и любовь. Новая роль, длинною в жизнь, новая роль – навеки и никаких передышек, и даже ее дети не узнают правды.
– И ты не запрешь меня? Не станешь прятать ото всех? Ты позволишь мне жить?
– Только если ты не начнешь делать глупостей, – он легко поцеловал ее в губы, и она почувствовала вкус крови. Конечно, если без глупостей. Если похоронит Аду Фрейн и будет играть как никогда, врать как никогда… Но подумать только, больше никаких сальных взглядов, больше никакой зависимости от капризов комиссий, только ее капризы, только сладкая зависимость от него. Не к этому ли она шла всю жизнь? Искала идеал, мужчину, к которому можно прильнуть, в чьей тени можно скрыться и расти, расцветая. Его кровь оказалась такой сладкой на вкус. Она готова была отдать ему все – и свою жизнь, и свои мечты, она все положила к его ногам, неужели ей станет жалко ее эфемерных успехов и каторжного труда? «Что значит имя?» – вспомнила. Женщины всегда так поступали, всегда, уходя из родительского дома в мужний – чего же ей еще?
– Ты выйдешь за меня замуж? – Прошептал он, обнимая ее, и короткое платье скользнуло на пол так, словно ни на чем не держалось, и Ада чувствовала, его пистолет в кобуре безопасно и возбуждающе уперся ей в бок, и солоноватые его губы зажгли ей кровь. И власть теперь окутывала их обоих облаком, которое невозможно увидеть, но которое так хорошо ощущается мельчайшими покалываниями на коже. И лед в нем таял, и теперь он верил ей, верил не только потому, что она доказала, что готова ради него на все, но и потому что принадлежала теперь только ему, ему одному. Он получил все, что только она могла отдать, и она прошептала очевидное:
– Да. Выйду. Да.
***
Ада видела сны.
Ей снился Тео. Она не попросила за Тео. Ей снились Давид и Голиаф, оба на коленях перед силой, превосходившей их. Оба были мертвы, и кровь, стекая, пачкала песок арены. Ей снилась ее мать, запертая в сумасшедшем доме. Ей снился отец, сидевший за письменным столом. Отец поднял голову.
– Маленький зайка, – сказал он. – На лесной опушке.
И ее губы складывались в улыбку, сами собой. Да-да, зайка на опушке. Зайка смотрел на нее глазами Давида, глазами Вельда, глазами непонятно за что оказавшегося в лагере безумного Марка, глазами Нелли, глазами Майи, глазами Арфова, ее собственными удивительными, серо-фиолетовыми глазами. Она увидела свое лицо – оно лежало на операционном столе, снятое с нее как маска, и кровь заливала все вокруг.
– Маленький зайка, – сказало лицо ее собственными губами. – Закрывает глазки, ушки, ушки, что там с ушками?
Она не могла вспомнить. Во сне – где все было так ясно – и не могла вспомнить. Она не могла вспомнить! Она. Не. Могла.
Паника накрыла ее, и Ада села на постели, глотая воздух широко раскрытым ртом – все еще своим ртом, губами, все еще своими губами, она помнила свой сон, помнила каждый момент, помнила вчерашний вечер, помнила Тео и отца, Вельда и Майю, помнила прочитанные в детстве книги, помнила свои разговоры с Ильей и свою любовь, больше придуманную, чем реальную к Давиду, помнила рассказ Германа, который сейчас спал рядом, уставший триумфатор, огромный дракон, который теперь возьмет ее под свое крыло – она помнила. Но забыла, забыла это глупое стихотворение Вельда, забыла – как и не было его никогда – забыла, хотя никогда и ничего не забывала.
Она встала и прошла в ванную – умыться, и замерла, глядя на свое лицо, на свое привычное прекрасное так незаметно стареющее лицо. Никогда не будет на нем настоящих морщин. И ладно, и пусть – навсегда уйдет в прошлое это лицо, зато ведь останется совершенным, останется навеки, и таким его запомнят…
Но они не будут помнить, подумала. Даже она начинает что-то забывать. Даже она с ее проклятием, с ее совершенной памятью сумела забыть предсмертную записку мужа, который умер только из-за того, что человек, в чьей постели она теперь спит, всегда получает то, что хочет. Кончики пальцев заметались по скулам, она смотрела на себя, и из широко раскрытых невозможного цвета глаз, из которых на Вельда смотрела вечность – на нее смотрел страх. Страх – она понимала, что это такое. Все напуганы, все всегда напуганы – и оттого идут за защитой, оттого ищут сильной руки, и может быть, это правильно. Как еще победить, как еще разобраться с собой, как еще выжить? Так может быть лучше всего, но они же начинают забывать – и сильная рука начинает забывать, чему и зачем она служит. И вот защитный панцирь превращается в клетку, выстроенный бастион – в тюрьму, а хранитель – в тюремщика и палача. Слишком кротка память. А раз так – она снова принялась изучать свое лицо – надо запоминать получше, покрепче. Запомнить себя, запомнить его, запомнить это утро, запомнить, как тихо, гладко вибрировал воздух в тишине, еще помнившей, как ее растерзала сирена.
Разве то, что превратило ее в шлюху, а его в палача – заслуживает того, чтобы существовать? Не она ли согласна была разрушить мир, чтобы только быть с ним? И им удалось, мир разрушен, он рядом и всегда будет рядом, а Аду Фрейн будут помнить, как погибшую в последнем, она могла поспорить, самом дерзком теракте. Ее сохранят как прекрасную легенду, и ее будут превозносить, пока не забудут – как забывают всех. А потом когда-нибудь, когда она умрет и Герман умрет, когда придет другое время – опишут в учебнике истории и прочитают детям, как погибла Ада Фрейн. Как Герман Бельке, новый диктатор наводил порядок, как ужесточились законы, и были аресты, казни, ссылки, были репрессии, было процветание, было безопасно, было без глупостей.
Она вышла из ванной, но не удержалась, обернулась вслед самой себе, посмотрела, как удаляется из зеркала ее обнаженное тело, которое так много людей знало до последней детали, ее тело, которое так часто отдавалось камере и тысячам, миллионам неизвестных ей глаз, что теперь как будто и не принадлежало ей. На свое обернутое к самой себе лицо, уходившее в сияние солнечного света, пробивавшееся сквозь штору. Лицо, уходившее в смерть, чтобы ее «я», ее личность, – не имя, не лицо, не успех, не карьера, а нечто другое, душа, может быть? – соединилось с мечтой.
Она думала – у меня пока даже девичьей фамилии нет, я сразу родилась замужем, принадлежу, прикреплена. Все всегда решали за меня, потому что я была так ленива, так глупа и так напугана, что не хотела ничего решать сама.
Она думала – это неправильно. Она думала – что делать? Но даже Тео, ее великолепный Тео, ее вестник, друг, ее фантазия, ее скрытое «я», а в его лице вся мировая культура, вся литература, все добро, которое она видела в жизни – и тот не дал ей ответ. Он не знал, и она не знала, и может быть, так и нужно – сильная рука, и она обопрется на эту руку, и они вместе встретят старость, фальшивую старость, если, конечно, она не надоест Герману раньше – но она сделала бы все, чтобы не надоесть.
Но – маленький зайка – вспомнила – что же там дальше? Ушки-опушки, дурацкие стишки.
Она медленно натянула платье на обнаженное тело – ничего больше здесь не было, хотя он обещал, что здесь будут вещи для бегства. Но ведь никуда бежать не надо, они же остаются здесь, они, он и она, его вещь, его собственность, его женщина. Он – вещь в себе, и она – его вещь.
На тумбочке призывно чернел пистолет, но она не поддалась, не коснулась оружия. Она остановилась возле постели, глядя на него, спящего, небеззащитного – он знал, что она стоит и смотрит, она вдруг поняла – он чувствует. Инстинкт, что никогда не дремлет в нем – не позволит ей делать глупостей. Но она не хотела ему зла, она вела себя тихо, только странно, и он не просыпался, а она вспомнила – его кровь на губах, и как он прикрыл ее от осколков взорванного им крематория, она вспомнила, как он сдерживался, проверяя ее, не веря ни в ее любовь, ни в ее преданность, она подумала – кровопийца, который всю собственную кровь отдал бы, только бы был мир, закон и порядок, даже если этот порядок – пустота перепуганного города, залитого красным цветом – кровью убитых, невинных и виновных, преступников, шлюх, убийц, детей, влюбленных женщин, святых. Даже если его порядок – это смерть, он будет стараться привести все к совершенству, он и ее приведет, ее почти идеальное лицо он сделает идеальным абсолютно. Он будет защищать и охранять – но может быть, давно не от кого защищать, может быть, давно никого не надо охранять. Может быть, нет давно никакой войны, а есть только его паранойя, его страх, его собственный страх оказаться ненужным – ей ли, стране ли.
Она подумала – так нельзя, так неправильно – а правильно как? Но не было ответа. И только Тео в глубине ее сознания, может быть, и придуманный ею, может быть, и несуществующий в реальности, напомнил – правда, милая моя.
Нет, не правда, подумала. Правда – слишком тяжелая ноша для обычного человека, для нее, самой обычной женщины, которой так не повезло быть любимой. Правдой не спасешь, не согреешь. Искренность – это еще не правда, но уже и не ложь. Искренность ей по плечу, вот о чем говорил Тео, вот что она говорила самой себе.
И Тео, Тео, так ли важно, существовал ли он в реальности ведь, если привиделся ей, все равно жил – в ней жил, был ею. И стихи Вельдом написанные, ею самой написанные, какая разница, жили – на веки вечные – в ее памяти. Пока она не забыла – хвостиком не машет, или нет?
Герман не проснулся – он устал, и во сне, вероятно, он видел ее – любимую, или страну, которую покорил, может быть, даже видел себя ребенком – ведь и он когда-то был ребенком, ведь они все всего лишь люди. Ада вернулась в ванную, накрасилась – сумочка лежала рядом. Нарисовала снова, в последний раз, свое почти совершенное лицо, словно надела маску, словно нанесла грим перед выходом на сцену.
Вернулась в комнату. Он все спал.
– Я не могу. Прости меня, – одними губами сказала она. – Я не могу, милый, любимый. Это для меня слишком. Прости.
Она вышла бесшумно – похожая на себя больше, чем была когда-либо, и пошла пешком, здороваясь с каждым человеком, который попадался ей на пути. Они стояли кучками, у подъезда, на улице за углом, встревоженно обсуждали вчерашний теракт – слишком долго, всю ночь просидели взаперти и теперь поторопились выйти на солнечный свет – им было страшно, она видела, но в одиночку в одинаковых квартирах, конечно же, страшнее. Вышли не все, но те, кому не сиделось на месте, – она чувствовала – ее публика сегодня, самая благодарная публика.
И она лучезарно улыбнулась – как с плакатов, которые уже начинали развешивать по всему городу, плакатов в траурной рамке, – она улыбнулась расклейщику афиш, и плакаты выпали у него из рук, рассыпались к ее ногам. Она улыбнулась женщинам, вопреки всем терактам спешившим на рынок, потому что дети, которых у нее не будет, всегда голодны, и нескольким мужчинам в рабочей одежде, которые торопились совершить свой ежедневный трудовой подвиг. Как демократично, когда звезда может вот так пройти по улице, ничего не боясь, всем улыбаясь, она ведь никогда об этом раньше не задумывалась – но сейчас она была больше, чем актриса, а они больше, чем зрители. Утро настало, и земля продолжала вертеться, и все еще она коптила небо, вопреки тому, что твердили им с утра телевизоры, и люди смотрели на нее, такие разные люди – и так восхитительно по-разному реагировали. Кто-то сообразил первым, она почувствовала кожей, куда повернуться, чтобы выйти на фотографиях живой, настоящей, молодящейся, самой собой – и чтобы никаких сомнений. Аде Фрейн удавалось в жизни немногое, но она всегда умела выходить на фотографиях так, как нужно.
И она шла, и здоровалась, подставляя руки, глаза, улыбку, щеки, линию шеи, малозаметную родинку на виске под вспышки фотоаппаратов, под блеск глаз. И думала, думала – маленький зайка – может быть, они запомнят этот день, когда им так грубо будут лгать в глаза из официальных источников – мелочь, но вдруг они запомнят ее, как она шла – и расскажут другим, и покажут фотографии. И разошлют их своим друзьям, если не перекрыли интернет в интересах безопасности, и будут показывать на экранах телефонов, а когда телефоны экстренно перезагрузят – станут давать друг другу распечатки, с датой, разумеется, с датой и точным временем съемки, и они станут шептаться, недоумевая, зачем надо было лгать, что она умерла, когда она была еще жива. И может быть, – маленький зайка на лесной опушке, вспомнила, закрывает глазки, прижимает ушки – может, эта правда, маленькая, смешная правда, зайка из стихотворения Вельда, будет жить немного дольше, чем живут правды большие, может быть, она даже заразит кого-нибудь, ведь все говорят, что люди ее любят, хотя она никогда не чувствовала их любви, но может быть, она была слепа. Может, им всем не плевать на нее, и они расскажут, и, узнав, что им лгали в малом, спросят себя – а не лгут ли и в большом, и может быть, правда маленькая вырастет в большую, может быть, она остановит Германа. Ведь нельзя защитить того, кто не просит защиты, нельзя подчинить того, кто не боится. Нельзя заставить верить, это тот выбор, который делает душа, и часто – раз и навсегда.
Может, они сумеют не бояться, как сумела в итоге – пусть не сразу, через кровь, через слезы, через поруганную любовь, через Бога Теодора и стихи покойного мужа, через безумие старого врага, через опеку государственного карателя, через собственный эгоизм, – она. Маленький зайка на лесной опушке закрывает глазки, прижимает ушки, хвостиком не вертит, лапками не топчет… Или наоборот? Глагольные рифмы, Вельд, стыд и срам!
Она рассмеялась – и люди улыбнулись ей, и кто-то подошел сказать, что счастлив, что она в порядке, что это сообщение о ее гибели так всех потрясло, а потом подошел другой, но она не могла остаться, даже когда ее начала обступать толпа, хотя в толпе тех, кто был счастлив видеть ее, Аде сделалось теплее, слаще. Но нельзя останавливаться, подумала – они уже видели меня, но должны увидеть и другие, и она пошла дальше, и кое-кто пошел за ней, держась на почтительном расстоянии, и она подумала – это они, они, они будут помнить – другие могут забыть, но эти запомнят, и будут вспоминать каждый раз, как увидят ее фотографию в траурной рамке.
По долине смерти несет свои тихие воды сладкая, страшная река забвения, и так хочется напиться из нее, так хочется бесконечного счастья, но есть что-то еще, всегда есть что-то еще. А Ада знала, есть у Леты сестрица-соперница, Мнемосина, чьи воды горьки, чьи воды беспокойны, но пившие из них становятся пророками, символами, потому что только через боль и может родиться искусство, потому что только через боль и может родиться мир. Воды ее горьки, но они – жизнь. Девяти прекрасным женщинам стала матерью эта река, а сама она, глупая девочка Ада, безделушка, должно быть, оказалась десятой, приемной дочерью. Упала в эту реку еще до рождения, наглоталась воды, а потом, родившись, боролась со своим даром, ошибалась, думая, что забвение – это радость. Но нет – теперь видела – радость несла она сама, несла тем, кто оказался рядом с ней, кто пьет сейчас из ее невозможного цвета глаз горькие воды памяти. И теперь, что бы с ней ни случилось, эти люди тоже станут страдать и бороться, но, главное, никогда не смогут забыть.
И может быть, когда маленькая правда станет большой, и они научатся не бояться говорить эту маленькую правду, когда научатся помнить, может быть, тогда что-то изменится, может, мир станет чуточку лучше… нет, не лучше, улыбнулся ей мысленно Тео, скорее наоборот, злее, страшнее, опаснее, – но, во всяком случае, мир перестанет быть прежним, и это хорошо, ведь не для болота были они рождены, а для искренности. Искренность ведь каждому, Тео прав, каждому по плечу.
Маленький зайка
На лесной опушке
Закрывает глазки,
Прижимает ушки,
Хвостиком не вертит,
Лапками не топчет -
Никому не верит,
Ничего не хочет.
– Вспомнила, я все-таки вспомнила, как же это нелепо, – она смеялась и смеялась, а ее фотографировали и провожали, и она сияла. Сияла, даже когда рядом с ней поравнялась серая машина службы охраны и несколько людей с безучастными лицами вышли ей навстречу, обступили ее.
– Глупое стихотворение, но вот что важно. Меня зовут Ада Фрейн, и я люблю вас – крикнула она в толпу замерших людей. – Я никогда вас не забуду, клянусь, пока я живу – буду помнить вас.
Многие из прохожих уже пытались спрятаться за спины других, но некоторые стояли прямо и смотрели на нее, некоторые осмеливались даже снимать происходящее.
– И вы помните меня, прошу, потому что, пока вы помните, вы живы – и я жива.
А потом с грохотом, сотрясшим мир, закрылась дверца машины, и Ада рассмеялась до боли в легких. Ее сад расцветал миллионами огромных цветов, экзотических, дивных цветов, ее сад пах райскими кущами, ее сад, наконец, обрел свою завершенность. Она поняла, и так просто это было, отчего же она не думала об этом раньше? Ее сад – это память, ее и о ней, а память – это единственное возможное бессмертие.
Никогда в жизни Аде Фрейн не было так смешно.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
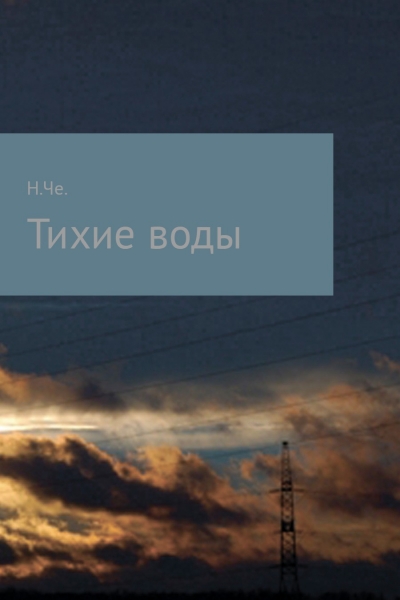

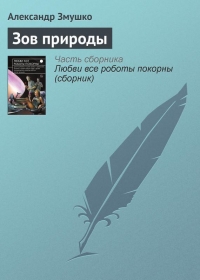





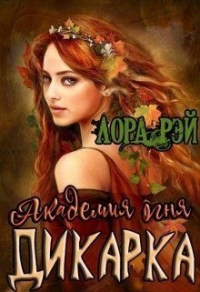



Комментарии к книге «Тихие воды», Ника Че
Всего 0 комментариев