Неполиткорректно. Антифеминистски. Квазиэстетно
Молодая женщина, чем-то похожая на розовую пышную устрицу, неторопливо шагает по Невскому Проспекту, Твербулю, Броду, Променаду — где угодно и в какой угодно сезон. Ее красота явно относится к разряду вневременных: будучи однажды замеченной, она сразу начинает выпирать изо всех щелей. Цветущий жир под нежной, буквально светящейся розоватой кожей, белокурые кудряшки падают на меховой воротник недлинного пальто, небрежно распахнутого спереди, так что узкий длинный шарф свисает до колен, позволяя увидеть лишь кружева белой блузки «в облипочку». Бабки таких девушек любили носить похожее сразу после войны, когда убыль боеспособного мужского населения давала себя знать с особенной силой. Джинсы того благословенного размера, примеряя который, неизбежно находишь в кармане твердый лакированный прямоугольничек с запиской от фирмы: «Дорогая леди! Если эти джинсы Вам впору, может быть, Вам стоит вообще отказаться от ношения брюк?». В нижнем течении каждая из элегантно драных штанин впадает в потертый ковбойский сапожок, но взгляд прохожего уже туда не опускается. Тело там, где оно не вполне скрыто немудреной одежкой, точно слеплено из молока и крови, глаза огромны и равнодушны, как у коровы, губы невелики и ярки. Краски исключительно и принципиально естественные.
Несмотря на полную неактуальность рубенсовского типа красоты в наше бурное время, на девушку «западают» многие. Вот двое томных бледнолицых юнцов пытаются к ней подстроиться и получают брошенную с ленцой реплику:
— Цыц, комаришки! Мою жировую прослойку вам, хилякам, и не прокусить.
— Сразу видно, киска, что ты не любишь человечество, — говорит один.
— Да люблю я его, изо всех сил люблю, только пусть оно держится от меня подальше! — парирует она с неподдельным добродушием.
Впрочем, мешают ей несильно. По тому, как она держится, как поводит глазами поверх голов, чувствуется, что она вся в поиске, неторопливом, но упорном. Да, она отлично знает, кто ей нужен. Они выделяются на фоне прочих, как красная нить, вплетенная в пеньковую веревку, словно лунное серебро, что плещется в темных волнах заросшего пруда.
Девушка продвигается едва ли не поперек основного течения — странно, ей почти не мешают плечи и зады протагонистов — и теперь оказывается в районе, где расположено большинство иностранных представительств и по вечерам тусуется народ почище.
Снова ее глаза ищут, почти незаметно для других, желанный образ горит в ее мозгу как алая звезда первой величины. И вот ее карие глаза молодой буйволицы наконец фокусируются на Нем.
Высокий, поджарый негр лет пятидесяти, явно натуральный африканец, а не афроам, возможно, из Сенегала или Кении (кикуйю, масаи? Ей важно и это.) Седая курчавая шевелюра (не дредки, ни в коем случае!), короткая бородка и усы, отчасти прячущие под собой рот на удивление красивой формы. Длинные пальцы с ухоженными ногтями — как любят говорить, руки хирурга или музыканта, но у тех отроду не бывает ничего подобного. Нос чуть расплюснут, зато влажно сияющие глаза прекрасны. Кажется, что весь он, от аккуратно подстриженных кончиков волос до носков ботинок из крокодиловой кожи, не рожден смертной матерью, но был однажды и навсегда отлит в форме, которую сразу после того разбили, не желая плодить реплики.
Девушка знает, что именно такие импозантные джентльмены темных кровей легче и неосознанней всего ловятся на «роскошное белое мясо». Знает она и как повести себя, чтобы ее чары подействовали безотказно: слегка повести плечом, будто ворот щекочет шею, колыхнуть обширным задом практически незаметно для всех прочих и даже для потенциальной добычи. Сделать вид, что тебе нет дела ни до кого из смертных.
Прекрасно. Он в пути. Он понял.
В номер, который снял он, приносят ужин. Девушка, повесив свою трепаную «пальтушу» рядом с его стильным пиджаком, садится за столик, на котором одиноко возвышается бутыль темно-красного вина. Ее спутник с трудом вынул из горлышка длинную пробку, однако самого вина почти не трогает — капля на дне рюмки — и нехотя ковыряется вилкой в тарелке. Девушка не пьет вообще, отговариваясь невнятной чепухой — «вину типа подышать надо», — зато ест все подряд с азартом и увлеченностью молодого животного. Чернокожий пожирает одну ее — глазами. Незадолго до того он деликатно спросил, во сколько ему обойдется приключение, и дама без обиняков указала сумму, вдвое большую той, к какой он привык на Броде. Впрочем, он нисколько не протестует, будто деньги для него — нечто символическое. Достает из внутреннего кармана куртки пачку, перехваченную еще банковской бандеролью с цифрами, и демонстративно кладет в наружный карман ее верхней одежды.
— Как мне тебя звать? — спрашивает он. Акцент у него какой-то странный, будто во рту имеется что-то лишнее, хотя очень даже приятный.
— Леночка я. Елена Фурман.
— Леношка. Как интересно. Книга про Чапая?
— Да не, тот был Фурманов. Мы родом из Фландрии. Немецкая Слобода, слыхал? В нашем роду каждая старшая дочка берет полное имя основательницы. Даже выйдя замуж, оставляет за собой девичью кликуху.
Ему это вовсе неинтересно, однако девушка тут же спрашивает, явно вымогая ответ на свою откровенность:
— А ты кто?
— Я от семени великого короля Чаки, а больше тебе не нужно.
— Ой! Так ты Зулу? Чертов черный голодранец, ты прорвал британский строй!
Она проговаривает стих на языке Киплинга, ее спутник восторженно смеется:
— Это же про Судан.
— Так зато как звучит классно! И про воинскую доблесть разве вранье? Инкоози Тшака.
Ему кажется, что девушка хочет спросить его о чем-то немного опасном, самую каплю — стыдном. Но нет, пожалуй, это его обычная мнительность.
— Знаешь, я тебя буду звать «Шоколадный Папа». Мое любимое мороженое, — говорит она, расправившись с последней крошкой еды. — Нет, это вроде как тупо. Папа Шоколад. Во как! «Папа Шоколад, где оставил ты свой верный ассегай?»
Эти последние слова кажутся ему вульгарными почти до шока. Он как-то вдруг оказывается рядом с женщиной на широкой, застеленной бледно-желтым шелком кровати, Елена вслух удивляется, как умело и быстро ее любовник управляется с ее пуговками, кнопками, шнурками и зипперами, одновременно высвобождаясь из своих одежд. Мало кто из мужчин умеет делать это так изящно.
Теперь она у него на коленях, ее ноги и руки чувствуют прохладу и скользкость его плеч, боков, бедер, всей кожи, похожей на змеиную, такая большая сильная змея, похожая на реку. Змей она отроду не боится, никаких. Бабушка часто водила ее в террарий, где работала. Жаль, с ее уходом никто не даст полюбоваться вблизи несравненными красками, насладиться сухой прохладой чешуйчатой кожи…
Его поднятое орудие в самом деле точно короткое мощное копье, со стороны кажется, что ей не вместить его в себя. Однако она легко нанизывает себя на острие и начинает двигаться — вниз мягко, вверх — обхватывая его член, как тисками, тугим кольцом лонных мышц, и каждый раз он издает сквозь стиснутые губы утробный рык почти нестерпимой боли. Со стороны может показаться странным, что они не целуются, только слегка соприкасаются кончиками носов. Но вот они кончают — сливая себя в один долгий стон. Его семя в ней одновременно жжет и холодит. Кажется, что мужчина, наконец, решает поцеловать свою путанку в знак благодарности: он приближает свое лицо к ее рту, приоткрывает губы, и Елена, наконец, видит то, что хотела. Два алмазно сверкающих узких клыка на фоне крупных белоснежных зубов.
…Ранним утром, еще до рассвета, девушка просыпается в номере одна, пытается поднять голову с покрывала, соскальзывает на пол босыми ногами. Тут же ее круто поводит в сторону. Она едва успевает добежать до ванной и стать на колени, как изысканный ужин на двоих стремительным потоком вырывается из желудка и громко плюхает в воду на дне унитаза. В обоих висках дружно стреляет, шею опоясывает резкая боль.
— Жадность фраера сгубила, — ворчит она про себя. — Или просто токсикоз?
Потом она плетется к двери — открыта, но так ловко, что кажется запертой изнутри на вертушку. Лезет под душ и долго, с наслаждением моется. Смотрит в зеркало: засосы на шее уже пошли желтизной, однако с левой стороны красуется дряблая сине-красная гематома. Производственная травма, нечего на зеркало пенять, коли физию перекосило. Не торопясь надевает свои одежки, рассеянные по всему номеру, попутно оценивая обстановку. Ну ясен пень: попоище на столе, кьянти, что явно стоило кое-кому лихих бабок, почти целиком вытекло на скатерть, тарелки и объедки сдвинуты в общую груду. Покрывала, верхнее и более светлое нижнее, сбиты комком и все в кровавых пятнах, будто резали поросенка или раскупоривали девственницу. Но иных загрязнений вроде не видать.
— Папочка Шоколад был непозволительно беспечен, — бормочет она, — в отличие от меня самой. «Чтобы протекла я, не бывало». Почти Бродский, ага.
Девушка думает, не уворовать ли улику, чтобы сжечь, но, по-видимому, папочка знал лучше. Ее так и тянет сложить тут же, на смятых шелках, фигуру из двух скрещенных, как мечи, презервативов, пачку которых она с недавнего времени всегда носит в кармане брюк, но она решает, что это явный перебор. Знак любовного поединка и сексуальной победы тут не катит. «С большого бодуна, сэры», — тихо ворчит она, застегивая пальто. Поднимает воротник и укутывается шарфом почти до глаз. В самую последнюю минуту спохватывается и засовывает руку в карман, вытаскивая на свет божий теплую денежную буханку. «Какой благородный, побрезговал свою мурку-жмурку обобрать, — думает вслух, еще тише, чем говорила, и перепрятывает добычу понадежней. — Хотя, может статься, он не думал меня убивать, просто крепко попользовался? Вот бы самого спросить».
Так, теперь ищем ключ от номера, если наш кровный папочка в оконце не забросил или в кармашке не унес по пьяни. Не должен бы, там набалдашник побольше, чем у него самого. Потом раз вышел один — значит, меня официально внутри оставил, не под замком же?
Ключ, по счастью, находится быстро, у нее прямо нюх на подобные вещи. На карнизе за наполовину задернутой шторой. Поворачивая кольцо на пальце, девушка спускается вниз, к портье, — невзрачная мышка, незаметная взъерошенная птаха.
Портье, принимая брелок в виде груши и выдавая открепительный талон, с удивлением говорит:
— Господин Чак заплатил за три дня вперед, сказав, что вы слегка занемогли и решили еще сколько-то побыть в номере. Нам трудно будет сейчас произвести окончательный расчет.
— Да Господь с вами, — отвечает Елена. — Оставьте в пользу голодающих африканских детишек.
На улице она вздыхает свободней. Ее губы почти машинально бормочут нечто похожее на молитву, однако тот, кто вслушался в слова, был бы невероятно удивлен ее содержанием.
«Первым делом купить беременный тест, напрасная трата денег, но уж ладно, за овуляцию куда дороже встало. А уж потом, Господи Боже мой, я буду такой умницей: стану глотать метаболики и иммунодепрессанты горстями, каждый день сжирать по этому мерзкому дорогущему стейку с кровью величиной в лапоть, благо карманной зеленой капусты сделалось немеряно, и по авокадо с вареным яйцом внутри, и есть инжир для сладости дыхания, и чернику для зоркости глаз, и лук-батун для крепости костей, и смотреть только на хорошие лица, и каждый вечер перечитывать финал „Ребенка Розмари“, а „Русскую красавицу“ Виктора Ерофеева сдам на макулатуру. Видано ли дело — с ребенком внутри вешаться, будь он хоть от кого! Только ты дай мне еще пожить, Господи: девять месяцев, ну восемь хотя бы, ну ладно, семь и ни днем меньше, это Ты уж мне верно задолжал. Подари мстителя матери моей и мне самой!»
Молодая женщина почти никуда не выходит за пределы засыпанного снегом сада, что окружает потаенный дом в пригороде. Ест, спит, бродит под яблонями, заходит в местные лавчонки. Как, то бишь, их называют, — супергипермаркет. Раз в неделю отметилась, увезла все нужное в ручной колесанке — и порядок. Больше никуда ни ногой. В женскую консультацию нельзя ни в коем случае, на платное УЗИ — почти так же опасно; нужно дотянуть до самого края и уж тогда вызвать по телефону или мобильнику неотложную помощь или полицейских, кажется, они сейчас не хуже забугорных копов роды умеют принять.
Женщина похожа теперь на выброшенную из солёной воды медузу, которую вот-вот расплавит дневной жар — только ее солнце жжет изнутри. Но не так уж редко оно кажется ей прохладной рыбкой посреди теплых вод, от которой кругами расходится неземное спокойствие. В такие моменты она любит дотрагиваться до старой шубки, которая была на ней в день ее главной охоты: из складок пальтуши, кажется ей, еще не выветрились остатки тогдашнего глупого счастья.
Дитя в ней растёт: малёк в аквариуме, кистепёрая рыбка в пруду, бьет хвостом, плещет ластами, играет, как зверь левиафан в окиян-море.
А вокруг стоит лес. Осенний лес. Зимний лес. Живая крепость вокруг старинного краснокаменного городка. Вокруг двухэтажных особнячков центральной площади, крепких столетних изб с белыми вырезными занавесочками, с арками над входом во внутренний двор, высоченных, как башни, старообрядческих церквей и колоколен, вокруг цепи глухих когда-то лесных монастырей, куда раньше ссылали за провинности, а теперь валом валят паломники и туристы.
За этой двойной стеной Елена чувствует себя почти в безопасности.
Нет, стена даже тройная. Потому что — дом.
Во времена царя Алексея Михайловича, который чуть приоткрыл границы своей земли, ее предок тайно купил у здешнего боярина поляну в калужских лесах (как это тогда звалось — пожалованье, держание? Странные слова) и поставил палаты: два высоких этажа над землей, три — под нею. Палаты сгорели, как усадьба поэта Блока, пришлось новые ставить, куда меньше; однако подвалы сохранились в неприкосновенности, а там было самое главное. Туда она если и спускается, чтобы пополнить запасы, то с опаской: лестницы крутые, своего света нет, приходится свечной шандал или ксеноновую лампу нести в руке.
А вот их, своих извечных недругов, Елена вовсе не боится, потому что они ей видны — на самой границе лесов горят волчьи звезды, их много, но это как карта звездного неба, развернутая проекция ближних и дальних светил. Когда звезда падает или приближается, это сразу меняет всю картину.
В роду все мужчины — купцы, землепроходцы, охотники. Стража. Елена улыбается: похоже на сицилийские семьи за границей, где тоже все начиналось с этого. Крестные отцы больших семейств. Однажды местный упырь покусился на чью-то жёнку, она истаяла, затем померла в родах, но сынок вырос — диво дивное, чудо чудное, уж байстрюком-то его ввек не дразнивали. С того и пошло. Лучшая защита — нападение, лучшее упреждение — искать врага по всему широкому свету, но если тебя поманили дальние дороги…
Елена невольно сбивается на старое наречие — именно на нем слушала она в детстве эти россказни.
Дороги забирали себе мужчин. Не всех — только тех, в ком проявлялась бродяжья, ночная кровь. Время от времени мужчины возвращались, привозя удивительные вещи на радость своим краткосрочным потомкам, частью растрачивая, но опуская самое лучшее в подвалы. Женщины искали другую добычу — семя защитников нуждалось в том, чтобы его время от времени восполнять и освежать. Они были осторожны, знали привычки Врага Рода еще лучше своих братьев, отцов и дядюшек.
Елена улыбается: как странно иметь в семье долгоживущих наравне с существующими краткий земной срок! Как печально, когда прапрадед хоронит прадеда и его правнучку и на правах младшего брата последним вынянчивает ее новорожденного потомка!
Земные звезды укрупняются, некоторые сияют как полные луны — но приблизиться не смеют. Их держит не только страх: «ветхий дед» предупреждал, что по сути своей вампиры его не ведают, тем более лучшие из них, самый желанный предмет нашей женской охоты. Вампира надо к себе пригласить. И даже если он будет настолько хитер, что опутает тебя, природную чаровницу, своими мысленными сетями, остается еще последний рубеж. Стена заклятий, которые наводили на усадьбу твои старшие, поколение за поколением, умершие и те, кто еще жив в мировом рассеянии. Диаспора дампиров, чья историческая родина — вот как раз здесь. На крохотном жилом пятачке, куда никто не посмеет принести зло. Сюда можно прийти только с добром и ради добра, зачем-то прибавил дедусь, когда уходил навсегда.
Нет, хорошенькая альтернатива. Если будешь скитаться — тебя затравят, если закрепишься на месте — осадят и будут стягивать петлю. Но Елене и не нужно всего времени.
Однажды, протащив ночью в теплую уборную свой живой надувной бассейн, женщина против своей воли напрягается, и в белую чашу обильно изливается розовая, чуть пенистая жидкость. В тот же момент низ лона пронзает боль, как будто раковину её внутренней устрицы вскрывают специальным острым ножом. По внутренней стороне пухлого бедра ветвится струйка густой пахучей крови и всё расширяется.
Женщина в испуге понимает, что позвать на помощь уже не сможет. Она еле успевает заволочь своё огрузневшее тело в гостиную и упасть рядом с широким парадным диваном. Ребенок яростно копошится в чреве, боль от сухих схваток раздирает плоть, как четвёрка привязанных к рукам и ногам ломовых жеребцов. Сознание отключается прежде, чем роженица может сообразить, что сегодня, час в час, истекает срок заключенного с нею безмолвного договора.
Вдруг нечто перелетает через трехметровую ограду, как шаровая молния. Тяжелая, на ночь закрытая на замки и цепи входная дверь с лязгом распахивается, но никаких шагов не слыхать. Только живые стальные обручи со спины охватывают тело женщины под самой грудью, приподнимают и резко ставят на корточки, отчего схватки неимоверно усиливаются, вмиг переходя в потуги, такие бурные, что выворачивается наружу весь тонкий кишечник, вываливается на пол, и там, среди этого синевато-красного месива и материнских экскрементов, нечто живое брыкается и отчаянно верещит, прочищая крошечные легкие.
Женщина окончательно теряет всякое соображение о происходящем и впадает в счастливое беспамятство.
Безымянная женщина снова приходит в себя и с неподдельным ужасом чувствует, что лежит хоть и не на полу, а уже на диване, — но под нею вместо простыни постелена бабкина еще, антикварная скатерть из подкрахмаленной узорной камки. Сверху родильница укрыта двумя тончайшими платками из козьего пуха — в серебряное обручальное колечко, снятое с пальца, мастерица напоказ продела не один из них, а оба сразу. Погром наследства предков, на этом, очевидно, не закончился: комод, в котором хранились похищенные раритеты, так и стоит раскрытый, а в воздухе пахнет воскурением древнеегипетских бальзамических смол, которое дед привез из наполеоновского похода к пирамидам.
Женщина поворачивает голову, шевелится. Под ней сухо, в ней самой ничего не болит, только тело стало похоже на плотный студень, залитый в тонкую гибкую форму. Поворачивает голову туда, где слышит некие странные тихие звуки.
Папа Шоколад во всем великолепии своей незаурядной персоны возвышается там надо всем сущим. В правой руке с длинными наманикюренными ногтями он держит курящуюся пенковую трубку, на сгибе левой обретается нечто похожее на третью переднюю конечность, перебинтованную точно так, как показано на медицинском плакате: прямой виток, наперекрест, снова прямо и так далее до самого конца, где виднеется как бы крошечный смуглый кулачок.
— Как ты посмел… как смог войти без разрешения? — спрашивает…Елена.
— Меня позвала кровь, — Чака пожимает плечами, будто сам удивляясь несуразности того, что случилось. — Очень громко позвала.
— Что это у тебя? — спрашивает она снова.
— Моя здешняя приятельница, что здесь прибиралась после твоего поноса и которую я попросил отыскать в ваших вековых наслоениях нечто адекватное пелёнкам, уверила, что лента шириной в мою ладонь и длиной в десять метров вполне может послужить нашей общей цели.
— Свивальник! — ее ужасу вообще нет предела. — То ж чистая смирительная рубаха. Она чего, и доктора Аршавского в своей глуши не читала?
Ее подсознание, однако, замечает, что за прошедшие семь месяцев господин Чак неплохо усовершенствовался в языке ее родной страны. Только уж больно архаичные периоды заворачивает.
— Крошечная зловредная стерва уродилась вся в тебя, — говорит он, флегматично посасывая чубук. — В свободном виде извивалась и вопила так, что со стен падали полки, вода в моечном корыте расплескивалась до потолка, а мою добрую знакомую еле живой увели под руки твои соседи. Которые, надо думать, вначале сбежались на звон пожарного колокола. Кстати, твою плаценту пришлось отдать подруге, чтобы съела в сыром виде для поправки нервов.
— Это не корыто, а крестильная купель семнадцатого века, — угрюмо поясняет Елена. — Когда мы всей семьей перешли в православие. Потом церковь пожгли, ну и…
— Крестильная? Так стало быть, мы эту новую Леношку посвятили в наследницы по всем правилам. Здесь же ваше родовое гнездо, э?
— Так это не сын? — наконец доходит до нее. — Дай её мне сейчас же!
— Она, может быть, и вашего фламандского извода, но не твоя. Моё семя, мое почти невероятное творение, и теперь только мои друзья займутся ее воспитанием. Пускай из нее вырастет коварная убийца, хладнокровная похитительница живой крови, но только не наглая воровка и записная лгунья, подобная тебе.
— Я не воровала, а забрала от тебя то, что тебе самому было без надобности. И не лгала, а просто говорила не всю правду. Разве правда была тебе нужна от меня в тот осенний вечер? Да, кстати, не дыши своей родной дочери в лицо табаком.
Он выпрямляется, кладет туго запеленатую куколку в ящик многострадального комода, который загодя опростали и — Елена видит — застелили непромокаемой клеенкой и мягкими тряпками.
— Может быть, я чего-то не понял, но даже человеческому младенцу полагается так называемое приданое на зубок. Ничего похожего в доме мы не увидели. А как вскармливать маленького дампира, ты и подавно не знаешь. Слышала, что молоко им дают смешанным с сырой кровью скота?
— Ну да, разумеется, как масаям, — женщина сбрасывает с себя оренбургское народное творчество и садится посреди скатерти, обхватив колени руками. От Рубенса в ней мало чего осталось: широкие плечи, дивно откованные груди, на одной из которых повисла крупная нежно-розовая жемчужина, плоский, как у всех недавних родильниц, живот, крепкое бабское мясо, которое в одночасье подменило собой нежные телеса земной богини, — всё заставляет припомнить величавых кустодиевских купчих.
Мужчина и женщина меряются взглядами.
— Я знаю, как вырастить дампира, — говорит она чётко. — Это было нашим главным женским ремеслом. До полугода кормить молоком и давать сосать тонко нарезанное мясо. До года — кормить провернутым сырым фаршем и чуть подогретой кетовой строганиной. До четырех лет стараться добавлять побольше блюд классической японской и чукотской кухни — иначе всю жизнь будет сказываться нехватка йода и витамина C. А потом он ни в чем не будет внешне отличаться от обычных людей.
Африканец подходит ближе, покачивая в руке погасшую трубку.
— А вот ты, Чака и сын Чаки, знаешь ли ты, чем дампир, который может свободно бродить под солнцем и есть пищу людей, более всего превосходит Пленников Ночи? Он мало живет. Иной раз до трехсот лет едва дотягивает.
— И что с того? — спрашивает он слегка угасшим голосом.
— Поэтому дампиру не нужно дожидаться особо удачного расположения звёзд, чтобы размножиться. Не то что вам. Женщина-дампир умеет вытянуть из человека — но особенно из вашего брата кровососа — любую из телесных жидкостей на выбор, причем ровно столько, сколько ей надо. У нее почти никогда не бывает осечки.
— И она не умирает, родив нашего ребенка, — медленно продолжает Чака.
— Я-то честно думала, что умру, — отвечает она. — Как из-за меня — моя мама. У нас в роду не одна я была такая отчаянная.
Трубка летит на пол и катится по нему.
— Ты хотел иметь дочь? — продолжает Елена. — Вот и бери дампира в квадрате. В кубе. В любой представимой степени.
Оба старательно держат паузу.
— Теперь ты меня убьешь? — говорит женщина.
Внезапно Чака смеется — хрипловато, завораживающе.
— Ах, Хиросима-любовь-моя, с тобой, я вижу, только атомная бомба может покончить. Прямым попаданием.
— Маленькая толстушка. Большой толстячок, — женщина мягким движением отворачивается от него, в голосе явственно слышится мурлыканье. — Может быть, нам стоит подождать этого апокалипсиса вместе?
Настает тишина, такая полная, будто мир уже находится за пределами абсолютного нуля. Даже младенец вроде бы задержал дыхание — или, может быть, ему оно по-настоящему и не нужно?
И тут Елена из рода Фоурмен чувствует, как острые вампирьи клыки любовно вонзаются в ее мягкий загривок.
© Copyright Мудрая Татьяна Алексеевна (Chrosvita@yandex.ru), 14/02/2010. Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg


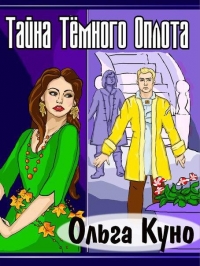








Комментарии к книге «Леночка Фурман на тропе войны», Татьяна Алексеевна Мудрая
Всего 0 комментариев