Андрей Ливадный. Восход Ганимеда.
Пролог.
Космический корабль, парящий на фоне бледной, серо-голубоватой облачности, издали казался похожим на гигантское, тусклое веретено, но только издали.
По мере приближения восприятие веретенообразной формы начинало распадаться, – слишком много деталей рукотворной конструкции бросалось в глаза, и все они казались внушительными, значимыми и немного непостижимыми.
Трудно поверить, что это сделали люди, а когда осознание данного факта все же приходит, то вместе с ним просыпается гордость.
Представьте себе матово-черный цилиндр, с чуть серебрящейся, тусклой поверхностью, диаметр которого превышает километр, а совокупная длина, вместе с полусферическими выступами на торцах, равняется пяти тысячам метров, и вы получите для себя представление о той основе , на которой монтировались множественные дополнительные секции транссистемного космического корабля «Альфа».
Этих дополнительных секций было ровно пятнадцать, и они образовывали утолщение того самого «веретена», опоясывая среднюю часть цилиндра, словно патронташ охотника, туго набитый гильзами.
Каждая такая «гильза» в миниатюре повторяла центральный стержень «Альфы».
Поверх монолитной конструкции из шестнадцати цилиндров и двух полусфер располагалось множество более мелких надстроек различных корабельных служб; в некоторых местах тонкой серебристой щетиной возвышался целый лес антенн, часть из которых была вынесена далеко в космос на специальных опорных штангах, – и все это жило своей размеренной, загадочной жизнью. Помимо вращения всего корабля вокруг оси главного цилиндра, независимо от него вращались и все пятнадцать опоясывающих центральную часть «Альфы» грузопассажирских секций, на обшивке которых то и дело мерно вспыхивали голубые и красные прожектора, обозначая габариты конструкций, лениво поворачивались вогнутые плоскости параболических антенн систем навигации, иногда из неприметных диафрагменных отверстий в космос вырывались крохотные облачка пара, которые тут же замерзали, превращаясь в кристаллики льда, – казалось, что огромный корабль дышит, медленно и ровно, как чудовищных размеров животное, что прилегло отдохнуть подле серо-голубоватого шарика планеты…
Как ни странно, но на борту столь внушительной конструкции находилось очень мало людей, которые занимались обслуживанием и пилотированием «Альфы».
Штатный экипаж бодрствующей смены состоял из двадцати человек, и столько же находились в резерве, погруженные в низкотемпературный сон.
Именно поэтому многокилометровые секции космического корабля во время долгого перелета между Землей и Юпитером казались пустыми, полностью отданными во власть компьютеров и других автоматических систем управления.
Попав в глубокий космос, или, как еще по-другому называли удаленные просторы Солнечной системы, в «Дальнее Внеземелье», люди впервые по-настоящему почувствовали, сколь ничтожны они сами, по сравнению с бесконечностью необъятного мрака, и сколь велики, если все же сумели переступить порог планетных орбит и бросить дерзкий вызов этой БЕЗДНЕ…
И еще – создав прецедент межпланетных перелетов – Человечество осознало, что вторглось в область совершенно новых условий выживания и, соответственно, технологий.
Первый экипаж, достигший лун Юпитера и совершивший посадку на Ганимед, Ио и Европу, не выдержал обратного пути.
Тридцать пять из сорока – таков оказался счет, выставленный Дальним Внеземельем за вырванные у него тайны.
Тридцать пять членов экипажа не выдержали трехлетнего полета в пустоте, – их психика навсегда осталась там, среди великого, ледяного НИЧТО…
Люди внезапно поняли: компьютер и сама технология, связанная с этим термином, то есть идея автоматических управляющих и исполнительных систем, оказалась куда более значимой для человечества, чем предполагалось при земном использовании электронных и механических машин.
Дальний космос оказался по плечу только им.
Пока…
Люди не привыкли расписываться в собственном бессилии, и в истории Земли есть множество тому подтверждений, но в ситуации, сложившейся к середине тридцатых годов двадцать первого века, ставку пришлось сделать именно на машины.
Их «мозг» не уставал от постоянного бодрствования, они, как правило, не ошибались в математических расчетах, видеосенсоры кибернетических систем не слепли и не терялись взглядом в бездонных глубинах пространства. Компьютеры не подвержены ни клаустрофобии, ни агорафобии – двум видам психических расстройств, ставших бичом первого пилотируемого транссистемного перелета, – машины сколь угодно долго могли работать рядом друг с другом, ведь для компьютеров критерием совместимости являлась лишь адекватность программного обеспечения, а никак не родство душ, которое, как выяснилось, в узких и тесных каморках космического корабля запросто может перерасти в неприятие и откровенную ненависть за смехотворно короткий срок…
Таким образом, не было ничего удивительного или же ненормального в том, что многокилометровые коридоры космического транссистемного корабля «Альфа», совершавшего очередной регулярный рейс между Землей и Ганимедом, оказались в этот час пусты и безлюдны.
Корабль только что закончил суборбитальный маневр сближения с планетой и теперь повис как бы между двух пространств – с одной стороны простиралась еще достаточно разреженная, новорожденная атмосфера планетоида, которая только недавно начала набирать голубизну, а с другой – тускло светился отраженным светом огромный, подавляющий своими размерами бело-коричневый шар Юпитера.
За краем планетного диска Ганимеда разгоралась ослепительная серпообразная аура – это из-за планетоида медленно поднималось, двигаясь по орбите навстречу вращению луны, маленькое термоядерное солнце, обогревшее своими лучами этот дикий, ледяной мир, чтобы сделать его пригодным для жизни людей.
Некоторые отсеки «Альфы» казались в этот момент пустыми и мертвыми – тут не горело даже дежурное освещение. Во мраке терялись очертания стен и принайтовленного1 к ним и к полу оборудования, предназначенного для разгрузки на Ганимеде.
В одном из таких отсеков и произошло совершенно неординарное для космического корабля событие.
В полнейшем мраке, который окутывал помещение всю дорогу от Земли до Юпитера (а длился перелет без малого девять месяцев), все же присутствовал небольшой, едва заметный проблеск света. Он проникал наружу изнутри одного контейнера, через небольшие дырочки, которые остались на месте отсутствующих крепежных элементов клепаного шва.
В этом контейнере происходило нечто необычное. Мало того, что, вопреки всем инструкциям, внутрь массивного кубического ящика тянулись от стены два толстых кабеля энергопитания, но плюс ко всему на месте их соединения со стеной был установлен небольшой прибор с тускло светящейся индикационной шкалой. Окажись тут специалист-электронщик, он бы без колебаний заявил, что кто-то ворует энергию из бортовой сети «Альфы», вводя при этом в заблуждение все системы контроля.
Внутренность контейнера озарялась неярким, приглушенным, зеленоватым светом. Его источником могло быть все что угодно, но резкое шипение и неприятный запах медицинских препаратов, который чувствовался в затхлом, давно не вентилированном воздухе трюма номер 123, говорил в пользу того, что там работает какая-то система жизнеобеспечения…
Сверившись с декларацией бортового груза «Альфы», можно было легко получить подтверждение данной догадке – в контейнерах трюма перевозилось аварийное оборудование для строящегося в колонии убежища, а именно: в кубических ящиках, что располагались в два яруса по всей площади трюма 123, транспортировались криогенные камеры для низкотемпературного сна. По спецификациям, хранящимся в долгосрочной памяти бортового компьютера «Альфы», все они были отключены и законсервированы.
Однако свет, шипение, острый запах медикаментозных препаратов и наличие силовых кабелей свидетельствовали об обратном.
…Внутри кубического контейнера раздался характерный щелчок, будто там отскочил какой-то фиксатор, и тут же свет, пробивающийся в дырочки, оставленные на месте отсутствующих заклепок, сменил свой спектр, превратившись из зеленоватого в бледно-желтый. Одновременно из щелей нарушенного уплотнения транспортного контейнера начал просачиваться неприятно пахнущий молочно-белый газ.
После этого на некоторое время все стихло.
Прошло без малого несколько часов, в течение которых газ успел полностью улетучиться, оставив после себя лишь слабый, раздражающий обоняние запах, прежде чем в отсеке произошли очередные события.
Внутри контейнера ясно прозвучал звук открывающегося уплотнителя, затем последовал тихий стон и наконец раздались невнятные шумы, будто там шевелилось что-то мягкое.
Боковая стенка ящика, на которой по всему периметру отсутствовали заклепки, вдруг вздрогнула от приложенного изнутри усилия и отделилась, плашмя упав в проход между контейнерами.
Свет мгновенно стал ярким, неприятным…
Внутри открывшегося кубического пространства действительно заключался медицинский саркофаг, предназначенный для низкотемпературного сна.
Прозрачный колпак камеры был поднят, а рядом, на полу, сидела, скорчившись в болезненной позе, молодая женщина.
Ее тело сотрясала крупная непроизвольная дрожь, кожа была бледной, если не сказать – пепельно-серой, а по обнаженному телу медленно скатывались крупные капли неприятной на вид, чуть желтоватой, маслянистой жидкости.
Несколько минут она просидела, скорчившись у стенки контейнера, видимо, не в силах поменять болезненную позу. Потом сотрясавшая ее рефлекторная дрожь вдруг улеглась, совершенно внезапно и беспричинно, – температура в отсеке едва ли отличалась от ноля градусов по Цельсию, и по стенам тут и там ползли замысловатые узоры изморози от замерзшего конденсата.
Женщина разогнулась и встала одним плавным, тягучим движением, будто в ее теле отсутствовали кости.
Красивое лицо с правильно прорисованными чертами еще хранило в себе болезненное выражение, но ее стройное, переставшее дрожать тело, казалось, живет по своим правилам. Никакая дисфункция больше не присутствовала в движениях, а землисто-серый цвет лица загадочной женщины, резко диссонировавший с порозовевшей кожей тела, лишь усиливал ощущение того, что они не являются единой системой организма.
Очевидно, и ее внутренние органы не очень-то ладили с внешней оболочкой – сделав несколько движений, она вдруг вскинула руки, зажав ими рот…
Наконец, простояв согнувшись некоторое время, женщина нашла в себе силы подавить дурноту и протянула руку к криогенной камере, на ощупь выудив оттуда одноразовое полотенце с завернутым в него каким-то пакетом.
Из пакета на свет был извлечен комплект нижнего белья и тонкая серая униформа, без каких-либо знаков различия. В нагрудном кармане одежды нашлись заранее приготовленные пилюли, которые она проглотила с жадностью, а потом опять застыла на некоторое время.
Постепенно кожа ее лица тоже начала принимать нормальный цвет.
В отсеке стоял жуткий холод, и если бы не маслянистость той жидкости, что капельками покрывала ее тело, то женщину уже покрывал бы иней.
Однако она не обращала на это ни малейшего внимания, – казалось, что тело не только не заботит ее, но и не причиняет никаких физических неудобств. Гораздо критичнее она отнеслась к собственной голове – первое, что она сделала, немного придя в себя, – это вытерла лицо и волосы. И только потом торопливыми, но достаточно тщательными движениями вытерлась вся.
За весь период ее пробуждения в стылой тишине отсека не раздалось ни звука, за исключением сдавленного бесконтрольного стона в самом начале, – женщина, видимо, обладала незаурядной волей, и сейчас в гробовой тишине было слышно лишь ее прерывистое дыхание, вместе с которым изо рта вырывался пар.
Одевшись, она вынула из контейнера объемистый кофр, раскрыла его и извлекла оттуда белоснежный скафандр, снабженный характерным для ранцевого реактивного двигателя вздутием на спине.
В этот момент ее губы вдруг тронула совершенно неожиданная, легкая улыбка.
«Господи, неужели получилось?..» – говорили ее разгладившиеся, сбросившие напряжение черты.
До полной свободы, до исполнения самой сокровенной мечты оставался всего один шаг…
Порывисто расправив скафандр, она отложила в сторону гермошлем с дымчатым, поляризованным забралом и начала торопливо экипироваться для выхода в открытый космос.
Она не знала и не могла знать, как много изменилось на Ганимеде за те восемь с небольшим месяцев, что космический корабль «Альфа» провел в глубоком космосе.
Мечта ее оказалась грубо скомканной и отброшенной в самый дальний угол.
* * *
К этому моменту на борту «Альфы», помимо штатных членов экипажа и той загадочной женщины, что скрывалась в грузовых трюмах, бодрствовал еще один человек.
Он только что вышел из реабилитационной камеры, где принимал массаж и душ после длительного сна. Растершись грубым, шероховатым полотенцем, которое приятно согрело кожу, полковник Военно-космических сил России Виктор Сергеевич Наумов натянул комплект униформы и покинул медицинский модуль.
Его уже ждали.
– Сюда, пожалуйста, – пригласил офицер корабля, обменявшись с Наумовым рукопожатием.
– Что-то случилось? – сдержанно поинтересовался Виктор Сергеевич, вслед за офицером входя в тесный тамбур, по стенам которого ровно светились пластины сканеров.
– Сейчас капитан сам все объяснит, – ответил его провожатый, ожидая, пока их личные карточки – его и полковника – выскочат из узкой прорези сканирующего устройства.
– Все в порядке, можем идти, – произнес он, возвращая Наумову унифицированное удостоверение личности.
Собственно, помещение, куда они попали, не являлось постом управления, – пять или шесть лениво перемигивающихся огнями терминалов, пустые кресла за ними да внушительный обзорный экран, демонстрирующий истыканную точками звезд черноту, в которой величественно застыл грязно-коричневый шар Юпитера, – вот все, что заметил Наумов. Секунду спустя он понял, что ошибся – за средним терминалом кто-то сидел.
Услышав шаги вошедших, командир корабля повернулся вместе с креслом.
– Полковник Наумов? – поинтересовался он, встав навстречу офицерам. Его русский оставлял желать лучшего, но Виктор Сергеевич не обратил внимания на акцент, – сам он изъяснялся по-английски много хуже.
– К вашим услугам, сэр, – Наумов произнес эту фразу сознательно и обдуманно. «Не в вашем распоряжении», а к «вашим услугам». И, несмотря на выдержку, вновь покосился в сторону огромного экрана обзора.
К горлу вдруг подкатила тошнота, а внутри, там, где обычно находится желудок, стало пусто и холодно.
Огромный, коричневато-желто-белый шар планеты Юпитер оказал на разум Наумова мгновенное, шокирующее и болезненное воздействие, словно те самые, окружающие корабль миллиарды километров пустоты промелькнули перед полковником, вытянувшись одной черной бесконечной лентой…
Впрочем, дурнота длилась ровно столько, сколько он смотрел на экран, – одно мгновение.
– Сядем, полковник, – сухо произнес капитан «Альфы», указывая на два расположенных друг подле друга кресла.
Патрика Гормана, так же как его напарника Андрея Столетова, знал весь земной шар. Сменные капитаны «Альфы» пилотировали ее по очереди. У каждого был свой экипаж. Смена на борту происходила один раз в два месяца. Остальное время «отдыхающая вахта» проводила в камерах низкотемпературного сна.
– У нас большие неприятности, господин полковник, – глухо и немного раздраженно сообщил Горман терпеливо ожидавшему объяснений Наумову. – Я не разбудил смену, хотя должен был это сделать. Вместо этого я разбудил вас.
Наумов только слегка приподнял бровь, внимательно слушая капитана корабля.
Он понимал – случилось нечто, выходящее из ряда вон. К неосознанному пока чувству тревоги примешивались и другие ощущения, ни одно из которых нельзя было назвать приятным. Сама обстановка космического корабля действовала на нервы, – Наумову, как и большинству людей, никогда не покидавших свою планету, был абсолютно чужд этот мир, а та бездна, что расплескалась на экранах внешнего обзора, вызывала ощущение сродни животному страху.
Человечество еще слишком недолго осваивало космическое пространство своей системы, чтобы люди перестали бояться космоса и успели свыкнуться с ним.
– Я нахожусь на действительной военной службе, – сдержанно напомнил полковник Горману, давая понять, что в любой ситуации он связан прежде всего воинским долгом перед своей страной.
– Я знаю. Но мне необходимо ваше содействие. Речь идет о чрезвычайной, нештатной ситуации… – Командир «Альфы» говорил, глядя в пол, куда-то между своих ног. – Нас не пускают на Ганимед, – наконец медленно и тяжело произнес он.
Несколько секунд Наумов не мог ничего ответить, для этого попросту не нашлось слов. Сказать, что он был потрясен, означало очень мягко обрисовать то внезапно вернувшееся ощущение пустоты, на мгновение просто затопившее его разум… И только волевое усилие дисциплинированного сознания смогло вернуть краску его лицу. Но глаза полковника остались прежними – не просто встревоженными, а даже немного растерянными.
– Не пускают? По какой причине? – подавив в себе эмоции, спросил он. Оставшаяся на лице легкая бледность да резко обозначившиеся скулы все же выдавали смятение чувств русского полковника.
То, что сообщил ему Патрик Горман, казалось абсолютно невозможным. Слишком много значил Ганимед для всех живущих на Земле людей. И чтобы корабль, который преодолел бездну пространства и нес на своем борту столь необходимое колонии оборудование и новых поселенцев, вдруг отказались пускать на планетоид… Это был какой-то бред, нонсенс!.. Наумов мог предполагать все что угодно, но только не это…
– Я не знаю… – откровенно признался Горман, отвечая на заданный вопрос. – Поначалу они плели какую-то чушь о профилактических работах на космодромах. Но это абсурд – начинать такие работы именно в тот момент, когда должно произойти очередное прибытие «Альфы»! А потом колония замолчала вовсе и не выходит на связь, сколько мы ни пытались! – внезапно взорвался он, дав понять Наумову, что ситуация длится уже не один час…
– А что говорит Земля?
– Ничего… – несколько тише произнес капитан. – С ней у нас тоже нет связи… Радиограмма на ваше имя – это последняя весточка, которую мы получили оттуда. – Он повернулся, нашел глазами офицера, что привел полковника в этот зал, и произнес, чуть повысив голос:
– Сэм, мне нужна шифровка на имя полковника Наумова.
Офицер кивнул, исчезая в двери, по ту сторону поста управления.
– Вот она, сэр, – минуту спустя доложил он, протягивая Наумову сложенный вчетверо листок.
Виктор Сергеевич кивнул офицеру, развернул сообщение и быстро пробежал глазами короткий шифрованный текст.
– Это имеет какое-то отношение к возникшей ситуации? – напряженно поинтересовался Горман.
– Нет, – не колеблясь, покачал головой Наумов. – Здесь идет речь об одном из членов моей группы. У него возникли проблемы семейного плана, – сдержанно сообщил он, видя, как проблеск надежды в усталых глазах Гормана сменяется разочарованием.
– Жаль… – негромко произнес капитан «Альфы». – Я думал, вы сможете прояснить хоть что-то в этом змеином клубке. Выходит, что я зря приказал вывести вас из гиперсна…
Наумов посмотрел на капитана. Его серые, неживые щеки, блеклые, будто выцветшие глаза, подернутые мутной красноватой поволокой недосыпания, говорили о состоянии этого человека гораздо больше, чем тот хотел бы. Полковник частенько сам испытывал на себе последствия стрессовых перегрузок, и для Наумова не составляло труда понять, что он видит перед собой человека не просто уставшего, – капитан находился под диким прессингом непреодолимых обстоятельств и пребывал на волоске от срыва. Это Наумов мог утверждать точно.
– Подождите, Горман, может быть, я сумею что-то сделать? Расскажите, что случилось? Почему отсутствует связь? Как долго все это длится?
– Связи нет трое суток. Сейчас между нами и Землей находится Солнце. Вполне нормальное явление, которое будет продолжаться еще неделю, но я не могу столько ждать! А Ганимед в одностороннем порядке прекратил всякие сношения с бортом «Альфы»… – удрученно повторил он.
– Почему?! – настаивал Наумов. Он привык мыслить логически, а в такой сфере, как Дальний Космос, по его понятию, были задействованы люди без исключения умные и последовательные. Поэтому полковнику казалось, что капитан «Альфы» попросту что-то недоговаривает.
– Я не знаю… – вновь повторил Горман, и в его голосе проскользнули нотки отчаяния и обреченности. Затем, посмотрев на Наумова, капитан, еще секунду назад дававший понять, что разговор окончен, вдруг откинулся на подголовник кресла. Видимо, он изменил свое мнение. Наумов не был лично знаком ни с ним, ни со Столетовым, но знал, что оба являются профессионалами очень высокого класса. В период своей службы на «Альфе» они подчинялись исключительно ООН и не раз подчеркивали в своих интервью, что находятся вне политики и вне интересов каких-либо государств.
– Мы в крайне затруднительном положении, господин Наумов… – после протяженной паузы наконец произнес Горман. – Если «Альфа» не начнет пробуждение колонистов и их транспортировку на поверхность Ганимеда в ближайшие трое суток, то наше возвращение на Землю окажется почти нереальным.
– Почему? – задал вполне закономерный вопрос полковник. Он не являлся экспертом ни в космической навигации, ни в теории небесной механики.
Патрик Горман тяжело вздохнул.
– В межпланетной навигации задействованы не только двигатели нашего корабля, но и множество других составляющих, – терпеливо пояснил он. – «Альфа» не может нести на своем борту безграничный запас топлива, поэтому все этапы полета строго рассчитаны во времени и в пространстве. Для набора скорости и торможения производятся очень сложные вычисления, и траектория, по которой мы летим, позволяет использовать силы тяготения планет для торможения или разгона… это понятно?
– Да, – утвердительно кивнул Наумов.
– Тогда я скажу следующее, существуют временные рамки, в течение которых взаимное расположение небесных тел позволяет нам совершить расчетные действия. Если мы нарушим этот регламент, то «Альфа» никогда не достигнет Земли, – в той точке, куда мы стремимся, нашей планеты уже не будет, она уйдет по своей орбите вокруг Солнца. А смещение других планет, в частности Марса, исключит возможность экономии топлива. Космос достаточно жесток, полковник, и законы небесной механики не учитывают проволочек или несостыковок…
– По-вашему мнению, на Ганимеде произошло что-то серьезное? – уточнил Наумов.
– После первых сеансов связи у меня создалось впечатление, что там настоящая паника… – устало пожал плечами Горман. – По наблюдениям с орбиты, российский сектор освоения, в котором расположены космодромы, оборудованные для приема колонистов, полностью покинут. Но хуже всего не это… – Голос капитана внезапно стал жестким и сухим, как шуршащий по асфальту скорченный осенний лист. – Наши приборы обнаружения зафиксировали необычайную активность в американском секторе. Мы провели подробное сканирование и обнаружили там… – он вдруг запнулся, словно пребывая в нерешительности, имеет ли он право сообщать эту информацию русскому полковнику и каковы будут последствия ее передачи…
– Мы обнаружили там «Гарри Трумэна»… – решившись, произнес он.
На этот раз лицо Наумова побледнело настолько, что никакое усилие воли не могло скрыть испытанного им потрясения.
После Китайского кризиса этот корабль Военно-космических сил США знали все – даже те, кто никогда не слышал про Хиросиму и Нагасаки…
– Разве Ганимед не «зона безопасности»? – наконец спросил он.
– Выходит, что нет… – вздохнул Горман. – Вы-то летите именно туда, полковник. По приказу своего правительства.
– Но нас всего несколько человек, – резонно возразил Наумов. – Все в рамках соглашения ООН. Смена состава, так сказать. А по тому же соглашению военным кораблям запрещено пересекать орбиту Марса.
– Я знаю это не хуже вашего, полковник. Сейчас вопрос не в том, кто и как нарушил постановления ООН. У нас на борту две тысячи человек. Ресурсов «Альфы» попросту не хватит, чтобы доставить их назад, на Землю. По крайней мере всех… – понизив голос, добавил он.
– А почему вы сами не начнете разгрузку? Почему не пошлете на планету шатл?
– У нас нет челноков, – сокрушенно покачал головой капитан. – Слишком дорогое удовольствие – возить через всю Солнечную систему транспортные шатлы. Разгрузку «Альфы» производят «Бураны». Они базируются на космодромах российского сектора освоения. На борту «Альфы» имеется лишь два десятка аварийных спасательных капсул, по количеству членов экипажа, включая спящую смену. Но я не могу рисковать своими людьми. Что бы ни творилось на Ганимеде, потеря любого члена экипажа окажется невосполнимой для «Альфы» и еще более снизит наши шансы на возвращение.
Наумову не составило особого труда понять, куда клонит Горман. Капитан космического корабля мог попросить у него только один вид помощи…
Поначалу ему стало немного не по себе, одно дело прыгать с парашютом с борта самолета, а другое – кувыркнуться с орбиты в утлой спасательной капсуле. Но, собственно говоря, был ли у него выбор?
– Нужно спуститься на Ганимед?
Горман пристально посмотрел на Наумова и медленно кивнул.
– Я смогу положиться на вас, полковник?
– В чем? – в свою очередь прищурился Наумов. Он еще не вполне оправился от дурмана низкотемпературного сна, но внезапная, шокирующая информация быстро приводила его в чувство.
Горман вдруг покачал головой.
– Вы должны понять, что тут не Земля, – устало произнес он. – Некоторые основополагающие понятия и моральные ценности на Ганимеде становятся зыбкими… Я уже давно стал космополитом, – при этих словах он почему-то усмехнулся. – Возможно, тем, кто находится сейчас внизу, кажется, что у них проблемы. Возможно… – повторил он. – Но настоящие проблемы – у «Альфы», вернее у тех ничего не подозревающих пассажиров, что лежат сейчас в криогенных модулях!
– А «Гарри Трумэн»? Почему он здесь очутился? Вы не пытались установить связь с ним?
– Они не отвечают. Как и весь Ганимед. Черт побери, полковник, я понимаю, что прошу от вас многого, но поймите и меня, – капитану «Альфы» нет дела ни до «Гарри Трумэна», ни до тех событий, что происходят внизу! Это ДАЛЬНИЙ КОСМОС, ВНЕЗЕМЕЛЬЕ, если вы еще не осознали смысл данных терминов… Здесь нет права на ошибки, неточности, проволочки, межгосударственные прения… Я же не идиот и понимаю, будь у них там внизу НАСТОЯЩИЕ проблемы, то передатчики «Альфы» верещали бы без умолку! Нет, они молчат! Значит, внизу можно жить, и поверьте, для меня этого достаточно, чтобы не найти оправдания их действиям, а точнее – бездействиям!
– Хорошо. – Наумов согласился с командиром «Альфы» так просто, что тот недоверчиво покосился на русского полковника.
– Вы спуститесь на Ганимед?
– Да, капитан.
* * *
Переговорив с Наумовым, Патрик Горман прошел в главный пост управления «Альфы».
Капитана тяготила неопределенность их положения, – больше того, он был взбешен и озадачен происходящим. За то время, что он руководил сменным экипажем, Патрик действительно успел стать космополитом, – он жил, начисто отрицая такие понятия, как расовая принадлежность или государственная граница.
Если бы колония Ганимеда внезапно и необъяснимо умолкла, Горман первым ринулся бы туда выяснять, в чем дело, поскольку знал, что такое КОСМОС и как беспощаден он бывает. Но нет. С ним НЕ ХОТЕЛИ разговаривать. Словно он прилетел сюда по собственной инициативе, незваным, нежданным гостем…
Внезапно в тяжелые мысли капитана вплелся сигнал тревоги.
Горман вздрогнул, привстав с кресла.
– Что еще стряслось, Джон?! – резко спросил он у дежурившего за главным пультом оператора.
– Старт с правого борта, сэр! – потрясенно воскликнул офицер. – Но это невозможно! Там никого нет! Пусковая шахта номер семь только что произвела выброс аварийно-спасательной капсулы!..
– Следите за ее траекторией! – приказал Патрик, мгновенно пересев в свое рабочее кресло и быстрыми движениями пальцев активируя расположенный перед ним терминал. – Мне нужны координаты ее входа в атмосферу!
Самопроизвольное срабатывание автоматики?
«Господи, если весь мир сошел с ума, убереги хотя бы бортовой компьютер…» – со страхом и смятением подумал он, глядя на осветившийся экран.
Горман вдруг осознал, что с того момента, как «Альфа» десять лет назад впервые покинула орбиту Земли, он еще ни разу не испытывал столь унизительного, отравляющего душу страха.
Это был страх, рожденный осознанием собственной беспомощности и бессилия перед необъяснимой чередой загадочных событий и странным, неоправданным эгоизмом находящихся внизу людей.
Мучительно размышляя над создавшейся ситуацией, капитан «Альфы» следил за падением капсулы в атмосферу Ганимеда. Откуда он мог знать, что корни возникшей проблемы, молчание колонии, самопроизвольный, по его мнению, старт автоматической капсулы, присутствие внизу «Гарри Трумэна» и паническое поведение администрации Ганимеда – все это имело под собой реальные корни. Только связующих нитей было несколько, и тянулись они не только на Землю.
Здесь, на Ганимеде, внезапно сплелись в тесный клубок совершенно разные судьбы и события…
(обратно)Часть 1. Судьбы земные
Глава 1.
Колония Ганимеда. Российский сектор освоения. 25 августа 2026 года по летоисчислению Земли…
Многоэтажное здание рушилось, тяжко оседая вниз, к тому месту, где у его основания несколько секунд назад блеснула ослепительная вспышка подрубившего несущие опоры взрыва.
Сверкающим водопадом брызнули закаленные тройные стекла верхних этажей. В тусклом, отраженном свете Юпитера падающие вниз осколки казались малиново-серебристым туманом, который медленно опускался в черное ущелье улицы. Потом здание содрогнулось, будто кто-то дал пинка стотысячетонной конструкции, и начало оседать так же медленно, нереально, как это происходит при замедленной съемке: стены задрожали и разломились, низвергая в теснину улицы громадные куски бетона, из которых торчали уродливые прутья обнажившейся арматуры… Здание покосилось, его контуры размыла взвихрившаяся в стылом ночном воздухе пыль, сопровождавшая замедленное падение бетонных обломков, устремившихся вслед за звонким хрустальным крошевом стекла, что уже покрывало собой тротуары и проезжую часть на всем обозримом пространстве улицы.
Сила тяжести на Ганимеде в пять раз ниже, чем на Земле.
Именно поэтому здесь так просто удалось воплотить в жизнь многие технологии и конструктивные решения, которые до определенного времени ждали своего часа, томясь в черной глубине секретных сейфов или застыв недвижимыми и невостребованными байтами данных на жестких дисках компьютеров министерств обороны разных стран.
Ганимед, третий спутник Юпитера, стал средоточием всех помыслов, очередной надеждой на светлое будущее многих и многих народов изгаженной и перенаселенной Земли.
…Свет, внезапно пробившийся со стороны невысоких гор, сопровождался равномерным стрекотом и вибрирующим гулом вертолетных лопастей. Машина шла на небольшой высоте, вровень с плоскими крышами домов, и укрепленный на ее носу прожектор ворочался из стороны в сторону, облизывая стены зданий жадным, ищущим языком света. В красноватой юпитерианской ночи он походил на нездоровый, чуть желтоватый глаз циклопа…
– Морган, что это было, дьявол тебя раздери?! – пришел гневный вопрос на радиочастоте.
Пилот вертолета облизал пересохшие губы:
– Там что-то двигалось, сэр…
– Я не спрашиваю, что там двигалось, я спрашиваю, что за взрыв?
Глаза пилота были пустыми и блеклыми, словно в них сейчас вместо человеческого, живого блеска сконцентрировалась чернота бездонного космоса, чуть подкрашенная фантомным светом гигантского серпа Юпитера, что тяжкой дугой нависал над горизонтом.
– Ракета, сэр. «Томагавк-2000».
– Ты сошел с ума!
– Я здоров. Там что-то движется. Я не могу больше, сэр… Они повсюду.
– Это сектор русских, идиот! Приказываю возвращаться на базу! Прекратить полет!
– Да, сэр… – Пустота продолжала заполнять глаза пилота. Казалось, что если приблизить взгляд к его молодому бледному лицу и пристально всмотреться, то можно будет заглянуть внутрь черепной коробки и не увидеть там ничего… кроме пустоты.
Палец Ричарда Моргана, лейтенанта Военно-космических сил США, оторвался от пористой поверхности управляющего джойстика и заученным движением скинул скобку предохранителя с гашетки залповой установки «смерч».
– Ты слышишь, Морган, ответь мне!
Капитан Джон Кински, который застыл с перекошенным лицом в обзорном отсеке транссистемного космического крейсера «Гарри Трумэн», мог вызывать его до хрипоты.
Лейтенант Морган был безумен. Его мозг сожрала та пустота космоса, что расплескалась вокруг на миллионы световых лет. Прессинг пляшущих вокруг сюрреалистических теней, вкупе со знанием того, ЧТО явилось причиной этой пустоты и заброшенности зданий внизу, сделали свое дело.
Он больше не мог смотреть, как ползут от стены к стене, от здания к зданию эти неясно очерченные, изломанные сгустки серой субстанции.
Тупоносый армейский вертолет на секунду завис, чуть накренясь в сторону ущелья улицы, и внезапно его темный силуэт вспыхнул, взорвался остервенелым огнем, словно во тьме кто-то чиркнул пригоршню спичек, одновременно ударив в сотню тамтамов…
Шквал снарядов обрушился на стены близлежащих домов, огласив притихшие окрестности оглушительным, сливающимся в вой стаккато.
Морган непроизвольно подался вперед, насколько позволили ремни пилотского кресла.
Тени исчезли, растворились в оранжево-черных вспышках разрывов, их не стало, и лишь жалобный, переливчатый звон выбитых стекол осыпался на изуродованный тротуар…
«Ублюдки…» – мелькнула в его сознании злая, истеричная и неизвестно кому адресованная мысль.
Пилот нервно озирался, уже едва справляясь с управлением тяжелой машиной.
Язык света вновь потек по искалеченным стенам, выискивая… ЧТО ?
На этот вопрос не мог ответить ни Ричард, ни Кински, ни президент США, ни сам господь бог…
А ведь там действительно что-то было…
Липкий пот прошиб молодого лейтенанта, когда в ослепительном конусе света мелькнула и исчезла сгорбленная человеческая фигура.
Его палец уже жил своей, самостоятельной жизнью.
Прожектор метнулся вслед за стремительным силуэтом, и шквальный огонь бортового вооружения хлестнул по фасаду жилого здания, внизу которого располагался магазин и несколько офисов. Ураган подметающих улицу снарядов вышиб дверь, превратив ее в уродливую пластиковую щепу, пробежал по тройному закаленному стеклу витрины, оставляя в нем окруженные сетью трещинок дыры величиной с кулак, и замолотил по стене, поднимаясь к окнам второго этажа…
Пилот не заметил, как в одном из них появился серый силуэт в скафандре.
Человек, казалось, тоже не видит и не слышит сокрушительного огня вертолетных пушек.
Резким движением приподняв раму окна, он спокойно припал на одно колено, целясь в разорванный прожекторным огнем мрак из странного оружия, внешне похожего на гибрид снайперской винтовки и автомата Калашникова.
На лицевом щитке гермошлема злобно и тревожно вспыхнул квадратный огонек, обозначивший работу термальной оптики.
Палец человека несколько раз сжался, словно разминаясь, и только потом лег на спусковой крючок.
Два плавных движения слились почти в одно.
Выстрел, легкий поворот ствола, выстрел…
Прожектор погас, но пушки бесновались еще пару секунд, пока палец мертвого пилота не соскользнул с гашетки.
В выпуклом триплексе вертолетной кабины красовалась небольшая дыра, проделанная бронебойным зарядом.
Лейтенант Морган был мертв. Его внезапно вспыхнувшее безумие наконец закончилось. Вертолет, лишившись управления, чуть покачнулся и вдруг начал неуклюже падать в расселину улицы, неловко заваливаясь на один борт. Его работающие лопасти чиркнули по стене здания, со скрежетом зацепили какой-то выступ, издав зубовный звук ломающегося металла, и многотонная машина рухнула на обезображенную мостовую.
Через несколько секунд там полыхнул еще один взрыв, и к свинцово-фиолетовому небу взметнулись языки пламени, жадно пожирающие внутренности подбитой машины.
Человек, который снайперским огнем только что обезвредил ее, присел на пластиковый подоконник, отстегнул забрало гермошлема и застыл, глядя вниз.
Пальцы, затянутые в жесткий, неподатливый гермопластик перчаток, мяли неприкуренную сигарету.
Из-под обода забрала выбился локон длинных волос. Лицо молодой женщины, освещаемое отблесками пожара, хранило сумрачное спокойствие.
* * *
– Ничего не трогайте, сэр, – предупредил техник, протянув руку к приборному щитку, выступавшему из потолка посадочной капсулы прямо над головой Наумова.
Щелк… Щелк… Щелк… – проворные пальцы перекидывали тумблера достаточно примитивной, но надежной панели управления в рабочий режим, а вокруг таинственно оживали какие-то огоньки, тускло вспыхнули несколько крохотных, размером со спичечный коробок, экранов, по которым тут же побежали плавные синусоиды графиков, очевидно отражавших работу каких-то систем посадочной капсулы.
– За вас все сделает бортовой компьютер, – дошел до сознания Виктора Сергеевича голос техника. – Вы знакомы с системами скафандра?
Наумов, который лежал в неудобной позе внутри толстого, многослойного, напичканного электроникой цилиндра капсулы, не имея возможности толком пошевелиться, просто скосил глаза, поймал взглядом лицо провожавшего его человека и кивнул, насколько это позволило свободное пространство внутри гермошлема.
«Вот это называется – влип…» – саркастически усмехнулся он.
Конечно, Наумов был знаком с системами индивидуального выживания в космосе. Теоретически. На практике попробовать не успел – слишком скоропалительным оказалось его назначение сюда, на Ганимед…
Пальцы техника потянулись к его шлему, надвинули на лицо дыхательную маску и опустили забрало.
Сухой щелчок, чавкающий звук расправившегося под давлением уплотнителя, первая порция горьковатого кислорода из плотно облегающей мышцы лица маски, и тишина… Глубокая, всеобъемлющая тишина, в которой медленно, как крышка гроба, опускается массивный овальный люк посадочной капсулы.
По телу Наумова пробежала невольная дрожь. Он лежал, туго схваченный ремнями, что пристегивали его к жесткому пластиковому каркасу, имитировавшему некое подобие кресла. Свет внутри капсулы внезапно моргнул и сменился на красный.
Тишина раскололась.
– ZERO-FIVE… ZERO-FOU… ZERO-FHREE…ZERO-TWO… ZERO-ONE…
Мягкий голос бортового компьютера, выговаривающий цифры обратного отсчета на безукоризненном английском языке, подействовал на Наумова шокирующее.
Он вдруг ясно осознал, сколько миллионов километров отделяет его от Земли…
Его разум, который, как ему казалось, очерствел в боях и разучился испытывать иррациональный страх перед неизбежными событиями, на этот раз взбунтовался – полковник был и оставался отличным солдатом, прекрасным, закаленным и проверенным в боях командиром, но этого оказалось мало – он был хреновым космонавтом, а это сейчас вдруг стало главным.
Он привык управлять стропами парашюта, делать все своими руками и, случись что, пенять лишь на себя, но, как выяснилось в эти секунды, он не верил ни компьютеру, с мягким, явно женским голосом, ни любой другой системе посадочной капсулы.
В эти секунды Наумов ощутил себя уложенным в гроб, ящик с бронированными стенками, который спустя секунду кувыркнется с орбиты…
Цепь замкнулась.
Внезапное ускорение неприятно отозвалось во внутренностях ощущением их щекотливого зависания – это капсула, освободившись от магнитных захватов, начала свой разгон по стволу стартовой катапульты, будто пуля, только что не вращаясь по нарезам этого самого ствола…
Кислород, насильственно вдуваемый в его сжавшиеся легкие, имел горьковатый привкус.
Полковник зажмурился.
Он знал, что уже не в силах что-либо изменить, оставалось лежать, вдыхая часто и равномерно.
Что он и сделал.
«Какого черта они послали сюда именно меня?»
Наумов впервые задал себе этот вопрос. Всю жизнь он подчинялся приказам, убеждая себя, что только так и нужно поступать настоящему офицеру… Но сейчас, падая в бездну космического пространства, отделенный от нее лишь утлой скорлупой брони, он вдруг осознал, что его назначение на Ганимед выглядело по меньшей мере абсурдным. Он не имел никакой специальной космической подготовки, не был ни полиглотом, ни космополитом, при желании он мог бы назвать еще с десяток критериев, по которым его кандидатуру должны были неизбежно отвергнуть…
Единственное, что он умел, – это грамотно воевать на земной тверди.
Ощущение невесомости пришло подкатившей к горлу тошнотой. Затем он почувствовал, как в недрах капсулы что-то завибрировало, задрожало, и динамик внутренней системы оповещения вдруг выдал какой-то отчет о произведенном действии. Мозг полковника не отреагировал на это сообщение. Словарного запаса его английского не хватило, чтобы осознать смысл доклада бортовой системы.
Зато он осознал нечто другое: его вызов в Москву и назначение на Ганимед выглядели так странно и скоропалительно, что не оставалось сомнений, он понадобился тут именно в силу своих военных навыков, и этот критерий перевешивал все остальные.
Закрыв глаза, он падал в бездну, не видя, но ясно ощущая ее. Чтобы не концентрироваться на этом пагубном чувстве свободного падения среди необъятной пустоты, Наумов попытался вызвать в своем воображении какие-нибудь воспоминания, но добился лишь того, что перед мысленным взором встал тот самый злополучный день, когда его, вырвав из боя, отправили в Москву…
(обратно)Глава 2.
Ганимед. Российский сектор освоения. 25 августа 2030 года…
Рывок парашютной системы Наумов мог отличить от тысяч других внезапных динамических перегрузок.
После рева двигателей, выматывающей, тошнотворной невесомости и столь же изнурительной тяжести при коротких включениях тормозных сопел замедленное куполами падение показалось ему чуть ли не райским ощущением.
Однако в данный момент полковника заботило другое.
Могло ли его командование на Земле предвидеть ту ситуацию, в которую сейчас попала «Альфа», еще девять месяцев назад, когда его внезапно откомандировали на борт?
Логика подсказывала ему – предвидеть могли, но только в том случае, если «Гарри Трумэн» покинул орбиту Земли чуть раньше, чем «Альфа», и направился к Ганимеду со вполне определенной целью…
Он не успел закончить свои логические выкладки, на выступающей приборной панели капсулы один за другим начали загораться зеленые искорки индикаторов.
Очевидно, маневр спуска подходил к концу.
Точно…
Удар о землю, вернее о Ганимед, показался ему сопоставимым с падением в металлической бочке с высоты нескольких этажей. Каркас под полковником просел, принимая на себя часть удара, но и ему досталось изрядно – казалось, в теле перетряхнуло все кости.
На индикационной панели вспыхнуло еще несколько предупреждающих искр, что-то пробубнил динамик внутреннего оповещения, а затем раздался неприятный, протяжный скрежет, вслед за которым на скафандр Наумова посыпалась окалина.
Люк над его головой открывался.
Электромагнитные замки ремней щелкнули и отключились.
Он был на месте…
* * *
Двигаться в скафандре оказалось крайне неудобно – Наумов провозился несколько минут, прежде чем сумел освободиться от захватов амортизирующего каркаса и выбраться из капсулы.
«Да, на бравого космодесантника не тяну…» – с внутренним раздражением подумал он, оглядевшись по сторонам.
Как показалось Наумову, скафандр не только стеснял движения, но и ухудшал видимость, – дымчатое стекло гермошлема видоизменяло мир вокруг, сглаживало тени и пропорции, скрадывало расстояния. Возможно, он просто не привык к такой экипировке…
Вокруг было пусто и тихо. В прозрачном фиолетовом небе царил яркий серп Юпитера. Из немногих познаний в астрономии он помнил, что Ганимед всегда повернут к планете-гиганту одной своей стороной, точно так же как спутница Земли – Луна.
Впрочем, имело ли это сейчас какое-то значение?
«Скорее всего, нет…» – мысленно решил Наумов, продолжая изучать местность и одновременно стараясь свыкнуться с таинственным сумраком и мягкими, размытыми тенями. Их отбрасывали хаотичные нагромождения каменных глыб, раскиданные повсюду, насколько хватало глаз.
Рельеф Ганимеда, сформированный вторжением сюда людей, имел весьма удручающий и крайне незамысловатый вид: прежде этот спутник Юпитера был покрыт толстым панцирем ископаемого льда, а теперь, когда на его орбите зажглось маленькое термоядерное солнце, лед растаял, превратившись поначалу в разреженную и ядовитую атмосферу, а уж потом, после запуска процессоров переработки, в пригодный для дыхания человека воздух. В результате таяния льдов каменные глыбы, которые на протяжении миллиардов лет были впаяны в толщу ледников Ганимеда, просто опустились до уровня твердой поверхности, образовав хаотичные, непроходимые нагромождения.
Капсула Наумова совершила посадку между такими каменными торосами и сейчас лежала на боку, полузарывшись в острый щебень, совсем не похожий на лунный реголит. Борта посадочного аппарата были обожжены до такой степени, что броня казалась изъеденной каким-то фантастическим грызуном, – местами она отслаивалась продолговатыми участками, опадая вниз черными хлопьями окалины.
Нельзя сказать, чтобы вид посадочного аппарата подействовал на Наумова ободряюще. Тем не менее осмотрев местность, он вернулся к нему, заглянул внутрь, нашел прибор связи и попытался вызвать «Альфу».
К его удивлению, борт ответил практически сразу.
– Полковник, это вы? – спросил коммуникатор голосом Гормана. Не было слышно ни позывных, ни установленных формулировок, – создавалось ощущение, что его выхода в эфир ждали на всех мыслимых частотах.
– Да, Наумов на связи. Что нового, господин Горман?
– Зовите меня, Патрик, хорошо? – неожиданно попросил командир «Альфы», и Наумов заметил, что напряжения в голосе капитана не убавилось.
– Что-то случилось? – спросил он.
– Очередные проблемы, – скупо ответил капитан. – Я рад, что вам удалось сесть без приключений. Мы вели вашу капсулу по каналам телеметрии, но я все равно волновался.
– Назовите мои координаты, – попросил Наумов. – И сообщите, что за новые проблемы.
– Да, конечно. У нас произошел сбой в системе автоматического выброса, и буквально перед вами к Ганимеду отправилась еще одна посадочная капсула. Мы не знаем, был ли кто-то на ее борту…
– Вы подразумеваете, что там мог кто-то быть? – не совсем тактично перебил его Наумов, сделав ударение на слове «мог».
– Нет. Практически это невероятно, – поспешил рассеять его опасения Горман. – Скорее всего самопроизвольное срабатывание автоматики. Такое, к сожалению, иногда происходит. Но тем не менее я бы хотел, чтобы вы обследовали ее, полковник. Капсула, по данным наблюдения, лежит в двух километрах к северу от места вашей посадки. Это направление совпадает с дорогой к ближайшему населенному пункту. Вы находитесь в семи километрах южнее границы русского и американского секторов освоения. Ближайший космодром в тридцати километрах севернее вас, двигаться нужно в глубь российской территории.
– Здесь есть магнитное поле и полюса? – осведомился Наумов, взглянув на циферблат вшитого в рукав скафандра компаса. Стрелка действительно придерживалась строго определенного направления.
– Да, хотя тут нет естественного геомагнитного поля, но зато присутствует искусственное. На полюсах Ганимеда смонтированы специальные генераторы, – объяснил Горман. – Без магнитного щита, отклоняющего часть излучения, жизнь на поверхности была бы затруднительна.
– Ясно. – Наумов сориентировался. – Мой передатчик в скафандре сможет вызывать вас?
– Пока еще нет. Спутник-ретранслятор уже запущен, но до завершения геостационарного маневра остается около часа. Когда ретранслятор займет заданную точку орбиты, он перекроет зоной своего действия весь российский сектор. Любой сигнал будет ретранслирован им на «Альфу».
– Хорошо. – Наумов еще раз взглянул на компас и начал искать подходящий проход в нагромождении каменных глыб. – Будем поддерживать связь по мере возможности.
– О’кей. Как только заработает спутник, вызову вас немедленно.
– Вот что еще, Патрик, – произнес Наумов, прежде чем отойти от своей капсулы. – На всякий случай, хоть они и молчат, оповестите эфир о моем появлении. Не хочу, чтобы меня воспринимали как неожиданный сюрприз.
– Вы опасаетесь конфронтации, полковник? Но на Ганимеде, насколько мне известно, нет никакого вооружения, только несколько десятков человек полицейской службы колонии.
– Зато оно есть на «Гарри Трумэне», – мрачно напомнил Наумов.
– Да, конечно, вы правы. Я попытаюсь оповестить всех, по крайней мере выпущу эту информацию в эфир.
– Тогда до связи, Патрик. И не психуйте, я сделаю все, что в человеческих силах.
– Спасибо полковник. Я… Мы все надеемся на вас.
* * *
Первые шаги по каменистой почве Ганимеда дались Наумову с трудом. Скафандр стеснял движения, но он не решился снять его и оставить в капсуле. Фиолетовое небо над головой, унылый лунный ландшафт вокруг, отсутствие каких-либо признаков человеческого присутствия – все это давило на психику, постоянно напоминая о том, что он не на Земле.
Впервые в жизни.
Это утверждение имело для Наумова особый смысл. Человеку, который хоть раз менял климатическую природную зону, должно быть хорошо знакомо это ощущение, когда вокруг тебя вдруг оказывается непривычный мир, – не те звуки, другая растительность, животные, о повадках которых можно только догадываться, люди, чей язык, поведение и нравы – тайна для тебя. Все это в первый момент сильно действует на нервы… Здесь же, сделав несколько шагов, Наумов вдруг поразился ирреальности своих ощущений: будто то самое, много раз испытанное им чувство морального одиночества вдруг усилилось в сотни раз…
Казалось бы – война на Кавказе сделала из него неплохого альпиниста, так что валуны, нагроможденные тут и там вокруг места посадки, для него не проблема. Тишина в эфире? Не страшно, тем более он был предупрежден о ней заранее.
Найдя проход между валунами, он преодолел первое препятствие и увидел перед собой воронку огромного кратера, точно такого, какие во множестве присутствуют на Луне. Освещенная тусклым светом Юпитера, перед ним лежала равнина желтовато-коричневого цвета. Границы кратера терялись вдали, обозначая себя сумеречными, серыми линиями у самого горизонта.
Дикую красоту этого ландшафта нарушало несколько явных следов человеческой деятельности: во-первых, широкая многополосная автомагистраль, черной ниткой перечеркивающая дно кратера, а во-вторых, далекие, призывные огни каких-то многоэтажных строений.
Сверившись с компасом, Наумов повернул на север. Это направление совпадало с ведущей к далеким строениям дорогой.
Над головой по-прежнему плыл исполинский серп Юпитера. Видимо, до рассвета было еще далеко. Расстояние до угадывающихся в сумраке ночи огней он определил как пять-шесть километров по прямой, но, учитывая разреженность атмосферы и непривычные глазу освещение и рельеф, он допускал, что мог ошибиться в своей оценке расстояния.
Давала знать о себе и иная сила тяжести. Шаг Наумова, несмотря на громоздкий скафандр, был размашистым, и идти не составляло особого труда.
Все эти ощущения сливались в нем, тревожили, вызывали чувство оторванности от всех и вся, какого-то совершенно необъяснимого, глобального одиночества.
Наумов хмурился, стараясь как можно чаще смотреть по сторонам, хотя был уверен: проявись в этой немой пустоте какое-то движение или звук, он бы заметил его сразу…
И тем не менее вид второй посадочной капсулы, чей контур внезапно появился из-за груды придорожных валунов, заставил его вздрогнуть, а сердце – пару раз глухо ухнуть, прежде чем Наумов совладал со своими не в меру напряженными нервами.
Продолговатый посадочный аппарат, длиной около трех метров, эдакое обугленное ископаемое яйцо динозавра, торчал из небольшой конической воронки, образовавшейся при его падении. Рядом бессильными белыми языками протянулись опавшие парашютные купола системы окончательного торможения.
Подойдя ближе, Наумов понял, какая деталь встревожила его.
Люк посадочной капсулы был открыт.
Он подошел сбоку, чтобы лежащий внутри аппарата человек не смог увидеть его приближения, и заглянул за край откинутого люка, откуда струился мягкий, приглушенный свет.
Мышцы Наумова окаменели от напряжения, он был готов к любому обороту событий, но взгляд, брошенный внутрь спускаемого аппарата, показал, что тот пуст.
От борта посадочной капсулы к дороге, тянувшейся к недалеким уже огням высотных зданий, уходили едва заметные, слабо отпечатавшиеся в мелком остром гравии следы подошв.
«Значит, самопроизвольное срабатывание автоматики, господин Горман?..» – подумал он, потянувшись к прибору связи, который располагался на панели управления внутри капсулы, но в этот миг внешние микрофоны скафандра передали далекий, прозвучавший где-то на пределе слышимости звук, который заставил Наумова отдернуть руку и оглянуться.
Звук постепенно становился четче, явственнее.
Он был очень хорошо знаком полковнику Наумову. В разных ситуациях этот равномерный деловитый стрекот нес либо спасение, либо смерть…
Это был шум приближающихся вертолетных лопастей.
* * *
В темноте покинутого здания тревожно прозвучали шаги. Человек, появившийся в дверном проеме брошенной жильцами квартиры, был экипирован точно так же, как женщина-снайпер, только что поразившая вертолет Военно-космических сил США двумя точными хладнокровными выстрелами.
Забрало его гермошлема было поднято, и в сумеречном, пробивающемся через оконный проем свете горящей на улице машины он казался немного старше своих сорока двух лет. Голографическая нашивка на грудной пластине скафандра выдавала его имя, звание и государственную принадлежность:
«Наумов Виктор Сергеевич. Полковник. ВКС России».
– Послушай, как тебя зовут? – спросил он, обратившись к молодой женщине.
Она не ответила. Помедлив несколько секунд, подняла руку, все же прикурив измятую сигарету. Выпустила дым и взглянула в глаза полковника.
Грохот на улице стих. Отзвенели последние осколки стекла, и в темно-фиолетовой ночи вдруг стали отчетливо слышны два звука. За окраиной города, на лысом каменном пригорке, надсадно взвыл, набирая обороты, атмосферный процессор, автоматика которого уловила дым и теперь пыталась в экстренном порядке восполнить нарушенный взрывом химический состав воздуха. Вторя ему, на освещаемой пожаром, засыпанной обломками мостовой характерно и неприятно для человеческого слуха зазвучали сервоприводные моторы нескольких машин-уборщиков, которые выползли из вестибюлей неповрежденных зданий и теперь бестолково ползали по тротуару, натыкаясь на бетонные обломки разрушенного здания и горящий остов вертолета.
Женщина перевела взгляд с Наумова на улицу.
Машины, предназначенные для подметания улиц, не могли справиться с многотонными кусками мусора и жалобно выли сервоприводами, словно бы расписываясь этим заунывным звуком в собственном бессилии и недоумении.
«Вот так и будет, – вдруг с горечью подумала она, глядя вниз. – Мы исчезнем, оставив после себя руины зданий и бестолково ползающие машины…»
* * *
Прошлое…
Ее звали Лада…
Неподходящее имя для колченогой девочки с заячьей губой.
Лада родилась в окрестностях Череповца, и соседство этого угрюмого, задымленного, насквозь пропитанного смогом города наложило жестокий отпечаток на гены новорожденного ребенка.
Впрочем, не только ядовитые выбросы в атмосферу от десятков промышленных предприятий города повлияли на обстоятельства ее появления на свет.
Так часто бывает в жизни – одних людей судьба при рождении одаривает сверх меры, а у других отнимает все, вплоть до надежды когда-либо выкарабкаться из бездонной ямы роковых обстоятельств.
Лада как раз оказалась причисленной ко второй категории: ее родители беспробудно пили, ютясь в старой, покосившейся хибаре на окраине города-гиганта.
Таким образом, дальнейшая судьба девочки была предрешена в самый момент ее рождения, когда мать, растрепанная, преждевременно состарившаяся женщина с отекшим, изможденным лицом, корчась в родовых муках, наконец исторгла плод, лежа на полу подле старого дивана, произведенного, наверное, еще в эпоху социализма.
Если бы Лада родилась в роддоме, то, возможно, среди окружающего ее появление в мир мрака еще мог сверкнуть лучик надежды, но, увы, этого не случилось, мать родила ее дома…
С трудом поднявшись с пола, она, скорее подчиняясь инстинктам, чем разуму, кое-как вытерла мокрое тельце новорожденного ребенка краем скомканной, давно не стиранной простыни да так и оставила отчаянно орущего младенца лежать в смятой, дурно пахнущей постели.
– Ладно! Не ори! – грубым, совсем не женским голосом крикнула она, едва посмотрев в сторону новорожденной, и пошла, держась за стену, к плотно притворенной двери, из-за которой доносились пьяные, неразборчивые голоса.
Облик женщины, которую качало от пережитых мук и доводящего до безумия желания выпить, выражал полную деградацию, как физическую, так и духовную. Она напрочь забыла о ребенке, который кричал, беспомощно откинув голову, которая, как бывает у многих новорожденных, казалась непропорционально большой для крохотного тельца… Стремления матери были противоположны инстинктам даже самого примитивного животного: она уходила прочь от рожденного несколько минут назад ребенка, на кухню, к заветной для ее тусклого сознания бутылке, содержимым которой ее сожитель со своим товарищем уже вовсю отмечал появление на свет новой жизни.
Из-за двери вдруг высунулась его всклокоченная голова.
– Как ты говоришь? – дебильно осклабился он, растянув рот в пьяной ухмылке. – Лада? Девочка, что ль?
– А пошел ты!.. – грубо оборвала его женщина, которой казалось, что она сейчас сойдет с ума, если срочно не примет необходимую дозу спиртного. – Я сказала не «Лада», а «ладно», дурак, отойди с дороги, видишь, мне худо!
Ее сожитель посторонился, глядя в сторону маленького живого комочка, что копошился в смятых, заскорузлых простынях.
– Ты, дура, сиську-то дай, слышь, орет, жрать хочет!
– Ты сделал, сам и корми!… – огрызнулась она, оттолкнув его с дороги.
Сожитель покачал головой, еще раз посмотрел в сторону кровати и, шаркая ногами, пошел назад, на кухню.
– Ну, Лада так Лада, мне-то что… – опять глупо ухмыльнулся он, грузно опускаясь на табурет. – Давай обмоем это дело, слышь, Серега! – пьяно обратился он к молодому, заросшему щетиной бомжу, который сидел за столом, подперев голову обеими руками, и что-то тихо выл себе под нос, не то от какого-то, ведомого только ему удовольствия, не то от белой горячки…
За окном, в знойном удушливом мареве, плавилось асфальтовыми миражами жаркое лето двухтысячного года.
Начиналось третье тысячелетие от Рождества Христова. Человечество уже побывало на Луне, готовило первый пилотируемый полет на Марс, а вот такие бесхитростные, но жестокие по своей сути обстоятельства еще сопровождали рождение детей, и не только в окрестностях задымленного металлургического центра огромной страны, но и по всему миру.
Только большинство людей об этом предпочитало не знать.
Что ожидало новорожденную девочку в огромном, таком негостеприимном и пока еще не осознанном ею мире?
Скорее всего, отсутствие всякой жизненной перспективы, злая, жестокая судьба, потому что зло редко порождает нечто отличное от самого себя.
Именно зло сопровождало Ладу с самой первой минуты рождения, и ее имя, данное ей в пьяном угаре простым стечением обстоятельств и слуховой галлюцинацией нетрезвого мужчины, никак не могло отражать «волю звезд», как это толкуют некоторые астрологи…
Ганимед. Российский сектор освоения. Настоящее время…
– …зовут Лада, – хмуро отозвалась она на пристальный взгляд Наумова. Окурок, прочертив огненную дугу, шлепнулся о мостовую, взметнув фонтанчик тускло-красных искр.
– Ты с «Альфы»? Это ты угнала спасательную капсулу? – спросил полковник.
– Да, – в ее лаконичном ответе прозвучала внезапная обреченность.
– Почему ты не в криогенной камере? – поинтересовался Наумов, опуская раму окна.
– Мне там нечего делать, – спокойно отозвалась она.
Ее ледяной тон задел полковника, но он сдержался, подавив в себе желание одернуть ее.
– Послушай… – ровным, может быть, чуть-чуть подрагивающим голосом произнес он. – Это ведь ненормально, согласись, тут не Земля, а глубокий космос. Колония, понимаешь? Ты не на трамвае катаешься, чтобы вот так запросто спрыгнуть с подножки и идти по своим делам… Я уже не говорю о правомочности твоих действий против вооруженных сил США…
Она выслушала его слова, поджав губы в ровную жесткую линию. Отсветы пламени от горящего вертолета плясали по правильным, безукоризненным чертам ее лица, делая матовую кожу еще более бархатистой и привлекательной.
Наумов невольно отметил нечеловеческое спокойствие, с которым держалась эта странная женщина. Казалось, что она полностью отдает себе отчет во всем, вплоть до мельчайших деталей…
– Скажите, полковник, а вот это, – ее взгляд красноречиво метнулся к окну, где еще клубилась пыль от рухнувшего дома и продолжал полыхать остов вертолета, – это нормально?
– Ты о чем? – прищурившись, уточнил он.
– О пустых зданиях, военных вертолетах, бездумной стрельбе по теням, – перечислила она, глядя в окно. – Или что, хотели как лучше, а получилось, как всегда? – вдруг резко уточнила она, обернувшись к Наумову. – Мало наигрались в войну на Земле? Ведь это же была МЕЧТА, понимаешь? – с внезапной горечью произнесла Лада, сжав в пальцах пластиковый приклад безоткатной снайперской «пушки». – Мечта… – спустя секунду едва слышно повторила она, словно впервые задумавшись над тайным смыслом этого слова…
Прошлое…
Первые пять лет жизни полностью отсутствовали в сознании девочки.
Она развивалась намного медленнее, чем обычный, окруженный заботой и вниманием родителей ребенок, и ее память из-за этого не задержала в себе ничего, кроме нескольких смутных теней-образов.
Первое, яркое, запомнившееся на всю оставшуюся жизнь впечатление было связано с седой косматой женщиной, чья заскорузлая рука цепко держала ее за плечо, в то время как огрубевший от беспробудного пьянства голос бормотал где-то над головой с монотонностью, которая доводила сжавшуюся в комок девочку до сонного отупения:
– Подайте, люди добрые, христа ради… – невнятно твердил над головой этот самый голос… – Мы беженцы… Дочка голодная… Христа ради…
Только много позже, спустя годы, Лада, анализируя свои полуосознанные детские воспоминания, поняла, что голос этот принадлежал ее матери…
Тогда же он воспринимался лишь краем ее сознания, основную часть которого занимали лица, тысячи лиц, что текли мимо, в узкой горловине подземного перехода метро.
Ей было скучно, неуютно и тяжело стоять, удерживая на своем хрупком, детском плече вес навалившейся сзади женщины, которая, протягивая руку за подаянием, другой опиралась на девочку, оставляя под ее одеждой болезненные отпечатки своих скрюченных пальцев…
Лада смотрела на плывущие мимо лица, и тогда она еще не могла понять их реакцию на хриплый, совсем не женский голос матери, протянутую руку с грязными, дрожащими от хронического алкоголизма пальцами, – разум девочки оказался в ту пору слишком слаб и неопытен, казалось, работала только память, впитывая, вбирая в себя эти лица…
А людей было много – нескончаемый их поток то увеличивался, разливаясь от стены до стены, то ненадолго уменьшался…
Одни просто шли мимо, никак не реагируя на голос, другие вдруг ни с того ни с сего ускоряли шаг, спеша миновать это место, – при этом их лица напрягались, принимали какое-то ненатуральное, кукольное выражение, – третьи же, наоборот, поворачивали головы, обжигая две сгорбленные у стены тоннеля фигуры откровенно враждебными взглядами…
Для Лады эта мимика текущей мимо толпы оказалась своего рода игрой, развлечением, постоянно меняющимся фоном, как в калейдоскопе, которого она, увы, никогда не держала в руках, – узор лиц постоянно менялся, ежесекундно обновляясь, но было в нем нечто запрограммированное, повторяющееся…
Среди спешащих мимо людей выделялись еще две относительно малочисленные группы, которые так или иначе обращали внимание на уродливую девочку и ее мать. Одни не доставляли им неприятностей, эти люди вдруг останавливались, рылись в карманах и бросали в протянутую ладонь звенящие монетки, стараясь не коснуться ее пальцами. Иногда они что-то говорили при этом, но такое случалось редко…
Другой сорт прохожих оказался единственной частью толпы, вызывающей у Лады неосознанную неприязнь. Они не останавливались, но замедляли шаг, разглядывая девочку с непонятным ей, жадным, патологическим любопытством.
Ей это было противно.
Лада редко видела свое отражение – дома у них не осталось ничего, кроме кучи тряпья и голых, ободранных стен с давно отслоившимися обоями. О зеркалах, конечно, речи не могло быть. О своем врожденном уродстве она в ту пору даже не догадывалась, но все равно, эти взгляды, которые, словно горячий, слюнявый язык бродячей собаки облизывали ее с головы до ног, были девочке неприятны.
Со временем она научилась заранее определять в потоке лиц таких людей и даже приноровилась отваживать их, намеренно скаля зубы и показывая язык из-под вздернутой кверху губы.
Люди чаще всего вздрагивали в ответ и спешили отвернуть голову, ускоряя шаг.
Девочку это вполне устраивало.
С чего начинается сознание?
Этот вопрос Лада задала себе много позже.
Когда она начала ненавидеть эти лица, которые изо дня в день текли мимо?
Вряд ли она способна отыскать точку отсчета этому чувству в своей душе. Туманные образы памяти ничего не говорили ей о дне, когда она впервые почувствовала сладкое и неодолимое желание догнать кого-нибудь из них и впиться зубами в руку так, чтобы брызнула кровь…
Выходит, она начала ненавидеть эту серую реку человеческого равнодушия, брезгливости и любопытства еще задолго до того, как научилась выговаривать длинные слова, вроде «отчаяние» или «ненависть».
* * *
…Каким образом мать Лады, вместе с малолетней девочкой, оказалась в Москве и как ей удалось осесть в многомиллионном городе, оставалось загадкой, ответ на которую ее память не удосужилась сохранить в своих зыбких, туманных глубинах, но, так или иначе, они уже больше не возвратились в маленькую, убогую однокомнатную квартиру на окраине Череповца, с которой связаны самые ранние и наиболее безрадостные воспоминания девочки.
Московский метрополитен оказался тем самым местом, где протекала река человеческих лиц. Сам город запомнился ей мало – он казался девочке, измученной многочасовым стоянием в метро, лишь серым, угрюмым фоном, на котором протекали томительные часы обреченной, нищенской жизни.
Память Лады страдала явной избирательностью. Детство, а особенно ранний его период, помнилось ей как вереница порой никак не связанных друг с другом образов и впечатлений. За грохотом поездов метро, гомоном текущей мимо человеческой толпы следовало черное ночное небо, колючий, холодный снег, что острыми крупинками сек незащищенное лицо, круг света от фонаря, замызганные столики летнего кафе, покрытые шапками сугробов, хлопающая дверь приземистого, одноэтажного павильона и острый запах закисшего пива…
Этим местом обычно заканчивался их день.
Собранных в метро денег хватало матери на несколько кружек пива, куда она, страшно матерясь, пшикала из принесенного с собой баллона, и на кусок черствого хлеба для Лады, который ей неизменно совала дородная тетенька, подававшая кружки с отвратительно пахнущим пивом через маленькое квадратное окошко.
Потом они шли куда-то вдоль освещенной бесконечными цепочками фонарей улицы, что, изгибаясь, утекала в сознании девочки в черную, запорошенную колючими снежинками темноту…
Скрипящая железная дверь меж высоких бетонных опор, запах прелого, влажного тепла, липкая темнота, в которой нужно ступать осторожно, – вот то место, где к Ладе ненадолго приходило забвение и покой.
Трубы теплотрасс, изгибаясь, уходили в бетонный потолок. Ближе к неплотно прикрытой двери с них свисали искрящиеся в неверном свете дымного костерка сталактиты сосулек, дальше, у стен, влажно капала вода и туманился пар над незамерзающими лужами воды. Едкий дым от костра, на котором мать иногда готовила подобие похлебки из различных объедков, извлеченных из ближайшего мусоросборника, уходил к потолку и оседал на нем черным налетом сажи.
Кроме них, в коллекторе на берегу Москвы-реки обитало еще человек пять-шесть. Лада почти не помнила их лиц, добравшись до «дома», она без сил опускалась на кучу влажного тряпья, что служила ей неизменной постелью, и мгновенно засыпала, забываясь тяжелым, безрадостным сном. Ее худенькое тельце вздрагивало, инстинктивно зарываясь глубже в прелую ветошь, впитывая в себя ее нездоровое тепло…
Так текла ее жизнь до той поры, пока не умерла та седая косматая женщина, чей образ много позже был определен сознанием повзрослевшей Лады этим страшным в ее памяти – и одновременно горьким в воображении – термином мать.
* * *
Проснувшись рано утром, озябшая, голодная, она по привычке не шевелилась, ни одним мускулом не демонстрируя свое пробуждение.
Просыпаться слишком рано было опасно. Демид, тощий, нескладный бомж с грязной, спутанной бородой, как Лада подозревала, молодой еще парень, выглядевший, подобно всем «лицам без определенного места жительства», много старше своих лет именно из-за грязи и опущенности, – так вот, Демид не спал, шумно копошась неподалеку, возле потухшего за ночь костерка.
Таких терминов, как «бомж», Лада нахваталась совсем недавно, побывав вместе с матерью в РУОП Бирюлева, где усталый и злой мент коротко и выразительно растолковал ей значение данной аббревиатуры, сопроводив урок юриспруденции порцией электрошоковой терапии…
Лада лежала с закрытыми глазами, вдыхая флюиды гниющих во влажной атмосфере коллектора тряпок и ощущая, как в спину больно упирается что-то твердое и холодное.
Она боялась просыпаться, потому что знала: стоит ей пошевелиться, и вечно «озабоченный» Демид тут же потянет ее в укромный закуток, чтобы сорвать с нее лохмотья, скрутить худую девочку-подростка и тут же удовлетворить свою звериную похоть…
Нельзя сказать, чтобы Ладе эта процедура внушала ужас: выросшая среди обитателей коллектора, она относилась к насилию скорее равнодушно, как к повинности… Но стыло в ее маленькой, деформированной душе что-то мерзкое, будто она подсознательно ощущала, сколь нечистоплотно и отвратительно происходящее с ней, хотя ее не могли ни удивить, ни озадачить исходящие от плоти Демида запахи или его прерывистое, хриплое, зловонное дыхание у нее за спиной.
Просто ей не нравилось начинать каждое утро с одного и того же.
Твердое, острое и холодное давление в спину не слабело, будто рядом с ней, упираясь между лопаток, лежала груда битых кирпичей или железного лома…
Не выдержав, Лада пошевелилась и рывком села, сбросив с себя укрывавшее ее тряпье.
В тусклом свете занимающегося весеннего утра, пробивавшегося косыми бледными лучами сквозь отверстия вытяжной вентиляции в крыше бетонной коробки коллектора, ее худое лицо с острыми чертами имело землисто-серый оттенок.
Демид, услышав движение, как зверь, повернулся всем корпусом. При виде Лады, расширенными глазами уставившейся на кучу окружающего ее тряпья, он издал судорожный, сипящий вздох.
Вздернутая верхняя губа девочки вдруг задрожала.
Почуяв неладное, Демид встал и подошел к ней.
Лада сидела, не шелохнувшись, глядя в одну точку, на мать, которая застыла рядом, странно разведя в стороны окоченевшие уже руки, словно бы пыталась в этом последнем жесте обнять все – и закопченный потолок коллектора, и невидимое за ним утреннее небо, и плывущие по нему облака…
Ее остекленевшие глаза были широко открыты, рот с посиневшими губами плотно сжат, она лежала на влажном полу, едва прикрытая полуистлевшим тряпьем, словно брошенный на свалке манекен, давным-давно отслуживший свое и валяющийся тут, обезображенный временем…
Впервые Лада видела смерть так близко, что называется, в упор.
– Сдохла, старая сука… – беззлобно произнес Демид, опускаясь на корточки подле оцепеневшей Лады. – Кто ж тебя теперь кормить будет? – похотливо покосившись на девочку, спросил он.
Рука Демида потянулась к ней, с уверенным проворством проскользнула под ветхую одежду, больно сжала только начавшую формироваться грудь.
Лада молча вырвалась.
В дальнем углу коллектора пришла в движение еще одна куча грязного тряпья, и оттуда появилась совершенно лысая трясущаяся голова старика.
– Што там, Демид? Што шумишь, козел? – шамкая беззубым ртом, поинтересовалась голова.
Глаза Демида вдруг подернулись кровавой поволокой.
Лада знала, что последует за этим. Он возьмет ее силой – зверел Демид в считанные секунды, и среди бессильного населения коллектора не было у молодого бомжа достойного противника.
В другой день она бы смирилась, но сейчас, инстинктивно отодвигаясь в сторону, она смотрела на воздевший к грязному потолку иссохшие руки труп матери, ее остекленевшие, тусклые глаза, и в душе Лады, возможно, впервые за весь период ее мрачной, беспросветной жизни, от момента рождения до сегодняшнего дня, вдруг шевельнулось не осознанное разумом чувство собственного достоинства, – спроси ее, и Лада бы не ответила, что за бес руководил ею в тот момент, когда Демид, грубо толкнув ее на кучу тряпья подле трупа, сопя, начал расстегивать штаны…
Извернувшись, она ударила его в пах…
Налитые кровью и похотью глаза некоронованного короля коллектора вдруг потускнели, вылиняли, став на секунду точно такими, как у трупа, ноги Демида подкосились, и он с невнятным стоном рухнул на колени, опершись одной рукой о грязный бетонный пол.
Лада вскочила, будто ее ошпарили.
Сейчас она походила на маленького уродливого зверька.
Из легких Демида с шумом вышел воздух.
– Сука… – прохрипел он, протягивая в сторону девочки вторую руку с растопыренными пальцами. – Что ты сделала, гадина… – слова выходили из его перекошенного рта натужно, хрипло… – Загнешься теперь… Убью…
Лада знала – он не врет.
Развернувшись, она беспомощно посмотрела по сторонам, а потом вдруг, не произнеся ни слова, бросилась к приоткрытой ржавой двери…
Больше она никогда не возвращалась сюда.
* * *
Как может выжить бездомная, некрасивая, прихрамывающая девочка четырнадцати лет в многомиллионном городе?
Этого Лада не знала.
Куда идти, что делать, как выжить – и нужно ли выживать вообще, – эти вопросы неосознанно присутствовали в ее душе, когда она, прихрамывая и задыхаясь, убегала прочь от заросшего кустарником берега Москвы-реки.
Она еще не знала, да и не могла знать о том, что ее судьба уже предрешена целой цепью событий мирового уровня.
…С космодрома на мысе Канаверал, во Флориде, стартовал последний транспортный челнок, доставивший на околоземную орбиту завершающий модуль для сборки первого американского космического крейсера.
…В Японии, на заводе компании «Сангус», в узком кругу состоялась презентация первой сервоприводной модели искусственного человека. Тонко завывая приводами, манекен с лицом витринной куклы прошел перед собравшимися под их бурные аплодисменты.
…В России, на одной из тихих московских улочек, свалили три ствола огромного тополя, которые росли из одного корня. На этом месте остался уродливый тройной пень, окруженный потрескавшимся от мертвых теперь корней асфальтом.
Ни об одном из этих событий не знала и не могла знать четырнадцатилетняя бродяжка, которой предстояло сдать свой собственный экзамен на выживание в джунглях многомиллионного, загазованного и совершенно безразличного к ней города.
(обратно)Глава 3.
Земля. Подмосковье. Декабрь 2000 года…
Зимой темнеет рано.
В этот звездный, безлунный вечер в поселке Гагачьем редко горели фонари, бросая желтые пятна нездорового электрического света на голубой, пушистый, искрящийся снег, что лежал сугробами вдоль кирпичных заборов, распиханный недавно прошедшим грейдером по обе стороны единственной улицы…
Сразу за крайним домом, за полосатыми столбиками, скупо обозначавшими насыпь дороги, проложенной через ручей, мрачной громадой возвышался лес. Там было еще темнее, чем в поле, за опушкой, и серые коробки приземистых, давно покинутых зданий таинственными пятнами маячили меж стволов.
Если пройти к ним нетронутой целиной, где снега намело по пояс, а вдоль редких лыжных следов то и дело попадались талые дырочки от упавших в снег горячих автоматных гильз, то в такой тьме можно внезапно налететь на обрывки ржавого проволочного заграждения или притаившийся меж сосен давно вылинявший и потерявший свои краски плакат: «СОЛДАТ, БУДЬ БДИТЕЛЕН НА ПОСТУ».
Раньше, еще в начале девяностых годов двадцатого века, попасть в окрестности поселка, не имея на это специальных полномочий, было весьма и весьма проблематично.
Здесь располагался секретный объект «номер двадцать четыре». Именно так упоминался он в документах, и больше о нем не говорилось ничего.
Сейчас в поселке осталась лишь отдельно дислоцированная рота внутренних войск, которая несла караульную службу на ветшающих останках былого величия и мощи советских вооруженных сил. Кроме коллапсировавшего до размеров нескольких зданий военного городка, в поселке располагалось несколько дач, до сих пор принадлежащих Министерству обороны. Раньше в этих кирпичных двухэтажных домах жили научные сотрудники двадцать четвертого объекта, а теперь сюда изредка наезжали большие армейские чины, чтобы поохотиться в лесу на расплодившихся зайцев.
Как сказал бы философ: «Все течет, все меняется…»
Пухлые, свисающие с остроконечных жестяных грибков сугробы теперь могли вызвать у какого-нибудь сотрудника иностранной разведки разве что приступ острой ностальгии… Никого больше не интересовали разбросанные в заснеженном лесу явные признаки эшелонированных вглубь подземных бункеров и прочих, некогда строго секретных коммуникаций.
А зря…
Кривые, выведенные от руки надписи типа «ДМБ-1995», выбитые окна выступающих над землей одноэтажных бетонных коробок, полинявшие плакаты – все это никак не отражало истинной сути вещей. Среди унылого запустения зимнего леса трудно было вообразить, что глубоко под землей, в недрах многоэтажных бункеров все осталось на своих местах.
За мощными дверями толщиной в полметра тянулись темные коридоры, скупо подсвеченные на перекрестках и разветвлениях тусклыми, горящими вполнакала лампочками дежурного освещения. Воздух бункеров оставался чист, тихо, едва слышно в мрачных глубинах шелестели чудовищных размеров вентиляторы, поднимая тонны воздуха по тесным стволам вентиляционных шахт. В скупом свете поблескивал кафель и хром. Тьма гнездилась по углам помещений, концентрируясь в матовых глубинах погашенных мониторов.
«Гаг-24» спал, покрытый вуалью забвения, и она хранила секретный объект намного надежнее, чем многометровые заграждения, контрольно-следовые полосы и пулеметные точки на покосившихся вышках разрушенного периметра.
* * *
В этот тихий морозный вечер на единственной дороге, что, пройдя через поселок, оканчивалась тупиком перед крашеными железными воротами военного городка, показались яркие пятна света от фар.
По заснеженному шоссе уверенно скользила «Волга» серого, почти неотличимого от дороги цвета.
Машина промчалась через дамбу и, не снижая скорости, въехала в поселок, оставляя за собой вихрящуюся хмарь потревоженного снега, который в свете фонарей оседал мелкими серебристыми блестками.
В сонном, сумеречном покое заснеженного поселка ярко вспыхнули стоп-сигналы, когда машина притормозила у одного из двухэтажных коттеджей.
В доме на втором этаже вспыхнул свет, на фоне закрывавших окно жалюзи промелькнула чья-то тень. Очевидно, гостей не ждали, прошло пять или шесть минут, прежде чем хлопнула входная дверь и по дорожке к воротам проскрипели неспешные шаги.
– Кто там? – осведомился уверенный, привыкший повелевать и отдавать приказы зычный голос.
Чмокнув примерзшим уплотнителем, открылась задняя дверь машины.
– Антон Петрович? Не ждешь, значит, гостей?
Вопрос был риторическим.
– Я спрашиваю, кто? – не меняя тембра, вновь осведомился голос.
– Да свои, свои!.. Старых друзей не узнаешь, Антон, совсем одичал в своей глуши?!
– Николай, ты, что ль?! – уже более радушно, но все еще недоверчиво воскликнул хозяин коттеджа, и замерзший засов протяжно скрипнул, двигаясь в пазу. – Вот не ждал… – смутившись, пробормотал он, распахнув калитку.
У дома, под скатом крыши, загорелся фонарь, осветив протоптанную в снегу дорожку и хозяина, сухого, жилистого мужчину, которому навскидку можно было дать лет сорок – сорок пять. Именно ему принадлежал уверенный, зычный бас.
– Здравия желаю, товарищ генерал! – не то шутя, не то серьезно произнес посетитель, вскинув руку к неуставной меховой шапке. Он тоже выглядел лет на сорок, но, в отличие от хозяина коттеджа, полноватое лицо нежданного гостя, раскрасневшееся от мороза, обладало крупными броскими чертами, без намека на худобу.
– Ну, не ждал, не ждал… – опять повторил хозяин, неловко обняв приезжего. – Ну, пошли, чего стоим, – вдруг спохватился он.
– Зарайский, давай коробки! – приказал гость, направляясь к освещенному крыльцу.
Водитель и двое охранников тут же вышли и, достав из багажника машины увесистые пластиковые кофры, гуськом потянулись к дому.
– Да ты, Антон Петрович, тут устроился прямо как медведь в берлоге! – с добродушной усмешкой произнес поздний гость, снимая шубу, из-под которой вдруг сверкнули золотым шитьем генеральские погоны. – Забыл, значит, своего замполита, и Афган забыл, да? И Абхазию не помнишь?
– Не зубоскаль, все я помню… – Колвин только начал приходить в себя от неожиданного визита. Очевидно, что он жил один и уже давно никого не ждал в гости. – Время сам знаешь какое. Теперь добрые люди по ночам не шастают.
– Ага… А кто сказал, что я добрый человек? – Николай повесил шубу прямо на вбитый в деревянную панель гвоздь и, хитро прищурившись, вдруг протянул руку, резким движением отдернув занавеску в углу прихожей. В тусклом свете настенной лампы холодно сверкнул вороненый автоматный ствол прислоненного к стене «АКСУ» с примкнутым магазином. – Вижу, любишь ты поздних гостей… – с укором в голосе произнес он. – Хорош гостинец. Неужели так тебя люди обидели?
Вопреки ожиданию, хозяин коттеджа не смутился.
– Холостые, не видишь, что ли… – ответил он, кивнув на навинченную вместо компенсатора насадку для автоматической стрельбы холостыми патронами. – Пугач. Хватит уже кровушки, немало ее за нами. А что до дураков, так им и того достаточно, приезжали тут раз, ломились. А ты, я смотрю, сменил ведомство? – В свою очередь осведомился он, кивнув на выставленные напоказ нашивки. – ФСБ теперь, значит?
– Все меняется, Антон, и мы тоже…
На пороге прихожей появились водитель и охранник. Антон Петрович жестом указал в сторону комнаты – проходите, мол, а сам поправил занавеску, спрятав за ней автомат.
Два генерала – Колвин, получивший звание при уходе в отставку, и Барташов, продолжавший служить, прошли в комнату, где уже распаковывались привезенные гостем кофры. На журнальном столике появилась нарезанная колбаса в вакуумных упаковках, мясо, фрукты – все импортное, аппетитное, затянутое в толстый полиэтилен. Единственным русским продуктом, перекочевавшим на стол, оказалась водка.
Быстро и профессионально сервировав стол на двоих, водитель и охранник пошли к выходу.
– Погоди, Николай, – спохватился хозяин, – что ребятам в машине мерзнуть, пусть остаются, дом большой.
– Не волнуйся, Антон, они заночуют в роте «ВВ». Слышишь, Зарайский, прямо по улице – и упрешься в ворота части. Я звонил дежурному офицеру, он в курсе. И поставь машину в бокс, чтоб на улице не ночевала, понял?
– Так точно, товарищ генерал!
– Разговор у нас с тобой долгий, и лишние уши при нем не нужны, – объяснил свое поведение Барташов, когда хлопнула входная дверь коттеджа.
Антон Петрович вскинул на него проницательный взгляд, но возражать не стал, ехал человек в такую даль, отчего ж не поговорить…
– Видак есть? – тем временем осведомился генерал ФСБ, грузно опускаясь в кресло.
Колвин кивнул в сторону старомодной «стенки», где в нише подле телевизора тускло поблескивал тонированным цифровым дисплеем «SONY».
– Добро… Ты разливай пока.
Антон Петрович сел, взял уже успевшую запотеть бутылку «Столичной», со щелчком сорвал винтовую пробку и налил, глядя, как его бывший заместитель по политической части, развернувшись вполоборота, возится с аппаратурой. Наконец видеомагнитофон проглотил кассету. Барташов нажал кнопку паузы и обернулся.
– Ну, Антон, за встречу? – чуть помедлив, предложил он и взял в руку рюмку.
Колвин кивнул.
Выпили молча. В эти первые минуты каждый думал о своем, оба генерала исподволь изучали друг друга, потому как жизнью были битые, даром что грудь в орденских планках, – и один, и другой прошли все, начиная от знойных, щедро политых кровью скал Афганистана и кончая тайными операциями кулуарной политики, где крови и грязи оказалось больше, чем в самом адском бою с «духами».
Антон Петрович на дружбу не оглядывался. Генералы ФСБ, равно как и их предтечи из Комитета государственной безопасности, просто так по старым друзьям не ездили. Это являлось фактом, да и Барташов не скрывал, что визит деловой. А значит, дружба – это так, для завязки разговора…
Он не ошибся.
Водка оказалась крепкой. После первой не спеша закусили, помолчали. Все же сказывалась пролитая вместе кровь, как бы далеко ни развела судьба, а помнилось многое… Такое не похоронить ни за чинами, ни за годами…
– Ну, ладно, Антон… – первым нарушил затянувшееся молчание Барташов. – Тянуть не буду. Тут я тебе один фильмец привез, ты посмотри, а потом и поговорим, ладно?
Антон Петрович кивнул.
Палец генерала коснулся кнопки, и экран телевизора моментом просветлел.
Съемка хоть и велась скрытой камерой, но изображение оказалось вполне приличным – кадр почти не прыгал, и все, что надо, исправно находилось в фокусе.
У Колвина с первой секунды нехорошо кольнуло в области сердца… Вот, значит, когда вспомнили про Антона Петровича…
На экране простиралось ровное, засеянное аккуратно подстриженной травой поле, по которому там и сям были разбросаны едва приметные бугорки.
«Полигон… – моментально догадался Антон, – причем не наш, а „ихний“, – безошибочно определил он. – У нас траву не стригут, да и не сеют, кстати…»
– Полигон секретного подразделения армии США в штате Невада, – негромко пояснил Барташов. – Тут обычно испытываются все новые образцы оружия.
В поле внезапно поднялось с десяток мишеней. Отмеченный красным флажком огневой рубеж пока что оставался пуст, но вот из-за кадра внезапно донесся довольно резкий, чуть повизгивающий звук, и в фокус видеокамеры вошло нечто…
В первый момент Антон Петрович вздрогнул, глядя на хромированный скелет, который держал в руке винтовку «М16А1», опустив ее стволом к земле, будто крутой коммандос из западного боевика, потом, не то получив дистанционную команду, не то сам сообразив, что нужно делать, вдруг повернулся и немного нервной, подергивающейся походкой направился к красному флажку, отмечающему линию огня.
«Двигается достаточно сносно…» – отметил про себя отставной генерал, глядя, как робот поднимает руку с зажатым в металлических пальцах оружием. При этом системы его сервомоторов были предусмотрительно упрятаны под маскирующие пластиковые чехлы, нечто вроде доспехов, которые не позволяли разглядеть в деталях ни одного сколь-либо значимого узла этой машины…
Автоматическая винтовка в руке робота вдруг вздрогнула.
Модернизированный вариант современной штурмовой винтовки, как и ее знаменитые предшественницы, бьет с четким, различимым на слух интервалом между одиночными выстрелами, отчего они сливаются в длинную ритмичную очередь…
Мишени падали одна за другой, словно там, в поле, невидимый помощник дергал за ниточки, укладывая их на землю. Ни одного промаха, никаких рикошетов, суеты, весь магазин по одному патрону на мишень, точно в яблочко…
Запись оборвалась так же внезапно, как началась.
Барташов вздохнул, включив обратную перемотку, потянулся к бутылке и опять разлил водку.
– Ну, Антон Петрович, что скажешь?
Колвин ответил не сразу. Помолчал, пережевывая кусок колбасы и при этом продолжая смотреть в погасший экран, будто там все еще крутилось продолжение отснятого скрытой камерой фрагмента видеозаписи.
Барташов не мешал ему, развалившись в кресле, он ждал, пока бывший командир переварит увиденное.
– Ничего страшного я не увидел, – внезапно, безо всякого вступления, произнес Антон. – Хорошая поделка, не больше.
– То есть как? – Николай Андреевич не сумел скрыть удивленную реакцию на подобное резюме.
– Просто, – уже посмеиваясь, ответил Колвин. – Ты не специалист, Коля, извини, по твоей реакции сразу заметно. У этой машины, которую ты мне продемонстрировал, может быть, и есть будущее, но оно слишком далекое и призрачное. Поверь, на сегодняшний день этот твой «терминатор» не более чем забавная игрушка для пентагоновских генералов. Потешатся и выкинут.
Барташов покачал головой, поджав губы в упрямую линию.
– Объясни, пожалуйста, мне, рядовому неспециалисту, – без тени иронии, сумрачно попросил он, забыв о водке, рюмку с которой держал на весу во вспотевшей ладони.
– Ты пей, сейчас объясню. – Колвин откинулся в кресле и, приподняв свою рюмку, чуть качнулся в сторону гостя.
Выпили, но напряжение осталось.
– У этой машины, что засняли твои агенты, есть два основополагающих недостатка, – подцепив вилкой кусок ветчины, начал Антон. – Это, во-первых, источник энергии, а во-вторых, мозг. Давай разберемся без фантастических выкладок. Мы с тобой все еще здесь, на Земле 2000 года. Теперь ответь, с точки зрения реально существующих сегодня технологий, чем ты нормально запитаешь почти две сотни сервомоторов, которые необходимы, чтобы показанный тобой робот просто двигался, подобно человеку?
– Не знаю… – откровенно признал Барташов, немного расслабившись. – Аккумуляторы, наверное?..
– Ну и надолго их хватит? Ты подумай сам, ведь они пытаются создать аналог человека! У нас даже когда мы сидим, и то что-то двигается, напрягается… а в бою? Это ведь не на полигоне – вышел деревянным шагом, поднял пушку, бац, бац – все мишени вповалку, публика в шоке! Там ведь нужно по-настоящему двигаться, ужиком ползать, бегать… Но стационарное питание на него не повесишь, кабель к заднице не протянешь. А все батареи для такого изделия – это, извини, чушь собачья. Сдохнут через пять минут, будь они хоть сто раз «энерджайзером». Зря, что ли, у нас на каждую единицу боевой техники есть свои характеристики – на сколько минут боя рассчитаны. Это по своей прочности и уязвимости, а добавь сюда малый энергоресурс? Тут одно исключает другое, либо твой робот привязан к кабелю, либо через пять минут он застынет, как истукан…
– Погоди, Антон, а как же в космосе? Туда ведь кабели не протягивают!
– Не путай божий дар с яичницей, Коля, не маленький уже! Там солнечные батареи, открытое пространство, море лучистой энергии, да и найди мне такой спутник, который несет в себе две сотни механических приводов? В лучшем случае, десяток, ну два, и то это уже катастрофа для конструкторов.
– Хорошо, хорошо… убедил. Источник энергии будем проверять дополнительно. Возможно, что ты и прав. Мне нечто подобное тоже приходило в голову. Грош цена тому солдату, который остановится вдруг ни с того ни с сего посреди боя… это понятно.
– Ну, раз понятно, стоит ли дискутировать дальше? Это день даже не завтрашний, а одному богу ведомо, какой. Нужен, прежде всего, портативный источник энергии, желательно ядерной, чтобы такой вот механизм получил право на жизнь хотя бы в теории. Все, что показывают нам в Японии на их выставках робототехники, конечно, красиво, впечатляюще, но в основном, мягко говоря, – несостоятельно, как только речь заходит об автономии.
– Я смотрю, ты крепко владеешь вопросом, Антон? – усмехнулся Барташов. – Не совсем еще вышел из курса дел, значит…
Последнее замечание подействовало на Колвина угнетающе. Весь его энтузиазм как-то вдруг пропал, словно в нем загасили некую искру прошлого, вспыхнувшую было с прежней силой.
– Да, я владею вопросом, – с внезапной угрюмой резкостью ответил он. – Ты ведь знаешь, чем я занимался после Кавказа…
– Знаю, – из-под добродушно-расслабленной личины Барташова вдруг на мгновенье промелькнуло совсем другое выражение, словно блеснули из-под овечьей шкуры здоровые белые клыки матерого волка. – Потому и приехал, – впившись взглядом в осунувшееся лицо Колвина, произнес он. – Думаешь, у меня нет спецов, способных прокомментировать эту запись? Ошибаешься, есть, – не дождавшись ответа, добавил он. – Ты же умный мужик, Антон, неужели не понял, каких объяснений я от тебя жду?
Колвин молчал. Он сидел, вонзив взгляд в пустую рюмку. В ее хрустальных гранях плавился и преломлялся приглушенный свет настенного светильника.
– Значит, получается как, Коля? – вдруг глухо спросил он. – Когда нужно было лечить ребят, искалеченных на войне, мне сказали что? Нет денег, страна в заднице, сиди, мол, со своими разработками и не рыпайся, без тебя проблем по горло… А теперь, значит, деньги есть? Или жареный петух приложился к одному месту?
– Не ерепенься, Антон, все мы прошли через перестройку, развал армии, и жизнь была поровну на всех… Думаешь, «Гаг-24» единственный законсервированный объект ВПК? Думаешь, меня или кого-то другого гладило все эти годы по шерстке?
– Гладило! – с необъяснимой вспышкой ярости вдруг произнес Колвин, резко вскинув рано поседевшую голову. – Про тебя не возьмусь говорить, а тех, кто загнал наших ребят в Чечню, предварительно накормив боевиков Дудаева оружием?! Кто разбазарил страну за несколько лет? Они кайфовали и кайфуют до сих пор, в то время как молодые ребята без ног сидят у станций метро на деревянных каталочках! Я ведь мог дать им ноги, мог, но на это не отыскалось денег – деньги были только на новые «Мерседесы» да на конкурсы красавиц!
Он вдруг резко замолчал, понуро глядя в пол. Лицо Антона как-то вдруг осунулось, словно разом навалились непосильные годы…
– Хорош ты, праведник, – не повышая тона, но с напряжением в голосе ответил ему Барташов. – Закрылся тут на ведомственной даче, с «калашом» под задницей, не подходите ко мне, обиженный я! Сижу, жру паек, получаю пенсию, как медведь в берлоге, а ты, страна, катись к едрене фене, американцам под звездно-полосатый флаг, за их долбанные окорочка с ветчиной!… Хороша позиция, удобная, нигде не свербит, не дует… Ты же русский, Антон, опомнись!.. – вдруг резко напомнил он.
Его слова, очевидно, попали в точку, задев за живое отставного генерала.
– Я не заперся тут! – с возрастающим с каждым словом ожесточением ответил Колвин. – И на пенсию не озолотился – вся она там, под землей, в лабораториях «Гага», только потому они и живые, что каждый день туда ползаю, как на работу, то тут лампочка перегорела, то там вентилятор завыл. Слесарем тут подвизался, все ждал, надеялся, может, опомнятся, вспомнят… Вспомнили… – с неизъяснимой горечью произнес он. – И опять-таки, не калек лечить, не ребят с того света вытаскивать, – киборга им подавай… Да, я могу его сделать, и эта твоя американская поделка уйдет ржаветь на полку, как только ты им покажешь видео!…
– Да не во мне дело, дурья башка! – Барташов зло сверкнул глазами на Антона и потянулся к бутылке, вновь разливая водку. – Время прошло, понимаешь? – уже спокойнее, примирительно произнес он. – Страна стала немножко другой, но и мир тоже изменился. Мы из дерьма выкарабкиваемся, голову опять приподняли, глядь вокруг – а союзников-то больше нет. Как дали американцам волю в конце девяностых, так они понемногу и загребли под себя все. Теперь весь земной шар – сфера их стратегических интересов. По голове долбают, только пыль столбом. Вон, слышал, собираются первый военный крейсер на орбиту Земли выводить. Для поддержания решений ООН. А мы теперь кто? Об этом ты думал?
– Не знаю, думал ли я об этом… – Антон Петрович с хмурой обреченностью запрокинул голову, проглатывая пятьдесят граммов водки. – Я конструировал сервоприводные протезы костей, совместимые с живой тканью. На это ушли годы. И все коту под хвост… Что ты думаешь, я считать не умею? Да ты хоть знаешь, сколько стоит мое изобретение, продай я его за бугор? Миллионы долларов, а ты мне говоришь про патриотизм.
– Ладно, Антон Петрович, остынь… – Барташов вздохнул, потянувшись за брошенной на стол пачкой сигарет. – Знаю, что не использовал ты «Гаг» ни в каких корыстных целях, и патент никому не предлагал, знаю…
– То есть как? – Колвин напрягся. – Следили, что ли?
– А ты как думал? – Николай Андреевич прикурил, выпустив сизую струйку дыма. – Знаешь ведь наше ведомство, тут на одном доверии, без подстраховки, далеко не уедешь… Вон недавно, может быть, видел по телевизору, деятеля одного показывали, бывший мавзолейный работник, следил за телом вождя мирового пролетариата… Сейчас, знаешь, чем занимается? Свою контору открыл, братву бальзамирует… Вот так-то. И это, скажу тебе, самый безобидный случай. А ну как ты, обиженный и непонятый, туда же пошел бы?
Колвин промолчал.
– Вас, работников «Гага-24», осталось всего трое. Один еще служит, второй, как и ты, на пенсии. Так вот, теми двумя, не буду пока называть фамилий, уже интересовались, пытались подкатиться. А раз слушок гуляет, то сам знаешь, шила в мешке долго не утаишь…
– Да что утаивать-то! – опять резко ответил Колвин. – Кого они хотят, всадников без головы, что ли? Я же сказал, есть две проблемы – энергетика и мозг! Если первую я могу решить, то вторая…
– Вторая тоже решаема, Антон, – внезапно произнес Барташов. – Вот через этот чип. – Он залез пальцами в нагрудный карман и достал оттуда запаянный полиэтиленовый пакетик с микросхемой, у которой были очень своеобразные выводы не в виде паучьих лапок, как для пайки, а с набором крохотных, почти микроскопических зажимов, какие используют в микрохирургии. – Это блок-адаптер, своего рода переходник между головным мозгом и любой адекватной телу конструкцией, – продолжил он в гробовой тишине. – Японская разработка, которой грош цена без твоей технологии самодостаточных сервоприводов. Сейчас они бахвалятся тем, что пришили голову овцы на электромеханический аналог тела, и это псевдоживотное не только живо, но и исправно жрет…
Антон почувствовал, как вдруг помутилось в голове, а пальцы мелко задрожали, когда он тянулся к запаянному в полиэтилен чипу…
Неужели это возможно?
– Как?! – хрипло выдавил он, не коснувшись полиэтиленового пакета, словно страшился его содержимого.
– Просто до безобразия, – ответил генерал, внимательно наблюдая за своим бывшим командиром. – Имитировать высшую нервную деятельность действительно не по силам современной электронике, но результат работы нервных тканей всегда один – цепочка возбуждения, сигнал, транслируемый от мозга через центральную нервную систему к определенному органу. Японцы сделали буквально следующее – они замкнули все сигналы от мозга на компьютеры и принялись отслеживать, что чему соответствует, а потом, когда нашли твердые аналогии, то создали вот этот блок-коммутатор, преобразующий нервное возбуждение в простой сигнал сервоприводному механизму.
Колвин, который в свое время немало поломал голову над данным вопросом, протестующе вскинул руки.
– Знаю, что скажешь… Знаю. Это опытный образец, большинство возбуждений пропадает впустую, нет внутренних органов, которым они адресованы, больше миллиарда комбинаций они просто проигнорировали, не разгадав адресатов, обратной связи фактически нет, но, Антон, разве боги горшки обжигают? Я своими глазами видел, ходит эта овца!..
Глаза Антона Петровича вдруг посерели, выцвели не то от выпитой водки, не то от мыслей, что бродили в его голове в эти минуты.
– Коля… – наконец хрипло выдавил он. – Ты предлагаешь мне сделать зомби, я так полагаю? Сервоприводную машину с человеческим мозгом, у которого окажется невостребованной девяносто процентов функций… Для чего?! Чтобы утереть нос американцам?!
Барташов поморщился, словно его поразил внезапный приступ зубной боли.
– Антон, ты знаком с таким термином, как «гонка вооружений»? – после некоторой паузы спросил он.
– Ну? – поднял взгляд Колвин.
– Так вот, «холодная война» официально, «де юре», так сказать, окончилась при Горбачеве, но «де факто» шла и идет по сей день. Я знаком со статистикой и знаю, сколько позиций мы безнадежно потеряли. Понимаешь – безнадежно. Это значит без шанса вернуть себе то мировое положение, какое занимал Советский Союз. Сейчас начинается раскрутка нового витка технологий, и это шанс для России. Мы должны хотя бы раз посадить Штаты на задницу, дать им понять, что они не являются безраздельными владыками постперестроечного мира, что мы тоже сильны, велики не в меньшей степени и сбрасывать Россию со счетов слишком рано.
– Ну хорошо… – Антон поднял седую голову и взглянул на чипсет так, словно это был не кусочек кремния с хитро проштампованными микроскопическими металлизированными дорожками, а некий сгусток проказы, один вид которой заставлял гулять по позвоночнику крупную дрожь… – А кого ты собираешься сделать… – он замялся, подбирая слово, – ну этим, киборгом?
– Да навалом кандидатур, не беспокойся. Мало ли людей без роду-племени расплодилось за эти годы на улицах. Не переживай, Антон Петрович… – Он вдруг осекся, взглянув в посеревшее и осунувшееся лицо Колвина.
– Знаешь-ка что, замполит? – чуть привстав, не своим голосом произнес Антон, не отрываясь глядя в лицо своему бывшему заместителю по политической части. – Иди-ка ты отсюда поздорову, как и пришел. Набери себе отморозков с улицы, они по интеллекту как раз сойдут под твоих желанных киборгов, раскрась, как положено, и показывай Штатам, авось напугаешь! А я в этом участвовать не буду, ты понял?!
– Дурак ты, Антон Петрович… – тяжело вздохнул Барташов, вставая. – Дураком прожил, дураком и помрешь… А жаль… – Он повернулся и, не оглядываясь, пошел к выходу.
– Эй, – окликнул его Колвин, пальцы которого еще дрожали от гнева. – Забери это, – он указал на упаковку с чипсетом.
– Не напрягайся, пусть лежит. На нее японцы получили патент, там нет никаких коммерческих или военных тайн. Может, что надумаешь, так звони. – Он демонстративно воткнул в щель между досками «вагонки», которой был обшит коридор, свою визитную карточку и, не прощаясь, вышел.
Было слышно лишь, как хлопнула входная дверь да взвыл за окном злой и колючий январский ветер…
…На следующий день, рано утром, Антон Петрович Колвин впервые за последние годы покинул обжитой коттедж в поселке Гагачьем.
Он возвращался в свою квартиру в Москве, и на душе у отставного генерала было муторно, как никогда.
Во внутреннем кармане добротного зимнего пальто лежал запаянный в прозрачную оболочку небольшой, уместившийся бы на ладони ребенка чипсет…
(обратно)Глава 4.
Прошлое…
Можно сказать, что ей повезло: не найдя в своем сознании вразумительного ответа на вопрос о выживании, мучимая голодом, она пошла по знакомому и, как казалось ей, верному пути: к станции метро, потом мимо дежурных, за спиной спешащих на работу людей, вниз, на эскалатор, в гомон толпы, неодобрительно расступающейся, чтобы не замараться о ее лохмотья, туда, где в подземном переходе навсегда поселилось ее детское сознание…
К удивлению Лады, попрошайничать в переходе, без стоящей за спиной матери, оказалось весьма проблематично. Одно дело – опустившаяся старуха с дочкой-инвалидом, а другое – подросток, пусть хромой и некрасивый, но вполне трудоспособный, того самого возраста и вида, когда бездомные, опущенные жизнью девочки начинают отдаваться первому встречному просто за кусок хлеба…
Лада не понимала этой разницы и не думала о ней. Она жила сиюминутными желаниями, почти как зверь, не задумываясь о «завтра», не отличаясь ни особым интеллектом, ни какими-то способностями к абстрактному мышлению. Эти понятия прошли мимо нее, растворились в зловонных лужах коллектора, подменившись простым и жестоким опытом выживания.
Неудивительно, что в первый же день ее забрал наряд милиции и девочка очутилась в приемнике-распределителе для несовершеннолетних.
Это место поначалу показалось ей чуть ли не раем на земле. Жесткая кровать с металлической сеткой, грубые, но чистые простыни, набитая ветошью подушка… Лысые мальчики и девочки, злые, жестокие – маленькие звереныши, – они тоже показались ей поначалу сродни ангелочкам, беззаботно порхающим рядом…
Конечно, сознание Лады не облекало ощущения именно в такие мысли, осознание окружающего остановилось где-то на уровне чувств, но разве мог не удивить ее мирок приемника-распределителя с его жестокими, по иным меркам, законами и скудными условиями существования детей после многих лет, проведенных в прелой бетонной коробке подземного коллектора, питания объедками и каждодневного насилия?
Нет, первые дни она просто отдыхала и духовно, и физически.
Трудности начались позже, когда ее, вместе с группой похожих на нее детей, этапировали в один из подмосковных интернатов для трудновоспитуемых подростков.
Лада совершенно не понимала, что в ее жизни наступает кардинальный перелом.
Раньше она не задумывалась о многом, что являлось очевидным для окружающих ее людей. Здесь же ей быстро и болезненно внушили представление о трех вещах: во-первых, она оказалась тупой, во-вторых, уродливой и наконец, в-третьих, за все нужно платить: и за относительно чистое белье, и за еду, и за то, что ей, не то издеваясь, не то сопереживая, растолковали два первых постулата ее новой жизни.
Для сознания девочки настали в полном смысле этого выражения «черные дни». То, что раньше ощущалось ею подспудно, в виде туманных образов и понятий, робко толпящихся где-то на пороге неразвитого сознания, теперь вдруг окрепло, вырвалось из темных глубин и с ужасающей скоростью начало обретать зловещие формы понимания того, кто она есть на самом деле…
Маленькое, тупое, уродливое ничтожество…
Неудивительно, что в пятнадцать лет она впервые заплакала, уткнувшись лицом в жесткую казенную подушку.
А потом вдруг произошел слом, как в тот памятный день, когда умерла мать.
…Наступал вечер. За зарешеченным окном первого этажа резкий осенний ветер рвал пожухлую листву деревьев. Сентябрь 2016 года выдался дождливым, ветреным и холодным. Лада лежала на голых нарах карцера, куда угодила за провинность на уроке, и смотрела в белый шершавый потолок.
Учеба давалась ей с неимоверным трудом, школу она ненавидела. Однако особо выбирать не приходилось – обстановка не располагала, – любое сопротивление со стороны строптивой ученицы каралось жестоко и немедленно, и Лада, сама того не желая, за полтора года, что провела в стенах интерната, получила элементарные понятия о многих вещах. Она узнала, что такое гигиена, нормальная одежда, получила азы понятий об обществе, взаимоотношениях между людьми, деньгах, научилась читать и писать…
Она повзрослела, и душа ее покрылась черствой коркой.
Парадокс: чем больше расширялись ее понятия об окружающем, тем более туманным и противоречивым становился мир…
…С сухим щелчком в замке двери дважды провернулся ключ. Металлическая дверь карцера протяжно скрипнула на петлях.
Лада демонстративно закрыла глаза.
Она была упряма и не хотела никого видеть.
По бетонному полу прошелестели шаги, рука коснулась ее плеча, настойчиво встряхнула.
– Вставай, поговорим.
Ей пришлось подчиниться. Сев на нарах, она оперлась руками о грубый стол, что стоял подле.
– Объясни, Лада, зачем ты это сделала? – спросила усевшаяся напротив женщина средних лет, с усталым, вечно осунувшимся лицом. Это была Мария Ивановна, воспитатель отряда, в котором числилась Лада.
Речь шла о голубе.
Несколько дней назад кто-то из надзирателей нашел его в кустах, подле символического периметра, что окольцовывал здание интерната. Птице кто-то подранил крыло, да и в облезлом хвосте не хватало нескольких перьев. Голубь ковылял по асфальтированному плацу, перед строем одинаковых, коротко стриженных пацанов и девчонок.
Он сразу не понравился Ладе. Во-первых, вокруг птицы было слишком много суеты, которая по большей части являлась простой показухой – это Лада научилась тонко и безошибочно распознавать еще в метро: наверное, единственное, чему научила ее нищенская жизнь, – это тонко различать фальшь, натянутость в человеческих голосах и жестах, а во-вторых, к обеим ногам голубя пристали засохшие, уродливые куски его собственного помета…
Здесь, в интернате, она пристрастилась к чистоте. Казалось бы, Лада всю свою сознательную жизнь провела в вонючем отстойнике, среди гниющего от влажности тряпья и грязь уже не должна была вызывать у нее никаких отрицательных чувств, но случилось как раз обратное – девочка с неизъяснимым наслаждением мылась, следила за своей одеждой и сторонилась неопрятных сверстников…
Засохший на лапах голубя помет неприятно подействовал на нее, всколыхнув непрошеные воспоминания. Лада отвернулась, пряча лицо от порывистого ветра, в то время как другие дети обступили злополучную птицу; учительница насыпала хлебных крошек прямо на плац, и голубь клевал их, цокая по асфальту засохшим на ногах дерьмом.
Лада стояла чуть в стороне, равнодушно глядя в сторону синеющего поодаль за забором леса.
Кроме грязи и нечистот, она патологически не переносила фальши. Во многих вопросах ей не хватало знаний и жизненного опыта, но оттенки витающих вокруг чувств она ловила с отточенной болезненностью, сама не радуясь этому своему дару…
– Лада, ты почему не подходишь? – настиг ее голос учительницы. – Иди сюда. – Она подняла голубя и сунула его в руки девочки. – Смотрите, дети, он больной, голодный и несчастный. Мы будем его кормить, и он поправится. Люди должны помогать братьям своим меньшим, любить и беречь их…
Назидательный голос учительницы бился в ушах Лады, и она вдруг ощутила, как мочки этих самых ушей горят огнем…
Голубь ловко извернулся в ее ладошках и, вытянув насколько можно свою шею, клюнул ее в оголенное запястье, торчащее из короткого рукава старого, поношенного демисезонного пальто…
Пальцы Лады сжались сами собой. Голубь вдруг растопырил клюв, но ничего не вырвалось из его пережатого горла.
Тушка с растопыренными в агонии крыльями, чем-то похожая на маленького больного орла со случайно виденного Ладой герба какой-то иностранной державы, с мягким стуком упала на потрескавшийся асфальт казенного плаца.
Она стояла, плотно сжав побелевшие губы, и смотрела прямо в глаза онемевшей учительницы.
…Точно так же, как сейчас.
Пустой, выцветший взгляд девочки приводил сидящего напротив педагога в полное замешательство, вызывал неприятное чувство озлобленности против ребенка.
Проработав тридцать лет в колонии для несовершеннолетних, трудно сопереживать каждой отдельно взятой судьбе.
– Ну, ты объяснишь мне?
Лада медленно подняла голову.
– Так было лучше… для него, – неожиданно произнесла она, вновь опуская взгляд.
Подобный ответ мог привести в замешательство кого угодно.
В нем не послышалось ни злобы, ни каких-то иных чувств, – только усталое равнодушие. Будто этот ребенок прожил не одну жизнь, а множество тоскливых, многотрудных существований теснились в его памяти, давая право так спокойно судить – кому жить, а кому нет…
– Ну, знаешь ли!.. – Учительница (или просто надзиратель?) резко привстала, заставив Ладу непроизвольно втянуть голову в плечи. – Ты сама-то думаешь, что говоришь?! Ты же девочка, женщина, будущая мать! – Штампованные, заученные до тошнотворного автоматизма фразы посыпались на Ладу, как горох, барабаня по маленькому, потерявшему всякое чувство реальности мозгу, отскакивая от него, как и положено твердым горошинам…
Через сутки, когда ее выпустили из карцера и разрешили вернуться в класс, она, дождавшись традиционной послеобеденной прогулки, совершила побег.
Никто толком не успел опомниться – девочка, которая только что находилась в толпе ребят, вдруг ни с того ни с сего оттолкнула стоявшего у ворот тучного прапорщика внутренней службы и целеустремленно побежала к синеющему неподалеку лесу…
Это был самый настоящий «побег на рывок» – так поступали заключенные в зонах, когда нечего больше терять, и орлянка с автоматным стволом казалась выходом более предпочтительным, чем возвращение в барак…
Лада бежала, спотыкаясь и падая, но, в отличие от взрослых, которые пытались обрести таким образом свободу, за ее спиной не щелкали затворы и хриплое, жаркое дыхание караульных псов не настигало ее.
Девочку провожал лишь изощренный мат поднявшегося наконец на ноги прапорщика да оторопелый взгляд педагога-надзирателя…
* * *
Весна 2025 пришла, как обычно, в срок.
Мартовский ветер дул порывами, волнуя голые ветви деревьев, на некоторых уже начали набухать клейкие почки; ноздреватый снег еще держался, но сугробы почернели, вытаивая скопившийся в них за зиму мусор, кое-где через решетки ливневой канализации уже звонко рушилась в узкие бетонные колодцы талая вода.
Прохожие, что спешили по своим делам, еще не расстались с зимней одеждой, но машины уже расплескивали в нечищенных от снега переулках грязную талую кашу, вызывая брань жмущихся к стенам домов пешеходов.
В одной из таких тихих, ничем не примечательных улочек и случилось то событие, что в корне изменило впоследствии жизнь многих людей.
Тут, на газоне перед старым домом с крепкими кирпичными стенами и свежевыбеленным фасадом, торчал тройной пень, оставшийся от сваленного несколько лет назад тополя.
Те, кто изо дня в день ходил на работу именно по этой улице, уже успели привыкнуть к сухощавому, седому как лунь старику, который сидел на плоской дощечке, прибитой к среднему пню, и с отрешенным видом наблюдал, как две собаки в ошейниках бегают вокруг, расплескивая кашу талого снега. Пока две овчарки резвились, разминая лапы, он думал о чем-то своем, обращая на своих подопечных внимание только в те моменты, когда одна из собак подбегала к нему и тыкалась носом в ладонь, требуя ласки.
Такую картину можно было наблюдать изо дня в день, и многие прохожие, чей маршрут постоянно пролегал по этой улице в утренние или вечерние часы, машинально кивали старику, словно тот был их старым знакомым.
Он же, постоянно погруженный в какие-то, ведомые лишь ему одному мысли, рассеянно кивал в ответ только в том случае, если замечал приветствие. По облику этого человека трудно было судить о роде его прошлых занятий и социальном положении, одежда старика не казалась бедной, но та отрешенность, с которой он смотрел в одну точку на каменной стене здания напротив, делала его образ сродни огарку оплывшей стеариновой свечи, обреченному, если зажгут, гореть минуту или две, не больше. Видимо, он хорошо осознавал собственный возраст и не ждал никаких чудес ни от природы, ни от жизни, ни от людей. Все, что могло с ним случиться, уже произошло в прошлом, а теперь ему оставалось только сидеть, вдыхать чуть горьковатый весенний воздух, не загадывая наперед, сколько еще лет отпущено ему в этом мире…
Это утро начиналось для него, как обычно.
Сев на прибитую к пню доску, он отстегнул поводки собак, и те весело, наперегонки кинулись бежать вдоль тротуара.
Мимо прошелестела покрышками иномарка, звонко процокали по оголившемуся из-под снега асфальту женские каблучки. Воздух этим ранним утром казался особенно чистым; он нес сладкие флюиды весны, и на душе у Антона Петровича было спокойно, даже отрадно… Хотелось просидеть так весь день, не возвращаясь в запыленный сумрак квартиры.
С того памятного зимнего вечера, когда ведомственная «Волга» подкатила к двухэтажному коттеджу в поселке Гагачьем, казалось, прошла целая вечность.
Никто больше не тревожил отставного генерала Колвина ни визитами, ни просьбами…
Тоскуя в неуютной холостяцкой квартире, ощущая вакуум полнейшего одиночества и забвения, он обзавелся двумя щенками немецкой овчарки, заботы о которых, как и ежедневные вынужденные прогулки, немного скрашивали его жизнь.
Смириться со своим положением пенсионера, оставшегося не у дел отставного военного, было тяжело, но возможно, и наслоения времени постепенно стирали в памяти острые углы воспоминаний о несбывшихся мечтах и прожитой, как ему казалось, большей частью попусту жизни. Детей у Колвина не было, жены тоже. Только две эти собаки как могли скрашивали внезапно подступившую старость…
Задумавшись, он не заметил, как в конце улицы появилась чуть прихрамывающая на одну ногу молодая женщина.
Одета она была сверхбедно, во что придется, но выглядела на удивление опрятно. Собаки Колвина, бросив возиться друг с другом, навострили уши, глядя в сторону одинокой прохожей и втягивая холодный воздух влажными черными ноздрями.
Она остановилась, в первый момент испугавшись вида двух вставших в стойку овчарок. Ее взгляд метнулся от собак к хозяину, который сидел на пне, вполоборота к ней, явно о чем-то задумавшись и не видя происходящего.
Она не стала окликать его, а присела и вытащила из кармана старого, застиранного пальто кусок хлеба, заботливо завернутый в подобие носового платка.
Овчарки с двух сторон подошли к ней, напряженно втягивая воздух.
Лада разломила кусок хлеба надвое и протянула им, заглядывая в черные умные глаза собак. Сделала она это совершенно естественно, не напрягаясь, словно этот коричневатый брусок хлебного мякиша не являлся ее единственной едой на сегодняшний день, а был припасен специально для двух черных как смоль овчарок с лоснящейся на загривках шерстью.
В этот момент Антон Петрович наконец оглянулся, спохватившись, что уже давно не видит и не слышит своих подопечных.
Его глазам предстала довольно странная, по меньшей мере, несвойственная будням картина: обе собаки жевали хлеб, аккуратно подбирая его с ладоней присевшей на корточки перед ними очень бедно одетой молодой женщины.
Ее лицо можно было бы назвать красивым, если б не приподнятая к носу верхняя губа. Даже легкая, испуганная улыбка не могла скрасить ее черты, а только усиливала врожденное уродство.
Антон Петрович привстал.
Заметив движение, Лада вскинула голову:
– Извините… они не хотели меня пускать…
У Колвина шевельнулось какое-то смутное воспоминание.
Где же он видел это лицо… уж не у подземного ли перехода?..
Бродяжка? Нищенка? Но почему тогда ее одежда выглядит так, словно за ней ухаживают каждый день? Что-то в образе этой молодой, изуродованной при рождении девушки не вязалось в его сознании с понятием о грязных, замызганных попрошайках, что сновали меж коммерческих киосков у ближайшего метро или толклись у входа в вестибюль станции.
Посмотрев на хлеб, который доедали его собаки, и чистую тряпочку, лежащую на коленях девушки, он вдруг отчетливо понял, что у нее не может быть лишнего куска хлеба, припасенного для собак.
Колвину вдруг стало неуютно и неудобно, словно это он заставил ее поделиться с его питомцами последним…
– Да нет… это, видимо, мне нужно извиняться за своих оболтусов… – произнес он, вставая с пня, и тут вспомнил, где и когда видел ее… Пару раз она промелькнула на грани его сознания, там, где откладывались лица случайно проходящих мимо по улице людей. Он даже вспомнил, что она немного прихрамывает.
– Джек, Сингар, ко мне! – строго произнес он, обращаясь к собакам.
Овчарки подошли к хозяину, отчего-то виновато поджав хвосты.
– Ну… я пойду, ладно?
Этот робкий вопрос вызвал в душе Колвина целую гамму чувств.
Откровенно говоря, он, как и большинство людей, недолюбливал бродяг и нищих, но эта девочка… или женщина слишком резко диссонировала с укоренившимся в сознании образом уличного попрошайки. Если б не ее одежда, то Антон Петрович ни за что не причислил бы ее к данному классу.
Раньше при входе в метро он неизменно отдавал мелочь, скопившуюся в карманах пальто, тем серым, убогим личностям, что толпились подле входа в вестибюль. Пока он находился в силе, был, как говорится «при делах», Колвину ничего не стоил этот жест, а взамен он получал некое душевное спокойствие, равновесие, что ли.
Вернувшись в Москву после долгого отсутствия, он не нашел никаких радикальных перемен подле станции метро, разве что маленькие коммерческие ларьки сменились на более просторные остекленные павильоны. Все так же у входа торговали цветами и газетами, там же сидели нищие. Он по привычке опустил руку в карман пальто, но мелочи там не нашлось, и он сунул в протянутую к нему ладонь десятку.
Через пару часов ему вновь понадобилось съездить в город, и он, подходя к станции, увидел ту самую бабку, которой дал деньги. Она валялась в вонючей луже подле пивного павильона, а народ брезгливо обтекал ее с двух сторон, как течение реки раздваивает русло, чтобы обогнуть отмель и вновь слиться.
На душе у Колвина вдруг стало так гадостно, что он мысленно зарекся давать кому попало деньги. Не то чтобы ему было жаль их, а просто противно это профессиональное двуличие – с одной стороны, жалобный дрожащий голос, умоляющий о подаянии голодному человеку на кусок хлеба, а с другой – пожилая женщина, валяющаяся в собственных нечистотах…
Пока он размышлял, Лада встала, отряхнула полу старенького демисезонного пальто, на которую одна из собак оперлась лапой, и, ни слова не говоря, собралась идти дальше, по своим, неведомым Колвину делам.
– Постой!.. – неожиданно для самого себя окликнул он девушку. – Ты торопишься?
Очевидно, для нее это был совершенно риторический вопрос.
Антон Петрович посмотрел на нее, заметил, как легкая тень скользнула по чертам изуродованного пьяными генами лица, и предложение, готовое сорваться с его губ, вдруг застряло в горле. Он хотел сказать: «Пойдем, я тебя накормлю», но вдруг отчетливо понял, что ее обидит такая формулировка… «Что за чушь…» – растерянно подумал он, уже совсем не радуясь своему внутреннему порыву, но все же произнес, поражаясь натянутости и чуждости своего собственного голоса:
– Может быть… мы пообедаем… вместе?..
Девушка остановилась, не сумев скрыть ни своего удивления, ни замешательства. По ее глазам нетрудно было понять, что она действительно голодна, но ответ пришел не сразу, как на то подсознательно рассчитывал Колвин. Она стояла перед ним в явном сомнении.
«Что она пытается изобразить из себя? – вдруг уже почти неприязненно подумал Антон Петрович. – Сейчас не семнадцатый год прошлого века, когда бывшая воспитанница пансиона благородных девиц могла запросто оказаться на улице голодной и оборванной…»
– Хорошо… – Ее голос прозвучал неожиданно глубоко и взволнованно, будто слова Колвина, произнесенные скорее из вежливости, нежели из истинных, идущих от самого сердца чувств, нашли неожиданный – а быть может, долгожданный? – отклик в ее душе. – Если вы приглашаете…
– Конечно, приглашаю.
Было в ней что-то необычное, какая-то изюминка не то в голосе, не то в тени от улыбки, что, вопреки всему, блуждала по чертам ее лица, не то во влажном блеске не по годам серьезных глаз…
Откровенно говоря, Колвин злился на самого себя, достав из кармана свисток и подзывая собак его резкой трелью.
«Ну, что, старый филантроп, доволен?» – мысленно спрашивал себя он, глядя, как обе овчарки наперегонки несутся к нему.
Прицепив поводки к их ошейникам, Антон Петрович выпрямился, посмотрев на свою новую знакомую.
– Как тебя зовут? – вдруг запоздало спохватился он.
– Лада.
– А меня Антон Петрович. Пойдем, нам туда. – Он указал рукой на входную дверь в подъезд.
Его уединение, столь тщательно им культивируемое, оказалось нарушено самым странным и внезапным образом.
Впрочем, Колвин, успокоившись, решил не обращать внимания на свой великодушный порыв. В конце концов, что за беда – покормит он девочку и отпустит. Красть в его квартире особенно нечего, да и бюджет отставного генерала вполне выдерживал обед на две персоны…
* * *
Отомкнув дверь, он пропустил в квартиру собак, жестом пригласил войти Ладу, а сам переступил порог последним.
Овчарки, освободившись от поводков, тут же бросились на кухню, к миске, где их ждал завтрак.
Колвин снял пальто, повесил его во встроенный шкаф, занимавший одну из стен прихожей, кряхтя, разулся. Сунул ноги в домашние тапочки.
– Сейчас посмотрим, что нам бог послал… – Он оглянулся. – Ты раздевайся, – он кивнул на пустые вешалки в шкафу. – Пальто туда, вот тебе тапочки…
– Извините, Антон Петрович, а может, я так? – вдруг спросила она. – Только переобуюсь?
– Да что за церемонии, на самом-то деле? – Колвин, видя, что она застыла в мучительной нерешительности, и совершенно не понимая причин этой стеснительной робости, протянул руку, безо всякой задней мысли, и расстегнул одну из пуговиц ее пальто.
Он физически ощутил, как девушка вздрогнула, сжалась, и та внезапная перемена, что произошла с ее глазами, оказалась столь разительной, что Колвин тоже вздрогнул, невольно опустив руку.
Один раз он видел подобное выражение в глазах собаки, когда несправедливо наказал Джека, вытянув того поводком вдоль хребта. Осмысленное чувство ярости, неприятия, готовности дорого взять за свою честь или по крайней мере за то, что под ней подразумевается.
– Не надо, – твердо, но безо всякой злобы произнесла она, расстегивая пальто. – Я сама.
Она отвернулась, вешая одежду, а Колвин весь сжался, похолодел внутри, когда понял, что не только кусок хлеба был ее единственным достоянием…
Под пальто не было ничего, кроме заштопанной в нескольких местах теплой ночной рубашки, какие носят зимой и летом вечно зябнущие в силу своего возраста старушки.
Лада повернулась, не пряча взгляд, и спокойно произнесла:
– Извините, Антон Петрович, я думала, мне будет лучше остаться в пальто. Я не могу носить грязную одежду… – внезапно призналась она, и по ее глазам было видно, что эта странная во всех отношениях девушка сказала немного больше, чем хотела.
У Колвина перехватило дыхание, но не от вида округлостей молодого тела, которые тонко прорисовывала плотно облегающая фигуру ткань, а от запоздалого внутреннего стыда.
Не суди, да не судим будешь…
Он молча развернулся, прошел в ванную комнату, и оттуда вдруг раздался его голос:
– Ладушка, подойди сюда!
Она не надела тапочки, и по холодному кафелю коридора мягко прошелестела ее прихрамывающая поступь.
В глазах девушки блеснула предательская влага, которая была удалена, вытравлена одним резким движением перед самым порогом ванной комнаты. Неизвестно, что явилось причиной, вырвавшееся у Колвина виновато-отеческое «Ладушка» или просто ужасное, болезненное напряжение происходящего, но вошла она спокойно, с твердым, даже немного жутковатым выражением на искаженном лице…
– Вот… – Колвин осекся, напоровшись на ее взгляд, и рука с теплым халатом повисла в воздухе. – Держи. – Отбросив сомнения, он сунул халат ей в руки и внезапно добавил:
– Можешь включить горячую воду. Ты моя гостья. А я пока пойду посмотрю, чем мы будем обедать.
* * *
Застыв посреди ванной комнаты, как грубо и неумело сработанный манекен, она, не шевелясь, напряженно всматривалась в собственное отражение, что в полный рост демонстрировало ей зеркало, прикрепленное к стене над раковиной чуть тронутыми ржавчиной металлическими креплениями.
Было ли у нее свое, сокровенное представление о чуде?
Скорее всего, что нет…
В ней присутствовала та гармония, когда душа и тело являются зеркальными отражениями друг друга. Как черты ее лица оказались изломаны прихотью искалеченного алкоголем генома, так и душа Лады пребывала в стадии осколков кривого зеркала, что отражают лишь искаженные кусочки реальности, не в состоянии объять картину в целом.
В ней жили лишь отдельные желания и чувства, которые перемешивались меж собой, словно кусочки стекла в детском калейдоскопе, складывая все новые и новые, в большинстве своем страшные и отталкивающие, узоры…
Адский коктейль из понимания мира, его инстинктивного неприятия и робкой, задушенной реалиями надежды, что когда-нибудь этот калейдоскоп перестанет существовать внутри нее…
Именно эта полузадушенная надежда, как ни странно, являлась тем стержнем, вокруг которого вращались ее мысли.
Неважно, что за ужас предлагал ей день сегодняшний, – и в потных объятиях извращенцев, и в наполненной паром и запахом нечистот мойке огромного фешенебельного ресторана, и на промозглой улице, за утлой защитой картонных коробок из-под импортной телеаппаратуры, – везде она воспринималась окружающими как нечто странное, и не за ее внешний вид, а именно за то, что, дав жесткий отпор какому-нибудь пьяному насильнику в темном переулке, она, поправив растрепанные в схватке волосы и машинально выковыривая из-под ногтей чужую кожу, уходила, не матерясь, не проклиная обидчика, не издеваясь над поверженным, и по чертам ее лица минуту спустя уже блуждала легкая тень сентиментальной улыбки.
Она могла убить, если ее прижимали спиной к стене или загоняли в угол, но зло не скапливалось в ней, скатываясь по наружной оболочке, как дождевые капли по вощеной бумаге…
Сейчас, стоя у зеркала, она не знала, что ей делать, бежать ли отсюда, сломя голову, или же остаться.
Инстинкты кричали – беги! Ее жизненный опыт не предполагал нормального развития событий. Квартиры, в которых ей доводилось бывать раньше, как правило, являлись более убогими, и приводили ее туда чаще всего силой…
Она в нерешительности стояла подле зеркала, глядя на свое совершенно незнакомое, как оказалось, лицо, и слезы вдруг брызнули из глаз сами по себе, сбегая по щекам крупными горячими градинами.
Лада быстро задушила их.
Крутанув барашек смесителя, она болезненно ощутила, как упругая струя горячей воды ударила в дно чугунной ванны, разлетаясь гудящими брызгами.
* * *
Антон Петрович возился на кухне, неумело готовя завтрак, когда хлопнула дверь ванной комнаты и по линолеуму прихожей прошелестели босые ступни ног.
– Надень тапочки! – машинально напомнил он и вдруг спохватился, осознав, что она – не одна из его овчарок, а девочка с улицы, и не стоит разговаривать с ней так, словно Лада жила тут от самого рождения. Он просто позвал ее, чтобы накормить, дать возможность нормально вымыться, и нечего делать из данной ситуации проблему…
Колвин вдруг поймал себя на том, что рассуждает так, будто он – молодой офицер, пригласивший в дом случайную знакомую. «Господи, какая чушь… – подумал Антон Петрович. – Совсем, брат, в маразм впадаешь…»
Было от чего.
Эти едва слышные, прошуршавшие по линолеуму шаги всколыхнули в нем целый сонм противоречивых чувств. Он вдруг кожей ощутил пыльную пустоту трехкомнатной квартиры, навалившуюся со всех сторон, сжимая, словно стальной обруч, сухие старческие виски.
Жизнь неумолимо прикатилась к финалу. Нож в пальцах Колвина задрожал. Эта пустота останется с ним, будет преследовать до самой смерти. Когда-то он полушутя говорил, что лучший его друг – это он сам. С собой не поругаешься, себя всегда и во всем понимаешь…
Оказалось, что нет…
Чтобы осознать это, нужно было почувствовать разницу между цоканьем собачьих когтей и мягкой босой поступью человека…
* * *
Было уже одиннадцать часов утра, когда Колвин пригласил Ладу за стол.
Их поздний завтрак или ранний обед, можно называть как угодно, состоял из вермишели быстрого приготовления с китайскими иероглифами на пластиковых баночках, нарезанных дольками помидоров, двух кусков холодного мяса, извлеченных из вакуумной упаковки, и крепкого, курящегося легким паром кофе.
«Не густо для престарелого филантропа…» – мысленно упрекнул себя Колвин.
В отличие от него Лада, сидящая напротив, по другую сторону кухонного стола, находила эти блюда не просто достойной, а восхитительной заменой тому куску черствого хлеба, что пришлось ей скормить двум вставшим в напряженную стойку собакам.
Поначалу они ели молча – Колвин не находил, что сказать, а Лада просто не умела поддерживать сколь-либо непринужденную беседу за столом, не оказалось в ее багаже такого жизненного опыта.
– Ну, расскажи мне что-нибудь, – первым нарушил молчание Антон Петрович, когда легкое, ритмичное постукивание вилок о тарелки стало для него совершенно гнетущим и непереносимым.
– О чем, Антон Петрович? – рука Лады повисла в воздухе.
– Ну хотя бы о том, где ты живешь? Есть у тебя дом?
Она утвердительно кивнула, донеся наконец вилку до рта.
– Есть, – спокойно ответила девушка, прожевав кусок мяса. – В гаражах, недалеко отсюда.
– То есть как?.. – поперхнулся Колвин.
– Ну, сгорел гараж, – терпеливо пояснила Лада. – Никто туда не приходит больше, рядом кусты и ручеек… – словно оправдываясь, произнесла она. – Я натаскала туда коробок от магазина… – Она улыбнулась так непринужденно, что у Антона Петровича перехватило дыхание от этой улыбки и той непосредственности, даже скрытой гордости, которые прозвучали в голосе девушки.
Он отвел глаза, внезапно осознав, что ему страшно смотреть на нее, и не из-за врожденных дефектов внешности, а из-за того, что скрывалось за маской плоти.
Иногда, оказывается, достаточно нескольких слов, фраз, чтобы сущность человека вышла наружу до болезненной, неизгладимой очевидности.
Колвин никогда не причислял себя к разряду психологов, но сейчас и ему, старому, замкнувшемуся в себе солдафону, вдруг стало ясно, что сидящая напротив него девушка сама не понимает, сколь зла ее судьба…
Но таких, кто ведет страшную жизнь под внешним лоском зеркальных витрин больших городов, тысячи, если не десятки тысяч, и все они люди своеобразного, злого, неблагодарного склада характера, сиюминутные эгоисты, существующие по закону трущоб, который если не переплюнул пресловутый закон джунглей по статистике выживаемости, то уж по своей жестокости и беспринципности точно обогнал.
«Вот как странно оборачивается судьба…» – со смятением и внутренним страхом подумал Колвин, подняв взгляд на Ладу, которая пила кофе, обняв зябкими ладошками большую фаянсовую кружку из сервиза. В этот момент край кружки полностью скрыл дефект ее лица, и он видел только правильные черты, обрамленные влажными после купания волосами. На лице девушки в этот момент выделялись серые, состарившиеся, как и у него, глаза, вокруг которых, несмотря на возраст, уже наметились первые морщинки…
Он вспомнил, как напряглась Лада, когда он протянул руку к пуговице пальто, ее стыд и смущение, вызов, гневную готовность идти до конца…
Разве может быть у уродливой бродяжки, взращенной в недрах большого города, столько несвойственных ее касте чувств? Или она, сама не осознавая того, и есть тот самый пресловутый цветок, что распустился на зловонной свалке, подставляя зябкому солнцу свои изуродованные нечистотами лепестки?
Взгляд Колвина упал в коридор. Длинный темный коридор его жилища, откуда в пустые комнаты вели плотно запертые двери.
Тишина и затхлость квартиры вновь навалились на него, заставив буквально выдавить из себя эту простую, но далеко идущую фразу:
– Может, ты останешься у меня… хотя бы ненадолго?
Лада вздрогнула, поставила кружку и вскинула на него удивленный, полный скрытого подозрения взгляд.
– А что я должна буду делать? – негромко спросила она.
– Ничего. – Колвин сам поражался тому, что говорил, но слова исходили скорее от сердца, нежели от разума. – Просто поживи…
* * *
Есть в жизни моменты, которые не суждено забыть. Никогда.
Лада не понимала, что с ней происходит. Творящееся вокруг казалось чем-то неестественным. Она не могла просто так допустить в свое сознание мысль об элементарной человечности, скорее этот термин был попросту неведом ей, хотя подобное чувство, естественно, присутствовало в ней самой, просто оно оказалось сначала задавлено прессом жизненных обстоятельств, а потом не востребовано.
В детстве ей никто и никогда не рассказывал сказок.
Ограниченный кругозор Лады вмещал в себя грязный опыт выживания в городских трущобах, она могла бы много поведать психиатру или автору мрачных романов о падении человеческой души, но осознать мотивы поведения Колвина было выше ее сил. Встав из-за стола, Лада ощутила себя совершенно беззащитной, загнанной в угол, угодившей в западню. Теплый махровый халат с чужого плеча, казалось, жег ее тело, заставляя сердце инстинктивно сжиматься от страха – она слишком хорошо усвоила уроки, которые преподавала жизнь, и отчетливо понимала, что в конечном итоге ей за все придется платить…
Однако прошло некоторое время, в течение которого она убрала со стола, вымыла посуду и составила тарелки в стенной шкаф, висевший над раковиной, но ничего страшного не происходило.
Антон Петрович ушел в комнату, потом вернулся на кухню, держа в руках пачку папирос и пепельницу из толстого зеленого стекла. Прикурив, он закашлялся, перехватил брошенный украдкой взгляд Лады и произнес:
– Привык к папиросам. Ничего другого курить не могу. А ты куришь?
Она кивнула, продолжая мыть посуду.
– Извини, ничего другого дома нет. – Антон Петрович кивнул в сторону початой пачки «Герцеговины Флор». – Потом, попозже, может, пройдусь к ларькам, куплю что-нибудь помягче. Ты присядь, успеешь еще…
Лада покорно вытерла руки и села напротив Колвина. Достав папиросу, она прикурила.
Антон Петрович тоже чувствовал себя в полнейшей растерянности. Нельзя сказать, чтоб у отставного генерала не было опыта общения с женщинами, но этот случай, естественно, выходил из ряда вон…
Он так долго и сознательно культивировал свое одиночество, что теперь, когда его глухая защита от мира дала внезапную трещину в виде спонтанного порыва чувств, он растерялся. Глядя на Ладу, которая по возрасту вполне могла быть его дочкой, он переживал болезненное чувство раздвоенности: с одной стороны, частичка холостяцкой души тянулась к ней, но с другой – тут же возникал страх, чего можно ждать от бродяжки, чьи мысли оставались для него тайной за семью печатями?
Здравый смысл подсказывал Колвину – ничего хорошего.
…Докурив, Лада аккуратно погасила окурок папиросы и встала. Вид у нее был озадаченный, напряженный. Антон Петрович взглянул на нее и вдруг увидел глаза маленького зверька, из которых исчезла та глубина, которую он наблюдал полчаса назад. Колвин чувствовал, она боится его. С лица Лады исчезло выражение осмысленности, и вздернутая верхняя губа теперь действительно казалась принадлежащей животному. Ее жизненный опыт загонял вглубь все человеческое, и Антон Петрович внезапно с болезненной ясностью осознал: она боится его намного больше, чем он ее. И чувства Лады – ее страх, скованность, готовность в любую секунду полностью трансформироваться в опасного зверька, – имели под собой почву, которая, как подозревал Колвин, лежала вне его понимания.
Все эти мысли, достаточно быстро промелькнувшие в голове отставного генерала, выразились лишь в одном, достаточно необдуманном шаге – он, кряхтя, встал и произнес:
– Пойдем, я покажу тебе твою комнату…
* * *
Вечером того же дня Лада лежала в постели, чувствуя через тонкую ткань непривычно чистой, красивой, невесомой ночной рубашки, как проминается под ее весом хрустящая, пахнущая свежестью, накрахмаленная в прачечной простыня, и не знала, что ей делать – бежать отсюда, прикрываясь наступившей в квартире зыбкой и обманчивой тишиной, или же просто уснуть…
Нет, она не могла спать.
С нею происходили непонятные, а потому пугающие вещи.
Однако она больше не могла напрягаться, каждую секунду ожидая какого-то подвоха. Несмотря на напряжение тела, разум Лады внезапно расслабился, и это позволило ей на мгновение забыть о гулком биении сердца, ощущениях неминуемой беды и других мыслях.
Что-то сломалось в ее душе под напором БЕЗДЕЙСТВИЯ Колвина.
Он не пытался ее использовать. Он ничего не хотел от нее.
Глаза Лады, широко открытые и глядящие во мрак комнаты, вдруг подернула горячая, непрошеная влага. Впервые за двадцать лет своей беспросветной жизни она задумалась о чуде… просто допустила в мыслях возможность его существования в злобном и жестоком мире…
Чудо… Это понятие было чуждым и не казалось непреходящим. Это… Это было то, что может кончиться так же внезапно, необъяснимо, как началось.
Осторожно откинув одеяло, Лада бесшумно встала, коснувшись босыми ногами холодного пола. Ей было страшно и необъяснимо хорошо. Мир не перевернулся в ее покалеченной душе, быть может, чуть-чуть смягчились его краски… Страх оставался. Он по-прежнему глодал изнутри одинокую избитую душу, но эта боль уже не казалась тупой и безысходной, как прежде, в ней появился едва уловимый сладковатый привкус.
В темном коридоре, под дрожащим язычком света от лампы-ночника холодно блеснули глаза собак. Ни одна из них не произнесла ни звука, хотя обе, не сговариваясь, проводили Ладу до самых дверей Колвина.
Она бесшумно вошла.
Антон Петрович не спал. Он лежал с открытыми глазами, вполоборота к окну, и лунный свет, падавший оттуда, делал его лицо неживым. В первый момент, увидев его, Лада испугалась, настолько бледными, нереальными выглядели черты, но он вдруг моргнул, не замечая ее, и от сердца девушки отлегло.
Лада, едва дыша, повела плечами, и ночная рубашка соскользнула с них, отдав лунному свету ее обнаженную фигуру.
Да, она знала о своем врожденном уродстве. Но она также понимала, что Антон Петрович – далеко не юноша. Но самое главное – Лада вдруг ощутила пробежавшую по телу дрожь: он был первым встреченным ею человеком , и сейчас ни возраст, ни физические данные, ничего не имело ни веса, ни значения. Он дал ей то, чего она не испытывала никогда, – несколько часов человеческой жизни, в течение которых не оправдался ни один из ее страхов…
Лада знала, чем можно заплатить мужчине за доброту. Более того, впервые в жизни онахотела этого …
Именно поэтому, когда она скользнула под одеяло, а Колвин вздрогнул, испуганно отпрянув, Лада прильнула к нему, нашла своими губами его губы и закрыла их, предупреждая любой вопрос.
(обратно)Глава 5.
Москва. Апрель 2025 года…
Весна уже повсюду вступила в свои права, снег исчез, и на влажной земле газонов, курящейся под лучами солнца легким, прелым паром, зазеленела первая трава. Город отряхивался после зимы – «оттаяли» коммунальные службы, на улицах вдруг появились машины с вращающимися дисковыми щетками под днищем, которые упорно распихивали по обочинам, к поребрикам тротуаров, скопившийся за зиму мусор, поутру во дворах вдруг стали заметны дворники, сменившие серую зимнюю одежду на форменные оранжевые безрукавки.
Колвин в шутку называл их про себя «люди в оранжевых бронежилетах».
Теперь он уже больше не сидел на старом пне, глядя мимо случайных прохожих на выбеленную стену соседнего здания. Его жизнь, вместе с приходом весны, приобрела чуть иную, более радостную окраску.
Теперь каждое утро в соседнем парке можно было увидеть крепкого старика, который гулял по голой пока аллее в сопровождении сильно прихрамывающей девушки и двух собак. Овчарки тоже подросли, но все так же беззаботно носились, играя друг с другом, задирая попадающихся на пути кошек и вообще проявляя искреннюю радость по поводу наступившей весны и неожиданной смены наскучившего им маршрута утренних прогулок.
Отношения Антона Петровича и Лады крепли, хотя складывались далеко не так просто и безоблачно, как то могло показаться стороннему наблюдателю.
События той, первой ночи перевернули души обоих.
Колвин не мог простить самому себе, что принял ее ласку, не смог воспротивиться. Наутро его жег стыд, смешанный с горькой, переворачивающей душу нежностью, ведь Лада годилась ему во внучки… Антон Петрович вполне осознанно считал, что не имеет права принимать ее нежность, рожденную благодарностью, но та вспышка, неистовое, последнее в жизни безумное исступление, когда он не сумел оттолкнуть, остановить ласку прильнувшего к нему тела, изменили его как внешне, так и внутренне.
Он понимал: не случись той безумной ночи, и лед между ними крепчал бы с каждым днем и часом – слишком далеки были мировоззрения, души отставного военного и девушки-бродяжки… велика между ними пропасть, которую не могло заполнить ничто, кроме рожденного внезапным безумием взаимного доверия, интуитивного, подсознательного желания иметь не только физическую близость…
Впрочем, об этом больше не было и речи. Но в душе Колвин знал: она придет к нему, только помани. Это знание причиняло ему немало муки.
Они шли по голой, лишенной листвы аллее парка. Лада держала его под руку. Собаки резвились неподалеку, вокруг было тихо, лишь редкие в этот утренний час прохожие, спешащие на работу к девяти часам, кидали мимолетные взгляды на прогуливающуюся пару.
– …было все, – говорил Антон Петрович, продолжая разговор. – И война, и мир, как в романе Толстого… – усмехнулся он. – Знаешь, Ладушка, я прожил неплохую жизнь…
– Ага… – Она улыбнулась укоряюще. – Почему же ты тогда сидел там, у дома, совсем один?
В первый момент Антон Петрович не нашелся, что ответить.
– Откуда ты знаешь?.. – наконец спросил он.
– Видела, – призналась Лада. – Я часто ходила по этой улице. Иногда ты даже смотрел на меня.
Колвин на минуту замолчал. Ему не хотелось ни возвращаться в своей памяти назад, ни анализировать причины собственного одиночества. В прошлом таилось много призраков, которых он просто не желал пробуждать к жизни.
– У каждого своя судьба, – вдруг, отвечая скорее собственным мыслям, нежели своей спутнице, произнес он. – У тебя ведь тоже не все складывалось гладко, и ты не можешь однозначно мне сказать, кто виноват в этом, верно?
Лада вздрогнула, он почувствовал, как напряглась ее рука.
– Давай не будем ворошить прошлое, Ладушка. По-моему, главное то, что происходит сейчас, – ободряюще произнес Антон Петрович.
Она, не сбиваясь с размеренного, прогулочного шага, склонила голову к плечу Колвина, коснувшись щекой жесткой ткани его пальто, и искоса взглянула в лицо генерала.
В глазах Лады угадывался страх. Она, как раненый зверь, получивший короткую передышку в травле, интуитивно ощущала – что-то должно случиться. Жизнь, по ее мнению, никогда не давала ничего безвозмездно…
* * *
За окраиной парка, у старых решетчатых ворот, вот уже несколько дней появлялась одна и та же машина. Она приезжала сюда очень рано, водитель парковал ее к глухой стене дома на противоположной стороне улицы так, чтобы прохожие не смогли заглянуть внутрь через лобовое стекло. Остальные стекла машины были тонированы до зеркального блеска, и разглядеть, что творится за ними, не представлялось никакой возможности.
Никто не выходил из нее. Водитель перебирался на заднее сиденье, доставал из чехла странного вида бинокль и, закрепив его на специальной подставке, торчавшей между двумя подголовниками заднего сиденья машины, на секунду приникал глазами к бинокулярам, одновременно вращая верньеры настройки. Закончив отладку, он доставал журнал и некоторое время проводил за чтением.
Тонкий, писклявый зуммер в салоне обычно раздавался в одно и то же время – где-то около половины девятого.
Отложив журнал, странный наблюдатель смотрел в свой прибор, одновременно делая какие-то пометки на схеме парка, пока старик, девушка и две собаки не доходили до самых решетчатых ворот и не поворачивали обратно…
В это утро привычный ход событий нарушил лишь один незначительный инцидент. В салоне машины раздался еще один зуммер, и наблюдателю пришлось оставить свое занятие, чтобы вытащить из кармана трубку сотового телефона.
Выслушав голос с той стороны, он нахмурился, зачем-то опять посмотрел в свой прибор, а затем ответил:
– Да, это они.
С той стороны что-то сказали.
– Ну, если сомневается, пусть едет и смотрит сам. По моим приметам, все совпадает. Девчонка? Откуда мне знать? Ведет себя как дочка или внучка. Что? Ну, это не в моей компетенции… – Наблюдатель брезгливо скривился. – Если отдадите приказ, буду. Да, мне все равно, куда заглядывать. Хорошо. Понял…
Он свернул трубку, сунул ее в карман, а затем вернулся к своим наблюдениям, отмечая крестиками места, где останавливалась вполне заурядная на его взгляд пара. Одновременно он фиксировал время и продолжительность остановки или движения.
Наблюдатель был не более чем рядовым агентом и понятия не имел, зачем кому-то понадобился этот старик и какие силы двигают теми или иными рычагами тайных операций такого рода.
Он просто делал свою работу.
* * *
Это случилось утром восемнадцатого апреля.
В старом парке решили отремонтировать асфальтовое покрытие аллей и для этого даже удосужились отворить ржавые, давно вросшие в землю чугунные ворота.
Работы еще не начались, но вся техника уже стояла на своих местах – тихо урчал двигателем на холостых оборотах внушительный каток, рабочие сидели на свежей майской траве и курили, очевидно ожидая прибытия машины с горячим асфальтом.
Колвин и Лада появились в парке этим утром, как обычно, где-то около половины девятого.
Небо было безоблачным, солнце уже поднялось над линией горизонта, и все вокруг свидетельствовало о том, что весна вступила в пору своего буйного, очаровательного расцвета, когда отовсюду лезет свежая, клейкая зелень и лик природы меняется с каждым днем…
Дойдя до конца аллеи, они развернулись, как это делали обычно, и в этот момент в воротах показался долгожданный грузовик с асфальтом.
Первыми неладное почувствовали собаки, они вдруг остановились как вкопанные и зарычали. Шерсть на их загривках моментально встала дыбом.
Действительно, грузовик вел себя достаточно странно – набирая скорость, он виртуозно вписался в проем распахнутых ворот и, не пытаясь затормозить, пролетел мимо отдыхающих на траве рабочих в униформе дорожной службы.
В этот момент Лада инстинктивно отпустила руку Колвина и начала поворачиваться.
Все происходило, как в замедленной съемке: она видела несущийся прямо на нее грузовик, спокойное, даже уверенное лицо водителя за рулем и жесткую, нехорошую ухмылку на его плотно сжатых губах…
В действительности все происходило в течение долей секунды, но Ладе показалось, что это внезапное, парализующее своей жуткой неизбежностью действо вдруг растянулось до размеров вечности, ее ноги будто приросли к асфальту, она хотела, но не могла двигаться, лишь нашла в себе силы оттолкнуть развернувшегося вполоборота к ней Антона Петровича, прежде чем заляпанный грязью передний бампер машины ударил ее чуть пониже груди, поднял в воздух, как тряпичную куклу, проволок несколько метров, переламывая кости, и отпустил с надрывным визгом тормозов, который угасающее сознание Лады уже не могло воспринять как реальный звук…
Она ощутила лишь вспышку острой боли и бесконечное отчаяние.
Она ведь знала, чувствовала, что все оборвется так же внезапно, как началось.
В этом мире не могло быть ни справедливости, ни счастья, ни благосклонной судьбы.
* * *
Почувствовав толчок и одновременно услышав резкий, режущий по нервам звук тормозов, Колвин в первый момент не сообразил, что произошло: в миг удара он стоял спиной к грузовику и поэтому не видел его стремительного приближения, просто сбоку от него метнулась громадная тень, затем он услышал мягкий звук удара, болезненный вскрик и, уже поворачиваясь, увидел, как тело Лады безвольным кулем катится по асфальту…
Машина пошла юзом, вылетела на газон, вспахивая сырую землю заблокированными колесами, и остановилась, врезавшись левой дверью кабины в ствол дерева.
Наверное, в жизни Антона Петровича не было мига страшнее, чем этот. Мягкий, хлюпающий звук удара сказал ему все. Он рванулся к Ладе, чувствуя, как левую часть груди мгновенно затопила безумная, перехватывающая дыхание боль…
Она лежала лицом вверх. На ней не было ни кровоподтеков, ни ссадин, крови тоже не было, только кожа Лады мгновенно посерела до цвета скверной оберточной бумаги, а на губах проявилась смертельная синева…
Антон Петрович упал на колени, склонился над ней, бестолково, суетливо приподнимая ее безвольно запрокинутую голову.
В эти секунды он просто обезумел, не соображая, что делает, не видя, что творится вокруг, лишь его трясущиеся руки пытались приподнять ее голову, а губы шептали одно и то же:
– Ладушка, милая…
Потом боль в груди стала невыносимой, она взорвалась, словно вспышка напалма, прожигая насквозь область сердца… Колвин уже не видел ни бегущих к ним дорожников, ни водителя грузовика, который, подозрительно пошатываясь, вылезал из кабины, ни резких бликов от работающих мигалок влетевших на территорию парка машин «Скорой помощи», невесть каким образом почему-то оказавшихся прямо подле места трагедии…
Словно в полусне или в бреду, он поднял голову и посмотрел вокруг, на лазурное, ясное небо, бегущих людей, зеленеющую листву, и в его глазах, на искаженном мукой лице, дрожащих губах читался лишь один немой вопрос: ЗА ЧТО?!
Потом взгляд Колвина внезапно потускнел от дикой, разрывающей грудную клетку боли, и он, пошатнувшись, рухнул на асфальт рядом с Ладой…
* * *
Она не умерла.
Врачи реанимационного отделения по-прежнему поддерживали ее жизнь, но множественные переломы костей и внутренние кровоизлияния не оставляли почти никаких шансов на успешное выздоровление.
Колвина привезли домой спустя две недели.
К его счастью или, быть может, к горю… сердечный приступ не окончился инфарктом.
Кто-то вдруг вспомнил о нем, прислал машину, водитель которой предупредительно распахивал перед ним дверь, но Антон Петрович ничего не видел и не слышал, он просто не хотел больше воспринимать окружающий его мир. В эти дни Колвин больше походил на мертвеца, зомби, которого заставила восстать из праха чья-то злая, бесчеловечная воля.
Открыв дверь служебной «Волги», водитель, подтянутый, накачанный парень в солнцезащитных очках, хотел что-то спросить, но Колвин только махнул рукой и, не оборачиваясь, вошел в подъезд.
Остановившись подле своей двери, он пошарил по карманам в поисках ключа и, только протянув руку к замочной скважине, заметил, что под наличник замка воткнута сложенная вдвое бумажка. Он машинально вытащил ее оттуда, развернул и понял, что перед ним игральная карта.
Впрочем, он ошибся. Карта не предназначалась для игры – на черном глянцевом фоне был изображен архангел, задумчиво облокотившийся о крест… И чуть ниже надпись:
«Свобода одного кончается там, где начинается свобода другого».
Слова больно кольнули душу, но он не воспринял эту дурацкую шутку как нечто адресованное ему.
Войдя в пустую, осиротевшую квартиру, Колвин без сил привалился к дверному косяку и некоторое время стоял, слушая гулкую тишину.
Собаки исчезли. Их никто не видел с того момента, как бампер грузовика ударил Ладу.
Наконец, спустя две или три минуты, Антон Петрович все же нашел в себе силы затворить дверь, тяжелой, шаркающей походкой прошел на кухню и сел, бесцельно глядя в пол. Он боялся поднять глаза, потому что за тот недолгий отрезок времени, который Лада прожила в его квартире, тут буквально все пропиталось ее присутствием.
Пустота, и внутренняя, и внешняя, обволакивала Колвина тяжким, смертным саваном безысходности.
Земля была грубо вырвана у него из-под ног, и он падал в эту бездну отчаянной безысходности, не видя дна да уже и не надеясь ни на что.
Так часто бывает в жизни – один миг, одно событие в буквальном смысле сминает все, что у тебя было, делает мир тупым, лишенным всяческого смысла, все ценное, что еще вчера казалось значимым, жизненно важным, вдруг оборачивается грудой хлама…
Колвин прекрасно понимал, он свое отжил. Теперь уже окончательно и бесповоротно, но эта мысль, в другое время показавшаяся бы ему ужасной, сейчас не будила ровным счетом никаких чувств.
Какой-то пьяный водитель-ублюдок оборвал сразу две жизни.
Антон Петрович пошарил рукой по столу, наткнулся пальцами на коробку папирос, машинально прикурил, не ощущая вкуса дыма… Случайность… Судьба… Это могло называться как угодно, но разве становилось от этого легче?
Он видел ее под прозрачным колпаком барокамеры… В чем же она провинилась перед судьбой? Почему так?!.
Ни один из этих вопросов не находил ответа ни в разуме, ни в душе. Там, казалось, гнездится одна лишь надсадная боль, смешанная с обреченным, гадливым чувством собственной беспомощности перед жестокими обстоятельствами.
Колвин прошел войну на Кавказе. Устав убивать, он однажды нашел в себе силы бросить эту кровавую мужскую работу, с тем чтобы обратиться к другой стороне той же медали.
Несколько лет он провел в подземных бункерах поселка Гагачьего, разрабатывая первый сервоприводный протез человеческих конечностей, уникальность которого состояла в том, что он, по сути, становился не протезом, а частью организма, конвертируя и используя тепловую энергию живых тканей.
Колвин создал его лишь затем, чтобы убедиться, – никому не нужно лечить искалеченных на войне ребят, на это у государства нет денег. Деньги были лишь на то, чтобы создать потенциально военную разработку и положить ее под сукно, до тех пор, пока его идея вдруг не приобрела свое место в игре под названием «война умов»…
Колвин сидел, понурив голову, машинально комкая в ладони теплый, глянцевый картон невесть кем подсунутой под его замок игральной карты.
Сколько раз в жизни он оказывался бессилен перед судьбой? Сколько раз ему приходилось идти на поводу у цепи роковых обстоятельств? И сколько раз он опускал руки, пасуя перед ними?
«Много…» – с горечью признался сам себе Колвин.
Пустота квартиры давила на него, спрессовывая мозг в усохший от боли брикет. Образ Лады дрожал и плавился в его мыслях, Колвину казалось, что он физически ощущает каждый день ее безнадежной агонии…
«Безнадежной только в том случае, если ты опять уйдешь в глухую защиту, ради своих чистых рук, незапятнанной репутации… а кому она нужна, Колвин, эта твоя репутация? Кому ты вообще нужен, кроме нее, умирающей сейчас в реанимации?»
Антон Петрович машинально разжал ладонь и вновь посмотрел на смятый кусочек глянцевого картона.
«Свобода одного кончается там, где начинается свобода другого».
Именно в этот миг, глядя на сливающиеся перед глазами буквы, он впервые подумал: а быть может, роковая цепь случайностей – это не прихоть судьбы, а чья-то злая, просчитанная воля, толкающая его на определенный шаг?
Он встал, прошел в свою комнату, выдвинул ящик стола и принялся рыться в бумагах.
В этот момент он боялся лишь одного – что случайно выкинул ту визитную карточку.
Нет, она оказалась на месте.
Дрожащими пальцами он набрал телефонный номер.
– Генерала Барташова… – попросил он, когда на том конце взяли трубку.
– Кто его спрашивает? – осведомился женский голос.
– Передайте, что звонит Колвин. Он поймет…
Антон Петрович сел на кровать, опустив голову, и приготовился ждать.
Однако Барташов оказался поблизости. Секунд через десять в трубке раздался его сочный бас:
– Да, я слушаю.
– Николай Андреевич? Это Колвин… Нам нужно встретиться.
– Антон Петрович, ты же знаешь, что мое предложение и все связанные с ним условия неизменны, – ответил Барташов так, будто они расстались только вчера и он ждал этого звонка.
– Да, я понимаю… – проронил Колвин. – Давай встретимся. У меня тоже появились определенные условия, но я согласен работать…
* * *
За те годы, что Колвин безвылазно провел в Москве, в поселке Гагачьем опять закипела жизнь.
Антон Петрович вышел из машины у знакомого, уходящего под землю бетонного пандуса, который запирали мощные раздвижные ворота.
Да, жизнь определенно вернулась сюда… Признаки запустения старого военного городка все еще присутствовали, но это уже больше походило на детали маскировки, нежели на истину, отражающую подлинное положение вещей. Взгляд Колвина, скользнувший по серому бетону и прилегающим ко входу хорошо знакомым окрестностям, машинально отметил обилие устройств скрытого и явного наблюдения, охранные рубежи и прочие признаки грамотно организованного охранения. Солдат или персонала нигде не наблюдалось, и внешне «Гаг-24» выглядел все таким же обветшалым, давно заброшенным военным городком времен слома социалистической системы, но, шагая вслед за Барташовым по узкой, вьющейся меж сосен тропе, Антон Петрович с удивлением и даже некоторой внутренней дрожью дважды натыкался взглядом на замаскированные дерном щели в земле. Они проявлялись внезапно, когда до них в буквальном смысле оставалось сделать пару шагов, и угадывающийся в сумраке подземных огневых точек слабый отблеск пулеметных стволов ясно говорил о том, что они обитаемы…
– Отдельный спецбатальон внутренних войск, – скупо пояснил Николай Андреевич, проследив за взглядом Колвина. – Ребята свое дело знают, – мрачновато добавил он.
Вообще, за те несколько часов, что им пришлось провести вместе по дороге сюда, Колвин заметил, что Барташов тоже достаточно сильно изменился со дня их последней встречи. Генерал явно сдал – не в физическом, а скорее в моральном плане, был мрачен, неразговорчив, да и осунувшееся лицо с ясно обозначившимися мешками под глазами говорило о каких-то преследующих его проблемах.
– Ладу привезли? – внутренне сжавшись, спросил Колвин, когда они остановились перед неприметной стальной дверью в серой бетонной стене. Барташов в этот момент разговаривал с кем-то внутри бункера, воспользовавшись для этого устройством, похожим на трубку сотовой связи. Ясно, что радиоволны не могли проникать в бункер, но, очевидно, рядом с дверью было спрятано ретрансляционное устройство для внутренней кабельной сети связи.
– Что? – недовольно переспросил Барташов, отвлекшись от разговора.
– Я спрашиваю, Ладу привезли?
– Нет пока. Она будет вечером. Ты должен осмотреться.
– Но…
– Все, Антон Петрович, свои «но» оставь за забором, – мрачно отрезал Барташов. – Мы, кажется, обсудили все условия, – напомнил он. – Ты получаешь доступ к своей старой аппаратуре, я даю тебе ассистентов, и ты делаешь с ней все, что сочтешь нужным. Мне необходимо получить от тебя только две вещи: соблюдение внутреннего регламента, который устанавливаю я, и конечный результат работы.
Колвин промолчал.
Внутри массивной двери сухо щелкнул электрозамок.
– Прошу.
Барташов вошел первым, Антон Петрович на мгновение задержался, окинув взглядом редкий сосновый лес, словно прощаясь и с солнечным светом, и с самой природой, а затем последовал вслед за генералом в знакомые и в то же время пугающие недра секретного комплекса «Гаг-24».
История возникновения этой глубоко эшелонированной системы бункеров относилась к далекому прошлому – своими корнями «Гаг-24» уходил далеко в эпоху развитого социализма – в ту пору, когда такие понятия, как «атомная угроза», «холодная война» и «гонка вооружений» являлись терминами отнюдь не историческими, а самыми что ни на есть обыденными.
Позже, когда рухнул «железный занавес», а страна канула в пучину политического и экономического кризиса, «Гаг», на содержание которого уходили огромные суммы, отдали на откуп нескольким военным ведомствам, разрешив разместить тут секретные лаборатории различных профилей.
Именно тогда, в середине девяностых двадцатого века, Колвин впервые приехал сюда в составе так называемой группы по созданию искусственных организмов. Лаборатория просуществовала несколько лет, затем ее временно законсервировали все по той же незамысловатой причине – полное отсутствие денег на исследования и содержание лабораторий. К сожалению, группа Колвина, который к тому моменту уже стал ведущим специалистом, занималась такого рода разработками, которые не подпадали ни под одну статью конверсии, и никак не могла быть переведена на самоокупаемость.
Так и получилось, что Антон Петрович в конце концов оказался в положении сторожа при законсервированном до лучших времен комплексе.
И вот эти «лучшие времена» наступили…
Шагая по знакомым коридорам подземных убежищ, он не мог отделаться от мысли, что совершает ошибку, возможно, самую страшную ошибку в своей жизни, – все здесь выглядело до боли знакомым и в то же время чужим, словно в эти помещения вернувшиеся сюда люди вдохнули иной смысл.
Лифт опустил Колвина и Барташова на пятый, нижний уровень убежища. Теперь над их головой было около ста метров железобетонных конструкций.
Остановившись на просторной развязке, куда вливалось несколько туннелеобразных коридоров, Барташов показал на три расположенные друг подле друга двери.
– Твоя комната, рядом операционный зал со всей аппаратурой, а это, – он кивнул на третью дверь с кодовым магнитным замком, – действующая лаборатория искусственных организмов.
– А врачи? – задал Колвин тревожащий его вопрос.
– Бригада хирургов, анестезиолог и другие специалисты находятся на один уровень выше. Они в твоем распоряжении в любое время суток. Пульт внутренней связи в твоей комнате. Вот магнитная карточка доступа. Она же работает на двери. Осваивайся.
– А ты?
– У меня слишком много дел, Антон Петрович. Не скрою, твой проект один из самых важных для меня лично, но видеться будем редко. Тебе дана воля, почувствуй это и не комплексуй. Давай. – Он протянул руку и пожал ладонь Колвина. – Соберись в кучу и действуй. Ты сам хотел этого.
Через несколько секунд, когда закрылись створки лифта, Колвин совершенно внезапно для самого себя остался один.
Он стоял посреди просторной площадки перед несколькими дверями, сжимая в руке тонкую пластинку спецпропуска.
«Ты сам хотел этого…»
Он повернулся и вдруг всем своим существом почувствовал, что стоит в центре ЧЕГО-ТО ему пока неведомого, а вокруг уже работает огромная машина под названием «государственная спецслужба». Работает на него.
Собственные страхи и надежды, отчаяние, горе показались Колвину ничтожными перед тем, что окружало его в данный момент. Сила, так запросто отданная ему Барташовым, на первый взгляд казалась чуть ли не безмерной, и это не просто пугало его. Антон Петрович не первый раз имел дело с подобной «системой» и очень хорошо понимал: увильнуть от нее будет очень сложно. Из него выбьют то, что нужно именно им, и его безумная надежда на человечность и сострадание Барташова казалась теперь глупой, наивной и никчемной.
Только сейчас, оправившись от шока, выбитый из своего горестного состояния шоком еще более сильным, Колвин понял – он пришел в мышеловку, дверь которой уже захлопнулась. Он желал одного – вырвать Ладу из рук неминуемой смерти, хотя бы раз использовать созданную им же аппаратуру этого комплекса по ее прямому назначению, но тщетно… Он обманул сам себя и только сейчас наконец осознал, какую цену придется заплатить за это ЕЙ…
Неизвестно, сколько времени простоял он так в глубокой, отчаянной задумчивости перед захлопнувшейся дверью межуровневого лифта.
«Ты сам хотел этого»…
* * *
Дверь, ведущая в лабораторию «искусственных организмов», тяжело подалась в сторону, глухим звуком как бы обозначив свой внушительный вес, как только Колвин провел магнитным ключом врученной ему карточки по прорези сканера.
В первый момент он даже не осознал, что попал в то же самое помещение, где работал много лет назад. Все изменилось до разительной неузнаваемости. Последний раз он спускался в бункер незадолго до визита Барташова, и на его памяти все здесь оставалось сонным, унылым и заброшенным.
Сейчас тут кипела жизнь.
Нет, не кипела, – двигалась.
За свою бытность в военном ведомстве Колвин, по идее, должен был разучиться удивляться, но сейчас он лишний раз убедился в справедливости высказывания о том, что Россия – это страна непознанных возможностей и невостребованных гениев.
В первый момент его охватила обыкновенная, трепетная гордость. «Уж не маразм ли…» – с горечью подумал он, чувствуя, как просыпаются давно позабытые чувства.
Да, с приходом к власти нового президента государство год от года поднималось, оставляя истории страшные годы развала и беспредела, забирая от старой системы все лучшее, что еще оставалось в резервах, и сейчас он видел перед собой результат практической реализации одного из таких проектов, положенных под сукно много лет назад.
Круглый, ярко освещенный зал лаборатории наполняла механическая жизнь. Здесь цвели технологии даже не двадцать первого века – многих образцов из тех, что бросались в глаза прямо от входа, Колвин попросту раньше не видел…
То, что демонстрировал ему по видео Барташов во время своего памятного визита, казалось сейчас блеклой тенью, грубой поделкой по сравнению с хищными, сияющими хромом или же, наоборот, серо отсвечивающими камуфлированными эндоостовами различных машин, каждый из которых был заключен в просторный цилиндр из пуленепробиваемого стекла и постоянно, не останавливаясь ни на секунду, двигался, совершая наборы различных движений, в основном имитирующие ходьбу или бег…
В первый момент ощущение казалось шокирующим и отнюдь не приятным… Генерал словно попал в мир фантомов, созданных посредством компьютерной графики, но фантомов реальных до жути, до непроизвольной дрожи вдоль позвоночника, стоило лишь раз коснуться взглядом этих эстетичных, полных скрытой силы скелетообразных форм, которые двигались отнюдь не медленно, но в то же время плавно, решительно…
Взгляду и рассудку требовалось какое-то время, чтобы очнуться, сбросить странный, примораживающий к месту транс, чтобы понять: фантомами тут не пахнет – под конечностями сервоприводных машин скользили настоящие беговые дорожки, по которым те бежали, ровно, ритмично, в то же время оставаясь на месте. Сзади к каждому прозрачному боксу тянулись десятки, если не сотни кабелей, которые проходили через специальные, оставленные для них отверстия в бронестекле и одним своим концом соединялись с работающими на износ машинами. Другим концом они были подключены к многочисленным тестерам испытательных стендов.
Ровно сияли шеренги контрольных мониторов, пространство лаборатории наполняли непривычные, чуждые человеческому уху звуки, то был приглушенный бронестеклом шелест, равномерное повизгивание, ритмичное клацанье…
У Колвина все же перехватило дыхание, на секунду ему показалось, что эти существа, столь похожие на выходцев из самых кошмарных видений сервоинженеров, действительно наделены понятием «жизнь», – столь естественно и одновременно угрожающе выглядели их движения… Казалось, еще немного, и какой-нибудь механизм вдруг сорвется с толстой привязи компьютерных кабелей, проломит прозрачную защиту и ринется прямо на него, окруженный сверкающим облаком осколков бронестекла.
– Вы, надо полагать, мой новый начальник?
Вопрос застиг Антона Петровича врасплох. Вздрогнув и мысленно проклиная свои совершенно распоясавшиеся нервы, он обернулся.
Человек, которого он увидел, только что вошел через ту же дверь, что и Колвин, и теперь подслеповато щурился, попав под яркий свет ламп, освещавших стеклянные боксы направленными лучами. Его вытянутое лицо с длинным носом, узкие, сощуренные глаза и играющая на тонких губах улыбка делали его похожим на непомерно разросшуюся крысу. Спецкомбинезон серого, мышиного цвета только усиливал это сходство, доводя ощущения до состояния абсурда, когда хочется верить первому впечатлению, а не истинному положению вещей.
– Моя фамилия Колышев. – Он протянул Колвину длинную сухую ладонь с тонкими музыкальными пальцами. – Вадим Колышев.
– Очень приятно. Колвин Антон Петрович.
– Любуетесь?
– Пока не знаю. Получаю впечатления.
– Угу… Этого здесь хватает, – энергично кивнул Колышев. Он подошел к ближайшему боксу и вдруг любовно провел ладонью по толстому стеклу, как бы очерчивая контур заключенной за ним, бегущей в никуда сервомашины.
– Мое дитя, – не без гордости произнес он. – Любимое. Когда-то я занимался бионикой. Теперь вот воплощаю матушку-природу в несвойственных ей материалах.
Заявление насчет бионики не было голословным, только сейчас, после этих слов, Колвин внезапно понял, откуда в нем эта странная оторопь, что пробежала по телу крупными мурашками при беглом взгляде на бегущие силуэты… Они казались разительно похожими на уменьшенные в десятки раз, ожившие экспонаты музея палеонтологии… Миниатюрные хромированные скелеты некоторых особо типичных ящеров, с некоторыми доработками.
– Значит, вы автор этих машин? – не удержался он.
– Ну, не всех, конечно, – честно признался Вадим. – Вот это, например, американский образец, – он указал на бокс, что содержал в себе вяло бегущий на одном месте стилизованный и напрочь лишенный ребер скелет, отдаленно похожий на человеческий. – Почти абсолютная машина, – с нотками завистливого сожаления признал он, щелкнув пальцами по стеклу. – Обратите внимание, это единственный образец, который не имеет внешнего энергопитания.
– Что, неужели самодостаточный механизм?
– Не совсем. Ресурс – около пятидесяти часов, и при этом совершеннейший болван, – с ехидной улыбкой ответил Колышев. – Но принцип, по которому они идут, верный, – с нескрываемым сожалением вздохнул он. – Тут использовано нечто, отдаленно напоминающее вашу технологию, Антон Петрович. Внутри этих костей, – он показал на тускло отливающие серебром детали эндоостова, – находятся живые бактерии. Размножаясь, они вырабатывают тепловую энергию. Сервомоторы работают исключительно на электропитании, которое производится специальными элементами за счет разницы температур.
При этих словах Колвин почувствовал неприятный холодок. Это действительно было очень примитивным, частным случаем его разработки.
– Любопытно…
Он подошел ближе, вглядываясь в детали машины.
– Откуда он появился? – минуту спустя спросил Антон Петрович, имея в виду шагающий за стеклом силуэт.
– Не знаю, – пожал плечами Колышев. – Разведка сработала, наверное. Мне не докладывают.
– А там что? – Колвин, у которого постепенно отходил шок от первого впечатления от этого зала, вновь начал мрачнеть. Ничто, даже эти машины, которые когда-то снились молодому и энергичному Антону Колвину, не могло надолго отвлечь его ни от жестокой реальности, ни от собственных, присущих сегодняшнему Колвину, мыслей.
Проследив за взглядом своего нового начальника, Вадим тоже помрачнел.
– Там моя головная боль, – коротко ответил он и быстрым, энергичным шагом пройдя через зал, распахнул дверь, которая в бытность Антона Петровича вела в хранилище реактивов и лаборантские комнаты.
Теперь тут все выглядело иначе.
На стерильных стеллажах возвышались подсвеченные ультрафиолетом стеклянные баки, в которых либо плавали в струях физиологического раствора, либо просто лежали фрагменты различных частей тел, принадлежащих как человеку, так и различным животным.
У Антона Петровича в первый момент похолодело в груди.
Он, конечно, ожидал увидеть нечто подобное, но не так скоро и, разумеется, не в таких масштабах…
Первым, что бросилось в глаза, была человеческая рука, к которой вели тонкие проводки от расположенного неподалеку компьютерного терминала.
Пальцы руки медленно сжимались и разжимались, хотя на плоти были невооруженным глазом видны признаки явного разложения.
– Отторжение тканей… – мрачно прокомментировал Колышев. – Внутри полный сервопривод руки, работающий на вашем принципе микромоторов. Все сделано в точности по описанной технологии – трубка вложенная, трехслойная, внутри охлаждающий состав, за ним слой термоэлектрических токоснимающих элементов, затем, собственно, сама поверхность искусственной кости, к которой прилегает живая ткань. Разница температур между внутренней и наружной частью около тридцати градусов. Сигнальный импульс к движению подается сенсорными датчиками, которые фиксируют напряжение мышцы, даже самое ничтожное, и передают команду серводвигателям. Весь комплекс работает изумительно – мы питаем клетки с помощью насильственного кровообращения, и вырабатываемого за счет разницы температур тока вполне хватает для работы всех приводов конечности… – Он вдруг резко повернулся и в упор посмотрел на Колвина: – Только вам не кажется, Антон Петрович, что в документации вы упустили нечто главное, основополагающее, без чего ваше открытие и вся технология может быть успешно списана в область фантастики…
– Что же я забыл? – холодно спросил Колвин, к которому вдруг вернулись все горестные ощущения этих дней.
Он вдруг увидел эту лабораторию не в том сияющем ореоле, который на время просто ослепил его, а такой, какой она была на самом деле, – страшной . Страшной и бесчеловечной, какими благими бы ни были конечные намерения тех, кто тут работает.
– Вы забыли описать связку между живой тканью и мертвым сервоприводом, – прищурившись и потеряв всякую любезность, произнес Колышев. – Как соединить живую ткань с мертвым металлом? Вы ведь знаете это, верно? И надеюсь, что поделитесь со мной сокровенной тайной?
В словах Вадима крылась угроза.
Колвин вдруг понял, что на самом деле попал в ловушку гораздо более страшную, чем мог предположить час назад.
Маленькие, крысиные глаза Колышева буквально сверлили его.
– Мне нужно отдохнуть, – вдруг произнес Колвин. – А потом я бы хотел произвести ревизию реактивов. Надеюсь, тут сохранились все вещества из моей бывшей лаборатории?
– Естественно.
– В таком случае, составьте мне полный, подробный отчет обо всем, что тут имеется.
Он развернулся, чтобы выйти, но Колышев достаточно бесцеремонно остановил его у самого порога лаборатории.
– Вы не ответили на мой вопрос, – напомнил он.
– Я еще не решил, отвечать ли на него вообще, – резко ответил Колвин. – Мне нужно подумать.
* * *
Обстановка комнат для обслуживающего персонала не изменилась ни в принципе, ни в деталях. Маленькое помещение напоминало купе-люкс в поездах дальнего следования. Тот же казенный уют, теснота, штампы на белье, откидной столик и треугольный умывальник под ним. Лишь компьютер, что стоял на отдельной, выдвижной стойке подле кровати, сменили на более современный.
Антон Петрович сел на постель.
Чувства, которые стыли в его душе, даже нельзя было назвать двоякими, они в буквальном смысле раздирали его и так уже достаточно настрадавшийся разум своей противоречивостью.
То, что он увидел сегодня в лаборатории искусственных организмов, не просто превзошло его ожидания, это пугало Колвина.
Он видел отлично отлаженные машины, которым не хватало лишь одного – надежного источника автономного питания.
Колышев был прав составляя документацию по проекту, Антон Петрович сознательно опустил часть информации, оставив ее лишь в своей голове. Поступить так было вполне логично – тех чиновников, что принимали решение по докладу, не интересовали нюансы исследований, им нужен был наглядный конечный результат, а Колвин прекрасно знал, через сколько рук пройдут бумаги, прежде чем попадут наверх, к тем, кто выносит окончательный вердикт. Среди этих людей, которые являлись промежуточными звеньями, вполне могли оказаться личности не вполне добропорядочные, но зато технически грамотные.
Идея могла уйти. Колвин был знаком с подобными случаями, когда проект сначала резали, а потом он вдруг осуществлялся под другим именем, и принял меры предосторожности против этого. А когда его идею положили в стол, он не нашел нужным вносить дополнения и коррективы.
Главный итог исследований все эти годы находился при нем.
Вид разлагающейся руки не мог ввести Антона Петровича в замешательство. Он бился над той же проблемой много лет. Живая ткань упорно не хотела соединяться с полыми металлическими костями, внутри которых располагались моторы и приводы…
Как ни странно это прозвучит, но внезапное решение данной проблемы пришло из… космоса.
Известно, что уже много лет ученые собирают пробы космической пыли, частицы комет, газообразные взвеси из атмосфер планет Солнечной системы, лунные реголиты и прочие образцы вещества, какие только можно добыть вне земной атмосферы.
Колвина заинтересовали такие образцы, полученные из кометных газовых шлейфов. Он собирался поставить ряд опытов над ними, потому что знал: некоторые вирусы космического происхождения по сути не являются живыми организмами, они представляют собой нечто среднее между живым и неживым – их молекулы сложнее любого неорганического вещества, но они «недоразвиты» до уровня самой примитивной органики.
Мучаясь над проблемой совместимости живого с неживым, Колвин вполне справедливо надеялся, что исследования в данной области помогут ему в решении вопроса.
Он не ошибся, хотя результат пришел совершенно неожиданно и совсем не в том виде, как представлял себе Антон Петрович. Собственно, начиная исследования, он и надеяться не мог на то, что предстало перед ним в конечном итоге.
Подвергая образцы различным воздействиям, как излучения, так и иных мутагенных факторов, он внезапно получил некую разновидность уже известного соединения, молекулы которого обладали способностью к химической мимикрии. Говоря проще, молекулярная структура вируса «приспосабливалась» к тому веществу, с которым в данный момент находилась в непосредственном контакте, слипалась с ним, причем вирус обнаружил еще одно неоценимое для Колвина свойство: он мог маскироваться сразу под несколько веществ.
…Генерал встал, прошелся по узкому пространству своей комнаты.
Ощущение, что она станет его последним пристанищем в этой жизни, не покидало Антона Петровича.
Он влип. Единоличное обладание государственной тайной, способной изменить некий ход истории, никогда не прощалось отдельному индивидууму. Это он усвоил твердо.
Государственная тайна… Колвин вдруг усмехнулся, зло, саркастически. Когда он спускался в эти бункера, чтобы смахнуть пыль с бесценной аппаратуры, его знание не было нужно никому. Не было ни ажиотажа вокруг искусственных организмов, ни самой проблемы… теперь же, когда американцы создали и продемонстрировали всему миру своего первого искусственного бойца, у кого-то вдруг загорелось кресло под задницей, и тут же вспомнили про «Гаг-24», про него, про разработки.
Хотя, если разобраться беспристрастно, не в личных обидах крылись истоки его тревоги. Все личное уже было пережито в душе, разложено по полочкам памяти… оприходовано, так сказать. Изменилось мировоззрение Колвина. С одной стороны, он понимал, исторический процесс не повернуть вспять и, как любил повторять один из его давних друзей, «все, что однажды создано одним человеком, неизбежно может повторить другой». Рано или поздно, это сделают и без его участия. Видно, пришел срок реализации данных технологий, но Колвин, в отличие от других, очень хорошо понимал их несовершенство. Эскалация гонки вооружений в области создания искусственных организмов неизбежно столкнется с неразрешимой пока проблемой – отсутствием электронного мозга, адекватного человеческому. Вывод же напрашивался сам собой, он видел готовые сервомашины, что и сейчас продолжали свой бег в соседнем зале, дай он им совместимость с живой оболочкой, и они, одновременно с внешностью, получат внутренний источник независимого питания – живую ткань, чьи килокалории будут аккумулироваться и использоваться сервомоторами… Отличные биомеханические бойцы, чья жизнь представляет ценность только в эквиваленте затраченных на производство денег. Но они останутся… тупыми. Тупыми настолько, что бросить их в бой – означает обречь на гибель все живое в радиусе действия оружия.
Мысль Антона Петровича не была голословной. Он воевал и отлично понимал разницу между стрельбой по мишеням и настоящим боем, где порой невозможно отличить врага от своих, мирного жителя от террориста и решения приходится принимать интуитивно, на уровне подсознания. Нет аналогов человеческому мозгу, и это очень скоро поймут, если еще не поняли, и тут в «Гаге», и за кордоном, в лабораториях НАТО…
Чипсет, продемонстрированный Колвину Барташовым во время их памятной встречи, прямо-таки кричал о том выходе, что будет, обязательно будет найден и осуществлен… Сервомашина в конце концов получит человеческий мозг … и это… это казалось Антону Петровичу настолько страшным, что он терялся, тонул в этом ощущении БЕЗДНЫ, на краю которой вдруг оказалось все человечество.
Когда живое смешается с неживым, возникнет иная раса, у которой неизбежно сформируются свои, отличные от человеческих, моральные ценности. Чуть больше, чем машина, но меньше, чем человек…
Колвину было страшно. Он хотел одного – спасти Ладу, вырвать ее из цепких лап неизбежной смерти, а как выяснилось, от него ждали большего, намного большего…
Внезапный зуммер, прозвучавший из недр панели связи, вырвал его из глубокой задумчивости.
Отжав кнопку интеркома, Колвин спросил:
– Да, я слушаю. В чем дело? Кто это?
– Антон Петрович?
– Я же сказал, да.
– Это дежурный офицер уровня. Мне приказано доложить, ваша пациентка доставлена. Ее сейчас везут в операционную.
Динамик смолк.
Колвин сидел, неестественно выпрямившись и смертельно побледнев.
Был ли у него хоть какой-то выбор?
(обратно) (обратно)Конец доступной бесплатно части книги
Полная версия доступна за $0.50 в библиотеке FictionBook.
(обратно)1
Принайтовленный – закрепленный на палубе (морск. термин)
(обратно)


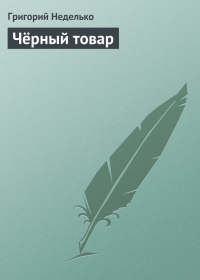



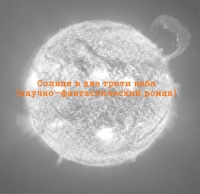
Комментарии к книге «Восход Ганимеда», Андрей Львович Ливадный
Всего 0 комментариев