Ким Стэнли Робинсон Голубой Марс
Kim Stanley Robinson
BLUE MARS
Серия «Sci-Fi Universe»
Copyright © 1996 by Kim Stanley Robinson
© Агеев А. И., перевод на русский язык, 2017
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Э», 2017
* * *
Лизе, Дэвиду и Тимоти
Часть первая Гора Павлина
– Марс свободен. Теперь мы сами по себе. Никто больше не указывает, что нам делать.
Энн возвестила это, стоя в головном вагоне поезда.
– Но скатиться к старым нормам поведения очень легко. Нарушишь одну иерархию – и на ее месте мгновенно возникнет другая. Мы должны быть на страже, потому что всегда найдутся люди, которые захотят создать еще одну Землю. Необходимо, чтобы ареофания стала непрестанной, нескончаемой борьбой. Нам придется глубже, чем когда-либо прежде, поразмыслить над тем, что это значит – быть марсианами.
Ее слушатели сидели, ссутулившись в креслах, и наблюдали из окон за проплывающей мимо местностью. Утомленные, они рыскали взглядами. Красноглазые Красные. В резком свете зари все казалось новым; на обветренной земле снаружи не было ничего, кроме зеленоватых булыжников, заросших лишайником и кустами. Они выбили с Марса почти все земные силы, завершая долгую кампанию всплеском решительных действий – уже после начала великого потопа на Земле. И сейчас они устали.
– Мы прибыли на Марс с Земли, и этот путь стал истинным очищением. Мы стали больше понимать, получили свободу действий, какой не имели до этого. Получили возможность выразить лучшее в нас самих. И мы стали действовать. Создавать лучший образ жизни.
Таким был миф, с которым все они росли. Сейчас, когда Энн вновь его пересказывала, молодые марсиане смотрели как бы сквозь нее. Они смастерили эту революцию, отвоевали себе Марс, вытеснив всю земную полицию в Берроуз, после чего затопили город и потеснили землян до самого Шеффилда, что на горе Павлина. Теперь им предстояло прогнать врагов и оттуда, вынудив их, воспользовавшись лифтом, подняться в космос и отправиться на Землю; это было еще впереди. Но даже успешная эвакуация из Берроуза расценивалась ими как крупная победа, и некоторые опустошенные лица, обращенные к Энн или к окну, похоже, не выражали ничего, кроме желания передышки, чтобы хоть немного насладиться триумфом. Они были изнурены.
– Нам поможет Хироко, – проговорил молодой парень, нарушив тишину, в которой поезд парил над землей.
Энн с сомнением покачала головой.
– Хироко за Зеленых, – ответила она. – Она первая среди них.
– Хироко придумала ареофанию, – не унимался парень. – Марс для нее на первом месте. Она нам поможет, я знаю. Я встречался с ней. Она сама мне сказала.
– Но она мертва, – заметил кто-то.
Снова наступило молчание. Мир проплывал под ними.
Наконец, со своего места поднялась высокая девушка, спустилась по проходу и обняла Энн. Оковы заклятия пали, слова оказались забыты, и все, один за другим, вскочили, сгрудились на свободном пространстве в голове поезда, вокруг Энн, принялись обнимать ее, пожимать руки – или просто прикасались к ней, Энн Клейборн, одной из тех, кто научил их любить Марс, кто вел их в борьбе за независимость от Земли. И хотя взгляд ее воспаленных глаз все еще не сходил с каменистого склона Тирренского массива, что возвышался позади них, она улыбалась. Она обнимала их в ответ, пожимала руки, тянулась, стараясь дотронуться до лиц.
– Все будет хорошо, – заверила она. – Мы сделаем Марс свободным.
И они соглашались с ней и поздравляли друг друга.
– На Шеффилд! – возвещали они. – Завершим начатое. Марс укажет нам путь.
– Но она не мертва, – возразил паренек. – Я видел ее в прошлом месяце в Аркадии. Она еще объявится. Где-нибудь да объявится.
Перед рассветом небо розовело, как и прежде, становясь бледным и чистым на востоке, насыщенным и полным звезд на западе. Энн дожидалась этого момента, пока вместе со всеми ехала на запад, навстречу громаде черной земли, вздымающейся к небу, – куполу Фарсида, на котором все отчетливее выделялся широкий конус горы Павлина. Поднимаясь в гору из Лабиринта Ночи, они уже оказались выше плотных слоев новой атмосферы. У подножия Павлина ее давление достигало всего 180 миллибар, а когда они одолели восточный склон огромного щитового вулкана – упало ниже 100 миллибар и продолжало падать. Постепенно они оказались выше всякой растительности и захрустели по грязным участкам обветренного снега. Затем поднялись даже над снегом, где вокруг не было ничего, кроме скал и непрестанных холодных ветров. Обнаженная земля выглядела так, будто все еще были дочеловеческие времена, словно они ехали назад в прошлое.
Но это было настоящее. И при виде этого мира цвета железа, где скалы овевались нестихающими ветрами, в душе Энн Клейборн вспыхнуло некое глубинное чувство. Пока машины Красных катились в гору, в каждом, кто в них находился, расцветало восхищение, подобное чувству, которое испытывала Энн. А когда солнце надломило далекий горизонт, в кабинах все разом смолкло.
Затем склон, по которому они поднимались, стал более покатым, приобретая форму идеальной синусоиды до тех пор, пока они не очутились на плоском круглом плато вершины. Здесь им открылся вид на шатровые городки, взявшие в кольцо край гигантской кальдеры и скопившиеся у самой опоры космического лифта, километрах в тридцати к югу от него.
Они остановились. Тишина в кабинах из благоговейной превратилась в гнетущую. Энн стояла у окна верхней кабины и смотрела на юг, где лежал Шеффилд – построенный ради пуска космического лифта, раздавленный его падением, отстроенный вновь с восстановлением лифта. Она пришла уничтожить этот город так же основательно, как римляне уничтожили Карфаген; она собиралась обрушить восстановленный провод, как они разрушили первый в 2061 году. Когда им это удастся, Шеффилд вновь сравняется с поверхностью. То, что от него останется, окажется бесполезным здесь, на вершине вулкана, возвышающегося над плотными слоями атмосферы, и через какое-то время те здания, что уцелеют, будут заброшены, а потом разобраны на стройматериалы, и от них останутся лишь остовы шатров и, может быть, метеостанция, после чего на вершине воцарится долгое, купающееся в лучах солнца безмолвие. Солью землю уже посыпали.
Жизнерадостная Иришка из фарсидских Красных присоединилась к ним на маленьком марсоходе и повела сквозь лабиринт складов и небольших шатров, что окружал пересечение экваториальной железной дороги и дороги, тянущейся вокруг края. По пути она описывала им текущее положение. Бо́льшая часть Шеффилда и других поселений на горе уже находилась во власти марсианских революционеров. Но космический лифт и территория вокруг его комплекса – нет, в этом и была загвоздка. Силы революционеров на Павлине состояли из слабо вооруженных отрядов, которые зачастую преследовали разные цели. Нынешних успехов им удалось достичь благодаря ряду факторов: неожиданности, контролю над марсианским космосом, череде стратегически важных побед, поддержке большинства населения планеты, нежеланию Временного Правительства ООН – ВП ООН – открывать огонь по гражданским, даже когда те устраивали массовые демонстрации на улицах. В результате войска службы безопасности ВП ООН отступили из всех районов Марса, чтобы перегруппироваться в Шеффилде, и теперь бо́льшая их часть сидела в лифтовых кабинах, поднимающихся на Кларк, балластный астероид и космическую станцию на вершине лифта. А остальные оказались в ловушке на территории, прилегающей к огромному комплексу, называемому Гнездом. Этот участок составляли объекты, обеспечивающие работу лифта, и промышленные склады, а также общежития и столовые, необходимые для проживания и питания работников порта.
– Сейчас там всем этим пользуются, – сказала Иришка, – потому что, хоть они и зажаты там, как мусор в уплотнительной машине, не будь у них достаточно еды и укрытий, они пытались бы прорваться. Сейчас ситуация все равно напряженная, но они по крайней мере могут там жить.
Энн подумала, что это чем-то напоминало ситуацию, которая только-только разрешилась в Берроузе. А разрешилась она хорошо.
Теперь лишь требовалось, чтобы кто-то отважился на нужное действие, и тогда все закончится: войска ВП ООН эвакуируются на Землю, провод обрушится, связь Марса и Земли прервется. А любую попытку соорудить на орбите новый провод, которую предприняли бы в ближайшие десять лет, можно пресечь.
Иришка повела их по беспорядочной территории Восточного Павлина, и их маленький караван подобрался к краю кальдеры, чтобы припарковать там свои марсоходы. К югу от западной окраины Шеффилда удавалось различить лишь провод лифта, едва заметную черту, да и то всего пару километров из двадцати четырех тысяч его протяженности. Еле заметный, он присутствовал в каждом их шаге, каждой беседе – и даже каждой мысли, точно пронзая их и растягиваясь черной нитью, соединяющей их с Землей.
Когда они устроились в лагере, Энн связалась по наручной консоли с Питером, своим сыном. Он был одним из лидеров революции на Фарсиде и руководил кампанией против ВП ООН, сосредоточившего силы в Гнезде и на прилегающей территории. Это можно было считать в лучшем случае умеренной победой, но она сделала Питера одним из героев прошлого месяца.
Он ответил на звонок, и изображение его лица появилось у нее на запястье. Питер так был похож на мать, что это порой приводило ее в замешательство. Было заметно, что он поминутно отвлекается от разговора с ней.
– Есть новости? – спросила Энн.
– Нет. Мы сейчас вроде как в тупике. Мы позволяем всем, кто находится за пределами лифтового района, свободно проходить туда, то есть, по сути, отдаем под их контроль и железнодорожную станцию, и аэропорт на южном краю, и линии подземки, ведущие оттуда к Гнезду.
– А самолеты, которые эвакуировали их из Берроуза, здесь?
– Да. Похоже, бо́льшая их часть отправится на Землю. Здесь у них очень тесно.
– Так они вернутся на Землю или выйдут на орбиту Марса?
– На Землю. Думаю, они больше не рискнут выйти на нашу орбиту.
Она улыбнулась. Питер здорово постарался в космосе, помогая Саксу, да и не только. Ее сын – космонавт, из Зеленых. Они много лет почти не разговаривали друг с другом.
– Так что ты собираешься делать теперь? – спросила Энн.
– Не знаю. Я не вижу способа захватить лифт или хотя бы Гнездо. Вообще не вижу. Даже если это нам удастся, они всегда могут разрушить лифт.
– И?
– Ну… – Он вдруг показался обеспокоенным. – Сомневаюсь, что это было бы хорошо. А ты?
– Я думаю, что его как раз стоит разрушить.
Это его рассердило.
– Тогда лучше стой подальше от места падения.
– Обязательно.
– Не хочу, чтобы кто-либо разрушал его, не подумав как следует, – резко заявил он. – Это важно. Такое решение должно приниматься всем марсианским обществом. Самому-то мне кажется, что лифт нам нужен.
– Только у нас нет никакой возможности им завладеть.
– Еще посмотрим. И все же это вопрос не из тех, что можно решать самостоятельно. Я слышал, что случилось в Берроузе, но здесь другой случай, понимаешь? Мы вместе выбираем стратегию. Это нужно обсуждать.
– Эти ребята в таком деле как раз хороши, – горько заметила Энн.
Все всегда проговаривалось до мелочей, но никогда не приносило толку. Время проходило, и все. Кто-то должен был действовать. Но Питер снова, казалось, отрывался от настоящей работы. Она чувствовала, что он собирался взвесить все решения по поводу лифта. Несомненно, это было частью более общего его ощущения, будто он владел планетой по праву рождения как нисей, что отличало первую сотню и остальных иссеев от всех прочих. Будь Джон жив, это было бы нелегко сказать, но король умер – да здравствует новый король, ее сын, король нисеев, первых истинных марсиан.
Но с королем или без, теперь на Павлине собиралась армия Красных. Она стала сильнейшим военным формированием, оставшимся на планете, и теперь намеревалась завершить свое дело. Они не верили ни в единогласие, ни в компромисс и считали, что уничтожение провода убьет одним выстрелом двух зайцев: сокрушит последний оплот полиции и оборвет связь Марса с Землей, что и было первичной целью Красных. Да, уничтожение провода было шагом совершенно необходимым.
Но Питер, похоже, этого не знал. Или, может быть, ему было безразлично. Энн попыталась ему об этом сказать, но он лишь кивал и бормотал:
– Да-да, да-да.
Такой же надменный, как и все Зеленые, такой же беспечный и неразумный из-за всех этих увиливаний и взаимодействий с Землей – будто от этой громадины можно было добиться чего-то стоящего. Нет. Здесь требовалось прямое действие, как при наводнении в Берроузе или саботаже, подготовившем почву для революции. Без этого она даже не началась бы или была бы сразу подавлена, как в 2061-м.
– Да-да. Тогда нам лучше устроить встречу, – сказал Питер, раздраженный словами матери не меньше, чем она его высказываниями.
– Да-да, – с нажимом ответила Энн.
Их встречи иногда приносили пользу: люди могли подумать, будто они что-то значат, пока где-то в другом месте вершились настоящие дела.
– Я постараюсь что-нибудь организовать, – пообещал Питер. Она увидела, что наконец завладела его вниманием, но в выражении его лица таился какой-то неприятный оттенок, словно Питеру кто-то угрожал. – Пока ситуация не вышла из-под контроля.
– А она уже вышла, – ответила Энн и оборвала связь.
Энн просматривала новости по разным каналам – «Мангалавиду», частным сетям Красных, земным сводкам. Несмотря на то что Павлин и лифт находились в центре внимания на Марсе, в реальности силы, сосредоточенные на вулкане, были разобщены. Ей казалось, что Красных подпольщиков там больше, чем Зеленых войск движения «Свободный Марс» и их союзников. Но как все обстояло на самом деле, сказать было трудно. Касэй вместе с наиболее радикальным крылом Красных, называвшимся ка-кадзе («огненный ветер»), недавно заняли северный склон Павлина, овладев железнодорожной станцией и куполом Ластфлоу. Красные, с которыми путешествовала Энн – большинство из них принадлежало к основному течению, – обсуждали, не стоит ли обогнуть край и примкнуть к ка-кадзе, но в итоге решили остаться на Восточном Павлине. Энн молча наблюдала за обсуждением, но результат ее удовлетворил, так как сближаться с Касэем, Дао и их товарищами она не желала. Она тоже хотела остаться на Восточном Павлине.
Там отчасти располагались военные отряды движения «Свободный Марс», перебравшиеся из своих машин в брошенные склады. Восточный Павлин становился основным сосредоточием революционных групп всех мастей.
Спустя пару дней после прибытия Энн прошла по уплотненному реголиту в самый крупный склад в шатре, чтобы поучаствовать в общем стратегическом совещании. Собрание прошло примерно так, как она ожидала. В центре обсуждения находилась Надя, и говорить с ней в этот момент было бесполезно. Энн просто сидела на стуле у задней стены, наблюдая, как остальные излагают свое видение их положения. Они не желали говорить то, в чем Питер уже ей признался в личной беседе: отбросить силы ВП ООН от лифта невозможно. Прежде чем согласиться с этим, им нужно было сначала обсудить проблему вдоль и поперек.
Позднее тем же вечером к ней подсел Сакс Расселл.
– Космический лифт, – сказал он. – Его можно… использовать.
Энн испытывала неловкость, беседуя с Саксом. Она знала, что он получил черепно-мозговую травму, попав в руки солдат Временного Правительства, и прошел процедуру, изменившую его личность, что ничуть ему не помогло. Все стало только хуже, притом что выглядел он как старый добрый Сакс. Словно родной, но ненавистный брат, он подчас казался совершенно другим человеком, поселившимся в знакомом теле. Перед тем как присоединиться к Энн, Сакс беседовал с Надей и Артом и выглядел незнакомцем, опрятным стариком с пронизывающим взглядом, говорившим голосом Сакса, в его прежней манере. Но сейчас, когда он подсел к ней, она видела, что изменения, произошедшие в его лице, были лишь поверхностными. И хотя Сакс выглядел знакомо, внутри него сидел чужой – это был человек, который запинался и дергался, пытаясь выдать какую-нибудь фразу, но в половине случаев у него получалось нечто, что с трудом можно было назвать связным.
– Лифт – это… э-э, устройство. Для… поднимания. Э-э… инструмент.
– Только тогда, когда он под нашим контролем, – осторожно заметила Энн, словно объясняя ребенку.
– Контролем, – проговорил Сакс, точно размышляя над новым для себя термином. – Влияние? Если кто-то по-настоящему желающий может обрушить лифт, то… – Он умолк, потерявшись в своих мыслях.
– То что? – напомнила Энн.
– То он под контролем у всех. Согласованное существование. Это очевидно?
Он словно переводил с другого языка. Это был не Сакс. Энн оставалось лишь покачать головой и попытаться вежливо объяснить. Она сказала ему, что лифт служил каналом, по которому наднационалы попадали на Марс. И сейчас он находится в их руках, а революционеры не имеют никакой возможности вытеснить оттуда вооруженные силы противника. И в таком положении очевидный ход – разрушить лифт. Предупредить людей, дать официальное уведомление, а потом сделать это.
– Человеческие жертвы будут минимальны, а те, что будут, станут виной тех глупцов, которые решат остаться на проводе или в районе экватора.
К сожалению, ее слова услышала Надя, находившаяся в середине помещения, – она отрицательно затрясла головой так сильно, что ее короткие седые локоны разметались и стали напоминать клоунский воротник. Она все еще сильно злилась на Энн из-за Берроуза, хоть и не имела на то веских причин. Энн бросила на Надю сердитый взгляд, когда та направилась к ним. Надя отрывисто заметила:
– Нам нужен лифт. Это такой же канал на Землю для нас, как и для них – канал на Марс.
– Но нам не нужен канал на Землю, – возразила Энн. – Мы не связаны физически, разве ты сама не видишь? Я не говорю, что нам не нужно иметь влияние на Землю, я не изоляционист, как Касэй или Койот. Я согласна, что нам нужно попытаться воздействовать на них. Но это будет не физическое воздействие, понимаешь? Нужно воздействие посредством идей, переговоров и, может, даже нескольких посланников. Нужен информационный обмен. По крайней мере, если все сделать как надо. Тогда уже он перерастет в физическое воздействие – обмен ресурсами, массовую эмиграцию, полицейский контроль, – вот тогда лифт станет полезным, даже необходимым. А разрушив его, мы как бы скажем: мы будем играть по нашим правилам, а не по вашим.
Это было совершенно очевидно. Но Надя по невообразимой для Энн причине опять затрясла головой.
Сакс прочистил горло и в своей старой манере, словно перечисляя элементы периодической таблицы, произнес:
– Если мы можем разрушить его, то это, по сути, то же, как если бы мы уже его разрушили.
Он щурился и примаргивал. Точно призрак, внезапно возникший подле нее, апологет терраформирования, враг – Саксифрейдж Расселл собственной персоной, такой же, как всегда. И сейчас она могла лишь приводить те же доводы, что и обычно, слабые доводы, которые выглядели несостоятельными еще до того, как слетали с губ.
Но Энн не сдавалась.
– Люди действуют, исходя из того, что есть на самом деле, Сакс. Боссы наднационалов, ООН и правительства посмотрят в небо, увидят, что там есть, и будут вести себя соответственно. А если провод рухнет, то у них не найдется ни ресурсов, ни времени, чтобы тягаться с нами. Но если он останется висеть, им захочется с нами потягаться. Они решат, что это их шанс. Обязательно появятся люди, которые будут кричать, что следует попытаться достать нас.
– Они всегда смогут добраться сюда. Провод всего лишь позволяет сэкономить на топливе, – возразил Сакс.
– Экономит топливо, поэтому именно на лифте возможны массовые перемещения.
Но Сакс уже отвлекся и вновь превратился в незнакомца. Никто не уделял Энн внимания слишком долго.
Надя уже пустилась в рассказы о контроле над орбитой, безопасности на пропускных пунктах и тому подобном.
Сакс-чужак перебил ее, будто и не слышал ее слов:
– Мы обещали… выручить их.
– Отправив им еще металла? – отозвалась Энн. – А он им правда нужен?
– Мы могли бы… забрать людей. Это бы помогло.
Энн покачала головой.
– Столько, сколько им нужно, нам все равно не забрать.
Он нахмурился. Надя увидела, что ее перестали слушать, и вернулась к столу. Сакс и Энн замолчали.
Они всегда спорили. Никогда ни в чем не соглашались, не находили компромиссов, не расходились миром. Они спорили, определяя разные понятия одними и теми же словами, и почти не разговаривали друг с другом. Когда-то все было иначе, очень давно, когда они спорили на одном языке и понимали друг друга. Но это было так давно, что она не могла толком вспомнить, где это было. В Антарктике? Возможно… Но точно не на Марсе.
– Знаешь ли, – живо произнес Сакс, опять став совсем непохожим на себя, но уже по-другому. – Временное Правительство эвакуировало Берроуз и остальную часть планеты не из-за Красного ополчения. Если бы подпольщики были единственной причиной, земляне стали бы нас преследовать и вполне могли бы добиться своего. Но массовые демонстрации в шатрах дали понять, что почти вся планета против них. Вот чего правительства боятся сильнее всего – массовых протестов в городах. Того, что сотни тысяч людей выйдут на улицы, чтобы свергнуть нынешнюю систему. Вот что имеет в виду Ниргал, когда говорит, что политическая власть исходит из простого человеческого взгляда, а не из дула пистолета.
– И? – спросила Энн.
Сакс указал рукой на тех, кто находился на складе:
– Они все Зеленые.
Остальные продолжали спорить. Сакс, по-птичьи наклонив голову, наблюдал за ней.
Энн встала и покинула собрание, выйдя на пустынные улицы Восточного Павлина. На перекрестках то тут, то там несли вахту отряды ополченцев, устремивших глаза на юг – в сторону Шеффилда и проводного терминала. Исполненные радости и надежды, серьезные молодые уроженцы Марса. В группе, занимавшей один из перекрестков, оживленно спорили, и, когда Энн проходила мимо, девушка с предельно серьезным видом воскликнула:
– Нельзя делать только то, что хочется!
Энн продолжала идти. В ней нарастало беспокойство, хотя она сама не знала, почему. Так люди и меняются – маленькими квантовыми скачками под влиянием внешних событий, – не имея ни цели, ни плана. Кто-то говорит о «простом человеческом взгляде», и это выражение внезапно сочетается с образом лица, разгоряченного и осуждающего, и еще с высказыванием: «Нельзя делать только то, что хочется!». И тогда она поняла (помог взгляд той девушки!), что вопрос о судьбе провода, которую они сейчас решали, стоит иначе: не только «должен ли он упасть?» – а «как мы принимаем решения?». Это был существенный постреволюционный вопрос, может, даже более важный, чем любой другой, о котором они спорили, включая даже саму судьбу провода. Вплоть до настоящего времени обитатели подполья действовали по принципу: кто не с нами, тот против нас. Как раз такое отношение и загнало их под землю прежде всего прочего, заключила Энн. А применив этот принцип вначале, отказаться от него уже тяжело. Как бы то ни было, они лишь доказали, что он работает. И они намеревались пользоваться им и дальше. Она это чувствовала.
Но политическая власть… говорят, она исходит из простого человеческого взгляда. Ты можешь сражаться вечно, но, если за тобой никого нет…
Энн все еще размышляла об этом, когда въезжала в Шеффилд, уже забыв весь фарс минувшего собрания на Восточном Павлине. Она хотела сама взглянуть на место действия.
Удивительно, как мало вроде бы изменилось в повседневной жизни Шеффилда. Люди по-прежнему ходили на работу, питались в столовых, болтали, сидя на траве в парках, собирались в общественных местах города, самого населенного из всех шатровых городов. В магазинах и столовых не протолкнуться. Большая часть предприятий Шеффилда принадлежала наднационалам, и сейчас люди читали на своих экранах длинные доводы насчет того, что нужно сделать, каким должны стать отношения работников к старым владельцам, где закупать сырье, где продавать товары, чьим уставам следовать, кому платить налоги. Судя по тому, что показывали на больших экранах, в вечерних выпусках новостей по телевизору и в сети, все было весьма запутанно.
Площадь теперь занимал продовольственный рынок, но все равно она выглядела так же, как всегда. В основном продукты выращивали и распространяли кооперативные общества, но присутствовали и агрокультурные сети: теплицы на Павлине все еще работали, и в заведенном порядке протекали рыночные отношения, в которых продукты продавались за доллары ВП ООН или отпускались в кредит. Лишь один-два раза Энн видела, как раскрасневшиеся продавцы в передниках кричали на посетителей, которые кричали в ответ, споря по каким-то вопросам правительственной политики. Когда Энн проходила мимо одного из таких споров – которые ничем не отличались от тех, что велись между руководителями в Восточном Павлине, – спорщики умолкли и уставились на нее. Ее узнали. Продавец овощей громко произнес:
– Если вы, Красные, не будете лезть, они просто уйдут, и все!
– Да ладно тебе! – возразил кто-то. – Это не от нее зависит.
«Это точно», – подумала Энн и продолжила путь.
Люди ждали поезда. Транспортная система по-прежнему работала, готовая к переходу в автономный режим. Сам шатер также функционировал, что не стоило воспринимать как само собой разумеющееся, хотя большинство именно так это и воспринимало; работники каждого из шатров делали свою работу, как у них было заведено. Они сами добывали сырье, в основном из воздуха, а солнечные коллекторы и ядерные реакторы давали им всю необходимую энергию. Таким образом, шатры были физически уязвимы, но при определенном развитии событий они могли стать политически автономными. Правда, для обладания ими ни у кого не имелось ни причин, ни прав.
Итак, все необходимое там имелось. Жизнь, не особо потревоженная революцией, шла своим чередом.
Или так казалось на первый взгляд. Но на перекрестках улиц дежурили вооруженные группы молодых местных уроженцев, по трое, четверо, пятеро. Жаждущие революции ополченцы толпились возле ракетных установок и тарелок дистанционного зондирования – и не важно, Зеленые они или Красные, хотя подавляющее большинство относило себя к Зеленым. Прохожие либо разглядывали их, либо останавливались, чтобы поговорить и выяснить, чем те занимаются. «Следим за Гнездом», – отвечали вооруженные местные. Хотя, как заметила Энн, они также выполняли роль полиции. Они стали частью общей деятельности – народ объединился, все поддерживали друг друга. Люди болтали и улыбались: это была их собственная полиция, их братья-марсиане, которые их защищали и стерегли Шеффилд ради них. Было видно, что народ желал видеть их здесь. Если бы это было не так, то каждый приближающийся с вопросом казался бы даже с виду опасен и бросал бы недовольные взгляды, что в конце концов заставило бы полицию уйти с улиц в более безопасное место. Но нет – сейчас все были заодно, а вместе можно свернуть и горы.
Следующие несколько дней Энн провела в раздумье. Но мыслей стало еще больше после того, как она села в поезд, идущий по краю вулкана, удаляясь от Шеффилда против часовой стрелки к северной части дуги. Там, в маленьком шатре в Ластфлоу жили Касэй, Дао и другие ка-кадзе. Судя по всему, они принудительно выселили нескольких жильцов, не принимавших участия в боях, и те, естественно, уехали шеффилдским поездом, в гневе требуя вернуть им дома и сообщая Питеру и другим лидерам Зеленых, что Красные установили прибуксированные ракетные установки на северном краю и теперь еще более явно направили ракеты на лифт и Шеффилд.
Так что Энн вышла с небольшой станции в Ластфлоу в дурном настроении, раздраженная заносчивостью ка-кадзе, в некотором смысле столь же бестолковых, что и Зеленые. Они хорошо проявили себя в кампании в Берроузе, захватив дайку таким образом, чтобы все увидели и получили предупреждение, а затем взяв на себя ее прорыв, после того как все остальные революционные группировки собрались на южных высотах, готовые спасать гражданское население, пока войска наднационалов были вынуждены отступать. Ка-кадзе увидели, что нужно сделать, и сделали это, не устраивая каких-либо дебатов. Не будь они такими решительными, остальные по-прежнему стояли бы вокруг Берроуза, а наднационалы наверняка сформировали бы земные экспедиционные войска, чтобы улучшить свое положение. Так что выходит, ка-кадзе провели безупречную операцию.
Но этот успех, похоже, вскружил им головы.
Ластфлоу получил название благодаря впадине, в которой расположен, – она представляла собой веерообразный поток лавы, протянувшийся более чем на сотню километров вниз по северо-восточному склону горы. Этот единственный изъян в идеально круглом конусе вершины с кальдерой, очевидно, появился в поздний период истории извержений. Стоя в этой впадине, остальной части вершины нельзя было увидеть – как из неглубокой долины, откуда не было приличного обзора ни в одном из направлений. Но если отойти к крутому спуску на самом краю, открывался вид на огромный цилиндр кальдеры, уходящий в глубь планеты, а где-то вдали, на расстоянии сорока километров, виднелся Шеффилд, словно крошечный Манхэттен.
Ограниченный обзор объяснял, почему на всем краю последней стали развивать именно впадину. Впрочем, теперь ее заполнял крупный купол, достигавший шести километров в диаметре и сотни метров в высоту, серьезно усиленный, как было необходимо в здешних местах. Поселение стало местом проживания прежде всего для тех, кто работал во многих промышленных областях, представленных на краю, и добирался до работы поездом. Сейчас переднюю часть края занимали ка-кадзе, и сразу за куполом стоял ряд крупных марсоходов – несомненно, тех самых, что вызвали слухи о ракетных установках.
Когда Энн провожали в столовую, которую Касэй превратил в свой штаб, ее спутники подтвердили, что это правда: марсоходы действительно перевозили ракетные установки, готовые сровнять последнее марсианское убежище ВП ООН с землей. Ее проводники были весьма этим довольны, как и довольны тем, что могли не только ей об этом рассказать, встретившись с ней, но и все показать. Эта разномастная толпа по большей части состояла из местных уроженцев, но были и новоприбывшие с Земли, и старожилы из всех этнических групп. Некоторых Энн даже узнала: Эцу Окакура, аль-Хал, Юсуф. У двери столовой их остановила группа незнакомых ей молодых местных, которые, воодушевленно ухмыляясь, жаждали пожать ей руку. Ка-кадзе. Она не могла не признать, что к этому ответвлению Красных чувствовала наименьшую симпатию. Яростные экс-земляне… Или местные уроженцы – идеалисты с каменными клыками, омрачающими их улыбки, с глазами, горящими при встрече с ней, при разговоре о ками, необходимости в праведности, подлинной ценности камня, правах планеты и тому подобном. Попросту говоря, фанатики. Она пожимала им руки и кивала, стараясь не выдать своей неприязни.
В столовой у окна сидели, потягивая темное пиво, Касэй и Дао. При появлении Энн вся комната замерла, и лишь спустя какое-то время, за которое ей всех представили и Касэй с Дао поприветствовали ее объятиями, народ угомонился и вернулся к еде и своим разговорам. С кухни постоянно приносили новые блюда, и неожиданно для Энн работники столовой вышли, чтобы поздороваться с ней, – они также оказались ка-кадзе. Энн, чувствуя нетерпение и неловкость, дождалась, пока они уйдут, а люди, вскочившие с мест при появлении торжественной делегации поваров, вернутся к своим столикам. Журналисты всегда называли ка-кадзе ее духовными детьми, ведь она была первой Красной, – но правда была ей неприятна.
Касэй, пребывавший в превосходном настроении еще с самого начала революции, заявил:
– Мы обрушим провод примерно через неделю.
– Да что ты говоришь! – ответила Энн. – Но зачем столько ждать?
Дао не уловил ее сарказма.
– Нужно предупредить людей, чтобы они успели покинуть район экватора.
Обычно он был угрюм, но сегодня не уступал в бодрости Касэю.
– А если отключить лифтовой провод?
– Может быть, так и сделаем. Но даже если все наши противники эвакуируются и передадут лифтовое хозяйство нам, часть троса все равно упадет.
– Ударите по нему? Неужели действительно подготовили ракетные установки?
– Да. Но верхнюю часть пробьем в том случае, если военные спустятся и попытаются вернуть себе Шеффилд. А чтобы обрушить незначительную часть провода, не нужно стрелять в его основание.
– Управляемые ракеты можно нацелить на нижнюю часть, – объяснил Касэй. – Хотя вообще сложно сказать, что тогда случится. Но разрыв прямо над ареосинхронной точкой снизит урон, который получит область экватора, и не даст Нью-Кларку улететь так далеко, как улетел первый Кларк. Мы хотим свести все волнения к минимуму и по возможности избежать проблем. Только разрушим здание, и все. Как будто оно пришло в негодность и подлежит сносу.
– Да, – проговорила Энн, чувствуя облегчение от этого проявления здравого смысла. Однако ее идея, преподнесенная как план, придуманный кем-то другим, странным образом встревожила ее. И все же главная причина ее тревоги заключалась в другом.
– А как же остальные – Зеленые? Что, если они будут против?
– Не будут, – ответил Дао.
– Но они не согласны! – резко возразила Энн.
Дао покачал головой.
– Я разговаривал с Джеки. Может, некоторые Зеленые действительно против, но ее группа говорит так только на публику, чтобы выглядеть терпимыми к землянам, и они могут свалить все на радикалов, которые им неподконтрольны.
– На нас, – сказала Энн.
Оба кивнули.
– Точно как в Берроузе, – улыбнулся Касэй.
Энн задумалась над его словами. Несомненно, это было правдой.
– Но среди них есть решительные противники. Я спорила с ними на этот счет, и никакая публичность тут ни при чем.
– Угу, – медленно ответил Касэй.
Они с Дао смотрели на нее.
– Так, значит, вы все равно это сделаете, – наконец заключила она.
Они просто смотрели на нее. Вдруг она поняла, что они больше не станут делать то, что она им скажет, как молодые ребята не стали бы подчиняться дряхлой бабке. Они насмехались над ней. Пытались придумать, как повыгоднее ее использовать.
– Нам придется, – ответил Касэй. – Это необходимо для Марса. Не только для Красных – для всех нас. Нам нужно быть на некотором расстоянии от Земли, и гравитационный колодец это расстояние восстановит. Без него же нас унесет вихрем.
Это был довод самой Энн – на встречах на Восточном Павлине она говорила то же самое.
– А если они попытаются остановить вас?
– Вряд ли у них это получится, – сказал Касэй.
– Но если все же попытаются?
Двое мужчин переглянулись. Дао пожал плечами.
«Так, – подумала Энн, глядя на них. – Значит, они хотят начать гражданскую войну».
Люди продолжали подниматься по склонам Павлина, заполняя Шеффилд, Восточный Павлин, Ластфлоу и остальные шатры на краю вулкана. Среди них были: Мишель, Спенсер, Влад, Марина и Урсула; Михаил с целой ватагой богдановистов; Койот, в одиночку; группа из «Праксиса»; большой поезд со швейцарцами; караваны марсоходов с арабами; суфисты и миряне; местные уроженцы из других городов и поселений Марса. Они собирались, чтобы со всем покончить. Местные объединяли усилия по всей планете, все системы жизнеобеспечения управлялись местными бригадами совместно с «Сепарасьон дель Атмосфер». Конечно, оставались еще мелкие очаги сопротивления наднационалов, как и отряды ка-кадзе, систематически уничтожавшие всякие попытки терраформирования; но гора Павлина, бесспорно, оставалась важнейшим местом в стоявшей перед всеми проблеме – либо завершить революцию, либо, чего уже побаивалась Энн, дать ход гражданской войне. Или и то и другое. Такое тоже когда-то случалось.
Она ходила на встречи, плохо спала по ночам, просыпалась в тревоге, даже когда дремала в переездах от одной встречи к другой. Воспоминания о встречах становились все более смутными: все они проходили в спорах, и от них не было никакого толку. Она лишь утомлялась, и нарушения сна не шли на пользу. Как-никак, ей было около ста пятидесяти лет, и за последние двадцать пять из них она ни разу не проходила геронтологической терапии, отчего постоянно чувствовала себя совершенно измотанной. С растущим безразличием она наблюдала, как другие обсуждают ситуацию во всех мельчайших деталях.
Земля все еще пребывала в хаосе: большое наводнение, вызванное разрушением западного Антарктического ледяного щита, действительно оказалось идеальным пусковым механизмом, на который рассчитывал «генерал Сакс». Энн видела, что Сакс ничуть не раскаивался из-за того, что воспользовался бедствием землян, и даже не задумывался о множестве смертей, к которым оно привело. Когда он говорил об этом, она ясно читала его мысли: в чем тут раскаиваться? Наводнение произошло случайно, это геологическая катастрофа, событие того же разряда, что ледниковый период или падение метеорита. И никто не стал бы раскаиваться, пользуясь таким случаем ради собственной выгоды. Лучше всего – извлекать из хаоса и беспорядка все, что возможно, и не беспокоиться на этот счет. Все это читалось по лицу Сакса, когда он говорил, что делать дальше в отношении Земли. Он предлагал отправить делегацию, дипломатическую миссию, выступить на публике, устроить встречу. Казалось, он говорил бессвязно, но она понимала его – как брата, как старого врага! Да, Сакс – по крайней мере, старый Сакс – был истым рационалистом и никем иным. А потому его легко понять. Если сравнивать с другими – легче, чем фанатиков ка-кадзе.
Но встретиться и говорить с ним можно было только на его условиях. Поэтому на встречах она садилась напротив него и пыталась сосредоточиться, даже несмотря на то, что ее разум словно затвердевал, превращаясь в камень прямо внутри головы. Споры поднимались снова и снова: что им, собравшимся на Павлине, делать? Кто займет Павлиний трон? Потенциальных шахов было предостаточно – Питер, Ниргал, Джеки, Зейк, Касэй, Майя, Надя, Михаил, Ариадна, незримая Хироко…
Кто-то взывал к тому, чтобы принять за основу нынешнего обсуждения итоги конференции в регионе Дорса Бревиа. И все бы ничего, но без Хироко у них не было духовного центра – ведь она оставалась единственным человеком в истории Марса – кроме, конечно, Джона Буна, – с кем считались все. Но теперь не было ни Хироко, ни Джона, ни Аркадия. Не было даже Фрэнка, который сейчас мог бы принести пользу, прими он сторону Энн, что вряд ли бы случилось. Никого не было. Осталась лишь анархия. Удивительно, как их отсутствие было заметно за переполненным столом – даже заметнее, чем присутствие всех остальных. Вот, например, Хироко: о ней часто упоминали, а она, несомненно, скрывалась где-то в необжитых районах, по своему обыкновению покинув товарищей в час нужды. Выбросив их из гнезда.
Удивительно, что именно единственному ребенку их ушедших героев, Касэю, сыну Джона и Хироко, суждено было стать наиболее радикальным лидером, который вызывал у нее тревогу, даже находясь на ее стороне. И вот он сидел, выражая неодобрение Арту, исказив рот в слабой улыбке. Он ничем не походил ни на одного из родителей – впрочем, в нем было немного надменности Хироко и простодушия Джона. Их худшие черты. Но тем не менее он представлял собой силу, делая то, что хотел, и многие следовали за ним. Но он был вовсе не таким, какими были его родители.
А Питер, сидевший всего в паре кресел от Касэя, был вовсе не таким, какими были они с Саймоном. Трудно было сказать, какую вообще роль играло кровное родство – по-видимому, никакой. Но у нее сжималось сердце, когда Питер говорил: он спорил с Касэем и выступал против Красных по всем пунктам, выставляя их в таком свете, будто они занимались межпланетным коллаборационизмом. И за все время этих обсуждений он ни разу не обратился к ней – даже ни разу не взглянул. Вероятно, он делал это намеренно, из вежливости: «Я не буду спорить с тобой на людях». Но выглядело это как пренебрежение: «Я не буду спорить с тобой, потому что ты не имеешь значения».
Он выступал за то, чтобы оставить трос, и поддерживал Арта в вопросе акта, составленного в регионе Дорса Бревиа, что было естественно, учитывая, что преимущество Зеленых, существовавшее тогда, сохранилось до сих пор. Он использовал этот акт как руководство, согласно которому провод следовало сохранить. А значит, допустить дальнейшее присутствие Временного Правительства. В действительности же некоторые из окружения Питера говорили о «полуавтономии» относительно Терры, а не о независимости, и Питер с этим соглашался, тогда как Энн не могла этого вынести. И все это время они даже не встречались взглядами. Это было несколько в духе Саймона – как будто молчание. И ее это злило.
– Нам нечего обсуждать долгосрочные планы, пока не решим проблему с лифтовым проводом, – сказала она, перебив его, за что удостоилась поистине злобного взгляда, будто нарушила согласие, хотя никакого согласия у них не было. Так почему им запрещалось спорить, когда у них все равно не было нормальных отношений – никаких отношений, кроме биологических?
Арт утверждал, что ООН уже готовы смириться с полуавтономией Марса, если тот останется в формате «тесных консультаций» с Землей и окажет активную помощь в разрешении ее кризиса. Надя рассказала, что общалась с Дереком Хастингсом, находившимся сейчас на Нью-Кларке. Да, Хастингс сдал Берроуз без кровавого сражения, но сейчас он желал достичь компромисса. Следующее его отступление, несомненно, не будет таким быстрым и не приведет его в какое-нибудь приятное место, потому что на Земле, несмотря на все чрезвычайные меры, теперь царили голод, мор и мародерство – общественный договор, и без того довольно хрупкий, был окончательно расторгнут. Это могло повториться и здесь; Энн следовало помнить об этой хрупкости, когда она злилась так сильно, как сейчас, когда хотела сказать Касэю и Дао, чтобы те заканчивали споры и приступали к делу. Скажи она это – и они, весьма вероятно, так и поступили бы. Она странным образом ощущала в себе такую силу, оглядывая стол и беспокойные, сердитые, недовольные лица вокруг. Она могла дать решающий голос, оказать перевес.
Говорившие поочередно брали слово, чтобы за пять минут изложить доводы то в одну, то в другую сторону. Сторонников перерезания провода оказалось больше, чем предполагала Энн, – это были не только Красные, но и представители культур и движений, сильнее других запуганные тем, что наднационалы установят свой порядок или что земляне начнут массово эмигрировать на Марс. Сюда относились бедуины, полинезийцы, жители региона Дорса Бревиа и наиболее опасливые из числа местных. Но все равно сторонники ликвидации космического троса оставались в меньшинстве. Уже не в незначительном, но в меньшинстве. Изоляционисты против интерактивистов – вот он, очередной раскол в движении за независимость Марса.
Джеки Бун встала и проговорила пятнадцать минут в поддержку сохранения лифтового провода, угрожая всякому, кто желал его разрушить, изгнанием из марсианского общества. Ее выступление вызвало отвращение у одних, у других снискало популярность. Следующим поднялся Питер и стал говорить то же самое, но уже не так прямо. Это настолько разъярило Энн, что она вскочила, как только он закончил, и стала выступать за разрушение провода. Этим она вызвала еще один ядовитый взгляд Питера, но едва обратила на него внимание: она уже дошла до белого каления и совершенно забыла о пятиминутном лимите. Никто не пытался ее прервать, и она говорила и говорила, хоть и понятия не имела, что скажет дальше, и не помнила, что сказала до этого. Может быть, ее подсознание выстроило мысли в форму речи адвоката – она на это надеялась, – с другой стороны, часть ее разума была поглощена идеями, в то время как она продолжала говорить. А может, она лишь раз за разом повторяла слово «Марс» или просто что-то мямлила, тогда как слушатели потворствовали ей или же чудесным образом понимали ее, озаренные постижением невнятицы, будто в головах у них загорелось невидимое пламя, точно они надели шляпы из драгоценностей, – и в самом деле, их волосы чудились Энн спряденными из металла, а лысины стариков – кусками яшмы, под слоем которой и живые, и мертвые могли в равной степени понимать друг друга. И в какой-то момент ей показалось, будто они все вознеслись вместе с ней, все разом, в эпифании – божественном проявлении красного Марса, свободные от Земли, живущие на первозданной планете.
Она села. Поспорить с ней в этот раз вызвался не Сакс, делавший это прежде много раз. Сейчас он озадаченно косил глаза на нее, открыв рот в восхищении, которое она не могла объяснить. Они пялились друг на друга, встретившись взглядами, но она понятия не имела, о чем он думал. Она лишь знала, что наконец завладела его вниманием.
Отпор ей в этот раз дала Надя. Ставшая ей сестрой. Надя медленно и спокойно высказалась за взаимодействие с Землей и вмешательство в ее ситуацию. Несмотря на большое наводнение, земные страны и наднационалы по-прежнему обладали значительной мощью, и бедствие неким образом даже сплотило их и сделало еще более сильными. И Надя говорила о необходимости найти компромисс, необходимости участия, влияния, перемен. Энн это казалось крайне противоречивым. Поскольку они слабы, говорила Надя, они не могут позволить себе сопротивляться, а значит, им придется изменить все земное общество.
– Но как? – воскликнула Энн. – Без точки опоры Землю не сдвинешь! Без точки опоры, без рычага, без силы…
– Речь идет не только о Земле, – ответила Надя. – В Солнечной системе появятся и другие поселения. Меркурий, Луна, крупные внешние луны, астероиды. Мы должны быть частью этого. И как первое поселение мы естественным образом станем в их главе. Гравитационный колодец без опоры будет препятствием всему этому, ограничит нашу способность действовать, нашу силу.
– Помешает прогрессу, – с горечью произнесла Энн. – Подумай, что бы на это сказал Аркадий. Нет, смотри. У нас была возможность создать здесь что-то новое. В этом был весь смысл. И возможность эта есть у нас до сих пор. Все, что расширяет пространство, в пределах которого мы можем создать новое общество, – это хорошо. Все, что ограничивает его, – это плохо. Вот о чем подумайте!
Вероятно, они подумали. Но это ничего не изменило. Все земляне вступались за сохранение провода – посылали доводы, угрозы, мольбы. Они нуждались в помощи. В любой помощи. Арт Рэндольф продолжал активно защищать провод, представляя интересы «Праксиса», который, как казалось Энн, мог стать следующим Временным Правительством и устанавливал скрытый наднационализм в его новейшем воплощении.
Но местные уроженцы мало-помалу начинали переходить на их сторону, заинтересованные возможностью «завоевать Землю», не понимая, насколько это нереально, будучи неспособными вообразить ее громадность, ее неподъемность тяжеловеса. Им можно было рассказывать об этом бесконечно, но они все равно не сумели бы этого представить.
Наконец, пришло время голосования. Решили, что участвовать в нем должны только отдельные представители – по голосу от каждой группы, подписавшей акт в Дорсе Бревиа, а также от всех заинтересованных групп, возникших позже, – новых поселений в необжитых районах, новых политических партий, ассоциаций, научных организаций, компаний, отрядов подпольщиков, нескольких фракций Красных. Прежде чем начали голосовать, какая-то щедрая наивная душа даже предложила дать право голоса первой сотне, но все лишь посмеялись над мыслью, что тогда первая сотня сможет таким же образом голосовать и по остальным вопросам. Щедрая душа, молодая дама из региона Дорса Бревиа, затем предложила дать каждому члену первой сотни по отдельному голосу, но это было отвергнуто как угроза той хрупкой власти, что имел представительский совет. Да и все равно это ничего бы не изменило.
И они проголосовали за то, чтобы космический лифт остался на месте еще на некоторое время – и во власти ВП ООН, до самого Гнезда включительно, без всяких требований. Это было то же самое, как если бы король Кнуд решил признать законными морские волны[1], но никто, кроме Энн, не смеялся. Красные пришли в ярость. Как громко возразил Дао, принадлежность Гнезда все еще активно оспаривалась, а прилегающую к нему территорию, слабо защищенную, можно захватить – ничто не вынуждало их отказываться от Гнезда, и большинство голосующих просто не хотели признавать проблему, потому что решить ее труднее, чем отступиться от нее! Но большинство оказалось единодушным. Провод было положено сохранить.
Энн ощутила знакомый порыв – бежать. Шатры и поезда, люди, по-манхэттенски тонкая линия горизонта между Шеффилдом и южным краем, базальтовый пик, взрыхленный, выровненный и замощенный… Вдоль всего края тянулась железная дорога, но западная сторона кальдеры едва обитаема. Энн села в один из наименее габаритных марсоходов, что находились в распоряжении Красных, и направилась по краю против часовой стрелки, прямо вдоль железной дороги, с ее внутренней стороны. Добравшись до метеостанции, она припарковала марсоход и вышла сквозь шлюз, неуклюже ступая в прогулочнике, сильно напоминающем тот, какие они носили в первые годы.
Она находилась в километре или двух от края. Двигаясь к нему на восток, она споткнулась раз-другой и лишь потом пошла осторожнее. Старая лава на ровной поверхности широкого края где-то была гладкой и темной, где-то – грубой и более светлой. Когда приблизилась к самому краю, уже полностью перешла в режим ареолога, кружа вокруг валунов, как могла бы кружить целый день, уделяя внимание каждому выступу и каждой трещине под ногами. И это было хорошо, потому что у обрыва поверхность разбивалась на ряд узких неровных уступов, то ступенчатых, то таких, что были выше ее ростом. И при этом в Энн нарастало ощущение пустоты впереди – уже виднелись дальний край кальдеры и остальная часть огромного круга. А потом она влезла на последний уступ, всего в каких-то пять метров шириной, с кривой задней стенкой высотой по плечо, – прямо под ней зияла огромная круглая пропасть Павлина.
Эта кальдера по праву считалась одним из геологических чудес Солнечной системы. Котловина в сорок пять километров диаметром и пять глубиной, почти идеально правильная во всех направлениях – круглая, плоскодонная, с практически вертикальными стенами. Совершенный цилиндр пустоты, врезанный в вулкан, точно образец породы, взятый для пробы. Три другие кальдеры были далеки от такой простоты формы; у Олимпа и у горы Аскрийской они представляли собой сложные нагромождения наслаивающихся друг на друга колец, тогда как у горы Арсия кальдера была более-менее круглая, но со всех сторон надколотая. Лишь здесь был правильный цилиндр – идеальная вулканическая кальдера по Платону.
Конечно, с этой превосходной точки обзора, где она оказалась, горизонтальное наслоение внутренних стенок добавляло неровностей, а полосы ржавого, черного, шоколадного и янтарного цветов свидетельствовали о различиях в составе лавовых отложений; причем одни полосы выделялись резче других, располагавшихся выше или ниже, и стену на разных уровнях занимало множество арочных галерей – это были обособленные изогнутые террасы, на большинство из которых еще не ступала нога человека. Также здесь было очень ровное дно. Проседание магматического очага вулкана, что находился примерно в 160 километрах ниже самой горы, судя по всему, всегда было необычайно правильным и происходило каждый раз в одном и том же месте. Энн задумалась, было ли это чем-либо предопределено, был ли этот очаг моложе других крупных вулканов и был ли меньше их, была ли лава более однородной… Вероятно, кто-то да занимался этим феноменом – это можно было узнать с помощью наручной консоли. Она набрала адрес «Журнала ареологических исследований», ввела слово «Павлин» и получила: «В обломках породы в западной Фарсиде найдено свидетельство стромболианской взрывной активности», «Вееровидные хребты в кальдере и концентрический грабен вне конуса позволяют сделать предположение о позднем проседании вершины». А она только что ходила по этому грабену. «Выброс ювенильных летучих веществ в атмосферу рассчитан методом радиометрического датирования пород в Ластфлоу».
Энн выключила консоль. Она уже много лет как отстала от последних новостей ареологии. Даже чтение кратких обзоров теперь требовало гораздо больше времени, чем у нее было. И разумеется, ареология серьезно пострадала из-за терраформирования. Ученые, работающие на наднационалов, были сосредоточены на поиске ресурсов и их оценке, хотя и нашли признаки древних океанов, теплой влажной атмосферы и, может даже, древней жизни. Красные ученые-радикалы, в свою очередь, предупреждали о повышении сейсмической активности, стремительном проседании грунта, гравитационном перемещении пород и скором исчезновении последнего кусочка поверхности, сохранившегося в первозданном виде. Политическое давление исказило практически все, что было написано о Марсе за последнюю сотню лет. В одном только «Журнале», насколько Энн было известно, пытались публиковать статьи по ареологии в чистом смысле слова и ставящие акцент на том, что происходило на протяжении пяти миллиардов лет, когда здесь не было людей. Это было единственное издание, которое Энн до сих пор читала, путь даже мельком, просматривая заголовки и кое-какие обзоры, а также передовые статьи. Раз или два она даже направляла письма, касающиеся тех или иных вопросов, которые там потом без особых торжеств печатали. Публикуемый университетом в Сабиси, «Журнал» рецензировался ареологами, которые придерживались одних и тех же взглядов, и статьи в нем выходили скрупулезные, тщательно подготовленные и не связывающие свои выводы с какими-либо определенными политическими взглядами – они были просто научными. Передовицы в «Журнале» выступали в защиту того, что следовало называть позицией Красных, но лишь в самом ограниченном смысле, поскольку они высказывались за сохранение первозданной среды, которая позволила бы продолжать исследования, не страдая от значительного ее загрязнения. Энн настаивала на этом с самого начала, и такая позиция до сих пор была для нее самой близкой; правда, сложившееся положение вынудило ее перейти из научной сферы к политической активности. То же случилось и со многими другими ареологами, которые теперь поддерживали Красных. По сути, они стали для нее единомышленниками – людьми, которых она понимала и поддерживала.
Но их было немного: почти всех она знала поименно. Это были в основном авторы статей из «Журнала». Что же до остальных Красных, ка-кадзе и прочих радикалов, то они придерживались какой-то метафизической позиции, составляли культ – были религиозными фанатиками, как Зеленые, последователи Хироко, чья секта поклонялась камням. Энн, если на то пошло, имела с ними очень мало общего: их принадлежность к Красным обуславливалась совершенно иным мировоззрением.
А учитывая, что Красные и сами делились на фракции, – о каком движении за независимость Марса вообще могла идти речь? Что ж, им самим было впору расколоться на самостоятельные общественные движения. И такое уже случалось.
Энн осторожно села на край последнего уступа. Отличный вид. На дне кальдеры вроде бы виднелась какая-то станция, хотя с высоты в пять тысяч метров трудно было сказать наверняка. Даже развалины старого Шеффилда оказались едва различимыми… хотя нет, вон они где, на дне под новым городом – крошечные завалы с прямыми линиями и ровными поверхностями. Неглубокие вертикальные рубцы на стене, что виднелись выше, появились в результате падения города в 61-м.
Шатровые поселения все еще стояли на краю, будто игрушечные деревни из папье-маше. Шеффилд над самым горизонтом, приземистые складские здания к востоку от Энн, Ластфлоу, всякие шатры поменьше, разбросанные по всему краю… Многие из них слились, чтобы образовать что-то вроде Большого Шеффилда, занимая почти все 180 градусов края, вокруг Ластфлоу и на юго-запад, где железные дороги тянулись по длинному склону западной Фарсиды к равнине Амазония вслед за павшим проводом. Все эти города и станции не могли существовать без шатров, потому что на двадцатисемикилометровой высоте воздух всегда был в десять раз разреженнее, чем на нулевой отметке, или на уровне моря, как ее еще называли. Это означало, что давление атмосферы здесь достигало лишь тридцати – сорока миллибар.
Города были обречены на то, чтобы остаться шатровыми, хотя благодаря проводу (который она отсюда не видела), пронзающему Шеффилд, их развитию определенно было суждено продолжиться до тех пор, пока крупный шатровый город не возьмет всю кальдеру в кольцо. Тогда саму кальдеру неминуемо накроют шатром и займут ее круглое дно, прибавив тем самым к территории города полторы тысячи квадратных километров. Однако тут возникал вопрос: кто станет жить на дне такой дыры, будто на дне мохола, среди каменных стен, как в каком-то круглом кафедральном соборе без крыши… хотя, может, кому-то это и придется по нраву. Ведь богдановисты жили в мохолах годами, и ничего. А здесь вырастят леса, построят на арочных уступах домики для альпинистов или, скорее, пентхаусы для миллионеров, вырежут лестницы в скалах, установят стеклянные лифты, которые будут целыми днями ходить вверх-вниз… Плоские крыши, домики в ряд, небоскребы, тянущиеся к самому краю, вертодромы на ровных круглых крышах, железные дороги, висячие автострады… О да, всю вершину горы Павлина, кальдеру и все вокруг мог занять огромный город планетарного масштаба, который непрерывно разрастался бы, словно гриб, чтобы в будущем распространиться на всю Солнечную систему. Миллиарды, триллионы, квадриллионы людей – все практически бессмертные, какими они могли себя сделать…
Энн в замешательстве потрясла головой. Радикалы в Ластфлоу не очень-то разделяли ее взгляды, но если они добьются своего, то вершина Павлина и вся остальная территория Марса станут частью этого огромного города. Она пыталась сосредоточиться на открывшейся ей панораме, прочувствовать ее, ощутить трепет перед ее симметрией, любовь к твердой скале, на которой она сидела. Ее ноги свисали над краем уступа, она стучала пятками по базальту; если бы она сейчас бросила вниз камешек, он пролетел бы пять тысяч метров. Но сосредоточиться не удавалось. Не удавалось этого ощутить. Она словно окаменела. И пробыла в таком состоянии слишком долго… Хмыкнув, Энн тряхнула головой и вытащила ноги из обрыва. А затем вернулась обратно к марсоходу.
Ей снилась долгая дорога. По дну каньона Мелас неслась движущаяся масса, готовая вот-вот ее настичь. И все виделось ей невероятно отчетливым. Она снова вспомнила Саймона, снова простонала и отдалилась от небольшой дайки, на автомате, утихомирив мертвеца внутри себя, испытывая ужасные ощущения… Земля дрожала…
Она проснулась, как ей казалось, по собственной воле – срываясь, убегая прочь, – но вдруг кто-то взял ее руку.
– Энн, Энн, Энн…
Это была Надя. Еще один сюрприз. Энн с трудом поднялась, сбитая с толку.
– Где мы?
– На Павлине, Энн. Началась революция. Я пришла разбудить тебя, потому что Красные Касэя и Зеленые в Шеффилде начали войну.
Настоящее захлестнуло ее, словно движущаяся масса из сна. Она вырвалась из Надиной хватки и нащупала рубашку.
– Разве мой марсоход не был заперт?
– Я его взломала.
– А-а, – Энн встала, не успев прийти в себя. Чем больше она узнавала, тем сильнее это ее раздражало. – А теперь-то что случилось?
– Они стреляли ракетами по космическому тросу.
– Да неужели? – Теперь ее разум почти прояснился. – И?
– Не получилось. Защитная система провода сбила их. На тросе сейчас много оборудования, и защитники лифта были рады наконец всем этим воспользоваться. Но сейчас Красные заходят в Шеффилд с запада и пускают еще ракеты, а войска ООН на Кларке бомбардируют первое место запуска, на Аскрийской, и грозятся забросать бомбами все вооруженные силы, что стоят внизу. Это как раз то, что им нужно. Красные явно думают, что все будет так, как в Берроузе, и пытаются форсировать события. Поэтому я и пришла к тебе. Слушай, Энн, мы много ссорились. Я не была очень, ну, терпимой, но видишь ли, это уже слишком. Все может развалиться на части в последнюю минуту: ООН могла признать, что у нас наступила анархия, вызвать поддержку с Земли и попытаться снова взять все под контроль.
– Где они? – прохрипела Энн. Она натянула штаны и вышла в ванную. Надя следовала за ней по пятам. Это тоже было сюрпризом: может, в Андерхилле это казалось бы в порядке вещей, но прошло очень много времени с тех пор, как Надя ходила за ней в ванную и там увлеченно о чем-то рассказывала, пока Энн умывалась и сидела на унитазе.
– Пока они базируются в Ластфлоу, но уже отрезали железные дороги вокруг края и в Каир, а сейчас вступили в бой в западном Шеффилде, а еще вокруг Гнезда. Красные против Зеленых.
– Да-да.
– Так что, поговоришь с Красными, чтобы прекратили?
Энн внезапно вспыхнула гневом.
– Это вы довели их до такого! – закричала она Наде в лицо, заставив ее прижаться к двери. Энн сделала шаг ей навстречу, продолжая кричать: – Ты и твое тупое самоуверенное терраформирование, все зеленое, зеленое, зеленое, зеленое – и ни малейшего намека на компромисс! Твоей вины в этом не больше, чем их, потому что у них нет другой надежды!
– Может, и так, – непоколебимо ответила Надя. Ее это явно не заботило: то, что осталось в прошлом, теперь не имело значения. Она отставила все в сторону и не желала уходить от темы: – Но ты попытаешься?
Энн пристально смотрела на неуступчивую старую подругу, от страха казавшуюся сейчас юной, предельно сосредоточенной и живой.
– Сделаю, что в моих силах, – угрюмо проговорила Энн. – Но, если то, что ты говоришь, правда, уже слишком поздно.
И действительно, было уже слишком поздно. Стоянка для марсоходов, которой Энн пользовалась раньше, теперь оказалась пуста, и, когда она попыталась связаться с кем-нибудь через консоль, никто не ответил. Так что она оставила Надю и остальных томиться в складском комплексе на восточном Павлине, а сама отправилась в Ластфлоу, надеясь найти там кого-нибудь из тамошних лидеров Красных. Но те уже покинули Ластфлоу, и никто из местных не знал, куда они ушли. Люди смотрели телевизоры на станциях и стоя у окон кафе, но Энн не увидела там никаких новостей о боях, даже по «Мангалавиду». В ее мрачное настроение начало закрадываться чувство безнадежности; хотелось что-то сделать, но она не знала, как. Она снова попробовала включить свою наручную консоль, и, к ее удивлению, на приватной частоте отозвался Касэй. В маленьком окошке на экране он казался поразительно похожим на Джона Буна – настолько, что Энн поначалу пришла в замешательство и не слышала, что он говорил. Он выглядел таким счастливым, точь-в-точь как Джон!
– …Пришлось это сделать, – говорил он ей. Энн не помнила, спрашивала ли его сейчас об этом. – Если бы мы сидели сложа руки, они разорвали бы планету на части. Развели бы сады вплоть до самых вершин большой четверки.
Это вторило мыслям Энн до такой степени, что она была готова снова прийти в замешательство, но взяла себя в руки и ответила:
– Мы должны действовать в поле переговоров, Касэй, иначе начнем гражданскую войну.
– Мы – меньшинство, Энн. В этом поле никому нет дела до меньшинства.
– Я бы не была так уверена на этот счет. Именно над этим нам необходимо работать. И даже если мы решим перейти к активному сопротивлению, это не значит, что действие будет происходить здесь и сейчас. Это не значит, что марсиане должны убивать марсиан.
– Они не марсиане! – Его глаза блестели, а взгляд казался отстраненным от обыденного мира, как у Хироко. В этом отношении он был совсем не таким, как Джон. Вобрав в себя худшее от обоих родителей, он казался пророком, заговорившим на новом языке.
– Ты сейчас где?
– В западном Шеффилде.
– Что собираешься делать?
– Захватим Гнездо, а потом обрушим провод. У нас есть оружие и необходимые навыки. Не думаю, что это доставит особые хлопоты.
– С первой попытки вам это не удалось.
– Да, на нем хватает всяких причуд. Но в этот раз мы его просто перережем.
– Я думала, это невозможно.
– У нас получится.
– Касэй, мне кажется, нам нужно сначала провести переговоры с Зелеными.
Он потряс головой, теряя терпение, раздраженный тем, что она струсила, когда ситуация, наконец, приняла такой оборот.
– Переговоры будут после. Слушай, Энн, мне пора идти. Держись подальше от линии падения.
– Касэй!
Но он уже отключился. Никто ее не слушал – ни враги, ни друзья, ни родные, – но ей все равно стоило позвонить Питеру. А потом еще раз Касэю. Ей нужно было присутствовать там лично, добиться его внимания так же, как добилась Надиного, – да, ведь дойдет и до этого: чтобы добиться чьего-то внимания, нужно кричать человеку прямо в лицо.
Опасаясь застрять в восточном Павлине, Энн двинулась к западу от Ластфлоу, вдоль края против часовой стрелки, точно как накануне. Так она намеревалась подойти к Красным с тыла, и это, несомненно, было лучшим способом добраться до них. Она проехала порядка ста пятидесяти километров от Ластфлоу до западной окраины Шеффилда и, промчавшись вокруг вершины, вблизи железной дороги, долго пыталась связаться с кем-нибудь из вооруженных сил, присутствовавших на горе, но успеха не добилась. Бурные помехи свидетельствовали о боях за Шеффилд, и вместе с этими яростными порывами белого шума, испугав ее, вспыхнули воспоминания о 61-м годе. И она повела марсоход так резво, как могла, держась узкой бетонной полосы вдоль железной дороги, где можно было ехать ровно и быстро – до ста километров в час, а потом и быстрее, – чтобы предотвратить катастрофу гражданской войны, которая казалась теперь опасно близкой. И особенно потому, что уже было поздно, слишком поздно. В такие моменты всегда было поздно. В небе над кальдерой непрерывно возникали звездные облака – без сомнения, это взрывались ракеты, что летели к проводу, но были сбиты на полпути и теперь рассыпались в белых дымках. Последствия взрывов походили на испорченные фейерверки, которые собирались в кучу над Шеффилдом, но рассеивались по всему простору вершины и струями уплывали на восток. Некоторые из тех ракет прекращали свой путь задолго до достижения цели.
Засмотревшись на эту битву, она чуть не врезалась в первый шатер западного Шеффилда, который и так уже оказался пробит. Когда город разрастался на запад, новые шатры примыкали к предыдущим, как куски подушечной лавы; сейчас место последнего из них было засыпано кусками каркаса, осколками стекла, а в его ткани виднелись прорехи размером с футбольный мяч. Марсоход Энн безумно подпрыгивал на холме из базальтового щебня; она притормозила и медленно подъехала к стене. Шлюз для въезда машин заклинило. Она надела костюм и скафандр и, проскочив через шлюз своего марсохода, выбралась наружу. Ее сердце бешено стучало, когда она подошла к городской стене и, перебравшись через нее, оказалась в Шеффилде.
Улицы были пусты. На лужайках повсюду валялись кирпичи, стекло, куски бамбука и искривленные магниевые балки. При падении шатра на таком уровне над нулевой отметкой поврежденные здания полопались, как воздушные шарики, темные окна зияли пустотой, и то тут, то там, будто прозрачные щиты, лежали нетронутые прямоугольные стекла. Там же было тело, лицо то ли замерзло, то ли занесло пылью. Должно быть, погибли многие: люди больше не думали о декомпрессии, это считалось заботой поселенцев прошлого. Но в этот день все было иначе.
Энн прошла дальше на восток.
– Искать Касэя, Дао, Мэрион или Питера, – повторяла она в консоль снова и снова. Но никто не отвечал.
Она прошла по узкой улице, тянувшейся вдоль южной стены шатра. Резкий солнечный свет, остроугольные черные тени. Некоторые здания устояли, окна были на месте, внутри горел свет. Но внутри, конечно, никого не было видно. Провод впереди едва просматривался: темной вертикальной чертой он уходил из восточного Шеффилда прямо в небо, точно геометрическая линия, проявившаяся в их реальности.
Дежурная частота Красных представляла собой сигнал, передаваемый с быстро меняющейся длиной волны, синхронизированной со всеми, кто располагал текущими шифровками. Эта система прекрасно обходила некоторые типы радиопомех, и все же Энн удивилась, когда у нее на запястье раздался каркающий голос:
– Энн, это Дао. Я тут, наверху.
Он стоял в ее поле зрения и махал рукой из проема небольшого аварийного шлюза одного из зданий. Там он вместе с группой из двадцати человек работал на трех пусковых установках, находившихся на улице. Энн подбежала к ним и впорхнула в проем перед Дао.
– Это нужно остановить! – закричала она.
Дао выглядел удивленным.
– Мы почти захватили Гнездо.
– А что потом?
– Поговори об этом с Касэем. Он уже впереди, едет в Арсия-вью.
Одна из ракет со слабым свистом, едва слышным в разреженном воздухе, поднялась в небо. Дао вернулся к своему занятию. Энн побежала вперед по улице, держась как можно ближе к зданиям. Это явно было небезопасно, но ее в ту минуту не заботило, убьет ее или нет – страх куда-то пропал. Питер был где-то в Шеффилде, командовал Зелеными революционерами, которые сидели там с самого начала. Эти люди оказались способны держать силы ВП ООН запертыми на проводе и на Кларке, а потому их не стоило считать теми незадачливыми молодыми пацифистами, какими их описывали Касэй и Дао. Ее духовные дети покушались на жизнь ее единственного настоящего ребенка, совершенно уверенные в том, что делают это с ее благословения. Когда-то такое уже бывало. Но теперь…
Она старалась не сбавлять ход, хотя дышала уже неровно, с трудом, пот стекал по всему телу. Она спешила к южной стене шатра, где увидела небольшой парк маскирующихся машин Красных, «Тертл Рокс» с Ахеронского машинного завода. Но никто из сидевших внутри не отвечал на ее звонки, а присмотревшись, она увидела, что спереди в их каменных крышах, где находились ветровые стекла, зияли дыры, и из них торчали камни. Все, кто сидел внутри, были мертвы. Она побежала дальше на восток, по-прежнему держась стены шатра, не обращая внимания на завалы под ногами и чувствуя нарастающую тревогу. Она понимала, что достаточно одного-единственного выстрела с любой стороны, чтобы убить ее, но ей нужно было найти Касэя. Она снова попробовала связаться с ним по консоли.
Но в этот момент поступил входящий звонок. Как оказалось, от Сакса.
– Разве не логично связать судьбу лифта с целями терраформирования? – Он говорил так, словно обращался не только к ней, а к целой аудитории. – Провод можно было привязать и к довольно холодной планете.
Это был обычный Сакс, даже чересчур обычный, но затем он, должно быть, заметил, что говорил по видеосвязи. Он по-совиному уставился в маленькую камеру своей консоли и сказал:
– Слушай, Энн, мы можем ухватить историю за руку и сломать ее… свершить ее. Начать все сначала.
Ее старый Сакс никогда бы такого не сказал. Не стал бы болтать попусту, явно помутившись рассудком. Не стал бы упрашивать и выглядеть так, словно не находит себе места. Такой Сакс был для нее на редкость пугающим зрелищем.
– Они любят тебя, Энн. И это может нас спасти. Чувственные истории – это правдивые истории. Грань между желанием и отверженностью… приверженностью. Ты… воплощение определенных ценностей… для местных. Ты не можешь от этого уйти. Ты должна это использовать. Я сделал это в Да Винчи, и оно оправдало себя… помогло. Теперь твоя очередь. Ты должна. Должна, Энн… только в этот единственный раз ты должна присоединиться ко всем нам. Быть заодно или быть врозь? Используй свое важнейшее достоинство.
Слышать такое от Саксифрейджа Расселла было крайне странно. Но затем он снова переключился, словно попытавшись взять себя в руки.
– …Логический порядок служит для того, чтобы установить некоторое уравновешивание противоборствующих сторон. – Это опять был старый Сакс.
Затем ее браслет издал сигнал, она отключила Сакса и ответила на входящий звонок. На шифрованной частоте Красных был Питер – и с таким угрюмым лицом, какого ей еще не приходилось видеть.
– Энн! – Он пристально глядел на свое запястье. – Слышишь, мам, я хочу, чтобы ты остановила этих людей!
– Не мамкай, – оборвала она. – Я пытаюсь. Ты можешь мне сказать, где они находятся?
– Разумеется, могу. Они только что прорвались в шатер Арсия-вью. И едут дальше… похоже, они хотят подойти к Гнезду с юга. – Он с хмурым видом получил сообщение от кого-то за пределами кадра. – Точно, – он снова повернулся к ней. – Энн, можно я соединю тебя с Хастингсом с Кларка? Если ты скажешь ему, что пытаешься остановить атаки Красных, он, может быть, поверит, что это лишь кучка экстремистов, и не станет вмешиваться. Он хочет сделать то, что должен, чтобы оставить провод невредимым, и, боюсь, вот-вот убьет нас всех.
– Я поговорю с ним.
И вот он появился – с лицом из глубокого прошлого или, как сказала бы Энн, из потерянного времени, но тем не менее она вспомнила его в одно мгновение. Человек с тонкими чертами лица, раздраженный, сердитый, готовый вот-вот перейти на крик. Кому еще пришлось бы выдержать такое давление на протяжении последней сотни лет? Да никому. А сейчас прошлое будто возвращалось снова.
– Я Энн Клейборн, – сказала она и, когда его лицо скривилось еще сильнее, добавила: – Я хочу, чтобы вы знали: бои, которые идут сейчас, не поддерживаются политикой партии Красных. – Сказав это, она ощутила, как у нее сжался живот и к горлу подступила тошнота. Но она продолжила: – Это дело рук отколовшейся группы, ка-кадзе. Тех самых, кто прорвал дайку в Берроузе. Мы стараемся их остановить и, надеюсь, остановим к концу дня.
Это был ужаснейший поток лжи! Ей казалось, будто пришел Фрэнк Чалмерс и стал говорить за нее. Не в силах вынести вкуса этих слов на губах, она оборвала связь, прежде чем собственное лицо выдало ее, произнесшую тошнотворную ложь. Хастингс исчез, не проронив ни слова, и его сменил Питер, который не знал, что она вернулась на связь. Она могла его слышать, но его наручная консоль была направлена к стене:
– Если они не остановятся сами, нам придется сделать это за них. Или это сделает Временное Правительство, и все полетит к чертям. Подготовь все для контратаки, я сам дам команду.
– Питер! – воскликнула Энн.
Картинка в маленьком окошке сменилась, и она увидела его лицо.
– Ты разбираешься с Хастингсом, – выдавила она, с трудом глядя на него, настоящего изменника, – а я займусь Касэем.
Арсия-вью была самым южным шатром, и сейчас ее наполнял дым, вьющийся в виде аморфных линий, по которым можно было понять схему его вентиляции. Повсюду слышался сигнал тревоги, громкий во все еще разреженном воздухе, а на зеленой траве улиц валялись осколки прозрачного пластика, из которого был сделан каркас. Энн споткнулась о тело, свернувшееся, точно как одно из тех, что застыли под пеплом в Помпеях. Арсия-вью была узкой, но протяженной, и Энн слабо понимала, куда нужно идти. Ориентируясь по свисту взлетающих ракет, она направлялась на восток, к Гнезду, что притягивало к себе все безумие – словно монополь, выпускающий на них заряд с потерявшей разум Земли.
Возможно, так и было задумано: защитная система провода, похоже, могла справиться с легкими ракетами Красных, но если атакующие полностью зачистят Шеффилд и Гнездо, то ВП ООН окажется некуда спускаться и будет уже все равно, останется ли провод висеть в небе или нет. Ровно такой же план они применили в Берроузе.
Но это был плохой план. Берроуз находился в низине и имел атмосферу, при которой люди могли жить и снаружи – пусть и недолгое время. Шеффилд же располагался высоко, то есть они вернулись назад в прошлое, в 61-й год, когда разрушенный шатер означал конец всем, кто попадет под воздействие природных условий. В то же время бо́льшая часть Шеффилда лежала под землей, в многочисленных этажах внутри стен кальдеры. Основная часть населения, без сомнения, отступила именно туда, и, если бы боевые действия распространились на тот район, это стало бы сущим кошмаром. Но вверху, на поверхности, где могли идти бои, люди были уязвимы перед огнем, исходящим сверху от провода. Нет, возможно, все не так. Она не могла увидеть, что там происходило. Возле Гнезда гремели взрывы, по внутренней связи слышались помехи, а когда приемник вылавливал обрывки кодированных частот, повторялись отдельные слова: «…взять Арсия-вьшшш…», «Нам нужен компьютер, но я бы сказал, что по оси “X” три-два-два, по оси “Y” – восемьшшш…»
Затем, должно быть, еще один залп ракет ударил по проводу – Энн увидела, как в небе, не издав ни звука, выросла яркая линия света. А после обрушился дождь крупных черных обломков – прямо на шатры, прорывая невидимые ткани, разбиваясь о невидимые каркасы и, наконец, пролетая последнюю часть расстояния, падали на здания, словно поломанная техника, ударяясь громко, несмотря на разреженный воздух и преграду из шатров, отчего под ногами дрожала земля. Это продолжалось несколько минут, и обломки разлетались все дальше и дальше, и в любую секунду этого времени ее могло убить. Но она лишь стояла и смотрела в темное небо, дожидаясь, пока это кончится.
Вскоре падение прекратилось. Энн снова смогла дышать. Она попыталась связаться с Питером по шифрованной частоте Красных, но услышала лишь помехи. Но вот, уже убавляя громкость в своих наушниках, уловила несколько искаженных полуфраз – Питер рассказывал о движениях Красных Зеленым или даже людям из ВП ООН. Тем, кто мог запустить с защитных систем космического провода ракеты прямо в восставших. Да, это был голос Питера, пусть и прерываемый помехами. Он объявлял им цели. Но затем голос сына пропал, и остался лишь шум.
Быстрые вспышки света у основания лифта сменяли черный цвет нижней части провода на серебряный, а затем снова на черный. Вся сигнализация в Арсия-вью начала звенеть либо завывать. Дым понесся к восточному краю шатра. Энн вышла на аллею, соединявшую его север и юг, и прислонилась к восточной стене здания, чуть ли не вжавшись в бетон. С аллеи ничего не было видно. Лишь слышались взрывы, грохот, ветер. А затем наступила тишина, будто все вокруг замерло.
Она поднялась и побрела дальше по шатру. Куда идти, когда убивают людей? Искать друзей, если это возможно. Если знаешь, кого считать своими друзьями.
Она взяла себя в руки и продолжила искать людей Касэя, отправилась туда, куда ей указал Дао, попыталась продумать, куда они пошли бы дальше. Они могли покинуть город, но, будучи внутри, могли попытаться захватить следующий шатер к востоку, идти от одного шатра к другому, декомпрессировать их, взять силой все, что располагались ниже, продвигаясь дальше таким же образом. Она со всех ног бежала по улице, параллельной стене шатра. Она была в хорошей форме, но, как ни странно, ей не удавалось перевести дух, и внутренняя сторона ее костюма пропиталась потом. Улица была пуста, стояла пугающая тишина, и едва верилось в то, что она, Энн, находится в самой гуще сражения, и совсем не верилось, что здесь можно найти тех, кого она искала.
Однако они оказались там. Впереди нее, на улицах, ограничивающих один из треугольных парков, возникли фигуры в шлемах и костюмах, с автоматами и переносными ракетными установками. Они палили по невидимому противнику, засевшему в облицованном кремнем здании. На плечах у них виднелись красные круги. Красные…
Ослепляющая вспышка – и ее сбило с ног. В ушах зашумело. Она оказалась у подножия здания, приникшая к отполированному камню. Джеспилит – красная яшма, чередующаяся с оксидом железа. Довольно красиво. У нее болели спина, таз, плечо и локоть. Но это все было терпимо. Энн еще могла двигаться. Она отползла, оглянулась на треугольник парка. Там на ветру все горело, но пламя уже гасло – остались лишь оранжевые всполохи, которым явно недоставало кислорода. Люди оказались разбросаны, как сломанные куклы, их руки были искривлены таким образом, что ни одна кость не могла при этом уцелеть. Она поднялась и побежала к ближайшей группе, которая выделялась знакомой седовласой головой, лишившейся шлема. Это был Касэй, единственный сын Джона Буна и Хироко Ай, его челюсть с одной стороны была разодрана в кровь, глаза – открыты, но с невидящим взглядом. Он воспринял Энн слишком серьезно. А его соперники – недостаточно серьезно. Из-за раны был хорошо виден его розовый каменный зуб, и, когда Энн заметила его, ей сдавило горло, и она отвернулась. Все зря. Теперь все трое были мертвы.
Она повернулась обратно, наклонилась, отстегнула консоль с его запястья. Вероятно, у него была частота с прямым доступом к ка-кадзе, и, вернувшись в убежище обсидианового здания, поврежденного крупными белыми обломками, она набрала основной код вызова и сказала:
– Говорит Энн Клейборн, я обращаюсь ко всем Красным. Ко всем Красным. Слушайте, это Энн Клейборн. Наступление на Шеффилд провалилось. Касэй мертв, как и многие другие. Продолжать наступление не имеет смысла. Оно приведет лишь к тому, что силы безопасности Временного Правительства снова спустятся на планету. – Ей хотелось указать на то, каким нелепым был план изначально, но она прикусила язык. – Все, кто имеет такую возможность, покиньте гору. Все, кто находится в Шеффилде, возвращайтесь обратно на запад, выбирайтесь из города и спускайтесь с горы. Говорит Энн Клейборн.
Она получила несколько подтверждений, но слушала их вполуха, шагая по Арсия-вью на запад, к своему марсоходу. Она не пыталась прятаться: убьют – значит, убьют, но теперь ей не верилось, что это случится. Она шла под покровом крыльев некоего темного ангела, оберегающего ее от гибели несмотря ни на что, но заставляющего наблюдать смерти тех людей, кого она знала, и той планеты, которую любила. Такова уж ее судьба. Да, среди них был Дао со своей командой – они все погибли на месте, где она их оставила, и теперь лежали в лужах собственной крови. Должно быть, она разминулась с ними совсем чуть-чуть.
Внизу, на широком бульваре с рядом лип посередине, лежала еще одна кучка тел – но не Красных: на головах у них были зеленые повязки, а один, лежащий к ней спиной, походил на Питера. Ватными ногами, повинуясь непреодолимому импульсу, словно в кошмарном сне, она подошла к телу и обогнула его с той стороны, где было лицо. Нет, не Питер. Какой-то высокий молодой уроженец, с плечами, как у Питера, бедняга. Парень, который мог бы прожить тысячу лет.
Дальше она брела, не обращая внимания ни на что. Без происшествий дошла до своего маленького марсохода, забралась внутрь и поехала к железнодорожному терминалу на западной окраине Шеффилда. Оттуда по южному склону горы Павлина тянулась дорога, проходящая затем между Павлином и Арсией. Увидев ее, она придумала план, очень простой, но в то же время достаточно действенный. Она вышла на частоту ка-кадзе и озвучила свои рекомендации так, будто раздала приказы к действию. Спускаться к Южной седловине, затем обогнуть Арсию по западному склону над снеговой линией, заскочить в верхний конец борозды Аганиппы, длинной прямой долины, где находилось убежище Красных – скальное жилище в северной стене. Там можно было надежно скрываться и даже начать под землей новую кампанию против новых хозяев планеты. УДМ ООН, ВП ООН, наднационалы, регион Дорса Бревиа – все они были Зелеными.
Она попыталась дозвониться до Койота и даже немного удивилась, когда тот ответил. Как она поняла, он находился где-то в Шеффилде – несомненно, ему повезло, что остался в живых, хотя на его истрепанном лице отражались горечь и гнев.
Энн рассказала ему свой план, и он кивнул.
– Через какое-то время им придется уйти подальше отсюда, – сказал он.
Энн не сумела сдержаться:
– Как глупо было атаковать провод!
– Знаю, – устало отозвался Койот.
– И ты не пытался их отговорить?
– Пытался, – он помрачнел еще сильнее. – Касэй мертв?
– Да.
Его лицо исказилось в гримасе скорби.
– О, боже. Вот ублюдки.
Энн было нечего сказать. Она плохо знала Касэя и не питала к нему особой симпатии. Однако Койот знал его с рождения, еще со времен в тайной колонии Хироко, когда он брал его ребенком в свои секретные экспедиции по всему Марсу. Сейчас, когда слезы лились по глубоким морщинам на его щеках, Энн стиснула зубы.
– Сможешь привести их в Аганиппу? – спросила она. – А я останусь и займусь людьми на восточном Павлине.
Койот кивнул.
– Я приведу их так быстро, как только смогу. Встретимся на западной станции.
– Я так им и передам.
– Зеленые сильно на тебя обидятся.
– Ну и хрен с ними.
Часть ка-кадзе пробралась в западный терминал Шеффилда в тусклом свете заката, застланного туманом. Маленькие группки в темных и грязных прогулочниках, с белыми испуганными лицами, злые, сбитые с толку, потрясенные. Опустошенные. Наконец, их собралось три из четырех сотен, они делились дурными новостями. Когда незаметно появился Койот, Энн встала и заговорила достаточно громко, чтобы ее услышали все. Она осознала, что прежде ей никогда не доводилось быть лидером Красных, что бы это теперь ни значило. Эти люди воспринимали ее серьезно. Побитые и счастливые, что остались в живых, в отличие от мертвых товарищей, лежащих в городе на востоке.
– Прямое нападение было глупой затеей, – сказала она, не в силах сдержаться. – Это сработало в Берроузе, но здесь не тот случай. Здесь план провалился. Люди, которые могли прожить тысячу лет, теперь мертвы. Провод этого не стоил. Сейчас нам нужно скрыться и ждать следующей возможности, следующей настоящей возможности.
Эти слова вызвали резкие возражения, сердитые крики:
– Нет! Нет! Никогда! Провод нужно сбить!
Энн переждала, пока они стихнут. Наконец, подняла руку, и шум понемногу улегся.
– Если мы выступим против Зеленых сейчас, они легко дадут нам отпор. Это также даст наднационалам повод снова спуститься сюда. Что уже будет гораздо хуже, чем иметь дело с местным правительством. С марсианами мы, по крайней мере, можем разговаривать. Часть соглашения, принятого в Дорсе Бревиа, касающаяся окружающей среды, – это некий рычаг для нас. Нам лишь нужно упорно над этим работать. Начать как-то по-другому. Понимаете?
Еще утром они не понимали. Теперь просто не хотели понимать. Она подождала, глядя в пол, пока стихнут возгласы протеста. Пристальный, косой взгляд Энн Клейборн… Многие из присутствующих присоединились к борьбе благодаря ей, еще в те времена, когда враг был врагом, а под землей существовал настоящий союз, несвязный и раздробленный, но придерживающийся более-менее единого мнения…
Они склонили головы, неохотно смиряясь с тем, что Клейборн оказалась против них, что у них не осталось духовного лидера. Без лидера – без Касэя, без Дао – против толпы местных Зеленых, пребывавших под твердым руководством в лице Ниргала, Джеки, предателя Питера…
– Койот поведет вас на Фарсиду, – сказала Энн, перебарывая тошноту. Она вышла из помещения, пересекла терминал и, миновав шлюз, вернулась в марсоход. Затем швырнула консоль Касэя, лежавшую на приборной доске, в грузовой отсек и всхлипнула. Села на водительское сиденье и постаралась успокоиться, а спустя какое-то время завела машину и отправилась искать Надю, Сакса и всех остальных.
В конце концов она осознала, что снова очутилась на восточном Павлине, у складского комплекса. Когда она вошла в дверь, все взгляды устремились на нее так, словно это она подала идею атаковать провод, словно она лично отвечала за все плохое, что случилось как в тот день, так и во все время, что шла революция, – на нее, по сути, смотрели точь-в-точь так же, как после Берроуза. Питер тоже был там, предатель, и она отмахнулась от него. Остальных она проигнорировала или попыталась это сделать. Иришка была напугана; Джеки сидела злая и с красными глазами, ведь это ее отца убили в тот день, и, несмотря на то, что она находилась в лагере Питера и отчасти отвечала за разрушения, последовавшие за наступлением Красных, по одному взгляду на нее становилось ясно, что кому-то придется заплатить за ее, Джеки, страдания. Но Энн не обращала на все это внимания и пересекла помещение, чтобы приблизиться к Саксу, сидевшему, как обычно, в уголке, в дальнем конце большой центральной комнаты, со своим искином, читая длинные колонки цифр и бормоча что-то в экран. Энн помахала рукой между его лицом и экраном – он, встрепенувшись, поднял глаза.
Как ни странно, он был единственным из всей этой толпы, кто не стал ее обвинять. Вместо этого он с птичьим любопытством склонил голову набок, приняв чуть ли не сочувственный вид.
– Жаль Касэя, – проговорил он. – Касэя и всех остальных. Я рад, что вы с Десмондом выжили.
Она оставила это без внимания и быстро вполголоса сообщила ему, куда направлялись Красные и что она сказала им делать.
– Думаю, я смогу удержать их от новых нападений на провод, – сказала она. – И от других актов насилия, по крайней мере, некоторое время.
– Хорошо, – отозвался Сакс.
– Но я хочу кое-что за это, – продолжила она. – Я хочу этого и, если ты этого не сделаешь, натравлю их на вас.
– Солетта? – спросил Сакс.
Она пристально поглядела на него. Он, должно быть, слушал ее внимательнее, чем ей казалось.
– Да.
Сдвинув брови, он обдумал ее слова.
– Это может привести к наступлению ледникового периода, – заметил он.
– Хорошо.
Размышляя, он пристально смотрел на нее. Ей казалось, она видит его мысли в виде быстрых вспышек, порывистых образов: ледниковый период… истончение атмосферы… замедление терраформирования… разрушение новых экосистем… возможное восстановление… парниковые газы. И так далее. Забавно, как она могла читать по лицу этого незнакомца, этого ненавистного брата по первой сотне, искавшего выход из положения. Он мог смотреть и смотреть, но это не влияло на реальность: тепло так и оставалось главным двигателем терраформирования, а без ряда орбитальных зеркал в солетте у них останется, по меньшей мере, нормальный для Марса уровень солнечного света – то есть они перейдут в более «естественный» режим. Возможно, это обоснование даже понравилось консервативному Саксу.
– Ладно, – сказал он.
– Ты можешь говорить от имени этих людей? – Она пренебрежительно махнула рукой в сторону толпы, словно среди них не было ее старых товарищей, словно все они были технократами из ВП ООН или функционерами наднационалов…
– Нет, – сказал он. – Я могу говорить лишь от своего имени. Но я могу избавить Марс от солетты.
– И сделал бы это даже им наперекор?
Он насупился.
– Думаю, я смогу их уговорить. Если нет, то смогу уговорить команду с Да Винчи. Они любят принимать вызовы.
– Ладно.
Большего от него добиться было невозможно. Она выпрямилась, все еще чувствуя себя растерянной. Его согласие стало для нее неожиданностью. И сейчас, когда он согласился, она осознала, что до сих пор сердится, что на душе у нее по-прежнему скребут кошки. Эта уступка – теперь, когда она ее получила, – не имела значения. Они придумают новые способы нагрева. Сакс, несомненно, приведет это им в качестве довода. И представит им удаление солетты как способ подкупить Красных. Чтобы те потом присмирели.
Она вышла из просторного помещения, не удостоив остальных и взглядом. Покинула склад и села в марсоход.
Какое-то время она ехала вслепую, не осознавая, куда движется. Лишь бы оттуда убраться, лишь бы сбежать. По чистой случайности она поехала на запад, но вскоре была вынуждена остановиться, чтобы не слететь с края обрыва.
И она внезапно затормозила.
Будто в трансе, она смотрела через лобовое стекло. Во рту стоял горький привкус, нутро словно сжалось, мышцы напряглись и отдавали болью. Замкнутый край кальдеры дымился в нескольких точках – сильнее всего в районе Шеффилда и Ластфлоу, но также и в дюжине других районов. Провода над Шеффилдом было не разглядеть – но он все еще находился на месте, посреди густого дыма в районе основания, тянущегося к востоку под дуновением слабого ветра. Еще одно облако, снесенное бесконечным струйным течением. Время – это ветер, что уносит их прочь. Клубы дыма в темном небе закрывали собой некоторые из многочисленных звезд, что появились уже за час до заката. Казалось, старый вулкан пробуждался снова, выходя из своего долгого покоя и готовясь к извержению. Солнце, проглядывая сквозь слабый дым, казалось темно-красным сияющим шаром, скорее похожим на настоящую расплавленную планету, местами скрытую за облаками, планету бордовых, ржавых, малиновых оттенков. Красный Марс.
Но красный Марс исчез – и исчез навсегда. Ему что солетта, что ледниковый период, что расширение биосферы, которая поглотит всю планету, образовав океан на севере, озера на юге, ручьи, леса, степи, города и дороги. О, Энн все это видела: белые облака, дождь, грязь на древних высокогорьях, тогда как бездушные гиганты возводили города, работая на полной скорости, и все расширяющаяся цивилизация хоронила ее мир.
Часть вторая Ареофания
Сакс считал гражданскую войну наименее рациональным из всех типов конфликтов. Две части группы имели больше общих интересов, чем разногласий, но все равно воевали друг с другом. Заставить людей провести технико-экономический расчет, к сожалению, невозможно. И ничего с этим не поделаешь. Или… пожалуй, кто-то мог бы определить суть проблемы, побуждающей ту или другую сторону прибегнуть к насилию. А потом попытаться эту проблему сгладить.
В данном случае суть заключалась, конечно, в терраформировании. Вопрос, к которому Сакс имел самое непосредственное отношение. Это можно было расценивать как неблагоприятное обстоятельство, поскольку было лучше, если роль посредника исполнял человек нейтральный. С другой стороны, его действия могли оказать программе терраформирования символическую поддержку. Он мог символическим жестом добиться больше, чем кто угодно другой. Достаточно было лишь пойти Красным на уступку – настоящую уступку, реальность которой увеличит символическую ценность какого-нибудь скрытого экспоненциального множителя. Символическая ценность… Суть этого понятия Сакс пытался осмыслить изо всех сил. Теперь слова самого разного толка вызывали у него такие трудности, что он даже обращался к этимологии, чтобы лучше их понять. Подсказка с консоли: символ – «то, что служит условным знаком какого-л. понятия, явления, идеи», от латинского symbolum, позаимствовано от греческого «бросаю вместе». Точно. Это было чуждо для его понимания, это «бросание вместе», нечто эмоциональное и даже несбыточное, но при этом жизненно важное.
В день битвы за Шеффилд он позвонил Энн и, быстро с ней соединившись, попытался поговорить, но ему не удалось. Тогда, не зная, что делать, он поехал на окраину разрушенного города. Там он искал ее. Грустно было видеть, сколько урона нанесли несколько часов боя. Результаты многолетних трудов лежали теперь в руинах, в дымящейся, но не горючей пепельной пыли, и древнюю вулканическую пыль уносило струйным течением на восток. Провод торчал из этих развалин, словно черная нить волокна из углеродной нанотрубки.
Признаков какого-либо сопротивления со стороны Красных не наблюдалось. А вместе с тем и зацепок, которые позволили бы найти Энн. На звонки она не отвечала. Поэтому Сакс, потеряв надежду, вернулся к складскому комплексу на восточном Павлине и вошел внутрь. А потом туда заявилась и она: прошла к нему через просторное помещение, мимо всех остальных, так, словно собиралась всадить нож ему в самое сердце. Он с горьким видом откинулся в своем кресле, памятуя о сверхдолгих сериях неприятных бесед, что случались между ними. Совсем недавно они поспорили, когда ехали на поезде со станции Ливия. Он вспомнил, как она сказала что-то об устранении солетты и кольцевого зеркала, и это прозвучало как действительно сильное символическое заявление. А ему всегда было не по себе от того, что столь важный источник терраформирующего тепла был так уязвим.
Поэтому, когда она сказала: «Я хочу кое-что за это», он понял, о чем шла речь, и предложил убрать зеркала, прежде чем она успела сказать об этом. Она удивилась. Такое предложение смирило, смягчило ее лютый гнев. Хотя и оставило что-то гораздо более глубокое… печаль, отчаяние – наверняка он сказать не мог. Ведь в тот день погибло много Красных, а вместе с ними – и их надежды. «Жаль Касэя», – сказал он.
Она оставила это замечание без внимания и заставила его пообещать, что космические зеркала будут убраны. Он повиновался, на ходу рассчитав потери света, которые последуют в итоге, и постарался не дрогнуть лицом. Инсоляция должна была упасть примерно на двадцать процентов, а это приведет к серьезным изменениям.
«Это может привести к наступлению ледникового периода», – пробормотал он.
«Хорошо», – ответила она.
Но этого ей было недостаточно. А когда она ушла, он по ее осанке понял, что уступка принесла ей лишь слабое успокоение. Оставалось только надеяться, что хотя бы ее сторонники обрадуются сильнее. В любом случае сделать это стоило. Этим можно прекратить гражданскую войну. В результате неизбежно погибнет огромное количество растений, особенно на большой высоте. Впрочем, в той или иной степени похолодание скажется буквально на всех экосистемах. Сомнений быть не могло: грядет ледниковый период. Если, конечно, Зеленые не найдут достаточно эффективного ответа. Но если прекратятся бои, решение убрать солетту себя оправдает.
Проще всего было перерезать большой пояс кольцевого зеркала, позволив ему улететь в космос, прочь из плоскости эклиптики. Так же и с солеттой: стоило завести несколько стабилизирующих ракетных двигателей – и она, заходив колесом, улетит.
Но это было бы пустой тратой обработанного алюмосиликата, что Сакс не одобрял. Он решил выяснить, возможно ли применить направленные ракеты, расположенные на зеркалах, где-нибудь в Солнечной системе, а также изучить их отражательную способность. Солетту можно установить перед Венерой, расположив ее зеркала таким образом, чтобы вся конструкция превращалась в гигантский зонт, затеняющий горячую планету и запускающий процесс замораживания атмосферы; это давно обсуждалось в литературе и, независимо от того, что включали в себя планы терраформирования Венеры, считалось самым очевидным шагом для начала. После этого кольцевое зеркало предполагалось поместить на соответствующую полярную орбиту вокруг Венеры, так как отраженный ею свет помогал удержать солетту/зонт на месте, несмотря на солнечное излучение. Так что их еще можно было использовать, и это также стало бы жестом, символическим жестом, который бы говорил: «Смотрите, этот огромный мир тоже можно терраформировать». Это было непросто, но реально. Тем самым можно было ослабить психологическое давление на Марс, «единственно возможную новую Землю». Нелогично, но и пусть. История – странная штука, люди – иррациональные системы, а в своеобразной символической логике лимбической системы это послужило бы знаком для людей на Земле, знамением, рассеиванием психических семян. Смотрите туда! Летите туда! И оставьте Марс в покое.
Он обговорил это с учеными в Да Винчи, которые занимались управлением зеркалами. «Лабораторные крысы», как их, и его вместе с ними, называли за глаза (хотя он все равно это слышал). И еще их называли саксоклонами. А на самом деле они просто серьезные молодые ученые, уроженцы Марса, с такими же особенностями характера, что и аспиранты или постдоки любой лаборатории где бы и когда бы то ни было, но факты ничего не значили. Они работали вместе с ним и поэтому считались саксоклонами. Каким-то образом он стал эталоном современного марсианского ученого; сначала как первая «лабораторная крыса» в белом халате, а потом уже как окончательно свихнувшийся ученый со своим за́мком-кратером, полным неутомимых Игорей с безумными глазами, но по-своему сдержанных; маленьких мистеров Споков, тощих и нескладных человечков, напоминающих подъемные краны; женщин, одноликих в своей защитной бесцветности и бесполой преданности Науке. Сакс очень их всех любил. Он любил эту их преданность, видел в ней смысл – жажду понимать разные явления, уметь выразить их математически. Это правильное желание. Подчас ему даже казалось, что, будь все люди физиками, мир стал бы на порядок лучше. «О нет, – возражал он самому себе, – людям нравится идея плоской Вселенной, из-за того что искривленное пространство кажется им слишком сложным». Тем не менее молодежь в Да Винчи имела определенное влияние на Марсе, как бы странно это ни казалось. В данный момент Да Винчи руководил большей частью технологической базы подполья, а благодаря полноценному участию Спенсера их производственные возможности были потрясающи. Они де-факто контролировали орбиту Марса.
Это послужило одной из причин, по которой многие из них оказались недовольны или по меньшей мере пришли в недоумение, когда Сакс сообщил им о необходимости удалении солетты и кольцевого зеркала. Он сделал это на совещании по видеосвязи, и на их лицах тут же отразилась тревога: «Капитан, это нелогично!» Но в противном случае грозила гражданская война. Что еще хуже.
– А люди не станут возражать? – спросила Аония. – Зеленые?
– Разумеется, станут, – ответил Сакс. – Но как раз сейчас мы живем в… в анархии. Группа на восточном Павлине – это, пожалуй, что-то вроде протоправительства. Но мы в Да Винчи контролируем марсианский космос. И даже в случае возражений это может предотвратить гражданскую войну.
Он, как мог, постарался им объяснить. Они углубились в технические сложности, в суть задачи, быстро забыв о том, как их потрясла сама идея. Технически сложная задача была им все равно что кость для собаки. Они принялись «обгладывать» самые трудные места, и уже через пару дней составили четкий и гладкий план действий. Основная его часть, как всегда, состояла в загрузке инструкций в искин. Теперь, имея ясное представление о том, что нужно сделать, достаточно было сказать искину: «Пожалуйста, сделай так-то и так-то» – переведи солетту и кольцевое зеркало на орбиту Венеры и выстави предкрылки солетты так, чтобы она заслонила планету от солнечного облучения, как зонт. После этого искин вычислял необходимые траектории, ракетные запуски, углы расположения зеркал – и готово.
Пожалуй, люди становились слишком влиятельными. Мишель постоянно твердил об их новых богоподобных возможностях, а Хироко своими действиями указывала на то, что ничто не должно ограничивать их стремление использовать эти возможности, что они вправе пренебрегать любыми традициями. Сам же Сакс уважал традиции – они способствуют выживанию. Но технари из Да Винчи заботились о них не больше, чем Хироко. Они жили в особую эпоху и не отвечали ни перед кем. Поэтому они это сделали.
Затем Сакс подошел к Мишелю.
– Я беспокоюсь за Энн.
Они сидели в углу большого склада на восточном Павлине, где среди шума и мельтешения окружающих чувствовали себя, будто находились в уединении. Но Мишель, осмотревшись, предложил:
– Давай выйдем отсюда.
Они надели костюмы и покинули помещение. Восточный Павлин представлял собой скопление шатров, складов, заводов, железных дорог, парковок, трубопроводов, сборных резервуаров, а также свалок и мусорных куч, где, будто куски вулканической лавы, валялись обломки разных машин. Но Мишель вел Сакса на запад, мимо всего этого хаоса, и они быстро подошли к краю кальдеры, где свалка выглядела совершенно иначе, будто после логарифмического сдвига, который превратил собрание артефактов фараона в место размножения бактерий.
На самом краю черноватый, в крапинку, базальт потрескался на несколько концентрических уступов, каждый из которых был ниже предыдущего. По этим террасам можно было спуститься по ряду лестниц, по самой нижней из них тянулись рельсы. Мишель повел Сакса к этой террасе, откуда им открывался вид в глубину кальдеры. Вниз на пять километров. Благодаря огромному диаметру кальдеры казалось, что она не настолько глубока, но тем не менее там, далеко-далеко внизу, лежала обширная, круглой формы территория. А когда Сакс припомнил, насколько мала кальдера относительно всего вулкана, сама гора Павлина показалась ему целым коническим континентом, выпирающим за пределы марсианской атмосферы. В действительности же небо было пурпурным лишь над горизонтом, а вверху – темным, тогда как солнце на западе висело тяжелой золотой монетой, отбрасывая прозрачные косые тени. Все это представало перед ним как на ладони. Частицы, что взметнулись в небо при взрывах, теперь исчезли, и все вернулось к телескопической четкости. Камень, небо и солнце. Марс, каким его любила Энн. Где-то имелись и строения. Но их не было ни на на горе Аскрийской, ни на Арсии, ни на Элизии и даже ни на Олимпе.
– Мы легко могли бы провозгласить всю территорию, что выше восьми километров, зоной первозданной природы, – сказал Сакс. – И оставить ее такой навсегда.
– А бактерии? – спросил Мишель. – Лишайники?
– Они, наверное, будут. Но разве это важно?
– Для Энн – да.
– Но почему, Мишель? Почему она такая?
Мишель пожал плечами.
Выдержав долгую паузу, он сказал:
– Это, конечно, сложно. Но я думаю, это из-за того, что она отказывается от жизни. Взывает к камням, как к кому-то, кому может доверять. С ней плохо обращались в детстве, ты знал об этом?
Сакс покачал головой, пытаясь понять, что это значило. Мишель продолжил:
– Ее отец умер. Мать снова вышла замуж, когда ей было восемь. С тех пор отчим унижал ее до тех пор, пока ей не исполнилось шестнадцать и она не съехала к сестре матери. Я спрашивал ее, в чем состояло это унижение, но она ответила, что не хочет об этом рассказывать. Насилие есть насилие, сказала она. И еще сказала, что все равно уже мало что помнит.
– Уж в это я могу поверить.
Мишель, отрицая, помахал рукой в перчатке.
– Мы помним больше, чем нам кажется. Иногда даже больше, чем нам хочется.
Они стояли и смотрели в кальдеру.
– А вот в это с трудом верится, – заметил Сакс.
Мишель нахмурился.
– Неужели? В первой сотне было пятьдесят женщин. По всей вероятности, более чем одна из них хоть раз в жизни подвергалась насилию со стороны мужчины. Скорее, десять или пятнадцать, если верить статистике. Сексуальному насилию, побоям, унижению… Просто раньше так было.
– С трудом верится.
– Да.
Сакс вспомнил, как ударил Филлис в челюсть, с одного удара заставив ее лишиться сознания. Тогда он ощутил некоторое удовлетворение. Впрочем, тогда это было необходимо. Или ему так показалось?
– На все есть свои причины, – сказал Мишель, отчего ушедший в свои мысли Сакс вздрогнул. – Или просто люди думают, что причины есть.
Мишель попытался объяснить – попытался, в обычном для себя стиле, указать на что-то иное, кроме обыкновенного зла.
– В основе людской культуры, – произнес он, глядя на территорию кальдеры, – лежит невротическая реакция на древние психологические травмы. Перед рождением и в период развития люди существуют в блаженном океане самовлюбленности, в котором личность – это вселенная и есть. Потом, где-то в конце подросткового периода, мы приходим к пониманию, что мы – отдельные личности, отличные от нашей матери и кого бы то ни было. И это становится ударом, от которого мы никак не можем оправиться полностью. Затем отрекаемся от матери, переключаем свое идеальное «я» на отца – и зачастую продолжаем такую стратегию всю жизнь, а люди, принадлежащие к той или иной культуре, поклоняются своему королю, отцу-богу и так далее. Или идеальное «я» может измениться вновь – на какие-то умозрительные идеи или на братство людей. Есть даже названия и полные описания всех этих комплексов – Диониса, Персея, Аполлона, Геракла. Они все существуют и все они невротичны, все ведут к мизогинии, за исключением комплекса Диониса.
– Это тоже какой-нибудь семантический квадрат? – с опаской спросил Сакс.
– Да. Комплексами Аполлона и Геракла можно описать земные индустриальные общества. Персеев относится к более ранним культурам, хотя, конечно, его примеры можно встретить и сегодня. И все три – патриархальны. Они все отрицают материнство, которое в патриархии связано лишь с телом и природой. Женскими считались инстинкт, тело и природа, мужскими – причина, разум и закон. И закон был главнее.
Сакс, завороженный столь обильным «бросанием вместе», спросил лишь:
– И на Марсе?
– Ну, на Марсе, возможно, идеальное «я» меняется обратно на материнское. Назад к комплексу Диониса или к какому-нибудь постэдиповому единению с природой, которую мы до сих пор для себя создаем. К какому-то новому комплексу, который не будет таковым при условии невротического перенакопления.
Сакс потряс головой. Поразительно, какой напыщенно сложной смогла стать псевдонаука! Наверное, это достигалось благодаря компенсационной технике и было отчаянной попыткой психологии казаться похожей на физику. Но чего они как раз не понимали, так это того, что физика, считающаяся достаточно сложной, всегда изо всех сил стремится к упрощению.
Мишель, однако, продолжал развивать мысль. Рассказывал, что с патриархией соотносился капитализм – иерархическая система, в которой большинство людей подвергалось экономической эксплуатации и при которой с ними обращались, как с животными: травили, предавали, отвергали, убивали. И даже при наилучшем раскладе существовала постоянная угроза оказаться отринутым, уволенным с работы, обеднеть, оставить родных без хлеба, измучиться голодом, потерпеть унижение. Некоторые из попавших в ловушку этой злосчастной системы вымещали гнев от своего положения на всех, на ком могли, – даже на своих родных, на людях, которые должны были давать им наибольшее успокоение. Это было алогично и даже глупо. Грубо и глупо. Да. Мишель пожал плечами. Для Сакса это звучало как утверждение, будто действия многих людей свидетельствовали о том, что они, увы, весьма глупы. И в некоторых лимбических системах все вывернулось, продолжал Мишель, стараясь не углубляться в эту тему, чтобы как следует объяснить суть. Адреналин и тестостерон всегда вызывали реакцию «борьбы или бегства», и в некоторых тягостных ситуациях схема удовлетворения приняла вид оси «испытать боль/причинить боль», после чего оказавшиеся в таких ситуациях люди лишились не только сочувствия, но и рационального видения личной выгоды. По сути, стали больны.
Сакс и сам ощущал себя больным. Мишель кое-как, использовав несколько разных подходов, объяснил людское зло не более чем за четверть часа, и все равно у Сакса осталось немало вопросов к людям на Земле. Жители же Марса были иными. Правда, и здесь, как ему было прекрасно известно, работали истязатели, в долине Касэй. Но они были посланы с Земли. Больные. Да, он чувствовал себя больным. Молодые местные уроженцы были не такими, разве нет? Марсианина, ударившего женщину или растлившего дитя, изгнали бы из общества, устроили бы ему разнос, может, даже избили бы, он бы лишился дома и был сослан на астероиды без права на возвращение. Разве не так?
Об этом стоило задуматься.
Но теперь он снова вспомнил об Энн. Или о том, какой она была прежде, – упрямая, сосредоточенная на науке, на камнях. Наверное, страдала чем-то вроде комплекса Аполлона. Концентрировалась на абстрактном, отрицала все, что связано с телом, а значит, и всякую его боль. Наверное.
– Что могло бы помочь ей сейчас, как думаешь? – спросил Сакс.
Мишель снова пожал плечами.
– Я задумывался над этим в течение многих лет. И мне кажется, Марс уже ей помог. И Саймон ей помог, да и Питер тоже. Но все они как бы находились на некотором отдалении. Они не изменили в ней того фундаментального «нет».
– Но она… она любит все это, – возразил Сакс, обведя рукой кальдеру. – Искренне любит. – Он поразмыслил над заключением Мишеля. – Это не просто «нет». Есть там и «да». Любовь к Марсу.
– Но если человек любит камни и не любит людей, – сказал Мишель, – разве это не выглядит несколько… несбалансированным? Или заменой одного другим? Сам знаешь, Энн – человек большого ума…
– Знаю…
– И она добилась большой цели. Но ей этого недостаточно.
– Ей не нравится то, что происходит с ее миром.
– Но разве это то, что действительно ей не нравится? Или то, что не нравится ей больше всего? Я в этом не вполне уверен. Мне кажется, это какое-то замещенное чувство. Одновременно и любовь, и ненависть.
Сакс удивленно покачал головой. Его поистине поражало то, что Мишель в принципе мог считать психологию наукой. Ведь в ней было столько «бросания вместе», то есть символов! Разум в ней рассматривался как паровой двигатель – механический аналог, оказавшийся наиболее удобным для применения в момент зарождения современной психологии. Люди всегда думали о разуме именно таким образом: часовой механизм для времен Декарта, геологические изменения для ранней викторианской эпохи, компьютеры и голография для двадцатого века, искусственный интеллект для двадцать первого… Для традиционалистов же времен Фрейда это были паровые двигатели. Подвод тепла, подъем давления, его смещение, выпуск воздуха, затем все подавлялось, перегонялось, и то, что подавлено, возвращалось. Сакс же не считал паровые двигатели подходящей моделью для человеческого разума. Разум был, скорее, похож… на что?.. на каменистую пустыню… или на джунгли, населенные всякими странными животными. Или на вселенную, полную звезд, квазаров и черных дыр. Последнее, пожалуй, несколько помпезно… На самом же деле разум больше был похож на сложный набор синапсов и аксонов, химической энергии, мечущейся туда-сюда, вроде погодных условий в атмосфере. Но куда лучше прямое сравнение с погодой: грозовой фронт мыслей, клетки с низким давлением, ураганы… струйные течения биологических желаний, кружащихся непрерывно и быстро… жизнь на ветру. Да уж. На деле суть разума была весьма мало понятна.
– О чем думаешь? – спросил Мишель.
– Меня иногда беспокоит теоретическая основа этих твоих диагнозов, – признался Сакс.
– О нет, они все поставлены исходя из практического опыта, очень точны и предельно верны.
– Сразу и точны, и верны?
– Ну да, это же одно и то же, разве нет?
– Нет. Точность показывает, как далеко можно отклониться от верного значения. Верность же говорит о размере области, в пределах которой оно лежит. Сто плюс-минус пятьдесят – это не очень точно. Но если ты оцениваешь значение как сто плюс-минус пятьдесят, а на самом деле оно равняется сто одному, то это вполне верно, хоть и не очень точно. И конечно, истинные значения зачастую нельзя как следует определить.
Мишель пытливо взглянул на Сакса.
– А ты очень «верный».
– Это просто статистика, – оправдываясь, ответил тот. – Время от времени мы все-таки можем говорить точно.
– И верно.
– Иногда.
Они посмотрели вниз, в кальдеру.
– Я хочу ей помочь, – произнес Сакс.
Мишель кивнул.
– Ты это уже говорил. Я сказал, что не знаю, как это сделать. В ее понимании ты – воплощение терраформирования. Если ты хочешь ей помочь, значит, терраформирование должно помочь ей. Как думаешь, можно найти способ, при котором терраформирование ей поможет?
Сакс призадумался.
– Оно может помочь ей выйти наружу. Сначала без скафандра, а потом и без маски.
– Думаешь, она этого хочет?
– Думаю, все этого так или иначе хотят. Подсознательно. На животном уровне. Все чувствуют, что так и должно быть.
– Уж не знаю, насколько Энн в ладах со своими животными чувствами.
Сакс снова задумался.
А затем вся панорама затемнилась.
Они взглянули вверх – туда, где висело черное солнце. Вокруг него в небе сияли звезды. Черный диск окутывало слабое свечение – может быть, это солнечная корона?
Затем внезапно проявившийся огненный полумесяц заставил их отвести глаза. Вот это уже была корона, а до этого, вероятно, они видели освещенную экзосферу.
Как только искусственное затмение закончилось, потемневшая панорама осветилась снова. Но появившееся теперь солнце было заметно меньше того, что светило всего несколько мгновений назад. Это была старая бронзовая пуговица марсианского солнца! Словно друг, вернувшийся с визитом. И мир снова потускнел, все цвета кальдеры стали на тон темнее, будто невидимые облака заслонили солнце. Хотя на самом деле зрелище было хорошо знакомым: впервые за двадцать восемь лет их озарил естественный свет Марса.
– Надеюсь, Энн это видела, – сказал Сакс. У него мороз пробежал по коже, хотя он и знал, что воздух за это время не успел охладиться, да и если бы успел, сам-то он все равно был в костюме. Но холодок все же почувствовал. Нахмурившись, он подумал о каменистых пустынях, рассеянных по всей планете, вплоть до четырех-, пятикилометровых высот и ниже – в средних и северных широтах. Но сейчас целые экосистемы начнут вымирать. Инсоляция упала на двадцать процентов: это было хуже любого ледникового периода, который когда-либо переживала Земля, и больше напоминало тьму после великих массовых вымираний – К-Т вымирания, ордовикского, девонского и, худшего из всех, пермского вымирания, произошедшего 250 миллионов лет назад и приведшего к гибели примерно девяноста пяти процентов всех видов, живших в то время. Это было состояние прерывистого равновесия – и лишь немногие виды пережили эти прерывания. Это удавалось либо стойким, либо везучим.
– Сомневаюсь, что это ее удовлетворит, – сказал Мишель.
С этим Сакс не мог не согласиться. Но в ту минуту его внимание занимали мысли о том, как лучше возместить потери от света солетты. Он предпочел бы, чтобы биомов, которые пострадают от значительных потерь, вообще не было. И если он найдет выход, то Энн придется просто смириться, только и всего.
Было Ls=123°, ровно середина северного лета/южной зимы, ближе к афелию, отчего, вкупе с большими высотами, зима на юге была гораздо холоднее, чем на севере; температура регулярно опускалась до 230 градусов по Кельвину, и становилось ненамного теплее, чем было до их высадки.
Теперь, когда не было солетты и кольцевого зеркала, температура падала даже еще ниже. Без сомнения, южные горы ожидало рекордное вымерзание.
С другой стороны, на юге уже выпало много снега, чему Сакс придавал большое значение из-за способности снежного покрова защищать живые организмы от холода и ветра. Среда под снежным слоем оставалась достаточно стабильной. Благодаря этому, если уровень освещенности, а впоследствии и температура поверхности упадут – это не принесет большого вреда занесенным снегом растениям, уже успевшим приготовиться к зиме. Хотя предсказать что-либо здесь было сложно. Саксу хотелось самому выбраться в поле и увидеть все своими глазами. Конечно, нужно было, чтобы прошли месяцы, прежде чем разницу получится измерить. Хотя к самой погоде это, пожалуй, не относилось. Ее можно было отследить, всего лишь наблюдая метеорологические данные, чем он и так занимался, проводя долгие часы перед изображениями со спутников и синоптическими картами, фиксируя различные признаки. При этом люди выражали ему свое недовольство удалением зеркал, и в первую неделю это случалось настолько часто, что стало просто невыносимым.
Погода на Марсе, к сожалению, отличалась таким непостоянством, что трудно было сказать, влияло ли на нее удаление больших зеркал или нет. Сакс считал их понимание состояния атмосферы весьма слабым, но приходилось довольствоваться тем, что имелось. Марсианские метеоусловия представляли собой суровую полухаотическую систему. Во многом она походила на земную, что не казалось удивительным, если учесть, что воздух и вода двигались по поверхности вращающейся сферы: кориолисовы силы везде были одинаковы, и здесь, как и на Земле, дули тропические восточные, среднеширотные западные, полярные восточные ветры, неслись потоки высотного струйного течения и прочее – но это и все, что можно было сказать о марсианских метеоусловиях. Впрочем… еще можно было сказать, что на юге было холоднее и суше, чем на севере. И что ветер приносил дожди с высоких вулканов или горных хребтов. И что в районе экватора было теплее, а у полюсов – холоднее. Но лишь об этих очевидных вещах и можно было говорить с уверенностью, если не брать в расчет несколько местных принципов, большинство из которых, однако, были довольно непостоянными – и основывались они на глубоко анализируемой статистике, а не на живых наблюдениях. А учитывая, что запись данных велась всего пятьдесят два М-года, на протяжении которых непрерывно утолщалась атмосфера, вода выкачивалась на поверхность, и т. д., и т. п., оказалось крайне трудно понять, каковы на самом деле нормальные или средние погодные условия.
Между тем Саксу, находившемуся на восточном Павлине, было трудно сосредоточиться. Люди продолжали отрывать его от дел, чтобы пожаловаться из-за зеркал, и нестабильная политическая обстановка стала столь же непредсказуемой, как и погода. Выяснилось, что удаление зеркал утихомирило не всех Красных; объекты, связанные с терраформированием, саботировались почти каждый день, и порой за них разворачивались ожесточенные бои. А сообщения с Земли, которые Сакс заставлял себя смотреть по часу в день, давали понять, что некоторые силы пытались сохранить положение, существовавшее до наводнения. При этом они находились в остром противостоянии с другими группами, стремившимися извлечь выгоду из наводнения так же, как марсианские революционеры, – использовав его как переломный момент в истории и трамплин к установлению нового порядка, к некоему новому началу. Но наднационалы не собирались легко сдаваться и держали позиции на Земле, и так изо дня в день; они распоряжались огромной ресурсной базой, и даже подъем уровня воды на семь метров не мог лишить их власти.
После одного из таких гнетущих часов Сакс отключил экран и пошел отужинать с Мишелем в его марсоходе.
– Нет никакого нового начала, – сказал он, поставив воду на плиту.
– А Большой взрыв? – спросил Мишель.
– Насколько я его понимаю, существуют теории, предполагающие, что… комковатость ранней вселенной была вызвана еще более ранней… комковатостью предыдущей вселенной, которая схлопнулась при Большом сжатии.
– А я думал, оно должно было сгладить все неровности.
– Сингулярность – странная штука: за пределами горизонта событий квантовые эффекты позволяют появляться некоторым частицам. Потом космическая инфляция, вырвав эти частицы, вероятно, привела к тому, что мелкие комки стали превращаться в крупные… – Сакс нахмурился. Он сейчас походил на какого-нибудь теоретика из Да Винчи. – Но я говорил о наводнении на Земле. А это никоим образом не полное изменение условий, каковой является сингулярность. Более того, наверняка существуют люди, которые вообще не считают наводнение каким-либо переломом.
– Верно, – Мишель почему-то рассмеялся. – Может, стоит посмотреть на это собственными глазами, а?
Когда они покончили со спагетти, Сакс произнес:
– Я хочу выехать на местность. Посмотреть, есть ли какой-нибудь видимый эффект от удаления зеркал.
– Один такой эффект ты уже видел. То затемнение, когда мы были тогда на краю… – Мишель содрогнулся.
– Да, но оно только вызывает у меня новые вопросы.
– Что ж… тогда мы за всем тут присмотрим в твое отсутствие.
Будто требовалось личное присутствие, чтобы за чем-то присматривать.
– Чутье меня никогда не подводит, – сказал Сакс.
Мишель ухмыльнулся:
– Так вот зачем тебе выходить и смотреть на все самому.
Сакс сдвинул брови.
Прежде чем уйти, он позвонил Энн.
– Не хочешь поехать со мной на южную Фарсиду, чтобы… чтобы… чтобы исследовать верхнюю часть ареобиосферы?
Такого предложения она не ожидала. С сомнением покачала головой, обдумывая его, и ее подсознание на шесть-семь секунд раньше речевого аппарата ответило: «Нет». Затем она, приняв немного испуганный вид, оборвала связь.
Сакс пожал плечами. Ему стало неприятно. Одна из целей поездки – вытащить Энн, дать ей воочию увидеть первые биомы каменистых пустынь. Показать ей, как они прекрасны. Поговорить с ней. Что-то в этом роде. Но мысленный образ, который он пытался ей передать, когда они туда выберутся, казался в лучшем случае расплывчатым. Нужно просто показать ей. Дать ей понять.
Но заставить другого человека что-либо понять было невозможно.
Он пошел попрощаться с Мишелем, у которого вся работа заключалась в том, чтобы заставлять других что-то понимать. Несомненно, это и будило в Мишеле тоску, когда он говорил об Энн. Она его пациент уже больше сотни лет и за все время ничуть не изменилась и мало что рассказала о себе. Подумав об этом, Сакс слегка улыбнулся. Мишеля заметно раздражало поведение Энн, ведь он явно любил ее. Как и всех своих старых друзей и пациентов, включая самого Сакса. Так он понимал природу профессиональной ответственности: для него она состояла в том, чтобы влюбляться в каждый объект своих «научных исследований». Точно так же, как все астрономы любят звезды. Хотя кто знает?
Сакс протянул руку и ухватился за предплечье Мишеля, который радостно улыбнулся этому нетипичному для старого друга поведению, этому «изменению в мышлении». Любовь, да… Особенно когда объектом исследования была женщина, знакомая много лет, самым основательным образом изученная в позиции чистой науки, – да, такое чувство могло возникнуть. Не важно, были ли пациенты готовы к сотрудничеству в процессе исследования или нет, – между ними возникала тесная связь. Более того: если они отказывались сотрудничать и не отвечали на вопросы, это делало их еще притягательнее. Как-никак, желай Мишель получить ответы во всех подробностях, даже если сами вопросы не звучали, у него всегда была Майя – слишком человечная Майя, которая и заводила его в дебри лимбической системы. А если верить Спенсеру, это включало даже швыряние в него всяких вещей. И при всем этом символизме в молчаливую Энн действительно было легко влюбиться.
– Береги себя, – пожелал счастливый ученый Мишель своему объекту исследования, которого любил, как родного брата.
Сакс сел в одиночный марсоход и съехал по крутому южному склону горы Павлина, пересек седловину между Павлином и Арсией, обогнул широкий конус Арсии с сухой восточной стороны. Затем спустился по ее южному склону и далее по самому куполу Фарсиды, пока, наконец, не оказался на разбитых возвышенностях равнины Дедалия. Сама равнина была тем, что осталось от гигантского древнего ударного кратера, который теперь почти полностью исчез из-за лавы с Арсии, заливавшей Фарсиду, и нестихающих ветров, превративших его в не более чем объект ареологических наблюдений и исследований с еле заметными следами выбросов лавы и прочим, что было видно на картах, но не на местности.
Когда он проезжал тут, ему казалось, что здешний ландшафт ничем не отличается от остальных гор на юге – всюду неровная, в трещинах, буграх и ямах земля. Старые лавовые потоки выглядели как гладкие округлые темные породы, напоминая приливные волны, которые разбиваются о берег. Светлые и темные ветровые полосы оставляли следы, обозначавшие пыль других плотностей и составов: южные стороны кратеров и валунов были отмечены продолговатыми светлыми треугольниками, северо-западные – тусклыми галочками, участки внутри многочисленных кратеров с разрушенными краями – бесформенными пятнами. Но со следующей крупной бурей и этому облику предстояло измениться.
Сакс с превеликим удовольствием одолевал низкие каменные волны, то поднимаясь, то опускаясь, снова и снова, изучая песочные картины из полос пыли, словно карту ветров. Он путешествовал не в каменном марсоходе, где была темная кабина с низким потолком и который, как таракан, перемещался из одного укрытия в другое, – но скорее в большом коробкообразном ареологическом доме на колесах с окнами на каждой из четырех сторон водительского отделения, располагавшегося аж на третьем этаже. Ехать в нем при ярком дневном свете было сущим наслаждением – вверх-вниз, вверх-вниз по песочной равнине, навстречу непривычно далекому для Марса горизонту. Прятаться здесь было не от кого: на него ведь больше никто не охотился. Он был свободным человеком на свободной планете и при желании мог объехать на своей машине хоть весь свет. Или просто отправиться куда ему вздумается.
Чтобы всецело проникнуться этим чувством, ему потребовалось два дорожных дня. Но и тогда он не был уверен, что постиг его в полной мере. Это было ощущение света, странного света, раз за разом вызывавшего легкую улыбку без видимых на то причин. Раньше он не очень-то чувствовал какую-либо подавленность из-за страха, хотя страх, казалось, присутствовал давно – наверное, еще с 2061-го или за годы до этого. Шестьдесят шесть лет страха, игнорируемого и забытого, но вечно присутствующего – как потенциальная сила мышц, как маленькая тайная боязнь где-то на подкорке. «Шестьдесят шесть бутылок страха на стене, шестьдесят шесть бутылок страха! Возьми одну, пусти по кругу, шестьдесят пять бутылок страха на стене!»[2]
И вот он уехал. Стал свободен, и его мир тоже стал свободен. Сакс спускался по избитой ветрами наклонной равнине, в трещинах которой в тот день начал появляться снег – он блестел, как вода, так, что его никак было не спутать с пылью, – а потом и лишайник: Сакс спускался в атмосферу. И сейчас не было никакой причины, по которой он не мог жить так всегда, свободно слоняясь изо дня в день по собственной лаборатории планетарного масштаба, где все люди были так же свободны, как и он сам!
Какое же это было ощущение!
Зато те, кто остался на горе Павлина, могли продолжать споры и наверняка тем сейчас и занимались. Да и не только там – везде. Ведь они просто не умели обходиться без споров. Интересно, как это объясняла социология? Трудно сказать. Но, как бы то ни было, несмотря на все перебранки, они действовали сообща; может, лишь благодаря временному совпадению интересов, но сейчас все было временно – ведь столько традиций нарушено либо совсем исчезло, оставив то, что Джон называл «необходимостью созидания», и созидание это давалось непросто. Не все были в нем хороши так же, как в нытье.
Но теперь они обрели определенные способности, – способности, какие имеют группы, какие имеет… цивилизация. Сборное тело научных знаний в самом деле разрасталось до огромных размеров, и знания эти давали им такие возможности, которые едва хоть кто-нибудь сумел бы постичь даже в общих чертах. Но такие возможности имелись, постижимые или нет. Богоподобные возможности, как называл их Мишель, пусть и не было нужды их преувеличивать или путать карты, – эти возможности существовали в материальном мире и были реальны, но ограничены реальностью. Что тем не менее давало шанс – а Саксу казалось, что их возможности это позволяли, если их правильно использовать, – создать, наконец, достойную людскую цивилизацию. После всех многовековых стараний. А почему нет? Почему? Почему бы не задрать планку до высочайшего уровня? Они могли обеспечить всех благами по справедливости, лечить болезни, отстрочить старение, чтобы прожить тысячу лет, постичь вселенную от длины Планка[3] до масштаба космоса, от Большого взрыва до эсхатона[4] – все это было возможным, технически доступным. А те, кто считал, что человечество способно стать великим лишь через страдания, могли просто выйти в свет и вновь столкнуться с бедами, которые, по мнению Сакса, не минут никогда, – такими, как потерянная любовь, предательство друзей, смерть, неудачные лабораторные опыты. Остальные тем временем могли продолжить создание достойной цивилизации. Это было им по силам! И это, честно говоря, потрясало. Они достигли того момента в истории, когда было справедливо сказать, что да, это возможно. Хотя верилось в это с большим трудом, и такая вероятность вызывала у Сакса подозрения – ведь в науке, когда что-то казалось слишком необычным или беспрецедентным, сомнения возникали мгновенно. Шансы на создание такой цивилизации были невелики. Оно предполагало наличие искажения перспективы, и приходилось признать, что положение вещей было более-менее неизменным и все жили в обычные, средние времена – по так называемому принципу заурядности. Хотя Сакс никогда не считал этот принцип особенно привлекательным; пожалуй, он лишь означал, что справедливость была достижима всегда. Но, как бы то ни было, нынешний момент был исключителен, вот он, прямо перед ним, за этими четырьмя окнами, блестящими в свете естественного солнца. Марс и его народ, свободный и могучий.
Сколько тут требовалось осознать! Мысли то и дело ускользали от него, затем возвращались вновь, и он, удивленный и радостный, восклицал: «Ха-ха!» Вкус томатного супа и хлеба. «Ха!» Темно-фиолетовое сумеречное небо. «Ха!» Устройства на приборной панели, слабо светящиеся и отраженные в черных окнах. «Ха! Ха! Ха! Ой, не могу!» Он мог поехать куда угодно – стоило лишь захотеть. Никто не указывал ему, что делать. Он произнес это вслух темному экрану своего компьютера:
– Никто не указывает мне, что делать!
Это казалось даже слегка пугающим. Кружило голову. «Ка», – сказал бы йонсей[5]. Предположительно маленькие красные человечки называли так Марс, от японского «ка», что означало «огонь». Это слово существовало и в ряде других старых языков, включая протоиндоевропейский – по крайней мере, так утверждали лингвисты.
Он осторожно забрался в большую кровать в задней части салона и улегся на нее под гудение обогревателя и электрооборудования, напевая с закрытым ртом под тонким покрывалом, быстро схватывающим тепло его тела, положив голову на подушку и рассматривая звезды.
На следующее утро с северо-запада пришел антициклон, и температура выросла до 262 градусов по Кельвину. Ему пришлось спуститься до пяти километров над нулевой отметкой, где давление воздуха составляло 230 миллибар. Для свободного дыхания этого было недостаточно, и он натянул костюм с подогревом для выхода на поверхность, прицепил небольшой баллон с воздухом и надел на нос и рот маску, а на глаза – защитные очки.
И все равно, когда он выбрался за дверь наружного шлюза и, спустившись по ступенькам, очутился на песке, от сильного холода у него заложило нос и выступили слезы, мешая смотреть перед собой. Свист ветра казался громким, несмотря на то что уши скрывал капюшон. Подогрев при этом работал исправно, и все остальное тело оставалось в тепле, а лицо постепенно привыкло к такой температуре.
Потуже затянув шнурок капюшона, он двинулся вперед, перешагивая с одного плоского камня на другой – они здесь были повсюду. Он часто наклонялся, чтобы осмотреть трещины, находил лишайники и широко рассеянные образцы прочих форм жизни – мхи, мелкие пучки осоки, траву.
Было очень ветрено. Необычайно сильные порывы налетали по четыре-пять раз в минуту, а в промежутках его обдувал ровный ветер. Несомненно, это место практически всегда было таким – здесь атмосфера сползала на юг, обволакивая возвышенность Фарсиду всей своей массой. Области антициклонов избавлялись от значительной части своей влаги еще в начале подъема на западе – сейчас же западный горизонт был затенен плоским морем облаков, сливающимся с землей вдалеке, двумя-тремя километрами ниже по вертикали и, вероятно, в шестидесяти, если идти туда пешком.
Под ногами лежали лишь куски снега, заполнявшие некоторые из тенистых трещин и углублений. Эти сугробы были такими крепкими, что он мог попрыгать на них, не оставляя никаких следов. Снежные массы, частично оттаявшие и снова застывшие. Один бугристый кусок треснул под его ботинком, и Сакс обнаружил, что толщина куска достигала нескольких сантиметров. А под ним – словно зернистый порошок. Пальцы замерзли даже в перчатках с подогревом.
Он останавливался и шел дальше по камням наугад. В некоторых расщелинах, что поглубже, образовались застывшие озера. Примерно в середине дня он спустился в одну из них и пообедал у небольшого озера, подняв маску, чтобы можно было кусать батончик из злаков и меда. Высота – 4,5 километра над нулевой отметкой, давление – 267 миллибар. Настоящий антициклон. Солнце – яркая точка, окаймленная оловянным кругом, – висело низко на северной стороне.
Во льду застывшего озерца имелись прозрачные участки, напоминавшие маленькие окна, из которых открывался вид на черное дно. В основном же лед был покрыт пузырями, трещинами или затянут белым инеем. Сакс сидел на берегу, тот тянулся вдоль извилистой линии гравия, размеченного клочками коричневой почвы и почерневшими мертвыми растениями, что остались лежать на небольшом уступе, который, по-видимому, указывал на максимальный уровень воды во время прилива, потому что выше него начинался уже грунт. Гравий же был то темно-бурым, то пестрым, то… Саксу стоило бы свериться с цветовой шкалой. Но не сейчас.
Земляной уступ был усеян бледно-зелеными розетками мелких травинок. Те, что подлиннее, то тут, то там торчали пучками, но большинство их уже умерли и окрасились светло-серым. Зато ближе к озеру находились участки темно-зеленых сочных листьев с красными краями. Там, где зеленый переходил в красный, виднелся цвет, которого Сакс не мог назвать, – темный, с отблесками и оттенками коричневого, своеобразно окрашенный двумя составляющими его цветами. Казалось, уже скоро не обойтись без цветовой шкалы: в последнее время, когда он осматривался на местности, она пришлась бы кстати примерно раз в минуту. Из-под некоторых двуцветных листьев выглядывали восковидные, почти белые цветы. За ними виднелись какие-то вьющиеся растения с красными стеблями и зелеными иголками, похожие на миниатюрные морские водоросли. И вновь – сочетание красного и зеленого.
Издалека доносилось какое-то гудение – то ли ветер играл среди скал, то ли жужжали насекомые. Черные мошки, пчелы… В такой атмосфере им необходимо выдерживать всего тридцать миллибар давления углекислого газа, поскольку он поступал в них под таким низким парциальным давлением, что в определенный момент их внутренней насыщенности оказывалось достаточно, чтобы не впускать больше. Но с млекопитающими было сложнее. Они могли переносить до двадцати миллибар, но, учитывая, что растения уже цвели по всей планете на меньшей высоте, давление углекислого газа могло упасть до этой величины очень скоро. Тогда придет время избавиться от баллонов с воздухом и лицевых масок. Выпустить животных на волю по всему Марсу.
Ему показалось, что в слабом гудении воздуха он услышал их голоса – имманентные или эмерджентные, возникающие с новой волной viriditas. Гул далеких голосов, ветер, покой этого озерка среди камней, блаженство вроде того, что Ниргал находил в лютом холоде… «Видела бы это Энн», – пробормотал он.
Но опять же, после удаления зеркала, все, что Сакс теперь видел, очевидно, было обречено на гибель. Биосфера имела верхний предел, и при снижении освещенности этот предел неизбежно должен упасть, по крайней мере, на время, но скорее всего – навсегда. Это ему не нравилось. Он считал, что можно найти способы возместить потерю света, ведь терраформирование вполне неплохо протекало и до вывода зеркал – значит, они не были настолько необходимыми. К тому же лишиться зависимости от столь хрупкой системы было к лучшему, и хорошо, что они сделали это сейчас, а не позднее, когда вместе с растениями вымерли бы большие популяции животных.
И все равно было жаль. Хотя мертвые остатки растений в итоге станут просто удобрением и не будут так страдать, как животные. Он так предполагал. Кто знает, что чувствовали растения? Если рассмотреть их поближе, взглянуть на все их сочленения, похожие на сложные кристаллы, они казались не менее загадочными, чем любая другая форма жизни. Они заполонили равнину – все, что попадало в его поле зрения, – постепенно оплетя голые скалы, разрушив обветренные породы и соединившись с ними, чтобы создать первую почву. Это был очень медленный процесс. И в каждой частице почвы заключалась неимоверная сложность, а простирающаяся во все стороны перед Саксом пустыня была самым прекрасным из всего, что ему доводилось видеть.
И о погоде. Теперь погода появилась на всей планете. Впервые это слово было письменно использовано в таком значении в книге о Стоунхендже около 1665 года. «Выветривание погодой в столькие Века и Года». Язык – первая наука, точная, но неопределенная либо многозначная. «Бросание вместе». Разум – это погода. Или он просто выветривался.
Над соседними холмами на западе поднимались облака, которые лежали на тепловом слое так ровно, словно были прижаты к стеклу. Их шлейфы, похожие на шерстяную пряжу, тянулись на восток.
Сакс встал с места и выбрался из лощины. Покинув укрытие, он ощутил неожиданно сильный ветер: холод усиливался, точно о своих правах уже заявил ледниковый период. Конечно, так казалось от сочетания холода с ветром. Температура хоть и составляла 262 градуса по Кельвину, но дул ветер со скоростью семьдесят километров в час с намного более мощными порывами, при таком сочетании температура была эквивалентна 250 градусам по Кельвину. Вроде бы расчет верный? А без шлема при такой температуре было слишком холодно. У него даже немели кисти рук. И ступни. Лицо уже ничего не чувствовало, словно на нем была плотная маска. Он дрожал, у него слиплись ресницы и замерзали слезы. Следовало вернуться в машину.
Он побрел по скалам к марсоходу, изумленный тем, как ветер усиливал холод. Такого их сочетания он не испытывал на себе с самого детства, если испытывал вообще. Он и забыл, что бывает так холодно. Спотыкаясь от ветра, Сакс взобрался на небольшое возвышение, образованное застывшей лавой, и посмотрел вверх по склону. Там стоял его марсоход – большой, ярко-зеленый, блестящий, как космический корабль, – примерно в двух километрах подъема. Стоял и точно ждал его.
Но снег начал лететь горизонтально, и такая демонстрация скорости ветра производила эффектное впечатление. Мелкие зернистые частицы попадали на стекла его очков. Он двинулся к марсоходу, опустив голову и глядя на вихрящийся снег. В воздухе его было столько, что Саксу показалось, будто очки запотели, но когда он, превозмогая боль, протер их изнутри, стало ясно, что в воздухе образовался конденсат. Мелкие снежинки, туман, пыль – трудно было сказать наверняка.
Сакс побрел дальше. Когда он снова поднял взгляд, воздух сгустился от снега настолько, что марсоход стал неразличим. Оставалось лишь продолжать путь. К счастью, костюм был хорошо изолирован и прошит нагревательными элементами, но даже при включенном на максимум подогреве холод проникал в левую сторону облачения, отчего Сакс чувствовал себя обнаженным перед порывами ветра. Зона видимости теперь составляла метров двадцать и быстро менялась в зависимости от плотности снега. Сакс находился в беспорядочно расширяющемся и сжимающемся пузыре белизны, которую пронзал летящий снег и окутывало что-то вроде застывшего тумана. Но на самом деле он, по-видимому, просто попал в шкваловое облако.
У него задеревенели ноги. Зажав под мышками скрытые перчатками кисти, он обхватил руками туловище. С уверенностью сказать, что он по-прежнему двигался в верном направлении, было нельзя. Вроде бы он шел в ту же сторону, что и в момент, когда пропала видимость, но по ощущениям он уже должен был давно дойти до марсохода.
На Марсе не было компасов, но у него на запястье и в машине работали системы APS. Сакс мог открыть подробную карту и определить местоположение самого себя и своего марсохода, потом немного пройти, чтобы понять, в какую сторону двигаться, и наконец, добраться непосредственно до машины. Он подумал, это требовало слишком больших усилий, – но затем понял, что холод путает его мысли, действуя на разум и тело. На самом деле это не так уж трудно.
Укрывшись от ветра за одним из валунов, он применил этот метод. В теории такой поиск был вполне осуществим, но на деле техника оставляла желать лучшего: экран на запястье имел диагональ всего в пять сантиметров и не позволял как следует различить нужные точки. Но он все-таки сумел их обнаружить, после чего немного отошел и вновь сверился с экраном. Но, увы, тот показал, что ему следовало повернуть примерно на девяносто градусов от того направления, куда он шел до этого.
Сакс почувствовал полное бессилие. Тело настаивало на том, что он двигался в верном направлении, разум – по крайней мере, его часть – был убежден, что стоило поверить изображению на экране и признать, что он в какой-то момент сбился с курса. Но по ощущениям это было не так: он все еще двигался в гору – что подтверждало правоту тела. Противоречие было настолько сильным, что на него накатила тошнота; осознание своего бессилия скрутило его так, что стало больно просто стоять на ногах, словно каждая клеточка тела изогнулась под влиянием того, что показывало запястье. Физиологический эффект когнитивного диссонанса – такого с ним еще не случалось. Он едва не поверил в существование внутреннего магнита в организме, какой есть в эпифизе мигрирующих птиц – только здесь магнитного поля не было как такового. Возможно, его кожа была настолько чувствительна к солнечной радиации, что он мог определить местоположение солнца даже в однородном темно-сером небе. Что-то такое просто не могло не оказаться правдой, ведь его чувство, что он шел в верном направлении, было таким сильным!
Наконец, тошнота от дезориентации спала, и он, постояв, все же пошел туда, куда ему указывал браслет, при этом ужасно себя чувствуя. Он слегка наклонился вперед – в таком положении ему становилось легче. Ведь, как гласила наука, доверять следовало приборам, а не инстинктам. Продолжив путь, он пересек склон. Ему никогда не доводилось чувствовать себя таким нескладным. Почти ничего не ощущающие ступни налетали на камни, которых он не видел, несмотря на то что те валялись прямо перед ним, – и так Сакс спотыкался раз за разом. Удивительно, как основательно снег мог закрыть обзор.
Спустя некоторое время он остановился и снова попытался найти марсоход с помощью APS. В этот раз карта на запястье выдала совершенно новое направление – за его спиной и налево.
Возможно, он прошел мимо машины. Почему нет? Ему не хотелось возвращаться назад, навстречу ветру. Но добраться до цели теперь можно было только так. Поэтому он склонил голову и мужественно двинулся вперед. Кожа давала странные ощущения: зудела в местах, где на костюме скрещивались нагревательные элементы, и онемела по всему остальному телу. Как онемели и ступни, отчего стало тяжело идти. Лицо ничего не чувствовало: до обморожения было явно недалеко. Нужно было где-нибудь укрыться.
У него возникла новая идея. Он позвонил Аонии, на гору Павлина, и почти мгновенно услышал ответ:
– Сакс! Ты где?
– Я как раз звоню, чтобы это узнать! – сказал он. – Я попал в бурю на Дедалии! И не могу найти марсоход! Хотел попросить, чтобы вы посмотрели на APS, мой и его! И чтобы сказали, в какую сторону идти!
Он прижал консоль к самому уху.
– Ка вау, Сакс, – Аония вроде бы кричала. Слышать ее голос в такой обстановке было необычно. – Секунду, дай проверю!.. Так! Вот где ты! А твоя машина вот! Ты что вообще делаешь так далеко на юге? Не думаю, что до тебя кто-нибудь сможет быстро добраться! Особенно если там буря!
– Да, здесь буря, – ответил Сакс. – Поэтому я и позвонил.
– Ладно, ты примерно в трехстах пятидесяти метрах к западу от машины.
– Строго к западу?
– Чуть ближе к юго-западу! Но как ты там будешь ориентироваться?
Сакс задумался. Отсутствие магнитного поля на Марсе никогда не доставляло ему хлопот, но факт оставался фактом. Он мог предположить, что ветер дул с запада, но это было бы лишь предположением.
– Можешь свериться с ближайшими метеостанциями и сказать мне, с какой стороны дует ветер? – спросил он.
– Конечно, но они не сообщат местных отклонений! Так, секунду, мне тут уже помогают.
Прошло несколько долгих холодных мгновений.
– Ветер дует с северо-запада, Сакс! Значит, тебе нужно идти в том же направлении, что и он, только немного влево!
– Я понял. А сейчас помолчи, пока не увидишь, куда я иду, а потом поправишь меня.
Он снова сдвинулся с места, к счастью, почти по ветру. Через пять-шесть болезненных минут его запястье подало сигнал.
– Ты идешь правильно! – сообщила Аония.
Это воодушевило Сакса, и он прибавил шагу, хоть ветер и проникал ему между ребер, в самое нутро.
– Все, Сакс! Сакс?
– Да!
– Ты и твоя машина сейчас в одной точке!
Но никакой машины Сакс не видел.
У него упало сердце. Зона видимости по-прежнему тянулась метров на двадцать, но машины не было. Он быстро забрался в укрытие.
– Иди по расширяющейся спирали от того места, где ты сейчас, – посоветовал ему голос на запястье. В теории это была здравая мысль, но он не мог решиться на то, чтобы ее осуществить. Не в силах снова обратить лицо к ветру, он тупо смотрел на черную пластиковую консоль у себя на руке. Больше ничем помочь она не могла.
На мгновение ему стали видны сугробы, находившиеся по левую сторону. Он заковылял туда, чтобы их осмотреть, и обнаружил, что снег лежал на уступе, достававшем ему до плеча. Раньше этого уступа он не замечал, хотя видел несколько веерообразных трещин, вызванных воздыманием Фарсиды, и это, вероятно, была одна из них – она и защищала сугроб от ветра. Снег же обеспечивал превосходную изоляцию. Хотя укрываться в нем было малопривлекательной перспективой. Впрочем, Сакс помнил, что альпинисты нередко закапывали себя, чтобы пережить ночь. Снег помогал защититься от ветра.
Подойдя к сугробу, он пнул его онемевшей ногой. Ощущение было такое, будто он ударил по камню. О том, чтобы выкопать себе снежную пещеру, нечего было и думать. Но если бы он просто попытался, это немного бы его согрело. К тому же у подножия наноса было не так ветрено. Продолжая пинать снег, он обнаружил, что под слоем твердого льда лежала обычная снежная пыль. Так что вырыть пещеру было реально. Он принялся копать дальше.
– Сакс! Сакс! – закричал голос у него на запястье. – Что ты там делаешь?
– Копаю снежную пещеру, – ответил он. – Бивак.
– Ох, Сакс… Мы летим на помощь! Мы сможем добраться следующим утром, несмотря ни на что! Держись там! Мы будем говорить с тобой!
– Хорошо.
Он работал руками и ногами. Припав к коленям, выгребал жесткий зернистый снег, разбрасывая хлопья во все стороны. Было тяжело двигаться, тяжело думать. Он горько жалел, что так далеко отошел от марсохода, а потом слишком увлекся изучением местности у ледяного водоема. Позорно было бы умереть, когда все вокруг складывалось таким интересным образом. Стать свободным, но мертвым. Наконец, у него получилась небольшая впадина – что-то вроде продолговатого отверстия в твердом льду. Изнуренный, он сел и кое-как, лежа на боку и отталкиваясь ботинками, ввинтился внутрь. Лежать на спине было жестко, но зато теплее, чем под яростным ветром. Тело приятно дрожало, а когда дрожь прошла, он ощутил смутный страх. Замерзнуть до такой степени, что пропадала дрожь, было не к добру.
Он очень устал, очень замерз. Посмотрел на наручную консоль. Было четыре вечера. Он проходил по буре лишь немногим больше трех часов. Нужно было продержаться еще часов пятнадцать-двадцать до того, как его спасут. Или же утром буря стихнет и можно будет найти марсоход. Так или иначе, ему предстояло пережить ночь, свернувшись калачиком в снежной пещере. Либо выбраться обратно и продолжить поиски машины. Она никак не могла стоять далеко. Но, пока ветер не ослабнет, он не мог осмелиться выйти наружу.
Приходилось пережидать в пещере. Теоретически он мог выдержать там ночь, пусть сейчас ему и было невообразимо холодно. А по ночам на Марсе температура до сих пор резко падала. Но буря могла улечься через час, позволив ему найти марсоход и добраться до него раньше наступления темноты.
Он сообщил Аонии и остальным о своем положении. Они очень встревожились, но ничего не могли поделать. В их голосах чувствовалась досада.
Казалось, прошло несколько минут, прежде чем у него появилась новая мысль. Если человек продрог, в конечности поступало значительно меньше крови – и в кору головного мозга, очевидно, тоже: она попадала преимущественно в мозжечок, чтобы обеспечивать работу всего остального.
Прошло еще какое-то время. Вроде бы наступили сумерки. Нужно было созвониться снова. Он замерз чересчур сильно – что-то было не так. Пожилой возраст, большая высота, уровень углекислого газа – какой-то фактор или их сочетание усугубляли его состояние. За ночь он может просто умереть! И кажется, как раз медленно загибается. Ну и буря! Наверное, это из-за удаления зеркал. Будто наступает ледниковый период. Массовое вымирание.
Ветер стал звучать как-то странно, будто перешел на крики. Порывы были мощные и, казалось, слабо зазывали: «Сакс! Сакс! Сакс!»
Может, этот ветер кого-то принес? Он выглянул во мрак: там снежинки каким-то образом ловили отблески света и мелькали, как тусклые белые помехи.
Вдруг меж заледеневших ресниц он разглядел возникшую из тьмы фигуру. Невысокую, округлую, со скафандром на голове.
– Сакс!
Звук, явно искаженный, исходил из громкоговорителя на скафандре пришельца. Эти техники из Да Винчи были весьма изобретательны. Сакс попытался ответить, но понял, что слишком замерз, чтобы говорить. Даже вытащить ноги из ямы стоило неимоверных усилий. Но, судя по всему, ему удалось привлечь внимание, потому что пришелец повернулся и целенаправленно двинулся в его сторону сквозь ветер, покачиваясь при порывах. Наконец, он добрался до Сакса и схватил его за запястье, и только тогда Сакс, посмотрев через забрало, прозрачное, как окно, увидел его лицо. Это была Хироко!
Она улыбнулась своей быстрой улыбкой и вытащила его из пещеры, так крепко сжав его левое запястье, что затрещали кости.
– Ой! – вскрикнул он.
На ветру холод был просто смертельным. Хироко положила его левую руку себе на плечо и, все еще крепко держа его за запястье, повела мимо невысокой насыпи, прямо навстречу буре.
– Мой марсоход рядом, – пробормотал он, опираясь на нее и стараясь передвигать ногами достаточно быстро, чтобы ступни успевали как следует соприкасаться с землей. Как здорово было снова видеть Хироко! Твердый маленький человечек, как всегда, полный сил.
– Он здесь, – сказала она через громкоговоритель. – Ты был близок.
– Как ты меня нашла?
– Мы отслеживали тебя с тех пор, как ты спустился с Арсии. А сегодня, когда разыгралась буря, я проверила, где ты, и увидела, что ты вышел из машины. Вот и приехала посмотреть, как у тебя дела.
– Спасибо.
– Тебе стоит быть поосторожнее в такую погоду.
Вскоре они оказались перед марсоходом. Хироко отпустила его запястье – оно забилось болью. Она легонько стукнула забралом по его очкам и добавила:
– Заходи.
Он осторожно взобрался по ступенькам к шлюзу, открыл его и ввалился внутрь. Неуклюже повернулся, чтобы дать войти и Хироко, но ее в проеме не оказалось. Он высунулся обратно, на ветер, огляделся. Ее нигде не было видно. Лишь сумрак – даже снег теперь казался черным.
– Хироко!
Ответа не последовало.
Он закрыл дверь шлюза, внезапно испугавшись. Потеря кислорода! Он закачал воздух из шлюзовой камеры, прошел во внутреннюю дверь в небольшую раздевалку. Здесь было невероятно тепло, воздух насыщен паром. Он принялся неуклюже стаскивать с себя одежду, но ничего не выходило. Тогда он постарался делать это более методично. Снял очки и маску – они покрылись коркой льда. И трубка, соединяющая воздушный баллон с маской, вероятно, также забилась льдом. Он сделал несколько глубоких вдохов, но потом осел, почувствовав очередной приступ тошноты. Стянул капюшон, расстегнул молнию на костюме. Снять ботинки оказалось труднее всего. Потом сам костюм. Руки у него горели, будто в огне. Это был хороший знак – доказательство того, что обморожение было не таким уж сильным. И тем не менее он проделывал все это в муках.
Затем вся кожа стала гореть таким же огнем. Но отчего – кровь возвращалась в капилляры? Или отмороженные нервы снова обретали чувствительность? Как бы то ни было, жар был почти невыносимым.
– Ай!
И все же он был в великолепном расположении духа. Он не просто избежал смерти, что само по себе было прекрасно, – еще и Хироко оказалась жива. Хироко жива! Это было потрясающе хорошей новостью. Многие из его друзей догадывались, что она вместе со своей группой спаслась во время штурма Сабиси, пробравшись через туннели в насыпях города к своей системе скрытых убежищ, – но Сакс никогда не был в этом уверен. Это не подтверждалось никакими свидетельствами. А силы безопасности вполне могли уничтожить группу беглецов и скрыть их тела. И Сакс считал, что так оно и случилось, но держал свое мнение при себе. Ведь до правды уже было не докопаться.
Но теперь-то он знал. Он набрел на тропу Хироко, и она спасла его от смерти, не дав замерзнуть или задохнуться – что бы там ни убило его первым. Вид ее радостного, какого-то безликого лица… карих глаз… ощущение ее тела, поддержавшего его… рука, вцепившаяся ему в запястье, – теперь у него наверняка будет синяк. А может, и растяжение. Он согнул кисть, и от боли у него выступили слезы. Он рассмеялся. Хироко!
Через некоторое время огненная боль на коже прекратилась. И хотя кисти опухли и огрубели и он еще не владел мышцами как следует, в целом Сакс уже приходил в норму. Или почти в норму.
– Сакс! Сакс! Ты где? Ответь нам, Сакс!
– Эй. Привет! Я вернулся в машину.
– Ты нашел ее? Выбрался из своей пещеры?
– Да. Я… я увидел машину, вдалеке, сквозь прореху в снеге.
Они были счастливы это услышать.
Он сидел, едва слушая их болтовню и думая, зачем вдруг солгал. Отчего-то ему стало неловко рассказывать им о Хироко. Он посчитал, что ей не хотелось бы разглашать своего присутствия – по-видимому, это и послужило причиной. И он прикрыл ее…
Заверив своих товарищей, что у него все хорошо, Сакс отключил телефон. Принес стул на кухню и уселся. Подогрел суп и выпил его, громко прихлебывая и обжигая язык. Обмороженный, обожженный, продрогший… испытывающий легкую тошноту… однажды заплакавший… но в основном просто ошеломленный… и при всем при этом он был очень, очень счастлив. Побывав на волосок от смерти, он пришел в себя и теперь был смущен и даже пристыжен своей глупой выходкой – надо же было выйти наружу и потеряться! Это в самом деле здорово отрезвляло. И все-таки он был счастлив. Он выжил и не только он – выжила и Хироко. Значит, вся ее группа, без сомнения, выжила вместе с ней, включая полдюжины людей из первой сотни, которые были с ней с самого начала – Ивао, Джин, Риа, Рауль, Эллен, Евгения… Сакс включил ванную и, сев в теплую воду, стал потихоньку добавлять кипятка, пока его тело согревалось. Он снова и снова возвращался к этому чудесному знанию. Чудо… Ну ладно, пусть и не чудо, конечно, но очень на него похоже. Неожиданная и незаслуженная радость.
Заметив, что засыпает в ванной, он выбрался, вытерся, прохромал на вновь обретших чувствительность стопах к кровати, свернулся калачиком под одеялом и уснул, думая о Хироко. О том, как занимался с ней любовью в Зиготе, об их сладострастных свиданиях в купальне, поздними ночами, когда все спали. О том, как ее рука сжимала его запястье. Теперь оно сильно болело. И это делало его счастливым.
На следующий день он поехал обратно, чтобы снова подняться на южный склон Арсии, который теперь был покрыт чистым белым снегом вплоть до невероятно большой высоты, если точнее – 10,4 километра над нулевой отметкой. Он испытывал странную смесь эмоций, небывалой силы и энергии, похожие на те сильные ощущения, которые он испытывал во время стимулирующего синапсы лечения, что он проходил после своей травмы. Словно участки мозга стали активно расти и лимбическая система, где рождались эмоции, наконец, соединилась с корой головного мозга. Он был жив, жива была Хироко, жив был Марс, и на фоне этих счастливых знаний возможное наступление ледникового периода выглядело ничтожным – словно краткое отступление в общем сценарии глобального потепления, вроде почти забытой уже Великой бури. И тем не менее он хотел сделать все, что мог, чтобы его смягчить.
В людском же мире тем временем протекали ожесточенные конфликты – причем повсюду, на обеих планетах. Однако Саксу казалось, что кризис неким образом стал даже страшнее войны. Наводнения, ледниковый период, перенаселение, социальный хаос, революция – пожалуй, теперь дела были настолько плохи, что человечество приступило к чему-то вроде всемирной спасательной операции или, иными словами, первому этапу посткапиталистической эры.
Или, возможно, он просто становился излишне самонадеянным после событий на Дедалии. Его товарищи из Да Винчи заметно беспокоились за него и часами сидели перед экранами, рассказывая ему во всех подробностях о том, что происходило на текущих дискуссиях восточного Павлина. Но у него на это не хватало терпения. Было очевидно, что горе Павлина недолго оставалось до того, чтобы превратиться в дискуссионную стоячую волну. А что до столь сильных тревог ребят из Да Винчи… просто у них такая натура. Если кто-то из них повышал голос на два децибела, все сразу думали, что случилось что-то страшное. Но для него – нет. После пережитого на Дедалии все это казалось ему просто неинтересным. Несмотря на то что попал в бурю, – а может, и благодаря этому, – он лишь хотел снова выбраться на необжитые земли. Хотел увидеть как можно больше – понаблюдать за изменениями, вызванными удалением зеркал, – чтобы потом обсудить их с разными группами специалистов по терраформированию, подумать с ними, чем восполнить потери. Он позвонил Нанао в Сабиси и спросил, можно ли ему приехать и обсудить это с университетской командой. Нанао ответил согласием.
– А если я привезу кое-кого из своих товарищей? – спросил Сакс.
Нанао не возражал.
И вдруг Сакс понял, что у него стали рождаться различные планы – словно маленькие Афины[6] выпрыгивали у него из головы. Что при приближении ледникового периода сделала бы Хироко? Этого он никак не мог угадать. Но у него была многочисленная группа помощников в лаборатории Да Винчи, которые посвятили последние десятилетия работе над проблемами обретения независимости, производства оружия, транспорта, строительства укрытий и тому подобного. Сейчас эти проблемы были решены, но ученые остались – и теперь приближался ледниковый период. Многие из них пришли в Да Винчи после работы в области терраформирования, и их, без сомнения, можно было уговорить вернуться к ней. Но что им теперь предпринять? Сабиси находился на высоте четырех километров над нулевой отметкой, а Тирренский массив возвышался примерно до пяти. Эти ученые были лучшими в мире по части экологии высокогорных районов. Значит, конференция. Очередная маленькая утопия. Что за банальность!
В тот же день после полудня Сакс остановил свой марсоход в седловине между Павлином и Арсией, в точке, называемой Видом на четыре горы, – это было величественное место, в котором северный и южный горизонты составляли два вулкана-континента, на северо-западе виднелся отдаленный Олимп, а в ясные дни (сейчас, правда, был туман) можно было различить гору Аскрийскую, чуть правее Павлина. На этом просторном высокогорном участке он и отобедал, после чего повернул на восток и начал спуск к Никосии, чтобы оттуда полететь в Да Винчи, а затем в Сабиси.
Ему пришлось провести много часов перед экраном с командой Да Винчи и многими другими людьми на горе Павлина, пытаясь объяснить им свой уход и уговорить их смириться с его отсутствием на складах.
– Я с вами – на обсуждениях, во всех смыслах, – говорил он, но они этого не принимали. Они буквально мозжечком хотели, чтобы он присутствовал там во плоти, что было по-своему трогательно. «Трогательно» – слово пусть и символическое, но довольно точное. Он рассмеялся, но Надя раздраженно продолжила:
– Ладно тебе, Сакс, ты не можешь все бросить только потому, что положение сложное. Наоборот, именно сейчас ты нам нужен, ты же теперь «генерал Сакс», великий ученый, и ты должен оставаться в деле.
Но где-то была Хироко, которая как раз служила примером того, каким заметным может быть присутствие того, кого нет. И он хотел ехать в Сабиси.
– Так что нам делать? – спросил его Ниргал, как спрашивали и многие другие, пусть и не так прямо.
Ситуация с проводом зашла в тупик: на Земле творился хаос, на Марсе оставались очаги сопротивления наднационалов, другие территории находились под контролем Красных, которые систематически уничтожали там все, что имело отношение к терраформированию, включая бо́льшую часть имеющейся инфраструктуры. Также существовало множество мелких революционных движений раскольников, которые использовали сложившееся положение как возможность провозгласить свою независимость – подчас даже на таких небольших территориях, как купол или метеостанция.
– Ну… – начал Сакс, обдумывая все это, – хозяин ситуации – тот, кто владеет системой жизнеобеспечения.
Общественный строй как система жизнеобеспечения – структурная база, производство, техническое обслуживание… Ему действительно было необходимо поговорить с ребятами из «Сепарасьон дель Атмосфер» и производителями куполов. Многие из них к тому же были тесно связаны с Да Винчи. То есть в некотором смысле он был таким же хозяином ситуации, как кто угодно другой. Дурная мысль.
– А что мы, по-твоему, делаем? – спросила Майя, и что-то в ее голосе говорило о том, что она задавала этот вопрос уже не в первый раз.
Но Сакс сейчас приближался к Никосии и, не отрываясь от дороги, ответил:
– Может, отправить делегацию на Землю? Или созвать конституционный конгресс, сформулировать примерную основу конституции, набросать черновик…
Майя покачала головой.
– С таким сборищем это будет непросто.
– Возьмите конституции двадцати-тридцати самых успешных стран Земли, – предложил Сакс, словно размышляя вслух, – и посмотрите, что из этого выйдет. Пусть компьютер составит скомпилированный документ, посмотрите, каким он получится.
– Что ты имеешь в виду под самыми успешными? – спросил Арт.
– По индексу будущего страны, уровню действительной стоимости, даже по валовому национальному продукту, почему бы нет?
Экономика была похожа на психологию – псевдонауку, пытающуюся скрыть свою суть за огромным количеством теоретических сложностей. И ВВП был одним из тех несчастных понятий вроде дюймов или британских термических единиц, которым уже давно пора было уйти в небытие. Но и черт с ними…
– Или используйте несколько разных наборов критериев вроде благосостояния людей, экологической ситуации или чего-то там еще.
– Но, Сакс, – пожаловался Койот, – само государство – это дурной термин. Одна его суть портит все эти старые конституции.
– Может быть, – ответил Сакс. – Но в качестве отправной точки стоит попробовать.
– Все это – просто попытка уйти от проблемы провода, – сказала Джеки.
Даже странно, насколько некоторые Зеленые напоминали Красных радикалов в одержимости обретением полной независимости. Сакс ответил:
– В физике я часто отделяю проблемы, которые не могу решить, и пытаюсь их обойти, а потом смотрю, не устранились ли они, так сказать, с помощью обратной силы. Провод представляется мне проблемой именно такого рода. Думайте о нем как о напоминании того, что Земля никуда не денется.
Но они не слушали его, продолжая спорить, что делать с проводом, каким устроить новое правительство, как быть с Красными, которые, как оказалось, покинули дискуссию, и так далее. Они отмели все его предложения и вернулись к своим непрекращающимся спорам. Так что прощай, Сакс, генерал постреволюционного мира.
Никосийский аэропорт почти совсем прекратил работу, но Саксу и не хотелось ехать в сам город. В итоге он полетел в Да Винчи с несколькими друзьями Спенсера из разветвленного залива Доуса. Они отправились на большом сверхлегком планере, построенном перед самой революцией в ожидании того, что в будущем у них не будет нужды от кого-либо скрываться. И пока автопилот вел крупное судно с серебристыми крыльями над величественным Лабиринтом Ночи, пятеро пассажиров сидели в отсеке в нижней части фюзеляжа с прозрачным полом и видели то, что находилось внизу, – сейчас это была гигантская сеть долин, носившая название Шанделье. Сакс разглядывал гладкие плато, которые разделяли каньоны и нередко были изолированы. Складывалось впечатление, что на них было бы хорошо жить – как в Каире, на северной окраине, который напоминал собой модель города в стеклянной бутылке.
Члены экипажа завели разговор о «Сепарасьон дель Атмосфер», и Сакс стал внимательно их слушать. Хотя эти люди были обеспокоены вооруженными силами революционеров и изысканием основного сырья, а «Сеп», как они ее называли, имела дело с более приземленным миром руководства мезокосма, но все же они относились к компании со здоровым почтением. Как указал один из них, разработка надежных куполов и поддержка их функционирования – это ответственная работа, ошибка в которой может привести к тяжелым последствиям. Когда все находится под критической угрозой, каждый день может стать приключением.
«Сеп» входила в «Праксис», а каждый купол или крытый каньон управлялся отдельной организацией. Но у них был общий реестр информации, мобильные консультанты и строительные бригады. Квалифицируя свою работу как необходимую, они работали на кооперативной основе – по Мондрагонскому плану[7], как кто-то заметил, точнее, его некоммерческой версии – и обеспечивали своих членов прекрасными жилищными условиями и большим количеством свободного времени.
– Они думают, что заслуживают этого, потому что, когда что-то случается, они должны действовать быстро, иначе будет беда.
Многие крытые каньоны, избежав падений метеоритов и прочих несчастий, а иногда даже простых механических повреждений, остались целы. Обычно такие каньоны имели укрепленную систему жизнеобеспечения, которая располагалась в верхней его части; такие системы всасывали необходимое количество азота, кислорода и газовых примесей из приповерхностного ветра. Пропорции газов и интервал давлений, которые они поддерживали, менялись в зависимости от конкретного мезокосма, но в среднем давление составляло порядка пятисот миллибар. Такой уровень слегка поддерживал крыши куполов и вообще считался нормальным для закрытых пространств на Марсе, а также служил целевым показателем, которого предполагалось добиться на нулевой отметке. В солнечные дни, однако, расширение воздуха в куполе здорово ощущалось, и в таких случаях обычно либо просто выпускали воздух обратно в атмосферу, либо сохраняли его, сжимая в огромных вместилищах, выдолбленных в скалах.
– Бывал я как-то в каньоне Дао, – начал один из техников, – так там взорвалось такое вместилище. Разрушилось целое плато, и на Роллгейт обвалилась скала, она пробила шатровую крышу. Давление упало до уровня внешней среды, а там было где-то двести шестьдесят, и все начало замерзать, но у них были старые аварийные переборки, – Сакс припомнил, что такие отсеки представляли собой прозрачные завесы всего в несколько молекул толщиной, но обладали высокой прочностью, – и когда они автоматически развернулись вокруг прорыва, одну женщину придавило к земле герметичной нижней частью переборки, причем голова оказалась снаружи! Мы подбежали к ней, быстро вырезали кусок и тут же его заменили. Ее мы освободили, но она чуть не погибла.
Сакса передернуло, когда он вспомнил о собственном соприкосновении с холодом и о том, что давление в 260 миллибар – это тот уровень, который можно было испытать, наверное, на вершине Эвереста. Остальные уже принялись рассказывать о других известных прорывах, как, например, о случае, когда от дождя полностью обрушился купол Хираньягарбхи, хотя при этом никто не погиб.
Затем, низко пролетев над огромной, усеянной кратерами равниной Ксанфа, они сели на дно кратера Да Винчи. Там имелась длинная песчаная полоса, которую использовали со времен революции. Местные уже тогда готовились ко дню, когда не будет нужды скрываться, и сейчас по дуге южного края кратера тянулся длинный изогнутый ряд медных окон-зеркал. Дно кратера, в центре которого выделялось резкое возвышение, было засыпано снегом. Они могли бы устроить по всему дну озеро, превратив это возвышение в остров. Тогда весь открывавшийся оттуда горизонт занимали бы скалистые холмы края кратера. А прямо под стенами края можно было проложить круговой канал, от которого ко внутреннему озеру тянулись бы другие каналы. В итоге такое чередование воды и земли стало бы напоминать Атлантиду, какой ее описывал Платон. В таком виде Да Винчи был способен, по мнению Сакса, вместить порядка двадцати-тридцати тысяч человек, оставшись при этом более-менее автономным, – а здесь были десятки таких кратеров, как Да Винчи. Община общин, каждый кратер – своего рода город-государство, у каждого – полис, способный сам себя обеспечить, и каждый мог бы определять, какую культуру принять, а потом голосовать на каком-нибудь всеобщем совете… Что, если не будет большего регионального союза, чем город, не считая механизмов местного обмена… могло ли такое сработать?
Да Винчи создавал впечатление, что могло. Южная дуга края оживала благодаря аркадам, клиновидным павильонам и всему прочему – все это сейчас было залито солнечным светом. Однажды утром Сакс объехал весь комплекс, посетив каждую лабораторию и поздравив работников с успехом подготовки тихого изгнания с Марса сил ВП ООН. Ведь действительно, одна часть политической власти исходила из дула пистолета, другая – из простого взгляда, причем взгляд этот менялся в зависимости от того, куда было направлено дуло пистолета. Они, эти саксоклоны, оказались сильнее пистолетов, а сейчас просияли от радости, были счастливы видеть его и уже готовы взяться за работу – вернуться к исследованиям, выяснить, как извлечь пользу из новых материалов, которые непрерывно штамповали алхимики Спенсера, или изучать проблемы терраформирования.
Они также следили за происходящим в космосе и на Земле. Высокоскоростной шаттл с Земли с неизвестным грузом на борту запросил у них разрешения войти на орбиту. Поэтому сейчас команда Да Винчи напряженно разрабатывала протоколы безопасности, то и дело совещаясь со швейцарским посольством, занимавшим ряд апартаментов на северо-западной дуге. Из повстанцев в администраторы – это было странное перевоплощение.
– Какие политические партии мы поддерживаем? – спросил Сакс.
– Не знаю. Те же, что обычно, наверное.
– Особо никого не поддерживаем. Те, что работают, наверное, ну ты сам знаешь…
И Сакс знал. Это была давнишняя позиция технарей, занимаемая ими еще с тех времен, когда ученые только сформировали класс в обществе, вроде касты священников, и встали между людьми и их возможностями. Они были аполитичны, как госслужащие, – эмпирики, желавшие лишь того, чтобы во всем применялся рациональный научный подход, чтобы максимальное число людей получали максимальное количество благ, что было бы вполне достижимо, если бы люди меньше увлекались эмоциями, религиями, правительствами и прочими бредовыми системами схожего толка.
Другими словами, это были стандартные политические взгляды для ученых. Сакс однажды попробовал поделиться этим наблюдением с Десмондом, чем по какой-то причине сильно рассмешил друга, хоть и был совершенно прав. Ну, может, это было слегка наивно и оттого комично, думал Сакс, и даже смешно, но ровно до тех пор, пока не стало бы печально. Ведь именно это их отношение удерживало ученых от политики уже много столетий – и столетия эти, надо сказать, выдались не лучшими.
Зато сейчас они находились на планете, где политическая власть исходила из мезокосмического вентилятора. А те, кто управлял огромным пистолетом (сдерживая всех остальных), были хозяевами ситуации – по меньшей мере, отчасти. Если они вообще придавали власти какое-либо значение.
Сакс мягко напомнил им об этом, когда посетил лаборатории; а затем, чтобы облегчить их неудобство от размышлений о политике, обсудил с ними проблемы терраформирования. И наконец, когда он уже был готов покинуть Сабиси, человек шестьдесят пожелало отправиться вместе с ним, посмотреть, что творилось там, внизу.
– Альтернативная гора Павлина имени Сакса, – услышал он, как один из техников охарактеризовал его поездку. И это было неплохой мыслью.
Сабиси располагался на западной стороне пятикилометрового выступа, известного как Тирренский массив, к югу от кратера Жарри-Делож. Он стоял на старой возвышенности между равнинами Исиды и Эллада, с центром на 275-й долготе и 15-й южной широте. Место хорошо подходило для купольного города: отсюда открывались далекие виды на запад, а с востока соседствовали невысокие холмики. Но жить на открытом воздухе или выращивать растения на этой скалистой поверхности было высоковато. Более того, этот регион – самый высокогорный на Марсе, если не считать гораздо более крупные купола Фарсиды и Элизия. Это был своего рода островной биорегион, который сабисийцы культивировали уже несколько десятилетий.
Местные оказались глубоко разочарованы, узнав о потере больших зеркал, – можно даже сказать, перешли в аварийный режим, приготовились бросить все силы на защиту растений биома. Нанао Накаяма, старый коллега Сакса, скорбно покачал головой:
– Вымерзание будет для нас трагедией. Не лучше самого ледникового периода.
– Надеюсь, мы сумеем возместить потерю света, – сказал Сакс. – Увеличить толщину атмосферы, добавить парниковых газов – все это осуществимо, если добавить бактерий и субальпийских растений, верно?
– Отчасти да, – с сомнением ответил Нанао. – Однако многие ниши уже заполнены. И они довольно малы.
Обсудить проблему решили за ужином. В большой столовой «Когтя» собрались все техники из Да Винчи, и многие из сабисийцев пришли их поприветствовать. Получилась долгая и увлекательная дружественная беседа. Сабисийцы жили в лабиринте в насыпях мохола за одним из возвышений, напоминающих когти дракона, так что им не приходилось смотреть на руины своего города, когда они там работали. Восстановительные работы сейчас несколько замедлились, так как многие занялись проблемами, вызванными удалением зеркал. Нанао, явно в продолжение длительного спора, заявил Тарики:
– Восстанавливать Сабиси как купольный город все равно бессмысленно. Мы можем просто немного подождать, а потом построить его на открытом воздухе.
– Только ждать, может быть, придется долго, – возразил Тарики, мельком взглянув на Сакса. – Мы находимся в районе вершины того уровня атмосферы, который в Дорса Бревиа признали пригодным для жизни.
Нанао посмотрел на Сакса.
– Мы хотим, чтобы все эти пределы были установлены выше Сабиси.
Сакс кивнул и пожал плечами – он не знал, что ответить. Красным бы это не понравилось. Но если поднять предел пригодной для жизни высоты, скажем, на километр, то сабисийцам достанется весь массив, а более крупные купола этого не заметят, – так что казалось, это имело смысл. Хотя кто знал, к чему придут на горе Павлина?
– Может быть, нам сейчас стоит сосредоточиться на вопросе об атмосферном давлении? – предложил он.
Они насупились.
– Можете показать нам массив? – спросил Сакс.
– С удовольствием, – бодро отозвались хозяева.
В ранние годы ареологи называли Тирренский массив «изрезанным участком» южных гор, что означало примерно то же, что и «кратерированный участок», только «Тирренский участок» еще чаще испещряли небольшие сети каналов. Менее высокие и более типичные горы, окружавшие массив, также имели гребневые и холмистые зоны. И вообще, как Сакс быстро понял в то утро, когда они выехали в эти места, здесь можно было обнаружить все типы рельефа: кратерированные, разрушенные, неровные, гребневые, изрезанные и холмистые участки – наиболее типичные для нойской эры.
Сакс, Нанао и Тарики, сидя на смотровой площадке марсохода университета Сабиси, видели, как их коллеги едут в других машинах, а некоторые группы идут пешком впереди. На дальних холмах, под восточным горизонтом, группа энергичных людей занималась горным бегом. Впадины устилал тонкий слой грязного снега. Центр массива лежал в пятнадцати градусах к югу от экватора, и в этом районе, как отметил Нанао, выпадало довольно много осадков. Юго-восточная сторона массива была суше, тогда как сюда доходили массы облаков, которые шли с севера, над льдами равнины Исиды, и, преодолевая склон, сбрасывали свою ношу.
И действительно, пока они поднимались вверх, с северо-запада надвинулись крупные темные облака и облили их, словно преследуя горных бегунов. Сакс вспомнил свою недавнюю встречу со стихией и содрогнулся. Сейчас он был счастлив, что сидел в марсоходе, и думал, что теперь ни за что не отойдет от него далеко.
Наконец, они остановились на вершине невысокого старого хребта и вышли наружу. Прошли по поверхности, усеянной валунами и буграми, трещинами, барханами, крошечными кратерами, обнаженными коренными породами, уступами, гребнями и старыми мелкими каналами, – такие места и называли изрезанными участками. Хотя на самом деле здесь присутствовали все виды деформационных форм, ведь этой земле было четыре миллиарда лет. Она многое повидала, но ничто не смогло уничтожить ее полностью, так что все четыре миллиарда были здесь на виду, словно в настоящем ландшафтном музее. В нойскую эру она была существенно раздроблена, после чего остался слой реголита в несколько километров глубиной, кратеры и прочие деформации, которые так и не сумела сгладить ветровая эрозия. А с другой стороны планеты в этот же период при так называемом Большом ударе в космос вырвался слой литосферы толщиной в шесть километров, после чего на южную часть планеты обрушилась огромная масса изверженной породы. Этим объяснялось происхождение Большого Уступа, отсутствие древних гор на севере, а также чрезвычайно беспорядочный вид здешней местности.
Затем, в конце гесперийской эры[8], ненадолго наступил теплый и влажный период, когда вода стала периодически выходить на поверхность. В последнее время большинство ареологов полагают, что этот период действительно был довольно влажным, но не таким уж теплым, и среднегодовая температура тогда была значительно ниже 273° Кельвина. Впрочем, она позволяла воде иногда выходить на поверхность и пополняться скорее за счет гидротермальной конвекции, чем осадков. По современным оценкам, этот период длился всего сто миллионов лет или около того, а за ним последовали миллиарды лет ветров сухой и холодной амазонийской эры, которая тянулась вплоть до их прибытия.
– А есть название эры, которая началась в М-1? – спросил Сакс.
– Голоценовая.
И в последние два миллиарда лет все выветривалось так сильно, что более ранние кратеры полностью лишились краев, беспощадные ветры раздирали поверхность слой за слоем, оставляя лишь голые породы. С технической точки зрения здесь возник не хаотичный, но дикий рельеф, учитывая его невообразимый возраст и обилие разрушенных кратеров, останцев, провалов, бугров, уступов и неимоверного множества исрешеченных скал.
Они часто выходили из марсохода и шли пешком. Даже небольшие столовые горы, казалось, были выше их роста. Сакс, сам того не сознавая, держался ближе к марсоходу, но все равно отходил подальше, чтобы рассмотреть наиболее интересные объекты. Однажды он заметил скалу в форме марсохода с вертикальной трещиной по всей высоте. Слева от нее, на западе, перед далеким горизонтом, желтел гладкий скалистый грунт. Справа же тянулся вал, образовавшийся в результате какого-то старого разлома, высотой до пояса и испещренный чем-то, напоминающим клинопись. Потом он увидел бархан, окруженный достававшими до щиколотки камнями – то черным, обточенным ветром базальтом, то более светлой зернистой породой. Потом – какой-то затупленный конус, крупный, как дольмен. И песчаную косу. И круг сырой изверженной породы, похожий на почти полностью выветрившийся Стоунхендж. Глубокую, вьющуюся змеей впадину – вероятно, участок реки, – а за ней очередной плавный подъем и отдаленная возвышенность в форме львиной головы. А еще одна возвышенность, рядом с первой, походила на львиное туловище.
И посреди всего этого камня и песка растительная жизнь была почти незаметна. Во всяком случае, поначалу. Ее еще нужно поискать, внимательно присмотреться к цветам, прежде всего к зеленому, ко всем его оттенкам, но особенно – к бледным: шалфейному, оливковому, хаки и прочим. Нанао и Тарики то и дело указывали на образцы, которые Сакс не замечал. И он присматривался все внимательнее и внимательнее, снова и снова. А едва он приспособился к восприятию тусклых цветов, которые так ловко сливались с ржавым грунтом, как те начали буквально выскакивать из цветов ландшафта – коричневого, черного, цветов умбры и охры. Чаще всего они обнаруживались во впадинах и трещинах или возле занесенных снегом участков. И чем внимательнее он вглядывался, тем больше их находил; а в одной котловине, казалось, повсюду росли растения. И тогда он понял: вся эта территория, весь Тирренский массив, представляла собой одну большую каменистую пустыню.
Потом он увидел яркую зелень лишайников, покрывающих поверхности скал или внутренние поверхности водосборных участков, и мох – изумрудный, темно-зеленый бархат, влажный и пушистый.
Многоцветная палитра лишайников, темно-зеленые иглы сосен, пучки отростков хоккайдских сосен, ладанных сосен, можжевельников. Цвета жизни. Казалось, он переходил из одной огромной комнаты под открытым небом в другую, сквозь разрушенные каменные стены. Маленькая площадь, извилистая галерея, просторный бальный зал, множество соединенных между собой комнат, гостиная. В некоторых комнатах – криволесье в низких стенах, где искривленные ветром деревья были мелкими и срезанными сверху на уровне снега. Каждая ветвь, каждое растение, каждая открытая комната имели выверенную форму – но при этом смотрелись непринужденно.
Вообще, как сказал ему Нанао, большинство котловин активно культивировались.
– Эту котловину засеял Абрахам.
За каждый маленький участок отвечал конкретный садовод или садоводческая группа.
– А! – воскликнул Сакс. – И удобрил, наверное, тоже?
Тарики рассмеялся.
– Можно и так сказать. А сама почва здесь в основном завезенная.
– Понятно.
Это объясняло многообразие растений. Сакс знал, что культивацией немного занимались на леднике Арена, где он впервые увидел каменистую пустыню. Но здесь эти начальные стадии остались далеко позади. Лаборатории Сабиси, как объяснил ему Тарики, стремились, в первую очередь, создать плодородный слой почвы. Это было здравой идеей, ведь в каменистых пустынях почва прибавлялась всего на несколько сантиметров за столетие. Здесь же существовали причины этим заниматься, и такая задача представляла неимоверную трудность.
– С самого начала мы перескакиваем на несколько миллионов лет, – сказал Нанао. – И потом эволюционируем с того момента.
Складывалось впечатление, будто многие из образцов высаживались вручную, затем их оставляли без поддержки и наблюдали, как они развиваются.
– Понятно, – проговорил Сакс.
Он присмотрелся еще внимательнее. Ровный тусклый свет: действительно, в каждой открытой комнате были представлены образцы разных видов.
– Значит, это сады.
– Да… или вроде того. Как посмотреть.
Некоторые садовники, рассказал Нанао, работали по заветам Мусо Сосэки[9], другие придерживались традиций японских дзен-мастеров, третьи – Фу Си, легендарного основателя китайской системы геомантии, известной как фэншуй, четвертые – персидских гуру садоводства, включая Омара Хайяма, пятые – Леопольда, Джексона или еще кого-нибудь из первых американских экологов, как, например, почти забытый теперь биолог Оскар Шнеллинг, и прочих.
Но все они, как добавил Тарики, были не более чем кумирами. Занимаясь своим делом, садовники раскрывали собственное видение. И следовали велениям земли, видя, как одни растения расцветали, а другие погибали. Соэволюция, или что-то вроде эпигенетического развития.
– Недурно, – заметил Сакс, осматриваясь. Для специалистов подъем из Сабиси на массив, должно быть, становился настоящим увлекательным путешествием, наполненным аллюзиями и отсылками к невидимым для него традициям. Хироко назвала бы это ареоформированием или ареофанией.
– Я бы хотел посетить ваши лаборатории почв.
– Разумеется.
Они вернулись в марсоход и двинулись дальше. Позднее в тот же день, под темными тучами, они оказались на самой вершине массива, где находилось большое пульсирующее болото. Мелкие овраги были засыпаны сосновыми иголками, сметенными ветрами таким образом, что походили на травинки на искусно скошенном газоне. Сакс, Тарики и Нанао снова выбрались из машины и пошли пешком. Ветер пронизывал их костюмы, но из-под темной облачной завесы проглядывало послеполуденное солнце, отбрасывая тени по всему горизонту. Здесь, на болотах, повсюду виднелись ровные голые коренные породы, и Сакс, оглядываясь вокруг, вспоминал первозданный вид местности, какой он видел в ранние годы. Но стоило им отойти к краю какого-нибудь ущелья – и там все вдруг окрашивалось зеленью.
Тарики и Нанао говорили об экопоэзисе, под которым понимали переосмысленное, облагороженное, учитывающее местную специфику терраформирование. Преобразованное в нечто похожее на ареоформирование Хироко. Более не ведомое тяжелыми промышленными методами, но ставшее медленным, размеренным и чрезвычайно локальным процессом работы на отдельных клочках земли.
– Весь Марс – это сад. И Земля, если на то пошло, тоже. Таковы уж люди. И нам нужно сосредоточиться на садоводстве, задуматься об уровне ответственности за саму природу. Взаимодействие между человеком и Марсом должно быть справедливым для обеих сторон.
Сакс неопределенно взмахнул рукой.
– Я, однако, привык рассматривать Марс как дикое место, – ответил он, словно рассуждая об этимологии слова «сад». Французский, тевтонский, древнескандинавский… gard значит «ограда». Казалось, у него были общие корни со словом guard – «охрана». Но кто знал, что означало это слово по-японски? Этимология была достаточно сложной и без смешивания переводов между собой. – Ну, положить начало, засеять семена, потом смотреть, как они сами растут. Самоорганизующаяся экология, сами знаете.
– Да, – согласился Тарики, – но теперь дикие места тоже превратились в сады. В своем роде. Это потому что мы здесь. – Он пожал плечами и сморщил лоб. Он верил, что это так, но это его не радовало. – Как бы то ни было, экопоэзис ближе твоему пониманию дикого места, чем промышленное терраформирование.
– Может быть, – сказал Сакс. – Может, это лишь две стадии одного процесса. И может, обе они необходимы.
Тарики кивнул, готовый это обсудить.
– А сейчас что?
– Смотря как мы будем реагировать на возможное наступление ледникового периода, – ответил Сакс. – Если он окажется достаточно суровым и убьет растения, то у экопоэзиса не останется шансов. Атмосфера может снова замерзнуть и опасть на поверхность, весь процесс нарушится. Когда нет зеркал, я уже не уверен, что биосфера достаточно сильна, чтобы продолжить свой рост. Вот поэтому я и хочу посмотреть на ваши лаборатории почв. Может, стоит применить еще какое-нибудь промышленное воздействие на атмосферу. Мы попробуем создать модель и посмотреть, что будет.
Тарики и Нанао кивнули. Их экосистемы засыпа́ло снегом прямо у них на глазах: белые хлопья падали в непостоянном бронзовом свете, кружась на ветру. Ученые готовы были рассмотреть все предложения.
Пока они ездили, их молодые коллеги из Да Винчи и Сабиси вместе перебегали массив и возвращались в лабиринт Сабиси, бормоча что-то о геомантии и ареомантии, экопоэзисе, теплообмене, пяти элементах, парниковых газах и тому подобном. Их вдохновленное возбуждение представлялось Саксу весьма многообещающим.
– Вот бы здесь был Мишель! – сказал он Нанао. – И Джон. Он очень любил такие группы. – А потом вдруг добавил: – И была бы здесь Энн.
И он вернулся на гору Павлина, оставив группу в Сабиси обсуждать дальнейшие планы.
На Павлине же все было по-старому. Все больше и больше людей, подталкиваемых Артом Рэндольфом, предлагали созвать конституционный конгресс. Написать хотя бы временную конституцию, провести голосование о ее принятии, учредить определенное ею правительство.
– Дельная мысль, – поддержал Сакс. – Как, пожалуй, и идея послать делегацию на Землю.
Посеять семена. Прямо как на болотах: одни прорастут, другие – нет.
Он хотел найти Энн, но выяснилось, что она уже покинула гору Павлина, – ему сказали, что она уехала на заставу Красных на Земле Темпе, что на севере Фарсиды. Туда, добавили здесь, ездят только Красные, и никто кроме них.
Немного поразмыслив, Сакс попросил Стива помочь найти местоположение заставы. Затем одолжил небольшой самолет у богдановистов и улетел на север, обогнув гору Аскрийскую с востока, затем опустился в каньон Эхо, миновал свое старое представительство в Эхо-Оверлуке, высившееся на стене справа от него.
Энн, без сомнения, тоже пролетала этим маршрутом, а значит, тоже видела первый штаб проекта терраформирования. Терраформирование… Сейчас эволюционировало все, в том числе и идеи. Заметила ли Энн Эхо-Оверлук? Помнила ли она вообще, с чего все начиналось? Он мог лишь гадать. Люди мало знали друг друга: узнавали что-то, когда крошечные частицы их жизней пересекались или когда кто-то был так или иначе известнен всем вокруг. Это сильно напоминало жизнь во вселенной в одиночку. И это было странно. Словно только бегством от одиночества оправдывался обычай заводить друзей, вступать в брак, делить комнаты и жизни с другими как можно активнее. Нет, это не делало чувства людей по-настоящему разделенными с кем-то, но уменьшало ощущение одиночества. Будто человек плыл один по океанам, как в «Последнем человеке» Мэри Шелли – книге, сильно впечатлившей Сакса в юности, в конце которой герой время от времени замечал парус, поднимался на другой корабль, бросал якорь, делил пищу, но затем всегда продолжал путь в одиночестве. Такими были и их жизни – ведь каждый мир был так же пуст, что и тот, что изобразила Мэри Шелли, так же пуст, как вначале был пуст Марс.
Он пролетел над тенистым изгибом каньона Касэй, совсем его не заметив.
Давным-давно Красные выдолбили целый городской квартал в выступе, служившем последним разделительным клином в пересечении борозды Темпе, чуть южнее кратера Перепёлкина. Из окон под выступом открывались виды на оба голых, прямых каньона и более крупный каньон, который образовывался после их слияния. Теперь все эти борозды ограничивали то, что стало литоральным плато, а Мареотис и Темпе вместе образовали огромный полуостров древних гор, глубоко врезавшийся в новое ледяное море.
Сакс посадил свой маленький самолет на песочную полосу, тянувшуюся по вершине выступа. Ледяных равнин отсюда было не видно, как и какой-либо растительности – ни деревца, ни цветка, ни даже лишайника. Он задумался, не обесплодили ли они эти каньоны каким-то образом. Одни лишь девственные камни, слегка тронутые инеем. А с инеем они ничего не могли поделать – если только не накроют их куполом, чтобы воздух остался снаружи, не проникал внутрь.
– Хм, – промолвил Сакс, изумленный самой мыслью об этом.
Двое Красных провели его через шлюз на вершине выступа, и он спустился с ними по лестнице. Убежище оказалось почти пустым. Тем же лучше. Куда предпочтительнее было терпеть холодные взгляды двух девушек, ведущих его по грубо обтесанным каменным галереям, чем всю их команду. Интересно было подмечать особенности эстетических вкусов Красных. Большой простор (что было вполне ожидаемо), ни единого растения – лишь иные скальные текстуры: грубые стены, еще более грубые потолки, контрастирующие с отполированным базальтовым полом и блестящими окнами с видами на каньоны.
Они подошли к галерее, похожей на естественную пещеру и чуть ли не такой же ровной, как евклидовы прямые лежащего ниже каньона. Задняя стена была украшена мозаикой из кусочков цветного камня, отполированных и выложенных вплотную друг к другу, и образовала абстрактные узоры, в которых, казалось, можно было увидеть что-то реалистичное, если как следует к ним приглядеться. Пол устроен из каменного паркета – оникса, алебастра, серпентина и кровавой яшмы. А галерея все тянулась – крупная, пыльная, – целый комплекс, который, судя по всему, не использовался по назначению. Красные предпочитали свои марсоходы, а места вроде этого, очевидно, рассматривали лишь как досадную необходимость. Скрытое убежище с заставленными окнами, мимо которого посторонний мог запросто пройти и ничего не заметить. И Сакс чувствовал, что они желали не только ускользнуть от внимания ВП ООН, но и стать ненавязчивыми для самой планеты, врасти в нее.
Казалось, это и пыталась проделать Энн, занимавшая каменное сиденье у окна. Сакс резко остановился: запутавшись в мыслях, он чуть не налетел на нее, точно безрассудный путешественник, наткнувшийся на неожиданное укрытие. За окном виднелся кусок скалы, и она разглядывала этот интересный для нее камень. Сакс внимательно ее рассмотрел. Вид у нее был нездоровый. Это становилось понятно сразу, но чем дольше он на нее смотрел, тем сильнее это его тревожило. Когда-то она сказала ему, что перестала проходить процедуру омоложения. С тех пор прошло несколько лет. А в годы революции она горела, будто была пламенем. Теперь же, когда восстание Красных подавлено, – обратилась в пепел. Серая плоть. Выглядело это ужасно. Ей было около ста пятидесяти лет, как и всем выжившим из первой сотни, а без лечения… ее ждала скорая смерть.
Что ж, строго говоря, с точки зрения физиологии ей было лет семьдесят или около того – смотря когда она проходила лечение в последний раз. Так что всё не так уж плохо. Питер, наверное, знал точнее, какое у нее состояние. Но Сакс слышал, что чем больше времени проходит между приемами, тем больше вскрывается проблем. И в этом была логика. Требовалось лишь оставаться предусмотрительным.
Но сказать ей об этом он не мог. И вообще, ему было трудно думать о том, что он мог ей сказать.
Наконец она подняла взгляд. Узнав его, вздрогнула и приподняла губу, словно загнанный зверь. Затем отвернулась, лицо ее выглядело мрачным и как будто каменным. От нее не исходило ни гнева, ни надежды.
– Я хотел показать тебе кое-что на Тирренском массиве, – запинаясь, проговорил он.
Она поднялась, будто статуя, сдвинувшаяся с места, и вышла из комнаты.
Сакс, чувствуя, как его суставы трещат с псевдоартритической болью, что так часто сопровождала его встречи с Энн, последовал за ней.
За Саксом, грозно поглядывая на него, шли две девушки.
– Не думаю, что она хочет с вами разговаривать, – сообщила ему та, что повыше.
– Вы весьма наблюдательны, – ответил Сакс.
Пройдя приличное расстояние, Энн остановилась у другого окна в той же галерее – завороженная или слишком утомленная, чтобы идти дальше. А может, часть ее все-таки хотела поговорить.
Сакс остановился перед ней.
– Я хочу, чтобы ты поделилась своими впечатлениями, – сказал он. – Предположениями насчет того, что нам делать дальше. И еще у меня много вопросов по части ареологии. Конечно, может, строго научные вопросы больше тебе не интересны…
Она сделала шаг вперед и дала ему пощечину. Он почувствовал, как сползает по стене галереи и опускается на ягодицы. Энн успела скрыться из виду. Девушки, явно не зная, смеяться или охать, помогли ему подняться на ноги. У него болело все тело – даже сильнее, чем лицо. Глаза горели, чувствовалось легкое покалывание. Будто он мог заплакать перед этими двумя дурами, которые увязались за ним, неимоверно все усложнив. В их присутствии он не мог ни кричать, ни умолять, ни становиться на колени, чтобы просить у Энн прощения. Он просто не мог.
– Куда она ушла? – выдавил он.
– Она действительно не хочет с вами беседовать, – заявила высокая.
– Может, вам лучше подождать… и попробовать позже, – посоветовала вторая.
– Да заткнитесь вы! – воскликнул Сакс, чувствуя раздражение настолько сильное, будто он приходил в ярость. – Я вижу, вы просто позволили ей перестать лечиться и теперь смотрите, как она себя убивает!
– Это ее право, – заметила высокая.
– Конечно, да. Только я говорю не о правах, а о том, как должны вести себя друзья, когда кто-то ведет себя к самоубийству. На эту тему вы вряд ли сможете что-то сказать. А теперь помогите мне ее найти.
– Вы ей не друг.
– Я ей самый что ни на есть друг.
Он встал, покачнулся, пытаясь двинуться в ту сторону, куда, как он думал, ушла Энн. Одна из девушек попыталась взять его под руку. Он уклонился от ее помощи и пошел дальше. Там, поодаль, он и заметил Энн, рухнувшую в кресло в каком-то помещении, напоминающем столовую. Он приблизился к ней, замедляясь, как Аполлон в парадоксе Зенона.
Она повернулась и вперила в него взгляд.
– Если кто и бросил науку, то это ты, с самого начала, – проворчала она. – Так что не надо нести чушь о том, что она мне неинтересна!
– Это правда, – признал Сакс. – Правда. – Он протянул обе руки. – Но сейчас мне нужен совет. Научный совет. Я хочу понять. И кое-что тебе показать.
Но она, мгновение подумав, встала и снова удалилась, так быстро пройдя мимо него, так что он вопреки своей воле отступил. Он поспешил следом; ее шаг был намного шире, чем его, а двигалась она быстро, и ему пришлось чуть ли не бежать вприпрыжку, ощущая боль в костях.
– Давай выйдем на поверхность здесь, – предложил Сакс. – Даже не важно, где мы выйдем.
– Потому что вся планета загублена, – пробормотала она.
– Ты же наверняка еще выходишь иногда смотреть на закаты, – не унимался Сакс. – Может, я как-нибудь к тебе присоединюсь?
– Нет.
– Прошу, Энн… – Она ходила быстро и настолько превосходила его ростом, что ему было трудно не отставать и еще продолжать с ней говорить. Он пыхтел и задыхался, щека все еще горела. – Энн, пожалуйста…
Она не ответила и не сбавила шаг. Они уже спустились в коридор, разделявший жилые комнаты, и Энн ускорилась, чтобы войти в проем и захлопнуть за собой дверь. Сакс дернул за ручку, но она заперлась.
Не очень многообещающее начало.
Игра в кошки-мышки. Ему нужно было каким-то образом добиться того, чтобы их общение не превращалось в охоту или преследование. И все равно проворчал:
– Я так дуну, что весь твой дом разлетится! – и подул на дверь. Но затем подошли девушки и пристально на него уставились.
Через несколько дней, перед закатом, он спустился в раздевалку и надел костюм. Когда вошла Энн, он даже подскочил.
– Я как раз собирался выйти, – запинаясь, проговорил он. – Можно мне с тобой?
– Это свободная страна, – хмуро отозвалась она.
И, вместе покинув шлюз, они оказались на поверхности. Те девушки, должно быть, сильно удивились.
Ему следовало быть предельно осторожным. Естественно, хоть он и вышел с ней, чтобы показать красоту новой биосферы, лучше было не упоминать о растениях, снеге и облаках. Лучше было, если бы все это говорило само за себя. Пожалуй, в этом и состояла суть всех явлений. Невозможно рассказать о чем-то так, чтобы заставить это полюбить. Нужно выйти на место и позволить обновленной окружающей среде показать себя.
Энн никогда не была общительной и сейчас тоже говорила мало. Следуя за ней, он подумал, что они идут ее привычным маршрутом, а ему просто позволили идти рядом.
И, вероятно, ему можно было задавать вопросы – ведь в этом заключалась наука. Энн довольно часто останавливалась, чтобы рассмотреть те или иные породы. Тогда он наклонялся вместе с ней и жестом или вслух спрашивал, что она ищет. Энн носила костюмы и шлемы даже при том, что здешняя высота была незначительной и позволяла дышать лишь с помощью фильтрующей CO2 маски. Поэтому переговаривались они по старинке: голоса шептали в уши друг другу. Таким образом и передавались вопросы.
Он ее расспрашивал, а она отвечала, иногда даже подробно. Земля Темпе была настоящей Страной времени, в основании которой лежала порода, оставшаяся от южных гор и застрявшая после Большого удара далеко на северных равнинах. Впоследствии Темпе во многих местах провалилась, а литосферу вытолкнуло вверх и на юг перемещением купола Фарсида. В числе этих разломов как раз были борозды Мареотис и Темпе, которые сейчас их окружали.
И эта простирающаяся земля имела достаточно трещин, чтобы на ней могли возникнуть запоздалые вулканы, возвышающиеся теперь над каньонами. С одного высокого хребта они увидели отдаленный вулкан, походивший на черный конус, свалившийся с самого неба, а затем и другой – тот показался Саксу скорее метеоритным кратером, и он сообщил спутнице о таком своем предположении. Энн отрицательно покачала головой и указала на лавовые покровы и жерло, малозаметные под обломками изверженных пород и, пришлось это признать, наносами грязного снега, собравшимися, будто барханы, в защищенных от ветра участках и окрасившимися на закате в песочные цвета.
Видеть в ландшафте его историю, читать ее, как книгу, написанную на протяжении его долгого прошлого, – на все это Энн была способна благодаря столетиям тщательных наблюдений и исследований множества ее предшественников-ученых, благодаря ее собственной природной одаренности и любви к своему делу. Ее действительно стоило увидеть в деле, ею стоило восхищаться. У нее имелось своего рода особое средство познания, подлинное сокровище – ее любовь, выходящая за пределы науки и даже за пределы мистической науки Мишеля. Она, пожалуй, походила на алхимика. Но нет – алхимики хотели что-то изменять. Тогда, скорее, она была кем-то вроде оракула. Провидица, чье провидение было столь же сильным, что и способность Хироко. Хотя, пожалуй, ее дар был не так очевиден, менее зрелищен и менее активен. И он заключался в принятии сущего, любви к камням и всяческой деятельности во имя камней. Во имя Марса. Изначальной планеты, во всем ее совершенном великолепии, красной, покрытой ржавчиной, безмолвной, как сама смерть, и мертвой, меняющейся лишь по причине чрезвычайно медленно идущих геофизических процессов. Это было странное понятие – абиологическая жизнь, – но она существовала, если кто-то удосуживался ее замечать, эту своеобразную жизнь, несущуюся среди горящих звезд, через вселенную, совершая огромное систолическое/диастолическое движение, одно большое дыхание. На закате увидеть это почему-то было проще.
Попытаться увидеть мир глазами Энн. Украдкой поглядывать на свое запястье у нее за спиной. Камень, stone, – от древнеанглийского stan (родственные слова – они повсюду!), получившегося из протоиндоевропейского sti – голыш. Скала, rock, – от латинского rocca, происхождение неизвестно, значение – куча камней. Оторвавшись от запястья, Сакс впал в некое каменное забытье – свободное, пустое. Tabula rasa. Теперь он уже не слышал, что говорила ему Энн, – она хмыкнула и двинулась дальше. Он, смутившись, поплелся следом и, заставив себя не обращать внимание на ее недовольство, продолжил задавать вопросы.
А Энн и вправду выглядела сильно недовольной. И это в каком-то смысле обнадеживало, поскольку отсутствие чувств было бы крайне дурным знаком, но она по-прежнему казалась достаточно эмоциональной. По крайней мере, бо́льшую часть времени. Случалось, она сосредотачивалась на камнях так усиленно, что, глядя на нее, можно было подумать, что она одержима страстью, подобной страсти антиквара, и Сакса такие моменты окрыляли. А иные разы казалось, что она просто делала что-то автоматически, погружаясь в ареологию в отчаянной попытке оттеснить от себя настоящее, недавнюю историю или само отчаяние, а может, и все сразу. В такие минуты она выглядела лишенной всякой цели – не прекращала рассматривать самые любопытные формы рельефа, мимо которых они проходили, и не отвечала на вопросы о них. То немногое, что Сакс прочитал о депрессии, насторожило его: в таких случаях мало что можно было сделать, человеку следовало принимать таблетки, чтобы ее побороть, и даже это ничего не гарантировало. Но предложить ей принимать антидепрессанты было почти тем же, что и заговорить о самом лечении, так что он не мог поднимать эту тему. Да и разве отчаяние и депрессия – одно и то же?
Растений, к счастью, здесь оказалось совсем мало. Земля Темпе не походила ни на Тиррену, ни даже на склоны ледника Арена. Вот что бывало без активного ухода – мир по-прежнему состоял по большей части из скал.
Темпе находилась на небольшой высоте, здесь был влажный климат, а всего в паре километров на севере и востоке начинался ледяной океан. И над всем южным берегом нового моря пролегали разные маршруты многочисленных «Джонни Яблочное Зернышко», бывшие частью проекта «Биотик», запущенного несколько десятилетий назад, когда Сакс попал в Берроуз. Поэтому, если хорошенько присмотреться, можно было увидеть лишайники. И участки каменистой пустыни. И несколько кривых деревьев, наполовину засыпанных снегом. Все эти растения – за исключением лишайников, разумеется, – страдали в этот период смены северного лета на зиму. Здесь уже ощущалась миниатюрная осень в оттенках мелких листьев вцепившейся в землю кёнигии, крошечных лютиков и, да, арктической камнеломки. Краснеющие листья служили своего рода маскировкой на фоне янтарных пород, и Сакс частенько замечал растения только тогда, когда наступал на них. И, разумеется, поскольку он вообще не хотел привлекать к ним внимания Энн, то, наступая на них, он лишь бросал быстрый оценивающий взгляд и шел дальше.
Они взобрались на торчащий холмик, возвышающийся над каньоном к западу от убежища, и увидели: великое ледяное море, все в оранжевых и медных оттенках. Заняв долину одним огромным махом, оно образовало собственный гладкий горизонт, тянущийся от юго-запада к северо-востоку. Изо льда торчали обточенные столовые горы, напоминавшие морские утесы скальных островов. Эта часть Темпе должна была стать воистину одним из самых впечатляющих побережий Марса, где нижние края некоторых борозд, заполнившись, превратятся в длинные фьорды или лохи. А один прибрежный кратер находился прямо на уровне моря и размыкался с его стороны, образуя идеальную круглую бухту километров в пятнадцать поперек и с двухкилометровым входным фарватером. Дальше на юге обточенная земля у подножия Большого Уступа должна была создать настоящий Гебридский архипелаг, многие острова которого были бы видны с утесов большой земли. Да, впечатляющее побережье. Это уже сейчас можно заметить, если взглянуть на разломы ледяного покрова в закатном свете.
Но, конечно, об этом не стоило говорить вслух. И вообще нельзя было упоминать ни лед, ни зазубренные ледяные скалы, разбросанные по новому берегу. Эти скалы сформировались в результате процесса, о котором Сакс не знал. Хоть это и было ему любопытно, но обсуждать это он также не мог. Он мог лишь хранить молчание, как человек, нечаянно забредший на кладбище.
Смущенный, Сакс опустился на колени, чтобы рассмотреть тибетский ревень, на который он едва не наступил. Маленькие красные листочки в соцветиях на красном стебле.
Энн заглянула через его плечо:
– Завял?
– Нет.
Он оторвал несколько мертвых листьев с наружной части соцветия, показав ей, что ниже росли более яркие.
– Они уже твердеют к зиме. Их обманула потеря света. – И, будто говоря с самим собой, Сакс продолжил: – Вообще многие растения погибнут. По ночам сейчас происходит тепловой переворот, – то есть температура воздуха опускается ниже температуры земли. – Это серьезное вымерзание. И то растения переносят его лучше, чем переносили бы животные. Насекомые тоже на удивление хорошо справляются, учитывая, что они – просто маленькие емкости с жидкостями. У них есть криопротекторы. Думаю, они способны пережить что угодно.
Энн все еще изучала растение, поэтому Сакс замолчал. «Оно живо, – хотел сказать он. – А поскольку все элементы биосферы зависят от существования друг друга, то оно и часть тебя, твоего тела тоже. Как ты можешь его ненавидеть?»
Но опять же – она даже не проходила лечение.
Ледяное море выглядело разбитой гладью бронзовых и коралловых оттенков. Солнце уже садилось, им пора было возвращаться. Энн выпрямилась и начала уходить, превратившись в безмолвный черный силуэт. Он мог говорить ей прямо в ухо, даже теперь, когда она отдалилась на сто метров, а затем и на двести. Она стала маленькой темной фигуркой посреди огромного простора планеты. Но он не стал этого делать: это было бы нарушением ее одиночества, почти что вторжением в ее мысли. И все же он жаждал сказать ей: «Энн, Энн, о чем ты думаешь? Поговори со мной, Энн. Поделись своими мыслями».
Сильное, острое, как боль, желание с кем-то поговорить – вот что чувствуют люди, когда говорят о любви. Вернее, это то, что Сакс подразумевал под любовью. Просто чрезмерно усиленная жажда поделиться мыслями. Только и всего. О, Энн, пожалуйста, поговори со мной.
Но она с ним не разговаривала. Казалось, растения не впечатляли ее так, как его. Казалось, она действительно питала отвращение к ним, к этим мелким отметинам на ее теле, будто viriditas – зелень – была не более чем язвой, обрекавшей камень на страдания. И это даже несмотря на то, что в утолщающихся снежных наносах растения уже были едва видны. Опускалась темнота, прямо над темно-медным морем разыгрывалась буря. Мшистый коврик, заросшая лишайником поверхность камня… Но по большей части она оставалась такой же каменной, какой была всегда. И тем не менее…
Потом, когда они входили в шлюз убежища, Энн упала в обморок. Падая, она ударилась головой о дверной косяк. Сакс подхватил ее, когда она приземлялась на скамью у внутренней стены. Она была без сознания, и Сакс наполовину занес ее, наполовину затащил в шлюз. Затем закрыл наружную дверь, закачал воздух из шлюзовой камеры и протащил Энн через внутренний проем в раздевалку. Должно быть, он кричал на общей частоте, потому что ко времени, когда он снял с нее шлем, в помещении оказалось человек пять или шесть Красных – больше, чем он видел в этом убежище до этого. Одна из девушек, что мешали ему вначале, та, что пониже ростом, оказалась медиком, и, когда Энн положили на роликовый стол, который можно было использовать как каталку, эта девушка провела их в медкорпус и там взялась руководить остальными. Сакс, стремясь помочь, трясущимися руками стянул прогулочные ботинки с длинных ног Энн. Его пульс – он проверил на запястье – отбивал 145 ударов в минуту, ему было жарко, кружилась голова.
– У нее инсульт? – спросил он. – Инсульт?
Врач удивилась.
– Не думаю. Она упала в обморок, а потом ударилась головой.
– Но почему она упала в обморок?
– Не знаю.
Она посмотрела на высокую девушку, сидевшую у двери. Сакс понял, что они были главными в этом убежище.
– Энн дала нам указание, чтобы мы не подключали ее к каким-либо аппаратам поддержания жизни, если она потеряет дееспособность, как сейчас.
– Ну уж нет, – возразил Сакс.
– Это было очень четкое указание. Она нам запретила. Причем в письменном виде.
– Вы сделаете все, что можете, чтобы сохранить ей жизнь, – резко, с надрывом проговорил Сакс. Все, что он говорил после обморока Энн, удивляло его самого: он наблюдал за своими действиями так же, как остальные. Затем услышал свой голос: – Это не значит, что вы должны оставлять ее на аппаратах, если она не очнется сама. Нужно просто выполнить разумный минимум, чтобы убедиться, что она не умрет из-за какой-то мелочи.
Врач негодующе закатила глаза в ответ на такое объяснение, но высокая девушка, похоже, задумалась.
Сакс услышал, как он продолжил:
– Я сам пролежал так четыре дня и теперь рад, что никто не решил отключить аппараты. Это ее решение, а не ваше. Любой, кто захочет умереть, может сделать это, не заставляя врача нарушать клятву Гиппократа.
Врач закатила глаза с еще более презрительным видом. Но, переглянувшись с коллегой, повезла Энн к койке жизнеобеспечения. Сакс помог ей. Затем она включила медицинский компьютер и сняла с Энн прогулочник. Стройная пожилая женщина – теперь она дышала с кислородной маской на лице. Высокая девушка поднялась со своего места и стала помогать врачу. Сакс отошел и сел. Его собственные симптомы удивительно набрали силу; они выражались в основном жаром и чрезмерно учащенным дыханием, а от боли ему хотелось плакать.
Спустя некоторое время врач подошла к нему и сказала, что Энн впала в кому. Ее обморок был вызван прежде всего небольшим нарушением сердечного ритма. Но теперь состояние было стабильным.
Сакс остался сидеть в палате. Много позже врач вернулась. На наручной консоли Энн осталась запись быстрого нерегулярного сердцебиения в момент, когда она потеряла сознание. Но и сейчас у нее сохранялась небольшая аритмия. И, вероятно, кислородное голодание или сотрясение мозга – или, может, и то, и другое, – в итоге привело к коме.
Сакс спросил, что конкретно представляет собой кома, и испытал щемящее чувство, когда врач пожала плечами. Очевидно, это был обобщающий термин, которым означались различные бессознательные состояния. Зрачки неподвижны, тело невосприимчиво, иногда застывшее в декортикационных позах. Левые рука и нога Энн были согнуты. И, конечно, потеря сознания. Иногда проявлялись остатки различных реакций, например сжимание кистей рук. Продолжительность комы существенно колебалась. Бывало, что из нее так и не выходили.
Сакс не поднимал взгляда от своих рук, пока врач не оставила его. Он так и просидел, пока не вышли остальные. Лишь тогда поднялся и подошел к Энн, заглянул в ее скрытое маской лицо. Ничего нельзя было поделать. Он взял ее за руку – но она за него не схватилась. Коснулся ее головы, как Ниргал, по рассказам, касался его, когда он лежал без сознания. Но, казалось, все это бесполезно.
Он подошел к экрану компьютера и запустил программу диагностики. Открыл клинические данные Энн, просмотрел записи кардиомонитора до инцидента в шлюзе. Небольшая аритмия, действительно; быстрый, нерегулярный график. Он загрузил данные в программу диагностики и сам обнаружил аритмию. На графике было заметно множество отклонений сердечного ритма, но, судя по всему, Энн могла иметь генетическую предрасположенность к нарушению, известному как синдром удлиненного интервала QT, который характеризовался патологически длинными волнами на электрокардиограмме. Он вывел на экран геном Энн и запустил поиск третьей, седьмой и одиннадцатой хромосом в соответствующих участках. В гене под названием HERG, содержавшемся в седьмой хромосоме, компьютер выявил небольшую мутацию – перестановку пар аденин-тимин и гуанин-цитозин. Это была мелочь, но HERG содержал инструкции для сбора белков, служивших калиево-ионным каналом для поверхности сердечных клеток, а эти каналы играли роль переключателя сокращающихся сердечных клеток. Если такие клетки не отключались, нарушался сердечный ритм и сердце начинало биться слишком быстро, чтобы эффективнее перекачивать кровь.
Кроме того, у Энн имелась еще одна проблема – в третьей хромосоме, с геном под названием SCN5A. В нем был закодирован другой регуляторный белок, служивший для поверхности сердечных клеток натриево-ионным каналом. Этот канал действовал как ускоритель, и его мутации могли усугубить учащенное сердцебиение. А у Энн недоставало пары цитозин-гуанин.
Такие наследственные заболевания встречались редко, но для программы диагностики это не составляло проблемы. В этой программе заложена симптоматология всех известных заболеваний независимо от степени их распространения. Случай Энн, похоже, был довольно простым, и программа содержала способы его лечения. И их было много.
Один из вариантов предполагал перекодировку проблемных генов в процессе стандартной геронтологической терапии. Постоянные перекодировки в ходе нескольких сеансов должны начисто, до самого основания стереть корень проблемы. Казалось странным, что она не стерлась до сих пор, но затем Сакс заметил, что эта рекомендация появилась всего двадцать лет назад – уже после того, как Энн лечилась в последний раз.
Сакс долго просидел вот так, пялясь в экран. Лишь много позже поднялся и начал осматривать медкорпус Красных, аппарат за аппаратом, палату за палатой. Здешние работники позволяли ему тут бродить – думали, что он с горя лишился рассудка.
Это было главное убежище Красных, и здесь наверняка должно было стоять оборудование, которое требовалось, чтобы провести процедуру омоложения. Так и оказалось. В дальнем конце медкорпуса находилось небольшое помещение, полностью посвященное этому процессу. Для этого требовалось не много: громадный компьютер, небольшая лаборатория, запасы протеинов и реагентов, термостаты, МРТ, капельницы. Поразительно, чего со всем этим можно было добиться! И ведь так во всем! Сама жизнь была поразительна: начавшись с простых последовательностей белков, развилась до того, до чего развилась.
Итак. Запись генома Энн хранилась в главном компьютере. Но если он даст команду начать синтез ее цепочки ДНК (добавив записи HERG и SCN5A), кто-нибудь из персонала обязательно это заметит. И тогда хлопот не оберешься.
Он вернулся в свою комнатку, чтобы сделать кодированный звонок в Да Винчи. Попросил коллег начать синтез, и те согласились, не спрашивая ни о чем, кроме технических деталей. Порой он любил саксоклонов до глубины души.
Затем оставалось только ждать. Шли часы, много-много часов. Наконец, минуло несколько дней, однако состояние Энн не изменилось. Лицо врача мрачнело все сильнее, хотя об отключении она больше не заговаривала. Тем не менее мысль об этом читалась во взгляде. Сакс привык спать на полу в палате Энн. Он изучил ритм ее дыхания и проводил много времени, положив руку ей на голову, как, по словам Мишеля, проделывал с ним Ниргал. Он сильно сомневался, что это могло кого-либо от чего-либо излечить, но все равно продолжал это делать. Подолгу просиживая в такой позе, он задумывался о процедуре повышения пластичности мозга, которое Влад и Урсула применили на нем после его инсульта. Конечно, его случай разительно отличался от комы Энн, но изменение разума могло стать и благом, если этот разум страдал от боли.
Прошло еще какое-то время без изменений, и теперь каждый день тянулся медленнее и бессодержательнее предыдущего и вселял все больше страха. В термостатах в лаборатории Да Винчи уже давно был готов полный набор исправленных участков цепочки ДНК Энн, а также средства для десенсибилизации и вяжущие вещества – то есть весь комплект омоложения в последней конфигурации.
Однажды ночью он позвонил Урсуле и провел с ней долгую беседу. Она отвечала на вопросы спокойно, даже несмотря на то, что его намерения были ей не по душе.
– Комплекс синаптического стимулирования, который мы применили на тебе, в неповрежденном мозге вызовет чрезмерно активный синаптический рост, – твердо заявила она. – Он изменит личность, и неизвестно, что она будет из себя представлять.
«Он сотворит безумца вроде тебя самого», – говорил ее встревоженный взгляд.
И Сакс решил исключить синаптические добавки. Спасти жизнь Энн – одно дело, но изменить разум – совсем другое. Произвольные изменения все равно не были конечной целью. В отличие от приятия. От счастья – истинного счастья Энн, в чем бы оно ни заключалось, – которое казалось теперь таким далеким, таким невообразимым. Ему было больно об этом думать. Поразительно, какую сильную физическую боль могли принести мысли – лимбическая система заключала в себе целую вселенную, наполненную болью, подобно тому, как темная материя заполняет все в нашей вселенной.
– Ты говорил с Мишелем? – спросила Урсула.
– Нет, но это мысль!
Он позвонил Мишелю, рассказал, что случилось и что он собирался предпринять.
– Господи, Сакс, – отозвался потрясенный Мишель. Но уже спустя несколько мгновений пообещал прилететь. И собирался уговорить Десмонда, чтобы тот доставил его в Да Винчи, где Мишель хотел взять все необходимое для лечения и, наконец, прибыть в убежище.
И так Сакс продолжал сидеть в палате Энн, положив руку ей на голову. На ее шишковатый череп, который, несомненно, привел бы в восторг любого френолога.
Потом прилетели Мишель и Десмонд, его братья, и встали рядом с ним. Была там и врач, сопровождавшая их, и высокая девушка, и другие люди, поэтому им приходилось общаться лишь взглядами либо их отсутствием. Тем не менее они прекрасно понимали друг друга. На лице Десмонда все читалось предельно ясно. Они привезли комплект омоложения Энн с собой. Оставалось лишь выждать нужный момент.
И он наступил довольно скоро. Поскольку кома Энн уже стала привычным делом, жизнь в маленькой больнице протекала по заведенному порядку. Прохождение процедуры омоложения в состоянии комы, однако, не было изучено до конца, и Мишель просматривал литературу, но данные были скудны. Ранее она применялась в экспериментальном порядке в нескольких случаях и приводила к пробуждению почти в половине из них. Именно поэтому Мишель сейчас считал это хорошей идеей.
И вот, вскоре после их прибытия, они втроем встали среди ночи и, пройдя на цыпочках мимо спящей дежурной сестры, проникли в приемную медкорпуса. Медицинская практика всегда утомляла, и дежурная сестра крепко спала, неуклюже развалившись на стуле. Сакс и Мишель подключили Энн к капельницам, воткнув иглы ей в вены на тыльных сторонах ладоней. Они делали все медленно, аккуратно, точно. И тихо. Вскоре все было готово, и новые белковые нити потянулись ей в кровь. Затем ее дыхание начало сбиваться, и Саксу стало жарко от страха. Он тихонько застонал. Ему было спокойнее оттого, что Мишель и Десмонд были рядом, держа его за руки и не давая ему упасть, но он безумно хотел, чтобы здесь оказалась Хироко. Она бы со всем справилась, он был в этом уверен. И от этой мысли ему стало легче. Да и вообще, он делал это в том числе из-за Хироко. Но ему хотелось ее поддержки, ее физического присутствия. Он желал, чтобы она вдруг пришла на помощь, как на равнине Дедалии. Чтобы спасла Энн. Она была мастером настолько диких и безответственных экспериментов над людьми, что нынешний был бы для нее сущим пустяком.
Когда процесс завершился, они вынули иглы и убрали оборудование. Дежурная так и спала, приоткрыв рот, точно маленькая девочка, которой она, в сущности, и была. Энн все еще лежала без сознания, но, как заметил Сакс, дышать она стала уже легче. И интенсивнее.
Они втроем стояли и смотрели на Энн. Затем выскользнули прочь и прокрались обратно в коридор к своим комнатам. Десмонд дурачился, танцуя на носочках, а остальные двое пытались его утихомирить. Вернувшись в кровати, они не могли ни уснуть, ни разговаривать и лишь молча лежали, как братья в поздний час в большом доме после успешней ночной вылазки.
На следующее утро к ним зашла врач.
– Ее основные показатели улучшились.
Все трое просияли.
Позднее, в столовой, Саксу хотелось рассказать Мишелю и Десмонду о том, как он увиделся с Хироко. Для них эта новость значила бы больше, чем для кого-либо еще. Но что-то в душе Сакса протестовало, не позволяя рассказать им о встрече. Он боялся показаться чересчур возбужденным и даже помешанным. Вспоминая минуту, когда Хироко оставила его в марсоходе и исчезла посреди бури, он не знал, что об этом думать. Проводя долгие часы рядом с Энн, он много размышлял и читал, так что теперь знал, что на Земле скалолазы, оказавшиеся одни на большой высоте и страдающие от недостатка кислорода, нередко страдают галлюцинациями и видят своих товарищей. Своего рода двойников. Может, и Сакса тоже спас призрак. Ведь его кислородная трубка частично забилась.
– Думаю, Хироко сделала бы то же самое, – сказал он.
Мишель кивнул.
– Это было дерзко, на самом деле. В ее стиле. Нет, не пойми меня неправильно: я рад, что ты это сделал.
– И чертовски вовремя, скажу я тебе, – добавил Десмонд. – Кому-нибудь стоило связать ее и заставить пройти лечение много лет назад. Ох, Сакс, Сакс… – Он счастливо рассмеялся. – Я надеюсь только, она не сбрендит так же, как ты.
– Но у Сакса был инсульт, – заметил Мишель.
– Ну, – Сакс решил внести полную ясность, – я и до этого был немного эксцентричен.
Оба его друга молча кивнули. Они были в превосходном настроении, хотя ситуация еще не разрешилась до конца. Затем явилась высокая девушка и сообщила: Энн вышла из комы.
Сакс почувствовал, что его желудок так сжался, что не мог принять пищу, но тут же заметил, как его рука переложила ему на тарелку несколько тостов с маслом. Даже, скорее, загребла.
– Но она будет очень зла на тебя, – сказал Мишель.
Сакс кивнул. Увы, возможно. И даже вероятно. Дурная мысль. Он не хотел, чтобы Энн опять его ударила. Или, что еще хуже, отказалась с ним общаться.
– Тебе стоит полететь с нами на Землю, – предложил Мишель. – Мы с Майей летим вместе с делегацией. И с Ниргалом.
– На Землю отправляют делегацию?
– Да, кто-то предложил, и это показалось хорошей мыслью. Нам нужно, чтобы на Земле были наши представители, которые будут вести с ними диалог. А к тому времени, как мы вернемся обратно, Энн успеет хорошенько все обдумать.
– Любопытно, – сказал Сакс, чувствуя облегчение от мысли, что может сбежать из этой ситуации. Его даже испугало, как быстро он смог подобрать десяток весомых причин отправиться на Землю. – Но что с Павлином и со всей этой конференцией?
– Мы можем участвовать в ней по видеосвязи.
– Точно. – Именно так он всегда и участвовал.
План выглядел заманчиво. Сакс не хотел бы оказаться здесь, когда Энн проснется. Или, скорее, когда она узнает, что он сделал. Конечно, он струсил.
– Десмонд, а ты летишь?
– Ну уж хренушки!
– Но ты говоришь, летит Майя? – спросил Сакс Мишеля.
– Да.
– Хорошо. В последний раз, когда я… я… я пытался спасти жизнь женщине, Майя ее убила.
– Что? Кого, Филлис? Ты спасал жизнь Филлис?
– Ну… не совсем. То есть я пытался, но, прежде всего, я же подверг ее опасности. Так что, пожалуй, это не считается. – Он попытался объяснить, что случилось той ночью в Берроузе, но получилось не очень. У него самого были лишь смутные воспоминания, не считая определенных ярких моментов ужаса. – Ладно, забудьте. Просто подумалось. Не стоило говорить. Я…
– Ты пытался, – сказал Мишель. – Но не беспокойся. Майя будет далеко отсюда, да еще и под твоим надзором.
Сакс кивнул. Идея казалась ему все лучше и лучше. Дать Энн время остыть, обдумать, понять. Хотелось на это надеяться. И конечно, интересно было увидеть своими глазами нынешнее состояние Земли. Чрезвычайно интересно. Настолько интересно, что ни один здравомыслящий человек не упустил бы такой возможности.
Часть третья Новая конституция
Муравьи появились на Марсе в рамках проекта по созданию почвы и, как им свойственно, быстро распространились по всей планете. Тогда маленькие красные человечки впервые столкнулись с муравьями, и те привели их в изумление. Эти создания были подходящего размера для езды верхом – их встреча напоминала ту, когда коренные американцы впервые увидели лошадь. Стоило их приручить…
Одомашнивание муравьев было делом непростым. Маленькие красные ученые даже не верили в возможность существования подобных созданий из-за несоответствия площади поверхности и объема, но вот они – неуклюже вышагивают, будто разумные роботы. Так что ученым пришлось искать им объяснение. За помощью они обратились в человеческие справочники и углубились в эту тему. Они узнали об их феромонах и синтезировали муравьев, необходимых для контроля над муравьями-солдатами, относящимися к особенно мелким и послушным видам красных муравьев. И так они приступили к делу. Создали маленькую красную кавалерию. Всюду весело ездили на муравьиных спинах, по двадцать-тридцать человечков на одном муравье, как паши на слонах. Если вблизи присмотреться к муравью, то можно их увидеть, прямо на самом верху.
Но маленькие красные ученые продолжали читать тексты и узнали о человеческих феромонах. И, вернувшись к остальным маленьким красным человечкам, они трепетали от страха.
– Мы узнали, почему от этих людей столько бед, – доложили они. – Их воля не сильнее, чем у этих муравьев, на которых мы катаемся. Они – просто гигантские мясные муравьи.
Маленькие красные человечки попытались осознать эту иронию жизни.
Затем голос произнес:
– Нет, они не такие, не все. – Видите ли, маленькие красные человечки общались телепатически, и это прозвучало как объявление по телепатическому громкоговорителю. Голос продолжил: – Люди – существа духовные.
– Откуда ты знаешь? – телепатически спросили маленькие красные человечки. – Кто ты? Призрак Джона Буна?
– Я Гьяцо Ринпоче, – ответил голос. – Восемнадцатая реинкарнация Далай-ламы. Я путешествую по бардо[10] в поиске следующей реинкарнации. Я облетел всю Землю, но не нашел того, что искал, и решил поискать в каком-нибудь новом месте. Тибет все еще находится под властью Китая, и нет никаких признаков ближайших перемен. Китайцы, хоть я нежно их люблю, – жадные мерзавцы. А другие правительства мира уже давно отвернулись от Тибета. Так что никто не дерзнет бросить Китаю вызов. Но сделать что-то необходимо. Поэтому я прибыл на Марс.
– Хорошая мысль, – сказали маленькие красные человечки.
– Да, – согласился Далай-лама, – но я должен признать, что испытываю трудности с поиском нового тела для переселения. Здесь, во-первых, вообще мало детей. И потом, судя по всему, никому это не интересно. Я искал в Шеффилде, но там все были слишком заняты, чтобы разговаривать. Я был в Сабиси, но там все попрятали головы в песок. Я был в Элизии, но все сели в позу лотоса и не смогли подняться. Я был в Кристианаполисе, но там у всех другие планы. Я был в Хираньягарбхе, но там мне сказали, что они уже и так достаточно сделали для Тибета. Я обошел все на Марсе – каждый шатер, каждую станцию, и всюду люди оказались слишком заняты. Никто не хочет быть девятнадцатым Далай-ламой. А в бардо становится все холоднее.
– Удачи тебе, – сказали маленькие красные человечки. – Мы сами еще с тех пор, как умер Джон Бун, искали хоть кого-нибудь достойного для разговора, не говоря уже о том, чтобы найти живого внутри человека. У этих больших людей все наперекосяк.
Далай-лама расстроился, услышав это. Он уже очень устал и не мог долго оставаться в бардо. И он спросил:
– А как насчет кого-нибудь из вас?
– Да, конечно, – ответили маленькие красные человечки. – Сочтем за честь. Только это должны быть все мы сразу. Мы все делаем вместе.
– Почему бы нет? – сказал Далай-лама и переселился в одно из маленьких красных пятнышек, и в тот же миг оказался в каждом из них, по всему Марсу.
Маленькие красные человечки посмотрели на людей, грохочущих над их головами.
Раньше они принимали это зрелище за какой-то плохой фильм на широком экране, а сейчас обнаружили, что их наполняло сострадание и мудрость всех восемнадцати предыдущих жизней Далай-ламы.
– Ка вау, – сказали они друг другу. – У этих людей и правда все наперекосяк. Мы и раньше думали, что у них плохи дела, но вы только посмотрите: все даже хуже, чем мы думали. Их счастье, что они не умеют читать чужие мысли, не то они бы друг друга поубивали. Вот почему они, должно быть, друг друга убивают – знают, о чем думают сами, и из-за этого подозревают всех остальных. Какое безобразие! Какая печаль!
– Им нужна ваша помощь, – проговорил Далай-лама из их нутра. – Возможно, вы сумеете им помочь.
– Может быть, – ответили маленькие красные человечки. Если честно, они в этом сомневались. Они пытались помочь людям, с тех пор как умер Джон Бун, выстроили целые города в каждом ухе на планете и непрерывно говорили, очень похоже на Джона Буна, стараясь разбудить людей и заставить их достойно себя вести. Но это не возымело никакого действия кроме того, что люди стали обращаться к специалистам по заболеваниям ушей, горла и носа. Многие на Марсе думали, что у них шум в ушах, и никто не смог понять маленьких красных человечков. Такой отклик отбивал всякое желание помогать.
Но сейчас, когда в них вселился сострадательный дух Далай-ламы, они решили попробовать еще раз.
– Пожалуй, теперь шепотом в ушах нам не обойтись, – заметил Далай-лама, и они согласились. – Нам нужно привлечь их внимание как-нибудь иначе.
– Вы пробовали общаться с ними телепатией? – спросил Далай-лама.
– О нет, – ответили они. – Ни за что. Слишком страшно. Безобразность их мыслей убьет нас на месте. Или как минимум доведет до болезни.
– Не обязательно, – сказал Далай-лама. – Может быть, если вы заблокируете свое восприятие их мыслей и будете лишь излучать свои мысли на них, то обойдется. Просто пошлите им хороших размышлений, вроде луча с советом. Попробуйте внушить им сострадание, любовь, покладистость, мудрость и даже чуточку здравого смысла.
– Мы попробуем, – сказали маленькие красные человечки. – Но нам придется кричать на пределе телепатических способностей, всем хором, иначе они просто не станут слушать.
– Я боролся с этим девять столетий, – сказал Далай-лама. – Вы привыкнете. К тому же у вас есть численное преимущество.
И по всему Марсу маленькие красные человечки, все разом, посмотрели вверх и сделали глубокий вдох.
Арт Рэндольф переживал самый счастливый период в своей жизни.
Совсем не как во время битвы за Шеффилд – то была катастрофа, провал дипломатии, крах всего, к чему он стремился. Это были печальные несколько дней, на протяжении которых он, не зная сна, пытался встретиться с каждой группой, которая, по его мнению, могла помочь разрешить кризис. Тогда он постоянно чувствовал себя виноватым, полагал – сделай он все как надо, катастрофы не случилось бы. От этой битвы Марс едва не вспыхнул, как в 2061-м, а в те часы, что продолжалась атака Красных, казалось, весь мир пошатнулся.
Но все же устоял. Что-то – дипломатия, реалии битвы (победа защитников провода), здравый смысл, чистая случайность, – что-то удержало мир на краю пропасти.
Спустя какое-то время после этого кошмара люди в задумчивом настроении вернулись в Восточный Павлин. Им стали ясны последствия краха. Нужно было согласовать новый план. Многие из Красных радикалов погибли или сбежали в необжитые районы, и в Восточном Павлине остались умеренные Красные, пусть и сердитые, но хотя бы остались. Это было неуютное и неопределенное время.
И Арт снова поднял мысль созвать конституционный конгресс. Он носился под сенью огромного купола по лабиринту промышленных складов и бетонных общежитий, по широким улицам, заставленных тяжелыми передвижными средствами, достойными выставляться в музее, и повсюду призывал к одному и тому же: принять конституцию. Он говорил с Надей, Ниргалом, Джеки, Зейком, Майей, Питером, Ариадной, Рашидом, Тарики, Нанао, Сунгом и Х. К. Боразджани. Он говорил с Владом, Урсулой, Мариной и Койотом. Говорил с десятками молодых уроженцев Марса, с которыми не был знаком до этого, но каждый из них играл важную роль в недавних беспорядках; их оказалось так много, что нескончаемый поток его собеседников походил на демонстрацию многоглавой природы общественных движений. И каждой голове этой новой гидры Арт твердил одно и то же:
– Конституция узаконит нас перед Землей и даст нам основу для урегулирования разногласий между собой. А поскольку мы все собрались, мы можем начать прямо сейчас. Кое у кого уже есть готовые планы, которые можно рассмотреть.
И, памятуя о событиях прошедшей недели, люди кивали и говорили:
– Может, и так, – и удалялись в размышлениях.
Арт позвонил Уильяму Форту и рассказал ему, чем занимается, и позже в тот же день получил ответ. Старик находился в новом городе беженцев, в Коста-Рике, и выглядел так же отстраненно, как всегда.
– Звучит неплохо, – сказал он.
Потом с Артом ежедневно связывались люди из «Праксиса», чтобы узнать, чем они могут помочь все устроить. У него появилось столько дел, сколько не было никогда. Он занимался тем, что японцы называют «нэмаваси», подготовкой к событию, – инициировал собеседования организационной группы, снова посещал всех, с кем общался до этого, по сути, стараясь поговорить с каждым, кто присутствовал на горе Павлина.
– Метод Джона Буна, – заметил Койот со своим надтреснутым смешком. – Удачи!
Сакс, собирая свои скромные пожитки в дипломатическую миссию на Землю, посоветовал:
– Тебе стоит пригласить ООН.
Его приключение в бурю слегка затуманило его рассудок: он озирался, будто оглушенный ударом по голове. Арт вежливо ответил:
– Сакс, мы только что изрядно помучились, чтобы выпихнуть их задницы с планеты.
– Да, – произнес Сакс, глубокомысленно пялясь в потолок. – А теперь посотрудничай с ними.
– Сотрудничать с ООН? – Арт вдруг задумался. Эта мысль определенно звучала заманчиво. С дипломатической же точки зрения она была настоящим вызовом.
Перед самым отбытием послов на Землю Ниргал заглянул в офис «Праксиса», чтобы попрощаться. Когда Арт обнял молодого друга, его внезапно охватил необъяснимый страх. Тот улетал на Землю!
Ниргал выглядел таким же беспечным, как всегда, его темно-карие глаза сияли – он был настроен оптимистично, с радостью ждал перелета. Попрощавшись с остальными в приемной, он сел с Артом в пустом углу склада.
– Уверен, что хочешь этого? – спросил Арт.
– Более чем. Хочу увидеть Землю.
Арт взмахнул рукой, не зная, что сказать.
– К тому же, – добавил Ниргал, – кто-то должен отправиться туда и показать им, кто мы такие.
– Лучше тебя никто этого не сделает, мой друг. Только остерегайся наднационалов. Кто знает, что они могут выкинуть. И осторожнее с плохой едой – в местах, где было наводнение, наверняка есть проблемы с санитарией. И с переносчиками инфекций. И смотри не получи солнечный удар – у тебя должна быть очень высокая чувствительность…
Тут вошла Джеки Бун. Арт прервал читать свою памятку туристу – Ниргал все равно его больше не слушал, а смотрел на Джеки, смотрел с бессмысленным выражением лица, будто надел маску. Разумеется, он состроил эту гримасу сознательно, ведь основное свойство его настоящего лица – эмоциональность, подвижность. А теперь он совсем перестал походить на самого себя.
Джеки, конечно, тут же это заметила. Отвергнутая любовница… Она буквально сверлила его взглядом. Что-то пошло не так, заметил Арт. Они оба забыли об Арте, который, чувствуя себя так, будто схватился за молниеотвод в разгар грозы, ускользнул бы из комнаты, если бы мог. Но Джеки стояла в проеме, и Арту не хотелось тревожить ее в эту минуту.
– Значит, ты нас покидаешь, – сказала она Ниргалу.
– Это просто поездка.
– Но зачем? Зачем сейчас? Теперь Земля ничего для нас не значит.
– Мы все оттуда родом.
– Нет. Мы родом из Зиготы.
Ниргал покачал головой.
– Земля – наша родная планета. Мы же ее продолжение. С этим нужно считаться.
Джеки то ли презрительно, то ли недоуменно отмахнулась:
– Ты уезжаешь именно тогда, когда ты нужнее всего здесь!
– Расценивай это как возможность.
– Непременно, – бросила она. Она рассердилась на него. – Только тебе это не понравится.
– Зато ты получишь все, что хочешь.
– Ты не знаешь, чего я хочу! – вспыхнула она.
У Арта вздыбились волосы на шее: молния вот-вот ударит. По своей природе он был весьма любопытен, даже любил подслушивать, но стоять вот так в центре «разборки» и за всем наблюдать – совсем другое дело, некоторых вещей ему просто не хотелось видеть. Он непроизвольно закашлялся. Ниргал и Джеки вздрогнули и уставились на него. Сокрушенно махнув рукой, он боком протиснулся в проем, частично перекрытый Джеки, и выскочил за дверь. За спиной у него вновь послышались голоса – гневные, обличительные, исполненные боли и недоуменной ярости.
Старательно вглядываясь сквозь лобовое стекло, Койот вез послов на юг, к лифту. Арт сидел рядом. Они не спеша катились по разбитым поселениям, соседствующим с Гнездом, в юго-западной части Шеффилда, где улицы были рассчитаны на то, чтобы перевозить по ним огромные грузовые краны, из-за чего все здесь казалось зловеще шпееровским[11], исполинским, нечеловеческим. Сакс в который раз объяснял Койоту, что поездка на Землю не помешает делегатам участвовать в конституционном конгрессе, что они подключатся по видео и ничего не пропустят.
– Мы будем на Павлине, – сказал Сакс. – Во всех смыслах, что имеют значение.
– Значит, на Павлине будут все, – зловеще произнес Койот. Ему не нравилось, что на Землю отправляются Сакс, Майя, Мишель и Ниргал, как не нравился и конституционный конгресс. В последнее время ничто его не радовало, он был сам не свой, дергаясь и раздражаясь. «Мы еще не слезли с деревьев, – говорил он. – Попомните мои слова».
Затем Гнездо возникло перед ними, показался черный блестящий провод, тянущийся из массы бетона, словно гарпун, брошенный на Марс силами Земли и не отпускающий его. Пройдя идентификацию, они въехали на территорию комплекса и спустились по прямому проезду к огромному отсеку в центре, где провод проходил сквозь воротник Гнезда и нависал над сетью трасс, пересекающих пол. Провод был так тонко сбалансирован на своей орбите, что совсем не касался Марса, а просто висел: его конец десятиметровым диаметром парил в середине помещения, и воротник в крыше не более чем стабилизировал его; в остальном же его позиционирование возлагалось на ракеты, установленные по его длине, и, что еще существеннее, на центробежные силы и гравитацию, державшую его на ареосинхронной орбите.
Ряд лифтовых кабин парил в воздухе так же, как сам провод, но по другой причине: они были подвешены с помощью электромагнита. Одна из них висела над подъездом к проводу и цеплялась к трассе, проложенной к его западной стороне, и теперь бесшумно двинулась вверх и исчезла, проскочив через задвижку в воротнике.
Делегаты и их провожающие выбрались из машины. Ниргал выглядел отрешенным, мыслями уже в пути, Майя и Мишель были возбуждены, Сакс казался таким же, как всегда. Они по очереди обняли Арта и Койота – вытягиваясь до первого, пригибаясь ко второму. Какое-то время они говорили все одновременно, вытаращившись друг на друга и пытаясь осмыслить момент; чувствовалось, что их визит на Землю – нечто большее, чем обычный перелет. Затем четверо путешественников пересекли помещение и исчезли в телетрапе, который вел в следующую кабину.
Потом Койот и Арт смотрели, как кабина подлетела к проводу и, пройдя через задвижку, исчезла. На асимметричном лице Койота отразилась не свойственная ему тревога и даже страх. Разумеется, ведь его сын и трое ближайших друзей отправлялись в такое опасное место. Впрочем, это всего лишь Земля, но опасность имелась – это был вынужден признать и Арт.
– Все будет хорошо, – сказал он, сжав Койоту плечо. – Там они будут звездами. Все пройдет гладко.
Несомненно, так и будет. И действительно, Десмонд чувствовал себя лучше, утешая себя. Все-таки Земля – родная планета людей. Все у них сложится. Это же родная планета. Но все равно…
На Восточном Павлине начался конгресс.
Начала его, по сути, Надя. Она просто стала работать на главном складе, разбирая наброски, к ней присоединялись другие, и все закрутилось. А когда встречи шли, их либо приходилось посещать, либо рисковать возможностью высказаться. Надя отмахивалась, когда кто-то говорил, что не готов, что нужно еще что-то урегулировать, что у них недостаточно сведений и так далее. «Ладно вам, – говорила она нетерпеливо. – Мы уже здесь, так что можем начинать».
Так непостоянная группа примерно из трехсот человек начала каждый день проводить встречи в промышленном комплексе на Восточном Павлине. Главный склад, предназначенный для хранения деталей железных дорог и вагонов, был огромен, и вдоль стен в нем выстроили десятки офисов с передвижными перегородками, оставив свободное место в центре, где можно было организовать неровный круг из не стыкующихся друг с другом столов.
– О! – воскликнул Арт, увидев это. – Стол столов!
Конечно, находились люди, желавшие видеть список делегатов, чтобы знать, кто мог голосовать, кто выступать и так далее. Надя, быстро принявшая на себя обязанности председателя, предложила признать делегациями все марсианские группы, чье существование было более-менее ощутимо перед началом конференции.
– Нужно поступить так, чтобы участие стало приемлемым для заявивших о себе групп.
Конституциологи из региона Дорса Бревиа согласились, что конгресс должны проводить члены голосующих делегаций, после чего конечный итог будет приниматься всенародным голосованием. Шарлотта, помогавшая с проектом документа Дорсы Бревиа двенадцать М-лет назад, с тех пор, предвидя победу революции, возглавляла группу, разрабатывавшую планы по организации правительства. Но ее группа была не единственной, кто этим занимался: школы в Южной борозде и университет в Сабиси также изучали курс по этой теме, и многие молодые уроженцы, обосновавшиеся на складе, хорошо владели вопросом.
– Это немного пугает, – заметил Арт Наде. – Стоит победить революции, и тут же объявляется целая куча юристов.
– Как всегда.
Группа Шарлотты составила список возможных кандидатов в члены конституционного конгресса, включив туда представителей всех марсианских поселений, где проживало не менее пятисот человек. Надя заметила, что многие были представлены в нем дважды – по месту проживания и по политической принадлежности. Несколько групп, не попавших в список, пожаловались в новый комитет, и почти все из них были добавлены. Арт позвонил Дереку Хастингсу и пригласил ВП ООН также присоединиться, прислав делегацию; удивленный Хастингс связался с ним через пару дней, ответив согласием. Он собирался прибыть лифтом лично.
И вот, спустя неделю подготовки и одновременного решения множества различных вопросов, можно было голосовать за принятие списка делегатов. Поскольку он был весьма всеобъемлющ, его приняли почти единогласно. Так у них неожиданно сложился настоящий конгресс. Он состоял из следующих делегаций, в каждую из которых входило от одного до десяти человек:
Общие собрания начинались с утра вокруг «стола столов», а затем перемещались в многочисленные малые рабочие группы, заседавшие в офисах, расположенных в складском помещении или в близлежащих строениях. Арт каждое утро вставал рано и варил большие котелки кофе, кавы и свою любимую каваяву. Пожалуй, это было не таким уж большим делом, учитывая значимость всего предприятия, но Арт был счастлив этим заниматься. Каждый день он испытывал удивление лишь оттого, что конгрессу вообще удавалось собраться, и, видя его масштаб, чувствовал, что помочь начать работу – его, Арта, основная задача. Он не был специалистом, но имел несколько мыслей относительно того, что должна включать в себя марсианская конституция. А что ему удавалось хорошо, так это собирать людей вместе, и именно этого он добился. Или, вернее, они с Надей – ведь она вмешалась и приняла руководство ровно тогда, когда в ней нуждались. Она была единственным доступным человеком из первой сотни, кто пользовался всеобщим доверием, и это давало ей подлинное, естественное признание. Сейчас, без какой-либо суеты, словно не замечая, что она вершит, Надя проявляла свою власть.
И теперь Арт с превеликим удовольствием стал, по сути, ее личным помощником. Он распределял ее время и делал все, что мог, чтобы дела шли гладко. Это включало приготовление хорошей каваявы первым делом с утра – Надя ценила этот начальный заряд бодрости и рвения. «Да, – думал Арт, – личный помощник и варщик наркотиков – вот мое предназначение в этой части истории». И он чувствовал себя счастливым. Просто наблюдать за тем, как люди смотрят на Надю, было удовольствием. И за тем, как она смотрела в ответ, тоже: озабоченно, сочувствующе, скептически, резко вскипая, если считала, что кто-то напрасно тратит ее время, и излучая тепло, когда ее впечатлял чей-то вклад в общее дело. И люди, зная об этом, хотели ее порадовать. Они старались говорить по делу, делать что-то полезное. Хотели заслужить ее теплый взгляд. У нее были очень необычные глаза, если в них всмотреться: карие, но испещренные бесчисленными крапинками других цветов – желтого, черного, зеленого, голубого. И на людей это оказывало завораживающее действие. Надя сосредотачивала на них все свое внимание – она хотела им верить, принять их сторону, убедиться, что их вопрос не затеряется в общей суматохе. Даже Красные, знавшие о ее конфликте с Энн, верили ей, зная, что их услышат. Так вся работа сводилась к Наде, и Арту оставалось лишь наблюдать за ней, получать от этого удовольствие и иногда в чем-то помогать.
И затем началось обсуждение.
В первую неделю споры касались в основном того, что такое конституция, какую форму она должна иметь и нужна ли она вообще. Шарлотта назвала это метаконфликтом – спором о том, о чем велся спор, и, заметив недовольный взгляд Нади, назвала это очень важным вопросом, «потому что, урегулировав его, мы установим границы того, что можем решать. Если мы решим включить в конституцию, например, экономические и социальные вопросы, то получится совсем не то, что будет, если мы сосредоточимся исключительно на политических или правовых основах или примем только общее заявление о принципах».
Чтобы помочь выстроить даже этот спор, она вместе со специалистами из Дорсы Бревиа представила целый ряд «чистых конституций», в которых были лишь различные наметки, но не заполнено содержание. Впрочем, эти образцы мало помогли смягчить возражения тех, кто настаивал на том, что общественная и экономическая жизнь не должны регулироваться вообще. «Минимальный объем» поддерживали группировки, которые в остальном имели мало общего между собой: анархисты, либертарианцы, неотрадиционные капиталисты, некоторые Зеленые и прочие. Самые ярые из этих антигосударственников расценивали описание какого бы то ни было правительства как поражение и использовали свое участие в конгрессе для того, чтобы создаваемое правительство получилось по численности как можно меньшим.
Сакс услышал об этом споре во время одного из вечерних звонков от Нади и Арта и захотел рассмотреть его со всей своей серьезностью.
– Установлено, что несколько простых правил могут регулировать очень сложное поведение. Например, существует классическая компьютерная модель стаи птиц, которая руководствуется всего тремя правилами: соблюдать равное расстояние от всех окружающих птиц, не изменять скорость слишком резко и избегать столкновения с неподвижными объектами. И таким образом полет вполне четко регулируется.
– Полет стаи компьютеров – может быть, – усмехнулась Надя. – Но ты когда-нибудь видел, как стрижи летают в сумерках?
Спустя мгновение от Сакса пришел ответ:
– Нет.
– Так посмотри, как прибудешь на Землю. Но мы тем временем не можем принять конституцию, где будет написано: «Не изменять скорость слишком резко».
Арту это показалось смешным, но Наде было не до шуток. В мелких спорах ее терпение, как правило, быстро лопалось.
– Разве это не то же самое, что позволить наднационалам заправлять делами? – говорила она. – Разве это правильно?
– Нет-нет, – возражал Михаил. – Это вообще другое!
– А по тому, что ты говоришь, выглядит очень похоже. И для некоторых это служит отличным прикрытием – мнимый принцип, который на самом деле сохраняет правила, защищающие их собственность и привилегии, и из-за которого все остальное летит к черту.
– Нет, вовсе нет.
– Тогда докажи это за столом. Все, во что правительство может себя вовлечь, должно быть обосновано в том числе с противной стороны. Необходимо все это доказать, пункт за пунктом.
И она была так настойчива – не ругаясь, как Майя, но лишь оставаясь непоколебимой, – что им приходилось соглашаться: все должно как минимум обсуждаться за столом. И так в чистых конституциях появился смысл: они могли послужить отправной точкой. По ним провели голосование, и большинство решило, что над ними стоит поработать.
Итак, они перескочили через первый барьер. Все согласились и далее придерживаться этого же плана. И Арту, все более лучащемуся радостью от одной встречи к другой и восхищенному Надей, это казалось поразительным. Она не была типичным дипломатом и совершенно не следовала модели «порожнего судна», которой придерживался Арт, но ей удавалось работать и без этого. У нее имелась особая притягательность. Он обнимал ее всякий раз, как проходил мимо, целовал в лоб – он любил ее. Он служил ей, наполненный этим светлым чувством, стараясь принять участие во всех встречах, в каких мог, и делая все, что было в его силах, чтобы процесс продолжался. Часто для этого хватало лишь обеспечить людей едой и питьем, чтобы они могли работать весь день, не становясь излишне раздражительными.
За «столом столов» всегда было людно. Свежелицые молодые валькирии возвышались над высушенными на солнце старыми ветеранами, здесь присутствовали представители всех рас и категорий – таков был Марс в М-52, по сути – объединенные нации сами по себе. Памятуя о потенциальной разрозненности целого, глядя на такие разные лица и слушая смесь языков, в котором английский тонул в вавилонской сумятице, Арт изумлялся их многообразию.
– Ка, Надя, – сказал он, когда они сидели и ели сэндвичи, пробегаясь по записям ежедневника. – Мы пытаемся написать конституцию, которую готова будет принять любая культура на Земле!
Она отмахнулась и, проглотив кусок, ответила:
– Давно пора.
Шарлотта предложила взять декларацию, составленную в Дорсе Бревиа, как логичную начальную точку, чтобы обсуждать содержание конституционных форм. Это предложение вызвало даже больше прений, чем те образцы, так как Красные и ряд других делегаций возражали против некоторых положений старой декларации и считали, что ее использование подорвет весь смысл настоящего конгресса.
– Ну и что? – ответила им Надя. – Мы можем поменять хоть каждое слово, если захотим, нам лишь нужно что-то, с чего можно начать.
Эта точка зрения была популярна среди большинства старых подпольных групп, многие из которых присутствовали в регионе Дорса Бревиа в М-39. Декларация, принятая там, стала лучшей попыткой подполья подписать то, в чем удалось достичь согласия, в период, когда оно не имело власти. Поэтому начать с нее казалось разумным: она давала некий прецедент, историческую преемственность.
Однако, когда они ее открыли и прочитали, оказалось, что старая декларация стала выглядеть пугающе радикальной. Запрет частной собственности? Запрет присвоения добавочной стоимости? Неужели они это провозгласили? Как это должно было работать? Они смотрели на безосновательные, не допускающие компромиссов положения и качали головами. В декларации не было ни слова о том, как достичь этих высоких целей, – она лишь устанавливала их. «Каменная скрижаль», как выразился Арт. Но сейчас революция победила, и настал час сделать что-то в реальном мире. Возможно ли придерживаться таких же радикальных идей, как те, что прописаны в декларации Дорсы Бревиа?
Трудно сказать.
– По крайней мере, здесь есть что обсудить, – сказала Надя.
Вместе с тем у всех на экранах возникли заголовки стандартных конституций, представлявшие собой наименования проблем: структура исполнительной власти, структура законодательной власти, структура судебной власти, права граждан, вооруженные силы и полиция, налоговая система, избирательная система, имущественное право, экономическая система, охрана окружающей среды, процедура внесения поправок и прочие. Предложения, по которым следовало прийти к согласию, тянулись страница за страницей – и все это переписывалось на всех экранах, правилось, оформлялось, бесконечно обсуждалось.
– Как обычное заполнение бланков, – заметил однажды вечером Арт, глядя через Надино плечо на какую-то особенно сложную блок-схему, напоминающую что-то из «алхимических» комбинаций Мишеля.
Надя рассмеялась.
Рабочие группы занялись различными положениями о правительстве, которые вырисовывались в их сборной конституции, которую теперь называли бланком бланков. Политические партии и заинтересованные группы склонялись к темам, волновавшим их сильнее всего, тогда как остальные сферы достались многочисленным делегациям шатровых городов, которые выбирали их сами либо получали принудительно. И после этого работа закипела.
Тем временем группа техников из кратера Да Винчи контролировала космос. Они не давали шаттлам ни войти в док на Кларке, ни произвести аэродинамическое торможение на марсианской орбите. Никто не считал, что только это обеспечивало им, марсианам, свободу, но так они ощущали некоторое физическое и психологическое пространство, в котором нужно работать, – вот что принесла им революция. Кроме того, они помнили битву за Шеффилд, и их призывал к действию страх гражданской войны. Энн находилась где-то далеко вместе с ка-кадзе, и случаи саботажа в необжитых районах происходили каждый день. Также существовали шатры, провозгласившие свою независимость ото всех, и несколько наднациональных отщепенцев. По большей части все пребывали в смятении, царило чувство едва сдерживаемого беспорядка. Они находились в пузыре среди потока исторических событий, и он мог лопнуть в любой момент. А если они будут мешкать, так и случится. Попросту говоря, настало время действовать.
Это было единственным утверждением, с которым все были солидарны, но это было очень важным утверждением. С течением дней потихоньку вырисовывались ключевые рабочие группы – люди, которые уже узнавали друг друга по решимости закончить свои дела, по желанию доработать целую статью, а не пункт. Отличаясь от остальных спорщиков, они работали под руководством Нади, которая очень быстро выявляла таких людей и обеспечивала всевозможной поддержкой.
Тем временем Арт бегал туда-сюда в своей обычной манере. Вставал рано утром, снабжал работающих едой, питьем и информацией о текущей работе, которая велась в других залах. В целом складывалось впечатление, что дела шли совсем неплохо. Большинство подгрупп, взявшиеся за «заполнение бланков», подошли к работе серьезно: писали и переписывали черновики, прорабатывая слово за словом, предложение за предложением. Они радовались каждому появлению Арта – ведь он означал для них перерыв, еду и шутки. Одна группа юристов прилепила ему на ботинки поролоновые крылышки и отправила с колким сообщением в исполнительную группу, с которой находилась в ссоре. Польщенный, Арт решил оставить крылышки – почему бы и нет? То, чем они занимались, имело свойство смехотворной величавости – или величавой смехотворности, – ведь они переписывали правила, а он летал вокруг, точно Гермес или Пак, и крылышки были крайне уместны. И он летал каждый день, долгими часами. А после завершения работы закрывал все на ночь и шел в офис «Праксиса», где жил с Надей. Там они ужинали и говорили о продвижении за день, звонили делегатам на Землю, общались с Ниргалом, Саксом, Майей и Мишелем. А потом Надя возвращалась к работе перед своими экранами и обычно засыпала в кресле. Арт же возвращался на склад, вокруг которого кучковались марсоходы. Поскольку конгресс проходил в складском шатре, вечера здесь были совсем не такими, как в то время, когда они заседали в Дорсе Бревиа; делегаты часто не ложились допоздна и сидели на полу своих комнат, выпивали и вели беседы о текущей работе или о недавно завершившейся революции. Многие из них никогда раньше не встречались и теперь, познакомившись, заводили дружеские отношения, любовные романы, иногда ссорились. Такие вечера всем нравились, люди весело разговаривали, старались больше узнать о событиях дня – это была обратная сторона конгресса, «социальный час» в бетонных стенах комнат. Арту тоже нравилось такое общение. А затем наступал момент, когда он отключался и волна сонливости накрывала его с головой; иногда он даже не успевал доползти до своего офиса, где его ждал диван рядом с Надей, и он просто падал и засыпал, затем просыпался, замерзший и затекший, спешил в ванную, принимал душ и возвращался на кухню готовить каву и яву. Снова и снова… Дни сливались в один бесконечный, и это было чудесно.
На сессиях, где обсуждалось множество тем, участникам приходилось разбираться в очень сложных вопросах. Если не было ни государств, ни естественных или традиционных административно-территориальных единиц, то кто чем управлял? И как им соблюсти баланс между местной и мировой властью, между прошлым и будущим? Ведь представители многих унаследованных культур возражали против единой марсианской культуры.
Сакс, наблюдая за обсуждением этой проблемы с корабля, летящего на Землю, прислал сообщение, в котором предложил признать основной политической единицей шатровые города и крытые каньоны – по сути, города-государства, а единственной более крупной единицей – само всемирное правительство, которое будет регулировать только вопросы мирового масштаба. Таким образом, власть будет и местная, и мировая, но без государственной между ними.
Предложение вызвало более-менее положительную реакцию. С одной стороны, его преимущество состояло в том, что оно соответствовало уже сложившейся системе. Михаил, лидер партии богдановистов, назвал такое устройство разновидностью старой коммуны коммун, но поскольку идею выдвинул Сакс, его быстро прозвали «планом лаборатории лабораторий». Но, как тут же указала Надя, основная проблема так и осталась: Сакс лишь определил для них понятия местной и мировой власти. Им по-прежнему нужно было решить, сколько полномочий будет иметь предположительная мировая конфедерация над предположительными полуавтономными городами-государствами. Если много, то снова получится крупное централизованное Марсианское государство – многим из собравшихся такая мысль казалась невыносимой.
– Но если мало, – категорично заявила Джеки в секции прав человека, – то появятся города, где сочтут нормальным рабство, женское обрезание или любую другую дикость, основанную на признании нормой варварства, стоящего на неких «культурных ценностях». А это неприемлемо.
– Джеки права, – согласилась Надя, что оказалось настолько необычным, что привлекло всеобщее внимание. – Когда кто-то твердит, что какие-то фундаментальные права чужды их культуре, от этого дурно пахнет, независимо от того, кто это говорит – фундаменталисты, сторонники патриархата, ленинисты, наднационалы… Мне все равно кто. Здесь это им с рук не сойдет!
Арт заметил, что некоторые делегаты сдвинули брови в ответ на это заявление, несомненно, поразившее их так же сильно, как западный светский релятивизм или, может быть, гиперамериканизм Джона Буна. В оппозиции к наднационалам находилось большинство из тех, кто старался придерживаться старых культур, зачастую с иерархической системой, и такой уклад поддерживала как верхушка иерархии, так и, на удивление, многие из располагавшихся гораздо ниже по общественной лестнице.
Молодые уроженцы Марса, однако, были удивлены, что этот вопрос вообще обсуждается. Они считали фундаментальные права естественными и нерушимыми, а попытка их отмены оставляла у них очередной эмоциональный шрам, из тех, что всегда носили иссеи как результат травмирующего и неработающего здесь земного воспитания. Ариадна, одна из наиболее видных среди них, поднялась, чтобы сказать, что группа Дорсы Бревиа изучила многие земные документы по теме прав человека и составила их общий перечень. Этот новый перечень фундаментальных прав личности был открыт для обсуждения и, как она дала понять, принятия всего целиком. Кое-кто поспорил по некоторым пунктам, но большинство согласилось с необходимостью утвердить своего рода всемирный билль о правах. То есть марсианские ценности по состоянию на М-52 год должны быть законодательно закреплены и лечь в основу конституции.
Однако конкретный характер этих прав все еще оставался предметом споров. Так называемые политические права были признаны «очевидными» – то, что разрешалось гражданам, и то, что запрещалось правительству: хабеас корпус[12], свобода передвижения, слова, объединений, вероисповедания, запрет оружия – все это поддержало подавляющее большинство уроженцев Марса, хотя и нашлось несколько иссеев из стран вроде Сингапура, Кубы, Индонезии, Таиланда, Китая и других, кто с сомнением смотрел на такое подчеркивание личной свободы. У других делегатов возникли сомнения насчет прав иного типа – так называемых социальных или экономических, таких как право на жилище, медицинскую помощь, образование, труд, долю выручки от природных ресурсов и так далее. Многие делегаты-иссеи, с опытом работы в правительстве на Земле, весьма этим обеспокоились, указав, что закреплять подобное в конституции опасно. По их словам, так сделали на Земле, но, когда оказалось невозможным обеспечить эти права, конституционные права стали рассматриваться лишь как средство пропаганды. Потом это распространилось и на другие сферы, пока конституция не превратилась в жалкую пародию.
– И тем не менее, – резко отозвался Михаил, – если не можете позволить себе купить жилище, голосуйте, что без «права на жилище» документ станет жалкой пародией.
Молодые уроженцы согласились, и многие другие тоже. Так экономические и социальные права также оказались на столе, и начались продолжительные споры о том, как гарантировать их на практике.
– Политические, социальные… это все одно и то же, – сказала Надя. – Давайте теперь все эти права обеспечим.
И работа продолжилась, одновременно вокруг большого стола и в офисах, где заседали рабочие группы. Даже ООН там присутствовала в лице самого главы ВП ООН Дерека Хастингса, который спустился на космическом лифте и теперь активно участвовал в дебатах, где его мнение неизменно имело своеобразный вес. Арту показалось, что он даже начал проявлять симптомы синдрома жертвы, проникаясь все большей симпатией к людям, с которыми вступал в спор.
Комментарии и предложения также поступали со всего Марса, да и с Земли, и заполняли несколько экранов, закрывших одну из стен большого помещения. Конгресс всюду привлекал внимание, составляя конкуренцию даже массовому наводнению на Земле.
– В нашем конгрессе есть элемент мыльной оперы, – заметил Арт Наде. Каждый вечер они собирались в своем маленьком офисном помещении и звонили Ниргалу и остальным. Ответы путешественников шли все дольше и дольше, но ни Арт, ни Надя не обращали на это внимания: им обоим хватало, о чем поразмыслить, пока к ним летели реплики Сакса и других.
– Эта проблема мировой/местной власти совсем не проста, – указал однажды вечером Арт. – Настоящее противостояние. Я имею в виду, тут дело не только в спутанном мышлении. Мы действительно хотим, чтобы был какой-то всемирный контроль, но и свобода куполов тоже нужна. Наши самые существенные ценности противоречат друг другу.
– Может, попробовать швейцарскую систему, – предложил Ниргал через несколько минут. – О ней все время твердил Джон Бун.
Но швейцарцев на Павлине эта идея не вдохновила.
– Лучше уж его контрмодель, – отозвался Юрген, скорчив гримасу отвращения. – Я оказался на Марсе как раз из-за швейцарского федерального правительства. Оно сдерживает все, что можно. Даже чтоб дышать, нужно получить лицензию.
– А у кантонов уже нет никакой власти, – указала Присцилла. – Федеральное правительство все себе забрало.
– Хотя для некоторых кантонов это благо, – заметил Юрген.
– Что еще интереснее, Берном мог стать Граубюнден. Это означает «Серая лига». Города юго-восточной Швейцарии сотни лет просуществовали в свободной конфедерации. Очень успешная организация.
– Сможете собрать об этом информацию? – спросил Арт.
Следующим вечером они с Надей просматривали присланное Юргеном и Присциллой описание Граубюндена. «Что ж… во времена Ренессанса все было устроено достаточно просто», – подумал Арт. Может, это было и не так, но почему-то казалось, что эти чрезвычайно свободные соглашения между швейцарскими горными городками не выйдет претворить в жизнь среди глубоко взаимосвязанных экономик марсианских поселений. В Граубюндене не нужно было беспокоиться, например, из-за того, что кто-то вызовет нежелательные изменения атмосферного давления. Нет, нынешнее положение было чем-то новым. В истории не нашлось аналога, который был бы им действительно полезен.
– К слову о мировой/местной власти, – вступила в обсуждение Иришка. – А как быть с территорией за пределами куполов и крытых каньонов? – Достаточно умеренная, чтобы выступать от имени почти всех течений Красного движения, она превратилась в лидера Красных, оставшихся на Павлине, и уже за несколько недель набрала серьезную силу. – Это бо́льшая часть площади Марса, и в Дорсе Бревиа мы все согласились, что никто не вправе ею владеть и что мы должны распоряжаться ей сообща. Это правильно, но с ростом населения и появлением новых городов будет сложнее выяснить, кто ее контролирует.
Арт вздохнул. Вопрос правильный, но слишком трудный, чтобы встретить его с рвением. Недавно он решил вместе с Надей ежедневно заниматься проблемами, которые представлялись самыми сложными из всех, с какими они сталкивались, так что, по идее, он должен был встречать их с радостью. Но иногда они оказывались чересчур тяжелыми.
Как в этом случае. Пользование землей вызовет возражения Красных, а затем вскроет еще больше сторон проблемы мировой/местной власти, причем исключительно марсианских. Опять же, здесь не было прецедента. Но сам вопрос, пожалуй, оказался самым сложным из всех…
Арт зашел к Красным. Его встретили втроем – Мэриан, Иришка и Тиу, один из зиготских друзей детства Ниргала. Они провели Арта в свой лагерь марсоходов, что привело его в восторг: это означало, что, несмотря на его связь с «Праксисом», он считался нейтральным или незаинтересованным лицом, каким и хотел быть. Крупным пустым судном, набитым сообщениями.
Расположение Красных находилось к западу от складов, на краю кальдеры. Они сели вместе с Артом в большом салоне на верхнем ярусе и разговаривали при предвечернем солнце, глядя вниз на гигантскую, подсвеченную им кальдеру.
– Так что бы вы хотели видеть в конституции? – спросил Арт.
Он отхлебнул чаю, который ему подали. Хозяева переглянулись, слегка озадачившись.
– В идеале, – произнесла Мэриан спустя некоторое время, – мы хотели бы жить на первозданной планете, в пещерах и скальных жилищах или в вырытых кольцах кратеров. Без больших городов, без терраформирования.
– Тогда вам пришлось бы все время ходить в костюмах.
– Верно. Мы не против этого.
– Что ж, – Арт немного подумал. – Хорошо, но давайте начнем с того, что есть сейчас. Что бы вы хотели видеть дальше, учитывая текущее положение?
– Прекращение терраформирования.
– Уничтожение провода, конец иммиграции.
– И хорошо бы еще отправить часть людей обратно на Землю.
Они умолкли и посмотрели на Арта. Он постарался не выдать им своего изумления.
– Но разве биосфера теперь не растет сама по себе?
– Это не очевидно, – ответил Тиу. – Но если прекратить выбросы газа, всякий рост в любом случае будет происходить очень медленно. А может, и вовсе остановится, учитывая, что наступит ледниковый период.
– Не это ли некоторые называют экопоэзисом?
– Нет. Экопоэзис использует биологические методы, чтобы вызвать изменения в атмосфере и на поверхности, но сейчас процесс ведется чересчур усиленно. Мы считаем, что все они должны остановиться – что экопоэты, что промышленники, все равно.
– Но прежде всего надо остановить тяжелую промышленность, – добавила Мэриан. – И особенно затопление севера. Это вообще преступно. Если они не прекратят свою деятельность, мы взорвем те станции, пусть после этого здесь и произойдут неблагоприятные изменения.
Арт указал жестом на огромную каменную кальдеру:
– На большой высоте все выглядит примерно одинаково, верно?
Они не желали этого признавать.
– Даже на высоте есть отложения льда и растительная жизнь, – ответила Иришка. – Атмосфера поднимается и досюда. И, когда дует сильный ветер, уже нигде не безопасно.
– А что, если накрыть куполом четыре большие кальдеры? – предложил Арт. – Оставим их бесплодными с исходным атмосферным давлением и составом воздуха? Сделаем из них природные парки, сохраненные в первозданном состоянии.
– Вот именно что парки – по-другому и не скажешь.
– Знаю. Но мы должны работать с тем, что у нас есть сейчас, правильно? Мы не можем вернуться назад в М-1 год и начать все сначала. А при нынешней ситуации было бы неплохо сохранить три-четыре крупных объекта в изначальном или близком к нему состоянии.
– Было бы хорошо защитить так и несколько каньонов, – осторожно предложил Тиу. Они явно не рассматривали такую возможность раньше, а сейчас, как видел Арт, она не устраивала их до конца. Но текущее положение не могло разрешиться само собой, и они были вынуждены начать хотя бы отсюда.
– Или бассейн Аргир.
– Как минимум – оставьте его сухим.
Арт ободряюще кивнул.
– Сопоставьте эту идею сохранения с пределами атмосферы, принятыми в Дорсе Бревиа. Это дает зону, пригодную для дыхания, высотой в пять километров, но и выше нее останется огромная территория, которая сохранит более-менее первозданный вид. Северный океан от этого никуда не денется, но с ним уже ничего не поделаешь. Некая форма медленного экопоэзиса сейчас лучшее, на что вы можете рассчитывать, верно?
Пожалуй, это прозвучало слишком жестоко. Красные печально посмотрели в кальдеру горы Павлина, каждый думая о своем…
– Допустим, Красные с нами, – сказал Арт Наде. – Какая теперь, по-твоему, следующая самая большая проблема?
– Что? – Она уже почти спала, слушая какой-то старый джаз, дребезжащий из ее компьютера. – Ах, Арт, – сказала она низким и тихим голосом, с легким, но различимым русским акцентом. Она села на диване. В ногах у нее собралась кучка смятых бумаг, словно соединившиеся воедино части целого сооружения. Марсианский образ жизни. Из-под ее прямых седых волос открывалось овальное лицо, с которого каким-то образом стерлись морщины, словно она была галькой в потоке времен. Подняв казацкие веки, она открыла свои пестрые глаза, блестящие и чарующие. Прекрасное и в то же время совершенно расслабленное лицо.
– Следующая самая большая проблема?
– Да.
Она улыбнулась. Откуда взялось это спокойствие, эта расслабленная улыбка? В последнее время ее ничто не беспокоило. Арта это изумляло – ведь в политическом смысле они шли по натянутому канату. Впрочем, это была политика, а не война. И насколько Надя была напугана и напряжена во время революции, когда находилась в постоянном ожидании катастрофы, настолько же спокойна была она сейчас. Будто ничто из происходящего здесь не столь уж важно – они лишь возились с деталями. Ее друзья были в безопасности, война кончилась, а то, что оставалось, было своего рода игрой или работой – такой, как строительство, приносящей удовольствие.
Арт переместился к спинке дивана и помассировал ей плечи.
– Ах, – проговорила она. – Проблемы. Ну, у нас много примерно одинаковых заковыристых проблем.
– Например?
– Например, как думаешь, маджари смогут принять демократию? Смогут ли все принять эко-экономику Влада и Марины? Сможем ли мы создать правильную полицию? Попытается ли Джеки создать систему с сильным президентом и использует ли численное превосходство местных уроженцев, чтобы стать королевой? – Она обернулась через плечо и рассмеялась над выражением лица Арта. – У нас много таких вопросов. Мне продолжать?
– Пожалуй, не стоит.
Она улыбнулась.
– А ты продолжай. Так хорошо. Эти проблемы не такие уж сложные. Мы просто продолжим работать за столом и победим их все. А ты мог бы поговорить с Зейком.
– Хорошо.
– А пока займись моей шеей.
В тот же вечер, после того как Надя уснула, Арт отправился поговорить с Зейком и Назик.
– Так как маджари смотрят на все это? – спросил он.
– Пожалуйста, не задавай глупых вопросов, – прорычал Зейк. – Сунниты воюют с шиитами, Ливан разорен, страны без нефти ненавидят страны с нефтью, североамериканские страны перешли к наднационалам, Сирия и Ирак ненавидят друг друга, Ирак и Египет тоже, мы все ненавидим Иран, не считая шиитов, и ненавидим Израиль, конечно, и Палестину тоже, и даже несмотря на то что я родом из Египта, я все-таки бедуин, и мы презираем нильских египтян, да и не дружим с иорданскими бедуинами. А еще все ненавидят саудитов, продажных до самых костей. И когда ты спрашиваешь меня, что думают арабы, что мне тебе отвечать? – Он мрачно покачал головой.
– Думаю, нужно ответить, что это глупый вопрос, – сказал Арт. – Прости. Мыслю категориями целых групп – дурная привычка. А если я спрошу, что ты сам думаешь об этом?
Назик рассмеялась.
– Можешь спросить, что думают все кахирские маджари. Их он знает слишком хорошо.
– Да, слишком, – согласился Зейк.
– Как думаешь, секция прав человека с ними договорится?
Зейк нахмурился.
– Мы непременно подпишем конституцию.
– Но эти права… Я думал, у арабов все еще нет демократии.
– Почему? Есть же Палестина, Египет… Но нас сейчас заботит Марс. А здесь каждый караван с самого начала был независимым государством.
– Сильные лидеры, наследственная власть?
– Наследственной власти нет. Но сильные лидеры – да. Мы не думаем, что с новой конституцией это закончится, по крайней мере, не везде. С чего бы этому быть? Ты сам сильный лидер, да?
Арт смущенно рассмеялся.
– Я всего лишь посланник.
Зейк покачал головой.
– Скажи это Антару. Тебе нужно сходить к нему, если хочешь знать, что думают кахирцы. Он теперь наш король.
Он посмотрел так, словно съел что-то кислое, и Арт спросил:
– А чего хочет он, по-твоему?
– Он – игрушка Джеки, – пробормотал Зейк. – Вот и все.
– Полагаю, это не говорит в его пользу.
Зейк пожал плечами.
– Смотря с кем ты будешь разговаривать, – объяснила Назик. – Для старых иммигрантов-мусульман это плохой союз, потому что, хоть Джеки и имеет значительную власть, у нее уже было больше одного супруга, а Антар выглядит…
– Сомнительным, – догадался Арт, опередив какое-то другое слово, едва не вырвавшееся из уст сверкающего злобой Зейка.
– Да, – согласилась Назик. – Но, с другой стороны, Джеки сильна. А все, кто сейчас стоит во главе фракции «Свободный Марс», намереваются получить еще больше власти в новом государстве. И молодым арабам это по душе. Пожалуй, они больше похожи на местных, чем на арабов. Марс значит для них больше, чем ислам. С этой точки зрения тесный союз с зиготскими эктогенами – это к лучшему. Эктогены считаются естественными лидерами нового Марса – прежде всего, конечно, Ниргал, но, поскольку он отбыл на Землю, часть его влияния должна отойти к Джеки и остальным. А значит, и к Антару.
– Мне он не нравится, – заявил Зейк.
Назик улыбнулась мужу.
– Тебе не нравится, что столько местных мусульман идут за ним, а не за тобой. Но мы стары, Зейк. Может быть, нам пора на покой.
– Не вижу в этом смысла, – возразил Зейк. – Если мы проживем тысячу лет, то что нам какая-то сотня?
Арт и Назик рассмеялись, и Зейк тоже быстро улыбнулся. В первый раз Арт видел его улыбку.
Возраст на самом деле не имел значения. Повсюду были люди – старые, молодые, они беседовали и спорили, и обсуждать чей-то возраст на такого рода мероприятиях было бы странно.
Как-никак местное движение не выступало ни за молодость, ни за старость. Если ты родился на Марсе, у тебя совершенно иные взгляды, настолько ареоцентристские, что ни одному землянину не дано их понять. И не только из-за целого комплекса ареореалий, известных местным с рождения, но и из-за того, что не было им известно. Земляне знали, как велика Земля, тогда как рожденные на Марсе просто не были способны представить этот культурный и биологический масштаб. Они видели лишь изображения на экранах, но этого было недостаточно, чтобы понять. Отчасти поэтому Арт был рад, что Ниргал решил присоединиться к дипломатической миссии на Землю: ему предстояло узнать, с чем они имеют дело.
Но большинству местных этого не понять. К тому же им в голову ударила революция. При своем мастерстве за столом, где они добивались такой конституции, которая дала бы им превосходство над остальными, они были несколько наивны в некоторых простых отношениях. Не понимали, насколько нетипична их независимость и как легко было снова отнять ее у них. И стояли на своем до конца – под предводительством Джеки, парившей по складу, прекрасной и увлеченной, как всегда, скрывающей жажду власти за любовью к Марсу и стремлением к идеалам своего деда. Она страстно желала сделать мир справедливым, или так просто казалось.
Но она вместе со своими товарищами по «Свободному Марсу» явно хотела иметь как можно больше власти. На Марсе сейчас находилось двенадцать миллионов человек, и семь миллионов из них родились здесь. Почти каждого из уроженцев можно было причислить к сторонникам местных политических партий – и, как правило, к «Свободному Марсу».
– Это опасно, – сообщила Шарлотта, когда Арт поднял эту тему во время их вечерней встречи с Надей. – Если страна сформировалась из множества групп, не доверяющих друг другу, и одна из которых составляет явное большинство, то получится так называемое количественное голосование. То есть политики представляют свои группы и набирают голоса, а результаты выборов просто отражают численность населения. В таких случаях каждый раз происходит одно и то же: группа большинства получает монополию на власть, а меньшинства страдают от безысходности и в конце концов устраивают мятежи. Некоторые из самых страшных гражданских войн в истории начинались именно с этого.
– И что нам делать? – спросила Надя.
– Ну, кое-что мы уже делаем – разрабатываем структуры, которые распространят власть на места и уменьшат опасность власти большинства. Децентрализация важна тем, что она создает много маленьких местных властей большинства. Другой вариант – построить Мэдисонскую модель разделения власти, в которой правительство служило бы своего рода «веревочкой» для конкурирующих сил. Это называется полиархией – в ней власть распределяется между как можно большим числом групп.
– Может, у нас прямо сейчас слишком много этой полиархии, – сказал Арт.
– Возможно. Есть еще вариант депрофессионализировать правительство. Объявляете весомую его часть общественной обязанностью, наподобие суда присяжных, а потом случайным образом назначаете туда простых граждан – на какой-нибудь короткий срок. Им помогает штат специалистов, но решения они принимают самостоятельно.
– Никогда о таком не слышала, – призналась Надя.
– Ну это часто предлагали, но редко принимали. Хотя я думаю, что такой вариант стоит рассмотреть. По нему власть становится не только преимуществом, но и бременем. В вашем почтовом ящике оказывается письмо – о нет, вас назначили на два года в конгресс. Это обуза, но с другой стороны – и своего рода почет, шанс вынести что-то на широкое обсуждение. Гражданское правительство.
– Мне это нравится, – сказала Надя.
– Еще один метод сократить власть большинства – тайное голосование, в котором избиратели голосуют за двух или более кандидатов, расставляя их по местам: первый выбор, второй, третий… Кандидаты получают очки за вторые и третьи места, так что для общей победы им нужно привлечь и представителей чужих групп. Это влечет смещение к умеренной политике, а в итоге может построить доверие между группами, которые раньше этим не отличались.
– Любопытно! – воскликнула Надя. – Как кронштейны в стене.
– Да, – Шарлотта упомянула ряд примеров «разрозненных обществ» Земли, сплотившихся благодаря разумной политической системе: Азанию, Камбоджу, Армению… Пока она их описывала, Арт немного пал духом: все эти земли были политы кровью, и изрядно.
– Похоже, только политическая система и может помочь, – заметил он.
– Верно, – согласилась Надя, – но у нас нет таких старых междоусобиц, как там. Худшее, что мы имеем здесь, – это Красные, но и их отвернуло от общества только терраформирование, которое уже произошло. Готова поспорить, эти методы даже их смогут приобщить к делу.
Ее явно воодушевили возможности, которые описала Шарлотта; как-никак это были варианты системы. Воображаемое проектирование, которое, однако, походило на настоящее. И Надя постукивала по своему экрану, делая разные наброски, как если бы работала над каким-то зданием, и уголки ее губ растягивала легкая улыбка.
– Ты счастлива, – сказал Арт.
Она его не слышала. Но по радио в тот вечер она сказала Саксу:
– Как прекрасно узнать, что политическая наука придумала что-то полезное за все эти годы.
Через восемь минут от него пришел ответ:
– Никогда не понимал, почему ее называют наукой.
Надя рассмеялась, и ее смех наполнил счастьем и Арта. Надя Чернышевская смеялась в голос! И внезапно у него появилась уверенность, что у них все получится.
И он вернулся за большой стол, готовый взяться за следующую самую большую проблему. Это заставило его спуститься с небес на землю. Перед ним стояла еще сотня таких проблем, каждая из которых казалась несложной лишь до тех пор, пока ими не начинали заниматься всерьез, и тогда они становились неразрешимыми. В текущих распрях было крайне трудно увидеть признаки растущего единства. А в некоторых сферах положение даже ухудшалось. Средние точки акта Дорсы Бревиа вели к затруднениям: чем больше их рассматривали, тем более радикальными становились взгляды. Многие явно считали, что эко-экономическую систему Влада и Марины, хоть и успешно применяемую в подполье, не стоит включать в конституцию. Одни жаловались, что она ущемляет права местных автономий, другие больше верили в традиционный капитализм, чем в какую-то новую систему. По этому вопросу часто выступал Антар – при этом Джеки сидела рядом с ним, явно в знак поддержки. Уже это, а также его связь с арабской общиной удваивали силу его заявлений, и люди его слушали.
– Новая экономика, которую здесь предлагают, – произнес он как-то за «столом столов», повторяя заученное ранее, – представляет собой радикальное и беспрецедентное вмешательство правительства в дела бизнеса.
Влад Танеев резко встал. Антар, удивленный, замолчал и внимательно на него посмотрел.
Влад тоже пристально на него глядел. Ссутулившийся, с большой головой и косматыми бровями, Влад редко говорил на публике, если вообще когда-либо говорил; на конгрессе он до этого не сказал ни слова. Бо́льшая часть присутствующих на складе медленно затихала, готовясь выслушать Танеева. Арт ощутил трепет предвосхищения; из всех блестящих умов первой сотни Влад, пожалуй, был самым блестящим – и самым загадочным, если не считать Хироко. Старый еще в то время, когда они покидали Землю, чрезвычайно скрытный, он рано построил лабораторию в Ахероне и оставался там, сколько мог, живя затворником вместе с Урсулой Кол и Мариной Токаревой, еще двумя выдающимися членами первой сотни. Никто не знал об этой троице ничего конкретного, они представляли собой редкий пример замкнутой природы человеческих отношений. Разумеется, это не избавило их от сплетен: напротив, люди болтали о них не переставая, утверждая, что настоящая пара здесь – Марина и Урсула, а Влад – кто-то вроде друга или домашнего питомца, или что Урсула проделала бо́льшую часть работы по созданию процедуры омоложения, а Марина – по эко-экономике, или что они составляли идеально сбалансированный равносторонний треугольник, совместно работая над всем, что появилось в Ахероне, или что Влад был своего рода двоеженцем, использовавшим жен для работы в разных сферах биологии и экономики. Но правды никто не знал: ни один из троих не сказал об этом ни слова.
Однако глядя на него, стоящего перед столом, можно было подумать, что теория о том, что он был там главным, ошибочна. Он неторопливо обвел всех сосредоточенным взглядом и лишь после этого вновь обратил взор на Антара.
– То, что ты сказал о правительстве и бизнесе, – это бред, – холодно заявил он. Это был тон, до этого редко звучавший на конгрессе, – пренебрежительный и брезгливый. – Правительства всегда регулируют бизнес, которым разрешают заниматься. Экономика – это вопрос права, это правовая система. До сих пор мы в подполье считали, что с правовой точки зрения демократия и самостоятельность – это врожденные права каждого человека и что эти права не могут быть отменены, когда он начинает работать. Ты… – он махнул рукой, показывая, что не знает имени Антара, – веришь в демократию и самоуправление?
– Да! – отозвался Антар оборонительным тоном.
– И считаешь, что демократия и самоуправление – это основные ценности, которые правительство должно поддерживать?
– Да! – повторил Антар, все сильнее раздражаясь.
– Очень хорошо. Если демократия и самоуправление – это основа, то почему люди должны отступаться от этих прав, когда заступают на свое рабочее место? В политике мы, как тигры, боремся за свободу, за право избирать наших лидеров, за свободу передвижения, выбор места жительства, выбор профессии… одним словом, управляем своими жизнями. А потом просыпаемся утром, идем на работу – и все эти права исчезают. Мы больше их не требуем. И так на бо́льшую часть дня мы возвращаемся к феодализму. Вот что такое капитализм – разновидность феодализма, в которой капитал заменяет землю, а лидеры бизнеса – королей. Но иерархия остается. И мы по-прежнему всю жизнь трудимся по принуждению, чтобы накормить лидеров, которые не делают настоящей работы.
– Лидеры бизнеса делают работу, – резко возразил Антар. – И принимают финансовые риски…
– Так называемые риски капиталистов – это всего лишь одна из привилегий капитала.
– Управление…
– Да, да. Не перебивай меня. Управление – это нечто реальное, дело техники. Но его может контролировать как капитал, так и работник. Сам по себе капитал – это просто полезный остаток от работы прошлых работников, и он может принадлежать как каждому, так и горстке людей. Нет ни единой причины, по которой мелкая знать должна владеть капиталом, а все остальные – ей служить. Нет ни единой причины, по которой она должны давать нам на жизнь и забирать остальное, что мы производим. Нет! Система, называемая капиталистической демократией, на самом деле вообще не была демократичной. Поэтому ее получилось быстро превратить в наднациональную систему, в которой демократии стало еще меньше, а капитализма – больше. И в которой один процент населения владел половиной всех богатств, а пять процентов – девяноста пятью процентами. История показала, какие ценности в этой системе реальны, а какие нет. И что печально, несправедливость и страдания, причиненные ею, не были неизбежны, а техническая возможность удовлетворить основные потребности для всех существовала еще с восемнадцатого века.
Поэтому мы должны измениться. Настало время. Если самоуправление – основная ценность, если простая справедливость – это ценность, то они везде будут таковыми, включая рабочее место, где мы проводим столь значительную часть жизни. Это же прописано в четвертом пункте акта Дорсы Бревиа. Там сказано, что результат труда каждого человека принадлежит ему самому и его ценность не может быть отнята. Там сказано, что различные средства производства принадлежат тем, кто их создал, и служат на благо будущих поколений. Там сказано, что управлять миром должны все мы, вместе. Вот что там сказано. И мы за годы, проведенные на Марсе, разработали экономическую систему, которая отвечает всем этим требованиям. Этим мы занимались последние пятьдесят лет. В нашей системе хозяйственными предприятиями являются мелкие кооперативы, находящиеся в собственности их работников, и никого больше. Они нанимают управляющих либо управляют сами. Профсоюзы и гильдии промышленников сформируют более крупные структуры, необходимые для регулирования торговли и рынка, распределения капитала и предоставления кредита.
– Это всего лишь идеи, – презрительно отозвался Антар. – Утопия, и не более того.
– Вовсе нет, – снова отмахнулся от него Влад. – Система основана на моделях из земной истории, а различные ее элементы были испытаны на обеих планетах и прекрасно себя показали. Ты об этом ничего не знаешь отчасти потому, что необразован, а отчасти потому, что сам наднационализм целенаправленно игнорировал или отрицал все альтернативы к нему. Но наиболее широко наша микроэкономика применялась в Мондрагоне, Испания, где просуществовала несколько веков. Также разные ее элементы применялись псевдонаднационалами «Праксиса» в Швейцарии, индийском штате Керала, Бутане, итальянской Болонье и много где еще, включая, собственно, марсианское подполье. Эти организации послужили предшественниками нашей экономики, которая будет такой демократичной, какой никогда и не пытался стать капитализм.
Синтез систем. А Влад Танеев был выдающимся синтезистом – об этом говорило, например, то, что все составляющие процедуры омоложения уже существовали, а Влад и Урсула просто соединили их вместе. И теперь в этой экономической системе, разработанной им совместно с Мариной, по его же утверждению, он сделал то же самое. И хотя он сейчас не упоминал об омоложении, оно было на виду, как сам стол, – потому что это крупное, скомпонованное из отдельных частей достижение повлияло на жизнь каждого. Арт осмотрелся, и ему показалось, что люди думают: что ж, в биологии у него один раз сработало, а экономика что, разве сложнее?
Против этой невысказанной мысли, неосознанного чувства возражения Антара казались бессмысленными. История наднационального капитализма не говорила в его пользу: за последнее столетие он развязал масштабную войну, разжевал Землю и разорвал на части ее общество. Так почему бы им не попробовать что-то новое, учитывая все это?
Тут поднялся делегат из Хираньягарбхи и высказался против Влада с совершенно другой стороны, указав, что тот отходит от экономики дарения, по которой жило марсианское подполье.
Влад раздраженно потряс головой.
– Я верю в экономику подполья, уверяю вас, но там она всегда была смешанной. Чистый обмен подарками сосуществовал с обменом деньгами, в котором неоклассическая рациональность рынка или, так сказать, механизм получения прибыли был ограничен и сдержан обществом, чтобы служить более высоким ценностям, таким как справедливость и свобода. Экономическая рациональность – попросту не высшая ценность. Она хороша для подсчета расходов и доходов, но это лишь часть одного большого уравнения, влияющая на благосостояние человека. И это уравнение называется смешанной экономикой – ее мы и стараемся здесь построить. Мы предлагаем комплексную систему с общественными и личными сферами экономической деятельности. Может быть, мы попросим людей пожертвовать около года своей жизни на работу на благо общества – как на швейцарской госслужбе. Эта работа плюс налоги, уплаченные частными кооперативами за пользование землей и ее ресурсами, позволят нам обеспечить так называемые социальные права, о которых мы говорили, – право на жилище, медицинскую помощь, пищу, образование, – все, что зависит от милости рационального рынка. Потому что, как говорили итальянские рабочие, la salute non si paga. Здоровье не купишь!
Арт видел, что для Влада это имело особое значение. И понятно, почему: при наднационализме здоровье определенно продавалось – не только медицинская помощь, пища и жилища, но прежде всего – сама процедура омоложения, которую пока проходили только те, кто мог это себе позволить. Иными словами, величайшее изобретение Влада теперь на Земле используют привилегированные. Оно стало там высшим классовым различием – долгая жизнь или ранняя смерть, – которое едва ли не сравнилось с различием видов. Неудивительно, что он был раздражен, неудивительно, что направил все свои силы на создание экономической системы, которая превратит процедуру омоложения из отвратительного имущества во всем доступное благо.
– Тогда рынку ничего не останется, – сказал Антар.
– Нет-нет-нет, – Влад отмахнулся от него еще более раздраженно, чем когда-либо до этого. – Рынок всегда будет существовать. Это механизм, позволяющий обмениваться товарами и услугами. А конкуренция за то, чтобы продавать лучший товар по лучшей цене, – неизбежна и полезна. Но на Марсе общество направит рынок в более оживленное русло. Жизненно важные услуги будут иметь некоммерческую основу, и это уведет независимый рынок от первостепенных товаров к второстепенным, где кооперативы, находящиеся во владении работников, смогут предпринимать те рискованные дела, какие будут вольны сами выбирать. Почему бы нет, когда основные потребности обеспечены, а работники сами владеют своим бизнесом? Вот что мы хотим создать.
Джеки, раздраженная брезгливостью Влада к Антару и, вероятно, намереваясь отвлечь или запутать старика, спросила:
– А что насчет экологической стороны этой экономики, которую вы всегда так подчеркивали?
– Это тоже основное, – сказал Влад. – Третий пункт акта Дорсы Бревиа гласит, что земля, воздух и вода Марса никому не принадлежат, что мы все распоряжаемся ими во благо будущих поколений. И это распорядительство будет обязанностью каждого, но в случае возникновения конфликтов мы предлагаем ввести строгие суды по вопросам охраны окружающей среды, может быть, как часть конституционного суда, который будет оценивать реальные и полные природоохранные издержки экономической деятельности и участвовать в согласовании планов работ, воздействующих на среду.
– Но это же просто плановая экономика! – воскликнул Антар.
– Экономика и планирование – одно и то же. В капитализме его было столько же, а в наднационализме вообще пытались планировать буквально все. Нет, экономика – это и есть планирование.
Антар, уязвленный и раздраженный, проговорил:
– Вот и социализм вернулся.
Влад пожал плечами.
– Марс – это новая целостность. Названия из предыдущих целостностей обманчивы. Они становятся чуть ли не теологическими понятиями. Конечно, в этой системе присутствуют элементы, которые можно назвать социалистскими. А как еще избавить экономику от несправедливости? Но частные предприятия будут не национализированы, а окажутся во владении работников, то есть это будет, по меньшей мере, не тот социализм, который пытался укорениться на Земле. И все кооперативы будут коммерческими – маленькими демократиями, посвященными тому или иному виду деятельности, и каждой из них потребуется капитал. И у нас будет рынок, будет капитал. Но в нашей системе работники станут скорее арендовать капитал, чем наоборот. Это более демократично, более справедливо. Поймите меня: мы пытались оценить каждый элемент этой экономики по его полезности в достижении справедливости и свободы. А справедливость и свобода не противоречат друг другу, как это утверждалось, потому что свобода в несправедливой системе – это не свобода вовсе. Они возникают вместе. То есть это на самом деле возможно. Нужно лишь ввести лучшую систему, объединив элементы, которые были проверены и показали свою работоспособность. И сейчас для этого подходящий момент. Мы готовились к такой возможности семьдесят лет. А сейчас она появилась, и я не вижу причин упускать ее только потому, что кто-то боится старых слов. Если у кого-то имеются какие-либо конкретные предложения, как ее улучшить, мы будем рады их выслушать.
Он долго и сурово смотрел на Антара. Но тот не отвечал: конкретных предложений у него не было.
Комнату наполнило тяжелое молчание. Это был первый и единственный случай в конгрессе, когда иссей встал и отчитал нисея во всеобщем обсуждении. Большинство иссеев предпочитало действовать менее явно. Но сейчас один из древних радикалов просто разозлился и наказал неоконсервативного молодого властолюбца – который теперь выглядел так, словно ради собственной выгоды намеревался навязать новую версию старой иерархии. Эта мысль отчетливо отражалась в долгом, протянувшемся через весь стол взгляде Влада на Антара, полном отвращения к его реакционному эгоизму и трусости перед лицом перемен. Влад сел – Антар был повержен.
Но они продолжили спорить. Конфликт, метаконфликт, детали, основы – все было на столе, включая магниевую кухонную раковину, которую кто-то установил в одной из секций «стола столов» спустя недели три после начала обсуждений.
На самом же деле делегаты на складе были лишь вершиной айсберга, видимой частью масштабных дебатов, затянувших обе планеты. По всему Марсу и во многих точках Земли постоянно велась прямая трансляция конференции, и, хотя запись в режиме реального времени была довольно скучной, «Мангалавид» отдельно монтировал ключевые события каждого дня, которые показывались по вечерам во время временного сброса и отправлялись на Землю для показа широкой аудитории. Там этот показ стал «величайшим шоу на Земле», как назвал его один американский канал.
– Наверное, людям утомительно смотреть одно и то же дерьмо по телеку, – сказал Арт Наде как-то вечером, когда они смотрели краткий, странно искаженный обзор переговоров дня по американскому телевидению.
– Или дерьмо в жизни.
– О да. Им хочется отвлечься и думать о чем-то другом.
– Или они думают о том, как поступили бы сами, – предположила Надя. – Мы для них – модель в уменьшенном масштабе. Так им легче понять себя.
– Может, и так.
Как бы то ни было, обе планеты наблюдали за ними, и конгресс, как и все остальное, превратился в повседневную мыльную оперу, которая, однако, привлекала аудиторию, словно дивным образом подобрала ключ к жизни людей. И в итоге тысячи зрителей не просто смотрели, но и отправляли комментарии и предложения. Большинство собравшихся на Павлине не считало вероятным, что в каком-нибудь письме окажется поразительная истина, ранее им неизвестная, но тем не менее все сообщения прочитывались волонтерами в Шеффилде и Южной борозде, передававшими избранные предложения «к столу». Некоторые даже выступали за то, чтобы включить все эти предложения в итоговый вариант конституции, выступая против принятия «нормативного правового акта». Они хотели, чтобы это было нечто более объемное – коллективное философское или даже духовное заявление, отражающее их ценности, стремления, мечты и мысли.
– Это уже будет не конституция, – возражала Надя. – Это из области культуры. У нас тут что, чертова библиотека?
Но все равно к ним продолжали поступать длинные сообщения из куполов и каньонов, с затопленных побережий Земли, подписанные отдельными людьми, комитетами и целыми городами.
На самом складе обсуждения велись столь же широкие, как и по почте. Однажды к Арту подошел китайский делегат и обратился по-мандарински, а когда сделал паузу, его искин заговорил с приятным шотландским акцентом.
– Честно признаться, я начал сомневаться, что вы достаточно изучили важный труд Адама Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов».
– Возможно, вы и правы, – ответил Арт и направил его к Шарлотте.
Многие на складе говорили на других языках, кроме английского. Не зная языка собеседника, использовали переводчики на своих искинах. Каждую секунду здесь шли разговоры на дюжине разных языков и активно работали машинные переводчики. Арту это казалось несколько отвлекающим. Он хотел бы владеть всеми этими языками, хотя машинные переводчики последних поколений справлялись весьма неплохо: мелодичные голоса, крупные и точные словари, превосходная грамматика и почти полное отсутствие ошибок превращали более ранние программы в детские игрушки. Новые оказались настолько хороши, что, было похоже, доминирование английского языка, создавшее на Марсе почти моноглотическую культуру, скоро пойдет на убыль. Иссеи, конечно, привезли свои языки с собой, но английский был для них лингва франка. Нисеи же говорили между собой по-английски, тогда как родные языки использовали лишь для общения с родителями. Так на какое-то время английский стал для местных уроженцев родным языком. Но сейчас, с новыми искинами и нестихающим потоком иммигрантов, говорящих на самых разных земных языках, языковой спектр расширился – ведь новые иссеи по прибытии продолжали говорить на родных языках, а в качестве переводчиков использовали свои искины.
Ситуация с языками открыла Арту комплексность коренного населения, которой он не замечал прежде. Некоторые из местных были йонсеями, марсианами в четвертом поколении и более, безусловными детьми Марса, но остальные местные – того же возраста, что и дети-нисеи недавних иссеев-иммигрантов, и они были теснее связаны со своими земными культурами и были склонны ко всем вытекающим проявлениям консерватизма. Так что можно было сказать, что здесь были новые местные «консерваторы» и старые «радикалы» из числа переселенцев. И это разделение лишь изредка соотносилось с этнической принадлежностью, если та еще имела для них хоть какое-нибудь значение.
Однажды вечером Арт беседовал с парочкой таких, одна – сторонница мирового правительства, второй – анархист, поддерживавший все местные автономии, и спросил об их происхождении. У глобалистки отец был наполовину японцем, на четверть ирландцем и еще на четверть танзанцем, а родителями матери – гречанка и наполовину колумбиец – наполовину австралиец. У анархиста был нигериец-отец и мать с Гавайев – то есть имела смешанные филлипинские, японские, полинезийские и португальские корни. Арт пристально на них посмотрел: если кто-то захотел бы устроить голосование по этническим группам, то куда бы определили этих людей?.. Они относились к коренному народу Марса. Нисеи, сансеи, йонсеи – не важно, какое поколение, но их личности формировались, во многом исходя из марсианского жизненного опыта – ареоформировались, в точности как предсказала Хироко. Некоторые заключили браки в пределах своих этнических групп, но большая часть – вне их. И независимо от их происхождения политические взгляды этих марсиан зачастую отражали не традиционные взгляды их предков («А какой должна быть позиция греко-колумбо-австралийца?» – задумался Арт), а их собственный жизненный опыт. А он тоже был разный: одни выросли в подполье, другие – в больших городах под властью ООН, а в подполье попали только через несколько лет, а то и после начала революции. Эти различия повлияли на них гораздо больше, чем те их предки, что когда-то жили на Земле.
Арт кивал, когда местные объясняли ему все это во время долгих, пропитанных кавой вечеринок, что затягивались до глубоких ночей. Посетители этих вечеринок постепенно приободрялись, чувствуя, что на конгрессе дела складываются хорошо. Они не воспринимали дебаты между иссеями всерьез, понимая, что самые важные для всех убеждения обязательно возьмут верх. Главное, Марс будет независимым, будет управляться марсианами, и не важно, чего хотели на Земле, а все остальное – мелочи. Поэтому эти люди продолжали свою работу в комитетах, не обращая особого внимания на философские споры за «столом столов». «Старые псы никак не уймутся», – было написано на доске объявлений, и эта фраза, казалось, выражала основное мнение местных. А работа в комитетах тем временем продолжалась.
Эта большая доска объявлений хорошо отображала настроения в конгрессе. Арт читал ее, как записки из печенья с предсказанием, и действительно, в одном из сообщений он прочитал: «Тебе нравится китайская кухня». Хотя обычно сообщения были ближе к политике. Часто они касались предыдущих дней конференций: «Купол – не остров», «Если не можете позволить себе жилище, голосуйте, что это жалкая пародия», «Соблюдай дистанцию, не изменяй скорость, ни во что не врезайся», «La salute non si paga». Было и такое, что не звучало на обсуждениях: «Действуй с мыслью о других», «У Красных – зеленые корни», «Величайшее шоу на Земле», «Ни королей, ни президентов», «Большой человек ненавидит политику», «И все равно: мы – маленькие красные человечки».
Арт больше не удивлялся, приближаясь к людям, говорившим на арабском, хинди или каком-нибудь языке, который он не мог узнать, а потом смотрел им в глаза, пока их искин по-английски, с акцентом, с каким говорят на «Би-би-си», в Средней Америке или в госструктурах Нью-Дели, выражал всякие непредсказуемые политические настроения. Это его даже приободряло – не появление машинных переводчиков, давших новый вид взаимодействия между людьми, не такой чрезвычайный, как телекооперация, но и не такой простой, как «живое общение», – а политическое многообразие, невозможность голосования по группам и даже недопустимость мысли о какой-либо разбивке населения.
Конгресс был поистине странным собранием. Но оно продолжалось, и все даже с этим свыклись. Теперь конгресс стал таким уютным, каким бывают подобные расширенные мероприятия, которые длятся слишком долго. Но однажды поздно вечером, после долгой, необычной переводной беседы, когда искин на запястье девушки, с которой он разговаривал, отвечал рифмованными куплетами (при этом Арт не знал, на каком языке говорила она изначально), он пошел через склад в сторону своего офиса, мимо «стола столов», и остановился поздороваться с одной группой, а потом, потеряв равновесие, прислонился к боковой стене, наполовину в сознании, наполовину отключаясь, чувствуя, как в нем бурлит каваява и разливается усталость. И тут вся странность вернулась – вся в одночасье. Будто в гипнагогической галлюцинации[13]. В углах он увидел тени, бесчисленные и дрожащие тени. Формы – как у зыбких тел: казалось, все мертвые, все нерожденные, там, на складе, вместе с ними, были свидетелями этого мгновения. Словно история была гобеленом, а конгресс – станком, где все сходилось вместе – настоящий момент с его чудесной нездешностью, его потенциал, заключенный в атомах собравшихся людей, в их голосах. Оглянувшись в прошлое, он мог увидеть его целиком, весь гобелен событий, но, посмотрев в будущее, не смог увидеть ничего, хотя мог предположить, что оно разветвлялось на нити возможностей или могло стать ничем – два типа недостижимой беспредельности. Все они перемещались вместе, из одного в другое, через огромный станок настоящего, того, что было сейчас. Сейчас – это их возможность, для всех них, кто пребывал в этом настоящем, – призраки могли наблюдать и до, и после, но это был момент, когда ту мудрость, что они могли собрать, нужно было сплести воедино, чтобы передать всем будущим поколениям.
Они были способны на все. И именно поэтому оказалось трудно довести конгресс до конца. При принятии выбора бесконечным возможностям было суждено превратиться в единую линию мировой истории. Будущее становилось прошлым, и оставалось некоторое разочарование от этого прохождения через станок, от этого внезапного сужения от бесконечности до одного, переходе от возможности к реальности, то есть самому движению времени. Возможность была так блаженна – они могли получить все лучшие элементы самых достойных правительств всех времен, чудесным образом совместив их в нечто грандиозное с помощью невиданного прежде синтеза, – или, отвергнув все это, проложить, наконец, новый путь к созданию справедливого правительства… Уйти от этого к мирским проблемам конституции, которая, как только будет написана, неизбежно разрушит эту атмосферу, и поэтому процесс непроизвольно затягивался.
С другой стороны, было бы прекрасно, если бы дипломатическая команда прибыла на Землю с уже готовым документом, который можно будет представить ООН и народам Земли. Это даже было неизбежно, и им в самом деле следовало завершить работу – не только чтобы представить Земле единый фронт уже созданного правительства, но и чтобы начать свою посткризисную жизнь, как бы та ни складывалась.
Надя явственно это ощущала и поэтому стала работать на износ.
– Пора водружать замковый камень над аркой, – сказала она Арту однажды утром.
С того дня она трудилась не покладая рук, встречаясь со всеми делегациями и комитетами, требуя, чтобы они поскорее завершили свою работу и вынесли ее результаты на итоговое голосование о включении в конституцию. Ее непоколебимая настойчивость показала то, что не было очевидно ранее, – что почти все вопросы уже оказались решены приемлемым для большинства делегаций образом. Многие считали, что им удалось состряпать нечто, что можно воплотить в жизнь, или, по крайней мере, испытать и внести поправки в отдельные элементы системы уже по ходу дела. Особенно счастливы были молодые уроженцы Марса – они гордились своей работой, довольные, что им удалось сохранить акцент на местных полуавтономиях, тем самым закрепив юридически тот уклад, при котором большинство из них жило под управлением Временного Правительства.
Таким образом, ограничения власти большинства их не заботили, несмотря на то что на данный момент они сами составляли большинство. Чтобы не выглядеть проигравшими, Джеки и ее окружению пришлось притвориться, словно они никогда и не выступали за сильного президента и центральное правительство; они даже стали утверждать, что исполнительный совет, избираемый законодательным органом по швейцарскому принципу, с самого начала был их идеей. Таких случаев – с нежелающими выглядеть проигравшими – оказалось много, и Арт с удовольствием соглашался со всеми подобными заявлениями:
– Да, я помню, мы еще размышляли по этому поводу в ту ночь, когда встречали рассвет, это вы тогда хорошо придумали.
Хорошие идеи возникали отовсюду и теперь начали закручиваться по спирали.
Мировое правительство по их плану представляло собой объединение, возглавляемое исполнительным советом из семи членов, избираемых двухпалатным парламентом. Одна палата, дума, состояла из большого числа представителей, выбранных из населения, а другая, сенат, – из меньшего числа и состояла из представителей каждого города или группы поселений, где проживает свыше пятисот человек. В целом парламент был довольно слаб: он избирал членов исполнительного совета и участвовал в избрании судей, но бо́льшую часть законодательных функций отдавал городам. Судебная власть получала более широкие полномочия: ее представляли не только уголовные суды, но и как бы двойной верховный суд: наполовину конституционный, наполовину – природоохранный, все члены которых назначаются или избираются случайным образом. Природоохранный суд должен будет заниматься вопросами терраформирования и прочих изменений среды, а конституционный – определять конституционность всех остальных вопросов, включая обжалование законов городов. Одним из подразделений природоохранного суда станет земельная комиссия, осуществляющая надзор за распоряжением землей, принадлежавшей всем марсианам, и соблюдением третьего пункта соглашения, принятого в Дорсе Бревиа; частной собственности так таковой не будет, но будут различные права землепользования, устанавливаемые договорами аренды, и ими как раз будет заниматься земельная комиссия. Соответствующая экономическая комиссия должна подчиняться конституционному суду и частично состоять из представителей профсоюзов, представляющих различные профессии и отрасли. Задача этой комиссии – контролировать установление подпольного варианта эко-экономики, в том числе вести надзор как за некоммерческими предприятиями, работающими в общественно значимых сферах, так и за коммерческими, обязанными соблюдать определенные ограничения и по закону находящимися во владении работников.
Это расширение судебной ветви позволяло иметь сильное мировое правительство, не давая при этом широких полномочий исполнительной власти, а также служило поклоном героической роли Мирового Суда, которую он играл на Земле в прошлом веке, когда почти все остальные земные институты были куплены либо не выдержали давления наднационалов. Тогда он последний держался, издавая решение за решением в пользу обездоленных, пытаясь сдерживать своими, по сути, символическими действиями бесчинства наднационалов. Мировой Суд представлял собой моральную силу, которая, будь у нее побольше зубов, могла бы сделать еще больше хорошего. И за этой борьбой следили из марсианского подполья – и сейчас о ней вспомнили.
Стало быть, Марсианское мировое правительство. В конституцию также вошли: длинный список прав человека, включая социальные; основополагающие принципы работы земельной и экономической комиссий; принципы избирательной системы, предусматривающей тайное голосование по выборным должностям; описание процедуры внесения поправок и прочее. Наконец, к основному тексту конституции прилагалось огромное собрание материалов, скопившихся в процессе написания и озаглавленных как «Рабочие замечания» и «Комментарии». Они были добавлены для помощи суду по интерпретации основного документа и включали все, что говорилось делегатами за «столом столов», выводилось на экраны склада и поступило по почте.
Таким образом, большинство наиболее неприятных вопросов было решено или хотя бы сметено под коврик. Крупнейшие разногласия вылились в протест Красных. Но здесь Арт вступил в бой, организовав для них ряд поблажек, включая многие назначения на должности в природоохранном суде; позднее эти поблажки прозвали Широким жестом. В ответ Иришка, выступая от имени всех Красных, все еще участвовавших в политическом процессе, согласилась на сохранение провода, на присутствие ВП ООН в Шеффилде, на оставление возможности иммиграции для землян (в ограниченном количестве) и, наконец, на продолжение терраформирования в медленной, неразрушающей форме до тех пор, пока атмосферное давление на высоте шести километров над нулевой отметкой не достигнет 350 миллибар – это число договорились пересматривать раз в пять лет. Так Красный тупик был пробит или как минимум обойден.
Койот при таком развитии событий лишь покачал головой.
– После любой революции наступает междувластие, при котором общество контролирует себя само, и все идет хорошо, но потом вступает в силу новый режим, который все портит. Я думаю, что сейчас вам стоит съездить в города и каньоны и спросить там, как они жили последние два месяца, а потом бросить им эту прекрасную конституцию и сказать: «Продолжайте».
– Но именно это в конституции и написано, – пошутил Арт.
Койоту же было не до шуток.
– Нужно быть очень осторожным и не собирать власть в центре только потому, что есть такая возможность. Власть портит людей, это главный закон политики. А то и единственный.
Что касается ВП ООН, то его мнение было не столь очевидным, поскольку на Земле оно разделилось, и некоторые громкие голоса призывали отвоевать Марс силой и пересажать либо перевешать всех собравшихся на Павлине. Большинство же землян оказались более покладисты, но всех их отвлекал продолжающийся кризис на собственной планете. К тому же они не имели такого значения, как Красные: в конце концов, это марсиане завладели своей территорией путем революции, и теперь им нужно было правильно ей распорядиться.
Каждый вечер последней недели Арт ложился спать с гудящей головой от возражений и кавы и, несмотря на то что был измотан, нередко просыпался по ночам и переворачивался с боку на бок, словно от какой-то светлой мысли, которая, однако, утром пропадала либо оказывалась бредовой.
Надя спала на соседнем диване либо на кресле – но так же беспокойно. Иногда они засыпали рядом, обсуждая ту или иную тему, и просыпались – одетые, но растерянные, смотря друг на друга, как дети при виде грозы. Тепло чужого тела успокаивало, как ничто другое. А просыпаясь при тусклом предрассветном ультрафиолетовом свете, они говорили часами, создав в холодной тишине офиса маленький кокон теплоты и дружбы. Как хорошо, что рядом находился другой разум, с которым можно обменяться мнением! Они, коллеги, могли бы стать друзьями, затем, может быть, любовниками – впрочем, Надя не была расположена к каким бы то ни было романтическим отношениям. Но Арт, несомненно, был влюблен, и теперь ему казалось, что в пестрых глазах Нади зажглось новое чувство к нему. А в последние дни конгресса они лежали на своих диванах и говорили, и иногда она массировала ему плечи, или он ей, а затем они, изнуренные, проваливались в сон. На них отовсюду давили, требуя завершить работу над документом, давили сильнее, чем любой из них желал признавать, – свою слабость они признавали разве что в те минуты, когда прижимались друг к другу, одни против огромного холодного мира. Новая любовь – несмотря на нечувствительность Нади, Арт не знал, как еще это можно было назвать. Он был счастлив.
И он обрадовался, но без малейшего удивления, когда она в одно утро, проснувшись одновременно с ним, сказала:
– Давай проведем голосование.
Арт посовещался со швейцарцами и специалистами из Дорсы Бревиа, и первые предложили конгрессу проголосовать за принятие текущей редакции конституции попунктно, как обещалось в самом начале. Решение о голосовании тут же вызвало такую бурную реакцию, что на этом фоне даже земные фондовые биржи показались бы нерасторопными. Тем временем швейцарцы разработали порядок голосования, и в следующие три дня его провели. Каждая группа имела один голос и голосовала по каждой номерной статье проекта конституции. Все восемьдесят девять статей были приняты, а массивное собрание «пояснительного материала» было приложено к основному тексту.
Затем настал черед ее утверждения народом Марса. И в Ls=158°, первого октября 52-го М-года (на Земле – 27 февраля 2128 года) общее население Марса, включая всех лиц старше пяти М-лет, проголосовало по итоговому документу на своих наручных консолях. Явка составила свыше девяноста пяти процентов, и за принятие конституции высказалось семьдесят восемь процентов проголосовавших – или чуть более девяти миллионов человек. И у них появилось правительство.
Часть четвертая Зеленая Земля
На Земле тем временем все события меркли в тени большого наводнения.
Его причиной послужила серия крупных извержений вулканов под Антарктическим ледяным щитом. Земля под ним – она несколько напоминала провинцию долин и хребтов в Северной Америке – настолько продавилась под тяжестью льда, что опустилась ниже уровня моря. А когда начались извержения, лава и газы расплавили лед над вулканами, вызвав огромные смещения; при этом в нескольких местах быстро размывающейся линии налегания под лед стала проникать вода из океана. Огромные разрушающиеся острова льда откалывались вдоль берегов моря Росса и залива Ронне. Когда же эти острова уносило прочь океанским течением, разломы продвигались в глубь материка, а вихревые потоки вызвали ускорение процесса. В следующие за первыми большими разломами месяцы антарктические моря заполнились огромными плоскими айсбергами, вытеснившими столько воды, что уровень моря стал расти по всему миру. Вода продолжала наполнять впадину в западной Антарктиде, где раньше был лед, размывая его остатки по кусочку, пока ледяной щит не исчез совсем и на его месте не образовалось неглубокое новое море, бурлящее от продолжающихся подводных извержений, которые по силе были сравнимы с теми, что образовали Деканские траппы в поздний меловой период.
И спустя год после начала извержений площадь Антарктиды уменьшилась почти вдвое: восточная Антарктида, похожая на полумесяц, и Антарктический полуостров, похожий на занесенную льдом Новую Зеландию, а между ними – неглубокое море, булькающее и полнящееся обломками ледяных гор. В целом же в мире уровень воды поднялся на семь метров выше прежнего.
Со времен последнего ледникового периода, то есть уже десять тысяч лет, человечество не сталкивалось с природными бедствиями такого масштаба. И в этот раз оно коснулось не нескольких миллионов охотников и собирателей из кочевых племен, но пятнадцати миллиардов цивилизованных граждан, живших в высоких и хрупких социотехнологических зданиях, которые находились в серьезной опасности обрушения. Все крупные прибрежные города уже были затоплены, целые страны, такие как Бангладеш, Голландия и Белиз, – смыты водой. Большинство несчастных, кто жил в этих низко расположенных районах, успели переместиться повыше – все-таки вода пришла скорее как прилив, нежели как приливная волна, – и теперь примерно десятую-пятнадцатую часть населения планеты составляли беженцы.
Мировое сообщество, разумеется, оказалось не готово к такого рода ситуациям. Даже в лучшие времена людям пришлось бы нелегко, а начало двадцать второго века было не лучшим моментом для этого. Численность населения продолжала расти, ресурсы все заметнее истощались, между богатыми и бедными, правительствами и наднационалами повсюду обострялись конфликты – катастрофа грянула в самый разгар кризиса.
И в некоторой степени свернула его. Перед лицом безысходности мира всякая борьба за власть потеряла значение, многое превратилось в фантасмагорию. Теперь, когда целые народы терпели бедствие, законность прав собственности и извлечения выгод блекла в сравнении с новыми проблемами. ООН возникла посреди хаоса словно водоплавающий феникс и принялась исполнять роль информационного центра по ликвидации чрезвычайной ситуации, занимаясь вопросами миграций в глубь материков через государственные границы, строительства временного жилья, распространения продовольствия и припасов. Учитывая характер этой работы и делая акцент на спасении людей, Швейцария и «Праксис» вышли на передовую помощи ООН. Также из мертвых восстали ЮНЕСКО и Всемирная организация здравоохранения. Индия и Китай, крупнейшие из серьезно пострадавших государств, получили в текущей ситуации значительное влияние, и от того, как они решали действовать, зависело многое в мире. Заключив союзы друг с другом, с ООН и новыми партнерами, они отказались от помощи «Группы одиннадцати» и наднационалов, впутавшихся в дела большинства правительств стран «Одиннадцати».
Однако, с другой стороны, катастрофа лишь обострила кризис. Наднационалы сами из-за потопа оказались в весьма любопытном положении. Перед его началом они были поглощены тем, что обозреватели прозвали надраспрями, борясь друг с другом за контроль над мировой экономикой. Несколько крупных наднациональных супергрупп пытались завладеть полным контролем над странами с сильнейшей промышленностью и подбить под себя тех, кто все еще был вне их влияния, – Швейцарию, Индию, Китай, «Праксис», так называемые страны Мирового Суда и прочие. Сейчас, когда значительная часть населения Земли была занята борьбой с наводнением, наднационалы в основном пытались восстановить свою былую власть. Общественное мнение часто связывало их с бедствием либо как причину, либо как грешников, понесших наказание, – такую версию, созданную примитивным мышлением, было выгодно использовать как Марсу, так и другим антинаднациональным силам, которые активно старались повергнуть наднационалов, пока те слабы. «Группа одиннадцати» и другие промышленно развитые страны, ранее сотрудничавшие с наднационалами, теперь пытались сохранить свое население в живых и не могли существенно помочь крупным конгломератам. А люди по всей планете бросали прежнюю работу и присоединялись к борьбе с наводнением. Предприятия, находящиеся во владении работников по принципу «Праксиса», возникали все чаще и, занимаясь спасательными работами, в то же время предлагали всем своим сотрудникам пройти процедуру омоложения. Некоторые из наднационалов удерживали свою рабочую силу, перестраиваясь таким же образом. И так борьба за власть продолжалась на нескольких уровнях, но на каждом из них из-за катастрофы протекала в новом ключе.
В этих обстоятельствах Марс стал землянам совершенно безразличен. Нет, конечно, с ним было связано много интересного, но часть землян проклинали марсиан как неблагодарных детей, бросивших своих родителей в час нужды, – это был один из многих примеров плохой выручки в беде, который приводили для сравнения со столь же многочисленными хорошими откликами. В этот час все были либо героями, либо злодеями, и марсиан обычно принимали за злодеев, крыс, бегущих с тонущего корабля. Также их часто рассматривали как потенциальных спасателей, несколько неопределенным образом, – что, в общем, также служило примером примитивного мышления, хотя во мнении, что на соседней планете формируется новое общество, было нечто обнадеживающее.
Таким образом, народ Земли пытался справиться со стихией. К общему ущербу теперь прибавились резкие изменения климата: увеличился слой облаков, которые теперь отражали больше солнечного света, приведя к снижению температуры, проливным дождям, часто губившим такие необходимые урожаи и иногда проходившим там, где редко шли раньше, – в Сахаре, Мохаве, северном Чили, – приводя большое наводнение далеко в глубь материка, по сути, распространяя его влияние повсюду. При том что эти новые мощные бури обрушивались на сельскохозяйственные культуры, человечество задумалось о голоде: теперь всякое международное сотрудничество попало под угрозу, казалось, всех уже не накормить, слышались трусливые голоса о введении приоритетности пострадавших. Так вся Земля целиком оказалась в смятении, как муравейник, разворошенный палкой.
Такой была Земля летом 2128-го – переживала невиданную прежде катастрофу, непрекращающийся всеобщий кризис. Допотопный мир уже казался не более чем дурным сном, из которого их всех грубо вырвали, ввергнув в еще более опасную реальность. Из огня да в полымя, да; некоторые пытались вернуться в огонь, тогда как другие старались втащить их в полымя. И никто не знал, что случится дальше.
Скаждым днем Ниргала все сильнее сжимали невидимые тиски. Майя много стонала и ворчала, Мишелю и Саксу, казалось, все было нипочем: первый был счастлив оказаться в этом путешествии, второй – слишком поглощен наблюдением за конгрессом на горе Павлина. Они жили в небольшом вращающемся помещении корабля под названием «Атлантис», которое за пять месяцев полета должно было ускориться настолько, чтобы центробежная сила изменилась с марсианской на эквивалентную земной и оставалась таковой на протяжении почти половины пути. Этот метод применялся уже несколько лет, с тем чтобы приспособить эмигрантов, решивших вернуться домой, делегатов, летающих туда и обратно, и уроженцев Марса, решивших посетить Землю. Но всем им приходилось трудно. Многим уроженцам Марса на Земле становилось плохо, некоторые даже умерли. Поэтому важно было оставаться в гравитационном отсеке, выполнять упражнения, делать прививки.
Сакс и Мишель по утрам делали зарядку, Ниргал и Майя расслаблялись в ванной, сострадая друг другу. Майя, конечно, наслаждалась тоской, как и всеми своими эмоциями, включая ярость и хандру, в то время как Ниргал тосковал по-настоящему, пока пространство-время искривляло его, повергая в еще более сильные муки, такие, что каждая клетка его тела отзывалась болью. Это его пугало – усилия, без которых он не мог даже дышать, мысли о масштабе планеты. В огромность Земли трудно было поверить!
Он пытался поговорить об этом с Мишелем, но тот был отвлечен, предвкушая встречу с Землей и готовясь к ней. Сакса же занимали события на Марсе. Ниргала встреча на Павлине не заботила – он считал, что она не будет иметь долгосрочного эффекта. Местные, поселившиеся на необжитых территориях, жили так, как сами хотели, и под властью ВП ООН, и при новом правительстве будут жить так же. Джеки могла преуспеть, став президентом, и это было бы совсем скверно, – но что бы ни случилось, их отношения превратились в некую странную телепатию, которая временами напоминала страстный роман, но столь же часто – яростное соперничество между братом и сестрой или даже внутреннее противоречие шизофреника. Наверное, они были близнецами – кто знал, какие алхимические эксперименты проводила Хироко над эктогенами? – хотя нет: Джеки была дочерью Эстер. Он знал об этом. Если это имело какое-то значение. К его огорчению, она казалась ему его вторым «я»; но это было против его воли, и также против его воли у него каждый раз резко учащался стук сердца, стоило ему ее увидеть. Это же послужило одной из причин, по которой он решил присоединиться к экспедиции на Землю. И сейчас он отдалялся от Джеки со скоростью пятьдесят тысяч километров в час, но она все еще была видна на экране. Она радовалась работе конгресса и своему участию в нем. И теперь ей предстояло стать одним из семи членов исполнительного совета – он и ожидал чего-то вроде этого.
– Она рассчитывает, что история пойдет своим обычным курсом, – заметила однажды Майя, когда они сидели в ванной и смотрели новости. – Власть – как материя, у нее есть сила притяжения, она сгущается и начинает притягивать частицы. Местная власть, рассеянная по куполам… – Она выразительно пожала плечами, демонстрируя уверенность в провале надежд Джеки.
– Может, это новая звезда, – предположил Ниргал.
Она рассмеялась.
– Да, возможно. Но тогда она начнет сгущаться снова. Такова гравитация истории – власть стягивается к центру, пока не образуется случайная новая. Это новое втягивание. Мы увидим такое и на Марсе, попомни мои слова. И Джеки будет в самом центре… – Она умолкла, прежде чем добавить: «Сука», чтобы не задеть чувств Ниргала. И с любопытством взглянула на него, словно задумавшись, как он мог бы помочь ей в ее нескончаемой войне с Джеки. Маленькие новые звезды сердец…
В последние дни одного g самочувствие Ниргала никак не улучшалось. Ему было страшно ощущать силу зажима в своем дыхании и мыслях. У него болели суставы. На экранах он видел изображения бело-голубого шара, оказавшегося Землей, и костяной пуговицы Луны, выглядящей удивительно плоской и мертвой. Но это были лишь изображения на экране, не значившие для него ничего в сравнении с болящими ступнями и колотящимся сердцем. Затем голубая планета внезапно распустилась и заполнила экран целиком, ее искривленный лимб стал белой линией, голубая вода была вся покрыта узорами из белых завитков облаков, между которыми проглядывали материки, будто иллюстрации к полузабытой сказке – Азия, Африка, Европа, Америка.
К финальному спуску и аэродинамическому торможению вращение гравитационного отсека остановилось. Ниргал, оказавшись в невесомости и чувствуя себя бесплотным воздушным шаром, подтянулся к окну, чтобы увидеть все своими глазами. Несмотря на стекло и тысячи километров расстояния детали были видны с удивительной четкостью.
– Вот это вид! – сказал он Саксу.
– Хм, – отозвался Сакс и переместился к окну.
Они смотрели на Землю, голубеющую впереди.
– Ты когда-нибудь боялся? – спросил Ниргал.
– Боялся?
– Ну да.
Сакс на протяжении путешествия находился не в лучшей форме: ему приходилось многое объяснять.
– Страх, опасение, все в этом роде.
– Да, думаю, да. Боялся. Недавно. Когда понял, что… заблудился.
– А я боюсь сейчас.
Сакс удивленно на него взглянул. Затем подплыл и коснулся руки Ниргала, ласково, непохоже на себя.
– Мы здесь, – сказал он.
Падение… Из Земли теперь торчало десять космических лифтов. Некоторые из них представляли собой так называемые провода с расщепленными жилами. Они делились на два пучка, касавшиеся планеты севернее и южнее экватора, где было удручающе мало места для расположения «гнезда». Один такой провод буквой Y тянулся к филиппинской провинции Вирак и Убагуме на западе Австралии, другой – к Каиру и Дурбану. Тот, по которому спускались они, раздваивался в нескольких десятках тысяч километров над Землей, и северный конец уходил в Порт-оф-Спейн, Тринидад, а южный – в Бразилию, в район Арипуаны, города, появившегося в результате экономического бума на притоке Амазонки, названном рекой Теодора Рузвельта.
Они выбрали северное, тринидадское ответвление. Из их кабины была видна бо́льшая часть западного полушария с центром в бассейне Амазонки, где по зеленым легким Земли тянулись прожилки бурой воды. Вниз и вниз. За пять дней спуска планета стала ближе настолько, что заполнила все пространство под ними, и давящая гравитация предыдущих полутора месяцев вновь заключила их в свою хватку и принялась сжимать, сжимать, сжимать… Во время короткого периода микрогравитации Ниргал перестал чувствовать свой вес и теперь хватал ртом воздух. Каждый вдох давался с трудом. Стоя перед окном, ухватившись руками за поручень, он смотрел сквозь облака на ярко-голубое Карибское море и насыщенную зеленью Венесуэлу. Сток Ориноко в море выглядел как пятно в форме древесного листа. Край неба складывался из изогнутых белых и бирюзовых полос, над которыми чернело космическое пространство. И все вокруг блестело. Облака были такие же, как на Марсе, только плотнее, гуще и белее. Вероятно, на его сетчатку или зрительный нерв оказывалось дополнительное давление, возникшее из-за возросшей гравитации, и цвета казались ему более насыщенными. Звуки же стали громче.
Вместе с ними лифтом спускались дипломаты ООН, помощники из «Праксиса», представители медиа – и все они надеялись, что марсиане уделят им некоторое время для общения. Ниргалу было трудно на них сосредоточиться, трудно было их слушать. Казалось, будто они все странным образом не знают, где находятся, – а они были в пятистах километрах над Землей и быстро летели вниз.
Долгий последний день. Они вошли в атмосферу, и провод направил их кабину к зеленому квадрату Тринидада, в огромный комплекс «гнезда» рядом с заброшенным аэропортом, чьи полосы смотрелись как серые руны. Лифтовая кабина спустилась к бетонной громадине, затормозила и остановилась.
Ниргал оторвал руки от поручня и осторожно подошел к остальным, тяжелыми-тяжелыми шагами, чувствуя весь свой вес. Так они спустились по телетрапу, и Ниргал ступил на пол здания на Земле. Внутренняя обстановка в «гнезде» напоминала ту, что была на горе Павлина, что казалось совершенно неуместным, – ведь воздух был соленым, плотным, горячим, тяжелым и обладал металлическим привкусом. Ниргал шел быстро, как мог, чтобы поскорее выбраться наружу и наконец увидеть земной пейзаж. Его преследовали и окружали люди, но помощники из «Праксиса» проложили ему путь сквозь растущую толпу. Здание было огромным, судя по всему, он мог выбраться отсюда на метро, но пропустил его. Впереди виднелась открытая дверь, он подошел к ней и шагнул в проем. Чувствуя легкое головокружение от усилий, он вышел в слепящий свет. Чистая белизна. Она пахла солью, рыбой, листьями, смолой, дерьмом и пряностями – как в какой-то безумной теплице.
Его зрение пыталось приспособиться. Голубое небо – с бирюзовым оттенком, как середина лимба, что он видел из космоса, только светлее; над холмами оно было белее, вокруг солнца – серебристым. Туда-сюда двигались черные точки. Провод тянулся далеко в небо. Но смотреть на провод оказалось невозможным из-за слишком яркого неба. Вдали виднелись зеленые холмы.
Он споткнулся, когда его провели к машине – старинной, маленькой и круглой, с откидным верхом и резиновыми шинами. Он опустился на заднее сиденье между Саксом и Майей, затем встал – чтобы лучше видеть. В лучах света виднелись сотни, тысячи людей, одетых в удивительные наряды, неоновые шелка, розовые, сиреневые, сизые, золотые, цвета морской волны одежды, украшения, перья, головные уборы.
– Карнавал, – объяснил им кто-то с переднего сиденья. – Мы одеваемся в костюмы на карнавал и на День открытия Америки, когда Колумб впервые прибыл сюда. Он был четыре дня назад, но мы продлили фестиваль до вашего прибытия.
– А какое сегодня число? – спросил Сакс.
– День Ниргала! Одиннадцатое августа.
Они медленно ехали по улицам между рядами ликующих людей. Одна группа была одета так, как были одеты местные перед прибытием европейцев, и дико улюлюкала. Розовые губы, белые зубы, коричневые лица. Голоса лились, словно музыка, все пели. Люди, сидевшие в машине, говорили с таким же акцентом, как Койот. В толпе некоторые носили маски с его лицом – истрепанное лицо Десмонда Хокинса, растянувшееся в каких-то невозможных эмоциях. И слова – Ниргал считал, что слышал все возможные искажения английского, но понимать тринидадцев ему удавалось лишь с трудом; из-за акцента, дикции, интонаций – он сам не знал, почему. Он обильно потел, но ему все равно было жарко.
Машина, тряская и медленная, пробравшись по живому коридору, доехала до обрыва. Дальше начиналась гавань, теперь погруженная в мелководье. Здания утопали в воде, стоя в грязной пене, покачивающейся на невидимых волнах. Весь район превратился в приливную заводь, дома казались огромными раскрытыми ракушками, причем некоторые проломились, из их окон заливалась и выливалась вода, а между ними ходили весельные лодки. Лодки побольше были привязаны к уличным фонарям и столбам линий электропередачи. Дальше, за зданиями, на подсвеченной солнцем голубой воде покачивались парусные лодки, каждая с тремя-четырьмя косыми парусами. Зеленые холмы высились с правой стороны, образуя открытую бухту.
– Рыбацкие лодки еще проходят по улицам, но крупные судна используют бокситовые доки в точке «Т», вон там, видите?
На холмах переливалось полсотни зеленоватых оттенков. Пальмы в низинах завяли, и их желтые листья висели поникшие. По ним можно было определить зону приливов: выше все оставалось зеленым. Улицы и здания словно высечены посреди растительного мира. Зеленое и белое, как в детских видениях Ниргала, только здесь эти два основных цвета были отделены и заключены в голубом яйце моря и неба. Путешественники находились чуть выше самих волн, но горизонт тянулся так далеко! Это было внезапное свидетельство величины этой планеты. Неудивительно, что раньше думали, что она плоская. Белая вода плескалась по улицам, издавая шум такой же громкий, как восхищенная толпа.
В буйстве запахов внезапно появился новый, смоляной запах, принесенный ветром.
– Смоляное озеро у Ла-Брея все выбрали и увезли, осталась только черная яма в земле да маленький водоем, который используется локально. А запах, что вы сейчас чувствуете, идет от этой новой дороги над водой.
Асфальтированная дорога возникла словно мираж. Люди обступили проезжую часть, черную, как их волосы. Одна девушка взобралась на их машину, чтобы повесить ожерелье из цветов Ниргалу на шею. Сладкий цветочный аромат выделялся на фоне острого запаха соли. Духи и благовония, гонимые горячим монотонным ветром, также отдавали смолой и пряностями. Стальные барабаны, такие знакомые во всем этом шуме, стучали, играя здесь марсианскую музыку! Слева от них вершины крыш в затопленном районе теперь поддерживали полуразваленные дворики. Душок стоял такой, будто в теплице что-то пошло не так и все завяло, воздух был горячий и влажный, и все сияло и поблескивало на свету. Пот стекал по телу Ниргала ручьем. Люди приветствовали их с крыш затопленных домов, с лодок, качающихся вверх-вниз среди пены и цветов. Черные волосы на их головах блестели, будто хитин или украшения. Зыбкий деревянный док был заполнен несколькими музыкальными коллективами, игравшими разные мелодии одновременно. Под ногами были рассыпаны рыбьи чешуйки и лепестки цветов, в воде плавали серебристые, красные, черные точки. Цветы, что им бросали, мелькали на ветру разноцветными полосами – желтые, розовые, красные. Водитель повернулся к ним, не смотря на дорогу:
– Послушайте, как дугла играют соку, местную музыку, слушайте, как соревнуются пять лучших групп в Порт-оф-Спейн.
Они проехали старый район – заметно, что он застроен очень давно, здания были сложены из мелкого крошащегося кирпича и накрыты сморщенной металлической кровлей или даже тростником. И все казалось древним, мелким, и люди тоже были мелкими и темнокожими.
– В деревнях индусы, в городах негры. Тринидад и Тобаго смешивает их, и получаются дугла.
Трава застилала землю, проглядывала из каждой трещины в стене, росла на крышах, в рытвинах, всюду, кроме участков с новым, еще не потрескавшимся асфальтом, – это был взрывной всплеск зелени, тянущейся из всех поверхностей земли. А густой воздух исходил паром!
Затем они покинули старый район и оказались на широком асфальтированном бульваре, по обе стороны которого высились крупные деревья и мраморные здания.
– Эти наднациональные небоскребы казались выше, когда их строили, но теперь они ничто по сравнению с проводом.
Кислый пот, сладкий пар, все светится зеленью – он закатил глаза, мучительно справляясь с тошнотой.
– У тебя все нормально?
Насекомые жужжали, воздух был таким горячим, что он не мог даже предположить, какая стояла температура – она была просто за пределами его шкалы восприятия. Он тяжело уселся между Майей и Саксом.
Машина остановилась. Он снова встал, не без труда, и выбрался из нее. Идти было тяжело: он валился с ног, все плыло перед глазами. Майя крепко держала его за руку. Он коснулся своих висков, задышал ртом.
– У тебя все нормально? – спросила она озабоченно.
– Да, – ответил Ниргал и попытался кивнуть.
Теперь они ехали по комплексу новых простеньких зданий. Неокрашенное дерево, бетон, голая грязь, покрытая теперь раздавленными лепестками цветов. И повсюду – люди, почти все в карнавальных костюмах. В глазах – ощущение палящего солнца, оно никак не проходило. Его повели к деревянному помосту, под которым ликовала толпа.
Миловидная темноволосая женщина в зеленом сари, перевязанном белым кушаком, представила четверку марсиан всем собравшимся. Лежащие за ними холмы согнулись, будто зеленые огоньки под сильным западным ветром; теперь стало прохладнее, чем прежде, ослабли запахи. Майя встала перед микрофонами и камерами, и всех этих лет как не бывало – она говорила четкими, отделенными друг от друга предложениями, которые встречали живой отклик слушателей, словно звучали вопрос-ответ, вопрос-ответ. Знаменитость, за которой следил весь мир, довольная своей харизмой, она выдавала им то, что показалось Ниргалу похожим на ее речь в Берроузе в переломный момент революции, когда она сплотила и увлекла толпу в парке Принцесс. Или на что-то в этом роде.
Мишель и Сакс отказались говорить и подманили Ниргала, чтобы тот вышел навстречу толпе и зеленым холмам, тянущимся вверх к самому солнцу. Какое-то время он стоял и не слышал собственных мыслей. Белый шум радостных возгласов, плотные звуки в еще более плотном воздухе.
– Марс – это зеркало, – произнес он в микрофон, – в котором Земля видит собственную суть. Переезд на Марс стал очищающим путешествием, сорвавшим прочь все, кроме самого необходимого. То, что прибыло туда, было насквозь земным. А то, что происходило потом, служило выражением земных мыслей и земных генов. А значит, мы можем принести больше пользы родной планете не какой-то материальной помощью в виде редких металлов или новых разновидностей генов, но тем, что поможем увидеть самих себя. Заметить весь невообразимый масштаб. Так мы внесем свой небольшой вклад в создание великой цивилизации, готовящейся вот-вот вступить в права. Мы – примитивные представители неизвестной цивилизации.
Громкие овации.
– Вот как мы видим это на Марсе – как длительный процесс эволюции, сквозь века – к справедливости и миру. Люди будут учиться и придут к пониманию того, что зависят друг от друга и от своей планеты. На Марсе мы поняли, что лучший способ выразить эту взаимозависимость – жить, чтобы отдавать, следуя культу сострадания. Каждый человек свободен и равен в глазах других, каждый трудится на благо всех. И этот труд делает нас еще более свободными. Не нужно признавать никакой иерархии, кроме одной: чем больше мы отдаем, тем величественнее становимся. И сейчас во время большого наводнения, побуждаемые большим наводнением, мы видим расцвет этого культа сострадания, проявляющийся на обеих наших планетах одновременно.
Он сидел в окружении шума. Затем разговоры смолкли и началось что-то вроде публичной пресс-конференции, где они отвечали на вопросы миловидной женщины в зеленом сари. Ниргал вместо ответов задавал ей свои вопросы, расспрашивая о новом комплексе зданий, где они находились, о положении острова, и она отвечала поверх комментариев и смеха довольной толпы, все еще наблюдавшей за ними из-за стены репортеров и камер. Женщина оказалась премьер-министром Тринидада и Тобаго. Как она объяснила, эта маленькая страна, занимавшая два острова, бо́льшую часть прошлого столетия была против своей воли подчинена власти наднационального «Армскора», и лишь с началом наводнения они, наконец, разорвали этот союз «и все остальные колониальные связи». При этих словах толпа заулюлюкала! И она улыбнулась, довольная своим народом. Ниргал понял, что она тоже была дугла и удивительно красивой женщиной.
Комплекс, в котором они находились, как объяснила премьер-министр, был одним из десятков госпиталей, построенных на обоих островах, с тех пор как началось наводнение. Их строительство было для островитян первостепенным делом в условиях их новой свободы. Они создавали центры, помогавшие жертвам наводнения, давая им всем сразу и кров, и работу и оказывая медицинскую помощь, включавшую процедуру омоложения.
– Все ее проходят? – спросил Ниргал.
– Да, – ответила женщина.
– Хорошо! – произнес удивленный Ниргал: раньше он слышал, что на Земле это редкость.
– Думаете? – сказала премьер-министр. – У нас говорят, что это приведет к некоторым затруднениям.
– Да, действительно приведет. Но я считаю, это все равно необходимо делать. Предоставить лечение всем, а потом думать, что можно сделать.
Прошла минута или две, прежде чем можно было хоть что-то расслышать среди всеобщего гомона. Премьер-министр попыталась успокоить людей, но из толпы вышел невысокий мужчина в модном коричневом костюме, встал перед женщиной и продекламировал в микрофон, раззадоривая людей с каждым новым предложением:
– Марсианин Ниргал – сын Тринидада! Его папа, Десмонд Хокинс-Безбилетник, Койот Марса, из Порт-оф-Спейн, и у него еще осталось здесь много сторонников! «Армскор» купил нефтяную компанию и пытался купить и остров, но они связались не с тем островом! Дух вашего Койота не взялся из ниоткуда, маэстро Ниргал, он появился на Т-и-Т! Он странствовал там, учил всех по законам Т-и-Т, и теперь там все стали дугла, понимают путь дугла и охватили им весь Марс! Марс – это Тринидад и Тобаго!
При этих словах толпа восторжествовала, и Ниргал, следуя порыву, подошел к мужчине и обнял его, а потом отыскал лестницу и спустился к людям, и те обступили его со всех сторон. Он находился в гуще запахов. Слишком шумно, чтобы думать. Ниргал прикасался к людям, пожимал руки. Люди прикасались к нему. А их взгляды! Каждый из них был ниже его ростом, это их смешило, и в каждом лице был целый мир. Черные точки оказались у него перед глазами, и внезапно все потемнело. Он испуганно огляделся вокруг: на западе масса облаков стянулась над темной полосой моря, и передняя ее кромка заслонила солнце. И пока он находился в толпе, облачная гряда наползла на остров. Толпа рассыпалась: люди переместились в укрытия деревьев, под навесы, на вместительные крытые автобусные остановки. Майя, Сакс и Мишель потерялись где-то в толпе. Облака были темно-серыми в нижней части, а выше – белыми и прочными, но непрерывно изменяющимися. Задул сильный прохладный ветер, и по грязи застучали крупные капли. Четырех марсиан затолкали под крышу открытого павильона, где для них было приготовлено место.
Затем дождь хлынул так, как Ниргал не видывал прежде: он лил стеной, грохотал, громко хлестал по внезапно расширившимся лужам и ручьям, все взрывалось миллионами маленьких белых капель, и целый мир снаружи их павильона оказался размыт падающей водой, превратившись в единую смесь зеленых и бурых оттенков.
Майя усмехнулась:
– Как будто на нас проливается целый океан!
– Столько воды! – воскликнул Ниргал.
Премьер-министр пожала плечами:
– Такое случается каждый день в сезон дождей. Сейчас дождя выпадает еще больше, чем раньше, хотя и тогда было немало.
Ниргал тряхнул головой и почувствовал, что у него стучит в висках. Во влажном воздухе было больно дышать. Ему казалось, будто он тонет.
Премьер-министр что-то им объясняла, но Ниргал едва ее слушал: так у него болела голова. Любой участник движения за независимость мог устроиться на работу в филиале «Праксиса», и в первый год работы такие участники строили центры спасения. Процедура омоложения являлась обязательной при поступлении каждого работника и проходила в нововыстроенных центрах. При этом можно было поставить имплантаты для ограничения рождаемости – с возможностью потом их удалить либо оставить на постоянной основе, и многие ставили их, чтобы внести вклад в общее дело.
– Детей потом заведем, время еще будет.
Но люди хотели здесь работать – желающими были почти все. «Армскору» пришлось объявить те же условия для сотрудников, что и в «Праксисе», чтобы сохранить людей, поэтому не было большой разницы, на какую организацию работать: на Тринидаде все было одинаково. Только что прошедшие процедуру выходили и строили новые дома, занимались сельским хозяйством или производили медицинское оборудование. Тринидад процветал перед наводнением, совместив в себе крупные запасы нефти и инвестиции наднационалов в «гнездо». Постепенно, в годы, следовавшие за прибытием непрошеных наднационалов, здесь сложилась традиция, благодаря которой сформировалась основа сопротивления. Теперь же у них развивалась целая инфраструктура, связанная с процедурой омоложения. Их положение вселяло надежду. Каждый лагерь вокруг центров спасения вмещал в себя кандидатов на прохождение лечения, которые сами и отстраивали свой лагерь. Разумеется, люди были готовы защищать подобные места. Если бы даже «Армскор» захотел завладеть этими лагерями, его силам безопасности было бы крайне трудно их взять. А если бы удалось, это принесло бы захватчикам мало пользы, ведь у тринидадцев уже было все для лечения. Поэтому «Армскор» мог лишь попытаться прибегнуть к геноциду, если бы захотел, а в остальном возможностей вернуть контроль над ситуацией у него было не много.
– Остров просто ушел от них, – заключила премьер-министр. – И ни одна армия не может это изменить. Это конец экономической касты – и вообще самого этого понятия. Это нечто новое, вклад дугла в историю, как вы сказали в своей речи. Как маленький Марс. Поэтому, когда вы здесь, видите нас, вы, внук нашего острова, вы, кто многому научил нас в своем прекрасном новом мире, – для нас это нечто особенное. Истинный праздник. – Она лучезарно улыбнулась.
– А кто тот мужчина, который там выступал?
– О, это Джеймс.
Дождь вдруг прекратился. Показалось солнце, отовсюду начал подниматься пар. Среди его белизны по коже Ниргала покатился пот. Он никак не мог перевести дух. Белый пар, черные плывущие точки.
– Кажется, мне лучше прилечь.
– О да, да, конечно. Должно быть, вы совершенно истощены. Пройдемте с нами.
Его отвели в небольшой флигель, в светлую комнату из бамбуковых досок, где не было ничего, кроме матраца на полу.
– Боюсь, матрац вам будет коротковат.
– Неважно.
Его оставили одного. Что-то в этой комнате напоминало ему интерьер домика Хироко в роще на берегу озера в Зиготе. Не только бамбук, но и размер и форма комнаты – и что-то неуловимое, может быть, вплывающий внутрь зеленый свет. Присутствие Хироко ощущалось так сильно и неожиданно, что, когда все остальные покинули комнату, Ниргал рухнул на матрац, свесив ноги с края, и заплакал в полном смятении чувств. У него болело все тело, но сильнее всего – голова. Затем он перестал плакать и погрузился в глубокий сон.
Он проснулся в маленькой темной комнате, где пахло зеленью. Он не мог вспомнить, где находился. А когда перекатился на спину, в голове вспыхнуло: Земля. Услышал шепот – и сел, испуганный. Приглушенный смех. Его схватили и прижали к матрацу чьи-то руки – но они принадлежали кому-то из друзей, он это сразу почувствовал.
– Тс-с! – произнес кто-то и поцеловал его.
Еще кто-то возился с его ремнем и пуговицами. Женщины, две, три… нет, две, обильно надушенные жасмином и чем-то еще, с двумя запахами духов, обе горячие. С потной, лоснящейся кожей. Кровь стучала у него в висках. Такое случалось с ним всего раз или два, когда он был моложе и новые крытые каньоны казались новыми мирами, а новые девушки хотели забеременеть или поразвлечься. После месяцев воздержания во время перелета стискивать женские прелести, целовать и получать поцелуи казалось ему раем, и первоначальный страх растаял под натиском рук, губ, грудей и переплетенных ножек.
– Сестрица Земля, – выдохнул он.
Откуда-то издалека доносилась музыка – пианино, стальные барабаны и таблы, – почти заглушаемая звуками ветра, гуляющего в бамбуке. Одна из женщин сидела на нем сверху, прижав его к матрацу, и ощущение ее ребер, скользящих под его руками, было незабываемым. Не разрывая поцелуя, он вошел в нее. В голове у него все еще больно стучало.
В следующий раз он проснулся взопревший и голый на матраце. По-прежнему было темно. Он оделся, вышел из комнаты и, пройдя по темному коридору, оказался на закрытом портике. Там тоже царил мрак – он проспал весь день. Майя, Мишель и Сакс сидели за столом с большой группой людей. Ниргал заверил их, что не голоден, хотя на самом деле было совсем наоборот.
Он подсел к ним. Там, в недостроенном, влажном лагере, они сидели на кухне под открытым небом. Перед ними в сумраке светился желтым костер, играя узорами на их темных лицах и отражаясь в ярких белках глаз и на зубах. Все сидевшие за столом смотрели на Ниргала. Несколько девушек улыбались, их волосы блестели, словно головные уборы из драгоценных камней, и на мгновение Ниргал испугался, что от него несет запахами секса и духов, но в дыме от костра и ароматах дымящихся, приправленных специями блюд на столе, это не могло быть заметным: в таком буйстве запахов нельзя было вычислить источник ни одного из них. И все же обонятельная система взрывалась при виде еды, горячей и пряной, с карри и кайенским перцем, кусками рыбы и рисом, овощами, обжигающими губы и горло, так что, немного поев, следующие полчаса он провел, морщась, втягивая запахи через нос и выпивая воду стаканами, чувствуя, как у него горит голова. Кто-то дал ему дольку засахаренного апельсина, и та слегка остудила ему горло. Он съел несколько горько-сладких долек.
Когда трапеза завершилась, они прибрали стол вместе, как в Зиготе или Хираньягарбхе. Снаружи танцующие начали кружить вокруг костра, одетые в сюрреалистические карнавальные костюмы и маски в виде голов зверей и демонов, точно как во время Fassnacht в Никосии. Правда, здесь маски были более тяжелыми и странными: демоны с множеством глаз и большими зубами, слоны, богини. Деревья чернели на фоне неясной черноты неба с крупными мерцающими звездами, а ветви и листья вверху были то зелеными, то черными, то снова зелеными, а затем окрашивались огнем, когда языки пламени поднимались выше, словно следуя ритму танца. Низенькая девушка с шестью руками, каждая из которых двигалась в танце, подошла к Ниргалу и Майе сзади.
– Это танец Рамаяна, – сообщила она. – Старый, как сама цивилизация, и он о Марсе, Марс мы называем Мангала.
Она знакомым движением сжала Ниргалу плечо, и он вдруг снова почуял исходивший от нее аромат жасмина. Уже не улыбаясь, девушка вернулась к костру. Таблы по нарастающей воздымались к выпрыгивающему пламени, и танцующие испускали крики. Каждый их удар отдавался у Ниргала в висках, и, несмотря на апельсины, его глаза все еще слезились от острого перца.
– Знаю, это странно, – проговорил он, – но кажется, мне опять нужно поспать.
Проснувшись перед рассветом, он вышел на веранду, чтобы посмотреть на небо, освещенное, почти как на Марсе, сначала черное, затем фиолетовое, красное, розовое и, наконец, потрясающе цианово-голубое, цвета тропического земного утра. Голова все еще болела, будто чем-то набитая, но теперь он хотя бы чувствовал себя отдохнувшим и готовым вновь сворачивать горы. Позавтракав зелено-коричневыми бананами, он вместе с Саксом присоединился к группе местных, чтобы проехаться по острову.
Куда бы они ни поехали, в его поле зрения всегда находились сотни человек. Все они были невелики ростом, причем в деревнях – смуглыми, как он, а в городах – несколько темнее. Повсюду разъезжали крупные фургоны, служившие передвижными магазинами для малолюдных деревень. Ниргал удивился худобе окружающих его людей: физический труд сделал их жилистыми и мускулистыми, иначе их руки и ноги были бы тонкими, как спички. На их фоне молодые девушки напоминали цветы, достигшие пика своей красоты.
Когда люди понимали, кто перед ними, то спешили поприветствовать его и пожать руку. Сакс, глядя на Ниргала, понимающе качал головой.
– Бимодальное распределение, – произнес он. – Не то чтобы видообразование, но, может, и оно, если пройдет достаточно времени. Островная дивергенция, очень по-дарвински.
– Я марсианин, – согласился Ниргал.
Их строения находились посреди зеленых джунглей, которые постоянно пытались отвоевать свою территорию. Более старые здания были сложены из глинобитного кирпича, почерневшего от старости и слившегося с землей. Рисовые поля располагались уступами, но настолько плавными, что казалось, будто холмы находились много дальше, чем на самом деле. А рисовые побеги имели такой светло-зеленый оттенок, которого на Марсе сроду не бывало. Вообще же здешняя зелень оказалась такой яркой, что Ниргал не мог припомнить, что видел где-нибудь подобное. Все это давило на него, такое многообразное и насыщенное, и солнце припекало ему спину.
– Это из-за цвета неба, – объяснил ему Сакс, когда Ниргал сказал ему про яркость растений. – Марсианское небо слегка приглушает зелень.
Воздух был плотным, влажным, прогорклым. На далеком горизонте светилось море. Ниргал кашлянул, вдохнул ртом воздух и постарался не обращать внимание на пульсирующую боль в висках.
– У тебя маловысотная болезнь, – предположил Сакс. – Я читал, что такое случалось с жителями Гималаев и Анд, которые спускались к уровню моря. Это от уровня кислотности в крови. Нужно было приземлиться где-нибудь повыше.
– Почему мы этого не сделали?
– Они хотели, чтобы ты появился здесь, потому что Десмонд родом отсюда. И это твоя родина. И кажется, там уже разгорелся спор о том, кто следующий приютит нас.
– Неужели здесь тоже спорят?
– Полагаю, даже больше, чем на Марсе.
Ниргал издал стон. Тяжелый, удушливый воздух…
– Я пробегусь, – сказал он и припустил вперед.
Поначалу все шло хорошо: он выполнял привычные движения, получал от организма ответные реакции, напоминавшие ему, что он все еще был собой. Но когда он попытался ускориться, то не сумел войти в ритм лунг-гом-па, при котором бег становился сродни дыханию, действием, которое можно было выполнять бесконечно. Вместо этого он начал ощущать в легких давление от тяжести воздуха и от взглядов тех низкорослых людей, мимо которых он пробегал. От веса собственного тела у него разболелись суставы. Он весил более чем вдвое больше, чем прежде, и по ощущениям словно нес еще одного человека на спине, хотя нет – весь этот вес находился внутри него. Будто кости превратились в свинец. Легкие горели и тонули одновременно, их нельзя было прочистить даже кашлем. Теперь позади него появились высокие люди, одетые в западном стиле, – они ехали на маленьких трехколесных велосипедах, разбрызгивая воду в каждой попадавшейся им луже. Но когда он прошел, то на дорогу вышли местные, не давая проехать велосипедистам; когда местные говорили или смеялись, на их темных лицах сверкали белки глаз и зубы. Лица же велосипедистов не выражали ничего – они лишь были устремлены к Ниргалу. Но отстранить толпу эти высокие никак не могли.
Ниргал направился обратно к лагерю, свернув на новую дорогу. Зеленые холмы теперь сияли справа от него. Каждый шаг болью отдавался в ногах, отчего те по ощущениям стали походить на горящие стволы деревьев. Он побежал, ему было больно от бега! А голова будто превратилась в гигантский воздушный шар. И все влажные растения, казалось, тянулись к нему, сотни оттенков зеленого слились в одну цветную полосу, заполнившую весь мир. И еще были плавающие черные точки.
– Хироко, – выдохнул он и продолжил бег теперь уже со слезами, стекающими по лицу. Но никто не сумел бы отличить его пот от его слез. – Хироко, все не так, как ты говорила!
Он ввалился в грязно-желтое здание комплекса, и несколько десятков человек проводили его к Майе. Как есть, истекая потом, он обхватил ее руками и, положив ей голову на плечо, зарыдал.
– Нам нужно в Европу, – сердито сказала Майя кому-то за его спиной. – Глупо было привозить его в эти тропики.
Ниргал обернулся. Там стояла премьер-министр.
– Так уж мы здесь живем, – сказала она, посмотрев на Ниргала с досадой и гордостью в глазах.
Но Майю это не впечатлило.
– Мы летим в Берн, – заявила она.
Они добрались до Швейцарии на маленьком космоплане, предоставленном «Праксисом». Во время перелета они смотрели на Землю с высоты тридцать тысяч метров – голубая Атлантика, скалистые горы Испании, несколько напоминающие Геллеспонт, затем Франция и, наконец, белая гряда Альп, не похожая ни на что, что Ниргалу приходилось видеть раньше. В прохладе вентилируемого космоплана Ниргал чувствовал себя как дома, хоть и ощущал сожаление по поводу того, что не смог вынести открытого воздуха на Земле.
– В Европе тебе будет легче, – заверила его Майя.
Ниргал же думал о приеме, который им устроили.
– Они тебя любят, – сказал он. Все еще ошеломленный, он сумел заметить, что остальных троих послов дугла приняли с такой же теплотой, как и его. Но Майя пользовалась особым почетом.
– Они просто рады, что мы выжили, – сказала Майя, пропустив его слова мимо ушей. – Им кажется, что мы вернулись из мертвых, будто каким-то магическим образом. Они думали, что мы умерли, понимаешь? С шестьдесят первого и аж до прошлого года они считали, что первая сотня погибла. Шестьдесят семь лет! А сейчас, когда мы вот так вернулись, при этом наводнении, когда весь мир меняется… да, для них это похоже на сказку. Выход из подполья.
– Но вернулись не все.
– Да, – она почти улыбнулась. – С этим им еще предстоит свыкнуться. Они думают, что Фрэнк жив, как и Аркадий, и даже Джон – хотя его убили задолго до шестьдесят первого и все об этом знали! По крайней мере, какое-то время. Но люди склонны к забывчивости. Это было давно. И с тех пор чего только не случалось. А люди хотят, чтобы Джон Бун был жив. Поэтому они забывают Никосию и говорят, что он до сих пор в подполье. – Она коротко и беспокойно улыбнулась.
– Как с Хироко, – заметил Ниргал, чувствуя комок в горле. На него накатила волна печали – точно как в Тринидаде, – такая, что лишает всех красок и приносит боль. Он верил, всегда верил, что Хироко была жива и пряталась где-то со своими людьми в южных горах. Это помогло ему справиться с потрясением от новости о ее исчезновении – еще тогда он не сомневался, что она сбежала из Сабиси, чтобы потом объявиться в тот момент, который сочтет нужным. Он был в этом уверен. Хотя теперь, по причине, которую сам не мог назвать, эта уверенность пропала.
В кресле рядом с Майей сидел Мишель с кислой миной на лице. Ниргал вдруг почувствовал, будто смотрится в зеркало: он знал, что на его лице такое же выражение, буквально ощущал это. И его, и Мишеля терзали сомнения – насчет Хироко и насчет чего-то другого. Никто не знал, что мучит Мишеля, но тот явно не был настроен на беседу.
И из другой части самолета за ними обоими, Ниргалом и Мишелем, наблюдал Сакс – своим типичным птичьим взглядом.
Начав снижение параллельно великой северной гряде Альп, они приземлились на полосу, окруженную зелеными полями. Затем их проводили по прохладному строению, из тех, какие были и на Марсе, и, спустившись вниз по лестнице, они сели в поезд, который с металлическим звуком проскользил к поверхности, вывез их из здания, провез по зеленым полям, и уже спустя час они оказались в Берне.
Там улицы были забиты дипломатами и репортерами, каждый из которых носил на груди бейдж и рвался поговорить с прибывшими. Город был маленький, старый, но крепкий, как скала: ощущение скопившейся в нем власти буквально витало в воздухе. Вдоль узких мощеных улочек теснились каменные здания с аркадами, вечные, как горы. S-образная река Аре заключала основную часть города в одно большое ярмо. Толпившиеся в том квартале люди – главным образом европейцы, эти пытливого вида белые, повыше большинства землян, – околачивались здесь, поглощенные своей болтовней, роясь вокруг марсиан и их охраны, теперь состоявшей из швейцарской военной полиции в голубой униформе.
Ниргал, Сакс, Мишель и Майя получили комнаты в главном офисе «Праксиса», который располагался в небольшом каменном здании у самой реки Аре. Ниргалу казалось удивительным стремление швейцарцев строиться как можно ближе к ней: подъем уровня воды даже на пару метров приведет к беде, но им было все равно. Очевидно, они контролировали реку достаточно плотно даже при том, что та спускалась с самой крутой горной гряды, что Ниргалу когда-либо приходилось видеть! Вот оно, настоящее терраформирование – неудивительно, что дела у швейцарцев так хорошо шли и на Марсе.
Здание «Праксиса» стояло всего в паре кварталов от старого центра города. Несколько офисов в средней части полуострова, рядом со швейцарским федеральным правительством, занимал Мировой Суд. И каждое утро они прогуливались по вымощенной булыжником главной улице, Крамгассе, невероятно чистой, свободной и пустой по сравнению с любой улицей Порт-оф-Спейна. Они миновали средневековую башню с часами, отличающимися украшенным орнаментом циферблатом и стрелками, напоминающими какую-нибудь алхимическую диаграмму Мишеля, преобразованную в трехмерный объект; затем зашли в здание Мирового Суда, где побеседовали о положении на Марсе и на Земле с многочисленными группами – представителями ООН, национальных правительств, сотрудниками наднациональных компаний, благотворительных организаций, прессой. Все желали знать, что происходит на Марсе, что Марс собирался предпринять дальше, чем мог бы помочь Земле. Ниргал без труда общался с большинством тех, кого ему представляли; они вроде бы вполне понимали ситуацию на обеих планетах, не питали ложных надежд относительно способности Марса каким-либо образом «спасти Землю». Они не ожидали ни возврата контроля над Марсом, ни установления мирового наднационального порядка, который имел место перед наводнением.
Однако, судя по всему, марсиан оградили от людей, которые были настроены к ним более враждебно. Майя была в этом совершенно уверена. Она обратила внимание на то, насколько часто переговорщики и интервьюеры проявляли то, что она называла «террацентричностью». По сути, их ничто не волновало, кроме дел на Земле; Марс в некотором роде представлял интерес, но не был так уж важен. Стоило Майе указать на это отношение однажды, и Ниргал стал подмечать его снова и снова. Это возымело на него успокаивающее действие. Конечно, подобное мышление существовало и на Марсе: там местные уроженцы неизбежно бывали ареоцентричными, и это выглядело логичным и отвечало природе вещей.
Вскоре ему стало казаться, что именно с землянами, проявлявшими особо сильный интерес к Марсу, возникало больше всего трудностей. Сюда относились определенные представители наднационалов, чьи корпорации серьезно вложились в терраформирование, а также члены правительств стран, страдающих от перенаселения и готовых с радостью выслать на Марс побольше людей. И он сидел на встречах с людьми из «Армскора», «Субараси», Китая, Индонезии, «Амекса», Индии, Японии и Японского наднационального совета, слушал их предельно внимательно и старался больше задавать вопросы, чем говорить сам. Там он увидел, что некоторые из их верных до этого момента союзников, особенно Индия и Китай, были готовы отступиться от своих обязательств и стать для них серьезной проблемой.
Когда он рассказал об этом Майе, та многозначительно кивнула, помрачнев.
– Наша единственная надежда на то, что нас спасет большое расстояние, – произнесла она. – Наше счастье, что до нас можно добраться только космическим перелетом. Поэтому какого бы развития ни достигла транспортная система, для эмиграции всегда будет существовать бутылочное горлышко. Тем не менее нам необходимо постоянно оставаться начеку. Только здесь об этом лучше сильно не распространяться. И вообще здесь лучше говорить поменьше.
Во время обеденных перерывов Ниргал просил своих сопровождающих – а его каждую секунду сопровождали более десятка человек – проводить его в кафедральный собор, который, как кто-то ему объяснил, здесь называли Чудовищем. С одной его стороны высилась башня, на которую можно было подняться по узкой спиральной лестнице, и почти каждый день Ниргал делал несколько глубоких вдохов и взбирался по ней, задыхаясь и потея ближе к верхушке. В ясные дни, которые выпадали не часто, ему удавалось разглядеть вдали за открытыми арками верхнего помещения неровную альпийскую гряду, которая, как он узнал, называлась Бернским высокогорьем. Зубчатая, белая, она тянулась от горизонта к горизонту, точно какой-нибудь марсианский уступ, только вся покрытая снегом – вся, кроме треугольных скал, обнаженных с северной стороны и имеющих светло-серый цвет, не похожий ни на что на Марсе. Гранит. Гранитные горы, возникшие при столкновении тектонических плит. И было видно, с какой несокрушимой силой это произошло.
Между этой величественной белой грядой и Берном находилось множество хребтов поменьше – травянистых холмов, похожих на те, что видели в Тринидаде, и холмов, заросших темно-зелеными хвойными лесами. Здесь было столько зелени, что Ниргал вновь изумился тому обилию растительной жизни Земли, тому, как литосфера была накрыта плотным древним одеялом биосферы.
– Да, – проговорил однажды Мишель, глядя вместе с ним на этот пейзаж. – Сейчас биосфера проникла даже во многие высокогорные районы. Жизнь течет ручьем повсюду, все буквально кишит ею.
Мишелю не терпелось побывать в Провансе. Это было рядом – всего час перелета или ночь в поезде, а все, что происходило в Берне, для него было не более чем бесконечными политическими пререканиями.
– Наводнение, революция, вспышка на солнце – они все равно будут продолжать свое! Вам с Саксом это по силам, вы можете делать то, что нужно делать, лучше, чем я.
– А Майя тем более.
– В общем, да. Но ее я хочу взять с собой. Она должна это увидеть, иначе не сможет понять.
Майя, однако, была поглощена переговорами с ООН, которые теперь, когда на Марсе приняли новую конституцию, приобретали все более серьезный характер. ООН все еще выступала в интересах наднационалов, тогда как Мировой Суд поддерживал новые «кооперативные демократии», так что многочисленные споры, возникавшие в залах для заседаний и по видеосвязи, выходили бурными, живыми, а иногда даже ожесточенными. Одним словом, важными – и Майя выходила на эту битву каждый день, а потому не могла допустить и мысли о том, чтобы уехать в Прованс. Она говорила, что бывала в молодости на юге Франции и теперь не питала особого интереса к его посещению, даже вместе с Мишелем.
– Она говорит, там не осталось пляжей! – пожаловался Мишель. – Как будто в Провансе, кроме них, ничего нет!
Как бы то ни было, ехать она отказалась. И наконец, спустя несколько недель, Мишель, пожав плечами и печально смирившись с ее решением, отправился туда сам.
В день его отъезда Ниргал провожал его на железнодорожную станцию в конце главной улицы и стоял, помахивая рукой медленно набиравшему скорость поезду. В последний момент Мишель высунул голову из окна и, широко ухмыльнувшись, помахал Ниргалу. Тот был потрясен, увидев это беспримерное выражение его лица, столь быстро сменившее уныние от отсутствия Майи. Затем Ниргал ощутил радость за друга, а после этого – вспышку зависти. Ведь у него самого не было такого места, отправиться в которое он счел бы за счастье, – ни одного такого места ни на одной из планет.
Когда поезд скрылся из виду, Ниргал двинулся пешком по Крамгассе в привычном окружении охраны и репортеров. Подойдя к двумстам пятидесяти четырем ступеням спиральной лестницы Чудовища, взгромоздил на ее вершину все две с половиной массы своего тела, чтобы посмотреть на южную сторону Бернского высокогорья. Он проводил здесь много времени, отчего иногда даже пропускал первые послеобеденные встречи, полностью оставляя их Саксу и Майе. Швейцарцы подходили к организации дел с присущей им серьезностью. Все встречи шли по расписанию и начинались в указанное время, а если что-то сбивалось, то это было не по их вине. Они были в точности такими, как швейцарцы на Марсе – Юрген, Макс, Присцилла и Сибилла, – с их чувством порядка и соответствующим ему поведением, с лишенным страсти спокойствием, предсказуемым соблюдением приличий. Койот над этим смеялся либо презирал, считая угрозой для жизни, но, глядя на этот изящный каменный город вокруг, наводненный цветами и столь же процветающими людьми, Ниргал думал: что-то в этом все-таки есть. У него так долго не было своего дома. И если Мишель мог уехать в Прованс, то для Ниргала такого места не существовало. Его родной город был погребен под полярной шапкой, а мать бесследно исчезла, и все места, где он побывал потом, были просто местами, где все повсюду менялось. Его домом стала изменчивость. А глядя на Швейцарию, понять ее было очень трудно. Он хотел, чтобы у него тоже появилось такое родное место, с чем-нибудь вроде этой черепичной кровли, каменных стен и такое крепкое, что простояло бы тысячу лет.
Он постарался сосредоточиться на встречах в Мировом Суде и Федеральном дворце. «Праксис» по-прежнему стоял во главе борьбы с наводнением, хорошо справляясь и без планов и уже превратившись в кооперативного производителя основных товаров и услуг, включая процедуру омоложения. Марсиане видели результаты в Тринидаде: по большей части в этом была заслуга местных движений, но «Праксис» помогал подобным проектам по всему миру. Говорили, что Уильям Форт критически относится к такой роли этого «коллективного транснационала», как он называл «Праксис». И его мутировавшая наднациональная организация была лишь одной из сотен, что активизировались после наводнения. По всему миру они боролись с проблемой переселения жителей прибрежных районов и строительства или переноса инфраструктуры куда-нибудь выше.
Эта свободная сеть восстановительных работ, однако, встречала сопротивление со стороны наднационалов, которые жаловались на то, что значительная часть инфраструктуры, капитала и рабочей силы теперь переходили к местным властям, национализировались, изымались. Их открыто разворовывали. Нередко возникали стычки, особенно там, где они не прекращались и до этого. Наводнение, как-никак, грянуло в разгар очередного кризиса, и, пусть оно изменило мировой порядок, старые распри все равно продолжались – причем бывало, что их выдавали за борьбу с наводнением.
Сакс Расселл прекрасно об этом знал и имел убеждение, что мировые войны 2061 года так и не избавили земную экономическую систему от ее основных недостатков. Он то и дело подчеркивал это во время встреч, каждый раз в своей странной манере, и Ниргалу казалось, что Сакс пытался убедить скептиков из ООН и наднациональных организаций в необходимости прибегнуть к методам «Праксиса», если они хотят выжить вместе со всей цивилизацией. Что их заботило сильнее – они сами или вся цивилизация, было не особо важно, как Сакс объяснил Ниргалу, когда они остались наедине. Даже если бы они установили какое-нибудь макиавеллистическое подобие системы «Праксиса» – уже в ближайшее время все будет одинаково, но до тех пор им нужно было как-то мирно сотрудничать.
И на каждой встрече он до боли сосредотачивался, был логичным и участливым, особенно по сравнению со своей глубокой задумчивостью во время перелета на Землю. А Сакс Расселл все-таки считался самим Терраформатором Марса, живым аватаром Великого Ученого, занимал важнейшее место в земной культуре. Ниргалу казалось, что он был кем-то вроде Далай-ламы от науки, непреходящей реинкарнацией воплощения научного духа, созданной культурой, которая будто могла принять только одного ученого за раз. В то же время для наднационалов Сакс служил главным создателем крупнейшего нового рынка в истории – и это было существенным дополнением к его ауре. А также, как указала Майя, он принадлежал к группе вернувшихся из мертвых, был одним из лидеров первой сотни.
Все это вместе, наряду с его странными запинаниями, помогло создать его образ для землян. Обычные затруднения речи превратили его в оракула; земляне, казалось, верили, что он рассуждал в такой возвышенной плоскости, что мог говорить только загадками. Наверное, они просто этого хотели. Такой они видели науку – ведь нынешняя теоретическая физика рассматривала реальность в виде ультрамикроскопических струнных петель, с идеальной симметричностью перемещающихся в десятке измерений. Поэтому люди и привыкли к тому, что физики были такими чудаковатыми. А растущая польза от переводческих искинов позволяла приспособиться к самым странным оборотам речи; почти все, с кем общался Ниргал, говорили по-английски, но каждый раз это был немного другой английский, так что Земля казалась ему скоплением идиолектов, где не было и двух человек, которые говорили бы одинаково.
Сакса же здесь слушали с предельной серьезностью.
– Наводнение служит отметкой переломного момента в истории, – сказал он однажды утром на большом общем собрании в зале заседаний Федерального дворца. – Оно стало природной революцией. На Земле изменились погодные условия, поверхность суши, морские течения. Размещение людей и животных. При таком положении просто нет причин пытаться восстановить допотопный мир. Да это и невозможно. Зато есть множество причин установить и усовершенствовать общественный порядок. Тот, что был раньше – не годится. Он приводил к кровопролитию, голоду, невольничеству, войне. К страданиям. Ненужным смертям. Пусть смерть будет всегда, но пусть она наступает для каждого как можно позднее. При завершении достойной жизни. В этом и состоит цель любого рационального общественного порядка. Поэтому мы рассматриваем наводнение как возможность… такую же, какая была на Марсе… возможность разорвать шаблон.
Представители ООН и советники наднационалов насупились при этих словах, но все равно слушали. И весь мир смотрел. Ниргал подумал, что все эти европейские лидеры не имели такого значения, как жители деревень, следившие за человеком с Марса по видео. А когда «Праксис», швейцарцы и их союзники по всему миру бросили все силы на помощь беженцам и стали проводить процедуру омоложения, люди повсюду сплотились воедино. Если можно было жить, спасая мир, если это сулило лучшую возможность для стабильности и долголетия, лучшее будущее для детей – то почему бы и нет? Почему нет? Что этим людям терять? Поздний наднациональный период принес выгоду части людей, но миллиарды оказались брошены или попали в непрерывно ухудшающееся положение.
Поэтому от наднационалов массово уходили сотрудники. Их не могли держать в заключении, их становилось тяжело запугать, и единственным способом их сохранить было создание программ наподобие той, что запустил «Праксис». И наднационалы последовали примеру – или просто говорили об этом. Майя была уверена, что они проводят лишь поверхностные изменения, нацеленные на подражание «Праксису» и, как следствие, на сохранение своих работников и прибыли. Но возможно, что и Сакс был прав, и они не способны контролировать ситуацию и заведут новый порядок вопреки своей воле.
Это Ниргал и решил заявить с трибуны в просторной боковой комнате Федерального дворца, когда у него появилась одна из немногих возможностей выступить на пресс-конференции. Стоя на подиуме и глядя на полную комнату репортеров и делегатов – такую не похожую на импровизированный стол на павлинском складе, не похожую на комплекс в тринидадских джунглях, не похожую на сцену посреди массы людей в ту безумную ночь в Берроузе, – Ниргал вдруг осознал, что его роль во всем этом заключалась в том, чтобы быть молодым марсианином, голосом нового мира. Он мог оставить здравомыслие Майе и Саксу и предложить им инопланетную точку зрения.
– Все будет хорошо, – сказал он, обводя взглядом так много людей, как только мог. – Каждое мгновение истории включает в себя смесь архаичных элементов, со всех периодов прошлого, начиная с самых первобытных времен. Настоящее всегда складывается из этих всевозможных архаичных элементов. До сих пор остались рыцари, которые прискакивают на конях и забирают зерно у крестьян. Как остались и гильдии, и племена. Сейчас мы видим, как много людей бросают работу, чтобы участвовать в борьбе с бедствием. Это уже внове, но это то же, что паломничество. Они хотят быть паломниками, следовать духовной цели, заниматься настоящим делом – важным делом. И больше не дадут никому себя ограбить. Те из вас, кто представляет аристократию, обеспокоены. Возможно, вам придется работать на себя и этим жить. Жить так же, как все остальные. И это правда – так и случится. Но все будет хорошо – даже для вас. Все хорошо в меру. И когда все равны между собой, вашим детям будет безопаснее всего. Всемирное распространение процедуры омоложения мы сейчас считаем важнейшим условием для установления демократии. Более того, это – ее физическое воплощение. Здоровье – оно для всех. И когда это произойдет, то вспышка позитивной человеческой энергии преобразует Землю буквально за несколько лет.
Кто-то поднялся и спросил его о возможности резкого роста численности населения.
– Да, конечно, – кивнул Ниргал. – Это реальная проблема. Не нужно много понимать в демографии, чтобы уяснить, что, если старики перестанут умирать, а дети продолжат рождаться, население быстро разрастется до немыслимых чисел. Неподъемных чисел, которые приведут к катастрофе. Итак. Об этом нужно думать уже сейчас. Рождаемость необходимо просто сократить, по крайней мере, на какое-то время. Это не та ситуация, что будет длиться вечно. Процедура омоложения не дает бессмертия. Первые поколения, которые ее прошли, в конечном счете умрут. И в этом лежит решение проблемы. Скажем, сейчас на обеих планетах проживает пятнадцать миллиардов человек. Это значит, что мы уже начинаем с невыгодного положения. Но, если вы собираетесь заводить детей, вам не на что жаловаться, ведь это ваше долголетие приводит к проблеме, а родительство есть родительство – неважно, один у вас ребенок или десять. Так что если, скажем, каждая семья заведет всего по ребенку, то получится только один ребенок на каждых двух человек предыдущего поколения. Тогда, скажем, выходит семь с половиной миллиардов детей от родителей нынешнего поколения. И конечно, все они пройдут процедуру омоложения и станут наслаждаться всеми богатствами мира. У них будет четыре миллиарда детей, у тех – два миллиарда и так далее. Все они будут жить одновременно, и население будет постоянно расти, но все медленнее и медленнее. А потом, в какой-то момент, может, через сто лет, может, через тысячу, первое поколение умрет. Это может случиться за сравнительно короткий отрезок времени, но быстро ли, медленно ли, и все-таки, когда это произойдет, общая численность населения сократится почти вдвое. Тогда люди посмотрят на ситуацию, на инфраструктуру, на среду обеих планет – и на вместимость всей Солнечной системы. Когда самых многочисленных поколений не станет, люди, вероятно, смогут заводить по двое детей, то есть произойдет замещение и установится равновесное состояние. Или что угодно. Когда они окажутся перед таким выбором, кризис перенаселения будет уже позади. Хотя, возможно, этого придется ждать еще тысячу лет.
Ниргал замолчал и осмотрел слушателей: люди восхищенно смотрели на него, не произнося ни звука. Он обвел присутствующих рукой.
– А до тех пор мы должны помогать друг другу. Мы должны держать себя в руках, заботиться о планете. И здесь, в этой части, Марс может помочь Земле. Во-первых, мы являем собой эксперимент как раз на тему того, как нужно заботиться о планете. Все знают, что там происходит, и могут извлечь оттуда некоторые уроки. Затем, что еще важнее, значительная часть людей может переселиться на Марс, хотя большинство населения навсегда останется здесь. Это облегчит положение, и мы будем рады их принять. Перед нами стоит долг принять столько людей, сколько нам по силам, потому что мы, живущие на Марсе, все еще земляне и все это нас тоже касается. Земля и Марс – да и другие обитаемые объекты Солнечной системы, хоть они и не такие крупные, зато их много. А если использовать их все, действуя сообща, мы переживем те годы, которые нужны для решения проблемы перенаселения. И перейдем в золотую эпоху.
Речь Ниргала в тот день произвела впечатление и даже вызвала целую бурю в медиа. Во все последующие дни он вел переговоры с одной группой за другой, развивая идеи, которые впервые выразил на этой встрече. Эта работа здорово отнимала силы, и спустя несколько недель, проведенных таким образом, он выглянул из окна своей спальни, увидел там безоблачное утро и попросил охрану организовать ему экскурсию. Те согласились сообщить людям в Берне, что он отправился в частный тур, после чего сели в поезд и отправились в Альпы.
Поезд направлялся к югу от Берна, вдоль продолговатого и голубого Тунского озера, окаймленного крутыми травянистыми лугами, насыпями и серыми гранитными пиками. Домики в приозерных городах были увенчаны черепичной кровлей, а еще выше тянулись вековые деревья и даже старинный замок – и все находилось в превосходном состоянии. Между поселениями простирались зеленые пастбища, усеянные крупными деревянными фермерскими домами, из каждого окна и балкона которых выглядывали красные гвоздики в цветочных горшках. Как объяснили Ниргалу, их стиль не менялся уже пятьсот лет. Он врос корнями в эту землю, будто что-то совершенно естественное. Зеленые пастбища были очищены от деревьев и камней – когда-то здесь росли леса, но люди терраформировали эти места, создав огромные луга, чтобы прокормить скот. Такое земледелие не имело экономического смысла в капиталистическом его понимании, но швейцарцы все равно содержали эти фермы, потому что считали это важным или красивым, а то и тем, и другим. Это же швейцарцы. «Существуют ценности, которые выше экономических», – уверял Влад на собрании на Марсе, и теперь Ниргал видел, что на Земле есть люди, действительно верящие в это – по крайней мере, отчасти. «Wertewandel», – говорили в Берне, переоценка ценностей, хотя это могла быть и эволюция ценностей или возврат к ним. Это было скорее постепенное изменение, чем прерывистое равновесие. Эти крупные, плывущие на зеленых волнах фермы служили примером прекрасного архаизма, который продолжал существовать так долго, что эти высокогорные, отрезанные от мира долины уже показывали остальным, как жить. Желтый луч солнца прорезал облака и падал на холм позади одной из таких ферм, так что луг сиял, как изумруд, настолько насыщенным цветом, что у Ниргала вскружилась голова: тяжело было сосредоточить взгляд на такой яркой зелени!
Словно сошедший с какого-нибудь герба холм исчез, и в окне появились новые – одна зеленая волна за другой, сияющие каждая в своей действительности. В городке под названием Интерлакен поезд, повернув, начал подниматься по такой крутой долине, что кое-где пути проходили по туннелям внутри скалистых склонов, закручиваясь по спирали на все триста шестьдесят градусов, а затем возвращались к солнцу, и голова поезда снова лишь чуть-чуть возвышалась над его хвостом. Поезд мчался по обычным путям, а не по магнитным, так как швейцарцы не считали новые технологии стоящими того, чтобы производить замену того, что уже у них имелось. Поэтому поезд вибрировал и даже качался из стороны в сторону, грохотал и скрежетал, поднимаясь вверх по склону.
Они остановились в Гриндельвальде, и на станции Ниргал проследовал за своими сопровождающими в меньший поезд, который повез их в гору, прямо под огромной северной стеной Эйгера. Оттуда он увидел, что вершина простиралась всего на несколько сотен метров вверх, тогда как с расстояния в пятьдесят километров, из бернского Чудовища, она казалась куда более значительной. Теперь же он терпеливо ждал, пока маленький поезд прогрохочет по туннелю в самой горе и проделает свои кульбиты в темноте при одном только внутреннем освещении и мелькающих огоньках с одной из сторон туннеля. Его сопровождающие, порядка десяти человек, говорили между собой низкими гортанными голосами на швейцарском диалекте немецкого.
Когда они снова оказались на свету, была уже станция Юнгфрауйох, «самая высокая железнодорожная станция в Европе», как гласил знак на шести языках, – и неудивительно, ведь она располагалась в ледяном проходе между двумя крупнейшими вершинами Мёнх и Юнгфрау, на высоте 3454 метра над уровнем моря, и служила конечной станцией.
Ниргал покинул вагон – сопровождающие следом за ним – и сошел со станции на узкую террасу снаружи ее здания. Температура была около 270 градусов по Кельвину, воздух – разреженным, чистым, свежим – лучшим, каким ему приходилось дышать с тех пор, как он покинул Марс. От него слезились глаза, и это чувство было таким знакомым! Ах, значит, вот это место!
Ниргал надел солнечные очки, но все равно глаза ослеплял яркий свет. Небо имело темно-кобальтовый оттенок. Снег покрывал бо́льшую часть горных склонов, но сквозь него повсюду проглядывал гранит – особенно на северных сторонах, где склоны были слишком крутыми, чтобы его удерживать. Здесь Альпы совсем не напоминали марсианские уступы: каждая каменная глыба имела собственный вид, была отделена от остальных значительным пространством, в том числе ледниковыми долинами, представлявшими собой огромные U-образные провалы. К северу эти макротраншеи лежали далеко внизу, были насыщены зеленью или даже заполнены озерами. К югу же – располагались повыше и были заняты только снегом, льдом и камнями. Ветер в этот день дул с южной стороны, а потому приносил ледяной холод.
На дне ледяной долины, лежавшей к югу от прохода, Ниргал различил огромное неровное белое плато, куда из окружающих высоких бассейнов собирались ледники, образуя огромное место слияния. Как объяснили Ниргалу, это был Конкордиаплац. Здесь встречались четыре крупных ледника, которые затем стекали к югу в Большой Алечский ледник, самый протяженный в Швейцарии.
Ниргал спустился к краю террасы, чтобы увидеть как можно больше этого ледяного хаоса. На дальнем ее конце он заметил ступенчатую тропу, высеченную в жестком снеге южной стены, там, где она восходила к проходу. Тропа вела к леднику, находившемуся под ними, а оттуда – к Конкордиаплацу.
Ниргал попросил своих компаньонов подождать его на станции – он хотел прогуляться один. Те воспротивились, но летом на леднике не было снега, трещины были на виду, а следы – вполне различимыми для них. К тому же в этот прохладный летний день внизу никого не было. Его охранники все же колебались, и двое настояли на том, чтобы пойти с ним, хотя бы часть пути, чуть поодаль – просто на всякий случай.
Наконец Ниргал согласился на их компромисс и, подняв капюшон, принялся спускаться по ледяным лестницам. Спускаться было не очень приятно, но в конце концов он вышел на более ровный простор Юнгфрауфирна. Хребты, служившие стенами этой снежной долины, уходили к югу от Юнгфрау и Мёнха, соответственно, а затем, еще через несколько километров, резко опускались к Конкордиаплацу. С тропы их скалы казались черными – по-видимому, на контрасте с ярким снегом. Тут и там среди его белизны виднелись участки слабого розового оттенка – это были лишайники. Жизнь теплилась даже здесь – пусть и была едва заметна. Бо́льшую часть пути его окружала смесь чистых белого и черного, тогда как сверху нависал купол цвета берлинской лазури, а из Конкордиаплаца поднимался пронизывающий ветер. Он хотел спуститься на Конкордиаплац и осмотреться оттуда, но не знал, успеет ли сделать это за день: было очень трудно судить о расстояниях, плато могло оказаться гораздо дальше, чем казалось. Но он мог идти, пока солнце не проделало бы половины пути к западному горизонту, а потом повернуть обратно. И он стал быстро спускаться по зернистому льду, ощущая, будто внутри него сидит еще один человек, а еще – двоих охранников, которые шли ему вслед в паре сотен метров позади.
Довольно долго он просто шел. Это было не так уж тяжело. Бугристая поверхность льда хрустела под его коричневыми ботинками. Верхний его слой, несмотря на солнце, размягчился на солнце. Лед был слишком ярким, чтобы смотреть под ноги, даже сквозь солнечные очки. Пока он шел, льдинки отскакивали от него и чернели в воздухе.
Хребты, что высились справа и слева от него, начали понижаться. Он выходил на Конкордиаплац. Глядя вверх, он видел, как ледники уводили к другим высоким каньонам, словно ледяные пальцы на руке, тянущейся в солнцу. Запястье же тянулось к югу, где начинался Большой Алечский ледник. Сам он стоял на белой ладони, раскрытой к солнцу, возле линии жизни, получившейся из валунов. Лед здесь был с ямками и буграми и имел голубоватый оттенок.
Его подхватил ветер, закружив у него в сердце; он медленно повернулся, словно был маленькой планетой или волчком, собирающимся вот-вот упасть, попытался принять его на себя, встретить его как следует. А вокруг все такое большое, яркое, ветреное и просторное, сокрушительно тяжелое. Истинная масса белого мира! И при этом здесь присутствовала тьма, будто часть космического вакуума, проглядывавшая сквозь все небо. Он снял очки, чтобы увидеть, как все это выглядело на самом деле, и свет оказался таким резким и слепящим, что ему пришлось зажмуриться и прикрыть глаза рукой. И все равно четкие белые полосы продолжали пульсировать у него перед глазами, и даже остаточные образы вызывали сильную боль.
– Ай! – вскрикнул он и рассмеялся, решив попробовать еще раз после того, как ощущения смягчатся, но прежде, чем его зрачки снова расширятся. И он так и сделал, но вторая попытка оказалась столь же неудачной, что и первая. «Как смеешь ты смотреть на мой истинный облик?!» – безмолвно восклицал ему этот мир.
– Боже, – расчувствовался он. – Ка вау.
Он надел очки, не открывая глаз, и стал смотреть сквозь прыгающие остаточные образы. Постепенно из пульсирующих полос черного, белого и неоново-зеленого проявился девственный ледяной и скалистый пейзаж. Белый и зеленый. Значит, мир был белым. Пустой мир в безжизненной вселенной. Это место было столь же значительным, что и марсианские первозданные пустыни. Оно было таким же крупным и даже крупнее – благодаря далеким горизонтам и давящей гравитации. И более резким, более белым, даже более ветреным и холодным. Господи, ветер буквально пронзал его сердце: внезапное осознание того, что Земля была настолько огромна, что в многообразии ее территорий существовали даже более марсианские места, чем имелись на самом Марсе – что она была во многом прекраснее, что она превосходила Марс даже в своей похожести на него!
Эта мысль потрясла Ниргала. Он лишь стоял и смотрел перед собой, пытаясь ее осознать. Ветер словно умолк. Замер и весь мир. Ничто не двигалось, не издавало ни звука.
Заметив наступившую тишину, он начал вслушиваться в нее, но ничего не мог расслышать, только сама тишина становилась все более осязаемой. Она не была похожа ни на что из того, что ему доводилось слышать прежде. Он задумался: на Марсе он всегда был либо в куполе, либо выходил в костюме – всегда в окружении машин и механизмов, за исключением редких прогулок по поверхности, которые устраивал в последние годы. Но и тогда всегда слышал либо ветер, либо машины, находившиеся поблизости. Он их просто не замечал. А сейчас стояла глубокая тишина, тишина самой вселенной. И это было совершенно невообразимо.
А потом он снова начал слышать звуки. Кровь в ушах. Воздух, проходящий через нос. Тихий шелест собственных мыслей – казалось, они тоже издавали звуки. Его тело, начиненное органическими насосами, вентиляторами и генераторами. Все эти механизмы находились внутри него и тоже шумели. Только теперь он был свободен от всего на свете, и в этой совершенной тишине мог слышать только себя, единственного во всем мире – свое свободное тело, стоящее на матери Земле, свободный от скал и от льдов. Мать Земля… Он подумал о Хироко, но уже без той скорби, что разрывала его сердце в Тринидаде. Когда он вернется на Марс, он сможет жить прямо вот так. Сможет выходить в тишине, абсолютно свободный, на открытое пространство, обдуваемый ветром, в чистой безжизненной белизне под темно-голубым куполом неба, в котором голубой цвет, цвет кислорода, будет символизировать саму жизнь. Венчая всю эту белизну. Словно некий знак. Белый и зеленый, только здесь вместо зеленого был голубой.
И тени. Среди тусклых следовых образов лежали длинные тени, тянущиеся с западной стороны. До Юнгфрауйоха было далеко, да и располагался он намного ниже. Ниргал повернулся и начал подниматься по Юнгфрауфирну. Его двое спутников, находившиеся вдалеке выше по тропе, кивнули и, повернув вверх, тоже прибавили шагу.
Довольно скоро они оказались в тени хребта с запада, потеряв солнце из виду до конца этого дня. Ветер теперь задувал им в спины, подгоняя вперед. Стало по-настоящему холодно. Но такая температура была ему привычна, как и этот воздух, лишь слегка разреженный. И несмотря на вес, ощущавшийся внутри него, он начал взбираться по хрупкому уплотненному льду легкой трусцой, ощущая, как его бедра реагируют на нагрузку, переходят в свой старый ритм лунг-гом-па, легкие работают в полную силу, равно как и сердце, также старавшееся справиться с дополнительным весом. Но он был достаточно силен, а это был один из высокогорных марсоподобных регионов Земли, и он хрустел ногами по льду, с каждой минутой чувствуя себя все сильнее, потрясенный, возбужденный, трепещущий перед этой невероятной планетой, где было столько белизны и столько зелени, чья орбита была расположена так изящно, что зелень разливалась от уровня моря, а когда достигала высоты трех тысяч метров, ее устилала белизна – и это составляло естественную зону жизни шириной в эти три тысячи. И Земля вращалась как раз в этой тонкой и воздушной биосфере, ограниченной несколькими тысячами метров, по орбите со средним радиусом в 150 миллионов километров. Это было слишком прекрасно, чтобы в это поверить.
От напряжения Ниргал начал чувствовать покалывание в коже, по телу распространилось тепло, достав даже до пальцев ног. Он начинал потеть. Холодный воздух ощутимо придавал сил; он чувствовал, что взял темп, который мог сохранять часами, но, увы, в этом не было необходимости: впереди и чуть выше простиралась снежная лестница с перилами из канатов. Его сопровождающие его опередили и уже поднимались по последнему склону. Скоро там, на этой маленькой то ли железнодорожной, то ли космической станции, должен будет оказаться и он. Ох уж эти швейцарцы, о чем они думали, когда это строили?! Этот громадный Конкордиаплац можно посетить, всего на день выехав из столицы! Неудивительно, что им так нравится Марс: они больше всех похожи здесь на марсиан – строители, терраформирователи, любители прохладного разреженного воздуха.
И, преисполненный симпатии к ним, он вышел на террасу, оказался на станции, где пот вдруг хлынул с него ручьем, а когда приблизился к своей группе и остальным пассажирам, ожидавшим следующего поезда, он весь так лучился счастьем, что хмурые взгляды его спутников (он видел, что ожидание их утомило) сошли с их лиц, и они, переглянувшись, заулыбались и понимающе закачали головами: мол, что тут поделаешь? Им оставалось лишь ухмыляться и наблюдать за происходящим с ним – они все побывали впервые в Альпах еще молодыми, в один из таких же солнечных летних дней, ощущали такое же воодушевление и помнили, каково это. И они просто пожимали ему руку, обнимали и двинулись дальше, проводя в поезд, ведь как бы то ни было, не стоило заставлять поезд ждать. А когда тот набрал ход, обратили внимание на его горячие руки и лицо, стали спрашивать, куда он ходил, и рассказали, сколько он прошел километров и на какой был высоте. Передали ему флягу со шнапсом. Когда же поезд вошел в боковой туннель, что тянулся по северной стороне Эйгера, они рассказали Ниргалу историю о неудачной попытке спасения обреченных нацистских альпинистов. Та сильно его впечатлила, и они сами пришли в восторг. И только после этого, наконец, расселись по светлым отсекам поезда, который со свистом спускался по грубому гранитному туннелю.
Ниргал стоял в конце своего вагона и смотрел на проносящуюся мимо породу, взорванную динамитом, а когда они снова вырвались на свет, поднял глаза на неясно вырисовывающуюся стену Эйгера. Рядом с ним остановился пассажир, шедший в следующий вагон.
– Удивительно видеть вас здесь, должен признаться, – заметил он с необычным британским акцентом. – Только на прошлой неделе я столкнулся с вашей матерью.
– С моей матерью? – ответил Ниргал в замешательстве.
– Да, Хироко Ай. Верно же? Она была в Англии, работала с некоторыми людьми в устье Темзы. Я видел ее, когда там проезжал. Удивительное совпадение встретить теперь и вас здесь, должен признаться. Так и хочется подумать, что скоро я начну то и дело видеть маленьких красных человечков.
Мужчина рассмеялся над своими словами и двинулся к следующему вагону.
– Эй! – позвал Ниргал. – Подождите!
Но тот лишь на секунду остановился.
– Нет-нет, – проговорил он через плечо. – Я не хотел вмешиваться… да и вообще, это все, что мне известно. Вам стоит ее поискать, может быть, в Ширнессе…
Затем поезд остановился на станции в Клайне-Шайдеге, и мужчина выскочил в следующий вагон через открытую дверь. Когда Ниргал попытался проследовать за ним, путь ему преградили другие люди, а охрана принялась объяснять, что ему нужно сейчас же доехать до Гриндельвальда, если он хотел попасть домой в эту ночь. С ними Ниргал поспорить не мог. Но, выглянув из окна, когда они тронулись со станции, он снова увидел заговорившего с ним британца – тот быстрым шагом спускался по тропе в сторону какой-то тенистой долины.
Он приземлился в крупном аэропорту на юге Англии, откуда его повезли на северо-запад в город, который его спутники назвали Фавершам. За ним дороги и мосты были затоплены. Он распорядился, чтобы его визит остался в секрете, а сопровождением его здесь оказался полицейский отряд, больше напоминавший ему представителей сил безопасности ВП ООН, чем его швейцарскую охрану: восемь мужчин и две женщины, молчаливые, с пристальными взглядами, все в себе. Когда они услышали, что он намеревался сделать, то захотели найти Хироко, разослав своих людей, чтобы те опросили местных. Но Ниргал был уверен, что это лишь заставит ее скрыться, и настоял на том, чтобы отправиться на поиски без лишнего шума. И ему удалось их убедить.
Они въехали при сером рассвете, оказавшись в новой приморской части города, теперь находившейся прямо посреди зданий: кое-где тянулись линии сложенных в кучу мешков с песком между размокшими стенами, кое-где – просто сырые улицы, подтопленные темной водой, доходящей до самого горизонта. То тут, то там над грязными лужами валялись деревянные доски.
На дальней стороне одной из линий мешков начиналась бурая вода, за которой уже не было зданий, а к решетке окна, наполовину скрытого под грязной пеной, было привязано несколько лодок. Ниргал проследовал за одним из своих сопровождающих к большой гребной лодке и поздоровался с поджарым мужчиной с румяным лицом и в грязной кепке, низко натянутой на лоб. Очевидно, он служил своего рода водным полицейским. Мужчина вяло подал Ниргалу руку, и они отчалили, двинувшись по мутной воде. За ними плыли еще три лодки с остальными охранниками Ниргала, тревожно посматривающими по сторонам. Гребец в главной лодке что-то сказал, и Ниргал попросил его повторить: его речь звучала так, словно у него было всего полязыка.
– Вы говорите на кокни? – спросил Ниргал.
– Кокни, – улыбнулся тот.
Ниргал улыбнулся в ответ и пожал плечами. Это слово он вспомнил из какой-то книги и не знал его точного значения. Он слышал тысячи разных диалектов английского, но этот он едва понимал. Мужчина стал говорить медленнее, что мало помогло. Он описывал район, из которого они выплыли, и указывал на что-то; здания были затоплены почти по самые крыши.
– Ракушки, – произнес он несколько раз, указывая веслами.
Они причалили к плавучему доку, привязали лодку к чему-то напоминавшему дорожный знак с надписью «OARE»[14]. В доке уже стояло несколько лодок покрупнее. Водный полицейский привязал свою к одной из них и указал на металлический трап, приваренный к ее ржавому борту.
– Проходите.
Ниргал взобрался на борт. На палубе стоял мужчина такого малого роста, что ему пришлось вытянуться, чтобы пожать Ниргалу руку, хотя рукопожатие у него оказалось крепким.
– Значит, вы марсианин? – проговорил он голосом таким же живым, как и у гребца, но понять его почему-то оказалось гораздо легче. – Добро пожаловать на борт нашего маленького исследовательского судна! Я слыхал, вы приехали поохотиться на старую азиатку?
– Да, – ответил Ниргал, чувствуя, как у него быстрее забилось сердце. – Она японка.
– Хм-м, – мужчина сдвинул брови. – Я видел ее лишь раз, но все-таки не назвал бы ее японкой, она, скорее, откуда-нибудь из Бангладеш. Азиаты теперь повсюду, с тех пор как началось наводнение. Хотя кто ее знает, да?
На борт поднялась четверка сопровождающих Ниргала, и хозяин судна нажал кнопку запуска двигателя, повернул штурвал и уставился вперед. Корма слегка опустилась в воду, их закачало, и затем они наконец начали удаляться от затопленных зданий. Небо затянули низкие тучи и, как и море, оно было коричнево-серым.
– Мы выйдем за причал, – проговорил маленький капитан.
Ниргал кивнул и спросил:
– Как вас зовут?
– Блай. Б-Л-А-Й.
– А я Ниргал.
Мужчина также ответил кивком.
– Значит, это были доки? – спросил Ниргал.
– Это Фавершам. Здесь были болота – Хэм, Магден… И так до самого острова Шепп. Тут шла протока Суол. Скорее топь, чем река, если вы понимаете, о чем я. А сейчас если выбраться сюда в ветреный день, то здесь все равно что Северное море. А Шеппи – не более чем холм, который виден и отсюда. Теперь это настоящий остров.
– А там, где вы видели… – Ниргал не знал, как ее назвать.
– Ваша азиатская бабуля прибыла на пароме из Флиссингена в Ширнесс, на другую сторону этого острова. Темза сейчас затопила улицы в Ширнессе и Минстере, а во время прилива вода там поднимается до самых крыш. Сейчас мы в Магден-Марш, и нам нужно обогнуть Шелл-Несс – а то в Суоле можно увязнуть.
Вокруг них повсюду плескалась грязная вода, изборожденная длинными извилистыми полосами желтеющей пены. На горизонте же она была серой. Блай крутанул штурвал, и они порезали короткие крутые волны. Лодка покачнулась и заходила ходуном вверх-вниз, вверх-вниз. Ниргалу никогда еще не доводилось плавать. Сверху же нависали серые тучи, и между их нижними кромками и рябью воды оставалась совсем узкая полоска чистого неба. Лодка кренилась то в одну сторону, то в другую, балансируя, как поплавок. Это был жидкий мир.
– Так гораздо ближе, чем было раньше, – заметил из-за штурвала капитан Блай. – Будь вода почище, прямо под нами был бы виден Сэйес-корт.
– Какая здесь глубина? – спросил Ниргал.
– Смотря какой прилив. Перед наводнением весь этот остров был где-то на дюйм выше уровня моря, так что насколько оно поднимается, такая же тут и глубина. Сейчас вроде говорят, двадцать пять футов. Больше, чем нужно этой старушке, это уж точно. У нее очень малая осадка.
Он повернул штурвал вправо, и волны ударили по борту так, что лодка несколько раз клюнула носом.
– Вон, пять метров, – он указал рукой. – Харти Марш. Видишь там картофельную грядку, где вода бурлит? Как будто великан утонул и его похоронили в грязи.
– А сейчас прилив?
– Да, почти полный. Через полчаса начнет спадать.
– Трудно поверить, что Луна может так сильно притягивать океан.
– Что, не веришь в гравитацию?
– О, вполне верю: она прямо сейчас давит на меня. Просто трудно поверить, что что-то находящееся так далеко может так сильно к себе притягивать.
– Хм-м, – отозвался капитан, вглядываясь в мглу, что застилала обзор впереди. – Я сейчас расскажу, во что трудно поверить. Трудно поверить в то, что кучка айсбергов может выместить столько воды, что океаны по всему миру поднимутся так, как поднялись.
– Да, в это трудно поверить.
– Поразительно, но это правда. Но доказательство здесь, перед нами. А вот вам и туман.
– Погодные условия тоже стали хуже, чем вы привыкли?
Капитан усмехнулся.
– Я бы сказал, несоизмеримо хуже.
Туман плыл мимо них влажной пеленой, а вода дымилась и шипела. Разглядеть что-то было трудно. Вдруг Ниргала озарило счастье, даже несмотря на неприятные ощущения в желудке при каждом замедлении хода между гребнями волн. Он плыл по водному миру, и свет, наконец, стал терпимым. Впервые с тех пор, как он прибыл на Землю, он мог перестать щуриться.
Капитан снова повернул штурвал, и они поплыли уже вместе с волнами на северо-запад, к устью Темзы. Слева по борту из буро-зеленой воды виднелся буро-зеленый гребень, весь застроенный зданиями.
– Это Минстер. Точнее, то, что от него осталось. Он был единственным высоким участком на острове. А Ширнесс вон там – где что-то торчит из воды.
Под низко опустившейся дымкой Ниргал увидел что-то вроде черного рифа в белой пенистой воде, разлетавшейся брызгами во все стороны.
– Это Ширнесс?
– Ага.
– Оттуда все уехали в Минстер?
– Или еще куда-нибудь. В Ширнессе жило порядочно упрямцев.
Затем капитан переключил все внимание на то, чтобы провести лодку сквозь затопленную приморскую часть Минстера. В том месте, где линия верхушек крыш выступала над волнами, стояло крупное здание без крыши и выходящей к морю стены, и между тремя оставшимися стенами стояла вода, а перекрытия верхних этажей служили доком. Здесь было пришвартовано три рыбацких судна, и, когда они подошли, несколько мужчин, находившихся там, взглянули на них и помахали руками.
– Кто это? – спросил один из них, когда Блай, замедлившись, входил в док.
– Он из марсиан. Мы ищем ту азиатку, которая помогала в Ширнессе на той неделе, не видели ее?
– В последнее время нет. Уже, наверное, пару месяцев. Я слышал, она уехала в Саутенд. В окрестностях должны знать.
Блай кивнул.
– Хочешь осмотреть Минстер? – спросил он у Ниргала.
Ниргал нахмурился.
– Я бы лучше встретился с людьми, которые могут подсказать, где она.
– Ага.
Блай вывел лодку из дока и развернул ее. Ниргал смотрел на ее окна, обшитые досками и залепленные пластырем, полки на стене каюты, записки, приколотые к балке. Когда они миновали затопленный Минстер, Блай взял микрофон на спиральном шнуре, нажал какие-то кнопки и провел несколько коротких сеансов связи. О чем говорили, Ниргал не разобрал: непонятные фразы перемежались с ответами, выплывающими из помех.
– Пойдем в Ширнесс. Прилив позволяет.
И они направились прямо в белую воду, где пена затянула затопленный город и медленно тянулась по улицам. В центре ее вода была спокойнее. Из серой жижи выглядывали дымовые трубы и телефонные столбы, и Ниргал пару раз заметил внизу очертания домов и строений, но вверху вода была такой пенистой, а внизу такой густой, что видно было совсем не много: скат крыши, намек на тротуар, слепое окно.
На дальней стороне города находился плавучий док, прикрепленный к бетонному столбу, выпирающему среди волн прибоя.
– Это старый паромный причал. Одну его секцию отрезали и пустили на воду, а теперь еще откачали его офисы внизу и опять их заняли.
– Заняли?
– Увидишь.
Блай соскочил на качающийся планширь и протянул руку Ниргалу, но тот, выпрыгнув, все равно припал на одно колено.
– Давай, Человек-Паук. Идем вниз.
Бетонный столб, к которому крепился док, доставал человеку до груди. Как оказалось, он был полым, и по внутренней его стороне вниз уходила металлическая лестница. В пазах висели электрические лампочки на обрезиненном шнуре, обвивавшем один столб лестницы. Бетонный цилиндр тянулся вниз метра на три, но лестница на этом не заканчивалась и переходила в большой отсек, теплый, сырой, с рыбным запахом и шумом генераторов, работавших в соседнем помещении или здании. Стены, пол, потолки и окна были покрыты чем-то, что оказалось слоем прозрачного пластика. Они находились в каком-то пузыре из этого прозрачного материала, тогда как снаружи окон была вода, мутная и бурая, пузырящаяся, как помои в раковине.
На лице Ниргала отчетливо отразилось удивление. Блай, увидев это, улыбнулся и сказал:
– Это было хорошее, прочное строение. А изоляция сделана из материала, похожего на ту шатровую ткань, что вы используете на Марсе, только эта затвердевает. Здесь у нас заняли таким образом несколько зданий, которые были подходящего размера и на нужной глубине. Вставляли трубку и все – надували, как стекло. И многие, кто жил в Ширнессе, туда вернулись и плавают между доков и своих крыш. Мы называем их людьми прилива. Они считают, что лучше так, чем просить милостыню где-нибудь в Англии.
– А на что они живут?
– Рыбачат, как и всегда. И спасают суда. Эй, Карна! Вот мой марсианин, поздоровайся. Там, откуда он прибыл, он еще считается мелковатым! Зови его Человек-Паук.
– Это ж Ниргал, да? Дерите меня черти, если я стану звать Ниргала Человеком-Пауком, когда он попал ко мне в гости!
И мужчина, темноволосый и смуглый, похожий на азиата лишь внешне, но не акцентом, учтиво пожал Ниргалу руку.
Комната была ярко освещена парой огромных прожекторов, направленных на потолок. Блестящий пол был весь заставлен столами, скамьями, техникой на всех этапах сборки – лодочными моторами, насосами, генераторами, катушками, чем-то неизвестным Ниргалу. Работающие сейчас генераторы стояли дальше по коридору, но это, казалось, ничуть не спасало от шума. Ниргал подошел к стене, чтобы получше рассмотреть изоляционный материал. Как ему сказали друзья Блая, толщиной он был всего в несколько молекул, но мог выдерживать тысячи фунтов давления. Ниргал представил, что каждый фунт – это как удар кулаком, и он мог выдержать их тысячи.
– Эти пузыри останутся здесь, даже когда не будет никакого бетона.
Он спросил насчет Хироко. Карна пожал плечами.
– Я и не знал, как ее зовут. Думал, она тамилка, из южной Индии. И я слышал, она уехала в Саутенд.
– Это она помогла тут все устроить?
– Ага. Привезла эти пузыри из Флиссингена – она и еще несколько таких же. Они тут здорово поработали, мы-то гнездились в Хай-Холстоу, пока они не явились.
– А зачем они приехали?
– Не знаю. Но явно были из какой-то береговой группы поддержки, – он усмехнулся. – Хотя они приехали не за этим. А то выглядело так, будто они просто ездили по побережью и строили всякое из обломков ради удовольствия. Межприливная цивилизация, вот как они это называли. Шутили, как обычно.
– Эй, Карнасингх, эй, Блай! Хороший денек, ага?
– Ага.
– Как насчет трески?
Следующая комната оказалась кухней, где обеденная зона была заставлена столами и скамейками. За едой сидело человек пятьдесят, и Карна, крикнув: «Эй!» – громко представил всем Ниргала. Его поприветствовали разобщенным бормотанием. Все были поглощены едой – большими мисками рыбного рагу, которое они зачерпывали из огромной кастрюли черными котелками, которые выглядели так, будто ими постоянно пользовались уже несколько веков. Ниргал сел с ними, ему наполнили чистую миску, опустошив котелок, – рагу оказалось хорошим. Хлеб же был твердым, как сама столешница. Лица людей выглядели грубыми, щербатыми, просоленными. И подрумяненными – у тех, кто не был смуглым. Ниргалу еще не приходилось видеть таких неприглядных лиц, высушенных и утомленных суровой земной жизнью со всеми ее тягостями. Громкая болтовня, взрывы смеха, крики – генераторы были еле слышны. Потом все стали подходить, чтобы пожать Ниргалу руку и посмотреть на него вблизи. Некоторые из них видели азиатку и ее друзей и с воодушевлением описывали ее. Но никому из них она даже не назвала своего имени. По-английски она говорила хорошо – медленно и четко.
– А думал, она пакистанка. У нее такие восточные глаза, если вы понимаете, о чем я. Не как у вас, без этой складочки около носа.
– Эпикантальная складка, дубина ты этакий.
Ниргал чувствовал, что сердце у него забилось сильнее. В комнате было жарко и душно.
– А люди, что были с ней?
Некоторые из них были с Востока. Азиаты. И только один или двое белых.
– А высокие были? – спросил Ниргал. – Как я?
Ни одного. Хотя… Если группа Хироко и вернулась на Землю, то молодые, скорее всего, остались бы на Марсе. Даже Хироко не смогла бы уговорить их всех на такой шаг. Разве мог Франц покинуть Марс? А Нанеди? Ниргал в этом сомневался. Вернуться на Землю в час нужды… старики могли и слетать. Да, это было похоже на Хироко: он мог представить, как она плавала по новым берегам и снова обустраивала жилища.
– Они уехали в Саутенд. Собирались идти вверх по побережью.
Ниргал взглянул на Блая, и тот кивнул: можно проделать то же самое.
Но сопровождающие Ниргала хотели сначала все проверить, кое-что проработать. Тем временем Блай и его друзья говорили о различных подводных спасательных проектах, и когда он услышал, что телохранители Ниргала предлагают отложить дела, то спросил его, не желает ли он увидеть такую операцию, которую проведут следующим утром, – «хотя в этом, конечно, маловато приятного». Ниргал согласился, охрана не возражала при условии, что кто-нибудь из охранников пойдет с ними. Все поддержали идею.
Так они провели вечер в промозглом и шумном подводном складе, где Блай с друзьями подбирали Ниргалу инвентарь. А ночевали на коротких узких кроватях на лодке Блая, качаясь, как в большой неудобной колыбели.
Следующим утром они пробрались сквозь легкую мглу марсианских оттенков – розового и оранжевого, раскинувшуюся над тихой лиловой гладью воды. Было время почти полного отлива, и спасательная бригада в сопровождении трех охранников Ниргала маневрировала на большом судне Блая и трех маленьких моторных лодках между верхушками дымовых труб, дорожных знаков и электрических столбов, изредка переговариваясь между собой. У Блая была потрепанная книга с картами, и он зачитывал названия улиц Ширнесса, ориентируясь по знакомым складам и магазинам. Имущество из многих складов в районе верфи было уже спасено, но оставалось еще больше складов и магазинов в тех кварталах, что находились за линией приморской части города, и как раз один из них служил целью этого утра.
– Так, сюда, Карлтон-лейн, два. – Здесь, рядом с небольшим рынком располагался ювелирный магазин. – Поищем драгоценности и консервы – в разумном соотношении, так сказать.
Они пришвартовались к верхушке биллборда и остановили двигатели. Блай выбросил за борт небольшой предмет на проводе и вместе с тремя другими мужчинами собрался вокруг экранчика на приборном щитке его лодки. Тонкий провод разматывался с катушки, и та вращалась с неприятным скрипом. На экране мутное изображение сменялось с коричневого на черный и обратно.
– Как вы понимаете, на что смотрите? – спросил Ниргал.
– Мы не понимаем.
– О, смотрите, вон дверь, да?
– Нет.
Блай набрал что-то на кнопочной панели под экраном.
– Ну, давай, штуковина этакая! Так, мы уже внутри. Это, по-видимому, рынок.
– Они успели забрать свои вещи? – спросил Ниргал.
– Не всё. Тем, кто жил на восточном побережье Англии, пришлось уехать почти одновременно, поэтому транспорт позволил вывезти столько, сколько вместилось в их машины. В лучшем случае. А многие побросали свои дома, ничего не тронув. Вот мы теперь и тащим оттуда все, что того стоит.
– И что думают хозяева?
– А у нас есть реестр. Мы заходим туда, находим людей, если получается, и снимаем процент за спасение, если они хотят оставить добро себе. Если в реестре их нет, мы просто все продаем на острове. Людям нужна мебель и все такое. Вот, смотри – сейчас узнаем, что тут у нас.
Он надавил на кнопку, и экран прибавил яркости.
– О да. Холодильник. Он бы нам пригодился, но его хрен оттуда вытащишь.
– А как же дом?
– Да мы его взорвем. Если правильно расставить заряды, все пройдет чисто. Но не сегодня. Этот мы просто подцепим и дадим ходу.
Блай и еще один мужчина смотрели на экран, тихо споря о том, куда отправляться дальше.
– Этот город мало чем мог похвастать и до наводнения, – объяснил Блай Ниргалу. – Тут потихоньку спивались последние пару сотен лет, с тех пор как не стало империи.
– Ты хотел сказать, с тех пор как не стало парусов, – поправил его второй мужчина.
– Какая разница. По старой Темзе с тех пор стали ходить все меньше, и все мелкие порты в устье начали приходить в упадок. И это случилось уже давно.
Наконец, Блай выключил двигатель и оглядел остальных. На их заросших щетиной лицах Ниргал увидел загадочную смесь печального смирения и счастливого предвкушения.
– В общем, за дело.
Остальные мужчины принялись доставать подводное снаряжение: водолазные костюмы, баллоны, маски, несколько скафандров.
– Мы подумали, размер Эрика тебе подойдет, – сказал Блай. – Он был тем еще здоровяком. – Он достал из забитого ящика длинный черный костюм, без ступней и кистей и только с капюшоном и маской, а не полным скафандром. – Вот и его обувь.
– Давайте примерю.
И вместе с двумя мужчинами он снял одежду и надел гидрокостюм. Потея и пыхтя, он все-таки сумел растянуть его и застегнуть молнию на узком воротнике. На костюме Ниргала был треугольный прорыв поперек левого бока, что оказалось весьма кстати, поскольку иначе он мог на него не налезть: костюм очень сдавливал грудь, хотя в ногах был довольно свободен. Один из ныряльщиков, его звали Кев, замотал V-образную прорезь клейкой лентой.
– Ничего, выдержит, один спуск уж точно. Но видишь, что случилось с Эриком? – Он похлопал Ниргала по боку. – Так что смотри не запутайся в проводах.
– Постараюсь.
Ниргал почувствовал на коже изоленту, и разорванный участок костюма внезапно показался ему неимоверно большим. Сцепиться с движущимся проводом, удариться о бетон или металл – ка, это же какая мука! Трагический удар – сколько он еще был в сознании после этого? Минуту, две? Бился в агонии, в темноте…
Он вырвал себя из этой яркой картины гибели Эрика и почувствовал дрожь. К плечу и маске прикрепили приспособление для дыхания, и он вдруг задышал холодным сухим воздухом – как ему сказали, это чистый кислород. Блай, видя, что Ниргал слегка дрожит, снова спросил его насчет погружения.
– Нет-нет, – ответил он. – Я хорошо переношу холод, а здесь вода не такая уж холодная. Тем более я уже весь пропотел в этом костюме.
Остальные ныряльщики кивнули, тоже вспотевшие. Готовиться к спуску в самом деле тяжело. Даже плавать легче: спустился по лестнице и – о да, прощай, давящая g! Попав во что-то наподобие марсианской g, а то и легче, Ниргал ощутил такое облегчение! Он с удовольствием дышал прохладным кислородом, чуть не плача от счастья во внезапной свободе движений, заплывая на глубину сквозь приятную замутненность. О да, его мир на Земле находился под водой.
Там, на глубине, все было таким же темным и неясным, как на экране, – не считая двух ярких конусов света, исходящих от налобных фонарей мужчин. Ниргал следовал за ними, плывя чуть выше и имея таким образом лучший обзор. Вода была довольно прохладной, по его ощущениям около 285 градусов по Кельвину, но чуть-чуть ее просочилось в районе запястий и под капюшон, и вода, что оказалась внутри костюма, вскоре так нагрелась от его усилий, что холодные руки, лицо и левый бок на самом деле не давали ему перегреться.
Два конуса света устремлялись то в одну, то в другую сторону: ныряльщики осматривались вокруг. Они плыли вдоль узкой улицы. Виднелись здания и бордюры, тротуары и дороги, а темная мутная вода выглядела так же зловеще, как туман на поверхности.
Они оказались перед трехэтажным кирпичным зданием, занимавшим узкое треугольное пространство на пересечении двух улиц. Кев дал Ниргалу знак оставаться на месте, и тот с радостью повиновался. Другой водолаз, державший провод, настолько тонкий, что тот был едва виден, заплыл вместе с ним в дверной проем. Затем прикрепил к проему небольшой блок и просунул в него провод. Время шло; Ниргал медленно плавал вокруг треугольного строения, заглядывая через окна второго этажа в офисы, пустые комнаты, квартиры. В некоторых из них к потолку повсплывала мебель. Уловив в одном из окон движение, Ниргал отпрянул. Он боялся наткнуться на провод, но тот находился на другой стороне здания. В загубник попало немного воды, и ему пришлось ее проглотить, чтобы можно было снова дышать. При этом он ощутил вкус соли, грязи, растительности и чего-то неприятного. Он поплыл дальше.
Кев вместе со вторым водолазом пытались протащить небольшой металлический сейф сквозь проем. Когда тот пролез, они направились вверх и подождали, пока провод не оказался почти прямо над их головами. Затем проплыли вокруг перекрестка, будто неуклюжая балетная труппа, и сейф, поднявшись на поверхность воды, исчез. Кев вернулся в здание и через некоторое время выплыл с двумя небольшими сумками. Ниргал подобрался к нему, взял одну, и, с силой оттолкнувшись ногами, они поплыли к лодке. Он вынырнул в яркий свет посреди тумана. Он бы с удовольствием вернулся обратно вниз, но Блай больше не хотел их ждать, так что Ниргал сбросил свои ласты в лодку и забрался в нее по лестнице. Сидя на скамье, он исходил потом и, сняв капюшон, почувствовал облегчение, несмотря на то что при этом дернул себя за волосы. А когда ему помогли избавиться от гидрокостюма, вязкий воздух приятно стал обволакивать кожу.
– Гляньте на его грудь – прямо как у гончей.
– Вот что значит всю жизнь дышать паром.
Мгла почти прояснилась, расступившись и открыв белое небо и солнце, сиявшее еще более яркой белизной. Ниргал вновь ощутил свой вес и несколько раз глубоко вдохнул воздух, прежде чем тело перешло на нормальный рабочий ритм. В желудке чувствовалось недомогание, легкие слегка побаливали на исходе каждого вдоха. Перед глазами у него все качалось несколько сильнее, чем можно было списать на плескание морской воды. Небо стало цинковым, солнце слепило резким светом. Ниргал сидел на месте, дыша все быстрее и мельче.
– Понравилось?
– Да! – проговорил он. – Вот бы везде здесь так себя чувствовать.
Все рассмеялись.
– На вот, выпей.
Пожалуй, нырять под воду было ошибкой. После этого ощущение g никак не могло снова нормализоваться. Ему было трудно дышать. Воздух на складе был настолько влажный, что он чувствовал, будто может сжать кулак и выпить скопившуюся в нем воду. У него болели горло и легкие. Он пил чай чашку за чашкой, но никак не мог напиться. Стены блестели от влаги, и он не понимал ничего из слов окружающих: только «эй», «эх», «о», «да» и ничего, что было бы похоже на марсианский английский. Словно они говорили на другом языке. Шекспировские пьесы его к этому не готовили.
Ночевал он опять в маленькой кровати в лодке Блая. А на следующий день охрана дала добро, и они отправились в Ширнесс и на север поперек устья Темзы, сквозь розовый туман, который стал еще гуще, чем накануне.
Вокруг не было видно ничего, кроме тумана и воды. Ниргалу случалось бывать среди облаков и раньше, особенно на западном склоне Фарсиды, где атмосферные фронты поднимались вдоль купола, но, разумеется, он никогда не видел такого, находясь в окружении воды. А каждый раз перед тем, как температура опускалась много ниже точки замерзания, облака снега, очень сухого и мелкого, кружились над землей и покрывали ее слоем белой пыли. Его вообще ни с чем нельзя было сравнить, этот жидкий мир, где рябящаяся вода сливалась с ползущим по ней туманом, где жидкость и пар бесконечно перемешивались между собой. Лодка качалась в бурном и нестройном ритме. В тумане проявились какие-то темные объекты, но Блай не удостоил их вниманием, продолжив напряженно вглядываться в окно, покрытое каплями воды и оттого еле прозрачное, и рассматривая многочисленные экранчики, что находились под окном.
Вдруг Блай выключил двигатель, и лодка, вместо того чтобы просто качаться, начала угрожающе вилять из стороны в сторону. Ниргал держался за стенку кабины и всматривался в залитое водой окно, пытаясь различить то, что заставило Блая остановиться.
– Великоватый корабль для Саутенда, – заметил тот, тихонько включая мотор.
– Где?
– По левому борту. – Он указал на экран, а затем налево. Ниргал ничего не увидел.
Блай привез их к низкому протяженному причалу, по обе стороны которого были пришвартованы лодки. Причал тянулся к северу, сквозь туман к городу Саутенд-он-Си, который также исчезал в тумане, покрывавшем склон вместе со стоявшими на нем строениями.
Блая приветствовали несколько человек:
– Хороший денек, а?
– Прекрасный, – отозвался он и принялся разгружать ящики из своего грузового отсека.
Блай спросил здешних об азиатке из Флиссингена, но те покачали головами:
– Японка? Ее тут нет, приятель.
– В Ширнессе говорят, она со своими уехала сюда.
– С чего это они так говорят?
– Потому что думают, что так и есть.
– Вот что случается, когда слушаешь людей, которые живут под водой.
– Пакистанская бабуля? – сказали у насоса дизель-генератора на другой стороне причала. – Она уехала в Шоберинесс.
Блай посмотрел на Ниргала.
– Это всего в нескольких милях на восток. Если бы она была здесь, они бы об этом знали.
– Тогда давайте проверим, – ответил Ниргал.
И, пополнив запасы топлива, они покинули причал, двинувшись сквозь туман на восток. Слева от них время от времени показывался застроенный склон. Они обогнули мыс и повернули на север. Блай привез их в еще один плавучий док, где стояло много лодок, эти были поменьше тех, что они видели в Саутенде.
– Эту китайскую шайку? – переспросил беззубый старик. – Они ушли в залив Пигс! Сделали нам теплицу! И что-то навроде церкви.
– Пигс – это следующий причал, – объяснил Блай, с задумчивым видом выруливая из дока.
И они поплыли к северу. Береговая линия здесь целиком состояла из затопленных зданий. Их построили так близко к морю, что было очевидно: у местных жителей не имелось никаких причин опасаться изменений уровня воды. Но потом это случилось, и возникла странная земноводная зона, межприливная цивилизация, влажная и качающаяся в тумане.
В зданиях поблескивали окна. Заполненные прозрачным изоляционным материалом, помещения были откачаны и заселены; верхние их этажи располагались чуть выше пенистых волн, нижние – чуть ниже их. Блай подвел лодку к комплексу плавучих доков, где его приветствовала группа женщин в спецовках и желтых плащах, которые латали большую черную сеть. Он выключил двигатель.
– К вам азиатка приезжала?
– Ага. Она внутри, в том здании в конце.
Ниргал почувствовал, как у него участился пульс. Он потерял равновесие, так что ему пришлось схватиться за борт. Сойти с лодки, пройти в док. Спуститься в последнее здание, прибрежный пансион или вроде того, изрядно уже потрепанный и сверкающий трещинами, но изолированный и наполненный воздухом. Сквозь плещущуюся серую воду смутно виднелись зеленые растения. Он положил руку Блаю на плечо. Маленький капитан провел его к двери, помог спуститься по узким ступенькам, в комнату, вся стена которой оказалась прозрачной, как в грязном аквариуме.
Из дальней двери показалась миниатюрная женщина в ржавого цвета комбинезоне. С седыми волосами и темными глазами, она напоминала птицу своими быстрыми и четкими движениями. Но это была не Хироко. Она пристально их оглядывала.
Блай посмотрел на Ниргала и спросил у женщины:
– Это вы приехали из Флиссингена? И строили тут под водой?
– Да, – ответила она. – Чем могу быть полезна?
Она говорила высоким голосом с британским акцентом. На Ниргала она смотрела безо всякого выражения. В комнате были и другие люди, еще больше вошли после них. Лицо, похожее на лицо этой женщины, он видел в скале в долине Медузы. Видимо, существовала еще одна Хироко, другая, странствующая по обеим планетам и строящая всякое…
Ниргал затряс головой. Воздух здесь был, как в сломавшейся теплице. А свет – тусклый, неприятный. Он с трудом поднялся обратно по лестнице. Блай со всеми попрощался. Назад в яркий туман. Обратно в лодку. Он гнался за дымкой. Это была уловка, чтобы выманить его из Берна. Либо кто-то обознался. Или его попросту одурачили.
Блай усадил его в каюте, поближе к борту.
– Ай, да все хорошо!..
Раскачиваясь и рыская, они шли сквозь густую мглу, что смыкалась вокруг. Темный, тусклый день на волнах, плещущихся в переходном состоянии, в котором вода и туман превращались друг в друга, а их лодка была зажата между ними. Ниргала немного клонило в сон. Хироко, без сомнения, была на Марсе. И, как всегда, занималась своей работой втайне ото всех. Глупо было думать иначе. Когда он вернется, то обязательно ее найдет. Да, вот она, цель, которую он перед собой поставит. Он найдет ее и уговорит вернуться к людям. Убедится, что она выжила. Это был единственный способ убрать этот камень с души. Да, он ее найдет.
Затем, пока они шли по бурлящей воде, туман поднялся. Низкие серые облака устремились наверх, оставляя после себя следы дождя на воде. Вода убывала, и, когда они пересекли устье, течение Темзы набрало полную силу. Серо-бурая поверхность воды была похожа на кашу, волны исходили из всех направлений одновременно, и бушующая масса вспененной темной воды быстро уносилась прочь в Северное море. А потом ветер изменил направление, и волны также внезапно развернулись и понесли свои воды в море. И среди длинных полос пены плыли всевозможные предметы: ящики, мебель, крыши, целые дома, опрокинутые лодки, куски деревьев. Всякое барахло и рухлядь. Люди из экипажа Блая, стоя на палубе у борта с крюками и биноклями, сообщали капитану, что нужно обойти какой-нибудь из предметов или, наоборот, к чему-то приблизиться. Они были полностью поглощены работой.
– Что это за вещи? – спросил Ниргал у капитана.
– Это Лондон, – ответил тот. – Это чертов Лондон, его смывает в море.
Облака плыли на восток у них над головами. Осматриваясь вокруг, Ниргал видел множество мелких лодок в колеблющейся воде большого устья: люди спасали барахло или просто рыбачили. Блай махал некоторым из проходивших мимо, другим – давал гудок. Его звуки разносились ветром по всему грязно-серому устью, очевидно, передавая сообщения, – команда Блая сопровождала каждый сигнал своим комментарием.
Затем Кев воскликнул:
– Эй, а это что?! – и указал вверх по течению.
Из тумана, застилавшего устье Темзы, возник корабль с парусами, множеством парусов, четырехугольных, на трех мачтах, классического вида – он показался Ниргалу хорошо знакомым, даже несмотря на то что он никогда прежде не видел подобного. Его появление приветствовал целый хор сигналов – безумных гудков, протяжных сирен, сливающихся воедино и тянущихся все дольше и дольше, словно свора собак, которые проснулись ночью и лают ради какой-то общей цели. Поверх этих сигналов раздался резкий пронизывающий сигнал клаксона Блая, тут же слившийся с общим шумом, – Ниргалу еще не доводилось слышать ничего столь же оглушительного, от этого звука у него заболело в ушах! Плотный воздух, мощный звук – Блай ухмылялся, стуча кулаком по кнопке сигнала, остальные стояли у борта или залезли на него, даже его охранники беззвучно голосили, потрясенные неожиданным зрелищем.
Наконец Блай прекратил сигналить.
– Что это? – спросил Ниргал.
– Это «Катти Сарк»[15]! – сказал Блай и, запрокинув голову, рассмеялся. – Ее поставили в Гринвиче на вечную стоянку, а теперь, наверное, какие-то сбрендившие подонки освободили. Какая же чудесная идея! Должно быть, отбуксировали через барьер от наводнения. Посмотри на парус!
Старый клипер имел четыре или пять парусов, развернутых на каждой из трех мачт, и еще несколько треугольных между мачтами, а еще один, впереди, тянулся к бушприту. Она шла, подгоняемая сильным ветром, рассекая пену и мусор в воде острым носом, навстречу быстрым, идущим друг за другом белым волнам. У снастей, увидел Ниргал, находились люди, и большинство из них, свесившись через нок-рею, махали руками нестройной флотилии из моторных лодок. На верхушках мачт развевались флажки, и, когда с Блаем поравнялся большой синий флаг с красными крестами, он стал бить по клаксону снова и снова, а остальные снова принялись кричать. Моряк, стоявший на рее грота «Катти Сарк», замахал им обеими руками, прижавшись грудью к большому полированному цилиндру дерева. Но потерял равновесие – они все видели это, будто в замедленной съемке, – и, изобразив ртом маленькую круглую букву «о», упал навзничь в белую воду, что пенилась у борта судна. Все находившиеся на лодке Блая в одночасье воскликнули: «НЕТ!», Блай громко выругался и запустил двигатель на полную – при затихшем клаксоне тот внезапно показался очень громким. Корма лодки погрузилась глубоко в воду, и вот они уже двигались к человеку в воде, превратившемуся теперь в одну из множества черных точек, хоть и отчаянно размахивавшему руками.
Лодки со всех сторон гудели, трубили и шумели, но «Катти Сарк» так и не сбавила ход. Она шла на полной скорости, с туго натянутыми парусами, как стало видно сзади. Это было красивое зрелище. Ко времени, когда они достигли выпавшего моряка, хвост клипера был уже далеко на востоке, а мачты с белыми парусами и черными снастями резко скрылись в тумане.
– Какой славный вид! – все еще повторял один из моряков. – Какой славный вид!
– Да, да, славный, давай вылавливай этого мерзавца.
Блай перешел на задний ход, затем сбавил обороты. Они выбросили лестницу за борт и свесились туда, чтобы помочь промокшему моряку подняться по ступенькам. Наконец тот перелез через перила и встал, держась за них, дрожа в своей мокрой одежде.
– Ах, спасибо, – проговорил он между приступами рвоты.
Кев и остальные сняли с него одежду и завернули в толстые грязные одеяла.
– Ты долбаный тупица! – вскричал Блай, стоявший у штурвала. – Ты мог обойти весь мир на «Катти Сарк», а оказался на «Невесте Фавершама». Просто долбаный тупица!
– Знаю, – ответил мужчина, прежде чем его снова вырвало за борт.
Мужчины со смехом накинули ему на плечи свои куртки.
– Вот дурак, это же надо было так нам помахать!
И всю обратную дорогу до Ширнесса они высказывались о его неразумном поступке, пока несчастный высыхал, защищенный от ветра в рулевой рубке и одетый в запасную одежду, которая была ему слишком мала. Он смеялся вместе с ними, проклиная свое невезение, рассказывая о падении и заново проигрывая момент потери равновесия. Вернувшись в Ширнесс, моряки провели его в затопленный склад, накормили горячим рагу и напоили несколькими пинтами горького пива, попутно рассказывая о его падении всем, кто находился внутри или спускался по лестнице позже.
– Слышишь, этот неуклюжий кретин сегодня свалился с «Катти Сарк», когда она на всех парусах шла вниз по течению курсом на Таити!
– На Питкэрн[16], – поправил Блай.
Сам моряк, уже сильно опьяневший, рассказывал свою историю так же часто, как и его спасатели.
– Просто отпустил руки на секунду, а судно чуть пошатнулось, и вот: лечу! Лечу в воздухе. Уж не думал, что так выйдет, совсем не думал. Стоило же отпустить руки один раз, за всю дорогу! Ой, простите, меня сейчас стошнит.
– Ах, Господи, какой же это был славный вид, просто великолепный. Парусов, конечно, было больше, чем необходимо, в основном их подняли для красоты, но благослови их за это Господь! Какой вид!
Ниргал поник, у него слегка кружилась голова. Большая комната наполнилась глянцевой тьмой, лишь из нескольких точек исходил яркий свет. По сваленным объектам тянулась светотень, и все это напоминало картины Брейгеля в черно-белых тонах. И было шумно.
– Вот помню весеннее наводнение тринадцатого, Северное море было у меня в гостиной…
– Ой, только не начинай опять про наводнение тринадцатого, сколько можно это слушать?
Он вышел в отгороженное пространство в одном из углов отсека, служившее мужским туалетом, надеясь, что почувствует себя лучше, если облегчится. На полу одной из кабинок сидел спасенный моряк – его сильно тошнило. Ниргал вышел и сел на ближайшую скамью, ожидая. Мимо прошла девушка и, коснувшись рукой его лба, воскликнула:
– Вы весь горите!
Ниргал приложил ко лбу ладонь и попытался сосредоточиться на температуре.
– Триста десять по Кельвину, – прикинул он. – Вот черт!
– У вас жар, – заключила девушка.
Один из телохранителей сел рядом. Ниргал рассказал ему о температуре, и тот спросил:
– Проверишь на запястье?
Ниргал кивнул и посмотрел на данные. 309 по Кельвину.
– Черт!
– Как себя чувствуете?
– Жарко. Тяжело.
– Нужно, чтобы вас кто-нибудь осмотрел.
Ниргал покачал головой, но от этого все закружилось еще сильнее. Он лишь смотрел, как захлопотали телохранители. Подошел Блай, и они задали ему несколько вопросов.
– Ночью? – уточнил тот. Они негромко поговорили еще. Блай пожал плечами, мол, идея не из лучших, но может сработать. Телохранители продолжили расспрашивать, а Блай осушил остаток своей пинты и поднялся. Он сейчас находился на одном уровне с Ниргалом, хотя тот уже полусидел, прислонившись к столу. Они принадлежали к разным видам: Блай был приземистой, физически сильной амфибией. Знали ли они об этом до наводнения? Знают ли теперь?
Присутствующие попрощались с Ниргалом, сжав ему руку или погладив по ней. Взбираться по лестнице конусообразной трубы теперь для него было мучительно. Потом они оказались в прохладной влажной ночи, затянутой туманом. Блай, не произнеся ни слова, провел их к своей лодке. Молчал он и запуская двигатель и отдавая швартовы. И они тронулись, рассекая низкую зыбь. Впервые за все время качание на волнах вызвало у Ниргала настоящий приступ тошноты. Это было даже хуже, чем боль. Он сел на табурет рядом с Блаем и стал смотреть в серый конус подсвеченной воды и тумана, что были перед их носом. Когда в тумане стали появляться темные объекты, Блай замедлил ход и даже дал чуть-чуть назад. А потом и заглушил мотор. К тому времени, как они вошли в док на одной из улиц Фавершама, Ниргалу уже было слишком плохо, чтобы как следует попрощаться, – он сумел лишь сжать Блаю руку и мельком взглянуть в его голубые глаза. Вот это лица! В них можно было увидеть всю душу. А раньше они об этом знали? Но Блай ушел, и они сели в машину и проехали всю ночь. Вес Ниргала становился все больше – так же, как когда он спускался на лифте. Посадка на самолет, взлет во тьму, боль в ушах, тошнота, возвращение в Берн, Сакс рядом, большое облегчение.
Он был в кровати, весь в жару, дышать было влажно и больно. Из единственного окна открывался вид на Альпы. Белизна вырывалась из зелени, словно сама смерть, что была следствием жизни, обрушиваясь на него, чтобы напомнить, что viriditas – это зеленый запал, который когда-нибудь взорвется, разлив белизну новой звезды, воссоздав тот же порядок элементов, что был до того, как его переменила песчаная буря. Белый и зеленый; у него было такое ощущение, будто Юнгфрау пропихивался ему в глотку. Он хотел уснуть, избавиться от этого ощущения.
Сакс сидел рядом и держал его за руку.
– Думаю, ему необходимо почувствовать марсианскую гравитацию, – говорил он кому-то, кого словно бы и не было в комнате. – Возможно, это форма горной болезни. Или инфекция. Или аллергия. Системная реакция. В любом случае, имеется отек. Нужно срочно поднять его в самолет земля-космос и посадить в гравитационное кольцо с марсианской g. Если я прав, это поможет. Если нет – хуже не будет.
Ниргал попытался заговорить, но не мог привести в норму дыхание. Этот мир заразил его, сломал, сварил в своем пару и бактериях. Вот такой удар под ребро: у него была аллергия на Землю. Он сжал руку Сакса, втянул воздух с такой болью, будто всаживал нож себе в сердце.
– Да, – выговорил он и увидел, как Сакс сощурился. – Домой, да.
Часть пятая Снова дома
Старик сидит у постели больного. Все больничные палаты ничем не отличаются друг от друга. Чистые, белые, прохладные, наполненные мерным гулом и ярким светом. На кровати лежит мужчина – высокий, с темной кожей и густыми черными бровями. Он беспокойно спит. Старик сидит, ссутулившись над его головой. Одним пальцем касается его за ухом.
– Если это аллергическая реакция, – бормочет старик себе под нос, – то твоей иммунной системе нужно дать понять, что аллерген ей не страшен. При этом его не удалось идентифицировать. Отек легких – обычное дело при горной болезни, но его могла вызвать и смесь газов, а может, это была маловысотная болезнь. Тебя нужно избавить от воды в легких. Это здесь хорошо умеют делать. Жар и озноб могли бы поспособствовать обратной биосвязи. Только ты должен помнить, сильный жар весьма опасен. Я-то помню, как ты сходил в ванную после того, как упал в озеро. Ты был весь синий. Джеки прыгнула прямо в… нет, она вроде бы остановилась, чтобы посмотреть. Ты схватил меня и Хироко под руки, и мы все видели, как ты согреваешься. Теплообразование без мышечной дрожи – такое у всех случается, но ты это делал умышленно, и это проходило очень активно. Я никогда не видел ничего подобного. И до сих пор не знаю, как тебе это удалось. Ты был удивительным мальчиком. Люди могут дрожать по своей воле, и ты, наверное, сделал что-то подобное, только изнутри. Да это и не так важно, тебе не нужно знать, как, – тебе просто нужно это сделать. Если можешь, сделай это, только в обратную сторону. Сбрось температуру. Попробуй. Просто попробуй это сделать. Ты же был таким удивительным мальчиком.
Старик тянется к запястью мужчины и берет его в свою руку. Поднимает и сжимает.
– Раньше ты задавал вопросы. Ты был очень любознательным и добродушным. Спрашивал: «Почему, Сакс? Почему? Почему?» Забавно было постоянно тебе отвечать. Мир словно дерево, и от каждого его листа можно вернуться назад к корням. Я уверен, что и Хироко это чувствовала, она же, наверное, и была первой, кто мне об этом сказал. Слушай, в том, чтобы поехать на ее поиски, не было ничего плохого. Я сам так делал. И сделаю снова. Потому что однажды я встретил ее, на Дедалии. Она помогла мне, когда я попал в бурю. Она взяла меня за запястье. Вот точно так же. Она жива, Ниргал. Хироко жива. Она где-то там. Когда-нибудь ты ее найдешь. Давай, включай свой внутренний термостат, опускай температуру – и когда-нибудь ты ее найдешь…
Старик отпускает запястье. Тяжело садится, впадает в дрему, но продолжает бормотать:
– Ты спрашивал: «Почему, Сакс? Почему?»
Если бы не задували мистрали, он бы разрыдался: ничто не осталось прежним – ничто. Он прибыл на станцию в Марселе, которой не было, когда он покинул эти места, рядом с новым городком, которого также не было. И весь он был построен в стиле Гауди с его падающими каплями воды, что вызывало также в памяти обтекаемые формы, любимые богдановистами, отчего город напоминал Мишелю как бы растаявший Кристианаполис или Хираньягарбху. Нет, ничто не выглядело знакомым. Земля была странно плоской, зеленой, лишенной камней, лишенной je ne sals quoi[17], что делало Прованс особенным. Он не бывал здесь сто два года.
Но над всем незнакомым пейзажем веял мистраль, несущийся с Центрального массива, – прохладный, сухой, затхлый и заряженный, насыщенный отрицательными ионами или чем-то еще, что делало его таким бодрящим. Мистраль! Не важно, как все тут выглядит, это точно Прованс!
Местные сотрудники «Праксиса» говорили с ним по-французски, и он едва их понимал. Приходилось тщательно вслушиваться в слова, надеясь, что его родной язык к нему вернется, что англификация и арабизация, о которых он так наслышан, не слишком все изменили. Он поражался тому, как путался в родном языке, тому, что Французская академия не справилась со своей задачей и не сохранила, как должна была, язык таким же, каким он был в семнадцатом веке. Девушка, возглавлявшая группу его помощников из «Праксиса», вроде бы сказала, что они могут проехаться по окрестностям, все осмотреть, посетить новое побережье и так далее.
– Хорошо, – согласился Мишель.
Теперь он понимал их лучше. Возможно, дело было лишь в прованском акценте. Он следовал за ними через концентрические круги зданий, пока не оказался на парковке, ничем не отличавшейся от всех прочих. Девушка помогла ему забраться на пассажирское сиденье небольшой машины, а сама села с другой стороны, где находился руль. Ее звали Сильвией, она была невысокой, привлекательной и хорошо одетой, от нее приятно пахло, а ее странный французский не переставал удивлять Мишеля. Она завела машину, и они поехали из аэропорта. Они с шумом двигались по черной дороге, проложенной посреди ровного зеленого ландшафта, заросшего травой и деревьями. Нет, вдали виднелись и холмы, но они казались такими маленькими! А горизонт – таким далеким!
Сильвия подъехала к ближайшему побережью. С обзорной точки на вершине холма им открылся далекий вид на Средиземное море, в этот день испещренное бронзовыми и серыми пятнышками, блестящими на солнце.
Спустя несколько минут безмолвного наблюдения Сильвия двинулась дальше, снова взяв курс по ровной поверхности подальше от берега. Затем они остановились на дамбе и, как она сказала, «посмотрели на Камарг». Мишель ни за что бы его не узнал. Прежде дельта Роны представляла собой широкий треугольник в тысячи гектаров площадью, заполненный солеными болотами и травой, но теперь она снова стала частью Средиземного моря. Вода в ней была бурой, тут и там из нее торчали здания, но это все равно была вода, где голубоватой линией посередине выделялось течение Роны. Арль, сказала Сильвия, находился на краю участка и снова стал морским портом. Хотя они все еще продолжали укреплять канал. Вся дельта, что находилась к югу от Арля, от Мартига на востоке до Эг-Морта на западе, с гордостью заявила Сильвия, была покрыта водой. Эг-Морта в самом деле больше не существовало: все его промышленные здания были затоплены. А все портовые сооружения сплавили в Арль или Марсель. Они уделяли много внимания тому, чтобы сделать судоходные пути безопасными для кораблей; и Камарг, и равнина Ла-Кро, что лежала восточнее, были завалены разного рода конструкциями, многие из которых все еще торчали из воды – но не все; а вода была слишком заиленной, чтобы их увидеть.
– Видите, вон железнодорожная станция, там и зернохранилища, но пристроек не видать. А вот и каналы, что образовались благодаря дамбам. Дамбы теперь стали вроде рифов. Видите линию серой воды? Дамбы все еще разрушаются, когда их прорывает течение Роны.
– Хорошо, что тут хотя бы нет больших волн, – сказал Мишель.
– Точно. Иначе войти в Арль было бы для кораблей большой удачей.
Волны в Средиземном море были мелкими, и рыболовные и грузовые суда каждый день открывали проходимые пути. Также предпринимались попытки укрепить главный канал Роны, используя новую лагуну, а заодно восстановить боковые каналы, чтобы лодкам, возвращающимся вверх по течению, более не приходилось с ним бороться. Сильвия указывала Мишелю на детали, которых он не замечал, и рассказывала ему о внезапных изменениях канала Роны, опасных мелях, оторвавшихся буях, пробитых корпусах кораблей, разливах нефти, новых маяках, сбивающих с толку, – ложных маяках, устанавливаемых злоумышленниками для неосторожных моряков, – и даже о классических пиратах в открытом море. В новом устье Роны жизнь была полна интересного.
Спустя некоторое время они вернулись в машину, и Сильвия повезла их на юго-восток, до самого побережья, настоящего побережья между Марселем и Кассисом. Эта часть средиземноморского берега, как и Лазурный Берег на востоке, представляла собой гряду крутых утесов, резко обрывающихся у моря. Утесы, конечно, все еще возвышались над морем, и на первый взгляд Мишелю показалось, что этот участок побережья изменился гораздо меньше, чем затопленный Камарг. Но после нескольких минут молчаливых наблюдений у него было уже другое мнение. Камарг всегда был дельтой и ею и остался, значит, ничего существенного там не произошло. Но здесь…
– Пляжи исчезли.
– Да.
Этого и следовало ожидать. Но пляжи составляли всю суть этого побережья, – те самые пляжи, где лето было долгим и окрашенным в песочные тона, где обнаженные люди нежились на солнце, будто животные, где бывали пловцы, парусники, царил дух карнавала и тянулись теплые волнительные ночи. И все это исчезло.
– Их уже никогда не вернуть.
Сильвия кивнула.
– И так везде, – сухо проговорила она.
Мишель посмотрел на восток: утесы опускались в бурое море до самого горизонта, который лежал вроде бы аж на мысе Кап-Сиси. Далее следовали все крупные курорты – Сен-Тропе, Канны, Антиб, Ницца, его родной Вильфранш-сюр-Мер и другие модные пляжные местечки, что располагались между ними. Крупные и мелкие, все они были затоплены грязно-бурым морем, плещущимся о бледные разрушенные породы, пожелтевшие безжизненные деревья. А пляжные тропинки скрывались в белых волнах прибоя, – грязных волнах, что омывали улицы покинутых городов.
На белесых скалах колыхались зеленые деревья, что росли выше новой береговой линии. Мишель уже и не помнил белизны местных скал. Деревья же были низкими и сухими, а исчезновение растительности, сказала Сильвия, в последние годы составляло серьезную проблему, вызванную тем, что люди вырубали леса ради древесного топлива. Но Мишель почти не слушал ее: он рассматривал затопленные пляжи, пытаясь припомнить их песчаную, горячую, эротичную красоту. Но все пропало. Глядя на грязные волны, он понял, что эти пляжи плохо сохранились у него в памяти, как и дни, проведенные здесь, все эти праздные дни, превратившиеся теперь в пятно, будто лицо умершего друга. Он уже не помнил.
Марсель, однако, уцелел. Конечно, единственным участком побережья, за который можно было не беспокоиться, самым уродливым его участком, был город. Кто бы сомневался. Его доки затопило, как и ближайшие к ним районы, но здесь был большой уклон, и те районы, что располагались выше, продолжали жить своей жалкой жизнью. Крупные корабли все еще заходили в бухту, длинные плавучие доки передвигались к ним, чтобы принять груз, пока моряки наводняли город и сходили там с ума проверенными временем способами. Сильвия указала, что именно в Марселе она услышала большинство жутких историй, произошедших от устья Роны до любого другого места в Средиземноморье, где карты больше ничего не значили, – о домах мертвецов между Мальтой и Тунисом, о нападениях берберских пиратов…
– Марсель стал похож на себя больше, чем в предыдущие столетия, – сказала она и ухмыльнулась, отчего Мишелю вдруг привиделась ее ночная жизнь, бурная и, вероятно, немного опасная. Ей нравился Марсель. Машину встряхнуло, когда она попала в одну из выбоин на дороге, – так же подскочил и его пульс, когда его, обдуваемого мистралем, что суетился вокруг старого мерзкого Марселя, поразила вдруг мысль об этой шальной девице.
Больше похож, чем в предыдущие столетия. Пожалуй, это относилось ко всему побережью. Здесь не осталось ни туристов, ни пляжей – туризма не стало как такового. Крупные пастельные отели и жилые здания стояли полузатопленные, точно детские кубики, оставленные на берегу во время отлива. Когда они подъехали к Марселю, Мишель заметил, что во многих из этих строений заново были заселены верхние этажи – Сильвия объяснила, что в основном там жили рыбаки; в помещениях нижних этажей они, несомненно, держали свои лодки, как озерные люди в доисторической Европе. Все старое возвращается.
И Мишель смотрел в окно, пытаясь осмыслить новый Прованс, изо всех сил стараясь совладать с потрясением от случившихся в нем изменений. Он убедил себя в том, что со временем благодаря волнам, размывающим подножия утесов, и мощным речным течениям, несущим сюда пески, здесь еще образуются новые пляжи. Возможно, это даже не займет много времени, пусть поначалу они и будут состоять из грязи или камней. А что касается того рыжеватого песка… что ж, может, течения и поднимут немного утонувшего песка на новый берег, кто знает? Но почти наверняка Прованс утрачен безвозвратно.
Сильвия привезла их к следующей продуваемой ветром обзорной площадке с видом на море. Бурая вода простиралась до самого горизонта, а ветер, идущий с суши, позволял им смотреть на волны как бы сзади, производя тем самым необычный эффект. Мишель попытался вспомнить прежнюю, сверкающую на солнце голубую гладь. В Средиземноморье встречалось несколько оттенков голубого: чистая, беспримесная Адриатика, толика цвета вина в Эгейском море… Теперь же все стало бурым. Бурое море, лишенные пляжей утесы, блеклые каменистые холмы, как в пустыне. Пустоши. Нет, ничто не осталось прежним.
Сильвия, наконец, заметила, что он долго молчит. Она отвезла его на запад, в Арль, и поселила в небольшом отеле в самом сердце города. Мишелю еще не приходилось жить в Арле, и его мало что с ним связывало, но рядом с отелем находился офис «Праксиса», и других идей, где можно было бы остановиться, у него не было. Они вышли, и он ощутил всю тяжесть земной g. Сильвия подождала внизу, пока он тащил свою сумку по лестнице. И вот он стоял в небольшом номере, бросив вещи на кровать, весь напряженный, отчаянно желая найти свой родной край, вернуться домой. Здесь же все было не то.
Он спустился по лестнице и зашел в соседнее здание, где Сильвия уже занималась какими-то другими делами.
– Я хочу кое-куда поехать, – сообщил он.
– Поедем, куда скажете.
– В район Валабри. К северу от Юзеса.
Она ответила, что знает, где это.
Когда они прибыли на место, день уже близился к вечеру. Они оказались на поляне между старой узкой дорогой и склоном, занятым оливковой рощей и обдуваемым мистралем. Мишель попросил Сильвию посидеть в машине, а сам выбрался навстречу ветру и пошел вверх по склону между деревьями, наедине со своим прошлым.
Его старый mas[18] стоял в северной части рощи, на краю плато, что возвышалось над оврагом. От него остались лишь кирпичные стены, почти погребенные среди колючих лоз ежевики, что переплетались вокруг.
Глядя сверху на развалины, Мишель обнаружил, что помнит интерьер. По крайней мере, отчасти. Здесь находилась кухня с обеденным столом возле двери, а дальше, если пройти мимо мощной стропильной балки, была гостиная с диванами и низеньким кофейным столиком, откуда вела дверь в спальню. Он прожил здесь два или три года с женщиной по имени Ив. Он не вспоминал об этом месте уже больше сотни лет. Казалось, он обо всем этом забыл, но, видя руины перед собой, он вспоминал моменты из того времени, руины иного толка. Голубую лампу в углу, что сейчас был замазан потрескавшейся штукатуркой. Репродукцию Ван Гога, приклеенную к стене, что теперь превратилась в груду кирпичей, черепицы и листьев. Мощной стропильной балки больше не было, как и ее опор в стенах. Должно быть, кто-то вынес ее, хоть и с трудом верилось, что кто-то не пожалел бы на нее сил – ведь она весила сотни килограммов. Удивительно, на что иногда шли люди. Но леса исчезали – и деревьев, достаточно крупных, чтобы можно было изготовить такую балку, осталось немного. А люди веками жили на этой земле…
В конце концов исчезновение лесов могло перестать быть проблемой. Во время пути Сильвия рассказывала о суровой зиме, дождях, ветрах – этот мистраль дул уже целый месяц. И некоторые говорили, что это никогда не закончится. Глядя на разрушенный домик, Мишель не испытывал жалости. Ему нужен был ветер, чтобы по нему ориентироваться. Удивительно, как была устроена память, – что сохраняла, что позволяла забыть. Он ступил на рухнувшую стену mas, попытался получше вспомнить это место, свою жизнь с Ив. Намеренное усилие, охота за прошлым… Вместо этого в его сознании всплыли эпизоды из той жизни, когда он был с Майей в Одессе, в соседней с ними комнате жил Спенсер. Вероятно, эти две жизни имели много общего и поэтому смешались. Ив была такой же вспыльчивой, как Майя, а в остальном la vie quotidienne[19] была la vie quotidienne, везде и во всем, особенно для конкретного человека, который таскал свои привычки за собой, будто мебель, перевозимую из одного места в другое. Пожалуй, что так.
Изнутри стены домика когда-то были покрыты чистой бежевой штукатуркой и увешаны картинами. Сейчас штукатурка осталась лишь на неровных участках, бесцветных, как наружные стены старинной церкви. Ив крутилась на кухне, точно танцовщица в хорошо знакомом танце, он видел ее со спины, ее длинные ноги были прекрасны. Взглянув на него через плечо, она рассмеялась, ее темно-русые волосы колыхались с каждым движением. Да, он помнил этот момент, что повторялся много раз. Картинка без какого-либо контекста. Он был влюблен. Хоть и заставлял ее иногда злиться. В итоге она ушла от него к кому-то другому, ах да, к учителю из Юзеса. Сколько боли! Он ее помнил, пусть это и ничего не значило для него теперь, он совсем ее не чувствовал. Прошлая жизнь. Эти развалины не могли вернуть ему ту боль. Они едва возвращали даже образы. И это пугало – словно реинкарнация была реальной и он ее пережил, а теперь видел картинки из прошлого, из жизни, от которой его отделяло несколько последовательных смертей. Вот странно было бы, будь эта реинкарнация реальной, позволяй она говорить на неизвестных языках, как Брайди Мерфи[20], чувствовать, как прошлое проносится сквозь сознание, чувствовать свои предыдущие сущности… Что ж, тогда он бы ощущал примерно то же, что ощущал, придя в это место. Но он не переживал тех былых чувств заново, не ощущал ничего, кроме того, что ничего не ощущал…
Он покинул руины и двинулся обратно между старыми оливковыми деревьями.
За рощей, похоже, кто-то ухаживал. Верхние ветки были обрезаны, а земля под ногами была ровной и заросшей короткой сухой бледной травой, пробившейся между тысячами старых серых оливковых косточек. Деревья стояли рядами, но тем не менее смотрелись настолько естественно, словно так и выросли на равном расстоянии друг от друга. Ветер слабо шумел среди качающейся листвы. Стоя посреди рощи, откуда были видны лишь оливковые деревья и небо, он смотрел, как ветер чередовал два цвета, что составляли листву, – зеленый, серый, зеленый, серый…
Он вытянул руку вверх, чтобы схватиться за ветку и рассмотреть листья вблизи. Он вспомнил, что когда разглядывал их с такого расстояния, их стороны не так уж отличались по цвету: ровный умеренный зеленый и бледный цвет хаки. Но на холме было множество этих колышущихся на ветру листьев, отчетливо разных цветов, в лунном свете становящихся белыми и серебряными. А если смотреть на них на солнце, то менялась бы, скорее, текстура – она была бы матовой или блестящей.
Он подошел к дереву, положил руки на ствол. На ощупь – вполне себе кора оливкового дерева с ее шероховатыми, неровными прямоугольничками. Серо-зеленый цвет, почти как на внутренней стороне листьев, только темнее и местами прикрытый другими оттенками зеленого, желтовато-зеленым цветом лишайника или же серо-стальным. Едва ли на Марсе росло хоть одно оливковое дерево, как не было там и Средиземного моря. Нет, он определенно чувствовал, что он на Земле. И будто ему сейчас лет десять. Он несет это тяжелое дитя в себе. Некоторые прямоугольнички на коре шелушились и отпадали. Между ними оставались неглубокие щелочки. Истинным цветом ствола, очищенного от всех лишайников, оказался бледный древесно-бежевый. Но его виднелось так мало, что трудно было сказать наверняка. Деревья были буквально облеплены лишайником – раньше Мишель этого не замечал. Ветки у него над головой были более гладкими, щелочки имели вид телесного цвета линий, лишайник и тот был гладким, напоминая зеленую пыль на ветках.
Корни были крупными и сильными. Стволы утолщались книзу, расширяясь за счет похожего на пальцы выступа с щелями и зазорами, словно шишковатые кулаки, вцепившиеся в землю. И никакому мистралю не по силам вырвать эти корни. Даже марсианский ветер их бы не снес.
Земля была усеяна старыми оливковыми косточками и скукоженными черными оливками, которые еще только превращались в косточки. Он поднял одну, еще с гладкой кожурой и сорвал ее пальцами. Выступил сиреневый сок, и, когда он лизнул его, вкус оказался совсем не похожим на вкус созревших оливок. Они были кислыми. Он откусил кусочек мякоти – по виду та напоминала сливу, – но на вкус она также была кислой и горькой, не как оливки, разве что с маслянистым послевкусием, застрявшим у него в памяти, – как дежавю Майи, – он уже делал это раньше! Детьми они часто так делали, каждый раз надеясь, что ягоды окажутся вкусными и можно будет взять с собой еды на игровую площадку, что стало бы верхом блаженства в их маленькой глуши. Но оливки (более бледного цвета, чем та, что поднял Мишель) упрямо оставались такими же неприятными, как всегда, и их кисло-горький вкус запечатлелся в его сознании, как какой-нибудь человек, которого он знал. Сейчас он казался немного приятным – потому что будил воспоминания. Может, он сам созрел для этого вкуса.
Листва кружилась под порывистым северным ветром. Пахло пылью. Мутноватый бронзовый свет, медное небо на западе. Ветви тянулись в два, а то и три его роста, а те, что располагались пониже, свисали так, что задевали его лицо. Человеческий масштаб. Дерево Средиземноморья, дерево греков, которые имели такое четкое понимание мира, видя его в правильных пропорциях, соразмерным человеческим масштабам. Деревья, города, весь их физический мир, скальные острова в Эгейском море, каменистые холмы Пелопоннесса – такую вселенную можно было пересечь поперек всего за несколько дней. Пожалуй, человеческий масштаб каждый понимал для себя по своему родному дому. Что вполне в порядке вещей для детства.
Каждое дерево напоминало животное, держащее свое оперение по ветру и вцепившееся шишковатыми ногами в землю. Покрытый листьями склон играл под напором ветра, с его неровными порывами и неожиданными моментами затишья, отчетливо заметным по движениям оперения из листьев. Это был Прованс, его самое сердце, и все подсознание Мишеля переживало каждое мгновение его детства. Обширное прескевю насыщало его целиком и переливалось через край. Жизнь в окружении всей этой природы заводила песнь, принося спокойствие, и он больше не ощущал тяжести. Сама голубизна неба служила голосом того, прежнего воплощения, восклицавшего: «Прованс! Прованс!»
Но где-то над оврагом кружила стая черных ворон, кричавших: «Ка! Ка! Ка!»
Ка. Кто придумал эту историю о маленьких красных человечках и этом названии, которое они дали Марсу? Никто не знал. У таких историй не бывает начала. В античности Ка называли двойника фараона, который изображался опускающимся на него в форме сокола, голубя или ворона.
Здесь, в Провансе, марсианское Ка опускалось на него. Черные вороны… На Марсе эти птицы летали под прозрачными куполами, сопротивляясь потокам воздуха, гонимого вентилятором, так же, как здесь – мистралям. Их не заботило то, что они жили на Марсе – он был для них родным, такой могла быть любая другая планета. А люди внизу были для них теми же опасными наземными животными, способными их убить или увезти в какое-нибудь странное путешествие. Но ни одна птица на Марсе не помнила ни перелета туда, ни жизни на Земле. Две планеты были связаны между собой лишь в человеческом разуме. Птицы только летали в поисках еды и каркали – что на Земле, что на Марсе, и так у них было всегда. Они везде чувствовали себя как дома, паря в сильных порывах ветра, седлая мистрали и крича друг другу: «Марс! Марс! Марс!» Но Мишель Дюваль – ах, Мишель! – либо пребывал разумом в двух мирах одновременно, либо терялся где-то между ними. Ноосфера была столь огромной. Где он, кто он? Как ему жить?
Оливковая роща. Ветер. Яркое солнце в медном небе. Вес его тела, горький вкус во рту – он чувствовал, будто уходил корнями в землю. Здесь был его дом – здесь и нигде еще. Это изменилось и не могло измениться никогда – ни эта роща, ни он сам. Снова дома. Снова дома. Он мог прожить на Марсе хоть десять тысяч лет, и все равно это место останется для него родным.
Вернувшись в номер отеля в Арле, он позвонил Майе.
– Майя, пожалуйста, приезжай. Я хочу, чтобы ты это увидела.
– Я работаю над соглашением, Мишель. Между ООН и Марсом.
– Я знаю.
– Это важно!
– Я знаю.
– Хорошо. За этим я и здесь, я часть этого, я в самой гуще. Я не могу просто так взять себе отпуск.
– Ладно, ладно. Только знай, что эта работа никогда не закончится. Политика будет всегда, и ты все-таки можешь взять отпуск, а потом вернуться, и все там будет по-прежнему. Но это… это мой дом, Майя. Я хочу, чтобы ты его увидела. А ты разве не хочешь показать мне Москву? Не хочешь туда съездить?
– Не хотела бы, даже если бы это было последнее место на Земле, которое осталось после наводнения.
Мишель вздохнул.
– Ну, для меня все иначе. Прошу, приезжай, посмотри, о чем я говорю.
– Может, позже, когда закончим эту стадию переговоров. Сейчас решающий момент, Мишель! На самом деле это тебе нужно быть здесь, а не мне там.
– Я могу видеть все на наручной консоли. Незачем присутствовать там лично. Пожалуйста, Майя.
Она задумалась, тронутая чем-то в его голосе.
– Хорошо, я попытаюсь. Но это будет не так сразу.
– Я буду ждать.
Последующие дни он проводил в ожидании Майи, хотя и старался отвлекаться от своего ожидания, не думать о ней. Каждую минуту своего времени Мишель занимал путешествиями на взятой напрокат машине, иногда с Сильвией, иногда в одиночку. Несмотря на пробуждение воспоминаний в оливковой роще – а может, и благодаря им, – он ощущал себя крайне растерянным. По какой-то причине его тянуло к новому побережью, его восхищало то, как местные жители приспосабливались к этому уровню моря. Он часто ездил туда по проселочным дорогам, что вели к крутым утесам и болотистым долинам. Многие из здешних рыбаков имели алжирское происхождение. Рыбалка, по их словам, не ладилась. Камарг был загрязнен затопленными промышленными объектами, а в море рыба, как правило, держалась подальше от бурой воды, в той голубизне, до которой нужно было плыть все утро, преодолевая множество опасностей в пути.
Слушать и разговаривать по-французски, пусть даже это был этот странный новый французский, было все равно что прикасаться к тем частям его мозга, что не посещались более столетия, электродом. Латимерии[21] всплывали раз за разом – в воспоминаниях о доброте женщин к нему, его жестокости к ним. Наверное, поэтому он и улетел на Марс – чтобы сбежать от себя, от того противного типа, каким он себе казался.
Что ж, если его целью было сбежать от себя – он ее достиг. И стал кем-то другим. Полезным, отзывчивым человеком, склонным к состраданию. Он уже не боялся взглянуть в зеркало. Он мог вернуться домой и столкнуться с тем, кем он был, – благодаря тому, кем стал. И сделал его таким не кто иной, как Марс.
Удивительно, как была устроена память. Фрагменты воспоминаний были такими мелкими и острыми, что походили на те шипы пушистого кактуса, которые ранили гораздо сильнее, чем можно было ожидать, исходя из их длины. Что он помнил лучше всего, так это свою жизнь на Марсе. Одессу, Берроуз, подземные убежища на юге, скрытые заставы в хаосе. И даже Андерхилл.
Если бы он вернулся на Землю в годы жизни в Андерхилле, его бы затянуло в трясину медиа. Но, исчезнув вместе с Хироко, он выпал из поля зрения, и, хоть он не пытался скрываться со времен революции, его появление во Франции, похоже, заметили лишь немногие. Масштаб текущих событий на Земле приводил к дроблению массовой культуры на части – а может, просто прошло уже много времени, ведь большинство населения Франции родилось после его исчезновения, и первая сотня была для них все равно что древней историей – впрочем, не настолько древней, чтобы вызывать интерес. Если бы вдруг объявились Вольтер, Людовик XIV или Карл Великий, они бы, наверное, получили какое-то внимание. Но психолог предыдущего столетия, эмигрировавший на Марс, планету, которая по большому счету была для них чем-то вроде Америки? Нет, такое мало кого интересовало. Он получил несколько звонков, несколько раз к нему приезжали брать интервью в вестибюле или внутреннем дворе его отеля в Арле, и после этого вышла одна-две передачи «Праксиса» о нем. Но в каждом из интервью его больше расспрашивали не о нем самом, а о Ниргале – вот чьей притягательностью здесь были очарованы.
Без сомнения, это было к лучшему. С другой стороны, обедая сам в кафе, Мишель чувствовал себя таким же покинутым, как если бы ехал в одиночном марсоходе по необжитой местности в южных горах, и столь полное игнорирование несколько огорчало – он был просто одним из множества vieux[22], из числа тех, чья неестественно долгая жизнь привела к более сложным логистическим проблемам, чем le fleuve blanc[23], если уж говорить откровенно…
Это было к лучшему. Он мог останавливаться в небольших деревнях в окрестностях Валабри, таких как Сен-Кентен-ла-Потри, Сен-Виктор-дез-Уль, Сент-Ипполит-де-Монтегю, и непринужденно беседовать с владельцами лавок, которые ничем не отличались от тех, кто держал их перед его отбытием, и, вероятно, были потомками тех людей. Они говорили на более старом, устоявшемся французском и, безразличные к Мишелю, сильнее увлекались рассказами о себе, о собственной жизни. Он ничего для них не значил, поэтому видел их такими, какие они есть. То же наблюдалось и на узких улочках, где многие были похожи на цыган – явно люди североафриканских кровей, распространившиеся так массово, как при вторжении сарацин тысячей лет ранее. Африканцы рассеивались таким образом каждую тысячу лет или около того; и это тоже было частью Прованса. Прекрасные девушки грациозно струились по улицам группками, и их черные локоны ярко блестели даже в порывах мистраля. Эти деревни были ему близки. Пыльные пластиковые знаки, все неровное и разрушенное…
Он колебался между знакомым и изменившимся, памятью и забвением. Но все больше и больше чувствовал одиночество. В одном кафе он заказал ликер из черной смородины и, сделав первый глоток, вспомнил, как сидел в этом же кафе, за этим самым столиком. А напротив сидела Ив. Пруст[24] совершенно точно назвал вкус основным агентом непроизвольной памяти, ведь долговременные воспоминания хранились или, по крайней мере, упорядочивались в мозжечковой миндалине, как раз над той частью мозга, что отвечала за вкус и запах, – а значит, запахи были тесно связаны с воспоминаниями и эмоциональной сетью лимбической системы, вплетаясь в обе эти области и образуя таким образом неврологическую последовательность: запах вызывает воспоминания, а воспоминания – ностальгию. Ностальгия – тоска по прошлому, желание его вернуть – не потому, что оно было таким чудесным, но потому, что оно просто было, а теперь его нет. Он вспомнил лицо Ив, которая что-то говорила ему через столик в этом людном помещении. Но он не помнил, ни что она говорила, ни по какому поводу они туда пришли. Конечно, не помнил. Это был просто изолированный момент, шип кактуса, образ, увиденный во вспышке молнии, а затем исчезнувший. Он больше ничего об этом не знал и не вспомнил бы, даже если бы очень сильно постарался. И все его воспоминания были такими: постарев, они становились вспышками во тьме, неопределенными, почти бессмысленными, но иногда все же приносили смутную боль.
Он проковылял из кафе своего прошлого в машину и поехал домой, через Валабри, под крупными платанами улицы Гран-Плана, к разрушенному mas – и все это неосознанно. Он, не в силах сопротивляться, снова приблизился к домику, словно тот мог вернуться к жизни. Но дом оставался все той же пыльной развалиной у оливковой рощи. И Мишель сел на стену, ощущая в себе пустоту.
Того Мишеля Дюваля больше не было. Этого тоже когда-нибудь не станет. Он переродится в новые воплощения и забудет об этой минуте, даже несмотря на эту острую боль, – точно так же, как забыл все минуты, что прожил здесь в первый раз. Вспышки, образы – человек, сидящий на разрушенной стене. Только и всего… Этого Мишеля тоже когда-нибудь не станет.
Оливковые деревья помахивали ему своими ветвями, серыми и зелеными, зелеными и серыми. Пока-пока. В этот раз они ничем ему не помогли – не открыли той эйфорической связи с прошлым, тот момент был утрачен.
В мерцающей мешанине серого и зеленого он вернулся в Арль. В вестибюле портье объяснял кому-то, что мистраль никогда не стихнет.
– Стихнет, – бросил ему Мишель, проходя мимо.
Он поднялся в свой номер и снова позвонил Майе. «Пожалуйста, – просил он. – Приезжай поскорее». Его самого злило то, что он опустился до упрашиваний. «Уже скоро», – в который раз отвечала она. Еще несколько дней, и они составят соглашение, совершенно законный документ, который подпишут ООН и независимое марсианское правительство. История вершилась на глазах. После этого она и собиралась приехать.
Мишелю была безразлична эта история. Он бродил по Арлю, ожидая ее. Потом вернулся в номер, чтобы ждать ее там. Потом снова вышел на улицу.
Римляне использовали Арль в качестве порта, равно как и Марсель, – Цезарь даже сровнял Марсель с землей за то, что тот поддержал Помпея, и сделал Арль столицей. Они построили три стратегически важные дороги с пересечением в городе, которые использовались и спустя сотни лет после падения Рима, и все это время Арль был оживленным, процветающим, значительным городом. Но Рона засорила свои лагуны илом, и Камарг превратился в мерзкое болото, после чего дороги пришли в запустение. Город зачах. Продуваемые всеми ветрами соленые травы Камарга и знаменитые стада диких белых лошадей в конечном счете слились с нефтеперерабатывающими и химическими заводами и атомными электростанциями.
Теперь, когда наводнение набрало силу, снова появились лагуны и здесь стало чище. Арль опять превратился в порт. Мишель продолжал ждать Майю в этом городе, прежде всего потому, что никогда не жил в нем прежде. Он не напоминал ему ни о чем, кроме настоящего, и он проводил здесь дни, наблюдая за людьми, живущими в своем настоящем. В этой новой чужой стране.
В отеле к нему поступил звонок от Френсиса Дюваля. Сильвия связалась со звонившим. Тот оказался племянником Мишеля, сыном его покойного брата. Он жил на улице 4 Сентября, чуть севернее Римской арены, в нескольких кварталах от разбухшей Роны и в нескольких – от отеля, где остановился Мишель. Он приглашал его в гости.
Мгновение поколебавшись, Мишель согласился прийти. К тому времени, как он прошелся по городу, ненадолго остановившись, чтобы осмотреть Римскую арену, его племянник, казалось, созвал к себе весь quartier[25], устроив настоящий праздник на скорую руку. Едва Мишель вошел в дверь, пробки от шампанского выстрелили, точно залпы фейерверков. Все тут же принялись его обнимать и трижды, по принятой в Провансе традиции, целовать в щеки. Прошло какое-то время, прежде чем он добрался до Френсиса, который заключил его в крепкие объятия, не прекращая говорить ни на мгновение, пока несколько человек снимали их на камеру.
– Ты вылитый мой отец! – воскликнул Френсис.
– Ты тоже похож на него! – ответил Мишель, пытаясь вспомнить лицо своего брата и понять, правдив его ответ или нет. Френсис был уже стариком, и Мишель никогда не видел брата в таком возрасте.
Но все лица казались знакомыми, язык был по большей части понятным. Слова создавали в его сознании образ за образом, а запахи сыра и вина порождали их еще больше, но больше всего воспоминаний будил вкус вина. Фрэнк оказался большим ценителем вин и с радостью откупоривал пыльные бутылки: «Шатонёф-дю-Пап», затем столетний сотерн «Шато д’Икем», свое особенное – красное бордоское вино «Пойяк» категории «премьер крю», по два «Шато Латур» и лафит и, наконец, «Шато Мутон-Ротшильд» 2064 года с этикеткой из Пуньядореса. Эти старинные чудеса за прошедшие годы превратились в нечто большее, чем просто вино, их вкус был полон различных оттенков и обертонов. Они вливались в горло Мишеля, будто его забытая юность.
Складывалось впечатление, что это вечеринка в честь какого-нибудь популярного местного политика, и Френсис – хоть Мишель и заключил, что он совсем не похож на его брата, – говорил в точности так же, как тот. Мишель, казалось бы, забыл тот голос, но теперь он невероятно отчетливо звучал в его сознании. Френсис растягивал слово «normalement», в данном случае означавшее состояние, в котором мир пребывал до наводнения, тогда как брат Мишеля называл так гипотетическое состояние спокойствия, которого в настоящем Провансе никогда не бывало. Но произносил он его точно в таком же ритме: nor-male-ment…
Каждому хотелось поговорить с Мишелем или хотя бы послушать его, и он стоял со стаканом в руке и оживленно говорил в манере местного политика – отпуская комплименты красоте женщин, стараясь дать понять, как приятно ему находиться в их обществе, при этом не проявляя сентиментальности и не показывая своей растерянности. Именно этой скользкой, остроумной игры и хотели от него утонченные жители Прованса, наперебой задавая ему быстрые и забавные вопросы:
– А какой он, Марс?
– На что похож?
– Что вы будете делать дальше?
– Там еще нет якобинцев?
– Марс как Марс, – отвечал Мишель, пропуская часть из них. – Земля там такого же цвета, как черепица в Арле. Ну, вы и сами знаете.
Они веселились весь день, а потом им подали ужин. Бесчисленные женщины целовали Мишеля в щеки, он опьянел от их духов, запаха кожи и волос, их улыбающихся влажных темных глаз, глядящих на него с дружелюбным любопытством. Смотря на молодых марсианок, Мишелю всегда приходилось задирать голову, чтобы увидеть лишь подбородки, шеи и ноздри. И теперь смотреть сверху на прямые проборы в блестящих черных волосах было для него настоящим удовольствием.
К позднему вечеру люди уже разошлись. Френсис прогулялся с Мишелем до Римской арены, где они поднялись по наклонным каменным ступеням средневековой башни, что служила ее укреплением. Оказавшись в небольшом каменном помещении, они выглянули из маленьких окон на черепичные крыши, голые улицы и Рону. В южных окнах виднелся небольшой участок грязной воды – это был Камарг.
– Опять в Средиземноморье, – проговорил Френсис, явно довольный. – Наводнение, может, и принесло беду на большинство территорий, но для Арля стало настоящей удачей. Теперь рисовые фермеры съезжаются сюда, готовые заниматься рыбалкой или взяться за любую другую доступную работу. А многие уцелевшие лодки теперь стоят в здешних доках. Раньше они возили фрукты с Корсики и Майорки, торговали в Барселоне и Сицилии. Многие дела Марселя перешли к нам, хотя он тоже, надо сказать, довольно быстро восстанавливается. Помнишь, раньше в Эксе был университет, в Марселе – море, а у нас только эти развалины, и туристы каждый день приезжали на них поглазеть. Но туризм как бизнес – дело неприглядное, неподобающее человеку. Это то же, что носить в себе паразитов. Но сейчас-то мы снова зажили! – Было заметно, что Френсис немного пьян. – Слушай, мы просто обязаны взять лодку и посмотреть на лагуну.
– Идея мне нравится.
В ту ночь он снова позвонил Майе.
– Ты должна приехать. Я нашел тут племянника, своих родных.
Майю это не впечатлило.
– Ниргал уехал в Англию искать Хироко, – резко ответила она. – Кто-то сказал ему, что она там, и он просто взял и уехал.
– Что? – воскликнул Мишель, пораженный внезапным упоминанием Хироко.
– О, Мишель. Ты же знаешь, это не может быть правдой. Кто-то сказал об этом Ниргалу, только и всего. Это не может быть правдой, но он все равно уехал.
– Я бы сделал то же.
– Прошу, Мишель, не глупи. Хватит нам и одного дурака. Если Хироко и жива, то она где-то на Марсе. Кто-то просто сказал об этом Ниргалу, чтобы устранить его от переговоров. И я надеюсь, что только для этого, а не чего-нибудь похуже. Он имел слишком сильное влияние на людей. И не следил за тем, что говорит. Тебе стоит позвонить ему и сказать, чтоб возвращался. Может, хоть тебя он послушает.
– Я бы на его месте не слушал.
Мишель погрузился в размышления, пытаясь погасить внезапный проблеск надежды, что Хироко объявилась в Англии. Да и вообще была жива. Хироко, а вместе с ней Ивао, Джин, Риа… вся группа… его семья. Его настоящая семья. Он тяжело содрогнулся. А когда попытался рассказать ждущей в нетерпении Майе о семье в Арле, слова застряли у него в горле. Его настоящая семья бесследно исчезла четыре года назад – вот в чем состояла правда. Наконец, терзаясь душевными муками, он смог промолвить лишь:
– Пожалуйста, Майя. Прошу, приезжай.
– Я скоро. Я уже сказала Саксу, что приеду к тебе, как только мы здесь закончим. Тогда все остальное ляжет на него, а он и так еле говорит. Это же нелепо. – Она преувеличивала: у них была целая команда дипломатов, а Сакс прекрасно все умел, по-своему. – Но ладно, ладно. Я приеду. Так что хватит на меня давить.
Она прибыла на следующей неделе.
Мишель, чтобы ее встретить, отправился на новую станцию на машине. Он сильно нервничал. Хотя они прожили вместе почти тридцать лет, в Одессе и Берроузе, сейчас, когда он вез ее в Авиньон, ему казалось, что рядом с ним – незнакомка, пожилая красавица с подведенными глазами и нечитаемым выражением лица, говорящая по-английски быстрыми, четкими предложениями, рассказывая ему обо всем, что происходило в Берне.
Теперь у них был договор с ООН, признавшей независимость марсиан. Они в ответ согласились принимать эмигрантов, но в объеме, не превышающем десяти процентов марсианского населения в год, а также на экспорт полезных ископаемых и консультации по некоторым дипломатическим вопросам.
– Это хорошо, очень хорошо… – Мишель старался сосредоточиться на ее новостях, но это давалось ему нелегко. Она, продолжая говорить, время от времени посматривала на здания, мимо которых они проезжали, но в поднятой ветром пыли и солнечном свете они выглядели довольно безвкусными. И, похоже, не производили на нее впечатления.
Со щемящим чувством Мишель подъехал как можно ближе к папскому дворцу в Авиньоне, припарковался и вывел ее прогуляться вдоль разбухшей реки, мимо моста, уже не достававшего до противоположной стороны, а затем устроил долгий променад к югу от дворца, где в тени старых платанов гнездились придорожные кафе. Там они отобедали, и Мишель вкушал оливковое масло и ликер из черной смородины, с наслаждением раскатывая их по языку и наблюдая за своей спутницей, расслабившейся в металлическом кресле, словно кошка.
– Здесь красиво, – сказала она, и он улыбнулся. Здесь и вправду было красиво, но когда-то давно, а сейчас: прохлада, покой, цивилизация, вкусные блюда и напитки. Теперь вкус ликера будил в нем море воспоминаний, чувств из его «предыдущего воплощения», которые смешивались с чувствами, что он испытывал сейчас, усиливая все – цвета, текстуры, ощущение металлических кресел и ветра. Тогда как для Майи ликер был всего лишь терпким ягодным напитком.
Наблюдая за ней, он понял, что судьба свела его с женщиной даже более привлекательной, чем та француженка, с которой он был здесь в прошлой жизни. С женщиной более выдающейся. Жизнь на Марсе удалась ему лучше. Новая жизнь стала более значимой. Это чувство вступило в борьбу с ностальгией в его сердце, а Майя тем временем набивала рот кассуле, вином, сыром, ликером, кофе, не ведая об интерференционном узоре его жизней, перетекающем внутри него из одной фазы в другую.
Они говорили ни о чем. Майя была расслаблена и просто наслаждалась, довольная своим успехом в Берне. Она больше никуда не спешила. Мишель весь сиял так, словно был накачан омегендорфом. Смотря на нее, он сам медленно становился счастливым, просто счастливым. Прошлое, будущее – ни то, ни другое никогда не было реальным. Только этот обед под авиньонскими платанами.
– Здесь все так пристойно, – сказала Майя. – Я не ощущала такого спокойствия много лет. Теперь я вижу, почему ты так любишь эти места.
Она рассмеялась, глядя на него, а он почувствовал, как глупая ухмылка растягивает его лицо.
– Разве ты не хотела бы снова увидеть Москву? – с интересом спросил он.
– Да нет, не хотела бы.
Она отвергла эту идею, словно та была лишней в эту минуту. Он задумался: что же чувствовала Майя по поводу возращения на Землю? Ведь нельзя было ничего не чувствовать!
Для одних дом был местом, вызывающим комплекс чувств, выходящих далеко за пределы рациональности, некоего рода сетью высокого напряжения или гравитационным полем, в котором сама личность принимала свою геометрическую форму. Однако для других место было просто местом, таким же, как и любое другое, а сам человек не был к нему привязан. Первые жили в эйнштейновском искривленном пространстве дома, вторые – в ньютоновском абсолютном пространстве личной свободы. Мишель относился к первым, Майя – ко вторым. И с этим фактом следовало смириться. Но тем не менее ему хотелось, чтобы ей понравился Прованс. Или чтобы она поняла, почему его так любил он.
И когда они покончили с обедом, он повез ее на юг, через Сен-Реми в Ле-Бо.
Она проспала всю дорогу, о чем он не пожалел: между Авиньоном и Ле-Бо были в основном уродливые промышленные здания, рассевшиеся по пыльной равнине. Проснулась она как раз вовремя, когда он выруливал по узкому серпантину, ведущему по Альпию к старой деревне на вершине горы. Оставив машину на парковке, они прогулялись до городка: это место было создано специально для туристов, но на единственной извилистой улице этого небольшого поселения сейчас было так тихо, будто оно оказалось заброшено. Но как же здесь было живописно! Деревню уже закрыли на вечер, все погрузилось в сон. На последнем повороте перед вершиной можно было пересечь небольшую площадь, неправильной формы и лежащую под уклоном, и оказаться у холмиков, выдолбленных какими-то древними отшельниками, скрывшимися от сарацин и остальных опасностей средневекового мира. На юге, словно золотая тарелка, поблескивало Средиземное море. Камни отдавали желтизной, а западное небо скрывало, точно тонкой вуалью, бронзовое облако, и свет струился повсюду янтарем с металлическим блеском. Все это создавало ощущение, словно они бродили в желе веков.
Они карабкались от одного крошечного помещения к другому, поражаясь их малым размерам.
– Похоже на норы луговых собачек, – заметила Майя, всматриваясь в прямоугольную пещерку. – Или на наш трейлерный парк в Андерхилле.
Вернувшись на наклонную площадь, присыпанную обломками известняка, они остановились, чтобы взглянуть на сияющее море. Мишель показал на более светлый участок, где находился Камарг.
– Раньше отсюда было видно совсем чуть-чуть воды.
Свет сменился темно-абрикосовым, и гора показалась крепостью над всем этим просторным миром, над самим временем. Майя обхватила рукой его талию и с легким трепетом прижала к себе.
– Тут красиво. Но я не смогла бы жить на такой большой высоте, здесь чувствуется какая-то незащищенность.
Они вернулись в Арль. Был субботний вечер, и центр города превратился в подобие цыганского или североафриканского фестиваля, где улицы полнились палатками с едой и напитками, многие из которых располагались в арках Римской арены, куда был открыт свободный вход и где теперь играли музыканты. Майя и Мишель гуляли, взявшись за руки и купаясь в запахах жареной еды и арабских специй. Люди вокруг говорили на двух или трех разных языках.
– Мне это напоминает Одессу, – сказала она, идя по арене. – Только люди здесь такие маленькие. Приятно, когда не чувствуешь себя карликом среди всех.
Они танцевали посреди арены, пили за столиком под тусклыми звездами. Одна из них, красноватая, вызвала у Мишеля некоторые подозрения, но озвучивать их он не стал. Они вернулись в его гостиничный номер и занялись любовью на узкой кровати. В какой-то момент Мишелю показалось, что в нем заключалось несколько человек, и все они испытывали оргазм одновременно; в восторге от этого ощущения он закричал… Когда Майя уснула, он еще лежал рядом без сна, погрузившись в tristesse, разливающуюся где-то вне времени, упиваясь знакомым запахом ее волос, прислушиваясь к медленно стихающей какофонии ночного города. Снова дома.
В последующие дни он представил ее своему племяннику и остальным родственникам, которых Френсис собрал вместе. Вся эта компания окружила ее и, несмотря на необходимость пользоваться переводческими искинами, засыпала ее вопросами. Кроме того, они пытались рассказать ей о себе. Как часто такое случалось, подумал Мишель: люди жаждали схватить какого-нибудь знаменитого незнакомца, чью историю знали (или думали, что знают), и рассказать им свою, чтобы уравновесить отношения. Это напоминало дачу свидетельских показаний или исповедь в церкви. Взаимная дележка историями. Вообще же людей совершенно естественно тянуло к Майе. Она слушала их, смеялась, задавала вопросы – была поглощена тем, что они говорили. Раз за разом ей пересказывали, как сюда пришло наводнение, как затопило их дома, как им пришлось уехать к друзьям и семьям, с которыми они не виделись годами, зажить по-новому, в другом окружении, бросить прежние жизни, оставив их воле мистраля. Мишель видел, что все это сделало их сильнее, что они гордились собой, тем, как встретили трудности, – а еще сильно возмущались грубости и бездушию, пятнавшими их геройства:
– Вы можете в это поверить? Мало того, что не помогли, так еще и вышвырнули ночью на улицу, а сами забрали все деньги!
– И это нас расшевелило, понимаете, да? До этого мы как будто спали целую вечность!
Они говорили это Мишелю по-французски, смотрели, как тот кивает, а потом смотрели на реакции Майи после того, как искин переводил их слова на английский. И она тоже кивала, так же, как когда-то молодым марсианам в районе бассейна Эллады, следившим за ее выражением лица, за тем, к чему она проявляет интерес в их историях. О, они с Ниргалом были одного поля ягодами, оба обладали харизмой – благодаря тому, как умели уделять внимание другим, как придавали уверенности чужим рассказам. Наверное, в этом и заключалась суть харизмы: в чем-то она работала как зеркало.
Несколько родственников Мишеля взяли их на лодочную прогулку, и Майя пришла в изумление от бушующей Роны, когда они шли вниз по ее течению, от засоренной лагуны Камарга, от усилий людей, старающихся вдохнуть в эти места новую жизнь. Затем они оказались среди бурых вод Средиземного моря и поплыли дальше – к голубой воде, в ее изнеженную солнцем голубизну. Там их лодка качалась на пенистых гребнях волн, подгоняемых мистралем, пока они не уплыли так далеко, что земля скрылась из виду, – и это было поразительно. Мишель разделся и прыгнул за борт, в холодную соленую воду. Немного воды попало ему в рот, напомнив вкус его старых морских прогулок.
Вернувшись на твердую землю, они снова сели в машину. Вскоре они увидели Пон-дю-Гар – он остался таким же, каким был всегда, величайшим творением римлян, каменным трехъярусным акведуком с массивными нижними арками, стоящими в реке и выдержавшими две тысячи лет ее течения, арками поменьше над ними и, наконец, самыми маленькими в самом верху. Формы обеспечивали его функцию самым прекрасным образом: камень использовался для того, чтобы нести воду над водой. Теперь камень покрылся ямками и стал светло-медовым, став во всех отношениях «очень марсианским». Стоя среди зелени и известняковой теснины реки Гар, акведук походил на Надину аркаду и казался Мишелю скорее присущим Марсу, чем Франции.
Майя оценила изящество акведука.
– Смотри, какой он человечный, Мишель. Вот чего не хватает нашим строениям на Марсе: они слишком велики. Но… он построен людскими руками, при помощи инструментов, которые любой мог создать и применить. Грузоподъемные блоки и расчеты, ну и, может, еще лошади. Но никаких машин с дистанционным управлением, ни тех странных материалов, которые не только никому не понятны, а иногда даже не видны.
– Да.
– Интересно, могли бы мы построить все это вручную? На это стоило бы посмотреть Наде, ей бы понравилось.
– Мне тоже так кажется.
Мишель был счастлив. Они устроили себе пикник у акведука. Побывали у фонтанов в Экс-ан-Провансе. Вышли на обзорную площадку над Большим каньоном реки Гар. Объездили уличные доки Марселя. Побывали в римских местах Оранжа и Нима. Проехали мимо затопленных курортов Лазурного Берега. А однажды вечером прогулялись к разрушенному mas Мишеля и побродили по старой оливковой роще.
И каждую ночь, наступавшую вслед за этими восхитительными днями, они возвращались в Арль, ужинали в ресторане отеля или, если день выдавался теплый, под платанами в летних кафе, а потом поднимались в номер и занимались любовью; и, просыпаясь на рассвете, вновь занимались любовью или сразу спускались за свежими круассанами и кофе.
– Здесь прекрасно, – сказала Майя, стоя однажды вечером в башне арены и глядя на черепичные крыши. Она имела в виду все это, весь Прованс. И Мишель был счастлив.
Но на наручную консоль позвонили. Ниргал был болен, и тяжело. Сакса трясло, он уже увез его с Земли и поместил в стерильное помещение с марсианской g на корабле, двигавшемся по земной орбите.
– Боюсь, его иммунная система не справляется и g не поможет. У него инфекция, отек легких, его сильно лихорадит.
– Аллергия на Землю, – мрачно проговорила Майя. Она завершила беседу, дав Саксу краткое указание сохранять спокойствие, а потом подошла к своему шкафчику и принялась выкладывать свои вещи на кровать.
– Ну же, давай! – крикнула она Мишелю, молча стоявшему рядом. – Нам нужно ехать!
– Разве?
Майя не ответила. Она уже занималась своей консолью, связываясь с местной командой «Праксиса», чтобы та договорилась о космическом транспорте. Там им предстояло рандеву с Саксом и Ниргалом. Голос ее был холодным, напряженным, деловым. О Провансе она уже забыла.
Увидев, что Мишель стоял не двигаясь, она взорвалась:
– Да ладно тебе, не устраивай сцен! То, что мы должны уехать, еще не значит, что мы никогда не вернемся! Мы проживем тысячу лет, и ты можешь приехать сюда в любой момент, хоть сто раз, Господи! И вообще, разве это место так уж лучше Марса? Мне оно напоминает Одессу, и там ты тоже был счастлив, разве не так?
Мишель оставил ее слова без внимания. Он проплелся мимо ее чемоданов к окну. Там тянулась обычная арльская улица, в час сумерек погрузившаяся в синие тона. Оштукатуренные стены пастельных цветов, мощенная булыжником дорога. Кипарисы. Битая черепица на крыше дома по ту сторону улицы. Цвет Марса. Сердитые голоса где-то внизу, бранящиеся по-французски.
– Ну? – окликнула его Майя. – Ты едешь?
– Да.
Часть шестая Энн вдали от цивилизации
– Слушай, отказываться от антивозрастной терапии – это самоубийство.
– Ну и что?
– И все. Склонность к самоубийству, как правило, считается признаком психологического расстройства.
– Как правило.
– Думаю, это чаще оказывается правдой. А ты по меньшей мере несчастлива.
– По меньшей мере.
– Но почему? Чего тебе не хватает?
– Планеты.
– Ты и сейчас каждый день выходишь встречать рассвет.
– Привычка.
– Ты утверждаешь, что источник твоей депрессии кроется в уничтожении первозданного облика Марса. Мне же кажется, что философские причины, которые приводят люди, страдающие депрессией, на самом деле маски, защищающие их от более серьезных, более личных ран.
– Все может быть реальным.
– Ты имеешь в виду все причины?
– Да.
– В чем ты обвинила Сакса? В монокаузотаксофилии?
– Твоя правда.
– Но обычно среди всех этих реальных причин есть одна, с которой все начинается. И часто приходится вернуться оттуда в начало, чтобы пойти другим путем.
– Время и пространство – разные вещи. Пространство заключается в том, что действительно может произойти во времени. Вернуться в нем назад невозможно.
– Нет-нет. Вернуться можно, в образном смысле. В мысленном путешествии можно опять оказаться в прошлом, заново пройти по своим следам, понять, где ты свернул не туда и почему, а потом пойти дальше в другом направлении, потому что ты уже будешь обладать новыми знаниями. Расширенные знания расширяют значения. Когда ты продолжаешь утверждать, что сильнее всего тебя волнует судьба Марса, мне кажется, что в тебе произошло такое большое смещение, что ты совсем запуталась. Это тоже образ. Может быть, даже реальный. Но нужно различать способы их выражения.
– Я вижу то, что вижу.
– Но сейчас ты ничего не видишь! Красный Марс еще есть. Нужно только выйти и посмотреть на него! Вот выйди наружу, очисти свой разум и посмотри, что там. Опустись пониже и прогуляйся налегке, в одной пылевой маске. Тебе это будет во благо, причем на психологическом уровне. А кроме того, ты увидишь пользу терраформирования. Почувствуешь, какую свободу оно нам дает, как связывает с этим миром – позволяя ходить по поверхности без защиты и оставаться в живых. Это же поразительно! Благодаря ему мы стали частью экологии планеты. Этот процесс заслуживает переосмысления. Тебе стоит выйти и подумать о нем, изучить его так же, как ареоформирование.
– Это просто слово. Мы просто взяли эту планету и перепахали ее. Теперь она тает у нас под ногами.
– Тает, образуя свою естественную воду. Не завезенную с Сатурна или откуда-нибудь еще, а ту, что была здесь с самого начала, была частью первичной аккреции, верно? Первая глыба породы, из которой вышли газы, как раз и была Марсом. Теперь это часть наших тел. Мы сами – узоры на марсианской воде. Без микроэлементов мы были бы прозрачными. Мы – это марсианская вода. А вода уже когда-то была на поверхности Марса, правильно? А потом прорвалась под водоносный горизонт. Там же такие широкие каналы!
– Период вечной мерзлоты длился два миллиарда лет.
– А мы помогли воде вернуться на поверхность. Во всем величии тех наводнений. Мы были там, видели все своими глазами. Мы там чуть не погибли…
– Да, да…
– Ты же сидела за рулем, когда нас чуть не смыло…
– Да! Но тогда вместо нас погиб Фрэнк.
– Да.
– Вода смыла всю планету. И оставила нас на пляже.
– Планета по-прежнему здесь. Выходи и сама увидишь.
– Не хочу я смотреть. Я уже ее видела!
– Не ты. То была прежняя ты. А сейчас ты – та, что живет сейчас.
– Ну да, ну да.
– Мне кажется, ты боишься. Боишься попыток что-то изменить, превратить планету во что-то новое. Там повсюду стоят перегонные аппараты, они вокруг тебя. И горит огонь. Ты растаешь, переродишься – и тогда кто знает, какой ты станешь потом?
– Я не хочу меняться.
– Ты не хочешь разлюбить Марс.
– Да, не хочу.
– Ты никогда его не разлюбишь. После всех изменений камни будут по-прежнему здесь. Они же обычно тверже материнской породы, да? Ты всегда будешь любить Марс. Твоя задача будет увидеть Марс, который способен вынести все что угодно – жар и холод, потоп и засуху. Все это эфемерно, и Марс их выдержит. Ведь такие наводнения случались и раньше, разве нет?
– Да.
– Это вода Марса. Все эти летучие вещества – его собственные.
– Кроме азота с Титана.
– Ну да. Ты говоришь прямо как Сакс.
– Да ладно тебе.
– Вы двое похожи сильнее, чем тебе кажется. И мы все тоже, как и эти вещества, принадлежим Марсу.
– Но поверхность разрушена. Ее испортили. Все изменилось.
– Это ареология. Или ареофания.
– Это разрушение. Нам стоило попытаться жить на таком Марсе, каким он был.
– Но мы не стали этого делать. И сейчас быть Красным – это значит стремиться сохранить первичные условия среды, насколько это возможно, в рамках ареофании – то есть проекта создания биосферы, которая даст людям свободу пребывания на поверхности – ниже определенного уровня. Вот что теперь значит быть Красным. И таких Красных много. Думаю, ты тревожишься оттого, что думаешь: если ты хоть чуточку изменишься, это станет концом для всего Красного движения. Но это движение сильнее тебя. Ты основала его и задала направление, но никогда к нему не принадлежала. Если бы ты была одной из них, никто бы не стал тебя слушать.
– Они и не слушали!
– Кое-кто все же слушал. И многие слушали. Красные будут существовать независимо от того, что сделаешь ты. Можешь уйти на покой, стать кем-нибудь совершенно другим, стать лимонно-зеленой – но Красные останутся. Они даже могут стать более Красными, чем ты когда-либо себе представишь.
– Я представляла их себе Красными, насколько это возможно.
– Это все альтернативные варианты. Мы проживем один из них и останемся жить дальше. Процесс нашей с этой планетой соадаптации продлится тысячи лет. Но мы здесь. И в каждый момент тебе стоит задавать вопрос: а чего не хватает сейчас? И работать над принятием текущей реальности. Это нормально, это жизнь. Тебе нужно представить свою жизнь тут.
– Не могу. Я пыталась, но не получается.
– Тебе правда стоит выйти и посмотреть. Устроить прогулку. Увидеть все вблизи. Хорошенько посмотреть на ледяные моря. Но не только. Тогда естественно в тебе начнется противоборство. Но это не всегда плохо, ты только взгляни для начала, а? Осознай. А потом подумай насчет того, чтобы подняться в горы. На Фарсиду, Элизий. Подъем в горы – это как путешествие в прошлое. Твоя задача – познать тот Марс, который выживает, несмотря ни на что. Это настоящее чудо. Перед большинством людей не ставится таких чудесных задач, как эта. Тебе просто повезло.
– А тебе?
– Что мне?
– У тебя какая задача?
– У меня какая задача?
– Да. Твоя задача.
– …Ну, не знаю. Говорю же, я завидую твоей. Мои задачи… запутаны. Помогать Майе и самому себе. И всем остальным. Все улаживать… Еще я хотел бы найти Хироко…
– Ты долгое время был нашим мозгоправом.
– Да.
– Больше сотни лет.
– Да.
– И так и не дал каких-либо результатов.
– Ну, мне все же нравится думать, что я немного помог.
– Но это твой надуманный вывод.
– Пожалуй.
– Ты действительно считаешь, что люди начинают проявлять интерес к психологии, потому что у них самих проблемы с психикой?
– Таково общепринятое мнение.
– Но тебе никто никогда не вправлял мозги.
– О, у меня были свои психотерапевты.
– И помогли?
– Да! Весьма. Действительно помогли. Я имею в виду… сделали все, что было в их силах.
– Но ты не знаешь своей задачи.
– Нет. Хотя я… я хочу домой.
– Куда это – домой?
– В том-то и проблема. Тяжело, когда не знаешь, где твой дом, да?
– Да. Я уж думала, ты останешься в Провансе.
– Нет-нет. То есть Прованс – мой дом, но…
– Но сейчас ты летишь обратно на Марс.
– Да.
– Ты решил вернуться.
– Да…
– Сам не знаешь, что делаешь?
– Не знаю. Зато ты знаешь. У тебя есть дом, и это бесценно! Тебе следует об этом помнить, не отказываться от этого дара и не считать его обузой! Глупо так считать! Это дар, черт возьми, бесценный, бесценный дар, понимаешь меня?
– Я подумаю над этим.
Она покинула убежище на старом, прошлого века метеорологическом марсоходе, высокой квадратной штуковине с роскошным водительским отсеком наверху, оснащенным окном. Передней частью он был похож на экспедиционный марсоход, в котором она в первый раз ездила на Северный полюс с Надей, Филлис, Эдвардом и Джорджем. А поскольку она провела в таких машинах тысячи дней, то поначалу у нее сложилось впечатление, что сейчас она снова занимается чем-то обыденным, согласующимся с остальной ее жизнью.
Но она двинулась на северо-восток, вниз по каньону, до дна мелкого безымянного канала на шестидесятой долготе. Эта долина была высечена после прорыва небольшого водоносного слоя в позднюю амазонийскую эру[26], вылившегося в ранее существовавшее русло по нижележащим склонам Большого Уступа. Разрушения, которые причинило это наводнение, все еще были заметны из-за обрывов стен каньона и чечевицеобразных островков коренной породы, выступающих на дне канала.
Теперь ведущего на север прямо в ледяное море.
Она выбралась из машины в ватном костюме, маске с углекислым газом, очках и ботинках с подогревом. Воздух был разреженным и прохладным, несмотря на то что на север шла весна – Ls=10°, М-53. Холод и ветер, неровные линии низких пухлых облаков, плывущих на восток. Либо уже начинался ледниковый период, либо, если Зеленые своими усилиями его предотвратили, «год без лета», каким был 1816-й на Земле, когда мир охладился от извержения вулкана Тамбора.
Она вышла к берегу нового моря. Тот находился у подножия Большого Уступа, в Земле Темпе, во впадине среди древних гор, простирающихся на север. Темпе, судя по всему, избежала вскрытия северного полушария, так как находилась примерно на противоположной стороне от точки Большого удара, который, как теперь считало большинство ареологов, пришелся на долину Храд, что севернее Элизия. И в итоге – побитые горы, нависающие над покрытым льдом морем. Скалы напоминали поверхность плещущегося красного моря, а лед – прерии посреди зимы. Здешняя вода, как сказал Мишель, была здесь с самого начала, когда-то даже на поверхности. Такое было трудно постичь. Ее мысли путались, бросаясь в разные стороны, причем все в одночасье, – это походило на безумие, но не было им. Она знала разницу. Гул ветра не разговаривал с ней тоном лектора Массачусетского технологического, и ей не сдавливало грудь, когда она пыталась дышать. Ничего такого. Скорее, ее мысли метались в ускоренном темпе, обрывочные и непредсказуемые, как стая птиц надо льдом, рисуя зигзаги в небе при сильном западном ветре. О, она чувствовала то же самое – как ветер подталкивает ее, а этот новый разреженный воздух играет с ней, словно лапа огромного животного…
Птицы неустанно боролись с вихрем. Она стояла и наблюдала за ними – поморники, охотящиеся над темными прожилками открытой воды. Полыньи служили выходом к огромным объемам жидкой воды, что скрывалась подо льдом; она слышала о непрерывном канале подледной воды, теперь охватывавшем всю планету и выдающемся на востоке поверх старой Великой Северной равнины, образуя на поверхности редкие полыньи, которые затем остаются жидкими на какое-то время, будь то час или неделя. Подводная температура, даже несмотря на холодный воздух, повышалась от затопленных мохолов и тысяч термоядерных взрывов, устроенных наднационалами на стыке столетий. Эти бомбы были помещены глубоко в мегареголит, предположительно – чтобы не допустить распространения их радиоактивных осадков, но от теплового излучения это не спасало: импульсы проходили через породы и не стихали годами. Нет уж, Мишель, конечно, мог говорить, что это все вода, присущая Марсу, но в этом новом море было не много естественности.
Энн взобралась на гребень, откуда открывался лучший обзор. Вот он, лед – по большей части ровный, но кое-где колотый. И безмятежный – будто бабочка, сидящая на ветке, – казалось, его белизна могла вдруг подняться вверх и упорхнуть. По движению птиц и облаков можно оценить силу ветра: все смещалось к востоку, и только лед оставался неподвижен. Ветер с низким шумом скреб по миллиардам мерзлых каменных граней. Он будоражил участки серой воды, и каждый его порыв отмечался рябью, и чем сильнее он дул, тем большей чувствительностью отвечала вода. И под этой соприкасающейся с ветром поверхностью – планктон, криль, рыба, кальмары. Энн слышала, что в рыбных питомниках производили морских созданий предельно короткой антарктической пищевой цепочки, а потом выпускали их в море. Населяли его.
Поморники кружили над головой. Одно их облачко ринулось вниз куда-то вдоль берега, за скалами. Энн подобралась к ним поближе. Вдруг она увидела их цель в расщелине на краю льда: почти съеденные кем-то остатки тюленя. Тюленя! Труп лежал на тундровой траве, в укрытии песочных дюн, за каменистым гребнем, уходящим под лед. Среди темно-красной плоти, окруженной белым жиром и черным мехом, проступали кости. Все было разорвано и открыто небу. Глаза выклеваны.
Она прошла мимо трупа, залезла на соседний гребень. Тот представлял собой своего рода мыс, вдающийся в лед, а за ним простиралась бухта. Она была круглой формы – кратер, засыпанный льдом, – и находилась на одном уровне с морем. С его стороны в ней имелся прорыв – именно там в нее проник лед, которым она и наполнилась. Теперь же бухта казалась идеальным местом для гавани – круглая, шириной в три километра. Когда-нибудь она и станет гаванью.
Энн села на валун, лежавший на мысу, и посмотрела на эту новую бухту. Она непроизвольно тяжело дышала, с силой поводя грудной клеткой, как во время родовых схваток. Да, она всхлипывала. Стянула с лица маску, вытерла рукой нос и глаза – и при этом плакала навзрыд. Это было ее тело. Она помнила, как впервые натолкнулась на затопленную часть Великой Северной равнины во время одиночного путешествия много лет назад. В тот раз она не плакала, но Мишель объяснил, что то был просто шок, вызвавший онемение, как при физическом повреждении, – будто она отрешилась от своего тела и чувств. Нынешнюю реакцию Мишель назвал бы несомненно более здоровой, но почему? Было неприятно: ее всю колотило так, что невольно вспоминалась сейсмическая дрожь. Но, когда все пройдет, предупредил Мишель, ей должно стать лучше. Она почувствует себя опустошенной… И напряжение спало. Тектоника лимбической системы… Она презрительно ухмыльнулась этой упрощающей аналогии, предложенной Мишелем: женщина-планета – что за абсурд! И все же она сидела, шмыгая носом и глядя на ледяную бухту под стремительно проносящимися облаками. И чувствовала себя опустошенной.
Все замерло – лишь облака плыли над головой, да рябь бежала по открытым участкам воды, мерцая то серым, то лиловым. Вода была в движении, но земля оставалась в покое.
Наконец, Энн встала и спустилась по гребню из старого твердого стишовита, служившего теперь узким разделителем между двумя длинными пляжами. Из того, что лежало выше льда, на самом деле мало что изменилось из-за терраформирования. Но ниже уровня воды – совсем другое дело. Здесь пассаты, беспокоящие открытую воду в летней бухте, поднимали достаточно крупные волны, чтобы измельчить глыбы льда в так называемую шугу. Куски этого плавника теперь вынесло на берег повыше нынешнего уровня льда, словно скульптуры, изображающие плавучий лес. Но летом этот лед смешивался с песком новых пляжей, создавая кашу изо льда, грязи и песка, которая замерзала, напоминая коричневую глазурь на пирожном.
Энн медленно прошлась посреди этого месива. За ним открывался узкий пролив, забитый кусками льда, осевшими на мели и затем вмерзшими в поверхность моря. Открытые солнцу и ветру, они изображали фантазии в стиле барокко из чистого голубого и мутно-красного льда, словно скопления сапфиров и рубинов. Южные стороны этих глыб преимущественно подтаяли, и талая вода застыла в виде сосулек и столбиков и покрылась ледяной коркой.
Озираясь на берег, она снова обратила внимание на то, каким изборожденным и неровным был песок. Изломы поражали своими размерами, выемки порой достигали двух метров в глубину – для того чтобы вырыть такие канавы, требовалась невероятная сила! Песчаные дюны, должно быть, состояли из лёсса, образовавшего рыхлые эоловые отложения. И теперь все это походило на нейтральную зону замерзшей грязи и мутного льда, разнесенную бомбами вместе с траншеями какой-то несчастной армии.
Она пошла дальше по темному льду, пока не очутилась на поверхности самой бухты. Казалось, весь мир покрывала семенная жидкость. Один раз лед слегка треснул у нее под ногой.
Отойдя от берега на приличное расстояние, Энн остановилась и посмотрела вокруг. Горизонт в самом деле был узок. Она взобралась на плоскую льдину, и с нее ей открылся прекрасный вид на ледяной простор вплоть до границ кратера под бегущими облаками. Лед, пусть и потрескавшийся, беспорядочный и размеченный грядами торосов, все же явно передавал правильность поверхности воды, что скрывалась под ним. На севере проход к морю был хорошо заметен. Ледяные глыбы выдавались над поверхностью, словно покореженные замки. Белая пустошь.
Сделав попытку осмыслить представший ей вид и потерпев в ней неудачу, Энн слезла с льдины и вернулась на берег, а затем двинулась обратно к машине. Когда она переходила по небольшому гребню, ее внимание привлекло движение у края ледяного поля. Это было какое-то белое существо… человек в белом прогулочнике, на четвереньках… Нет. Медведь. Полярный медведь. Он брел вдоль кромки льда.
Зверь заметил пылевые вихри поморников над мертвым тюленем. Энн спряталась за валуном, ничком упав на промерзший песок. Почувствовала холод по всему телу. Она выглянула из-за валуна.
Мех у медведя был желтоват на боках и лапах. Он поднял тяжелую голову, принюхался, точно пес, с любопытством осмотрелся по сторонам. Пошаркал к трупу тюленя, не обращая внимания на орущих птиц. Принялся его есть, как собака из миски. Затем поднял голову: морда уже окрасилась темно-красным. Сердце Энн забилось. Медведь уселся и, лизнув лапу, стал с кошачьей привередливостью вытирать ею морду, пока та не очистилась. После этого резко вскочил и бросился вверх по склону в том самом направлении, где Энн пряталась за валуном. Он семенил, передвигая переднюю и заднюю ноги одной стороны тела одновременно – левые, правые, снова левые…
Энн скатилась по другой стороне выступа, встала и побежала по желобу узкой трещины, уводящей на юго-запад. Она помнила, что марсоход стоял почти строго к западу от нее, но медведь приближался с северо-запада. Она взобралась на невысокую крутую стену впадины, перебежала полосу по возвышению к следующей небольшой впадине, которая вела уже западнее, чем предыдущая. Затем снова вверх, до следующего возвышения между неглубокими бороздами. Обернулась. Она уже задыхалась, но до марсохода все равно оставалось, по меньшей мере, два километра – на запад, а потом немного к югу. Зверь все еще был вне поля зрения, скрытый за неровными холмиками. Он бежал с северо-восточной стороны, и если бы он направился к марсоходу напрямик, то успел бы почти одновременно с ней. Как же они охотились – с помощью зрения или по запаху? Умели ли просчитывать движения жертв и отрезать им путь?
Несомненно, умели. Под костюмом у Энн уже градом лился пот. Она перелезла в следующую впадину и немного пробежала по ней – на западо-юго-запад. Затем увидела пологий уклон и поднялась по нему на следующую полосу – это было что-то вроде широкой дороги между мелкими каньонами у обеих обочин. Оглянувшись, Энн увидела медведя. Тот стоял на всех четырех лапах в двух впадинах от нее, напоминая то ли огромную собаку, то ли помесь человека и собаки, облаченную в бледно-желтый мех. Ее поразило то, что она встретила такое животное здесь, где пищевая цепочка была явно недостаточной для столь крупного хищника – или нет? Наверняка его подкармливали на специальных станциях. Во всяком случае на это стоило надеяться – иначе это означало, что он дико голоден. Когда он спрыгнул во вторую от нее впадину, скрывшись из виду, Энн бросилась дальше по полосе в сторону своего марсохода. Несмотря на то что бежала непрерывно, а горизонт был узким и неровным, она точно знала, где находится машина.
Она взяла темп, который, как считала, могла сохранять весь оставшийся путь. Трудно было не рвануть на полной скорости, но нет, нет, это непременно привело бы к потере сил. «Не спеши, – говорила она себе между частыми и короткими вдохами. – Спускайся в каналы, скрывайся из виду. Не теряй ориентации, да смотри не пробеги мимо марсохода на юг!» Вернувшись на возвышение, она получила лишь мгновение, чтобы осмотреться. Там, за невысоким плоским холмом, на самом деле бывшим небольшим кратером с пригорком у южного края, как она была уверена, и стоял марсоход, все еще вне поля зрения, хотя в этой беспорядочной земле легко было ошибиться. Она тысячи раз вот так слегка терялась, не зная точного своего местонахождения относительно какой-либо неподвижной точки, обычно припаркованного марсохода, – как правило, в этом не было ничего страшного: APS на наручной консоли всегда мог указать ей путь. Как мог и сейчас, но только она была уверена, что машина стояла за этим бугром кратера.
Холодный воздух обжигал легкие. Она вспомнила, что в рюкзаке у нее лежала аварийная маска, и, остановившись, стянув рюкзак и покопавшись в нем, стянула маску с CO2 и надела маску со сжатым кислородом. Включив ее, Энн внезапно почувствовала прилив сил и энергии, способность выдерживать более быстрый темп. Она побежала по полосе между впадинами, надеясь уже увидеть марсоход у склона кратера. И вот он! Задыхаясь от радости, Энн втянула в легкие прохладный кислород, и он оказался весьма приятным на вкус, но этого было мало, чтобы справиться с удушьем. Теперь она могла спрыгнуть в канал справа от себя, и тот, вероятно, привел бы ее прямо к машине.
Оглянувшись, она увидела, что медведь теперь тоже припустил, волоча лапы в неуклюжем подобии галопа. Он быстро преодолевал расстояние, встречая препятствия лишь в виде невысоких стен каньонов, которые перемахивал, подобно белому кошмару, изящному и пугающему, с его упругой массой мышц под плотным желтоватым мехом. Все это она увидела в одно мгновение и с предельной отчетливостью, и все в ее поле зрения казалось таким острым и ярким, точно подсвечивалось изнутри. Даже при том, что она бежала изо всех сил, глядя под ноги, чтобы ни на что не наскочить, Энн все равно видела медведя над красным склоном – будто это было остаточное изображение. Он тяжело мчался, как в каком-то каменном подобии балета, он был быстр, но и Энн тоже все-таки была зверем. Она тоже провела долгие годы в дикой марсианской местности – даже гораздо дольше этого молодого медведя – и умела бегать. Как горная коза – с коренной породы на валун, оттуда на песок, а потом на щебень, сохраняя идеальное равновесие, контролируя энергию и таким образом спасая себе жизнь. Тем более марсоход был уже близко. Оставалось только взобраться на последнюю стену каньона, преодолеть небольшой склон, и вот он. Она чуть не врезалась в него, но успела затормозить, и с силой, торжествующе стукнула по его изогнутому металлическому боку, будто это была медвежья морда, а еще через секунду – нанеся более прицельный удар по консоли шлюза, оказалась внутри. Внутри! Дверь внешнего шлюза закрылась за ее спиной.
Она поспешила по лестнице, чтобы оказаться в верхнем водительском «гнезде» и оглянуться. Сквозь стекло Энн увидела, что медведь был там и с почтительного расстояния осматривал ее машину. Стоя вне пределов досягаемости транквилизатора, он задумчиво принюхивался. Энн обильно потела, все еще задыхаясь, снова и снова вдыхая и выдыхая – подумать только, какие испытания была способна выдерживать грудная клетка! И все-таки теперь она сидела себе на водительском сиденье в полной безопасности! Но стоило закрыть глаза – и она видела медведя, одолевающего уступ за уступом. Зато открыв их, она увидела лишь блестящую приборную доску, яркую, вычурную и такую знакомую. О, как это было странно!
Пару дней спустя она все еще не оправилась от потрясения и, закрывая глаза, снова и снова видела этого полярного медведя. По ночам лед в бухте гудел и время от времени трещал, а ей снилось нападение на Шеффилд, отчего она и сама стонала во сне. Дни же Энн проводила в дороге, но вела марсоход так небрежно, что приходилось включать автопилот, задавая ему команду продолжать путь вдоль берега кратерной бухты.
И пока марсоход двигался дальше, она слонялась по водительскому отсеку, лихорадочно размышляя, потеряв контроль над разумом. Ей оставалось лишь нервно смеяться и терпеть. Медведь остался в прошлом, но нет, он еще был здесь. Она вглянула на консоль: Ursus maritimus, белый медведь; эскимосы называли его «торнасук», что значит «дающий силу». Это было похоже на обвал, что чуть не стоил ей жизни в каньоне Мелас, а теперь навечно стал частью ее. Тогда, при виде обвала, у нее не дрогнул ни один мускул, сейчас же ей пришлось бежать со всех ног. Марс мог убить ее и, несомненно, когда-нибудь так и случится, но ни один зверь из зоопарка с Земли этого сделать не мог – во всяком случае, если в ее силах было этого избежать. Не то чтобы она так любила жизнь, вовсе нет, но человек был волен сам выбирать, как ему умереть. И ей уже приходилось делать такой выбор – по меньшей мере дважды. Но сначала Саймон, а потом Сакс – как миниатюрные бурые медведи – забрали у Энн ее смерть. И она до сих пор не знала, как с этим быть, что чувствовать по этому поводу. Ее мысли метались с огромной скоростью. Она ухватилась за спинку водительского сиденья. Затем, наконец, смогла протянуть руку и набрать на сенсорной клавиатуре марсохода номер Сакса времен первой сотни, XY23, и подождала, пока искин доставит сигнал до шаттла, которым Сакс вместе с остальными возвращался на Марс. И спустя какое-то время он возник перед ней: его новое лицо пристально смотрело на экран.
– Зачем ты это сделал? – вскричала она. – Это моя смерть, и я могу выбирать ее такую, какую хочу!
Она подождала, пока сообщение дойдет до него. Когда это случилось, он отпрянул и изображение покачнулось.
– Потому что… – проговорил он и умолк.
По спине Энн пробежал холодок. Именно это сказал ей Саймон, когда вытащил ее из хаоса. У них никогда не было причины – только это идиотское «потому что».
Затем Сакс продолжил:
– Я не хотел… это казалось такой большой и бесполезной утратой… Как это неожиданно – тебя слышать. Я рад.
– Ну и черт с ним, – бросила Энн.
Она уже собиралась завершить звонок, но он заговорил снова: теперь они передавали сообщения одновременно.
– Я сделал это, чтобы я мог говорить с тобой. То есть сделал для себя… Я не хотел тебя терять. Хотел, чтобы ты меня простила. Хотел снова спорить с тобой… и показать тебе, почему я сделал то, что сделал.
Его болтовня прекратилась так же внезапно, как и началась, и затем он растерялся и даже будто испугался. Наверное, он как раз услышал ее «Ну и черт с ним». Она могла напустить на него страху, это точно.
– Что за ахинея? – ответила она.
И спустя некоторое время услышала:
– Да. Э-э… Как у тебя дела? Ты выглядишь…
Она оборвала соединение. «Я только что сбежала от полярного медведя! – мысленно прокричала она. – Меня чуть не сожрали твои дурацкие игрушки!»
Нет. Этого она ему не скажет. Вот надоеда. Ему нужен был хороший поручитель для его материалов в «Метажурнал истории Марса» – вот в чем все дело. Ради того, чтобы его научную работу как следует отрецензировали, он готов был влезть в чужое сокровенное желание, в ее фундаментальную свободу выбора между жизнью и смертью, свободу быть или не быть человеком!
Хорошо, он хотя бы не пытался лгать на этот счет.
И… ладно, она была жива. Ярость, беспричинные угрызения совести, безотчетная душевная боль, странная болезненная веселость – все это переполняло ее одновременно. Лимбическая система бешено вибрировала, пронзая каждую мысль безумными противоречивыми эмоциями, выпадающими из их контекста: Сакс ее спас, она его ненавидела, ощущала лютую радость, Касэй был мертв, Питер жив, ни один медведь не мог ее убить и так далее и тому подобное. О, как это было странно!
Она заметила небольшой зеленый марсоход, забравшийся высоко на утес над ледяной бухтой. Словно по наитию она вывернула руль и поехала к нему. Кто-то выглянул: она помахала сквозь лобовое стекло. Черные глаза… очки… лысина… Прямо как ее отчим. Она припарковала свой марсоход рядом. Мужчина рукой, держащей деревянную ложку, пригласил ее подняться к нему. Он выглядел слегка отвлеченным, словно еще витал в своих мыслях.
Энн надела пуховик и, спустившись к шлюзу, прошла между машинами, ощущая холодный воздух так сильно, как если бы попала под ледяной душ. Приятно было ходить из одного марсохода в другой, не надевая прогулочника и не рискуя при этом жизнью. Было даже удивительно, что люди, как правило, не погибали по небрежности или из-за заклинивших шлюзов. Хотя такие жертвы, конечно, случались. Может, даже десятки, если их подсчитать. Сейчас же ей грозили лишь порывы морозного воздуха.
Лысый мужчина открыл ей внутренний шлюз.
– Здравствуйте! – поздоровался он и протянул ей руку.
– Здравствуйте, – Энн пожала ее. – Я Энн.
– Гарри. Гарри Уайтбук.
– А, я о тебе слышала. Ты создаешь животных.
Он кротко улыбнулся.
– Да. – Он не показывал ни стыда, ни попытки защититься.
– За мной недавно гнался твой полярный медведь.
– Ух ты! – Он округлил глаза. – Они же довольно быстрые!
– Быстрые. Но это же не просто полярные медведи, верно?
– У них есть немного генов гризли – чтобы переносили такую высоту. Но в основном это обычные Ursus maritimus. Весьма суровые создания.
– Не они одни такие суровые.
– Да, и разве это не чудесно? Ой, прости, ты голодна? Хочешь супа? Я как раз себе приготовил, с луком-пореем – хотя это, наверное, ты уже почувствовала.
Она почувствовала.
– Давай, – сказала она.
Получив тарелку супа с хлебом, она расспросила его о медведе.
– Здесь же, конечно, не может быть пищевых цепочек, которые удовлетворили бы таких здоровых зверей?
– О, еще как может! В этом районе может. Этим он и известен – как первый биорегион, способный обеспечить жизнеспособность для медведей. Видишь ли, на дне бухты вода в жидком состоянии. Мохол Эп находится в центре кратера, так что озеро это бездонное. Зимой оно, конечно, замерзает, но медведи привыкли к подобному еще в Арктике.
– Только зимы здесь долгие.
– Да. Самки устраивают в снегу берлоги, возле пещер в местах обнажения пород к западу отсюда. Они не впадают в настоящую спячку, температура тела у них падает всего на несколько градусов, и если они почувствуют, что берлогу следует утеплить, то просыпаются за одну-две минуты. Так что они устраиваются там по возможности на всю зиму и спят до самой весны, время от времени выходя кормиться. Затем весной мы буксируем льдины через устье залива в море, чтобы там начинали развиваться организмы – от низших к высшим. Основные пищевые цепочки в воде – антарктические, на суше – арктические. Планктон, криль, рыба и кальмары, тюлени Уэддела, на суше – зайцы, кролики, лемминги, сурки, мыши, рыси. И медведи. Стараемся, чтобы прижились карибу, северные олени и волки, но пока не хватает кормовых растений для копытных. Медведи появились всего несколько лет назад, и давление только-только стало для них приемлемым. Но все равно здесь оно такое же, как на высоте четыре тысячи метров, а они вполне хорошо его переносят, как мы заметили. Они очень быстро приспосабливаются.
– Как и люди.
– Ну, нас на четырех тысячах метров пока не особо-то заметно. – Он имел в виду такую высоту над уровнем моря на Земле. Выше любого постоянного поселения, сообразила она. Он продолжал: – В конце концов у них расширится грудная клетка, это неизбежно…
Он говорил сам с собой. Здоровый, плотный, с белой пушистой растительностью вокруг лысой макушки. И черные глаза за круглыми очками.
– Ты когда-нибудь встречал Хироко? – спросила она.
– Хироко Ай? Да, однажды. Приятная женщина. Я слышал, она вернулась на Землю, помогает там бороться с наводнением. Ты ее знала?
– Да. Я Энн Клейборн.
– Я так и думал. Мать Питера Клейборна, правильно?
– Да.
– Он недавно был на Буне.
– На Буне?
– Это маленькая такая станция с той стороны бухты. А это Ботаническая бухта, и станция называется Гавань Буна. Это как бы такая шутка. В Австралии есть похожая парочка.
– Действительно.
Она тряхнула головой. Похоже, Джон остался с ними навечно. И их преследовал, несомненно, худший из всех призраков.
Как, например, этот человек, создатель зверей. Он гремел на кухне, близоруко управляясь с приборами. Он поставил суп перед ней, и она украдкой на него поглядывала. Он знал, кем она была, но это вроде бы не доставляло ему неудобств. Он не пытался оправдываться. Она была ареологом из партии Красных, он создавал новых марсианских животных. Они работали на одной планете. Но это не означало, что они враги, – не для него. Он делил с ней стол без злого умысла. И в этом было что-то пугающее, даже несмотря на его учтивость. В игнорировании очевидного присутствовала некая жестокость. И все равно он нравился ей своей хладнокровной энергией, отвлеченностью… чем-то еще. Он неуклюже копошился на кухне, потом сел и поел вместе с ней – быстро и шумно, заляпав все лицо прозрачным бульоном. Когда они отломали по куску от батона, Энн принялась расспрашивать его о Гавани Буна.
– Там хорошая пекарня, – проговорил Уайтбрук, указывая на батон. – И лаборатория. А в остальном – обычная станция. Но в прошлом году мы убрали купол, и сейчас там очень холодно, особенно зимой. Всего сорок шесть градусов широты, но ощущение такое, будто это совсем уже север. Настолько, что некоторые поговаривают вернуть купол, по крайней мере, на зиму. А кое-кто даже считает, что его нужно оставить до тех пор, пока везде не станет теплее.
– Пока не закончится ледниковый период?
– Не думаю, что он наступит. Этот первый год без солетты, конечно, выдался скверным, но без некоторого возмещения не обойтись. Ну, пройдет пара холодных лет – только и всего.
Он примирительно махнул рукой. Энн чуть не бросила в него хлебом. Но решила, что не стоит предпринимать по отношению к нему неожиданных действий и, превозмогая дрожь, сдержалась.
– Питер еще на Буне? – спросила она.
– Думаю, да. По крайней мере, несколько дней назад был там.
Они немного поговорили об экосистеме Ботанической бухты. Не имея более полной структуры растительного мира, создатели животных были существенно ограничены – в этом отношении здесь была скорее Антарктика, чем Арктика. Но существовала возможность, что распространение высших растений произойдет быстрее благодаря новым методам совершенствования почвы. Как раз сейчас, например, уже росло много лишайника. А за ним должны последовать тундровые растения.
– Но тебе это не по нраву, – заметил он.
– Мне нравилось, как было раньше. Великая Северная равнина состояла из барханов из темного гранатового песка.
– Но что-то ведь останется, в районе полярной шапки?
– Полярная шапка по большей части уйдет ниже уровня моря. Как ты сказал, это будет что-то похожее на Антарктику. Нет, дюны и слоистая напластованная земля так или иначе окажутся под водой. Все северное полушарие погибнет.
– Но мы сейчас в северном полушарии.
– Мы на высокогорном полуострове. И он тоже в некотором роде погиб. Ботаническая бухта была кратером Эп на Аркадии.
Он внимательно посмотрел на нее сквозь очки.
– Пожалуй, если бы ты жила в горах, там все казалось бы таким, каким было в прежние времена. Только с воздухом.
– Может быть, – осторожно ответила она. Тяжело прогромыхав по отсеку, он стал чистить в раковине большие кухонные ножи. На кончиках его пальцев были короткие тупые ногти, с которыми, хоть и подстриженными, трудно было управляться с мелкими предметами.
Энн осторожно поднялась.
– Спасибо за ужин, – проговорила она, отступая к двери шлюза. Взяв куртку, она хлопнула дверью перед его изумленным взглядом. Там ее вновь встретил пробирающий холод ночи, но куртка уже была на ней. «Никогда не убегай от хищника». Она вернулась к своей машине и, не оглядываясь, забралась внутрь.
Древнее высокогорье Земли Темпе испещряло множество мелких вулканов, отчего здесь повсюду были лавовые равнины и каналы, а также оползни, вызванные деформациями подземного льда, и редкий канал оттока, тянувшийся по склону Большого Уступа. И все это – вместе с привычным набором признаков нойского удара и его деформационных последствий, благодаря чему на ареологических картах Земля Темпе выглядела, как палитра художника, где повсюду пестрели цвета, показывая разные стороны всей истории региона. По мнению Энн, цвета стало даже слишком много. Для нее эти мельчайшие деления на разные ареологические единицы были искусственными, как остатки небесной ареологии. Эта наука пыталась находить различия между регионами, которые были более кратерированными или неровными, чем другие, тогда как здесь все это присутствовало одновременно и все отличительные особенности были заметны повсюду. Здесь просто изрезанная местность – нойский ландшафт, и ничего более.
Даже дно длинных прямых каньонов, составлявших борозду Темпе, было настолько изрезанным, что по нему оказалось невозможно проехать, и Энн пришлось двигаться не по прямой и подняться на возвышение. Самые свежие потоки лавы (застывшие миллиард лет назад) были тверже, чем размельченная изверженная порода, что лежала под ними, и теперь залитая лавой местность приняла форму длинных валов и насыпей. На более мягкой земле между ее потоками находилось множество всплесковых кратеров, подножия которых когда-то явно повидали жидкие потоки, точно омытые водой песочные замки на пляже. Во всем этом беспорядке кое-где выступали редкие островки потертой коренной породы, но чаще всего это был реголит. И везде виднелись признаки воды и залегающего ниже вечномерзлого грунта, приводящего к медленным обвалам и оползням. А сейчас, с возрастанием температуры и, вероятно, под влиянием тепла от подземных взрывов, все эти оползни получили ускорение. Повсюду происходили новые обвалы: широко известный Красный путь ушел в небытие, когда засыпало съезд с Темпе-12; стены Темпе-18 обрушились с обеих сторон, сделав U-образный каньон V-образным; Темпе-21 исчезла под осыпавшейся западной стеной. И так везде: земля таяла. Энн даже заметила несколько таликов – разжиженных участков в верхних слоях вечномерзлого грунта, вроде леденистых болот. А во многих овальных ямах образовались водоемы, которые таяли днем и подмерзали ночью, чем разрывали землю на части еще быстрее.
Она миновала дольчатый порог кратера Тимошенко, с северной стороны погребенный под волнами лавы Кориолана, крупнейшего из многочисленных мелких вулканов в Темпе. Земля здесь была вся рытвинах, и здесь выпал снег, который растаял и снова затвердел во множестве бассейнов. Земля обваливалась со всеми возможными признаками, характерными для вечномерзлого грунта: полигональными грядами обломков, концентрическим заполнением кратеров, буграми пучения, течением грунта. В каждом углублении образовался леденистый водоем или лужица. Земля таяла.
На обращенных к югу солнечных склонах повсюду имелась защита от ветра. Там росли деревья, возвышавшиеся над подлеском из мха, травы и кустарника. В залитых солнцем впадинах росли карликовые хвойные деревья, искривленные и со спутанными иголками, а в тех впадинах, что оставались в тени, – лежал грязный снег и зернистый лед. Столько земли было разрушено! Она была пустой, но не совсем: камни, лед и заболоченные луга были разлинованы неровными гривами. Из предвечернего тепла собирались облака, их тени ложились на местность, создавая безумный узор из красного и черного, зеленого и белого цветов. Жаловаться на однородность среды в Земле Темпе не приходилось. И все пребывало в совершенном покое под быстро перемещающимися тенями облаков, пока однажды в вечерних сумерках за валуном не мелькнуло что-то белое. У Энн дернулось сердце, но что это было, она не разглядела.
И все же она что-то видела, а перед наступлением темноты ей постучали в дверь. С дрожащим, как марсоход на рессорах, сердцем она подбежала к окну и выглянула наружу. Там стояли какие-то фигуры, такого же цвета, как окружающие их камни, и махали руками. Люди.
Это оказалась группа Красных экотажников. Когда они вошли по ее приглашению внутрь, то сказали, что узнали ее марсоход по описанию людей из убежища Темпе. Они как раз надеялись с ней пересечься и поэтому были счастливы: смеялись, болтали, ходили по салону, прикасались к ней. Молодые высокие местные с каменными клыками и сияющими юными глазами, среди которых были и азиаты, и белые, и негры. И все были счастливы. Она узнала их, видела на горе Павлина – не кого-то конкретно, но как группу. Молодые фанатики. И по спине Энн пробежал холодок.
– Куда вы направляетесь? – спросила она.
– В Ботаническую бухту, – ответила одна девушка. – Собираемся разрушить лаборатории Уайтбука.
– И станцию Буна, – добавила другая.
– О нет! – воскликнула Энн.
Они умолкли и внимательно на нее посмотрели. Точно как Касэй и Дао в Ластфлоу.
– Что вы имеете в виду? – спросила девушка.
Энн сделала глубокий вдох и попыталась сообразить.
– Вы были в Шеффилде? – спросила она.
Они кивнули, поняв, что она имеет в виду.
– Тогда вы и так должны понимать, – медленно проговорила она. – Нет смысла пытаться воссоздать красный Марс, проливая кровь по всей планете. Мы должны найти иной путь. Но не можем делать это, убивая людей. И даже убивая животных и растения, взрывая машины. Это не сработает. Это все погубит. Так люди ничего не поймут, понимаете? От этого никто не выиграет. Даже станет хуже. Чем больше мы делаем таких вещей, тем более Зелеными становятся они. А мы таким образом отдаляемся от своей цели. И если мы это знаем и все равно делаем, значит, мы предаем свою цель. Понимаете? Мы делаем это только ради того, чтобы справиться со своими чувствами. Потому что мы злимся. Или чтобы ощутить риск. Нам нужно найти другой способ.
Они смотрели на нее, не понимая, раздражаясь, поражаясь, чувствуя презрение. Но слушая внимательно. Все-таки перед ними была Энн Клейборн.
– Я не знаю точно, каким должен быть этот другой способ, – продолжила она. – Не могу вам сказать. Но думаю… что с этого нам следует начать работать. Это должно быть что-то наподобие Красной ареофании. Ареофанию всегда рассматривали как что-то, относящееся только к Зеленым, с самого начала. Думаю, так получилось из-за Хироко, потому что она стала первой, кто сформировал ее суть. И она первой воплотила ее в жизнь. Так что понятие ареофании всегда было смешано с viriditas. И все же на это нет никаких причин. Мы должны это изменить – иначе никогда ничего не добьемся. Нужно создать Красный культ этих мест, такой, чтобы каждый смог научиться его чувствовать. Красность первозданной планеты должна стать силой, противодействующей viriditas. Мы должны добавить своих красок в этот зеленый цвет, пока он не сменился каким-то другим. Каким-нибудь цветом, который вы видите в этих камнях, – в яшме или в офите. Вы же понимаете, что я имею в виду. Я о том, чтобы заставить людей выйти на местность, может быть, показать горы, дать увидеть, что это такое. О том, чтобы расселиться там, повсюду, установить права собственности и распоряжения землей – так мы сможем защищать интересы земли, и им придется нас слушать. Также надо утвердить права кочевников, права ареологов, права скитальцев. Вот что может означать ареоформирование. Вы понимаете?
Она замолчала. Молодые люди слушали ее внимательно и были озабочены – либо состоянием ее рассудка, либо тем, о чем она говорила.
– Мы уже когда-то обсуждали нечто подобное, – сказал молодой человек. – И кое-кто уже этим занимается. Иногда мы и сами этим занимаемся. Но мы все же считаем активное сопротивление необходимым. Иначе нас просто подомнут под себя. Тогда все станет зеленым.
– Если мы их подкрасим, то нет. Прямо изнутри, в том числе изнутри самих Зеленых. Но саботаж, убийства… все это только на руку Зеленым, поверьте, уж я такое видела. Я борюсь с ними столько же, сколько вы, и я все это видела. Из-за ваших нападок они становятся лишь сильнее.
Молодого человека это не убедило.
– Они дали нам шестикилометровый предел, потому что боялись нас, потому что мы были движущей силой революции. Если бы мы не боролись, наднационалы до сих пор бы повсюду заправляли.
– Тогда противник был другой. Когда мы боролись с землянами, это произвело впечатление на марсианских Зеленых. Но когда мы боролись с Зелеными, их это разозлило. И они стали более Зелеными, чем когда-либо.
Группа сидела в молчании, задумавшись и, может даже, придя в уныние.
– Но что тогда нам делать? – спросила седовласая женщина.
– Отправляйтесь на какую-нибудь территорию, которой грозит опасность, – предложила Энн. Она указала рукой на вид за окном. – Даже здесь неплохой вариант. Или куда-нибудь поближе к шеститысячной границе. Поселитесь там, постройте город, сделайте из него главное убежище, пусть он станет прекрасным местом. И туда мы потом спустимся с гор.
Это не вызвало у них воодушевления.
– Или поезжайте в города и организуйте туры, создайте правовой фонд. Показывайте людям природу. Подавайте в суд на каждое их предложение что-то изменить.
– Черт, – молодой человек потряс головой. – Звучит отвратительно.
– Ну и пусть, – ответила Энн. – Неприятную работу тоже придется сделать. Но нам нужно победить их изнутри. Проникнуть в их мир.
Унылые лица. Они сидели и обсуждали то, как жили сейчас, то, как хотели жить. Что могли сделать, чтобы первое превратилось во второе. Говорили о том, что, когда война закончилась, жить как подпольщики стало невозможно. И так далее. Они часто вздыхали, иногда плакали, упрекали и ободряли друг друга.
– Поехали со мной завтра, посмотрите вблизи на это ледяное море, – предложила Энн.
На следующий день группа подпольщиков отправилась вместе с Энн на юг по шестидесятой долготе. Кхала, как говорили арабы, – пустая земля. С одной стороны, здесь было красиво, и нойский горный ландшафт наполнял их сердца чувствами. С другой, экотажники вели себя тихо и покорно, точно паломники при каком-то неопределенном мрачном обычае. Они подъехали к крупному каньону, который назывался Ступенью Нилокерас, и спустились в него по широкому и неровному природному съезду. К востоку лежала покрытая льдом равнина Хриса, еще один рукав Северного моря, от которого, похоже, нельзя было спастись. На юге находилась борозда Нилокерас, служившая краем комплекса каньонов, начинавшегося далеко на юге, в огромной впадине каньона Гебы. Этот каньон был со всех сторон закрыт, но его проседание, как теперь считалось, случилось из-за прорыва водоносного слоя чуть западнее, в верхней части каньона Эхо. Тогда по Эхо хлынуло неимоверное количество воды, прямо к западному краю плато Луна, в результате чего образовался высокий крутой утес Эхо-Оверлука, а потом в нем образовался прорыв, и вода устремилась по нему, разорвав большую излучину каньона Касэй и вырезав глубокий канал в низинах Хриса. Это был один из крупнейших прорывов воды в истории Марса.
Сейчас Северное море уже достигло Хриса, и вода заполняла нижние концы Нилокераса и Касэя. Плоская возвышенность – кратер Шаранова – напоминала гигантскую башню, гнездившуюся на высоком выступе этого нового фьорда. А посреди фьорда находился длинный узкий остров, один из лемнискатных островов, образованных древним наводнением и теперь снова превратившихся в острова, выделяющихся своим красным цветом на фоне белого льда. В будущем этот фьорд должен был стать даже лучшей гаванью, чем Ботаническая бухта: у него были крутые стены, но в них то тут, то там имелись уступы, которые могли стать портами. Хотя, конечно, по каньону Касэй сюда проникал бы неприятный западный ветер, порывы которого не пускали бы сюда корабли из залива Хриса…
Как странно. Она вывела молчаливых Красных на съезд, по которому они выбрались на широкий уступ к западу от ледяного фьорда. К тому времени уже наступил вечер, и, когда они вышли из марсоходов и стали спускаться к заливу, как раз начался закат.
Когда солнце уже опускалось за горизонт, они стояли тесной печальной кучкой перед одиноким ледяным блоком метров четырех высотой, чьи подтаявшие выпуклые формы были гладкими, словно мышцы. Они стояли таким образом, что солнце находилось за ледяным блоком и светило сквозь него. С обеих сторон блока яркий свет отражался от зеркального мокрого песка. Словно предостерегая. Неоспоримо, по-настоящему – к чему это их побуждало? Они стояли и молча смотрели на закат.
Когда солнце скрылось, Энн отделилась от группы и сама поднялась в свой марсоход. Она оглянулась на склон: Красные все еще были там, завороженные. Казалось, среди них находилось белое божество, подкрашенное оранжевым, как неровная белая гладь ледяной бухты. Белое божество, медведь, бухта, дольмен из марсианского льда – океан останется здесь навсегда, такой же реальный, как камни.
На следующий день она поехала по каньону Касэй, на запад, в сторону Эхо. И поднималась выше и выше, медленно преодолевая один широкий уступ за другим, пока не оказалась в месте, где Касэй изгибался налево и соединялся с дном каньона Эхо. Эта излучина была одной из самых крупных и очевидных выточенных водой форм рельефа на планете. Но теперь, заметила Энн, на плоском дне арройо росли карликовые деревья, почти такие же мелкие, как кусты, и колючие, с черной корой и блестящими, острыми, как у падуба, темно-зелеными листьями. Землю вокруг стволов облеплял мох, хотя на остальных участках его почти не было. Это был лес из деревьев одного вида, и он занимал каньон Касэй от стены до стены, заполняя огромную излучину, будто какое-то чрезмерно разросшееся черное пятно.
Энн пришлось направить марсоход прямо через низкорослый лес, и машина качалась из стороны в сторону, проезжая по ветвям, стойким, как у толокнянки, упрямо лезущим под колеса, а потом, освободившись, отступавшим назад. Энн подумала, что пройти по этому каньону пешком было теперь практически невозможно – он был таким узким и закругленным, какие, представлялось ей, были характерны для рельефа Юты. А также походил на темный лес из сказки, откуда не сбежать и где полно всяких летающих черных тварей и что-то белое, ускользающее во тьму… От комплекса безопасности ВП ООН, прежде располагавшегося в месте изгиба долины, не осталось и следа. Это место было проклято на веки вечные. Тут пытали Сакса, и Сакс же сжег его, чтобы потом здесь выросли эти колючки, полностью его заполонив. И ученых еще называют рациональными созданиями! «Да будут прокляты и они, – подумала Энн, стиснув зубы, – до седьмого колена и еще до седьмого после».
Она фыркнула и продолжила подъем по каньону Эхо, в сторону резко выступающего конуса купола Фарсиды. Там, на одной стороне вулкана, где склон выравнивался, находился город. Как сказал ей Уайтбук, там мог быть Питер, поэтому она предпочла обойти его стороной. Питер – земля под водой, Сакс – земля в огне. Когда-то Питер был ее. И на этой скале я возведу…[27] Питер – Земля Темпе, Скала Земли Времен. Новый человек, Homo martial. Тот, кто их предал. Это нужно помнить.
И она ехала на юг, вверх по склону Фарсиды, пока не увидела пик горы Аскрийской. Гора-материк, пронзающая горизонт. Если гора Павлина была вся заселенная и заросшая благодаря своему экваториальному положению и небольшому преимуществу, которое давал провод лифта, то Аскрийская, находившаяся от нее всего в пятистах километрах на северо-восток, была совсем голая. Там никто не жил, мало кто вообще когда-либо на нее поднимался. Лишь несколько ареологов, изучавших ее лаву и редкие пирокластические потоки пепла, из-за которых все, что было красным, становилось почти черным.
Она съехала на более низкие, плавные и волнистые склоны. Аскрийская гора, будучи хорошо заметной и с Земли, считалась одной из классических деталей альбедо. Аскрийское озеро. Так повелось со времен каналомании, когда ее и приняли за озеро. Гора Павлина в ту эпоху также называлась озером Феникса. Аскра, прочитала Энн, была местом рождения Гесиода[28] и «располагалась справа от горы Геликон, в высоком и неровном месте». Выходит, даже думая, что это озеро, ей дали название горной деревни. Наверное, подсознательно люди все же понимали изображения телескопов. Слово «Аскрийская» изначально было поэтическим названием пастушьего, Геликон – горой в Беотии, священной для Аполлона и муз. Гесиод однажды поднял глаза от плуга и, увидев гору, понял, что у него родилась история. Удивительно, как рождались мифы, как они продолжали снова и снова рассказывать свои истории из прошлых жизней.
Это был самый отвесный из четырех больших вулканов, но вокруг него не было такого широкого уступа, как вокруг Олимпа. Так что Энн могла включить низкую передачу и двигаться в гору, словно пытаясь медленно оторваться от земли и улететь в космос. Откинуться на спинку сиденья и задремать. Положить голову на подголовник, расслабиться. Проснуться по прибытии, на высоте двадцать семь километров над нулевой отметкой. Такой же высоты достигали и остальные три большие вулкана – это был максимум для марсианских гор, изостатический предел, в котором литосфера начинала проседать под весом камня. И вся большая четверка его достигла и не могла вырасти еще. Это говорило об их размерах и преклонном возрасте.
Да, гора очень старая, но лава на ее поверхности при этом была одной из самых молодых изверженных пород на Марсе, лишь немного обработанная ветром и солнцем. Когда лавовые потоки остыли, стекая вниз, то образовались невысокие извилистые выступы, на которые можно было подняться или которые приходилось теперь огибать сбоку. Вверх по склону отчетливо тянулась проложенная марсоходами извилистая дорога, избегая крутых участков у подножий этих потоков и вовсю используя преимущества широкой сети уступов и склонов. В тех местах, что постоянно находились в тени, брызги осели поверх грязного уплотненного снега. Сами же тени напоминали о черно-белой пленке, отчего Энн казалось, будто она ехала сквозь фотонегатив, и когда она поднималась все выше и выше, настроение у нее по непонятной причине падало. За спиной у нее открывался все лучший вид на конический северный склон вулкана, а за ним – север Фарсиды, до самой стены каньона Эхо, находившемся на расстоянии ста километров. И бо́льшая часть этого пейзажа была занесена снегом или покрыта льдом. Все было белым в крапинку. Лед покрывал и тенистые склоны вулкана.
А на скалах сиял изумрудный мох. Все становилось зеленым.
Но она продолжала подниматься, день за днем, на невообразимые высоты, и снег постепенно утончался и встречался все реже. Наконец, она достигла высоты в двадцать километров над нулевой отметкой – двадцать один над уровнем моря, около семидесяти тысяч футов надо льдом! Более чем в два раза выше Эвереста! И все равно конус вулкана еще высился над ней – оставалось целых семь километров вверх! Вверх, в темнеющее небо, прямо в космос.
Далеко внизу проплывал гладкий слой облаков, закрывавших собой вид на Фарсиду. Будто белое море преследовало ее, поднимаясь по склону. На том уровне, где находилась она, облаков уже не было – по крайней мере в этот день; хотя иногда, наверное, здесь бывали грозовые тучи или перистые облака. Сейчас же небо над ее головой оказалось безоблачным, сине-фиолетовым, местами черным, с несколькими дневными звездами в зените и с одиноким, тусклым Орионом. К востоку от вершины тянулось тонкое облако, исходящее из жерла, такое бледное, что Энн могла видеть темное небо сквозь него. Влаги здесь почти не было, равно как и атмосферы. А давление – раз в десять меньше, чем на уровне моря, – около тридцати пять миллибар, то есть лишь чуть-чуть превышало то, что было, когда они впервые прибыли на Марс.
Тем не менее она заметила пятна лишайников в углублениях на вершинах скал – в местах, где собирался снег и куда потом попадало солнце. Они были настолько малы, что Энн едва их различала. Лишайник – симбиотическая пара водорослей и грибов, объединивших усилия, чтобы выжить – даже при тридцати миллибарах. Даже не верилось, на что иногда способна жизнь. Как странно…
Да, настолько странно, что она оделась и вышла посмотреть на эти лишайники. Здесь, на высоте, пришлось прибегнуть ко всем старым мерам предосторожности. Надев герметичный костюм, она вышла за двери шлюзов наружу, к яркому свету верхней части атмосферы.
Скалы, в которых рос лишайник, представляли собой ровные террасы, на которых могли бы нежиться на солнце сурки, живи они на такой высоте. Вместо этого – лишь мелкие иголочки желтовато-зеленого либо серого цветов. Чешуйчатые лишайники, как сообщила ей консоль. Их кусочки оторвались во время бури, прибились сюда, к скалам, и вросли в них. Объяснить это могла только Хироко.
Живые организмы. Мишель говорил, что она любила камни, а не людей, потому что с ней плохо обращались, что ей повредили психику. Существенно уменьшенный гиппокамп, сильная реакция вздрагивания, тенденция к психическому расстройству. И все-таки ей удалось найти мужчину, который был, насколько возможно, похож на камень. Мишель тоже ценил это качество в Саймоне и сам ей об этом говорил – каким же благом в те годы, что они жили в Андерхилле, было иметь хоть одного такого товарища, которому можно было доверять, спокойного и надежного, такого, на кого всегда можно положиться.
Но Саймон был не один такой, как указал Мишель. Это качество присутствовало и в других – смешанное с иными свойствами и не такое явное, но оно присутствовало. Почему она могла не любить это качество упрямой выносливости в других людях, во всех живых существах? Они лишь пытались существовать, как какие-нибудь камни или планеты, в каждом из них присутствовало это каменное упрямство.
Ветер проносился над застывшей лавой, завывая ей в шлем, гудя в воздухопроводном шланге, так что она не слышала собственного дыхания. Небо, скорее просто черное, чем цвета индиго, – не считая пурпурной полосы на горизонте, – на самом верху отчетливо выделялось темно-синим… О, кто бы поверил, что оно когда-нибудь изменится здесь, на склоне горы Аскрийской? Почему теперь они не поселились здесь, чтобы напомнить себе, куда прибыли, что сотворили с Марсом и что так безрассудно уничтожили?
Назад в марсоход. Она продолжила подъем.
Она была над серебристыми облаками, к западу от прозрачной дымки, исходившей из вершины вулкана. В укрытии от струйного течения. Подниматься вверх – как путешествовать в прошлое, оставляя позади все лишайники и бактерии. Хотя она и не сомневалась, что те прятались и на этой высоте где-то внутри верхних слоев пород. Хазмоэндолитическая жизнь, как мифические маленькие красные человечки – микроскопические божества, которые общались с Джоном Буном, своего рода местным Гесиодом. Так говорили марсиане.
Жизнь была повсюду. Мир становился зеленым. Но если эта зелень была незаметна, если она никак не влияла на землю… может быть, это было не так уж плохо? Живые организмы. Мишель сказал ей, что она любила камни из-за того каменного качества, которым обладала сама жизнь. Все так или иначе касается жизни. Саймон, Питер… На этой скале я построю свою церковь. Почему бы ей не любить это каменное качество во всем сущем?
Марсоход поднимался по последним округлым лавовым террасам, уже с меньшим усилием двигаясь по асимптотическому выравниванию широкого кольца вулкана. Лишь чуть-чуть в гору, и с каждым метром все ровнее – и затем, наконец, к самому жерлу. И к его внутреннему краю.
Чтобы посмотреть на кальдеру, она выбралась из машины. Ее мысли метались беспокойно, как поморники.
Комплекс кальдер горы Аскрийской состоял из восьми перекрывающих друг друга кратеров. Причем новые обрушивались прямо внутрь более старых. Самая крупная и молодая кальдера находилась примерно в центре комплекса, и старые кальдеры с более высоким дном окружали ее, точно лепестки, скучившиеся вокруг центра цветка. Каждая из кальдер лежала на разном уровне и имела узор из дугообразных трещин. Если пройти по краю, вид менялся так, что, казалось, менялись и расстояния, и высоты, словно кальдеры парили в воздухе. Зрелище было прекрасное, и все это простиралось вдаль на восемьдесят километров.
Оно напоминало лекцию о внутреннем устройстве вулкана. При извержениях на внешние склоны вулкана выливалась магма из действующего жерла, и дно кальдеры резко опускалось. Таким образом все круглые формы, как и само жерло, смещались на протяжении эонов. Изогнутые утесы: лишь в немногих местах на Марсе были такие вертикальные склоны, опускающиеся почти под прямым углом. Базальтовые кольцевые миры. Это место должно было стать Меккой для альпинистов, но, насколько она знала, этого не случилось. Но, возможно, когда-нибудь…
Сложность горы Аскрийской сильно отличала ее от горы Павлина с ее единственной огромной дырой. Почему кальдера Павлина каждый раз опускалась по одному и тому же периметру? Может, это последнее оседание уравняло все предыдущие кольца? Был ли в нем меньший пласт магмы или же она меньше разливалась по сторонам? Или жерло Аскрийской сильнее колебалось? Она подняла несколько камешков с края и рассмотрела их. Лавовые бомбы, свежие изверженные породы метеоров, обточенные нестихающими ветрами… Здесь еще многое предстояло изучить. И никакие их проекты не скажутся на местной вулканологии, не помешают все это исследовать. И действительно, ей попадалось немало статей на эту тему в «Журнале ареологических исследований». И, как сказал ей Мишель, эти места на большой высоте останутся такими навсегда. Подъем по этим огромным склонам будет равносилен путешествию в дочеловеческое прошлое планеты, экскурсу в чистую ареологию, может даже, в саму ареофанию – с Хироко или без. С лишайником или без. Сейчас шли разговоры о том, чтобы накрыть эти кальдеры куполом, чтобы оградить их от всякого рода бактерий, но это лишь превратило бы их в зоопарки, природные заповедники, садовые участки со стенами и крышами. Бесплодные фермы. Нет. Она выпрямилась, обвела взглядом округлый пейзаж и твердо встала перед этим простором. Помахала рукой той хазмоэндолитической жизни, что могла пробиваться где-то там. Живи, сущее. Она произнесла это слово вслух, и оно показалось странным:
– Живи.
Марс был вечен. Как всегда, каменный, залитый солнечным светом. Но затем она краем глаза увидела белого медведя, ускользнувшего за неровный валун. Она отскочила: там ничего не было. Вернулась к марсоходу, чувствуя необходимость в его защите. Забралась вовнутрь, но весь остаток дня ей казалось, что с экрана искина на нее обращен рассеянный взгляд из-за очков, взгляд человека, который мог позвонить в любую секунду. Человека, напоминавшего медведя, готового съесть ее, если бы ему удалось ее поймать. Если бы удалось… Но пока она была неуловима и могла скрываться на этой стойкой высоте вечно – свободная сейчас и всегда. Она могла сама решать, быть или не быть. Но опять же, здесь, прямо за дверью шлюза мелькнуло что-то белое. Ах, как все это трудно…
Часть седьмая Налаживая работу
Затянутое льдом море теперь охватывало значительную часть севера. Великая Северная равнина залегала в одном-двух километрах ниже нулевой отметки, а местами и в трех. И теперь, когда уровень моря стабилизировался в районе минус одного, она почти вся ушла под воду. Если бы океан подобной формы существовал на Земле, он был бы крупнее Северного Ледовитого и покрыл бы бо́льшую часть территории России, Канады, Аляски, Гренландии и Скандинавии, а также создал бы два более серьезных наступления на юг, образовав узкие моря, которые достигли бы самого экватора – узкие северные части Атлантического и Тихого океанов, между которыми остался бы крупный квадратный остров.
Великий Северный океан был усеян несколькими большими ледяными островами. Также он омывал вытянутый полуостров, который не позволял совершить по нему кругосветное путешествие. Он соединялся с большой землей на севере Сирта косой полярного острова. Северный полюс теперь находился на льду Олимпийского залива, в нескольких километрах от этого острова.
И на этом все. На Марсе не могло быть аналогов ни южных частей Атлантического и Тихого океанов, ни Индийского. Здесь на юге была сплошная пустыня – не считая моря Эллады, бассейна круглой формы размером с Карибский. И если на Земле океан занимал семьдесят процентов суши, то на Марсе – лишь около двадцати пяти.
В 2130-м Великий Северный океан был покрыт льдом. Хотя под его поверхностью имелись крупные участки жидкой воды, а летом по его поверхности рассеивались талые озера, а также многочисленные полыньи, лунки и трещины. Поскольку бо́льшая часть воды была выкачана из вечномерзлого грунта, она была и чистой, как грунтовая, то есть практически дистиллирована – так что океан был пресноводным. Впрочем, ожидалось, что вскоре он должен стать соленым, так как впадавшие в него реки протекали по весьма насыщенному солью реголиту. Впоследствии вода испарялась, выпадала в виде осадков, и все повторялось снова – соли перемещались из реголита в воду, пока не будет достигнут баланс. Этот процесс приковывал интерес океанографов, потому что соленость земных океанов, остававшаяся на одном уровне многие миллионы лет, была мало изучена.
Береговые линии не поддавались никакому контролю. Полярный остров, официально безымянный, называли по-разному: полярный полуостров, полярный остров, Морской Конек – из-за формы, которую он напоминал на картах. На самом же деле его береговая линия во многих местах все еще находилась подо льдом старой полярной шапки и повсюду была укрыта снегом, образовавшим гигантские заструги. Эта волнистая белая поверхность тянулась на многие километры над океаном, пока подводные течения не разламывали ее и не получалась «береговая линия» из трещин, гребней выдавливания и хаотичных граней крупных и плоских ледяных гор, а также все более широких участков открытой воды. При этом раскалывании ледяного берега возникло несколько крупных вулканических или метеоритных островов, включая пьедестальные кратеры, выпирающие из этой белизны, как огромные черные ледяные горы.
Южные побережья океана были гораздо более доступными и разнообразными. Там, где лед выходил к подножию Большого Уступа, было несколько регионов столовых гор и мелких холмов, которые теперь превратились в морские архипелаги. Их береговые линии, как и у главного материка, представляли собой скопления морских скал, утесов, кратерных бухт, фьордов, борозд и длинных ровных гряд. Вода в двух южных заливах хорошенько подтаяла подо льдом, а летом это наблюдалось и на поверхности. Залив Хриса, пожалуй, имел самую драматичную береговую линию из всех: в него, частично заполненного льдом, впадало восемь крупных каналов прорыва и по мере его таяния все они превращались в фьорды с крутыми стенами. На южной стороне залива четыре из этих каналов переплетались, образовывая группу крупных островов из обрывистых скал и создавая таким образом самый впечатляющий морской пейзаж планеты.
И над всеми этими водами каждый день летали стаи птиц. По воздуху плыли облака, гонимые ветром, они покрывались белыми и красными пятнами, когда на них падали свои же тени. По талой воде дрейфовали айсберги, разбиваясь о берега. Бури с ужасающей силой обрушивались на Большой Уступ, меча в скалы град и молнии. Всего береговая линия на Марсе составляла приблизительно сорок тысяч километров. И при быстром замерзании и оттепели на протяжении дней и времен года, под непрерывным действием ветра, каждый сантиметр этого побережья словно оживал.
По окончании конгресса Надя планировала сразу же покинуть гору Павлина. Ее тошнило от грызни на складах, от всех этих пререканий и политики, от насилия и угрозы насилия, от революции, саботажа, конституции, лифта, Земли и угрозы войны. Земля и смерть – вот в чем была суть горы Павлина со всеми ее павлинами, которые прихорашивались, бахвалились и кричали: «Я, я, я!» Это было последнее место на Марсе, где Надя хотела бы быть.
Ей не терпелось убраться с этой горы и вдохнуть свежего воздуха. Она хотела заняться реальной работой, строить своими девятью пальцами, спиной и умом, строить все и вся, не только здания – хотя это, конечно, тоже было замечательно, – но и, например, воздух и почву, которые были частью нового для нее проекта – простого терраформирования как оно есть. С тех пор как она впервые прогулялась на открытом воздухе в кратере Дю Мартерея, в одной защитной маске с CO2, одержимость Сакса наконец обрела для нее смысл. Она почувствовала в себе готовность присоединиться с нему и остальным участникам проекта с таким рвением, как никогда прежде, – сейчас, когда удаление зеркал с орбиты привело к долгой зиме и угрожало наступлением полноценного ледникового периода. Строить воздух, строить почву, сдвигать воду, вводить растений и животных – все это звучало для нее завораживающе. И, конечно, ее так же манило и более традиционное строительство. Когда новое Северное море растает и установится его береговая линия, повсюду появятся города-порты, целые десятки, и в каждом будут пристани и набережные, каналы и доки, а также те городские районы, что будут возвышаться на холмах. На более значительной высоте должны появиться новые шатровые города и крытые каньоны. Ходили даже разговоры о том, чтобы накрыть некоторые из крупных кальдер, запустить канатную дорогу между тремя большими вулканами, построить мост через пролив на юге Элизия, заселить полярный остров. Кроме того, сейчас появлялись новые подходы в жилищном строительстве, дома и строения планировалось выращивать прямо из специально созданных деревьев, так же, как Хироко использовала бамбук, но теперь в бо́льших масштабах. Да, строителю, готовому изучить эти технические новинки, предстояла тысяча лет работы над прекрасными проектами. Мечты сбывались.
К ней подошла небольшая группа людей, заявив, что они занимаются подбором кандидатов в первый исполнительный совет нового мирового правительства.
Надя пристально на них посмотрела. Она видела в их важности медленно срабатывающую ловушку и постаралась как можно скорее сбежать, пока та не захлопнулась.
– Кандидатов много, – ответила она. – Достойных людей раз в десять больше, чем мест в совете.
– Да, – согласились они. – Но мы хотели бы узнать, не рассматривали ли вы такую возможность для себя?
– Нет, – сказала она.
Арт ухмыльнулся, но она, заметив это, обеспокоилась.
– Я хочу заниматься строительством, – решительно заявила Надя.
– Это бы тебе не помешало, – сказал Арт. – Работа в совете рассчитана на неполную занятость.
– Черта с два!
– Нет, правда.
Понятие гражданского права и в самом деле было прописано в новой конституции и действовало везде – от мирового законодательного собрания до судов и местных властей в куполах. И предположительно бо́льшую часть этой работы люди должны были выполнять, работая по совместительству. Однако Надя была совершенно уверена, что исполнительный совет к этой категории не относился.
– Разве члены исполнительного совета не должны избираться из законодательного собрания? – спросила она.
– Нет, избираться законодательным собранием, – радостно поправили ее. – Как правило, они будут избирать своих товарищей из собрания, но это не обязательно.
– Значит, у вас в конституции ошибка! – сказала Надя. – Хорошо, что вы так быстро ее заметили. Ограничьте круг кандидатов до членов собрания и здорово облегчите себе работу. И все равно у вас останется множество достойных людей.
Но они стояли на своем. Они приходили снова и снова, в разных составах, но Надя продолжала избегать их ловушки. Наконец, они стали ее умолять. Вся их маленькая делегация. Это был важнейший момент для нового правительства, им нужен был совет, которому все могли бы доверять, такой, с чего бы все началось, и так далее. Сенат был избран, дума созвана. И теперь обе палаты избирали семерых членов исполнительного совета. Среди кандидатов упоминались Михаил, Зейк, Питер, Марина, Эцу, Нанао, Ариадна, Мэриан, Иришка, Антар, Рашид, Джеки, Шарлотта, четверо послов на Землю и еще несколько человек, с которыми Надя впервые познакомилась на складе.
– Много достойных людей, – напомнила им Надя. У этой революции было много лидеров.
Но они снова и снова повторяли ей, что народ не удовлетворен этим списком. Они привыкли к ней как к центру сил, что во время конгресса, что в революцию, что до этого, в Дорсе Бревиа, да и в годы подполья и вообще с самого начала. Народ хотел, чтобы она заняла место в совете и оказывала там на всех умиротворяющее воздействие, стала его рассудительностью и непритязательностью…
– Пошли вон! – воскликнула она, вдруг разъярившись, сама не зная отчего. Увидев ее гнев, они обеспокоились и опечалились. – Я подумаю, – добавила она, чтобы те смогли сдвинуться с места.
Наконец, с ней остались только Арт и Шарлотта, с серьезными лицами делая вид, словно они ко всему этому не имели никакого отношения.
– Похоже, они очень хотят, чтобы ты вошла в совет, – проговорил Арт.
– Да заткнись ты.
– Но это так. Им нужен кто-то, кому они могут доверять.
– Ты имеешь в виду, что им нужен кто-то, кого они не боятся. Им нужна старенькая бабуля, которая не будет пытаться ничего сделать, чтобы они смогли удерживать своих оппонентов подальше от совета и выполнять свои программы.
Арт нахмурился: об этом он и не подумал, он был слишком наивен.
– Ты же знаешь, конституция – это вроде чертежа, – задумчиво проговорила Шарлотта. – Настоящая задача состоит в том, чтобы создать реально работающее правительство.
– Вон! – приказала Надя.
Но в итоге она согласилась. Они напирали, их было на удивление много, и они не отступали. А она не хотела показаться уклонистом и позволила веревке ловушки обвиться вокруг своей ноги.
Законодательное собрание приступило к работе, голосование началось. Надя была избрана первой из семерых, вместе с ней в совет попали Зейк, Ариадна, Мэриан, Питер, Михаил и Джеки. В тот же день Иришку избрали председателем Мирового природоохранного суда (МПС), что было большим успехом для нее лично и для Красных в целом – а также служило одним из пунктов Широкого жеста, который усилиями Арта был предоставлен на исходе конгресса, чтобы получить поддержку Красных. И около половины судей в той или иной степени относились к числу Красных, отчего жест, по мнению Нади, казался чересчур широким.
Сразу же после голосования к ней явилась новая делегация, на этот раз возглавляемая ее товарищами по совету. Они сказали ей, что поскольку она получила больше всех голосов в обеих палатах, они теперь хотели избрать ее президентом совета.
– Ну уж нет, – отказалась она.
Печально кивнув, они заметили ей, что президент – это лишь один из членов совета, равный всем остальным. Чисто формальная должность. Эта часть правительства была смоделирована по швейцарскому принципу, а швейцарцы обычно даже не знают своего президента. И так далее. Хотя, конечно, им понадобится ее разрешение (тут глаза Джеки еле заметно блеснули), ее согласие принять этот пост.
– Вон! – приказала Надя.
Когда они ушли, Надя ссутулилась в своем кресле, чувствуя себя так, будто ее оглушили.
– Ты единственная на Марсе, кому доверяют все, – мягко заметил ей Арт. Он пожал плечами, будто был к этому непричастен, хотя Надя знала, что не так. – Что с этим поделаешь? – Он театрально, по-детски закатил глаза. – Отдай этому три года, и все наладится, а потом ты сможешь сказать, что сделала свое дело и можешь уходить. Да и подумай: первый президент Марса! Как этого можно не хотеть?
– Легко.
Арт помолчал. Надя пристально смотрела на него.
– Но ты же все равно согласишься, да? – спросил он наконец.
– А ты будешь мне помогать?
– О да, – он положил руку на ее сжатый кулак. – Все, что захочешь. То есть я полностью в твоем распоряжении.
– Это официальная позиция «Праксиса»?
– Ну, разумеется, я уверен, что да. Советник президента Марса из «Праксиса»? Еще бы!
Значит, она могла заставить его заниматься этой работой.
Она тяжело вздохнула. Попыталась расслабить напрягшиеся мышцы живота. Она могла согласиться на пост, а потом перекинуть бо́льшую часть работы на Арта и других помощников, которых ей предоставят. Она будет не первым, не последним президентом, который так поступит.
– Советник президента Марса из «Праксиса», – с довольным видом повторил Арт.
– Да заткнись ты уже! – сказала она.
– Да, конечно.
Он оставил ее наедине с мыслями, а потом вернулся с дымящимся кофейником и двумя чашечками. Разлил каву, и она взяла одну из чашек и отпила горького напитка.
– Как бы то ни было, я твой, Надя. Знай это.
– Угу.
Она смотрела на него, пока он пил свою каву. Она знала, что он подразумевал не только политику. Он любил ее. Все то время, что они вместе работали, путешествовали, жили под одной крышей. И он ей нравился. Такой большой, элегантный и воодушевленный. Любитель кавы, что было очевидно по тому, как он ее пил, по его напряженному лицу. Она чувствовала, что он провел весь конгресс в этом воодушевлении, распространяя его как эпидемию. Хотя с чего бы тут веселиться, когда пишешь конституцию? Это казалось абсурдным, но это сработало! И за время конгресса они стали как бы парой. Да, она была вынуждена это признать.
Но ей было 159 лет. Снова абсурд, но это было так. А Арту было – точно она не знала – семьдесят или восемьдесят с чем-то, хотя выглядел он на пятьдесят – как и все те, кто рано начал проходить процедуру омоложения.
– Я такая старая, что гожусь тебе в прабабушки, – сказала она.
Арт пожал плечами, смущенный. Он знал, о чем она говорит.
– А я такой старый, что гожусь в прадеды этой женщине, – ответил он, указав на высокую марсианку, которая прошла мимо двери их кабинета. – А она достаточно стара. Так что, видишь, в какой-то момент это перестает иметь значение.
– Для тебя, может, и нет.
– Ну да. Но это уже половина мнений, которые учитываются.
Надя ничего не ответила.
– Слушай, – сказал Арт, – мы проживем долгую жизнь. И однажды цифры вообще перестанут что-то означать. Я хочу сказать, я не был здесь с тобой в первые годы, но мы уже долго пробыли вместе, через многое прошли.
– Я знаю… – Надя опустила взгляд на стол, припомнив кое-что из этого. На месте потерянного пальца у нее остался обрубок. Вся та жизнь осталась в прошлом. Теперь она была президентом Марса.
– Черт.
Арт отхлебнул кавы и сочувственно посмотрел на нее. Она нравилась ему, он нравился ей. Они уже были своего рода парой.
– Ты поможешь с этой чертовой работой в совете, – сказала она, ощущая тоску по ускользающим от нее технофантазиям.
– Ну разумеется.
– А потом… ладно. Потом посмотрим.
– Посмотрим, – повторил он и улыбнулся.
Так она и застряла на горе Павлина. Именно там собиралось новое правительство, сменив складские помещения на Шеффилд, где они заняли отделанные шлифованным камнем блочные здания, брошенные наднационалами. Конечно, у них прошел спор по поводу того, должны ли они возмещать что-то за эти здания и всю остальную инфраструктуру или просто «глобализировать» или «реквизировать» их в пользу независимости и нового порядка.
– Возместите им, – рычала Надя на Шарлотту, сердито на нее глядя. Но, судя по всему, на Марсе президентство было не такого рода президентством, когда люди должны были подскакивать при первом слове.
Как бы то ни было, правительство обосновалось там, сделав Шеффилд если не столицей, то хотя бы временным месторасположением мирового правительства. После того как Берроуз ушел под воду, а Сабиси сгорел, других явных кандидатов не осталось, да и по мнению Нади он выделялся среди других купольных городов, желавших себе такого статуса. Некоторые заговаривали о том, чтобы построить новую столицу, но на это требовалось время, а до тех пор им нужно было где-то заседать. Так что они остановились возле железной дороги, ведущей в Шеффилд, внутри купола, под его темным небом. В тени провода лифта, тянущегося вверх из восточного района города, прямого и черного, словно трещинка в самой реальности.
Надя подыскала жилье в самом западном куполе, у крайнего парка, на пятом этаже, откуда открывался прекрасный вид на кальдеру Павлина. Арт занял квартиру на первом этаже этого же здания, в задней его части – вероятно, потому, что от вида кальдеры у него кружилась голова. Офис «Праксиса» располагался в соседнем здании – отшлифованном яшмовом кубе, крупном, как городской квартал, разлинованном голубыми хромированными окнами.
Отлично. Она была на месте. Пора было сделать глубокий вдох и заняться тем, что от нее требовалось. Это напоминало дурной сон, в котором конституционный конгресс растянулся на три года, три долгих М-года.
Она начала намеренно присоединяться ко всяким строительным проектам, чтобы время от времени покидать гору. Конечно, она исполняла свои обязанности в совете, но работать, например, над повышением объемов выделения парниковых газов тоже было здорово – к тому же в этой работе технические проблемы сочетались с политикой соответствия новому режиму, регулирующему состояние окружающей среды. Эта работа требовала выездов в глухие районы, где были сосредоточены запасы сырья для парниковых газов. Оттуда заниматься делами совета ей давала возможность наручная консоль.
Но обстоятельства вынуждали ее оставаться в Шеффилде. То одно, то другое – вроде бы ничего серьезного или интересного, если сравнивать с самим конгрессом, не происходило, но эти мелочи оказались необходимы, чтобы наладить работу. Об этом и предупреждала Шарлотта: за стадией проекта следовало бесчисленное множество мелочей, из которых состояло непосредственное строительство. Мелочь за мелочью.
Это было ожидаемо, и Наде следовало запастись терпением. Она выдержит первичный натиск, а потом отстранится от дел. А тем временем, пока шел процесс запуска, ее хотели медиа, новое Марсианское управление ООН, проявлявшее весьма глубокий интерес к иммиграционной политике и соответствующим процедурам, а также остальные члены совета. Где совет должен собираться? Как часто? По каким правилам действовать? Надя убедила остальных шестерых членов назначить Шарлотту секретарем и начальником протокольной службы, после чего Шарлотта приняла на работу целую команду помощников из региона Дорса Бревиа. Так у них появился свой штат. У Михаила также имелся большой практический опыт работы в правительстве Богданова Вишняка. Таким образом, здесь были люди, приспособленные к этой работе лучше Нади – но все равно ей звонили по миллиону раз в день, чтобы посовещаться, что-то обсудить, решить, назначить, рассудить, постановить. И всему этому не было конца.
А потом, когда Надя ценой усилий освободила время для себя, оказалось, что, будучи президентом, крайне затруднительно присоединиться к какому-либо проекту. Все нынешние проекты находились во власти куполов или кооперативов, которые зачастую имели коммерческую основу и были вовлечены в транзакции, частично связанные с некоммерческими общественными работами, а частично – с конкурентным рынком. Поэтому если бы президент присоединился к отдельно взятому кооперативу, это означало бы официальное покровительство, что было недопустимо в случае честной игры. Так возникал конфликт интересов.
– Черт! – осуждающе бросила она Арту.
Он пожал плечами, пытаясь сделать вид, что не знал об этом.
Но выхода у нее не было. Она стала узником власти. Ей следовало изучить ситуацию, словно это была инженерная задача, как если бы требовалось приложить силу каким-то сложным способом. Допустим, она хотела строить фабрики парниковых газов. Но не имела возможности присоединиться к какому-либо конкретному кооперативу. Следовательно, нужно было сделать это иным путем. Переходим на более сложный уровень: может быть, она могла координировать кооперативы.
Это казалось хорошим предлогом, который позволил бы ей поддерживать строительство фабрик. Год без зимы затянулся и уже включал в себя серию яростных бурь, которые перешли с Большого Уступа на север, и большинство метеорологов признало, что эти так называемые кроссэкваториальные бури Хэдли были вызваны удалением орбитальных зеркал и последовавшим за ним снижением уровня инсоляции. Наступление настоящего ледникового периода теперь считалось вполне возможным, а накачка воздуха парниковыми газами казалась одним из лучших способов ему противостоять. Поэтому Надя попросила Шарлотту созвать конференцию, на которой собиралась дать рекомендации по предупреждению холодов. Шарлотта связалась с Да Винчи, Сабиси и другими городами и уже вскоре объявила, что конференция пройдет в Сабиси и будет называться, несомненно, по идее какого-нибудь саксоклона из Да Винчи, «Заседание по вопросу снижения последствий инсоляции – М-53».
На конференцию, однако, Надя так и не попала. Вместо этого она погрязла в делах в Шеффилде, по большей части занимаясь устройством новой экономической системы, которую считала достаточно важной, чтобы остаться в городе. Законодательное собрание рассматривало законы об эко-экономике, облекая плотью те положения, что были включены в конституцию. Они указывали кооперативам, существовавшим до революции, как помочь бывшим дочерним компаниям наднационалов, теперь обретшим независимость, как провести реорганизацию в такие же кооперативы. Этот процесс, получивший название «горизонтализация», имел очень широкую поддержку, особенно среди молодых местных уроженцев, поэтому протекал довольно гладко. Любая марсианская компания теперь должна была перейти в собственность своих работников. Ни один кооператив не мог объединять свыше тысячи человек, более крупные предприятия должны были стать объединениями кооперативов. В качестве своей внутренней структуры большинство фирм выбирало различные варианты богдановистской модели, которая, в свою очередь, основывалась на баскском кооперативном сообществе в Мондрагоне, Испания. В этих фирмах все работники были также совладельцами и приобретали свои доли в компании, внося сумму, примерно равную годовой зарплате, в фонд акций, и заработок, полученный от разного рода учебных программ в конце обучения. Этот вступительный взнос служил началом их участия в компании, и он рос с каждым годом, что они в ней состояли, пока не возвращался в виде пенсионного пособия или выплаты при увольнении. Советы, избираемые из трудового коллектива, нанимали управляющих, обычно со стороны, и те наделялись правом принимать ответственные решения, но их назначение ежегодно пересматривалось советами. Кредиты и капитал брались в центральных кооперативных банках, из стартового фонда мирового правительства, у вспомогательных организаций вроде «Праксиса» или у швейцарцев. Уровнем выше кооперативы одной отрасли промышленности или сферы обслуживания объединялись в более крупные проекты, а также направляли представителей в промышленные гильдии, которые учреждали профессиональные комиссии, арбитражные и медицинские центры, торговые палаты.
Экономическая комиссия также разрабатывала марсианскую валюту для внутреннего пользования и с возможностью обмена на земные валюты. Комиссия стремилась ввести такую валюту, которая будет стойкой к спекуляциям землян, но при отсутствии на Марсе фондовой биржи, вся сила инвестиций с Земли должна была обрушиться на саму валюту как на единственный предлагаемый вариант инвестиций. Это, в свою очередь, должно привести к падению стоимости марсианского цехина на земных валютных биржах, а в прежние времена, вероятно, раздуло бы его стоимость до небес, обеспечив Марсу отрицательный торговый баланс. Но пока распадающиеся наднационалы продолжали борьбу против кооперативизации Земли, финансовая система там находилась в несколько беспорядочном состоянии и не искрилась с былой силой. Так что цехин оказался достаточно сильным на Земле – но не чересчур сильным, – а на Марсе это были просто деньги. «Праксис» оказал в этом процессе большое содействие, став для новой экономики своего рода федеральным банком, – предоставил беспроцентные займы и производил непосредственный обмен земных валют.
В связи со всем этим исполнительный совет каждый день проводил долгие собрания, обсуждая законодательные акты и различные правительственные программы. Это отнимало столько времени, что Надя почти забыла о конференции в Сабиси и о том, что она собиралась выступить там в это же время. Тем не менее иногда вечерами ей удавалось проводить час-другой перед экраном с друзьями в Сабиси, и, судя по всему, там все шло довольно неплохо. Многие марсианские экологи, которые находились на связи с ней, сходились во мнении, что значительное увеличение выпуска парниковых газов уменьшит эффект от потери зеркал. Конечно, проще всего было выпускать CO2, но, если не использовать его, можно создать и выпустить в необходимом количестве более сложный и сильный газ. И поначалу они не думали, что это станет проблемой в политическом смысле. Конституция предусматривала давление не более 350 миллибар на высоте до шести километров, но о том, какие газы можно применять для создания такого давления, ничего не говорилось. Было подсчитано, что если накачать «коктейль Расселла» галогенуглеродами и другими парниковыми газами до тех пор, пока они не составят сто частей из миллиона вместо двадцати семи, что составляли сейчас, то удержание тепла повысится на несколько градусов по Кельвину, предупредив наступление ледникового периода или, по меньшей мере, значительно сократив его длительность. Поэтому план предусматривал производство и выпуск тонн тетрафтороида углерода, гексафторэтана, гексафторида серы, метана, закиси азота и рассеянных элементов других веществ, помогавших уменьшить скорость, с которой ультрафиолетовое излучение разрушало эти галогенуглероды.
Также на конференции много внимания уделялось другой стратегии, суть которой заключалась в том, чтобы завершить процесс таяния Северного моря. Когда оно станет полностью жидким, альбедо льда должно привести к передаче большого количества энергии обратно в космос, по-настоящему завершив таким образом жизненный цикл воды. Если бы им удалось создать жидкий океан или, учитывая отдаленность севера, жидкий в летний период, то никакого ледникового периода не случится, а терраформирование будет, по сути, завершено: появятся полноценные течения, волны, испарения, облака, осадки, таяние, ручьи, реки, дельты – полный гидрологический цикл. Это было целью изначально, а теперь перед ними было сразу несколько способов ускорить таяние океана: сброс в океан тепла от атомной электростанции, рассеивание черных водорослей по льду, использование микроволновых и ультразвуковых генераторов для нагрева и даже проход крупных ледоколов через мелкий паковый лед, чтобы помочь его вскрытию.
Конечно, наращивание парниковых газов тоже принесло бы пользу: поверхность океана оттает сама, как только температура воздуха закрепится выше 273 градусов по Кельвину. Однако в ходе конференции в этом плане выявлялось все больше недостатков. Его осуществление включало в себя крупнейшее развитие промышленности, почти равное объему чудовищных наднациональных проектов. Таких, как доставка азота с Титана или, собственно, солетты. И это были не разовые мероприятия: газы постоянно уничтожались бы ультрафиолетовым излучением в верхних слоях атмосферы, из-за чего для достижения необходимого количества газов требовалось произвести их с запасом, а затем продолжать производство до тех пор, пока в них существовала необходимость. Таким образом, добыча сырья и строительство фабрик по переработке этого сырья в газы становились огромнейшими проектами, которые требовали большого количества машинной силы – самоуправляемых и самовоспроизводящихся горных комбайнов, самостроящихся и саморегулируемых фабрик, дронов для сбора проб в верхних слоях атмосферы, – то есть всей мощи машинной индустрии.
С технической стороны в этом проблем не имелось: как Надя заметила своим друзьям на конференции, марсианские технологии в значительной степени роботизированы с самого начала. При этом по Марсу разъезжали тысячи маленьких беспилотных машин, которые разыскивали отложения углерода, серы или флюорита, перемещаясь от одного источника к другому, как когда-то арабские горные караваны на Большом Уступе. Затем, обнаружив новые запасы сырья, сосредоточенные в значительном количестве, роботы устраивались там и сооружали небольшие перерабатывающие заводы из глины, железа, магния и рассеянных металлов, добавляли элементы, которые невозможно было построить на месте, а потом собирали все воедино. Эскадры автоматизированных экскаваторов и погрузчиков свозили переработанный материал в централизованные фабрики, где его превращали в газ и выпускали в атмосферу через длинные передвижные трубы. Это не очень-то отличалось от прежней добычи материалов, необходимых для атмосферных газов, просто это требовало бо́льших усилий.
Но, как указали участники конференции, хорошо видимые месторождения уже разработаны. А открытые горные работы больше нельзя было проводить, как раньше: теперь почти все заросло растениями, и во многих местах на поверхности образовывался пустынный панцирь – результат увлажнения, деятельности бактерий и химических реакций, протекающих в глине. Эта корка здорово помогала ослабить пылевые бури, все еще остававшиеся постоянной проблемой, поэтому вскрывать ее, чтобы добраться до нижележащих отложений сырья, теперь считалось неприемлемым – ни в экологическом, ни в политическом смысле. Красные члены парламента требовали запрета данного вида открытых горных работ и имели на то веские причины, даже с точки зрения терраформирования.
Однажды ночью, выключив свой экран, Надя размышляла о том, как трудно оценить противоречивые последствия их действий. Экологические проблемы так тесно связаны между собой, что тяжело отделить их друг от друга и решить, что делать. Тяжело было и оставаться скованными собственными правилами: индивидуальные организации более не могли вести одностороннюю деятельность, потому что многие из их действий имели глобальные последствия. Поэтому и существовала необходимость экологического регулирования, а Мировой природоохранный суд уже рассматривал целый ворох дел. А потом суду еще предстояло оценить и программы, принятые на этой конференции. Время беспрепятственного терраформирования осталось в прошлом.
И как члену исполнительного совета Наде полагалось заявлять, что наращивание парниковых газов – это хорошая идея. В остальном она была вынуждена не вмешиваться, иначе это расценивалось бы как вмешательство в дела природоохранного суда, что Иришка воспринимала весьма ревниво. И Надя проводила время перед экраном с группой разработчиков новых автоматизированных горных комбайнов, которые минимально раздирали бы поверхность, или с группой, работающей над фиксаторами пыли, которые можно было бы распылить над поверхностью или вырастить и которые прозвали «тонким быстрым панцирем», но все же их разработка представляла сложную задачу.
И такую степень вовлеченности в дела конференции в Сабиси Надя взяла на себя сама. А поскольку все эти технические проблемы так или иначе были переплетены с политическими факторами, можно было сказать, что она вообще ничего не пропустила. Реальная работа ничуть не сдвинулась с места – ни она, ни кто-либо другой так ничего и не сделали. В Шеффилде тем временем совет столкнулся со множеством собственных проблем: непредвиденными трудностями в установлении эко-экономики, жалобами на превышение МПС своих полномочий, жалобами на новую полицию и систему уголовного правосудия, необузданным и неразумным поведением членов обеих палат парламента, Красными и другими силами сопротивления в необжитых районах и прочими. Вопросы возникали бесконечно и охватывали диапазон от весьма значительных до крайне мелких, отчего Наде стало тяжело различать отдельные проблемы в общем потоке.
Например, она потратила много времени на разрешение внутренних перебранок в совете, которые считала обыденными, но неизбежными. Большинство из них сводилось к противостоянию попыткам Джеки собрать большинство, которое будет каждый раз голосовать вместе с ней, чтобы Джеки могла использовать совет как марионеток партии «Свободный Марс» или, другими словами, самой Джеки. Поэтому нужно было лучше узнать остальных членов совета и придумать, как с ними сработаться.
Зейка Надя знала давно, и он ей нравился, представляя серьезную силу среди арабов, будучи главным представителем их культуры после того, как сместил с этой роли Антара. Добрый, умный, любезный, он был с Надей заодно во многих вопросах, в том числе в ключевых, что делало их отношения приятными и даже располагало к дружбе. Ариадна была одной из богинь матриархата региона Дорса Бревиа и блестяще исполняла свою роль: властная и верная своим принципам, она была мечтательницей, что, пожалуй, являлось единственной причиной, по которой она не могла иметь такого же признания среди местных уроженцев, как Джеки. Мэриан, представлявшая в совете Красных, также была мечтательницей и, хотя она сильно изменилась со времен своего прежнего радикализма, все же оставалась многоречивой спорщицей, которую не так легко одолеть. Питер, малыш Энн, вырос до видного представителя сразу для нескольких слоев марсианского общества, включая космическую команду в Да Винчи, Зеленое подполье, техников провода и, в некоторой степени и благодаря Энн, умеренных Красных. Эта разносторонность была частью его натуры, и Наде оказалось нелегко наладить с ним связь. Он был скрытен, как и его родители, и, казалось, подходил к ней с опаской, как и ко всей первой сотне, желая соблюдать с ними дистанцию, – нисей до мозга костей. Михаил Янгель был одним из первых иссеев, прибывших на Марс вслед за первой сотней, и с самых давних пор работал вместе с Аркадием. Он помогал поднять мятеж 2061-го, и в то время Надя считала его одним из наиболее радикальных Красных – отчего подчас до сих пор на него злилась, что было глупо и препятствовало ее общению с ним, но ничего поделать она не могла, хотя он также сильно изменился, став богдановистом, стремящимся к примирению. Его присутствие в совете оказалось для Нади неожиданностью – можно сказать, напоминанием об Аркадии, что она находила довольно трогательным.
И Джеки – весьма вероятно, самый популярный и влиятельный политик на Марсе. По крайней мере, до возвращения Ниргала.
И Надя встречалась с этой шестеркой каждый день, наблюдая за тем, как они проходили по пунктам повестки дня. От важных до мелких, от абстрактных до частных – это казалось Наде частью полотна, на котором все связано между собой. Участие в совете было не то чтобы полноценной работой – оно отнимало даже все свободное время. Оно поглощало ее жизнь. А прошло пока только два месяца из трех М-лет ее срока.
Арт понимал, что это ей досаждало, и, чем мог, помогал Наде. Он поднимался к ней в квартиру каждое утро, принося завтрак, как в гостинице. Часто он готовил его сам, и у него неплохо получалось. Входя с подносом над головой, он включал джаз на ее искине, как саундтрек к их утру, что они проводили вместе: не одна Надя любила Луи. Хотя Арт, чтобы доставить ей удовольствие, не только выискивал необычные записи Сачмо вроде «Дай миру шанс» или «Воспоминания о звездной пыли», но и включал поздние джазовые направления, которые ему никогда не нравились прежде из-за своей несдержанности, зато теперь вполне отвечали ритму их жизни. Как бы то ни было, Чарли Паркер, как ей казалось, разносился вихрем более выразительным, чем когда-либо, а благодаря Чарльзу Мингусу его многочисленная группа звучала, как оркестр Дюка Эллингтона на пандорфе, что, по мнению Нади, было как раз тем, чего не хватало Эллингтону и остальным исполнителям свинга и что создавало весьма забавную, приятную музыку. Или еще лучше: Арт часто по утрам включал Клиффорда Брауна, которого открыл для себя, когда искал для нее музыку, – впоследствии он очень этим гордился и считал его логическим преемником Армстронга. Чувственный трубач, радостный и мелодичный, как Сачмо, но вместе с тем потрясающе быстрый, ловкий и мудреный – как Паркер, только бодрый. Это был идеальный саундтрек к этим безумным временам, сводящим с ума от напряжения, но позитивным, насколько это возможно.
И Арт заносил завтраки, напевая «Всего меня», довольно приятным голосом, с той глубиной Сачмо, из-за которой слова американских песен казались лишь глупыми шутками: «Всего меня, возьми всего меня. Видишь, мне без тебя плохо». Затем он включал какую-нибудь музыку, садился спиной к окну, и утро наполнялось весельем.
Но независимо от того, как хорошо начинались дни, совет поглощал ее жизнь. У Нади росло отвращение ко всему этому – пререкания, переговоры, примирения, совещания, взаимодействие с какими-то людьми каждую минуту. Она начинала это ненавидеть.
Арт, разумеется, ее состояние замечал и уже выглядел обеспокоенным. А однажды после работы привел Урсулу и Влада. Они поужинали вчетвером в Надиной квартире – причем Арт сам готовил. Надя была рада оказаться в компании старых друзей, приехавших в город по делам. Пригласить их на ужин было идеей Арта, и весьма удачной. Он очень мил, думала Надя, глядя, как Арт суетится на кухне. Хитрый дипломат в обличии наивного простака или наоборот. Как Фрэнк, только добродушный. Или как смесь умений Фрэнка и веселости Аркадия. Она улыбнулась про себя тому, что оценивала людей по первой сотне, – будто каждый был своего рода рекомбинацией признаков той, изначальной семьи. Такая оценка стала ее дурной привычкой.
Влад и Арт обсуждали Энн. Судя по всему, Сакс, вне себя после разговора с ней, звонил Владу из своего шаттла, летящего на Марс. Он хотел узнать, не могли бы Влад и Урсула предложить Энн повысить пластичность мозга, процедуру, которую он проходил после инсульта.
– Энн никогда на это не согласится, – сказала Урсула.
– А я и рад, что не согласится, – сказал Влад. – Это было бы уже слишком. Ее мозг не был поврежден. Мы не знаем, как эта процедура повлияет на здоровый мозг. А идти на меры, которые неизвестно к чему приведут, можно, только если ты в отчаянии.
– Может, Энн и в отчаянии, – предположила Надя.
– Нет, это Сакс в отчаянии, – кратко улыбнулся Влад. – Он хочет, чтобы к его возвращению Энн стала другой.
– Хотя ты не хотел лечить этим и Сакса, – заметила ему Урсула.
– Да, это правда. Я не сделал бы этого и себе. Но Сакс – человек храбрый. И импульсивный. – Затем он перевел взгляд на Надю: – Нам лучше сосредоточиться на проблемах вроде твоего пальца, Надя. Такое мы теперь можем подправить.
– А что с ним не так? – спросила Надя, удивившись.
Они рассмеялись.
– Мы про тот, которого нет, – объяснила Урсула. – Мы можем отрастить его обратно, если захочешь.
– Ка! – воскликнула Надя. Она откинулась на спинку стула и посмотрела на свою узкую левую руку, на обрубок на месте мизинца. – Хорошо. Но мне он не нужен, честно.
Они снова рассмеялись.
– Ты, наверное, обманывала нас, – сказала Урсула. – Ты же всегда жалуешься на него, когда работаешь.
– Разве?
Все кивнули.
– С ним тебе будет легче плавать, – добавила Урсула.
– Я теперь редко плаваю.
– Может, ты из-за пальца и бросила.
Надя снова внимательно посмотрела на руку.
– Ка. Не знаю, что и сказать. Вы уверены, что получится?
– Из него может вырасти целая новая рука, – предположил Арт. – А потом новая Надя. Ты превратишься в сиамских близнецов.
Надя толкнула его в бок. Урсула отрицательно затрясла головой.
– Нет-нет. Мы уже проделали это с несколькими другими ампутантами и провели множество экспериментов над животными. Руки, кисти, ноги. Мы изучали это по лягушкам. И это совершенно чудесно! Клетки видоизменяются в точности так же, как когда палец рос в первый раз.
– Это такая буквальная картина из теории возникновения, – проговорил Влад с легкой улыбкой. И в этой улыбке Надя увидела, что именно ему принадлежала основная заслуга в разработке этого лечения.
– Так оно работает? – спросила она у него напрямик.
– Работает. Мы создадим, по сути, новый зачаток пальца на твоем обрубке. Это будет комбинация зародышевых стволовых клеток из основания твоего второго мизинца. И она будет функционировать как эквивалент гомеобокса, который ты имела, когда была зародышем. То есть у тебя появятся развивающиеся определители, позволяющие новым стволовым клеткам дифференцироваться как надо. Затем ультразвуковым методом тебе введут недельную дозу фактора роста фибробластов плюс несколько клеток из суставов и ногтей, когда это будет уместно… и все заработает.
Пока он это рассказывал, Надя ощущала, как внутри нее загорается интерес. Стать целой. Арт наблюдал за ней со своим доброжелательным любопытством.
– Ну хорошо, – проговорила наконец она. – Почему бы и нет?
На следующей неделе ей сделали биопсию целого мизинца и несколько ультразвуковых инъекций в обрубок потерянного пальца и в руку, затем дали несколько таблеток – и на этом все. После этого оставалось сделать еще несколько уколов раз в неделю и ждать результата.
Затем она о нем забыла, потому что Шарлотта, позвонив, рассказала о новой проблеме: Каир игнорировал предписание МПС об откачке воды.
– Тебе лучше приехать и взглянуть на это лично. Мне кажется, каирцы проверяют на прочность суд, потому что фракция «Свободный Марс» хочет бросить вызов мировому правительству.
– Джеки? – спросила Надя.
– Наверное.
Каир располагался на краю плато, возвышаясь над северо-западной U-образной долиной Лабиринта Ночи. Надя с Артом вышли с железнодорожной станции на площадь, окруженную высокими пальмовыми деревьями. Она сверкнула глазами, глядя на этот город: здесь произошли некоторые из худших событий ее жизни, во время штурма 2061-го. Здесь убили Сашу, как и многих других, и Надя взорвала Фобос – да, она сама! – и все лишь спустя несколько дней после того, как обнаружила обгоревшие останки Аркадия. Она больше ни разу сюда не возвращалась – она ненавидела этот город.
А сейчас увидела, что он получил новые повреждения при недавних беспорядках. Куски купола отсутствовали, система жизнеобеспечения понесла серьезный урон. Теперь все отстраивали заново, и вокруг старого города устанавливались новые сегменты купола, расширяя его границы на запад и на восток далеко вдоль края плато. Это напоминало строительный бум, что Надя находила странным, учитывая высоту города – десять километров над нулевой отметкой. Здесь никогда не удастся избавиться от куполов или выходить наружу без прогулочников, и поэтому, полагала Надя, город однажды придет в упадок. Но он лежит на пересечении экваториальной железной дороги и Фарсидской дороги, тянущейся отсюда на север и на юг. Это последнее место, где можно пересечь экватор перед хаосами, занимающими добрую четверть планеты. Так что до тех пор, пока не будет построен новый Трансмаринерский мост, Каир останется стратегически важной развязкой.
Но, развязка не развязка, им требовалось больше воды. Водоносный слой Комптон, залегающий ниже Лабиринта Ночи и выше долин Маринер, был прорван в 61-м, и его вода заполнила маринерские каньоны во всю их длину. Это наводнение едва не убило Надю и ее спутников, когда те летели в том районе после взятия Каира. Бо́льшая часть паводковой воды либо замерзла в каньонах, образовав длинный, неправильной формы ледник, либо заполнила хаосы на дне Маринера и застыла там. И какое-то количество воды, конечно, осталось в водоносном слое. В последовавшие годы ее выкачивали на нужды городов восточной Фарсиды. И ледник Маринер медленно опускался ниже, убывая в верхней части, где он не имел источника восполнения, и оставляя лишь разоренную землю и полосу мелких ледяных озер. Таким образом, Каир постепенно лишался готовых запасов воды. Его гидрологическое управление отреагировало на это, проложив трубопровод до крупного южного рукава северного моря во впадине Хриса и направив по нему воду в Каир. Это решало проблему: каждый купольный город так или иначе получал свою воду. Но каирцы недавно начали наполнять водой резервуар в каньоне Лабиринта, лежащего под городом, и пустили из него ручей по каньону Ио, после чего вода, наконец, стала собираться в верхней части ледника Маринер или протекала мимо нее. Так они создали новую реку, которая текла по этой огромной системе каньонов вдали от их города, и теперь устраивали несколько приречных поселений и фермерских хозяйств ниже по ее течению. Красные в ответ на эти действия обратились в Мировой природоохранный суд, заявив о юридических основаниях признать долину Маринер чудом природы как крупнейший каньон в Солнечной системе. И, утверждали они, если пустить по нему прорвавшуюся ледниковую воду, он неизбежно превратится в хаос, снова оставив каньоны открытыми. МПС, согласившись с ними, издал предписание, по которому от Каира требовалось прекратить выпуск воды из городского резервуара. Город отказался исполнять предписание, заявив, что мировая власть не имеет полномочий решать «вопросы жизнеобеспечения городов». Тем временем приречные поселения строились на максимальной скорости.
Это была явная провокация, вызов новой системе.
– Это проверка, – пробормотал Арт, когда они пересекали площадь. – Всего лишь проверка. Будь это настоящий конституционный кризис, сигналы раздавались бы по всей планете.
Проверка. Это как раз то, чего Надя терпеть не могла. Поэтому она шла по городу в дурном настроении. И разумеется, ей не помогали яркие воспоминания о печальных днях 61-го, которые навевали площадь, бульвары, городская стена у края каньона – все такие же, какими были тогда. Воспоминания зрелых лет считаются самыми слабыми, но страх и ярость Нади были с ней, как какой-то неотступный кошмар. Она с радостью избавилась бы от них, если бы могла, но все оставалось при ней: Фрэнк исступленно стучал по своим мониторам, Саша ела пиццу, Майя гневно кричала то по одному, то по другому поводу, они напряженно наблюдали за падающими обломками, гадая, не угодит ли один в них. Она видела Сашино тело, из ушей у нее шла кровь. Она нажала на кнопку передатчика, и Фобос был уничтожен.
Наде было очень трудно сдержать свой гнев, когда она прибыла на первую встречу с каирцами и обнаружила среди них Джеки, которая поддерживала их позицию. Джеки была беременна и уже на приличном сроке, румяная, ухоженная и красивая. Никто не знал, кто отец ребенка, – это было ее личное дело. Традиция региона Дорса Бревиа, пример Хироко – и это лишь сильнее раздражало Надю.
Встреча проходила в здании, соседнем с городской стеной, и отсюда открывался вид на лежавший внизу U-образный каньон, называвшийся Лабиринтом Нила. Внизу виднелась и вода – в широком, затянутом льдом резервуаре, прегражденном дамбой, которую отсюда не было видно, и достигающем аж Иллирийских Врат и нового хаоса пролома Комптон.
Шарлотта стояла спиной к окну, задавая каирским чиновникам те же вопросы, что только что задавала им Надя, – но, в отличие от нее, без малейшего намека на раздражение.
– Вы всегда будете жить под куполом. Возможности сельского хозяйства будут ограничены. Зачем затапливать Маринер, если это не принесет вам никакой выгоды?
Никто, казалось, не собирался на это отвечать. Наконец слово взяла Джеки:
– Выгоду извлекут люди, которые живут ниже, а они – часть Большого Каира. На таких высотах вода, в каком бы состоянии она ни была, – это ценный ресурс.
– Вода, свободно бегущая по Маринеру, – это вовсе никакой не ресурс, – возразила Шарлотта.
Каирцы принялись объяснять пользу от воды в Маринере. Здесь также присутствовали представители поселений, располагавшихся ниже по течению, многие из которых были египтянами, утверждавшими, что жили в Маринере несколько поколений, что жить здесь – их законное право, что эта земля – лучшая для фермерства на Марсе, что они готовы сражаться за нее и так далее. Иногда казалось, будто каирцы и Джеки защищают своих соседей, но случалось, что они говорили о своем праве использовать Маринер как резервуар. Больше же всего казалось, что они просто пытаются отстоять свое право делать все, что им заблагорассудится. Внутри Нади нарастал гнев.
– Суд вынес решение, – сказала она. – Мы здесь не для того, чтобы опять препираться. Мы здесь для того, чтобы убедиться, что оно вступило в действие.
И она покинула заседание, прежде чем кто-либо успел возразить каким-нибудь непозволительным образом.
Позже, ночью, она сидела с Шарлоттой и Артом, раздраженная до того, что не могла сосредоточиться на изысканных эфиопских блюдах, что им подали в ресторане на станции.
– Чего они хотят? – спросила она Шарлотту.
Та, с набитым ртом, пожала плечами. Проглотив, ответила:
– Ты замечаешь, что президент Марса – не такая уж влиятельная должность?
– Да, черт возьми. Такое трудно не заметить.
– Это и всего исполнительного совета касается. Более-менее реальная власть при этой системе есть разве что у природоохранного суда. Иришку поставили там во главе в рамках Широкого жеста, и она многое сделала, чтобы узаконить цели умеренных Красных и взять под контроль средние высоты. Это позволяет развиваться ниже шеститысячного лимита, но выше все строго. И все это подкреплено конституцией, так что они правы: парламент бессилен и пока еще не отменил ни одного судебного решения. Поэтому для Иришки и всей ее юридической группы первая сессия прошла с большим успехом.
– Значит, Джеки ревнует, – сказала Надя.
Шарлотта снова пожала плечами.
– Может быть.
– Еще как может, – сухо проговорила Надя.
– Значит, как-то тут должен действовать совет. Джеки может думать, что заручится поддержкой еще трех членов и совет будет в ее руках. Каир – это место, где она надеется, что Зейк проголосует вместе с ней из-за арабской части города. Но нужно еще два. А Михаил и Ариадна – как раз большие сторонники локализма.
– Но совет не может отменить решения суда, – сказала Надя, – это только парламент в силах, да? Он может принять новые законы.
– Верно, но, если Каир продолжит препираться с судом, совет может приказать полиции прибыть сюда и применить силу. Вот чем должна заниматься исполнительная власть. Если совет этого не сделает, то власть суда будет подорвана, и Джеки, по сути, получит фактический контроль над советом. Убьет двух зайцев одним выстрелом.
Надя отбросила от себя кусок рыхлого хлеба.
– Да чтоб мне провалиться, если это случится! – воскликнула она.
Они посидели молча.
– Ненавижу все это, – произнесла, наконец, Надя.
– Через несколько лет у нас появится наработанная практика, – сказала Шарлотта, – инструкции, законы, поправки к конституции и все в этом роде. То, на что конституция никогда не ссылалась, что претворит ее в жизнь. Как, например, должная роль политических партий. Сейчас мы как раз находимся в процессе создания всего этого.
– Может, и так, но я все равно это ненавижу.
– Подумай об этом как о метаархитектуре. Как о строительстве культуры, которая позволит существовать архитектуре. Тогда это не будет для тебя таким тягостным.
Надя фыркнула.
– Этот случай должен быть простым, – продолжила Шарлотта. – Решение вынесено, им остается только ему подчиниться.
– А если они откажутся?
– Значит, придется вводить полицию.
– Другими словами, начать гражданскую войну!
– Они не станут заходить так далеко. Они подписались под конституцией, как и все остальные, а если все ее поддерживают, то они становятся изгоями, как Красные экотажники. Не думаю, что они на это пойдут. Они просто проверяют предел прочности.
Шарлотту, казалось, это не раздражало. Такова уж людская природа, словно бы говорила она. Она никого не винила, не была расстроена. Очень спокойная женщина – расслабленная, уверенная, знающая. Координируемый ею исполнительный совет уже был хорошо организован, а может, и вовсе слажен. Если такие умения давал матриархат вроде того, что в Дорсе Бревиа, думала Надя, это еще один плюс для него. Она не могла не сравнивать Шарлотту с Майей, у которой случались перепады настроения, которая впадала в тревожные состояния и вечно все драматизировала. Вероятно, это были индивидуальные качества, не зависящие от культуры. Но было бы интересно отдать больше таких должностей женщинам из Дорсы Бревиа.
Следующим утром на заседании Надя встала и заявила:
– Приказ, воспрещающий выброс воды в Маринер, уже издан. Если вы его не прекратите, будут задействованы силы новой полиции мирового сообщества. Не думаю, что кто-либо этого желает.
– Не думаю, что вы можете говорить от имени всего исполнительного совета, – сказала Джеки.
– Могу, – отрывисто бросила Надя.
– Нет, не можете, – снова возразила Джеки. – Вы лишь одна из семи. И вообще, совет еще должен решать.
– Мы еще это обсудим, – сказала Надя.
Заседание продолжилось без особого успеха. Каирцы чинили всевозможные препятствия. Чем больше Надя понимала их действия, тем меньше они ей нравились. Их лидеры имели важное значение для «Свободного Марса», и даже если бы их дело провалилось, они могли добиться уступок для партии по другим вопросам, захватив себе таким образом больше власти. Шарлотта признала, что это могло также быть их основным мотивом. Из-за чувства цинизма и отвращения Наде было очень тяжело вежливо вести себя с Джеки, когда та ей что-то говорила, непринужденно веселая, беременная королева, курсирующая меж своих приспешников, словно линкор среди весельных лодок.
– Тетя Надя, мне очень жаль, что вы посчитали нужным так поступить…
Позже, той же ночью, Надя заявила Шарлотте:
– Мне нужно такое решение, по которому «Свободный Марс» вообще ничего из всего этого не получит.
Шарлотта коротко рассмеялась.
– Ты что, пообщалась с Джеки, да?
– Да. И почему она такая популярная? Я не понимаю, но это так!
– Она довольно мила с большинством людей. А сама считает, что мила со всеми.
– Она напоминает мне Филлис, – сказала Надя. Снова первая сотня… – Хотя, может, и нет. А вообще, нет ли какого-нибудь штрафа, который с нее можно взыскать за безосновательные ходатайства и жалобы?
– Судебные расходы, в ряде случаев.
– Так попробуй это ей предъявить.
– Сначала надо посмотреть, есть ли у нас шанс их выиграть.
Пошла вторая неделя заседаний. Надя предоставила право говорить на них Шарлотте и Арту. А сама выглядывала в окна на тянущийся внизу каньон, чесала обрубок пальца, на котором уже был заметен новый бугорок. Очень странно: хоть она внимательно за ним следила, но не могла вспомнить, когда бугорок возник впервые. Он был теплым и розовым, даже нежно-розовым, как детские губки. Внутри него вроде бы была кость – она боялась сдавливать его слишком сильно. Лобстеры уж точно не защемляли свои отрастающие конечности. Вся эта пролиферация клеток внушала беспокойство – как рак, только управляемый, – воплощение чудесных возможностей ДНК. Сама жизнь, расцветающая во всей своей эмергентной комплексности. А ведь палец был мелочью по сравнению с глазом или эмбрионом. Новые возможности казались такими странными…
На этом фоне политические переговоры представлялись поистине кошмарными. После одного из заседаний Надя вышла, будто и не услышав ничего из того, о чем там говорили, – хотя была уверена, что ничего существенного там не произошло, – и устроила прогулку к смотровой площадке в западной части стены купола. Она позвонила Саксу. Четверка путешественников уже приближалась к Марсу, и задержки между сообщениями сократились до нескольких минут. Ниргал, как оказалось, выздоровел и находился в хорошем расположении духа. Он даже выглядел не таким истощенным, как Мишель, – тому посещение Земли далось тяжело. Надя поднесла к экрану палец, чтобы его взбодрить, и это действительно помогло.
– Розовый мизинчик, вот, значит, как!
– Пожалуй, что так.
– Только ты, я вижу, не очень-то веришь, что он заработает?
– Нет, не особо.
– Думаю, у нас сейчас переходный период, – сказал Мишель. – В нашем возрасте мы не можем по-настоящему верить, что мы живы, и поэтому ведем себя так, будто все может закончиться в любую минуту.
– Но ведь так и есть. – Она думала о Саймоне. О Татьяне Дуровой. Об Аркадии.
– Конечно. Только это, опять же, может длиться десятилетиями, а то и веками. Но когда-нибудь нам все-таки придется начать в это верить, – он говорил так, будто пытался убедить не только ее, но и самого себя. – Ты посмотришь на свою целую, невредимую руку и поверишь. И это будет захватывающее ощущение.
Надя пошевелила розовым отростком на своей кисти. Пока на свежей, полупрозрачной коже не сформировалось рисунка. Но когда он появится, она не сомневалась, что он будет таким же, как на другом мизинце. Очень необычно.
После одной из встреч Арт вернулся озадаченный.
– Я их расспрашивал, – сказал он, – пытался выяснить, зачем им все это. Привлек к делу несколько агентов «Праксиса», и в каньоне, и на Земле, и внутри руководства партии «Свободный Марс».
«Шпионы, – мелькнуло в голове у Нади. – Теперь у нас есть шпионы».
– Оказывается, они заключают тайные сделки с земными правительствами по вопросам иммиграции. Строят поселения и предоставляют места однозначно людям из Египта и, вероятно, из Китая. Это должен быть обмен услугами, но мы не знаем, что они получают от этих стран взамен. Может быть, деньги.
Надя стиснула зубы.
В следующие пару дней они провели встречи вживую или по видео со всеми членами исполнительного совета. Мэриан, разумеется, была противницей откачки воды в Маринер, поэтому Наде нужно было получить еще только два голоса. Но Михаил, Ариадна и Питер не желали пускать в ход полицию, если можно пойти иным путем, и Надя подозревала, что они, как и Джеки, были не в восторге от относительной слабости совета. Похоже, они были, скорее, готовы пойти на уступки, лишь бы избежать неловкого принуждения к исполнению решения суда, которое они не так уж рьяно поддерживали.
Зейк явно хотел голосовать против Джеки, но был скован в действиях арабским электоратом Каира и всем арабским сообществом, которое за ним следило: они придавали большое значение контролю за землевладением и водоснабжением. Но бедуины – кочевники, а Зейк – ярый сторонник конституции. Надя склонялась к тому, что он ее поддержит. То есть оставалось убедить еще одного члена совета.
Отношения с Михаилом не стали лучше – он словно хотел быть связанным с памятью Аркадия сильнее, чем Надя. Питера, по ощущениям, она просто не понимала. Ариадна ей не нравилась, хотя это по-своему упрощало их общение, к тому же она тоже приехала в Каир. Поэтому Надя решила начать с нее.
Ариадна предана конституции, как и большинство жителей Дорсы Бревиа, но они сторонники локализма и, несомненно, подумывают о сохранении определенной степени независимости своего региона от мирового правительства. И они также жили вдали от источников воды. Так что Ариадна колебалась.
– Слушай, – сказала ей Надя, когда они сидели в небольшой комнате в здании, разделенном площадью от офиса городских властей. – Забудь о Дорсе Бревиа и подумай о Марсе.
– Да я уже…
Ариадну раздражало то, что ей пришлось встретиться с Надей, она бы с удовольствием сбежала отсюда как можно скорее. Суть дела мало ее интересовала, значение имел лишь вопрос старшинства, неподчинения иссеям.
Для таких, как она, дело состояло лишь в политике силы и иерархии, на реальные проблемы такие не обращали внимания. Еще и этот проклятый город… Вдруг Надя потеряла самообладание и почти перешла на крик:
– Нет, ты не думаешь! Ты вообще не думаешь! Нашей конституции впервые бросают вызов, а ты только и смотришь, что от этого можно поиметь! Я такого подхода не понимаю! – Она помахала пальцем перед удивленным лицом Ариадны. – Если не проголосуешь за исполнение судебного решения, то в следующий раз, когда будет голосование, на котором тебе что-то будет действительно нужно, ты увидишь ответные меры. От меня. Поняла?
У Ариадны округлились глаза. Она сначала поразилась, потом испытала мгновение чистого страха. А затем пришла в ярость.
– Я никогда не говорила, что не буду голосовать за исполнение! – воскликнула она. – Чего вы так взбесились?
Надя возвратилась к более привычному для обсуждений тону, но все равно в ней чувствовалось напряжение и неуступчивость. Наконец, Ариадна всплеснула руками:
– Как раз это и нужно большинству членов совета Дорсы Бревиа, я бы все равно так проголосовала. И не нужно так из-за этого горячиться. – И она, расстроенная, поспешила покинуть комнату.
Сперва Надю охватило чувство торжества. Но воспоминание о страхе в глазах девушки осталось с ней, такое сильное, что Надя ощутила легкую тошноту. Она вспомнила Койота на Павлине, который говорил, что власть портит людей. Это было неприятное чувство – когда пользуешься властью, не важно, во благо или во зло.
Много часов спустя, ночью, ее все еще тошнило от отвращения, и она, едва не плача, рассказала Арту о случившемся конфликте.
– Звучит не очень, – мрачно проговорил он. – Наверное, это была ошибка. Тебе все равно еще придется иметь с ней дело. Когда понадобится, тебе нужно будет снова убеждать других.
– Знаю, знаю. Господи, как же я это ненавижу, – сказала она. – Хочется все бросить и заняться каким-нибудь настоящим делом.
Он тяжело кивнул и потрепал ее по плечу.
Перед следующей встречей Надя подошла к Джеки и тихо сообщила ей, что у нее достаточно голосов членов совета, чтобы высадить полицию у дамбы и остановить дальнейший выброс воды. Затем, уже на самой встрече, она напомнила всем, как бы невзначай, что Ниргал очень скоро присоединится к ним. Равно как и Майя, Сакс и Мишель. Это несколько озадачило нескольких представителей «Свободного Марса», хотя Джеки, конечно, виду не подала. И пока они продолжили о чем-то трепать языком, Надя сидела и чесала палец, не слушая, все еще расстроенная после встречи с Ариадной.
На следующий день каирцы согласились признать решение Мирового природоохранного суда. Они пообещали прекратить выброс воды из своего резервуара и перевести поселения каньона на водоснабжение из трубопроводов, что неизбежно приведет к замедлению темпа их роста.
– Хорошо, – сказала Надя, по-прежнему ощущая горечь. – Все по закону.
– Они собираются подавать апелляцию, – указал Арт.
– Не важно. У них нет шансов. А если и есть, главное, они согласились на судебный процесс. Черт, да если они и выиграют, мне будет все равно. Главное, что есть процесс, так что мы выиграли независимо от его исхода.
Арт улыбнулся ее словам. Это был несомненный шаг вперед в ее политической образованности, шаг, который Арт и Шарлотта сделали уже давно. Для них был важен не результат какого-либо единичного соглашения, но успешное применение процесса. Если «Свободный Марс» теперь составлял большинство – а судя по всему, так и было, учитывая, что их поддерживали почти все местные, эдакие малолетние дураки, – то их подчинение конституции означало, что они не могли просто давить на меньшинства и добиваться своего лишь численным превосходством. Поэтому, если «Свободный Марс» и выигрывал какое-то дело, его сначала должна была рассмотреть по существу полноценная группа судей, куда входили представители всех фракций. И это доставляло большое удовлетворение – как смотреть на стену, сложенную из тонких материалов, но благодаря хитрой структуре способную выдерживать бо́льшую нагрузку, чем казалось со стороны.
Но она прибегла к угрозам, чтобы подпереть одну из балок, и из-за этого весь результат оставлял неприятное послевкусие.
– Я хочу заняться чем-нибудь настоящим.
– Например, строить водопроводы?
Она кивнула, ничуть не улыбнувшись.
– Да, гидрологией.
– А меня с собой возьмешь?
– В помощники водопроводчика?
Он рассмеялся.
– Мне уже приходилось этим заниматься.
Надя внимательно на него посмотрела. Благодаря ему она чувствовала себя лучше. Это было необычно и старомодно: идти куда-то только затем, чтобы быть с кем-то. Теперь так редко кто поступал. Люди шли туда, куда было нужно им, и общались с любыми знакомыми, которых там встречали, или же заводили новых друзей. Таков был марсианский обычай. А может, обычай первой сотни. Или просто ее обычай.
В любом случае было очевидно, что такое совместное путешествие – это больше, чем дружба, а может, и больше, чем любовный роман. Но это не так уж плохо, решила она. И даже совсем не плохо. Хотя к этому, пожалуй, надо будет привыкать. Но ведь людям всегда приходится к чему-то привыкать.
К новому пальцу, например. Держа ее за руку, Арт слегка массировал его.
– Болит? Можешь его согнуть?
Он действительно немного болел, и она могла тихонько его сгибать. Ей ввели несколько клеток суставного хряща, и теперь он был чуть длиннее первого сустава другого мизинца. Кожа оставалась розовой, как у ребенка, без каких-либо мозолей или шрамов. И с каждым днем он становился все больше.
Арт мягко сжал его кончик, ощутив кость внутри него. У него округлились глаза.
– Чувствуешь?
– О да, так же, как другие пальцы, только он, может, немного чувствительнее.
– Это потому что он новый.
– Да, наверное.
Однако он был каким-то образом связан со старым пальцем. Из той части кисти исходили сигналы, словно подаваемые фантомным пальцем. Палец в мозгу, как называл его Арт. И несомненно, в мозгу существовала группа клеток, отвечавших за мизинец, который все это время был фантомным. За годы отсутствия раздражителей они зачахли, но теперь отрастали обратно либо снова активизировались и укреплялись. То, как этот феномен объяснял Влад, звучало слишком сложно. Но в последнее время, когда она чувствовала этот палец, ей иногда казалось, что он такой же крупный, как мизинец на другой руке. И это ощущение не пропадало, даже когда она смотрела прямо на него. Словно на него был надет какой-то невидимый щит. Но случалось и так, что она чувствовала его маленьким, каким он и был, коротким, тонким и слабым. Она могла сгибать его в основной фаланге и еще чуть-чуть – в средней. Ногтевой же фаланги пока не было. Но ждать оставалось недолго. Она отрастала. Надя пошутила: она теперь будет расти и не остановится, – хотя мысль эта казалась жуткой.
– Было бы здорово, – отозвался Арт. – Тебе тогда придется завести собаку.
Но сейчас она уже чувствовала, что этого не случится. Палец, казалось, сам знал, что делает. С ним все будет хорошо. Да и выглядел он нормально. Арт же вовсе был от него в восторге. Но не только от него. Он массировал ей кисть, которая немного побаливала, – а заодно всю руку и плечи. Он сделал бы ей массаж всего тела, если бы она ему позволила. А судя по ощущениям в пальце, руке и плечах после массажа, ей определенно стоило дать ему волю. Он здорово ее расслаблял. Жизнь для Арта все еще была каждодневным приключением, полным чудес и веселья. Люди каждый день вызывали у него улыбку – это был большой дар. Крупный, круглолицый, полнотелый, в чем-то похожий на Надю, но и лысеющий, невзыскательный и любезный. Он был ее другом.
Да, конечно, она любила Арта. Еще со времен Дорсы Бревиа, если не раньше. Она чувствовала к нему примерно то же, что к Ниргалу – своему любимому племяннику, ученику, крестнику, внуку или ребенку. Арт, таким образом, был одним из друзей ее ребенка. Хотя на самом деле он был несколько старше Ниргала, но они все равно казались братьями. И это было проблемой. Впрочем, все эти расчеты теряли свое значение с увеличением их продолжительности жизни. Когда он будет всего на пять процентов младше нее, разве это еще будет важно? Когда они провели вместе тридцать насыщенных лет как равные друг другу, как коллеги, архитекторы декларации, конституции и правительства, как близкие, задушевные друзья, во всем помогающие друг другу и даже делающие массаж, – разве играло какую-то роль то, что их молодость длилась разное количество лет? Нет, не играло. Если так подумать, это становилось очевидным. Но это нужно было еще прочувствовать.
В Каире Наде больше нечего было делать, и в Шеффилде прямо сейчас она тоже была не нужна. Скоро возвращался Ниргал, который сдержал бы Джеки, – приятного в такой работе мало, но это была его задача и помочь в ней ему никто не мог. Тяжело, когда сосредотачиваешь всю свою любовь на одном человеке. Как она не могла расстаться с Аркадием на протяжении стольких лет, пусть он и был мертв. Это не имело смысла, но она по нему скучала. И до сих пор на него сердилась. Он даже не прожил столько, чтобы понять, как сильно она скучала. Счастливый дурак. Арт тоже был счастливым, но не дураком. Или не таким дураком. Для Нади все счастливые люди были дурковаты по определению – иначе отчего им быть такими счастливыми? Но они все равно ей нравились, она в них нуждалась. Они были как музыка ее любимого Сачмо, а, учитывая общее состояние мира, для такого счастья требовалась большая храбрость – ведь его рождало не стечение обстоятельств, но отношение к жизни.
– Хорошо, давай будем водопроводчиками, – сказала она Арту и крепко его обняла – так крепко, словно хотела, сжав его, завладеть его счастьем. А отпустив, увидела, что глаза у него стали такими же круглыми от удивления, как в тот момент, когда он держал ее за мизинец.
Но она по-прежнему оставалась президентом исполнительного совета и, вопреки своему желанию, с каждым днем ее все сильнее затягивало в работу над всякого рода «усовершенствованиями». Иммигранты из Германии хотели построить на полуострове, что делил Северное море пополам, новый порт под названием Блохс-Хоффнунг, а затем вырыть поперек полуострова широкий канал. Красные экотажники выразили неодобрение этого плана и взорвали там железную дорогу. Также они взорвали дорогу, что вела к вершине патеры Библис, обозначив тем самым протест и против нее. Экопоэты в Амазонии намеревались устроить крупные лесные пожары. Другие экопоэты хотели в каньоне Касэй уничтожить пожарозависимый лес, что Сакс высадил в большой излучине долины (их петиция стала первой, что получила единогласное одобрение МПС). Красные, живущие в районе Уайт-Рок, белой столовой горе в восемнадцать километров шириной, желали объявить ее «местом ками» и запретить доступ людей к ней. Проектная группа из Сабиси рекомендовала построить новую столицу на побережье Северного моря на нулевой долготе, где находилась глубокая бухта. Нью-Кларк заполнялся людьми, подозрительно похожими на шпионов, работающих на наднационалов. Техники из Да Винчи хотели отдать контроль над марсианским космосом несуществующему пока агентству в структуре мирового правительства. Сензени-На стремились заполнить свой мохол. Китайцы запрашивали разрешение на строительство совершенно нового космического лифта, достигающего кратера Скиапарелли, чтобы наладить процесс своей эмиграции и заключать контракты с другими странами. Объем иммиграции рос с каждым месяцем.
Надя занималась всеми этими вопросами, проводя по ним получасовые совещания согласно расписанию, составленному Артом, и каждый день походил на предыдущий. В этой обстановке стало трудно замечать, что одни вопросы были важнее других. Например, китайцы забили бы Марс иммигрантами, стоило дать им хоть малейшую поблажку… Красные экотажники становились все более наглыми и даже угрожали убить саму Надю. Теперь, когда она покидала свою квартиру, ее сопровождали телохранители, и сама квартира тоже втайне охранялась. Надя не обращала на это внимания и продолжала работать над проблемами и сотрудничать с советом так, чтобы, когда проводились значимые для нее голосования, большинство было на ее стороне. Она наладила хорошие отношения с Зейком, Михаилом и даже с Мэриан. С Ариадной, правда, уже не было так, как прежде, и это стало для Нади хорошим уроком.
И она работала, пусть ей и постоянно хотелось покинуть гору Павлина. Арт видел, что ее терпение тает с каждым днем, а она по его глазам понимала, что сама становится несдержанной и властной. Она это понимала, но ничего не могла с собой поделать. После встреч с людьми, которые выдвигали необоснованные требования или чинили препятствия, она нередко извергала поток ругательств низким злобным голосом, который Арт находил пугающим. К ней обращались делегации, требовавшие отмены смертной казни, права на застройку кальдеры горы Олимп или восьмого места в исполнительном совете, и, как только дверь за ними закрывалась, Надя возмущалась: «Ну что за кучка дебилов! Они даже не думают ни о вероятности равенства голосов, ни о том, что лишение жизни другого человека подрывает собственное право на жизнь…» – и далее в том же духе. Новая полиция задержала группу Красных экотажников, пытавшихся снова взорвать Гнездо, но при этом был убит охранник, и теперь перед Надей стоял сложнейший выбор.
– Казнить их! – вскричала она. – Но, убив их, мы лишимся собственного права на жизнь. Однако, казнив их или навсегда изгнав с Марса, мы заставим их понести такое наказание, на которое остальные Красные обратят внимание.
– Ну, – в нерешительности отозвался Арт. – Да, все-таки верно.
Но она все еще была в ярости. В таких случаях она не могла остановиться, пока не остывала. И Арт видел, что с каждым разом на это требовалось все больше времени.
Сам теряя терпение, он посоветовал созвать новую конференцию, вроде той в Сабиси, что она пропустила, но теперь обязательно ее посетить. И темой назначить планирование работы различных организаций. Надя посчитала, что это, пусть и не настоящее строительство, но похоже на то, что им нужно.
Стычка в Каире заставила ее задуматься о гидрологическом цикле и о том, что случится, когда лед начнет таять. Если им удастся составить какой-нибудь план водного цикла, пусть даже ориентировочный, то они смогут упредить возможные конфликты, связанные с борьбой за воду. Так что она решила проверить, что из этого выйдет.
Как часто случалось в последнее время, когда она раздумывала над глобальными вопросами, то обнаруживала в себе желание обсудить их с Саксом. Тот уже, возвращаясь с Земли, был так близко, что отставание в сообщениях стало незначительным и разговоры почти не отличались от обычных звонков по наручной консоли. Так что Надя проводила вечера, беседуя с Саксом о терраформировании. И не раз он сильно ее удивлял, придерживаясь не того мнения, какого она от него ожидала, и будто бы постоянно изменяясь.
– Я хочу, чтобы что-то осталось диким, – заявил он ей однажды ночью.
– Что ты имеешь в виду? – спросила она.
На его лице отразилась озадаченность, какая появлялась, когда он глубоко над чем-то задумывался. Прежде чем он ответил, прошло на порядок больше времени, чем составляла обычная задержка доставки сообщений.
– Многое. Это сложно. Но… я хочу сказать… я хочу сохранить первозданный вид планеты, насколько это возможно.
Услышав это, Надя едва смогла сдержать смех, но Сакс, заметив, спросил:
– Что в этом смешного?
– Да ничего. Просто ты говоришь, как… не знаю, кто-нибудь из Красных. Или ребята из Кристианополиса, хотя они не Красные, но говорили мне то же самое на прошлой неделе. Они хотят сохранить первозданный вид планеты на дальнем юге. Я помогла им устроить конференцию, чтобы обсудить южные водоразделы.
– Я думал, ты работаешь над парниковыми газами.
– Мне не дают над ними работать, я должна быть президентом. Но на эту конференцию я поеду.
– Хорошая мысль.
Японцы из Мессхи Хоко (что означало «самопожертвование во имя коллектива») приехали в совет с требованием выделить им больше земли и воды для обеспечения их купола на возвышенности южной Фарсиды. Надя встретилась с ними, а потом полетела вместе с Артом в Кристианаполис, на дальний юг.
Небольшой городок (а после Шеффилда и Каира он казался совсем крошечным) располагался в Четвертом крайнем кратере Филлипса на шестьдесят седьмой широте. В год без зимы крайний юг пережил много сильных бурь и выпадение невиданных ранее четырех метров снега – предыдущий годовой рекорд составлял менее одного метра. Сейчас было Ls=281°, перигелий только что остался позади, и на юге шла середина лета. И различные стратегии, направленные на предупреждение ледникового периода, вроде бы себя оправдывали; бо́льшая часть нового снега растаяла жаркой весной, и теперь на дне каждого кратера находилось круглое озеро. Водоем в центре Кристианаполиса был около трех метров в глубину и ста в ширину, и местным это было по нраву: они получили приятный парковый пруд. Но если то же самое будет происходить каждую зиму – а метеорологи считали, что следующие зимы принесут еще больше снега, – их город быстро затопит талой водой, и Четвертый крайний кратер Филлипса превратится в озеро, заполненное до самого обода. И это же грозило всем остальным кратерам на Марсе.
Целью конференции в Кристианаполисе было обсудить стратегии выхода из сложившегося положения. Надя сделала все, что смогла, чтобы собрать там побольше влиятельных людей, включая метеорологов, гидрологов и инженеров. Там мог появиться даже Сакс, который уже должен был вот-вот вернуться. Предполагалось, что проблема затопления кратера станет лишь начальной точкой глобального обсуждения водоразделов и гидрологического цикла планеты в целом.
Проблему кратера, в частности, договорились решить именно так, как предсказывала Надя, – прокладкой водопроводных труб. Они собирались превратить кратеры в своего рода ванны, пробурив стоки, чтобы их опорожнить. Брекчиевый пласт под пыльным дном кратера был чрезвычайно твердым, но в нем можно было с помощью машин устроить туннели, а затем установить насосы и фильтры и выкачать воду, при желании оставив небольшой водоем в середине или же полностью осушив кратер.
Но куда было девать выкачанную воду? Южные горы повсюду были комковатыми, разрыхленными, потрескавшимися, бугристыми, изломанными и – если рассматривать их как водораздел – безнадежными. Они ни к чему не вели, подолгу тянулись, не имея склонов. Весь юг представлял собой плато высотой от трех до четырех километров над старой нулевой отметкой, лишь с местными буграми и впадинами. Наде нигде не доводилось видеть гор, так сильно отличающихся от земных. Там, на Земле, тектоническое движение выталкивало горы наверх раз в несколько десятков миллионов лет, и потом вода стекала по этим новым склонам в море, выбирая пути наименьшего сопротивления и повсюду вырезая фрактальные узоры водоразделов. Даже районы сухих бассейнов на Земле были изборождены арройо и усеяны плайями. Впрочем, и на марсианском юге после падений метеоритов в нойскую эру земля была здорово побита, везде остались кратеры и изверженные породы, после чего эти избитые пустоши два миллиарда лет обдувались нескончаемыми пылевыми ветрами, проникающими в каждую трещинку и разрывающими их. Если вылить в эту землю воды, получится безумное скопление мелких ручьев, стекающих по местным склонам в ближайшие лишенные краев кратеры. Едва ли какой-нибудь такой поток доберется до моря на севере или даже до бассейнов Эллада или Аргир, каждый из которых окружали горные хребты, сложившиеся из их собственных изверженных пород.
Было здесь, однако, и несколько исключений. За нойской эрой следовал короткий «теплый и влажный период» в конце гесперийской эры, который, вероятно, длился около ста миллионов лет, когда при плотной теплой атмосфере, насыщенной CO2, по поверхности могла течь жидкая вода, которая бы вырезала извилистые каналы рек в легких склонах плато между подножиями кратеров. И после вымораживания атмосферы эти потоки, конечно, остались, а арройо постепенно расширялись под действием ветра. Эти ископаемые русла, вроде каньонов Ниргал, Варрего, Протва, Патана, Олтис, были узкими и извилистыми и больше походили на настоящие речные долины, чем на грабены или борозды. У некоторых даже были неразвитые системы притока. Поэтому при попытке создать на юге макросистему водоразделов эти каньоны, естественно, использовались бы как первичные каналы, по которым воду можно было довести до изголовья каждого притока. Кроме того, существовало множество старых лавовых каналов, которые легко превратились бы в реки, поскольку лава, как и вода, стремилась стекать по пути наименьшего сопротивления. Также можно было использовать множество трещин и разломов вроде тех, что тянулись по подножию ступени Эридания.
В ходе конференции огромные модели Марса каждый день покрывались отметками, показывающими разные водные режимы. Также здесь были комнаты, полностью занятые трехмерными топографическими картами, где участники собрания стояли вокруг разных систем водоразделов и спорили о преимуществах и недостатках или просто рассматривали их, непрестанно возились с управлением, пытаясь их изменить, переключая с одной схемы на другую. Надя бродила по комнатам, глядя на эти гидрологические графики, узнавая что-то новое для себя о южном полушарии. На дальнем юге, возле кратера Ричардсона находилась гора в шесть километров. И сама южная шапка была довольно высока. С другой стороны, лавовые каналы Бревиа пересекали углубление, напоминающее луч, образованный при Элладском ударе, эта долина была настолько глубокой, что могла сама превратиться в озеро, только это не понравилось бы местным жителям. И конечно, район можно было осушить, если бы они этим озаботились.
Планов было несколько десятков, и каждый из них казался Наде странным. Ей еще не доводилось видеть столь явного различия между образованным под воздействием гравитации фракталом и хаотичности, вызванной ударом. В первоначальном метеоритном ландшафте было возможно почти все, потому что ничто не было очевидным, – ничто, кроме того, что в любой системе так или иначе образуются каналы и туннели. У Нади зачесался палец – она жаждала выбраться отсюда и сесть за управление бульдозером или горным комбайном.
Постепенно из выдвигаемых предложений стали вырисовываться более-менее действенные, логичные и красивые с эстетической точки зрения планы, в которых, словно мозаика, объединялись лучшие для каждого региона решения. В восточном квадранте дальнего юга предполагалось направить потоки к бассейну Эллада, чтобы оттуда по паре ущелий впасть в море Эллады, – это был очень хороший проект. В Дорсе Бревиа приняли план, по которому лавовый хребет в их городе, где тянулся туннель, должен был стать своего рода дамбой, пересекающей водораздел поперек так, чтобы над ней находилось озеро, а ниже – река, несущая свои воды в Элладу. Снег, выпавший в районе южной полярной шапки, должен был остаться мерзлым, но большинство метеорологов предсказывало, что, когда климат стабилизируется, снега на полюсе окажется не так уж много, и регион станет похож на холодную пустыню вроде Антарктики. В конце концов должна была получиться довольно крупная ледяная шапка, часть которой выльется в огромную полость под уступ Прометея, бывшую еще одним частично стертым древним ударным бассейном. Если слишком крупная полярная шапка на юге не нужна, ее можно расплавить и откачать воду на север и затем, вероятно, в море Эллады. То же пришлось бы сделать с бассейном Аргир, если бы его решили осушить. Юридическая группа умеренных Красных теперь даже требовала этого от исполнительного совета, настаивая на том, что хотя бы один из двух крупнейших песчаных ударных бассейнов, заполненных песчаными дюнами, должен быть сохранен. Никто не сомневался, что суд одобрит такое требование, поэтому на всех водоразделах его приняли во внимание.
Сакс разработал собственный план южного водораздела и, чтобы его рассмотрели вместе со всеми остальными, отправил на конференцию со своей ракеты, которая уже выполняла аэродинамическое торможение при выведении на орбиту. Он предусматривал уменьшение площади водной поверхности, осушение большинства кратеров, широкое использование туннелей, канализирование почти всей полученной воды в древние речные каньоны. Также по этому плану огромные территории на юге оставались бесплодными пустынями, образуя полушарие сухих плоскогорий, врезанных глубоко между узкими каньонами, по дну которых должны были течь реки.
– Вода вернется на север, – объяснил он Наде по видео, – и если встать на плато, то это будет выглядеть так, будто так было всегда.
То есть это понравится Энн, хотел сказать он.
– Хорошая мысль, – отозвалась Надя.
И в самом деле, план Сакса не так уж отличался от консенсуального итога, к которому они приходили на конференции. Влажный север, сухой юг – еще один пример двойственности в общей дихотомии. И идея наполнить водой старые речные каньоны казалась внушительной. При таком рельефе местности план выглядел прекрасно.
Но пройдет еще много дней, прежде чем Сакс или другие сумеют выбрать проект терраформирования и приступят к его воплощению. Надя видела, что Сакс не совсем это понимал. С самого начала, когда он разбросал по планете мельницы с водорослями, никому не сказав и ни с кем не согласовав, кроме своих сообщников, он все делал самостоятельно. Это была его закоренелая привычка, и сейчас он, казалось, забыл учесть, что план должен пройти через природоохранный суд. Судебный процесс неизбежен, а благодаря Широкому жесту половина из пятидесяти судей в той или иной степени относились к числу Красных. Поэтому любое предложение по водоразделу, выдвинутое участниками конференции, включая план Сакса, пусть он и был доступен только по видеосвязи, подлежало тщательному и придирчивому рассмотрению.
Но Наде казалось, что если Красные судьи внимательно рассмотрят предложение Сакса, то поразятся его подходом к проблеме. Он и в самом деле сулил перемены, словно Путь в Дамаск, – причем, если вспомнить прошлое Сакса, совершенно необъяснимые. Если, конечно, не знать о нем больше. Но Надя понимала: он хотел задобрить Энн. Надя сомневалась, что это возможно, но наблюдать за попытками Сакса ей нравилось.
– Человек-сюрприз, – заметила она Арту.
– Мозговая травма и не на такое способна.
Как бы то ни было, конференция завершилась тем, что они разработали всю гидрографию, обозначив все основные озера, реки и ручьи южного полушария, которые появятся в будущем. План следовало принять вместе с аналогичными проектами, которые касались северного полушария, но находились в некотором противоречии друг с другом из-за того, что до сих пор не было определенности относительно планируемой площади Северного моря. Воду уже не выкачивали так активно из вечномерзлого грунта и водоносных слоев – более того, многие насосные станции в прошлом году были взорваны Красными экотажниками, – но она все же поднималась из-за осадки грунта в местах, откуда воду уже выкачали. Летом вода стекала к Великой Северной равнине – и с полярной шапки, и с Великого Уступа, – и с каждым годом ее становилось все больше. Равнина, таким образом, служила водосборным бассейном для огромной площади, окружавшей ее со всех сторон. И так она обильно наполнялась каждое лето. Вместе с тем большое количество воды разгоняли сухие ветры, вызывавшие осадки где-то в других регионах. И вода испарялась значительно быстрее, чем таял лед. А подсчитать, сколько воды терялось и сколько добавлялось, было ученым под силу, и они наносили результаты на карту, только те разнились так сильно, что в ряде случаев предполагаемые ими береговые линии отклонялись друг от друга на сотни километров.
По мнению Нади, эта неопределенность не позволяла издавать никаких приказов относительно юга, тогда как суд должен был обработать имеющиеся данные и рассчитать модели, после чего установить уровень моря и определить все водоразделы в соответствии с ним. В частности, решить судьбу бассейна Аргир на данном этапе, не имея плана по северу, казалось совершенно невозможным. Так, некоторые призывали накачать его водой из Северного моря, если в том окажется слишком много воды, позволив тем самым избежать наводнения долин Маринер, Южной борозды и строящихся портовых городов. Красные радикалы уже угрожали построить по всему Аргиру «западнобережные поселения», чтобы упредить тем самым любое неблагоприятное действие.
Таким образом, МПС предстояло вынести решение по еще одному важному вопросу. Он явно становился важнейшим политическим органом на Марсе, который, руководствуясь конституцией и собственными постановлениями, определял практически любые аспекты будущего планеты. Надя считала, что, пожалуй, так и должно быть – или, по крайней мере, в этом нет ничего плохого. Им нужны были решения, которые имели бы глобальные последствия, которые бы так же глобально оценивались, и к этому все сейчас шло.
Но к чему бы ни шел суд, предварительный план по южному полушарию был хотя бы разработан. И МПС, ко всеобщему удивлению, очень скоро его одобрил – потому что, как было указано в его решении, его можно было выполнять пошагово. Так что причин откладывать начало его выполнения не было.
Арт, узнав новость, просиял:
– Теперь мы можем начинать строить водопроводы.
Но Надя, конечно, не могла. Нужно было возвращаться на встречи в Шеффилде, принимать решения, убеждать людей. Этим она и занималась, упорно исполняя свои обязанности, даже если те были ей не по душе, и со временем это выходило у нее все лучше и лучше. Теперь она знала, как можно оказывать на людей мягкое давление, чтобы добиваться своего, знала, как отдавать приказания, чтобы другие стали их выполнять. От нескончаемого потока решений ее взгляды стали более острыми; она заметила, что это помогало ей, по крайней мере, сознательно придерживаться некоторых политических принципов, а не судить, следуя инстинктам. Также это помогало заводить надежных союзников, в совете и за его пределами, а не предположительно нейтральных или независимых людей. Надя обнаружила, что стала хорошо ладить с богдановистами, чья политическая философия, к ее удивлению, оказалась ей ближе, чем чья-либо еще. Ее толкование богдановизма было относительно простым: во всем должна быть справедливость, как настаивал Аркадий, все должны быть равны и свободны; прошлое не имело значения; а когда старые порядки становились несправедливыми или непрактичными, нужно было изобретать новые, и это случалось довольно часто; единственное, что было важно, по крайней мере, для них, это Марс. Когда она начала использовать это в качестве руководящих принципов, ей стало легче принимать решения, видеть нужный курс и находить к нему кратчайший путь.
А еще она становилась все более строгой. Время от времени она явственно ощущала, какой развращающей может быть власть, и ее слегка тошнило от этого. Но она привыкала. С Ариадной они частенько ссорились. Надя вспоминала угрызения совести, которые преследовали ее после первой стычки с молодой минойкой, сейчас они казались ей нелепыми. Теперь она стала гораздо более жесткой и ежедневно отвечала нападками тем, кто ей перечил, рассчитывая микропорывы грубости так, чтобы сдерживать людей настолько, насколько было нужно, и выходило вполне действенно. По сути, чем больше она испускала гнева, тем лучше могла управлять людьми и использовать их для своей пользы.
Она обладала властью, и люди это знали, но власть развращала. Власть давала могущество. И сейчас Надя едва ли в чем-то раскаивалась, все-таки люди, по большей части, заслуживали такого обращения. Они-то думали отдать это важное кресло безобидной бабульке, чтобы тем временем вести свои игры друг с другом, но она была готова скорее провалиться, чем спустить им все это с рук. Она использовала эту власть, чтобы добиться того, чего хотела сама.
Все реже и реже она замечала, как отвратительно это было. А однажды, когда заметила, после одного особенно напряженного дня, она упала в свое кресло и чуть не заплакала от переполняющего ее чувства гадливости. Прошло всего семь месяцев из трех М-лет ее срока. А чем она станет к его окончанию? Если сейчас она уже привыкла к власти, то тогда, может быть, властвовать ей уже понравится.
Арт, обеспокоенный всем этим, украдкой смотрел на нее через стол, за которым они завтракали.
– Ну что ж, – произнес он наконец, после того как она поделилась с ним этими мыслями, – власть есть власть. – Он серьезно задумался. – Ты первый президент Марса. Так что ты в некотором роде сама определяешь, как тебе работать. Может быть, тебе стоит заявить, что ты будешь работать месяц, а потом два отдыхать – и посвятить два месяца своим делам. Что-то в этом роде.
Она, набив рот тостами, пристально на него посмотрела.
В конце той же недели она покинула Шеффилд и снова уехала на юг, присоединившись к каравану людей, которые устанавливали дренажную систему, проходя от одного кратера к другому. Каждый кратер немного отличался от остальных, но, по сути, их работа состояла в том, чтобы подобрать правильный угол выхода из его подножия и пустить в дело роботов. Кратеры Фон Кармана, Дю Туа, Шмидта, Агассиса, Хевисайда, Бьянкини, Лау, Чемберлена, Стоуни, Докучаева, Трамплера, Килера, Шарлье, Зюсса… Они устраивали водопроводы во всех этих и во множестве безымянных кратеров, хотя названия на картах появлялись даже быстрее, чем они их проходили: 85-й Южный, Сверхтемный, Дурачья надежда, Шанхай, Здесь спала Хироко, кратеры Фурье, Коула, Прудона, Беллами, Хадсона, 47 ронинов, Макото, Кино-Доку, Ка-Ко, Мондрагон. Миграция от одного кратера к другому напомнила Наде о ее поездках вокруг южной полярной шапки в годы подполья, только сейчас все происходило под открытым небом, и в эти дни середины лета, почти лишенные ночей, их команда наслаждалась солнцем, отражавшимся от кратерных озер. Они проезжали неровные застывшие болота, где на солнце сверкали талая вода и луговая трава, и, конечно, как всегда, – темно-ржавые скалы, нарушавшие своим видом светлый пейзаж, но они одолевали гряду за грядой. Они проникали в глубь кратеров, прокладывали трубы и подключали к экскаваторам мобильные фабрики парниковых газов, если в скалах обнаруживались хоть какие-нибудь газы.
Но едва ли это можно считать той работой, к какой всегда стремилась Надя. Она скучала по старым временам. Конечно, управление бульдозером уже тогда не было ручным, но, когда орудуешь лезвием и переключаешь передачи, вырабатываются важные физические навыки, которые возносят процесс на куда более высокую степень вовлеченности в дело, чем эта «работа», состоящая из общения с искином, наблюдения за роботами-землекопами высотой по пояс, мобильными фабриками размером с городской квартал и горнопроходческими машинами с алмазными зубами, растущими назад, как у акулы. Все они были изготовлены из сплава биокерамики и металла, сплава более прочного, чем провод лифта, и все здесь делалось само. Это было не так, как она себе представляла.
Очередная попытка. Она прошла новый цикл: вернулась в Шеффилд, погрузилась в работу в совете, испытав новое отвращение, теперь смешавшееся с отчаянием, осмотрелась в поисках того, что помогло бы ей сбежать оттуда, заметила какой-то любопытный проект и взялась за него. Уехала, чтобы взглянуть лично. Как и сказал Арт, она могла сама решать, как ей работать. Это тоже было в ее власти.
В этот раз она сбежала, чтобы работать над почвой.
– Воздух, вода, земля, – сказал Арт. – Выходит, в следующий раз будет огонь, да?
Но она заинтересовалась темой, после того как узнала, что ученые в Богданове Вишняке пытаются создать почву. И улетела на юг, в Вишняк, где не бывала много лет. Арт составил ей компанию.
– Интересно будет посмотреть, как старые подпольные города приспосабливаются к новой жизни, когда им уже не нужно скрываться.
– Честно говоря, даже не знаю, зачем они вообще там остаются, – сказала Надя, когда они летели над южным полярным регионом. – Они живут на таком дальнем юге, что зимы здесь почти не заканчиваются. Шесть месяцев в году здесь вообще не бывает солнца. Кто бы согласился тут жить?
– Сибиряки.
– Да ни один сибиряк в здравом уме сюда бы не переехал. Они-то знают, каково это.
– Тогда лапландцы. Инуиты. Те, кто любит полюса.
– Может быть.
Как оказалось, в Богданове Вишняке никто не возражал против зим. Местные преобразовали насыпи мохола в кольцо вокруг него самого, создав огромный круглый амфитеатр, обращенный к шахте. Этот ступенчатый амфитеатр должен был стать верхним Вишняком. Летом – зеленым оазисом, зимой – белым. Они планировали также осветить его сотнями ярких уличных фонарей, чтобы здесь всегда было светло как днем, и город был бы виден поперек круглой пропасти в середине, а с верхних стен открывался вид на ледяной хаос полярных гор. Нет, они собирались здесь оставаться и дальше, в этом не было сомнений. Это их город.
Надю встретили в аэропорту как важного гостя, как бывало всегда, когда она выбиралась к богдановистам. Она приняла их предложение занять гостевой номер у края мохола. Окна слегка выступали над шахтой, позволяя заглянуть на восемнадцать километров в глубь земли. Свет на дне мохола, казалось, исходил от звезд, которые были видны сквозь всю планету.
Арт был ошеломлен не самим видом, но даже мыслью о нем, и решил не приближаться к той части комнаты. Надя усмехнулась и, вдоволь насмотревшись в окно, завесила его шторами.
На следующий день она встретилась с учеными-почвоведами, которые оказались довольны ее заинтересованностью их работой. Они хотели добиться того, чтобы город мог прокормить сам себя, и чем больше людей переселялось на юг, тем более требовалась подходящая почва. Но они пришли к выводу, что создание почвы – одна из самых сложных технологий, за которую они когда-либо брались. Надя была удивлена: все-таки вишнякские лаборатории считались лучшими в мире в области экологических технологий, тем более что их сотрудники прожили несколько десятилетий в мохоле. А растительный грунт – это же просто. Грязь с добавками, которые, казалось бы, было совсем несложно в нее подмешать.
Она поделилась с почвоведами этими мыслями, и мужчина по имени Арне, который ее сопровождал, слегка раздраженно сообщил ей, что почва на самом деле очень сложна. Около пяти процентов ее массы приходится на живые организмы, и эта важнейшая ее часть состоит из нематод, червей, моллюсков, членистоногих, насекомых, пауков, мелких млекопитающих, грибов, простейших, водорослей и бактерий. Одни только бактерии включают тысячи разных видов, и их численность может достигать сотен миллионов организмов в грамме почвы. Другие представители этого микросообщества присутствуют почти в таком же изобилии – и в плане численности, и в плане многообразия.
Такой сложный экологический элемент невозможно создать так, как представляла себе Надя, – то есть просто вырастив составляющие отдельно, а затем смешав их в общей миске. Но они не знали этих составляющих и не могли их вырастить, а те, что могли, погибли бы при смешивании.
– Особенно чувствительны черви. И с нематодами не так все просто. Вся система норовит нарушиться и оставить нас с одними только минералами и органическим материалом. Это называется гумус. Мы отлично научились создавать гумус. Но растительный грунт должен вырасти.
– И в природе так и происходит?
– Точно. Мы можем лишь попытаться вырастить его быстрее, чем он растет в природе. Мы не можем собрать его, не можем вот так взять и изготовить. А многие из живых его компонентов лучше растут в почве сами по себе, поэтому существует еще и проблема в том, чтобы поддерживать их развитие на большей скорости, чем если бы они развивались при естественном почвообразовании.
– Хм-м, – произнесла Надя.
Арне водил ее по лабораториям и теплицам, заполненным сотнями педонов, высоких цилиндрических цистерн и трубок, в каждой из которых находилась почва или ее компоненты. Президенту раскрывали тайны экспериментальной агрономии, и Надя, вспомнив о Хироко, приготовилась к тому, что мало что сумеет в этом понять. Эта эзотерическая наука запросто могла остаться для нее непостижимой. Впрочем, она понимала, что они проводили факториальные исследования, изменяя условия в каждом педоне и наблюдая последствия. Арне показал ей простую формулу, описывающую большинство основных аспектов проблемы:
S = f (PM, C, R, B, T),
где любое свойство почвы S являлось фактором (f) полунезависимых переменных, исходного материала (PM), климата (C), топографии или рельефа (R), биоты (B) и времени (T). Время при этом – тот фактор, который они стремились ускорить, а исходным материалом в большинстве их исследований служила вездесущая марсианская глина. Климат и топография в некоторых случаях изменялись, чтобы воссоздать различные условия среды, но больше всего изменений претерпевали биотические и органические элементы. Это объяснялось с позиции изощреннейшей микроэкологии, и чем больше Надя узнавала об этом, тем меньше понимала – это не столько похоже на строительство, сколько на алхимию. Многие элементы должны были преодолеть в почве несколько циклов, чтобы ее питательная среда стала подходящей для растений, и каждый элемент имел собственный цикл, который проходил под воздействием разных наборов агентов. В ней содержались макронутриенты – углерод, кислород, водород, азот, фосфор, сера, калий, кальций, магний. И микронутриенты – железо, марганец, цинк, медь, молибден, бор, хлор. Ни один из циклов этих питательных веществ не был закрытым из-за потерь, вызванных вымыванием, эрозией, сбором урожая, выходом газов. Не менее разнообразно было их поступление, которое включало: впитывание, выветривание, деятельность микробов, применение удобрений. Условия, позволявшие всем этим элементам проходить свои циклы, также варьировались достаточно, чтобы различные типы почв в разной степени ускоряли или замедляли свои циклы. Каждый тип почвы имел свой уровень pH, соленость, плотность и прочее, поэтому только в этих лабораториях содержались сотни почв и еще тысячи существовали на Земле.
В вишнякских лабораториях марсианский исходный материал вполне естественно служил основой для большинства экспериментов. Эоны пылевых бурь перемешали его по всей планете, и теперь он повсюду имел одинаковый состав. Типичная марсианская почва по большей части состояла из мелких частиц кремния и железа. А в верхних слоях часто залегали рыхлые осадки. Ниже материал был затвердевшим и комковатым, в разных степенях междучастичной цементизации, и чем глубже он залегал, тем более глыбистым становился.
Иными словами – глины. Смектиты, похожие на земные монтмориллонит и нонтронит, с добавлением материалов, таких как тальк, кварц, гематит, ангидрит, дизерит, клецит, бейделлит, рутил, гипс, маггемит и магнетит. И всех их обволакивали бесструктурные оксигидроксиды железа, а иногда – более кристаллизованные оксиды железа, которые придавали им красноватый цвет.
Поэтому их универсальным исходным материалом стал ожелезненный смектит. Его свободная и пористая структура позволяла ему поддерживать корни, но вместе с тем предоставлять достаточно места для роста. В нем совсем не было живых организмов, но было много соли и слишком мало азота. Так что задача ученых, по сути, состояла в том, чтобы собрать исходный материал, вымыть из него соль и алюминий и добавить азот и биотическое сообщество. И все это как можно быстрее. Довольно просто, если так посмотреть, но за словами «биотическое сообщество» скрывался целый ворох проблем.
– Господи, это не легче, чем поставить работу этого правительства! – воскликнула Надя Арне однажды вечером. – Они в большой беде!
Вне лабораторий, в природной среде, в глину просто внедряли бактерии, затем водоросли и прочие микроорганизмы, затем лишайники и, наконец, галофильные растения. После этого ждали, пока эти биосообщества спустя множество поколений, живя и умирая, преобразуют глину в почву. Это работало и работало до сих пор по всей планете, но очень медленно. Ученые из Сабиси подсчитали, что за сто лет средняя толщина растительного слоя увеличивается на один сантиметр. И даже это достигалось лишь за счет популяций, созданных методами генной инженерии, чтобы довести скорость до предельно возможной.
С другой стороны, в теплицах почвы раньше обильно пичкали разного рода нутриентами, удобрениями и прививками. В результате получалось что-то похожее на то, чего добивались эти ученые, но количество этой почвы было мизерным по сравнению с желаемым – ведь они собирались распространить ее по поверхности планеты, их целью было массовое производство. Но Надя поняла, что они ушли несколько глубже, чем сами ожидали, и теперь напоминали собаку, которая пытается разгрызть слишком крупную для нее кость.
Вопросы биологии, химии, биохимии и экологии, вовлеченные в эти проблемы, находились далеко за пределами понимания Нади, отчего она даже не могла выдвинуть каких-либо предположений. Нередко ей даже оказывалось не по силам понять суть некоторых процессов. В этом не было ничего от строительства – даже никаких аналогий с ним нельзя было провести.
Но почвоведам приходилось включать в свои производственные методы кое-какие элементы строительства, и в них Надя, по крайней мере, была способна что-то понять. И, рассматривая проектирование педонов и резервуары с живыми конституентами почвы, она стала концентрироваться на этих сторонах процесса. Также она изучала молекулярную структуру исходной глины, чтобы понять, поможет ли это ее работе в Вишняке. Она выяснила, что марсианские смектиты – это алюмосиликаты, то есть каждая их частица имела слой алюминиевых октаэдров, зажатых между двумя слоями кремниевых тетраэдров. Разные типы смектитов имели разное число вариантов в этой общей схеме, и чем больше их было, тем легче вода просачивалась на межслойные поверхности. Самый распространенный на Марсе смектит, монтмориллонит, имел много вариантов, поэтому был весьма проницаем для воды и расширялся, когда намокал, а затем сужался, высыхая и расходясь трещинами.
Надя находила это любопытным.
– Слушай, – сказала она Арне, – а что, если наполнить педон образцами питательных жил, которые передадут биоту всему материалу. Взять партию материала, – продолжала она, – намочить его, потом высушить. Вставить в систему трещин образцы питательных жил. Потом добавить важные бактерии, какие нужно, и другие конституенты, которые вы можете вырастить. И если бактерии и другие организмы «проедят» себе путь по этим питательным жилам, преобразуя окружающий материал, а потом вдруг окажутся вместе в глине и будут в ней взаимодействовать. Это, конечно, будет непростой этап, понадобится множество проб, чтобы определить требуемые количества организмов, которые позволят избежать массового размножения, зато если им удастся прижиться, то ученые наконец-то создадут живую почву. Подобные системы питательных жил использовались для различных быстросхватывающихся материалов, а недавно я слышала, что врачи таким же образом вводят апатитовую пасту в сломанные кости. Питательные жилы делаются из белкового геля, подходящего для того материала, которым их наполнят, и лепятся в подходящие трубчатые формы.
– Образцы для роста. Над этим стоит подумать, – отозвался Арне, заставив Надю улыбнуться.
Оставшуюся часть дня она ходила довольная, а вечером, когда увиделась с Артом, сообщила:
– А я сегодня работала!
– Молодец! – ответил Арт. – Пойдем это отпразднуем.
В Богданове Вишняке это было проще простого. Город богдановистов был такой же жизнерадостный, как сам Аркадий. Каждую ночь здесь устраивались гуляния. Надя и Арт часто в них участвовали. Надя любила прогуливаться вдоль перил самой высокой террасы, чувствуя, что Аркадий тоже где-то там, будто он каким-то образом сумел выжить. Но в эту ночь, празднуя свой успех в работе, она чувствовала его присутствие как никогда сильно. Держа Арта за руку, она смотрела вниз на заросшие нижние террасы с их грядками, садами, бассейнами, спортивными площадками, рядами деревьев, аккуратными площадями, окруженными кафе, барами, танцполами, где музыканты бились за звуковое пространство, окруженные толпой, некоторые танцевали, но куда больше людей просто совершало ночной променад, как и сама Надя. И все это происходило все еще под куполом, который они надеялись когда-нибудь убрать. Пока же здесь было тепло, и молодые местные уроженцы ходили в диковинных нарядах, включавших панталоны, головные уборы, пояса, жилеты, ожерелья, что напомнило Наде видеозапись – прием Ниргала и Майи в Тринидаде. Было ли это совпадением, или среди молодежи появлялась какая-то межпланетная субкультура? А если так, то не выходило ли, что их Койот, тринидадец по происхождению, незаметно для всех завоевал обе планеты? Или, может быть, ее Аркадий, посмертно? Аркадий и Койот – короли культуры. Эта мысль вызвала у нее ухмылку, и она отпила из чашки Арта заварной каваявы, лучшего напитка в этом холодном городе, и посмотрела на молодых людей, передвигающихся, как ангелы, вечно танцующих, проплывающих под изящными арками от террасы к террасе.
– Замечательный городок, – проговорил Арт.
Пройдя дальше, они увидели старую фотографию Аркадия, висевшую в рамке над стеной возле двери. Надя, остановившись, вцепилась Арту в руку:
– Это он! Он в точности такой, как на этом фото!
Фотограф запечатлел его говорящим с кем-то. Аркадий стоял у стены купола с внутренней его стороны и размахивал руками. Его вьющиеся волосы и борода смешались с ландшафтом, имевшим точно такой же цвет, что и его непослушные кудри. Казалось, что лицо исходит прямо из склона, а голубые глаза сверкают среди торжества красного цвета.
– Никогда не видела, чтобы фото так точно передавало то, каким он был. Если он видел, что на него направлена камера, ему это не нравилось, и картинка получалась неправильной.
Она пристально разглядывала фотографию, взволнованная, со странной радостью – она встретила его, словно живого! Будто случайно наткнулась на кого-то, кого не видела много лет.
– У тебя есть с ним что-то общее, я думаю. Но ты более спокоен.
– Кажется, трудно быть более расслабленным, чем он здесь, – ответил Арт, внимательно глядя на фото.
Надя улыбнулась.
– Для него это было легко. Он всегда был уверен в своей правоте.
– И никому из нас это еще не мешало.
Она улыбнулась.
– Ты такой же веселый, как он.
– А почему бы и нет?
Они двинулись дальше. Надя все думала о своем старом друге, мысленно видя перед собой его изображение. У нее все еще сохранилось много воспоминаний. Но чувства, связанные с воспоминаниями, гасли, боль притуплялась – словно фиксирующее их вещество вытекло, а все те раны стали просто узорами на теле. И казались такими несвойственными нынешнему времени, в котором она чувствовала руку Арта, и все было настоящим, подвижным, постоянно изменялось и переполнялось жизнью. Здесь могло произойти все что угодно. Здесь можно было почувствовать все что угодно.
– Вернемся в наш номер?
Четверка путешественников, наконец, вернулась на Землю, спустившись по проводу в Шеффилд. Ниргал, Майя и Мишель отправились по своим делам, но Сакс прилетел на юг и присоединился к Наде и Арту, чем доставил ей крайнее удовольствие. Ей все чаще казалось, что, куда бы Сакс ни отправился, это место становилось основным местом действия.
Он выглядел так же, как перед отбытием на Землю, а то и более тихим и загадочным, чем прежде. Он заявил, что хотел бы взглянуть на лаборатории. Они отвели его туда.
– Любопытно, да, – проговорил он. А спустя какое-то время добавил: – Но мне интересно, что еще мы могли бы сделать?
– Для терраформирования? – спросил Арт.
– Ну…
«Чтобы сделать приятно Энн», – подумала Надя. Вот что он имел в виду. Она обняла его, отчего он несколько удивился, а потом положила руку на его костлявое плечо и не убирала, пока они разговаривали. Как здорово было снова видеть его перед собой, во плоти! И когда она так полюбила Сакса Расселла? Когда стала так сильно на него полагаться?
Арт тоже понял, что тот имел в виду.
– Ты и так немало сделал, разве нет? – заметил он. – Я хочу сказать, ты уже свернул все чудовищные проекты наднационалов, верно? Водородные бомбы под вечномерзлым грунтом, солетты и орбитальные зеркала, шаттлы с азотом с Титана…
– Шаттлы еще в пути, – ответил Сакс. – Я даже не знаю, как нам их остановить. Наверное, их нужно сбить. Но азот мы всегда сможем использовать. Не знаю, буду ли я рад, если их остановить.
– А Энн? – спросила Надя. – Чего бы хотела Энн?
Сакс сощурился. Когда он морщился, выражение его лица становилось точь-в-точь как у старой крысы.
– Чего бы вы оба хотели? – перефразировал вопрос Арт.
– Трудно сказать… – И его лицо исказилось в гримасу неопределенности, нерешительности, двойственности.
– Ты хочешь, чтобы осталась дикая природа, – предположил Арт.
– Природа, да, это мысль. Или этическая позиция. Только она не может быть везде, идея не в этом. Но… – Сакс махнул рукой и погрузился в собственные размышления. Впервые за сотню лет Надя понимала его, она чувствовала, что Сакс не знает, что ему делать. Он пытался решить проблему, сидя перед экраном и вводя команды в компьютер. Он словно и забыл, что он здесь был не один.
Надя сжала Арту руку. Он отпустил ее, а потом нежно взялся за ее мизинец. Тот уже вырос почти на три четверти, но ближе к завершению его скорость замедлялась. Уже вырастал ноготь, а на подушечке проявлялись тонкие узоры. Когда его сжимали, возникало приятное ощущение. Она на миг встретилась с Артом глазами, отвела взгляд вниз. Он сжал всю ее кисть, прежде чем отпустить. Спустя некоторое время, когда стало ясно, что Сакс полностью отвлекся и теперь долго не выйдет из своего мирка, они тихонько ушли в свой номер, где их ждала кровать.
Они работали целыми днями, а по вечерам выходили гулять. Сакс часто моргал, как в годы своей бытности «лабораторной крысой», и беспокоился из-за отсутствия вестей от Энн. Надя и Арт успокаивали его, как могли, но от этого было мало толку. Вечерами же они выходили на улицу и присоединялись к гуляющим. В городе был парк, где собирались родители с детьми, и люди проходили мимо него, будто мимо клетки зоопарка, где играли детеныши приматов. Сакс проводил в этом парке часы напролет, общаясь с детьми и родителями, а потом уходил на танцпол и танцевал там в одиночестве. Арт и Надя держались за руки. Ее палец уже окреп. Он вырос почти полностью, а учитывая, что он все равно был мизинцем, то выглядел нормальным. И, лишь если поднести его к мизинцу другой руки, была заметна разница. Арт иногда нежно его покусывал, когда они занимались любовью, и ощущение этого сводило ее с ума.
– Ты лучше никому не говори, что это так на тебя действует, – пробормотал однажды он. – А то случится страшное: люди будут отрубать себе части тела, чтобы потом их отрастить и стать более чувствительными.
– Вот извращенцы.
– Ну ты знаешь, какие бывают люди. Чего только не сделают ради острых ощущений.
– Не надо мне этого рассказывать.
– Как скажешь.
Но потом настало время возвращаться к работе в совете. Сакс улетел то ли искать Энн, то ли прятаться от нее – Надя и Арт не знали. Сами же они вернулись в Шеффилд, где Надя снова погрузилась в водоворот получасовых встреч, решая банальные вопросы. Впрочем, были среди них и важные. Китайцы просили разрешение на установку нового лифта в районе Скиапарелли, и это был лишь один из многих вопросов, касающихся иммиграции. В заключенном в Берне соглашении между ООН и Марсом было четко прописано, что Марс обязуется каждый год принимать не менее десяти процентов от своей численности населения, – с надеждой, что они будут принимать и больше, столько, сколько можно, до тех пор пока будут соблюдаться гипермальтузианские условия. Это в своем очень воодушевленном (и, по мнению Нади, нереалистичном) выступлении пообещал им Ниргал, заявив, что Марс придет на помощь и спасет землю от перенаселения, подарив свободные земли. Но сколько человек Марс мог выдержать, если они даже не способны создать растительный грунт? Какая у него вместимость?
Этого никто не знал, этого нельзя было как следует подсчитать. Так, оценки вместимости Марса расходились – от ста миллионов до двухсот триллионов человек, и даже серьезные, обоснованные расчеты давали разные результаты от двух до тридцати миллиардов. На самом же деле вместимость была весьма размытым понятием, обусловленным множеством искусственно созданных сложностей, таких как биохимия почв, экология, человеческая культура. Так что сказать, столько людей могло поместиться на Марсе, было практически невозможно. Население Земли тем временем перевалило за пятнадцать миллиардов, а Марс, почти с такой же площадью поверхности, имел в тысячу раз меньшее население – как раз около пятнадцати миллионов. Неравенство было очевидным. И с этим нужно было что-то делать.
Одним из путей решения проблемы было массовое перемещение людей с Земли, но его скорость ограничивалась возможностями транспортной системы и способностью Марса принять иммигрантов. Теперь же Китай и сама ООН предлагали начать интенсивную иммиграцию с усиления мощи транспортной системы. Еще один космический лифт на Марс должен был стать первым шагом в этом многоэтапном проекте.
На Марсе этот план воспринимался по большей части негативно. Красные, разумеется, противились дальнейшей иммиграции, хотя и понимали, что без нее не обойтись. Поэтому они препятствовали развитию транспортной системы – лишь затем, чтобы по возможности замедлить этот процесс. Такая позиция вполне соответствовала их общей философии и в целом была Наде понятна. Позиция «Свободного Марса», хоть и имела больший вес, однако оказалась не столь четкой. Именно Ниргал, выходец из этой партии, призвал землян перебрасывать столько людей, сколько они смогут. Хотя «Свободный Марс» на протяжении всей своей истории был противником тесных отношений с Землей и принимал так называемую стратегию виляния хвостом. Но нынешнее руководство партии, судя по всему, эту позицию не поддерживало. Причем в центре этого нового руководства находилась Джеки. Как припоминала Надя, эта группа еще со времен конституционного конгресса склонялась к более изоляционистской позиции, постоянно настаивая на укреплении независимости от Земли. С другой стороны, они тайком заключали сделки с рядом земных государств. То есть «Свободный Марс» занимал неопределенную, двойственную позицию, очевидно, направленную на увеличение своего влияния на марсианской политической арене.
Но если не принимать в расчет «Свободный Марс», то выходило, что изоляционистские настроения были распространены не только среди Красных, но и среди других групп – анархистов, некоторых богдановистов, «Первых на Марсе», в матриархате Дорсы Бревиа. В этом вопросе все они склонялись на сторону Красных, приводя свои аргументы: что останется от Марса, если сюда хлынут миллионы землян, – не от природы, а от марсианской культуры, которая развивалась на протяжении всех этих М-лет? Не поглотит ли ее этот новый приток, который может быстро обогнать местное население по численности? Уровень рождаемости сейчас везде падал, бездетные и однодетные семьи на Марсе были распространены так же, как и на Земле, поэтому существенного увеличения численности местного населения не предвиделось. Их быстро бы превзошли числом.
Джеки протестовала, по крайней мере на публике, и женщины Дорсы Бревиа вместе со многими другими были с ней солидарны. Ниргал, недавно вернувшийся с Земли, похоже, имел на них не много влияния. И Надя, видя смысл в доводах своих оппонентов, также принимала в расчет ситуацию на Земле и понимала, что те, кто думает, будто Марс можно вот так ото всех закрыть, попросту оторваны от реальности. Пусть Марс не мог спасти Землю, как заявил Ниргал, когда был на Земле, но соглашение с ООН было заключено и ратифицировано, поэтому они были обязаны принять хотя бы столько землян, сколько предусматривалось. Таким образом, если они собирались выполнить обязательства и поддержать соглашение, мост между планетами следовало расширить. Если же они отказались бы от исполнения договора, то, по мнению Нади, могло случиться все что угодно.
Поэтому, когда обсуждалось, стоит ли давать согласие на строительство второго лифта, Надя выступала за то, чтобы давать. Это повысило бы пропускную способность транспортной системы, как они пообещали, пусть и косвенно. К тому же это снизило бы нагрузку на города Фарсиды и всей этой части Марса в целом. Карты плотности населения показывали, что гора Павлина была будто центром мишени, от которой люди разъезжались лучеобразно, расселяясь так близко от нее, как им было удобно. А провод в другой части планеты поможет несколько уравновесить ситуацию.
Но для противников строительства провода это выглядело сомнительным преимуществом. Они хотели, чтобы население было сгруппированным, сдержанным, заторможенным. Договор для них ничего не значил. Так что когда пришло время голосования в совете, результаты которого, впрочем, имели лишь рекомендательный характер для парламента, заодно с Надей проголосовал один Зейк. На данный момент это стало крупнейшей победой Джеки, которая вступила во временный союз с Иришкой и остальными членами природоохранного суда, слывшими принципиальными противниками любых форм ускоренного развития.
Домой Надя в тот день вернулась расстроенная и обеспокоенная.
– Мы обещали Земле, что примем кучу иммигрантов, а теперь сами разводим мосты. Хорошим это не обернется.
Арт кивнул.
– Ничего, что-нибудь придумаем.
Надя шумно и с раздражением выдохнула.
– Придумаем… Да ничего мы тут не придумаем! Это не тот случай, когда нужно придумывать. Мы будем торговаться, спорить, препираться, трепать языком, – она глубоко вздохнула. – И так будет продолжаться снова и снова. Я думала, Ниргал нам поможет, но пока от него никакой поддержки.
– У него нет места в совете, – сказал Арт.
– А могло быть, если бы он захотел.
– И то верно.
Надя на минуту задумалась. И чем дольше думала, тем сильнее ухудшалось ее настроение.
– Я пробыла в должности всего десять месяцев. И еще два с половиной М-года осталось.
– Знаю.
– Эти М-годы чертовски долго тянутся.
– Да. Зато месяцы короткие.
Она фыркнула в ответ и выглянула в окно своей квартиры, откуда открывалась кальдера горы Павлина.
– Беда в том, что работа уже не та, что раньше. Ну, например, если мы будем разъезжать и участвовать во всяких проектах, это все равно будет не то. Я хочу сказать, я больше не смогу заниматься работой по-настоящему. Помню, когда я была молода, в Сибири, работа действительно была работой.
– Может, ты ее немного идеализируешь?
– Да, наверное, но, даже если взять Марс, я помню, как строила Андерхилл. Тогда было по-настоящему весело. А однажды, когда мы ехали на северный полюс, мы установили галерею в вечномерзлой породе… – Она вздохнула. – Что бы я только не отдала ради того, чтоб снова так поработать.
– Но у нас и сейчас много строек, – заметил Арт.
– И там все делают роботы.
– Может, тебе стоит вернуться к чему-то более человеческому. Построить что-нибудь самой. Дом в какой-нибудь глуши. Или жилой комплекс. А может, возвести какой-нибудь новый портовый город, построенный вручную для испытания новых методов, конструкций, да чего угодно. Это увеличило бы время строительства, так что МПС наверняка одобрит идею.
– Может быть. Ты хочешь сказать, после того, как мой срок закончится.
– А то и раньше. В перерывах, как в этих поездках. Пусть они заменяют тебе строительство, хотя это и другое. Это создание чего-то настоящего. Тебе нужно попробовать начать, а потом возвращаться к этому между другими делами.
– Конфликт интересов.
– Нет, если это проект общественных работ. Как насчет предложения построить мировую столицу на уровне моря?
– Хм-м, – проговорила Надя. Она открыла карту, и они принялись размышлять над ней. В районе нулевой долготы южное побережье Северного моря изгибалось, образуя небольшой круглый полуостров, омываемый кратеровым заливом. Это место находилось примерно посередине между Фарсидой и Элизием.
– Нам нужно съездить посмотреть на это место.
– Да. А пока идем в кровать. Поговорим об этом позже. Сейчас у меня есть другая идея.
Спустя несколько месяцев, когда они возвращались в Шеффилд из Брэдбери-Пойнта, Надя вспомнила тот разговор с Артом. Она попросила пилота сесть на маленькой станции, что находилась на склоне кратера Zm, более известного, как Зум, севернее кратера Склодовской. Когда они опустились на полосу, то увидели просторную бухту на востоке, которая сейчас была затянута льдом. За ней простиралась изрезанная гористая долина Мамерс и столовые горы Дейтеронил. Залив вреза́лся в Большой Уступ, который в этом месте был довольно пологим. Нулевая долгота. Сорок шестая северная широта. Далекий север, зато северные зимы здесь были куда мягче, чем на юге. Отсюда вдаль от береговой линии простиралось ледяное море. Круглый полуостров, окружавший Зум, был высоким и гладким. На небольшой станции, располагавшейся на его берегу, жило около пятисот человек, которые вели строительство с помощью бульдозеров, кранов и экскаваторов. Надя и Арт вышли из самолета и, отпустив его с пилотом, заняли комнату в общежитии. Там они пробыли неделю, беседуя с местными жителями о планируемом новом поселении. Те слышали о предложении построить здесь, в бухте, новую столицу, и некоторым идея нравилась, другим – нет. Они намеревались назвать город Гринвичем из-за долготы, где он находился, но они услышали, что британцы произносят это название не как «грин-вич», а «грэнич», и это им нравилось меньше.
– Может, назовем его просто Лондоном, – говорили они. – Надо еще подумать. Саму-то бухту долгое время называли бухтой Чалмерса.
– Правда? – изумилась Надя и не сдержала смеха. – Как удачно.
Это место ей уже нравилось: гладкое, конусовидное подножие Зума, изгиб большой бухты, красная скала над белым льдом и когда-нибудь – предположительно – голубым морем. Пока они были на станции, облака непрерывно проплывали под западным ветром, бросая тени и на землю, и на лед; то кучевые, пухлые и белые, похожие на галеоны, то прокручивающиеся «елочкой», подчеркивая темный купол неба и контуры извилистых скал. Здесь мог вырасти привлекательный городок, огибающий бухту на манер Сан-Франциско или Сиднея, такой же красивый, но маленький, с богдановистской архитектурой и построенный вручную. Ну, не полностью вручную, конечно. Но они могли спроектировать его в человеческом масштабе. И работа над ним была настоящим искусством. Когда они прогуливались с Артом вдоль береговой линии ледяной бухты, Надя сквозь маску с углекислым газом рассказывала об этих идеях, наблюдая за парадом облаков, скачущих на ветру.
– Конечно, – согласился Арт. – Здесь это получится. Тут в любом случае будет город, вот что важно. Это одна из самых удобных бухт в этой части побережья, ей просто суждено стать гаванью. Так что будет не такая столица, которая находится черт-те где, как Канберра, Бразилиа или Вашингтон. Она будет играть важную роль еще и как портовый город.
– Точно. Здесь будет здорово! – Надя шла и радовалась этим мыслям, чувствуя себя так хорошо, как не чувствовала уже многие месяцы. Учредить столицу не в Шеффилде, а где-нибудь в другом месте хотели многие: эту идею поддерживали почти все партии. Эту бухту ранее предлагали сделать местопребыванием сабисийцев, поэтому получалось, что нужно было лишь поддержать уже существующую идею, а не продвигать в массы новую. Тогда ее поддержат. Причем, поскольку это проект общественных работ, она сможет принимать в строительстве полноценное участие. В рамках экономики дарения. Может быть, ей даже удастся повлиять на эти планы. И чем больше она над этим размышляла, тем ей сильнее нравилась вся затея.
Оказалось, что они уже далеко прошли вдоль берега и повернули обратно к поселению. Облака плыли над ними, подгоняемые сильным ветром. Изгиб красной земли соединялся с морем. А под самыми облаками с шумом пролетел неровный клин гусей, устремившихся на север.
Через несколько часов, когда они возвращались в Шеффилд, Арт взял ее руку и, осмотрев новый палец, медленно произнес:
– Знаешь, построить семью – это тоже своего рода строительство вручную, самое настоящее.
– Что?
– И воспроизводство сейчас тоже далеко шагнуло.
– Что?
– Я говорю, пока ты жива, ты так или иначе можешь иметь детей.
– Что?!
– По крайней мере, так говорят. Нужно только захотеть.
– Нет.
– Так говорят.
– Нет.
– Это хорошая мысль.
– Нет.
– Просто, понимаешь, даже строительство… нет, это здорово, но прокладывать водопроводы ты можешь всегда. Прокладывать водопроводы, забивать гвозди, управлять бульдозером – это все довольно интересно, наверное, но все же. У нас много свободного времени. И единственной работой, которая будет оставаться интересной долгое время, будет воспитание ребенка, тебе так не кажется?
– Нет, не кажется!
– Но ведь у тебя никогда не было ребенка?
– Нет.
– Вот видишь.
– О Боже…
Ее фантомный палец снова начало покалывать. Только теперь он был на месте.
Часть восьмая Зеленое и белое
Представители правительства прибыли в городок Сячжа, Гуанчжоу, и сказали:
– Ради блага Китая необходимо, чтобы вы восстановили эту деревню на Лунном плато на Марсе. Вы отправитесь туда вместе, всей деревней. Ваши семьи, друзья и соседи полетят с вами. Все десять тысяч человек. Через десять лет вы сможете вернуться, если захотите, и вместо вас в новую Сячжу отправят других людей. Но мы думаем, вам там понравится. Это место находится в нескольких километрах к северу от портового городка Нилокерас, у дельты реки Моми. В том регионе уже появились китайские деревни, а во всех крупных городах есть китайские районы. И там много гектаров незанятой земли. В путь сможете отправиться через месяц: поездом до Гонконга, паромом до Манилы, а потом на орбиту космическим лифтом. За шесть месяцев проедете расстояние между Землей и Марсом, спуститесь там на горе Павлина и уедете поездом на Лунное плато. Что скажете? Давайте проведем анонимное голосование и приступим к делу как следует.
Позднее какой-то городской чиновник позвонил в офис «Праксиса» в Гонконге и рассказал оператору о случившемся. Гонконгский филиал корпорации передал информацию группе демографических исследований «Праксиса» в Коста-Рике. Там специалист-планировщик по имени Эми добавила сообщение к длинному списку ему подобных и провела все утро в размышлениях. А после обеда позвонила почетному председателю «Праксиса» Уильяму Форту, который занимался серфингом на новом рифе в Сальвадоре, и описала ему ситуацию.
– Голубая планета переполнена, – сказал он, – а красная пустует. Поэтому тут не обойтись без проблем. Так давайте о них поговорим.
Группа демографов и часть стратегической команды «Праксиса», включая многих из «восемнадцати бессмертных», собрались в серферском лагере Форта. Демографы изложили обстановку.
– Теперь все проходят антивозрастную терапию, – сказала Эми. – Мы вступили в полноценную гипермальтузианскую эпоху.
Ситуация сложилась такая, как при демографическом взрыве. Эмиграция на Марс, естественно, часто рассматривалась земными специалистами как один из путей решения проблемы. После создания океана площадь суши на Марсе была лишь немного меньше, чем на Земле, тогда как людей там проживало очень мало. Перенаселенные страны, как указала Эми, уже переправляли туда как можно больше людей. Зачастую эмигрантами становились представители этнических или религиозных меньшинств, недовольные ограниченностью автономий в их странах и готовые с удовольствием их покинуть. В Индии кабины лифта, провод которого тянулся от атолла Сувадива на юге Мальдивского архипелага, постоянно были заполнены эмигрантами. Непрерывный поток сикхов, кашмирцев, мусульман и индусов поднимался в космос и отправлялся на Марс. Были здесь и зулусы из ЮАР, палестинцы из Израиля, курды из Турции, индейцы из США.
– В этом отношении, – заметила Эми, – Марс становится новой Америкой.
– Но похож на старую, – добавила женщина по имени Элизабет, – где уже приходится тесниться местному населению. Задумайтесь о цифрах. Если кабины лифтов на Земле ежедневно заполняются до отказа, то получается сто человек в каждой. Значит, в день поднимается две тысячи четыреста, столько же пересаживаются на конечной станции каждого лифта в шаттлы. Лифтов всего десять, значит, получается двадцать четыре тысячи человек в день. Отсюда в год выходит восемь миллионов семьсот шестьдесят тысяч человек.
– Считай, десять миллионов в год, – сказала Эми. – Это много, но при такой скорости потребуется сто лет, чтобы переправить хоть один миллиард из шестнадцати, живущих на Земле. Что, между прочим, не сыграет особой роли. То есть это все не имеет смысла! Никакое существенное перемещение невозможно. Мы никак не сможем отправить на Марс какую-либо значительную долю населения Земли. Нам стоит сосредоточиться на том, чтобы решить проблемы Земли здесь. Присутствие Марса может помочь лишь в психологическом плане. По сути же, мы предоставлены сами себе.
– А это и не должно иметь смысл, – заявил Уильям Форт.
– Верно, – согласилась Элизабет. – Правительства многих стран стараются отправлять людей независимо от того, есть в этом смысл или нет. Китай, Индия, Индонезия, Бразилия – они все этим занимаются, и если они сохранят объем эмиграции на максимуме, то население Марса удвоится примерно через два года. То есть на Земле не изменится ничего, но Марс переполнится.
Один из бессмертных напомнил, что примерно такая же волна эмиграции послужила одной из причин первой Марсианской революции.
– А что насчет договора между Землей и Марсом? – спросил кто-то. – Мне казалось, он как раз запрещает такие крупные наплывы людей.
– Запрещает, – ответила Элизабет. – По нему можно отправлять не более десяти процентов населения Марса в течение земного года. Но там также прописано, что Марсу надлежит принимать больше, если есть такая возможность.
– И вообще, – сказала Эми, – разве договоры когда-нибудь останавливали правительства, если те хотели сделать что-то по-своему?
– Нам придется отправить их куда-то еще, – заключил Уильям Форт.
Остальные посмотрели на него.
– Куда? – спросила Эми.
Никто не ответил. Форт неопределенно махнул рукой.
– Нам стоит подумать куда, – хмуро сообщила Элизабет. – Китайцы и индусы считаются хорошими партнерами марсиан, но и они не особо уделяют внимание договору. Мне прислали аудиозапись, на которой индийские политики на встрече по этому вопросу говорят, что намерены переправить максимальное количество людей на Марс в ближайшие пару веков, а потом посмотреть, что из этого получится.
Пока лифтовая кабина опускалась, Марс, находившийся под ними, раздавался все больше. Наконец, они замедлили ход, над самым Шеффилдом, и все вдруг стало нормальным – марсианская гравитация вернулась на место, и кориолисовы силы больше не искажали их реальность. Они прибыли в Гнездо, они вернулись домой.
Друзья, репортеры, делегации, «Мангалавид»… В самом же Шеффилде люди спешили каждый по своим делам. Изредка Ниргала узнавали и радостно ему махали, иногда останавливались и пожимали руки или даже обнимали, спрашивали о поездке и о здоровье. «Мы рады, что вы вернулись!»
И все же в глазах большинства… болезни здесь были редки. Кое-кто даже отводил взгляд. Примитивное мышление: Ниргал вдруг увидел, что очень многие приравнивали омоложение к бессмертию. Они не желали думать иначе – они отводили взгляд.
Но он сам видел, что Саймон умер даже несмотря на то, что в его кости вживили костный мозг юного Ниргала. Еще недавно Ниргал чувствовал, будто его тело разваливается, ощущал боль в легких, в каждой своей клетке. Он знал, что смерть реальна. Они не обрели бессмертие, это и не было им суждено. Отсроченное старение, как говорил Сакс. А люди знали, что Ниргал недавно чуть было не умер, и испытывали отвращение. Они отворачивались, словно он был нечист. И это его злило.
Он сел на поезд до Каира и, пока тот ехал, смотрел на огромную наклонную пустыню западной Фарсиды, сухую и железистую, Ур[29] красного Марса. Это его земля. Он это чувствовал. И тело, и душа наполнялись теплом от этой мысли. Дом.
Но лица в поезде смотрели на него и отворачивались. Он был человеком, который не смог адаптироваться на Земле. Едва не убитый родной планетой. Он был словно альпийский цветок, неспособный выстоять в реальном мире, диковинка, для которой Земля была все равно что Венера. Все это он читал в их глазах. Вечное изгнание.
Такими уж были условия жизни на Марсе. Каждый пятисотый уроженец умирал, посетив Землю. Для марсианина это было самым опасным предприятием, какое он мог совершить, – даже опаснее падения с обрыва, полета во внешнюю область Солнечной системы или рождения ребенка. Как русская рулетка, где в одном патроннике был настоящий патрон.
А он избежал смерти. Не очень уверенно, но избежал. Он был жив, он вернулся домой! А эти лица в поезде – да что они знали? Они думали, что он был раздавлен Землей, но и считали, что он Ниргал-герой, не знавший поражений прежде, – они воспринимали его как персонаж истории, как образ. Они не знали о Саймоне, Джеки, Дао или Хироко. Они не знали ничего о нем. Ему сейчас было двадцать М-лет, он был мужчиной среднего возраста, который перенес все, что мог перенести любой другой, – смерть родителей, конец любви, предательство друзей, снова предательство друзей. Все это случалось с каждым. Но людям нужен был другой Ниргал.
Обогнув извилистые стены размытых каньонов Лабиринта Ночи, поезд вскоре оказался на старой каирской станции. Ниргал вышел в шатровый городок и с любопытством осмотрелся вокруг. Оплот наднационалов, Ниргал никогда не бывал здесь прежде, поэтому теперь с интересом оглядывал старые небольшие строения. Корпус жизнеобеспечения, поврежденный Красной армией во время революции, все еще выделялся разрушенными черными стенами. Он шел к городскому управлению по широкому центральному бульвару.
И она была там – стояла в вестибюле здания муниципалитета, у окна с видом на U-образный Лабиринт Нила. Ниргал остановился, его дыхание участилось. Она его пока не замечала. Лицо ее округлилось, но сама она была такой же высокой и изящной, как всегда. На ней была зеленая шелковая блуза и юбка более темного оттенка из какой-то грубоватой ткани. Блестящая копна черных волос спадала на плечи. Он не мог отвести от нее взгляд.
А потом она увидела его – и еле заметно вздрогнула. По-видимому, видеосвязи оказалось недостаточно, чтобы передать, как сильно он пострадал от земной болезни. Она вытянула к нему руки и двинулась навстречу. Не опуская их, она мысленно производила расчеты и тщательно скрывала истинную реакцию перед камерами, что всюду ее преследовали. Но он любил ее за эти руки. Он ощутил, как к его лицу приливает тепло, а когда они поцеловались, щечка в щечку, как знакомые дипломаты, оно покрылось румянцем. Вблизи она также выглядела на пятнадцать М-лет, словно с нее только сошел невинный цвет юности. Теперь она выглядела даже красивее, чем в юности. Некоторые говорили, что она проходит антивозрастную терапию с десяти лет.
– Значит, это правда, – проговорила она. – Земля чуть тебя не убила.
– На самом деле это был вирус.
Она рассмеялась, но ее взгляд при этом оставался таким же оценивающим. Она взяла его за руку и подтянула к себе, будто он был слепым. Хотя он знал некоторых из присутствующих, она все равно всех ему представила – лишь затем, чтобы обозначить, как сильно изменился узкий партийный круг с тех пор, как он его покинул. Но, конечно, он не мог этого заметить от переполнявшей его радости, и тут ход встречи нарушил плач. Среди них был младенец.
– Ах, – спохватилась Джеки, сверившись с наручной консолью. – Ее пора кормить. Познакомься с моей дочкой.
Она подошла к женщине, держащей запеленатое дитя. Девочке с пухлыми щечками и более смуглой, чем Джеки, было несколько месяцев, все ее лицо исказилось от крика. Джеки взяла ее с рук женщины и унесла в смежную комнату.
Ниргал, оставшись стоять на месте, увидел у окна Тиу, Рейчел и Франца. Подошел к ним, указал глазами в сторону Джеки – те закатили глаза и пожали плечами.
– Джеки не говорит, кто отец, – тихо сообщила Рейчел.
Это была не редкость: многие матери в Дорсе Бревиа поступали таким же образом.
Женщина, которая до этого держала ребенка, вышла от Джеки и сказала, что та желает поговорить с Ниргалом. Он проследовал за ней в комнату.
Там было панорамное окно с видом на Лабиринт Нила. Джеки сидела рядом, кормила ребенка и смотрела вдаль. Ребенок был голоден: закрыв глаза, жадно сосал и попискивал. Крохотные кулачки рефлекторно сжимались, будто пытаясь уцепиться за ветку или шерсть. И здесь, в этой хватке, будто заключалась вся человеческая культура.
Джеки раздавала указания помощникам – одновременно и присутствующим в комнате, и по видеосвязи.
– Не важно, что там скажут в Берне, нам нужно быть достаточно гибкими, чтобы заморозить любые квоты, если понадобится. Индии и Китаю придется просто с этим смириться.
Для Ниргала кое-что начало проясняться. Джеки состояла в исполнительном совете, но тот не имел большой власти. Также она была одним из лидеров «Свободного Марса», и, хотя партия, вероятно, имела меньшее влияние на планете, где каждый купол управлялся сам по себе, по вопросам отношений Земли и Марса она могла быть определяющей силой. Даже если она лишь координировала политические вопросы, то должна была получить всю власть, какая была доступна координатору, а это было весомо – сам Ниргал никогда не имел больше. Во многих случаях такая координация могла быть равна определению внешней политики Марса, так как все местные правительства занимались лишь своими вопросами, а в мировом парламенте все сильнее преобладало сверхбольшинство «Свободного Марса». И, конечно, было мнение, что отношения Земли и Марса способны пересилить все остальное. Так что Джеки, может быть, была на пути к обретению межпланетной власти…
Внимание Ниргала вернулось к ребенку на ее груди. Принцессе Марса.
– Садись, – пригласила Джеки, головой указывая на скамью рядом с собой. – Ты выглядишь уставшим.
– Вовсе нет, – ответил Ниргал, но все равно сел. Джеки подняла взгляд на одного из помощников и кивком дала знак выйти. Они остались в комнате вдвоем, третий – младенец.
– Для Китая и Индии это просто незанятая новая земля, – начала Джеки. – Это сразу становится понятно, если их послушать. Они прикидываются чертовски дружелюбными.
– Может, они такие же, как мы, – сказал Ниргал. Джеки улыбнулась, но он продолжил: – Мы помогли им освободиться от наднационалов. Но они не могут думать о том, чтобы перебросить сюда свое избыточное население. Их слишком много, чтобы решить проблему эмиграцией.
– Пусть даже и так, зато они могут об этом мечтать. А с космическими лифтами могут наладить непрерывный поток своих людей. И мы в нем захлебнемся быстрее, чем ты думаешь.
Ниргал покачал головой.
– Их никогда не будет настолько много.
– Откуда ты знаешь? Ты же больше нигде не был.
– Миллиард – это много, Джеки. Слишком много, чтобы мы смогли его как следует представить. А на Земле живет семнадцать миллиардов. Они не могут переправить сюда какую-либо существенную долю от этого числа, у них нет столько шаттлов.
– Но они все равно могут попытаться. Китайцы заселили Тибет до отказа, и это ничуть не улучшило ситуацию. Но они все равно продолжают это делать.
Ниргал пожал плечами.
– Тибет у них рядом. А мы так и будем с ними на расстоянии.
– Это верно, – с раздражением ответила Джеки, – но это будет не так просто, когда у нас не останется этого «мы». А если они окажутся в Жемчужном заливе и заключат сделку с арабами, кто их тогда остановит?
– Природоохранные суды?
Джеки фыркнула, и ребенок отстранился и захныкал. Она переместила его к другой груди, на которой виднелся изгиб синеватой вены.
– Антар считает, что они долго не протянут. Мы тут с ними воевали, пока тебя не было, и в итоге дали им возможность выносить решения, но они не показали ни разума, ни зубов. А поскольку все, что ни делается, хоть как-нибудь влияет на окружающую среду, они, по идее, должны судить все и вся. Но в низменных регионах сейчас вовсю убирают купола, и никто из них – а таковых там сотни – не обращается в суд за разрешением и не спрашивает, что делать, когда их город становится частью этой окружающей среды. А зачем? Ведь сейчас все стали экопоэтами. Нет, судебная система здесь работать не будет.
– Ты не можешь знать наверняка, – ответил Ниргал. – Так что, значит, Антар отец?
Джеки пожала плечами.
Отцом мог быть кто угодно – Антар, Дао, сам Ниргал, даже Джон Бун, черт возьми, если в хранилище еще остался образец его семени. Это было бы в духе Джеки – только тогда она всем бы об этом рассказала. Она придвинула головку младенца поближе к себе.
– Неужели ты правда думаешь, что растить ребенка без отца – это нормально?
– А ты разве рос по-другому? Да и у меня не было матери. У нас у всех был один родитель.
– И разве это хорошо?
– Кто знает?
Джеки смотрела так, что Ниргал не мог прочитать ее взгляд, а рот был слегка сжат то ли от обиды, то ли с пренебрежением – сказать наверняка невозможно. Она знала, кем были оба ее родителя, но рядом был лишь один – хотя теперь и Касэя с ней не было. Убит в Шеффилде, отчасти в результате жесткого ответа на наступление Красных, который сама Джеки так поддерживала.
– Ты не знал о Койоте до тех пор, пока тебе не исполнилось шесть или семь, правильно? – спросила она.
– Все так, но это неправильно.
– Что?
– Да вообще неправильно. – Он посмотрел ей в глаза.
Но она отвернулась, опустив взгляд на ребенка.
– Но уж лучше, чем когда твои родители рвут друг друга в клочья у тебя на глазах.
– Вот чем бы ты занималась с отцом?
– Кто знает?
– Тогда так будет безопаснее.
– Наверное. И вообще так поступают многие женщины.
– В Дорсе Бревиа.
– Да и везде. Биологическое родство – это не слишком уж марсианское понятие, разве нет?
– Не знаю, – Ниргал задумался. – На самом деле я повидал много семей в каньонах. В этом отношении мы происходим из нетрадиционной группы.
– И не только в этом.
Ребенок закончил пить молоко, и Джеки убрала грудь в лифчик и спустила майку.
– Мари, – позвала она, и в комнату вошла помощница. – Кажется, ее надо перепеленать. – Она передала младенца женщине, и та вышла, не проронив ни слова.
– У тебя теперь и прислуга есть? – спросил Ниргал.
Рот Джеки снова сжался, и она позвала:
– Мэм?
Вошла другая женщина, и Джеки сказала:
– Мэм, мы должны встретиться с людьми из природоохранного суда по поводу запроса Китая. Может быть, мы сможем использовать его как рычаг, чтобы заставить их пересмотреть вопрос распределения воды в Каире.
Мэм кивнула и вышла из комнаты.
– Это ты только что решила? – спросил Ниргал.
Джеки не ответила, махнув на него рукой.
– Я рада, что ты вернулся, Ниргал, но постарайся поскорее наверстать упущенное, хорошо?
Наверстать упущенное. «Свободный Марс» теперь был политической партией, крупнейшей на планете. Но так было не всегда: вначале он был скорее сообществом друзей или частью подполья, живущего в «полусвете». В основном оно состояло из бывших студентов университета Сабиси или, позднее, членов очень зыбкого объединения крытых каньонов, городских тайных кружков и так далее. Своего рода обобщающее название для сочувствующих подполью, но не последователей какого бы то ни было определенного политического движения или философии. На самом деле их название было просто обрывком фразы: «…свободный Марс».
Во многом она была детищем Ниргала. Добиться самостоятельности желали многие уроженцы, тогда как различные партии иссеев, основанные на соображениях тех или иных ранних поселенцев, эту идею не поддерживали – они хотели чего-то нового. А Ниргал путешествовал по планете, встречая людей, которые устраивали встречи и обсуждения, и это продолжалось так долго, что люди захотели, чтобы у этого появилось название. Люди вообще любили названия.
И вот, «Свободный Марс». Во время революции это стало объединяющим лозунгом для уроженцев, выделяющихся из общества как стихийный феномен, и его членами провозглашало себя гораздо больше человек, чем кто-либо мог представить. Миллионы. Большинство уроженцев. По сути, это предопределило революцию и стало основным залогом ее успеха. «Свободный Марс» как повеление, как призыв к действию. И они это сделали.
Но затем Ниргал улетел на Землю, чтобы изложить свои доводы там. И пока его не было, во время конституционного конгресса, движение «Свободный Марс» превратилось в организацию. Это было хорошо – как нормальное развитие событий, как необходимая часть становления их независимости. Никто на это не жаловался, не причитал о былом, не предавался ностальгии о героическом времени, в котором на самом деле не было ничего героического – или которое было настолько же героическим, насколько и гнетущим, тревожным, опасным и полным лишений. Нет, Ниргал не испытывал ностальгии – смысл жизни заключался не в прошлом, а в настоящем, не в сопротивлении, а в выражении. Нет, он не хотел, чтобы все стало, как было раньше. Он был рад, что они сами стали (по крайней мере, отчасти) властителями своей судьбы. В этом не состояло проблемы. Не заботил его и поразительный рост числа сторонников партии. Казалось, они выходили на уровень сверхбольшинства: в исполнительном совете трое из семи членов принадлежали к руководству «Свободного Марса», и бо́льшую часть остальных мировых должностей занимали другие ее члены. К партии примыкала добрая часть новых эмигрантов, равно как и старых, а также уроженцев, которые до революции поддерживали другие силы, и, наконец, люди, ранее бывшие сторонниками режима ВП ООН, а теперь искавшие новую силу, к которой можно присоединиться. В итоге, теперь это была огромная группа. И в первые годы нового социально-экономического порядка такое сосредоточение политической силы, мнений и убеждений, несомненно, имело ряд преимуществ. Они могли добиваться своего.
Но Ниргал не был уверен, хотел ли он быть частью этого.
Однажды подойдя к городской стене и выглянув за пределы купола, он увидел группу людей, стоящих на стартовой платформе на краю обрыва к западу от города. У них было множество одиночных летательных аппаратов – планеров и ультралитов, которые запускались, как из рогатки, и взлетали в теплых восходящих потоках, а также менее габаритных дельтапланов и других – новых, одноместных, похожих на планеры, присоединенные к днищу небольших аэростатов. Длина этих аппаратов лишь немного превосходила рост людей, которые подвешивались за петли или усаживались на сиденья под крыльями планеров. Они явно были изготовлены из сверхлегких материалов, некоторые даже просвечивались или были почти невидимы, из-за чего, когда они оказывались в небе, казалось, будто люди в лежачем или сидячем положении парили сами по себе. Другие планеры были окрашены и оставались заметны даже на расстоянии нескольких километров в виде зеленых или синих контуров в небе. К коротким крыльям крепились небольшие ультралитовые двигатели, которые позволяли пилотам менять направление и высоту – в этом смысле аппараты походили на самолеты, но с аэростатами, благодаря которым становились более безопасными и подвижными. Пилоты могли сажать их где угодно, и разбить их, казалось, было просто невозможно.
Дельтапланы, напротив, выглядели опаснее, чем когда-либо. Летавшие на них были самыми искушенными из всех, кто поднимался в воздух. Ниргал увидел это, когда подошел ближе: искатели острых ощущений сбегали с обрывов, крича по радиосвязи в адреналиновом возбуждении. Как-никак они падали с утесов, и неважно, какое у них было снаряжение, – тело все равно ощущало происходящее. Неудивительно, что они кричали как сумасшедшие!
Ниргал сел в метро и вышел на стартовой платформе, привлеченный этим удивительным зрелищем. Столько людей, вольно парящих в небе… Конечно, его узнали и стали пожимать руки, а потом он принял приглашение группы планеристов подняться и узнать, каково это. Дельтапланеристы предложили научить его летать, но он усмехнулся и сказал, что для начала попробует небольшой планер-аэростат. Поблизости стоял один такой, двухместный, и женщина по имени Моника пригласила Ниргала, заправила бак двигателей и села рядом с ним. Они поднялись по пусковой мачте, откуда их вытолкнули в сильный послеполуденный ветер над городом, который с воздуха показался им крошечным, насыщенным зеленью куполом, гнездившимся на краю последней на северо-западе сети каньонов, избороздивших склон Фарсиды.
Полет над Лабиринтом Ночи! Ветер голосил вокруг туго натянутого прозрачного материала их аэростата, их трясло из стороны в сторону, и весь планер горизонтально вращался, как казалось, бесконтрольно. Но затем Моника, рассмеявшись, занялась находившимися перед ней приборами, вскоре после чего они, кружа, двинулись на юг поперек лабиринта, пролетая каньон за каньоном. Затем оказались над хаосом Комптон и над развороченной землей Иллирийских Врат, откуда начиналось понижение к леднику Маринер.
– У этой штуки двигатели намного мощнее, чем от них требуется, – услышал он голос Моники в наушниках. – Можно броситься прямо на ветер, дующий со скоростью до двухсот пятидесяти километров в час, хотя ты вряд ли захочешь такое испытать. Можно также использовать двигатели для противодействия аэростату, чтобы посадить планер. Вот, попробуй. Этот рычаг отвечает за левый двигатель, этот – за правый, а вот стабилизаторы. Управлять двигателями – это раз плюнуть, а вот к стабилизатору надо немного привыкнуть.
Перед Ниргалом находилась вторая приборная доска. Он положил руки на рычаги и надавил. Планер повернул вправо, затем влево.
– Ух ты!
– Здесь электродистанционное управление, так что, если ты попытаешься нас убить, оно просто отменит команду.
– Сколько часов ты налетала, пока всему этому не научилась?
– А сам-то ты уже освоился, да? – Она рассмеялась. – Нет, на самом деле это требует часов сто или около того. Смотря что ты имеешь в виду под словом «научиться». Между сотней и тысячей часов существует плато смерти – после того, как люди расслабляются, но до того, как становятся реально хороши, с ними случаются неприятности. В основном это касается дельтапланеристов. А что до этих штук, то они ничем не отличаются от симуляторов, поэтому можно наработать часы там, а когда ты взлетишь по-настоящему, тебе включат электродистанционку, как будто ты не достиг необходимого времени налета официально.
– Как интересно!
И это действительно было интересно. Перекрещивающиеся размытые каньоны Лабиринта Ночи, тянувшиеся под ними огромной спутанной схемой… Подъемы и падения при резких порывах ветра… Громкие завывания за их частично закрытой гондолой…
– Как будто мы превращаемся в птицу!
– Именно!
Какая-то часть его понимала, что все будет хорошо. Сердце снова и снова наполнялась радостью.
После этого он проводил время в летном симуляторе и несколько раз в неделю встречался с Моникой или кем-то из ее друзей, чтобы сорваться с края утеса ради нового урока. Это было не очень сложно, и вскоре он почувствовал, что может летать сам. Но его просили проявить терпение. И он упорно продолжал учиться. Симуляторы были весьма похожи на реальный полет, и, если во время теста он выкидывал какую-нибудь глупость, сиденье очень реалистично кренилось и тряслось. Ему не раз рассказывали историю о человеке, который вывел своим ультралитом такую страшную спираль, что симулятор оторвался от крепления и разбил стеклянную стену, порезав несколько оказавшихся рядом человек и сломав руку самому пилоту.
Ниргал, как и большинство остальных, таких ошибок не допускал. Почти каждое утро он посещал заседания «Свободного Марса» в городском управлении, а после обеда летал. Спустя несколько дней он обнаружил, что утренние заседания его тяготят и что ему хотелось только летать. Не был он основателем партии, что бы кто ни говорил. Чем бы он ни занимался в те годы, это не было политикой, не такой, как сейчас. Может быть, в той деятельности и состоял политический элемент, но по большей части он просто жил своей жизнью, говорил с людьми в «полусвете» и в городах на поверхности о том, как им жить и иметь при этом свободу и другие блага. Ладно, пусть это и политика – к ней можно все причислить, – но на самом деле политика его, похоже, не интересовала. А может, он просто не любил правительственную работу?
Конечно, когда всюду доминировала Джеки и ее команда, это казалось особенно неинтересным. Сейчас политика была иного толка. Теперь он видел, что ближнее окружение Джеки не испытывало восторга по поводу его возвращения с Земли. Его не было целый М-год, и за это время возникла целая новая группа, которая рассматривала Ниргала как угрозу лидерству Джеки и их собственному влиянию на нее. Они были решительно, пусть и неявно, настроены против него. Нет. Когда-то он был лидером уроженцев, харизматичным выходцем из племени, сложившегося из рожденных на Марсе. Сын Хироко и Койота, человек очень высокого мифического происхождения, которому было очень трудно противостоять. Но с тех пор прошло время. Теперь у власти стояла Джеки, которая также имела мифическое происхождение – потомок Джона Буна, как и Ниргал, выросшая в Зиготе, к тому же (отчасти) поддерживающая минойскую культуру региона Дорса Бревиа.
Не говоря уже о ее прямой власти над ним. Но ее советники не могли ни понять этого, ни иметь полного представления. Для них он был угрожающей силой, которую ни в коем случае нельзя было сбрасывать со счетов из-за земной болезни. Вечной угрозой их родной королеве.
И он сидел на собраниях в городском управлении, стараясь не обращать внимания на их мелкие интриги и сосредоточиться на вопросах, которые поступали со всех уголков планеты и зачастую касались проблем с землей и различных споров. Многие купольные города желали убрать свои купола, когда это позволяло атмосферное давление, и едва ли хоть в одном из них считали, что эту процедуру необходимо было сначала согласовать с природоохранным судом. В некоторых районах было так засушливо, что ключевой проблемой стало их водоснабжение, и их жители направляли столько запросов на распределение воды, что казалось, будто уровень Северного моря можно было понизить на целый километр, лишь перекачав воду к страдающим от жажды городам юга. Эти и тысячи других проблем испытывали конституционные «сети», соединяющие местные самоуправления со всемирными институтами, и споры, казалось, не смолкнут никогда.
Ниргал, хоть и, в общем, не питавший интереса к этим пререканиям, все же находил их предпочтительными для той политики партии, которую она вела в Каире. Он вернулся с Земли, не имея официальной должности ни в новом правительстве, ни в старой партии, и теперь видел, что его сторонники (или, скорее, противники Джеки) вели борьбу за то, чтобы дать ему не место с ограниченным влиянием, а серьезную должность, которая даст ему реальную власть. Кое-кто из друзей советовал ему подождать и, когда придет время выборов, выдвинуться в сенат, другие говорили об исполнительном совете, третьи – о месте в МПС. Ниргалу не нравилось ничего из этого. А когда он общался по видео с Надей, то видел, что все эти должности стали бы для него тяжким бременем. Хотя она сохраняла достаточно невозмутимый вид, было заметно, что эта работа ей претила. Но Ниргал не выдавал своих чувств и внимательно выслушивал тех, кто давал ему советы.
Сама Джеки возглавляла собственный совет. На заседаниях, где Ниргала принимали за своего рода «министра без портфеля», она вела себя с ним более безучастно, чем обычно, что наводило его на мысль, что ей нежелательно его продвижение по служебной лестнице. Она хотела посадить его на такую должность, которая, учитывая ее собственную, была бы непременно ниже. Но если он окажется где-то на стороне…
И вот она сидела с младенцем на руках. Тот мог быть его ребенком. И Антар смотрел на нее с тем же выражением лица, с той же мыслью. Так бы, несомненно, смотрел бы и Дао, будь он до сих пор жив. Ниргала внезапно охватила скорбь по своему единоутробному брату, своему мучителю, своему другу – они с Дао дрались между собой, сколько он себя помнил, но, несмотря ни на что, приходились друг другу родными.
Джеки, казалось, уже забыла и Дао, и Касэя. Как забыла бы и Ниргала, если бы того убили. Она была в числе тех Зеленых, которые отдавали приказ подавить наступление Красных в Шеффилде, и поддерживала жесткие меры. Пожалуй, она просто вынуждена забывать о мертвых.
Младенец заплакал. В его округлом лице невозможно было заметить никакого сходства с кем-либо из взрослых. Ротик, как у Джеки. Но во всем остальном… От власти, которую порождало анонимное отцовство, становилось страшно. Конечно, мужчина тоже мог такое проделать: взять яйцеклетку, вырастить ее путем эктогенеза самому. Рано или поздно кто-то так и поступит, особенно если женщины станут слишком часто следовать примеру Джеки. Мир без родителей. Пусть настоящей семьей могли быть и друзья, но по телу Ниргала все равно пробежала дрожь при мысли о том, что когда-то сделала Хироко и что теперь делала Джеки.
Чтобы очистить разум от всего этого, он продолжал летать. Однажды вечером, когда он сидел на платформе после блистательного полета, кто-то упомянул в разговоре имя Хироко.
– Я слышал, она на Элизии, – сказал кто-то. – Устроила там новую коммуну коммун.
– Где ты это слышала? – спросил он у женщины, но получилось немного резко.
– Помнишь тех пилотов, которые останавливались здесь на прошлой неделе? Которые летят вокруг света, – отозвалась женщина, удивившись. – В том месяце они были на Элизии и сказали, что видели ее там. – Она пожала плечами. – Это все, что я знаю. Конечно, никакого подтверждения этому нет.
Ниргал откинулся на спинку сиденья. Как всегда, информация из третьих рук. Некоторые из таких историй, правда, выглядели правдивыми, а иногда попадались и чересчур правдивые, настолько, что явно были выдуманы. Ниргал не знал, что и думать. Совсем немногие считали, что она погибла. Мелькали и сообщения о встречах с людьми из ее окружения.
– Просто им хочется, чтобы она была там, – сказала Джеки, когда Ниргал рассказал ей об этом на следующий день.
– А разве ты этого не хочешь?
– Конечно, – хотя на самом деле она не хотела, – но не настолько, чтобы выдумывать об этом байки.
– Ты правда думаешь, что это все выдумки? Ну кому это нужно? Зачем людям это делать? В этом нет никакого смысла.
– Люди вообще существа бессмысленные, Ниргал. Тебе стоит это уяснить. Люди замечают где-нибудь пожилую японку и думают: как она похожа на Хироко! Потом вечером рассказывают соседям по комнате, что, как им кажется, они видели Хироко. Мол, она на рынке покупала сливы. Потом сосед идет на свою стройку и говорит, что его сосед вчера видел, как Хироко покупала сливы.
Ниргал кивнул. Разумеется, это было правдой – по крайней мере, в большинстве случаев. Но в остальных, в тех немногих, которые выбивались из общего ряда…
– А пока тебе нужно принять решение насчет того места в природоохранном суде, – сказала Джеки. Это был местный суд, нижестоящий по отношению к мировому. – Мы можем устроить так, чтобы Мэм получила должность в партии, которая на самом деле даст больше полномочий, или ты можешь ее занять, если хочешь. А может, и обе займешь. Но нам нужно знать.
– Да-да.
В комнату вошло несколько человек, желающих обсудить какие-то другие вопросы, и Ниргал отдалился к окну, расположившись рядом с няней и ребенком. Дела ничуть его не интересовали – гадкие и абстрактные, они сводились к манипуляциям над людьми, которым не давали никаких материальных благ за тяжелый труд. «Это и есть политика», – сказала бы Джеки. И она явно получала от этого удовольствие. В отличие от Ниргала. Что было странно, ведь он, казалось бы, всю жизнь корпел, чтобы добиться места в политике, а теперь, когда достиг цели, это ему не нравилось.
Он вполне мог научиться делать эту работу. Ему пришлось бы преодолеть враждебность тех, кто противился его возвращению в партию, создать основу собственной политической поддержки, то есть собрать группу людей, которые станут помогать ему. Используя свое служебное положение, пришлось бы оказывать им услуги, втереться в доверие, натравливать их друг на друга, чтобы каждый старался исполнять его приказания, доказывая свое превосходство над остальными… Он видел, как это устроено, прямо в этой комнате, когда Джеки принимала своих советников, одного за другим. Она обсуждала с ними все, что происходило в сфере их полномочий, после чего раздавала им поручения, чтобы те могли проявить ей свою преданность. Конечно, если бы Ниргал обратил на это ее внимание, она сказала бы, что так и должно быть. Такова политика. Марс находился теперь во власти марсианских политиков, и эту работу необходимо было делать, чтобы создать новый мир, к которому они стремились. Не нужно быть привередой, нужно быть реалистом и, засучив рукава, приступить к делу. В этом даже имелось какое-то благородство. Эта работа необходима!
Ниргал не знал, были ли эти суждения верны или нет. Неужели они действительно потратили свои жизни на избавление Марса от господства Земли лишь затем, чтобы установить здесь местный вариант того же уклада? Неужели политика обязательно должна быть такой практичной, циничной, неестественной и противной?
Он этого не знал. Он сидел у окна и смотрел на спящую дочь Джеки. В другом конце комнаты Джеки стращала делегатов партии, прибывших с Элизия. Тот теперь стал островом, окруженным водами Северного моря и как никогда настроенным самостоятельно распоряжаться своей судьбой, в том числе вопросами ограничения иммиграции. Они настаивали на том, чтобы сдержать развитие массива, оставив его примерно в том же состоянии, что сейчас.
– Это все хорошо, – отвечала Джеки, – но теперь это очень большой остров, по сути, целый материк, окруженный водой, так что он будет особенно влажным, с береговой линией в тысячи километров, множеством удобных гаваней, где, несомненно, можно построить и рыбацкие города. Мне нравится ваше желание самостоятельно заниматься его развитием, нам всем оно нравится, но китайцы уже проявили интерес именно к некоторым из этих гаваней. И что мне им ответить? Что элизийцам не нравятся китайцы? Что мы поможем им справиться с кризисом, но в вашем регионе размещать не хотим?
– Дело не в том, что они китайцы! – воскликнул один из делегатов.
– Я понимаю. Правда понимаю. Я вам вот что скажу – поезжайте в Южную борозду и объясните, какие у нас тут трудности, а я сделаю все, что смогу, чтобы вам помочь. Результат не гарантирую, но сделаю все, что смогу.
– Спасибо, – поблагодарил ее делегат и вышел.
Джеки повернулась к помощнику.
– Идиот. Кто там следующий? Ах, ну надо же: китайский посол. Ладно, пусть заходит.
В комнату вошла высокая китаянка. Она говорила по-мандарински, и ее искин переводил на чистый британский английский. После обмена любезностями она спросила об основании китайских поселений, предпочтительно где-то в районе экватора.
Ниргал завороженно наблюдал за ней. Вот с чего начинались поселения: представители какой-нибудь земной нации просто приходили и строили купольный город, скальное жилище или покрытие над кратером… Но сейчас Джеки вежливо ответила:
– Это возможно. Но все, конечно, определяется решением природоохранного суда. Тем не менее на массиве Элизий есть много свободной земли. Может быть, удастся выделить место там, особенно если Китай пожелает вложиться в инфраструктуру, минимизирует воздействие на окружающую среду и тому подобное.
Они обсудили детали, и через некоторое время посол вышла.
Джеки повернулась к Ниргалу.
– Ниргал, ты бы не мог позвать сюда Рейчел? И постарайся поскорее решить, чем будешь заниматься, хорошо?
Ниргал покинул здание и, пройдя через весь город, вернулся в свою комнату. Там он собрал свою немногочисленную одежду и туалетные принадлежности, после чего добрался на метро до стартовой платформы, где попросил Монику дать попользоваться одиночным планером-аэростатом. После многих часов, проведенных за симуляторами с инструкторами, он уже был готов летать в одиночку. В долине Маринер, на столовой горе Кандор, была еще одна летная школа, и он договорился с ее представителями, чтобы те приняли там его планер и вернули с другим пилотом.
Была середина дня. Ветры уже спускались со склонов Фарсиды, лишь набирая силу с приближением вечера. Ниргал оделся и расположился в водительском сиденье. Небольшой планер-аэростат поднялся на пусковую мачту, привязанный за нос, а потом был отпущен на волю.
Вознесшись над Лабиринтом Ночи, он повернул на восток. И затем летел над скоплением пересекающихся каньонов. Землю рассекло давлением снизу. Вскоре лабиринт остался позади. Икар, который взлетел слишком высоко к солнцу, обжегся, выжил после падения – и теперь летел снова, но на этот раз вниз, вниз, вниз, еще ниже. Вместе с ветром, подгонявшим его сзади. Оседлав бурю, быстро спускаясь над полем потрескавшегося грязного льда, обозначавшего хаос Комптон, откуда начался великий прорыв канала в 2061-м. Тогда колоссальный поток сошел по каньону Ио, но Ниргал вывернул к северу, прочь от ледника, а затем снова полетел на восток, к изголовью каньона Титон, который тянулся параллельно Ио к северу от него.
Титон был одним из самых глубоких и узких каньонов в системе Маринер – четыре километра в глубину и десять в ширину. Можно было лететь много ниже уровня стен плато и все равно оставаться в тысячах метров над дном каньона. Титон был выше и беспорядочнее, чем Ио, его не касалась рука человека, здесь редко кто путешествовал, потому что он уходил в тупик на востоке, где его дно становилось неровным, а сам каньон – более узким и неглубоким и вскоре резко заканчивался. Ниргал заметил дорогу, вьющуюся по восточной стене, – дорогу, по которой он не раз проезжал в юности, когда вся планета была его домом.
Вечернее солнце садилось у него за спиной. Тени на земле мало-помалу удлинялись. Ветер задувал все так же сильно и, подвывая и свища, бился о планер. Он снова нес его над плато, так как Титон теперь превратился в полосу овальных углублений, прерывавших его поверхность. Теперь это была цепочка впадин, каждая из которых имела форму огромной чаши.
А затем поверхность снова вдруг резко провалилась, и он оказался над Кандором – над Сияющим каньоном, восточная стена которого в самом деле сейчас сияла в закатном свете янтарными и бронзовыми оттенками. На севере открывался глубокий вход в каньон Офир, на юге – выдающийся проход с контрфорсами, уводящий в каньон Мелас, гигант системы Маринер. Это был марсианский Конкордиаплац, но гораздо более крупный и дикий, чем на Земле, нетронутый, сохранивший первозданный вид, невообразимо гигантский. Ниргалу казалось, словно полет вернул его назад на два столетия или на два эона, в древние, дочеловеческие времена. Красный Марс!
А посреди широкого каньона горы Кандор возвышался высокий холм-останец, формой напоминающий алмаз, Сияющая гора – скальный остров, примерно на два километра превосходящий дно каньона. И в неясном закатном сумраке Ниргал различил гнездо огней – шатровый городок в самой южной точке алмаза. Голоса, появившиеся на общей радиочастоте, поприветствовали его и объяснили, как сесть на площадку. И в свете солнца, опускавшегося на западные скалы, он медленно посадил планер прямо на фигуру Кокопелли[30], изображенную вместо целевой отметки на посадочной площадке.
Сияющая гора венчалась крупной площадкой, по форме напоминающей ромб воздушного змея. Тридцати километров в ширину и десяти в длину, плошадка высилась посреди каньона, как многократно увеличенная скала в Долине монументов. Шатровый город занимал лишь небольшое возвышение на южной стороне ромба. Сам же холм был ровно тем, чем казался, – отдельным фрагментом плато, образованным каньонами системы Маринер. Это была грандиозная точка обзора с видом и на стены собственного каньона, и на глубокие, крутые впадины, уходящие к каньону Офир на севере и к каньону Мелас на юге.
Такое впечатляющее место, естественно, привлекало людей на протяжении многих лет, и главный шатер уже поддерживали несколько малых. Расположенный на уровне пяти километров над нулевой отметкой, город до сих был накрыт шатром, хотя и шли разговоры о том, чтобы его убрать. На дне каньона, на высоте всего трех километров над уровнем моря, прорастал темно-зеленый лес. Многие из жителей Сияющей горы по утрам летали в каньон, где выращивали растения или собирали травы, и возвращались обратно на холм лишь к вечеру. Некоторые из этих лесничих были старыми знакомыми Ниргала по подполью и с удовольствием брали его с собой, чтобы показать ему каньон и то, что сами в нем сделали.
В системе Маринер дно каньонов, как правило, понижалось с запада на восток. В Кандоре же оно изгибалось вокруг огромного холма посередине, а затем резко опадало к югу, переходя в Мелас. На более высоких участках дна лежал снег – особенно под западными стенами, где вечерами появлялись тени. Когда он таял, вода слабыми ручьями стекала на новые водосборные площади, образованные в песчаных руслах, которые уводили к мелким грязно-красным рекам, соединявшимся над ущельем Кандора, обрушиваясь затем безумным пенистым потоком на дно каньона Мелас, где вода собиралась у остатков ледника, обагряя его с северной стороны.
На берегах этих мутных красных ручьев возникали лесные коридоры. Они состояли в основном из морозостойких бальзовых и других быстрорастущих тропических деревьев, создававших навес над карликовыми зарослями. После теплых последних дней дно каньона походило на большую чашу, отражающую солнце и защищенную от ветра. Бальзовые навесы позволяли выжить множеству других видов растений и животных. Знакомые Ниргала рассказали, что здесь сложилось самое многообразное биотическое сообщество на Марсе. Приземляясь и выходя в лес, им приходилось брать с собой транквилизаторы на случай встречи с медведями, снежными барсами и другими хищниками. А некоторые участки даже становились труднопроходимыми из-за густоты зарослей снежного бамбука и осин.
Всему этому росту способствовали крупные залежи нитрата натрия, содержавшиеся в Кандоре и Офире. Это были огромные белые ступенчатые террасы из водорастворимых известковых пород. Эти минеральные отложения таяли над дном каньона и стекали ручьями, распространяя по почве большое количество азота. Некоторые из крупнейших залежей, к сожалению, были погребены под завалами, и вода, растворяющая нитрат натрия, также увлажняла стены каньона, вызывая радикальное ускорение оползневых процессов, которые протекали здесь постоянно. Никто больше не подходил к подножию стен – местные говорили, что это слишком опасно. И когда они летали рядом на планерах-аэростатах, Ниргал всюду видел следы обвалов – например, несколько высоких склонов осыпания, похороненные вместе с растениями. Способы фиксации стен наряду со многими другими темами обсуждались на холме по вечерам, после того как омегендорф проникал в кровь, – но на самом деле с этим мало что можно было поделать. Если какие-нибудь глыбы хотели отколоться от скалы высотой в десять тысяч футов, то ничто не могло их остановить. Поэтому время от времени, обычно раз в неделю или около того, на Сияющей горе все чувствовали дрожь земли, видели, как колышется шатер, и слышали низкий грохот падения, отдававшийся в нижней части живота. Нередко удавалось увидеть обвал – как камни катились по дну каньона, поднимая за собой желтые облака пыли. Те, кто в это время летал в каньоне, возвращались потрясенные и молчаливые или, наоборот, без умолку голосили о том, как их швыряло туда-сюда от оглушительного грохота. А однажды Ниргал сам на полпути ко дну каньона это ощутил – словно звуковой удар, длившийся несколько секунд, и воздух при этом дрожал, как желе. А потом все стихло так же внезапно, как началось.
Чаще всего он летал сам, иногда со старыми знакомыми. Планеры-аэростаты идеально подходили для полетов над каньоном – медленные и прочные, легкие в управлении. И с большей подъемной силой, чем требовалось. Аппарат, который Ниргал взял напрокат (на деньги, что ему дал Койот), позволял ему опускаться на дно по утрам, чтобы помогать собирать травы в лесу или просто гулять вдоль ручьев, а потом, после обеда, – взлетать обратно, выше и выше. Вот тогда он и чувствовал, каким высоким был этот холм-останец, превосходящий даже стены каньона. Он поднимался к шатру и проводил там время в долгих застольях и вечерних гуляниях. День за днем Ниргал следовал этому порядку, исследуя различные районы, лежавшие внизу, наблюдая за бурной ночной жизнью шатра, но в то же время он словно смотрел в телескоп, повернутый не той стороной, – телескоп, содержащий единственный вопрос: «Такую ли жизнь я хочу вести?» Этот удаляющийся и неким образом уменьшающийся вопрос возвращался к нему снова и снова, подстегивая его днем, когда он выписывал виражи в солнечном свете, и преследуя по ночам, в бессонные часы между временным сбросом и рассветом. Чем он собирался заняться? Успех революции лишил его цели. Всю свою жизнь он странствовал по планете, рассказывая людям о свободном Марсе, о естественном заселении вместо колонизации, о бережном отношении к земле. Сейчас с этой задачей было покончено: земля принадлежала им, и они могли жить на ней так, как хотели. Но в этом новом положении он обнаружил, что не знает, какова теперь его роль. Ему нужно было тщательно подумать над тем, как жить дальше в этом новом мире, уже не в качестве голоса коллектива, а как отдельный человек со своей частной жизнью.
Он понял, что больше не хочет работать в коллективе. Хорошо, что некоторым нравилось этим заниматься, но он в их число не входил. Он даже не мог думать о Каире, не сердясь на Джеки и не чувствуя обычной боли – боли от потери общественной жизни, той, которой он всегда жил прежде. Перестать быть революционером было тяжело. Казалось, дальше ничего не следовало – ни логически, ни эмоционально. Но делать что-то было нужно. Та жизнь осталась в прошлом. Медленно выполняя нырок на своем планере-аэростате, он внезапно понял Майю и ее одержимость идеей переселения душ. Ему было двадцать семь М-лет, он объездил весь Марс и вернулся в свободный мир. Пришло время следующего метемпсихоза.
И он летел над необъятным Кандором, выискивая на поверхности свое отражение. Изломанные, слойчатые, рубцеватые стены каньона казались удивительными естественными зеркалами, и действительно – он отчетливо видел, каким крошечным был, меньше, чем комар в кафедральном соборе. Летая и изучая каждый «палимпсест», он ощутил в себе два сильных импульса, четких и взаимоисключающих друг друга, но при этом полностью распустившихся, – как зеленое и белое. С одной стороны, он хотел остаться странником, летать, ходить и плавать по миру, быть вечным кочевником, непрерывно скитаясь до тех пор, пока не узнает Марс лучше, чем кто-либо другой. О да, это была знакомая эйфория. С другой – она действительно хорошо ему знакома, потому что он занимался этим всю жизнь. Это была бы та же жизнь, как раньше, только без содержания. И он уже знал одиночество такой жизни, потерю корней, чувство отрешенности, словно он смотрит на всех из телескопа, повернутого не той стороной. Придя отовсюду, он пришел из ниоткуда. У него не было дома. Но сейчас он желал иметь его – так же, как свободу, а то и сильнее. Дом. Он хотел зажить полноценной человеческой жизнью, выбрать себе для этого место, полностью его узнать, пережить там все времена года, самому выращивать еду, построить нужные ему здания, стать частью круга друзей.
Он хотел и того, и другого, сильно и одновременно слабо, и колебался между этими желаниями, расстраивающими его чувства, лишающими сна и покоя. Он не находил способа их совместить. Они взаимоисключали друг друга. И никто из тех, с кем он общался, не давал никаких полезных советов, как разрешить эту проблему. Койот сомневался по поводу обретения корней – но ведь он сам был кочевником и не мог ничего об этом знать. Арт считал, что странническая жизнь невозможна, впрочем, он был слишком привязан к своим местам.
Непривычный к политике, Ниргал был обучен создавать мезокосм, но это слабо помогало в его нынешних размышлениях. На больших высотах люди всегда будут жить под куполами, и создание мезокосма всегда будет востребованным – но здесь всё больше от науки, чем от искусства, и с растущим опытом решения проблем этот процесс становился все более обыденным. К тому же он не стремился жить под куполом, когда можно было свободно ходить по земле.
Нет. Он хотел жить под открытым небом. Изучать землю, растения, животных, погоду и все остальное… Он действительно хотел этого – и довольно часто.
Но он начинал чувствовать, что каньон Кандор не подходил для той жизни, о которой он думал. Из-за этих обширных видов его было трудно рассматривать как дом – он казался слишком масштабным, нечеловеческим. Дно каньона пребывало в беспорядке, и каждую весну потоки, несущие талую воду, выступали из своих берегов, прорывали новые каналы, стопорились под огромными завалами. И все это завораживало. Но не было домом. Местные привыкли жить на Сияющей горе, проводя дни внизу, на дне каньона. Гора же была для них настоящим домом. И это – хороший уклад. Но гора – остров посреди неба, точка притяжения для туристов, место отдыха для пилотов, место ночных гуляний и дорогих гостиниц для молодых и влюбленных… и это хорошо, даже прекрасно. Но она была забита людьми и постоянно страдала от наплыва гостей и новых жителей, очарованных величественными видами, а также теми, кто прибывал сюда, как Ниргал, заглядывая в смутные дни своих жизней. Старые жители лишь беспомощно смотрели на это и тосковали по старым денькам, когда мир был новым и свободным от людей.
Нет, не о таком доме он думал. Хотя ему и нравилось, как рассвет заливал рифленые западные стены Кандора всеми оттенками марсианского спектра, а небо то принимало цвет индиго или мальвы, то вспыхивало земной лазурью… Это было красивое место, настолько, что иногда, во время полетов, он думал, что оно стоит того, чтобы остаться здесь, на Сияющей горе, постараться его сохранить, каждый день устремляться вниз, чтобы изучать неровное дно каньона, и возвращаться назад к ужину. Может быть, он все-таки сумеет почувствовать себя здесь как дома? И если ему нужна была дикая природа, может быть, существовали места менее живописные, но более удаленные и как следствие более дикие?
Он летал туда и обратно, снова и снова. А однажды, пролетая над серией прозрачных пенящихся водопадов и речных порогов в ущелье Кандора, он вспомнил, что здесь бывал и Джон Бун, проезжавший на одиночном марсоходе вскоре после того, как было построено Трансмаринерское шоссе. Что бы этот мастер двусмысленности сказал об этом удивительном регионе?
Ниргал вывел на свой экран Полин, искин Буна, и, запросив информацию о Кандоре, нашел запись в голосовом дневнике, сделанную во время поездки по каньону в 2046 году. Глядя на просторы сверху, Ниргал включил ее и прислушался к хриплому голосу с дружелюбным американским акцентом, который непринужденно общался с искином. Слыша его, Ниргалу захотелось общаться с говорившим вживую. Некоторые считали, что Ниргал занял место Джона Буна, поскольку занимался работой, которой в свое время занимался Джон. А если так, то как бы на месте Ниргала поступил Джон? Как бы он стал жить?
– Это самая невероятная местность из всех, что я видел. В нем правда кроется сама суть системы Маринер. В Меласе долина была такая широкая, что с ее середины даже не было видно стен – они были ниже горизонта! Такая кривизна планеты производит просто невообразимые эффекты. Все старые симуляции сильно отличались от истины, вертикальные линии, насколько помню, были увеличены в пять-десять раз, из-за чего казалось, будто стоишь в какой-то узкой щели. Но это не щель. Ух ты, тут такая колонна, похожая на женщину в тоге, думаю, что-то вроде жены Лота. Наверное, это соль – она белая, но вряд ли это много значит. Надо спросить у Энн. Интересно, каково тут было швейцарцам, когда они строили дорогу? Ведь она не очень-то в альпийском духе. Скорее даже, в антиальпийском: идет вниз, а не вверх, красная, а не зеленая, базальтовая, а не гранитная. Но им она вроде бы все равно нравится. Да, они, конечно, антишвейцарские швейцарцы, тогда это имеет логику. Ну и ну, тут сплошные рытвины, марсоход так и скачет. Попробую-ка тот уступ, он вроде более гладкий. Ага, поехали, прямо как по дороге. О, так это и есть дорога. Кажется, я от нее немного отклонился, управляю вручную чисто ради удовольствия, но трудно уследить за ретрансляторами, когда тут и так есть, на что посмотреть. А ретрансляторы сделаны скорее для автопилота, чем для человеческого зрения. О, а вот проход в каньон Офир, вот это щель! Эта стена, не знаю, наверное, тысяч двадцать футов высотой. Господи боже! Если предыдущее называется ущелье Кандор, это, значит, ущелье Офир, правильно? Хотя лучше звучало бы, если бы его называли Вратами Офир. Так, сверимся с картой… Хм-м, выступ на западной стороне ущелья называется Кандор Лабес, это «губы» вроде бы? Или «горло» Кандор. Или, хм-м… не знаю. А вообще, конечно, расщелина тут еще та. Крутые склоны с обеих сторон, двадцать тысяч футов в высоту. Это в шесть-семь раз выше скал в Йосемитском парке. Черт, но они не выглядят настолько уж выше, если честно. Конечно, они уменьшились в перспективе. Не помню точно, как выглядит Йосемит… Да, Кандор самый поразительный каньон, какой только можно представить! Ах, а слева от меня столовая гора Кандор! Я только что впервые увидел, что это не часть стены Кандор Лабес. Готов поспорить, с вершины горы открывается чертовски классный вид. Там точно появится гостиница, куда будут прилетать на планерах. Хотел бы я туда подняться и увидеть сам! Летать там наверняка будет очень здорово. Пускай и опасно. Я вижу там пылевые вихри, маленькие, но яростные, очень плотные и темные. Но сквозь пыль на плато попадает луч света, как кусок сливочного масла, висящий в воздухе. О боже, какая красивая планета!
Ниргал мог с этим лишь согласиться. Он даже засмеялся от счастья, когда голос говорил о том, что здесь будут летать. Это помогло ему лучше понять тон, которым иссеи говорили о Джоне Буне, и боль, которая никогда их не покидала. Насколько лучшим был бы мир, если бы Джон Бун остался в нем не только как голос, сохраненный в искине, как здорово было бы наблюдать, как Джон Бун ведет переговоры, верша историю Марса! И помимо прочего, он спас бы Ниргала от бремени этой роли. Но от него остался лишь этот радостный приятный голос. А Ниргал остался наедине со своей проблемой.
Когда он вернулся на гору, пилоты собрались ночью в пабах и ресторанах, стоявших на высокой южной дуге под самой шатровой стеной, где они помещались на террасах и откуда открывался просторный вид на окружавшие их леса. Ниргал сидел среди этих людей, ел, пил, слушал, немного общался, размышлял о своем и чувствовал уют; окружающих не интересовало, что с ним случилось на Земле, почему сейчас он здесь. И это было хорошо. Он часто забывал о том, что его окружало, уходил в забытье и возвращался обратно, думая, что вновь оказался на жарких улицах Порт-оф-Спейн или в жилом комплексе, где люди скрывались от буйного муссона. Он часто обнаруживал себя там – ведь все, что ни происходило с тех пор, в сравнении с теми событиями казалось таким неярким!
Но однажды ночью он вырвался из грез, когда услышал, как кто-то произнес имя Хироко.
– Что? – спросил он.
– Хироко. Мы видели ее, когда пролетали Элизий, на северном склоне.
Говорила молодая девушка, по невинному лицу которой было видно, что она не знает, с кем говорит.
– Ты сама ее видела? – резко спросил он.
– Да. Она вовсе не пряталась. Она сказала, что ей нравится мой планер.
– Ну, не знаю, – вмешался старик. Ветеран Марса, иссей, прибывший в ранние годы, с лицом, потрепанным ветром и космическими лучами до такой степени, что оно напоминало дубленую кожу. Грубым голосом он продолжил: – Я слышал, она ушла в хаос, где была первая тайная колония, и строит новые гавани в южной бухте.
Затем вступили другие голоса: Хироко видели здесь, видели там, она умерла, улетела на Землю, на Земле встречалась с Ниргалом…
– Да Ниргал сам здесь! – сказал кто-то в ответ на последний комментарий, показывая на него и усмехаясь: – Уж это он сможет подтвердить или опровергнуть.
Ниргал, застигнутый врасплох, кивнул.
– На Земле я ее не видел, – сказал он. – Это просто слухи.
– Здесь, значит, тоже не видел.
Ниргал пожал плечами.
Девушка, узнав Ниргала, покрылась румянцем, но настояла на том, что лично встречалась с Хироко. Ниргал внимательно на нее посмотрел. Она отличалась от других: никто еще не заявлял ему этого прямо (не считая того случая в Швейцарии). Было видно, что она обеспокоена и пытается защититься, но она твердо стояла на своем.
– Говорю же, я с ней разговаривала!
Зачем бы ей лгать об этом? Или кто мог ее таким образом обмануть? Тот, кто выдает себя за другого? Но с какой целью?
Вопреки его воле пульс Ниргала подскочил, он ощутил, как по телу разливается тепло. Ведь действительно существовала вероятность, что Хироко могла заниматься чем-то подобным: скрываться и в то же время показаться на виду, спокойно себе жить, не беспокоясь о встрече с родными, которых бросила. У нее не было очевидных мотивов так поступать, это выглядело странно, не по-человечески – и совершенно соответствовало ее возможностям. Его мать была немного сумасшедшей – он понял это много лет назад. Притягательной, легко ведущей за собой людей, но в то же время безумной. Способной практически на все.
Если была жива.
Он не хотел снова будить в себе эту надежду. Не хотел бросаться в погоню, лишь услышав ее имя. Но смотрел в лицо девушки так, словно читал на нем истину, словно видел отражение Хироко, до сих пор сохранившееся в ее зрачках! Другие задавали ей вопросы, которые он задал бы и сам, так что он просто сидел и слушал, а она, не чувствуя себя слишком неловко, рассказала всю историю. Вместе с друзьями она кружила по часовой стрелке над Элизием, и, когда они остановились на ночь на новом полуострове, образованном горами Флегра, они спустились к ледяному берегу Северного моря, где заметили новое поселение, и там среди строителей и оказалась Хироко и ее старые товарищи – Джин, Риа, Ивао и остальные из первой сотни, кто ушел вместе с ней в тайную колонию. Группа пилотов была этим поражена, но колонистов их изумление слегка смутило. «Сейчас уже никто не прячется, – сказала ей Хироко после того, как сделала комплимент ее планеру. – Бо́льшую часть времени мы провели вблизи Бревиа, но теперь уже несколько месяцев живем здесь».
Вот и все. Девушка казалась совершенно искренней, не давая повода допустить мысль, что она лжет или что ей это привиделось.
Ниргал не хотел об этом думать. Но ему все равно нужно было задуматься о том, чтобы покинуть Сияющую гору и посмотреть на другие места. И он мог это сделать. И собирался, по крайней мере, взглянуть на это. Шигата га най!
На следующий день содержание беседы казалось ему гораздо менее убедительным. Ниргал не знал, что и думать. Он позвонил Саксу по видеосвязи и рассказал ему об услышанном.
– Это возможно, Сакс? Возможно?
На лице Сакса отразилось странное выражение.
– Возможно, – заключил он. – Да, конечно. Я же говорил тебе, когда ты был болен и лежал без сознания, что она… – он подбирал слова, в своей манере, и с сосредоточенным видом прищурился, – что я сам ее видел. Когда я попал в бурю. Она провела меня к моему марсоходу.
Ниргал уставился на его мерцающее изображение.
– Я этого не помню.
– Ну, я и не удивлен.
– Так ты… ты думаешь, она сбежала из Сабиси?
– Да.
– Но как она, вероятнее всего, могла это сделать?
– Я не знаю, как вероятнее всего. Об этом трудно судить.
– Но могли ли они сбежать?
– Мохол Сабиси – это целый лабиринт.
– Значит, думаешь, они сбежали?
Сакс поколебался.
– Я видел ее. Она… она схватила меня за руку. Я хорошо помню, – вдруг его лицо перекосилось. – Да, она там! Она где-то там! Я в этом не сомневаюсь! Не сомневаюсь! Она явно ждет, что мы к ней придем.
И Ниргал понял, что должен туда съездить.
Он покинул Кандор, ни с кем не попрощавшись. Его знакомые должны были понять, да они и сами часто улетали на время. Они все когда-нибудь возвращались, чтобы парить над каньонами, а потом вместе проводить вечера на Сияющей горе. Теперь улетел и он. Спустился по необъятному Меласу, свернул на восток в Копрат. Часами парил над этой местностью, над ледником 61-го, одолевал залив за заливом и уступ за уступом, пока не прошел через Врата Довера и не оказался над расширяющимися просторами каньонов Капри и Ио. А затем – над заполненными льдом хаосами, где потрескавшийся лед был более гладким, чем земля, что осталась под ним. Далее он пересек беспорядочную Жемчужную землю и полетел на север, вдоль железной дороги, ведущей в Берроуз, а перед станцией Ливия отклонился на северо-восток – в сторону Элизия.
Его массив теперь превратился в отдельный материк в северном море. От большой земли на юге его отделял узкий пролив, имевший вид ровной полосы черной воды с белыми плоскими льдинами и прерываемый островками, прежде бывшими пиками Эоловой горы. Гидрологи Северного моря хотели сделать этот пролив жидким, чтобы течение проходило через него из залива Исиды в залив Амазония. Для этого они построили ядерный комплекс в западном конце пролива и вкачивали бо́льшую часть вырабатываемой энергии в воду, создавая искусственную полынью, где ее поверхность круглый год оставалась в жидком состоянии, а на обоих берегах сохранялся умеренный мезоклимат. Паровой шлейф от реактора был виден Ниргалу с Большого Уступа, пока он долго опускался вдоль склона поверх густеющих лесов, где прорастали пихты и гинкго. Поперек западного входа в пролив был натянут провод, закрепленный так, чтобы ставить препятствия льдинам, проплывающим по течению. Ниргал летел прямо над скоплением айсбергов к западу от провода, и ледяные осколки казались ему плавучим стеклом. Затем проследовал над черной, свободной от льда водой – это был самый большой жидкий участок, какой ему приходилось видеть на Марсе. Он пролетел над водой целых двадцать километров, во весь голос восторгаясь представшим ему видом. Затем впереди возник огромный невесомый мост, дугой перекинувшийся через пролив. Черно-фиолетовая полоса воды под ним была усеяна парусниками, паромами и баржами, каждая из которых оставляла за собой длинные следы в форме буквы «V». Подлетев к ним, Ниргал дважды обогнул мост, чтобы насладиться зрелищем, не похожим ни на что из виданного им на Марсе прежде – всем этим морем, представлявшим целый мир будущего.
Он продолжил путь на север, над равнинами Цербера, мимо вулканического купола Альбор, чей резкий пепловый конус выступал на краю Элизийского горного массива. Гораздо более высокие горы массива так же выделялись, напоминая Фудзияму, и их изображение использовалось многими сельскохозяйственными кооперативами региона. Территория соседней с вулканом равнины использовалась для земледелия. Здесь располагались фермы с неровными границами, зачатую ступенчатые и как правило разделенные полосами и клочками леса. На верхних участках равнины росли молодые незрелые фруктовые деревья, и каждое стояло в горшке. А ближе к морю простирались рисовые и пшеничные поля, разделенные ветроломными полосами из оливковых деревьев и эвкалиптов. И все это лишь в десяти градусах к северу от экватора, где были дождливые умеренные зимы и знойные и солнечные долгие летние дни. Этот край даже прозвали Марсианским Средиземноморьем.
Ниргал продолжил путь на север, следуя вдоль западного побережья, что просматривалось в линии осевших на мель айсбергов, украсивших собой край ледяного моря. Глядя на простиравшиеся внизу просторы, он не мог не согласиться с известной мудростью: Элизий был прекрасен. На западном побережье, как он слышал, проживало больше людей. Оно было изломанным, с множеством борозд, и в местах, где они переходили в лед, были построены квадратные гавани – Сур, Сайда, Пирифлегетон, Герцка, Моррис. Лед нередко преграждали каменные волнорезы, перед которыми стояли ряды небольших лодок, ждавших открытия канала.
В Герцке Ниргал повернул на восток и начал двигаться вглубь острова. Он летел в гору вдоль пологого склона массива Элизий, минуя полосы садов, которые опоясывали остров. Здесь и располагалось большинство жителей Элизия, в этих активно культивируемых сельскохозяйственных зонах, тянущихся вверх по склону к возвышенности между горой Элизий и его северным пиком – куполом Гекаты. Ниргал, словно облачко на ветру, пролетел между огромным вулканом и его младшим братом, миновав служившие им седловиной голые скалы.
Восточный склон Элизия оказался совершенно не таким, как западный: грубые голые скалы, обильно занесенные песком, сохранившие свое первобытное состояние благодаря тому, что попадали в область дождевой тени, создаваемой самим массивом. Лишь у восточного берега Ниргал снова заметил зелень, несомненно, ухоженную пассатами и зимними туманами. Города на восточной стороне напоминали оазисы, выросшие вдоль железнодорожной линии, что окольцовывала остров.
На северо-восточном краю острова в лед далеко вдавались старые неровные предгорья Флегры, образуя там тонкий полуостров. И где-то в том районе девушка и видела Хироко. Подлетев к западной стороне Флегры, Ниргал понял, что это место – такое дикое и марсианское – было очень подходящим для нее. Как и многие другие горные гряды на Марсе, Флегра представляла собой лишь остаток дуги края древнего ударного кратера. Все остальные следы того кратера исчезли давным-давно, но Флегра по-прежнему свидетельствовала о том мгновении непостижимого буйства – падения астероида диаметром в сто километров, при котором одни куски литосферы плавились и смещались, а другие взлетали в воздух и обрушивались концентрическими кругами вокруг точки удара, и горные породы мгновенно превращались в минералы, более твердые, чем были прежде. После этих повреждений ветер иссек место событий, оставив лишь эту суровую гряду.
Конечно, поселения были и здесь, как в любом другом районе, в провалах, тупиковых долинах и выходящих к морю проходах. Изолированные фермы, деревни – и таких тут десять, двадцать, сто. Это напоминало Исландию. Всегда находились люди, любившие такие труднодоступные земли. Одна деревня располагалась на плоском выступе в сотне метров над морем и называлась Нуаннаарпок, что переводилось с языка инуитов как «получать удовольствие от того, что жив». Местные могли летать по Элизию на аэростатах или, спустившись к круговой элизийской железной дороге, ездить на поезде. Для жителей этой части острова ближайшим городом был симпатичный порт Файруотер, расположенный на западной стороне Флегры, где начинался полуостров. Городок стоял на выступе в квадратной формы бухте, и, заметив его, Ниргал посадил планер на крошечную полосу в верхней его части, после чего заселился в общежитие на главной площади, неподалеку от доков в затянутой льдом гавани.
За следующие несколько дней он облетел побережье в обоих направлениях, побывав поочередно на каждой ферме. Познакомился со многими интересными людьми, но среди них не оказалось ни Хироко, ни кого-либо из зиготской группы, ни даже из их знакомых. Это выглядело даже слегка подозрительным: в регионе проживало порядочно иссеев, и при этом каждый отрицал, что видел Хироко или кого-нибудь из ее группы. Тем не менее они обрабатывали землю весьма успешно, несмотря на то что эти дикие горы на вид казались малоподходящими для этой цели. Они создали восхитительные по своей производительности оазисы и жили как верующие в viriditas, – но нет, они никогда ее не видели. Даже едва знали, кто она такая. Один чудаковатый старик, американец, рассмеялся ему в лицо:
– Ишь удумал, что у нас тута есть гуру? Что мы ща приведем тя к своему гуру?
За три недели Ниргал не обнаружил ни единого следа Хироко. Ему пришлось отказаться от поисков во Флегре. Иного выбора не было.
Беспрестанное странствование. Бессмысленно искать одного-единственного человека по бескрайним просторам планеты. Это неосуществимое предприятие. Хотя в некоторых деревнях что-то слышали, а кое-где – вроде бы и видели. И каждый раз – новые слухи, иногда – рассказы о непосредственной встрече. Она была всюду и нигде. Много описаний и ни одного фото, много историй и ни одного сообщения на консоль. Сакс был уверен, что она где-то там, Койот имел сомнения. Но это и неважно: если она там, то она скрывается. Или ведет их по ложному следу. Когда он об этом думал, то впадал в гнев. Нет, он не будет ее искать.
Но он не мог остановиться в одном месте. Если он задерживался где-то дольше, чем на неделю, то начинал нервничать и раздражаться так, как никогда прежде в своей жизни. Это было похоже на болезнь, вызывавшую напряжение в мышцах и стягивавшую желудок, у него поднималась температура, рассеивалось внимание, возникало непреодолимое желание летать. И он улетал – из деревни в город, потом на станцию, далее – в караван-сарай. В иные дни он просто позволял ветру нести его, куда тому заблагорассудится. Изменения в структуре правительства… какое значение они могли оказать на его жизнь? Марсианские ветры потрясали его – буйные, непостоянные, громкие, непрестанные, словно игривые живые создания.
Иногда ветер носил его над Северным морем, и он летал целыми днями, не видя ничего, кроме льда и воды, будто Марс был весь покрыт океаном. Это была Великая Северная равнина – бескрайний север, теперь затянувшийся льдом. Местами этот лед был ровным, местами изломанным, иногда белым, иногда бесцветным, красным от пыли, черным от снежных водорослей, нефритовым от ледяных водорослей или же голубоватым – цветом чистого льда. Кое-где сильные пылевые бури останавливались и выбрасывали свой груз, после чего ветер соорудил из наносов небольшие дюны, точь-в-точь какие были на старой равнине. В других местах лед, унесенный течением, натыкался на рифы из ободов кратеров, создавая круглые гребни выдавливания. В третьих же льдины, движимые разными течениями, сталкивались и образовывали прямые гребни, напоминавшие драконьи спины.
Участки открытой воды были либо черными, либо различных фиолетовых оттенков, отражавшихся от неба. И их было много – полыньи, прожилки, трещины, отдушины, – они уже занимали, наверное, около трети всей площади. Но еще больше было оттаявших озер, образовавшихся в поверхности льда. Их вода была то белой, то окрашивалась под стать небу, временами становясь ярко-фиолетовой или принимая два отдельных цвета. Да, это был очередной вариант зеленого и белого, мира в складках, двух в одном. И это двуцветное зрелище, как всегда, показалось ему тревожным, завораживающим. Таинством мира.
Многие из крупных буровых платформ равнины были захвачены и взорваны Красными, и теперь на белом льду валялись почерневшие обломки. Другие платформы находились под защитой Зеленых и использовались для растопки льда; теперь к востоку от этих платформ тянулись обширные полыньи, и от участков открытой воды поднимался пар, словно облака, струившиеся из подводного неба.
Вперед, сквозь облака, сквозь ветер. Южный берег Северного моря представлял собой непрерывный ряд заливов и мысов, бухт и полуостровов, фьордов и кос, морских утесов и групп низких островков. Ниргал пролетал над ними день за днем, останавливаясь по вечерам в новых прибрежных поселениях. Он видел кратерные острова, которые внутри были ниже уровнем, чем окружающие их лед и вода. А еще – места, где лед словно бы отступил и проявились черные полосы, состоящие из параллельных линий, тянущихся к рваным наносам камней и льда. Затопит ли их снова или они будут расширяться дальше? Никто из обитателей прибрежных городов этого не знал. Поселения основывались здесь, чтобы потом переместиться на новое место. Было видно, что кто-то уже проверял открывшуюся землю на плодородность, и в окаймлении белого льда тянулись ряды зеленых растений.
К северу от Утопии он миновал низкий полуостров, тянувшийся от Большого Уступа аж до северного полярного острова, единственного куска суши в океане, охватившем всю планету. Крупное поселение в этой низине, Перешеек Буна, был частично накрыт куполом и частично – располагался под открытым небом. Местные жители работали над созданием канала, проходящего поперек полуострова.
Ниргал следовал за дующим на север ветром. Тот шумел, завывал, голосил, в иные дни и вовсе ревел. Как живой, будто участвуя в битве. По обе стороны продолговатого низкого полуострова тянулись белые поверхности шельфовых ледников, сквозь которые прорывались высокие зеленые горы. Здесь никто не жил, но Ниргал никого и не искал – он бросил поиски, едва не впав в отчаяние, и теперь просто летал, отдавшись воле ветра, как семянка одуванчика. И он летел над изломанной белизной ледяного моря, над фиолетовыми участками открытой воды, разлинованными подсвеченными солнцем волнами. Затем полуостров раздался вширь, превратившись в полярный остров, белый бугристый клочок земли в море льда. И ни единого следа первичной спиралевидной структуры растаявших долин. Тот мир остался в прошлом.
Над другой стороной мира и Северного моря, над островом Оркас на восточном склоне Элизия, затем снова над Киммерией. Парил, как семянка. Некоторые дни проходили в черно-белых тонах – тянущиеся к солнцу айсберги на море, тундровые лебеди на черных скалах, черные кайры над льдом, белые гуси. И ничего больше на протяжении целых дней.
Беспрестанное странствование. Он облетел северную оконечность планеты два или три раза, глядя на землю и на лед, на все изменения, что происходили повсюду, на мелкие поселения, ютящиеся под своими куполами или смело встречающие холодные ветры. Но все виды мира не могли прогнать его печаль.
А однажды, прибыв в новый портовый город на входе в длинный узкий фьорд Маурт Валлис, он обнаружил там своих зиготских друзей детства Рейчел и Тиу, которые, как оказалось, переехали туда. Ниргал обнял их. Он с явным удовольствием смотрел в их знакомые лица. Хироко пропала, но его братья и сестры остались, и это было уже что-то, это доказывало реальность его детства. Несмотря на множество минувших лет, они выглядели точь-в-точь, как тогда, когда были детьми: особой разницы не проступало. Ниргал и Рейчел были друзьями, а в какой-то период она была в него влюблена, и они даже целовались в ванной, – он с трепетом вспомнил момент, когда она целовала его в одно ухо, а Джеки – во второе. И, хотя он уже почти забыл об этом, именно с Рейчел он лишился девственности, однажды днем после ванной, как раз перед тем, как Джеки позвала его на дюны у озера. Да, однажды днем, почти случайно, когда их поцелуи вдруг стали настойчивыми и пытливыми и их тела задвигались по собственной воле.
Сейчас она нежно на него посмотрела, женщина его возраста, чье лицо, с веселым и задорным выражением, походило на карту морщинок от смеха. Может быть, она помнила их ранние отношения так же плохо, как он, – неизвестно, что его братья и сестры помнили из их общего странного детства. Хотя, судя по виду Рейчел, казалось, она помнила многое. Она всегда была дружелюбной – равно как и сейчас. Он рассказал ей, как облетел мир, как его несли неутихающие ветры, как он медленно пикировал, сопротивляясь подъемной силе аэростата, то в одно поселение, то в другое, и везде спрашивал о Хироко.
Рейчел покачала головой и иронично улыбнулась.
– Если она там, то она там. Но ты можешь искать вечно и никогда ее не найти.
Ниргал тревожно вздохнул, и она, снова улыбнувшись, взъерошила ему волосы.
– Не ищи ее.
В тот вечер он бродил вдоль берега, чуть выше разоренной, заваленной глыбами льда береговой линии северного моря. Он чувствовал, что его тело хотело, чтобы он ходил, чтобы он бегал. Летать было слишком легко, полеты разобщали его с миром – все становилось мелким и далеким. Это, опять же, напоминало повернутый не той стороной телескоп. Ему нужно ходить!
Но он все равно улетел. И теперь еще внимательнее стал разглядывать землю. Пустоши, болота, приречные луга. Один ручей, впадающий прямо в море, обрушивался с небольшого уступа, другой – бежал поперек пляжа. Соленые ручьи в пресный океан. Кое-где люди высаживали леса, стараясь смягчить этим пылевые бури, берущие начало как раз в этой области. Только бури все равно рождались, пусть в лесах и прорастали молодые деревья. Хироко бы тут что-нибудь придумала. Не ищи ее. Смотри на землю.
Он прилетел в Сабиси. Здесь по-прежнему было много работы – очистить обгоревшие здания и построить новые. Некоторые строительные кооперативы принимали новых членов. Один из них занимался реконструкцией, но также производил аэростаты и другие летательные аппараты, включая экспериментальные «птичьи костюмы». Ниргал прошел там собеседование.
Оставив свой планер в кооперативе, он стал устраивать длительные пробежки к верховым болотам к востоку от Сабиси. По этим возвышенностям он бегал еще в студенческие годы. И многие хребты были еще знакомы, но за ними открывалась новая земля. Нагорье жило своей болотной жизнью. Крупные валуны ками, словно часовые, стояли то тут, то там на бугристой земле.
Однажды, совершая пробежку по незнакомому хребту, он заглянул в небольшой горный бассейн, имевший вид неглубокой чаши с выходом к низине с западной стороны. Он походил на ледниковый амфитеатр, хотя на самом деле, скорее всего, был выветренным кратером с проломом в ободе и потому представлявшим собой гряду в форме подковы. Поперек он тянулся примерно на километр и по глубине был довольно мелким. Не более чем складка среди многих ей подобных в Тирренском массиве. Горизонт лежал далеко от опоясывающего хребта, а местность, простирающаяся к ним, была глыбистой и неровной.
Это казалось знакомым. Возможно, он ходил в эти места с ночевкой в студенческие годы. Он медленно спустился в бассейн, но все равно чувствовал, будто стоит на вершине массива. Что-то было в темно-синем ясном небе и в далеко простирающемся виде на ущелье с западной стороны. Облака проплывали над головой, как огромные плавные айсберги, и сбрасывали сухой зернистый снег, но крепкие ветры тут же задували его в трещины или выносили из бассейна наружу. На самом хребте, с северо-западной стороны подковы, находился валун, напоминающий каменную хижину. Он стоял там на четырех опорах, как дольмен, обветренный настолько, что стал гладким, как старый зуб. Небо над ним окрасилось в цвет ляпис-лазури.
Вернувшись в Сабиси, Ниргал побольше разузнал об этом месте. Судя по картам и записям в Аэрографическом и экопоэтическом совете Тирренского массива, бассейн был заброшен. Но в совете радушно восприняли его интерес.
– С горными бассейнами непросто, – объяснили ему. – Там мало что растет. Такие проекты затягиваются на годы.
– Хорошо.
– И бо́льшую часть еды приходится выращивать в теплицах. Хотя там можно выращивать картошку – когда получится создать подходящую почву, конечно…
Ниргал кивнул.
Его попросили заглянуть в деревню Дингбош, ближайшую от бассейна, и удостовериться, что там никто не имеет на этот бассейн планов.
И он отправился туда небольшим караваном с Тарики, Рейчел, Тиу и еще несколькими друзьями, вызвавшимися помочь. Подъехав к невысокому гребню, они и нашли Дингбош, расположившийся в мелком русле, где теперь находились поля малоплодородной картошки. Недавно прошла снежная буря, и поля целиком превратились в белые прямоугольники, разделенные низкими черными каменными стенами. Посреди полей стояло несколько продолговатых и таких же низких домиков с крышами из плоских камней и толстыми квадратными дымоходами. Чуть побольше их скучковалось на верхней окраине деревни. Самое длинное здание в этом районе – двухэтажный чайный домик с просторной комнатой, которая для удобства посетителей была застелена матрацами.
В Дингбоше, как и в большинстве поселений в южных горах, по-прежнему преобладала экономика дарения, и, когда Ниргал с друзьями остался там на ночь, им пришлось принять кучу подарков. Местные были довольны тем, что он расспрашивал о бассейне, который они называли то маленькой подковой, то верхней рукой.
– О нем нужно позаботиться, – сказали они и предложили ему помочь начать.
И они небольшим караваном отправились к горному амфитеатру. Там сбросили снаряжение на гребне возле дома-валуна и расчистили первое небольшое поле от камней, выложив ими стены участка. Двое из местных, кто имел опыт в строительстве, помогли ему сделать на валуне первый надрез. В процессе шумного бурения некоторые из жителей Дингбоша вырезали на поверхности скалы надпись на санскрите: «Ом мани падме хум», какая прежде встречалась на многочисленных камнях мани в Гималаях, а теперь и повсюду в южных горах. Местные откололи фрагменты породы между жирными наклонными буквами, так что буквы резко выделились на грубом, более светлом фоне. Что же до самого каменного домика, у него в итоге должны были появиться четыре комнаты, высеченные из валуна, двухкамерные стеклопакеты, солнечные батареи для обогрева и энергоснабжения, растопленная из снега вода, закачанная в резервуар, расположенный выше на гребне, и туалет с ванной.
А потом они ушли, полностью предоставив бассейн Ниргалу.
Несколько дней он просто ходил по нему, все осматривая. Лишь крошечная часть бассейна должна была превратиться в его ферму – лишь несколько небольших полей, окруженных низкими каменными стенами, и теплица для выращивания овощей. И надомное производство – только он пока не знал чего. Едва ли оно будет самоокупаемым, но поможет обжиться. Начать проект.
А все остальное – территория самого бассейна. Сквозь расщелину на западе, где предполагалось устроить водораздел, теперь проходил небольшой канал. На вогнутой стороне скалы, обращенной к солнцу и укрытой от ветров, уже существовал свой микроклимат. Ниргалу предстояло стать экопоэтом.
Прежде всего ему надлежало изучить землю. При том, что его проект удивительным образом заполнял каждый его день, требуя переделать множество дел, у него не было ни схемы, ни расписания, ни сроков. Ему не с кем было советоваться, и каждый день в последние часы летнего солнца он ходил вдоль гребня и осматривал бассейн в слабеющем свете. Бассейн уже был колонизирован лишайником и другими первопоселенцами; впадины заполняли каменистые пустыни, а на солнечных участках были мелкие мозаики арктического грунта, где на красной почве, менее сантиметра толщиной, росли холмики зеленого мха. Талая вода струилась многочисленными ручейками по потенциальным террасам, мелким диатомовым оазисам, опадая на дно бассейна, чтобы встретить гравий вади, служащий выходом на более низкий участок – ровную поверхность будущего луга за остаточным ободом кратера. Ребра, располагавшиеся выше по бассейну, служили естественными дамбами, и, немного подумав, Ниргал засыпал их галькой и плотно выложил ее таким образом, чтобы высота ребер увеличилась на один-два камня. Теперь талая вода собиралась в луговых прудах, ограниченных мхом. То, что он задумал, было осуществлено в болотах к востоку от Сабиси, и он звонил жившим там экопоэтам, расспрашивая их о совместимости видов, скорости роста, почвоулучшителях и прочем. В его сознании постепенно рождалось видение того, каким должен быть бассейн, а когда во втором марте наступила осень, год тогда стремился к афелию, он стал понимать, как сильно вечер и зима влияли на ландшафт. И ему оставалось лишь ждать.
Семена и споры он сеял вручную, доставая их из сумок или сосудов, чувствуя себя образом с полотна Ван Гога или из Ветхого Завета – это было странное ощущение власти и беспомощности, действия и подчинения судьбе. Он договорился, чтобы ему привезли большое количество растительного грунта и высыпали на некоторые из его полей, а затем сам распределил его тонким слоем. Добавил червей из университетской фермы в Сабиси. «Черви в бутылке», Койот теперь именно так называл жителей городов. Наблюдая за извивающейся массой влажных скользких тел, Ниргал содрогнулся, а потом выпустил их на новые участки. Иди, червячок, живи себе в земле. Он и сам, когда ходил по утрам после душа, когда светило солнце, чувствовал себя не более чем влажных скользким телом. Разумные черви, вот кем все они были.
За червями должны были последовать кроты и полевки. Далее зайцы-беляки, горностаи, сурки, а там уже, может быть, сюда заглянули бы и снежные барсы, которые бродили по болотам. И лисы. Условия среды были примерно такие, как в Гималаях. Вероятно, любые представители высокогорной флоры и фауны, обитающие на Земле, выжили бы и здесь, равно как и новые, искусственно созданные виды. А учитывая, как много экопоэтов возделывали мелкие участки земли на высоте, то их основная работа сводилась к предварительной подготовке территории, внедрению базовых экосистем, их поддержании и наблюдению за тем, что приносил ветер или что само захаживало или залетало на участки. Эти притоки могли привести к явным проблемам, поэтому он много общался по видеосвязи на тему биологии вторжения и необходимости внедрения управления микроклиматом. Таким образом, важная часть процесса экопоэзиса заключалась в том, чтобы выявить связи определенной местности с более крупными регионами.
Еще сильнее Ниргал заинтересовался вопросами рассеивания следующей весной, в первом ноябре, когда снег растаял и из жидкой грязи на ровных террасах северной стороны бассейна появлялись побеги снежной гейхеры. Он ее не высаживал и даже никогда не слышал, да и не был уверен, что правильно определил ее вид, пока к нему однажды не заехал сосед Йоши, который подтвердил: Heuchera nivalis. Ее принесло ветром, как объяснил Йоши. Она была распространена в кратере Эскалант на севере. Это было не так уж далеко, вот они и прилетели.
Распространение по воздуху, по земле, по воде – на Марсе все это происходило повсеместно. Мхи и бактерии распространялись по земле; гидрофильные растения – по воде, на ледниках, вдоль новых береговых линий; лишайники и многочисленные другие растения разлетались по воздуху, гонимые сильными ветрами. Расселение людей, как заметил однажды Йоши, когда они бродили по бассейну, обсуждая эти процессы, происходило всеми тремя способами: по Европе, Азии и Африке они распространились землей, в Америку и Австралию попали водой, по воздуху добрались на острова Тихого океана (и на Марс). То, что приспособляемые виды применяли все три способа, не было редкостью. А Тирренский массив был выше ветров, но сюда доходили западные ветры и летние пассаты, в результате чего на обоих его склонах выпадали осадки – не более двадцати сантиметров в год, что на Земле сделало бы его пустыней, но здесь, в южном полушарии Марса он считался островом с высоким уровнем осадков. В этом отношении он служил также местом сбора различных организмов, что распространялись по планете.
Итак, высокогорная каменистая местность, занесенная снегом в каждом овраге, оттого все тени здесь казались белыми. Признаки жизни были заметны лишь в бассейнах, где экопоэты помогали своим маленьким собраниям видов. Облака приходили зимой с запада, летом с востока. В южном полушарии сезонные изменения усиливались циклом перигелия-афелия и поэтому были в самом деле ощутимы. Зимы на Тиррене отличались особой суровостью.
Ниргал ходил по бассейну после бури и изучал, что туда принесло стихией. Как правило, это была лишь куча ледяной пыли, но однажды он обнаружил незасеянный бледный пучок синюхи, застрявший в трещине скалы, формой напоминающей буханку хлеба. Затем он выяснил у ботаников, как этот цветок будет взаимодействовать с остальными, что уже росли в бассейне. Десять процентов внедренных в среду видов выживало, из них десять процентов становились вредителями, и это, как объяснил Йоши, в инвазивной биологии называлось правилом «десяти из десяти» и считалось чуть ли не важнейшим правилом в своей дисциплине. «Хотя на самом деле, конечно, не ровно десять, а от пяти до двадцати». А в другой раз Ниргал выкорчевал несколько сорняков, испугавшись, что тот может разрастись повсюду. Потом повторил то же с тундровым чертополохом. Был еще случай, когда осенний ветер поднял мощную пылевую бурю. Эти бури хоть и уступали тем, что раньше возникали южной осенью и охватывали всю планету, но изредка бывало, что сильный ветер разрывал грунт где-нибудь в пустыне и поднимал в воздух слой пыли. Вот уже несколько лет атмосфера утолщалась довольно быстро – в среднем на пятнадцать миллибар в год. Ветер с каждым годом набирал силу, и поэтому все бо́льший слой грунта рисковал быть вырванным и унесенным прочь. Пыль тем не менее оседала обычно очень тонким слоем и зачастую имела высокое содержание нитратов, благодаря чему служила как удобрение и смывалась в землю с первым дождем.
Ниргал купил долю в строительном кооперативе в Сабиси, к которому до этого присматривался, и стал часто выезжать на работу на стройках города. А у себя в бассейне он собирал и тестировал одиночные планеры-аэростаты. Его рабочая мастерская представляла собой небольшое здание с каменными стенами и кровлей из песчаника. И так он проводил время за этой работой, за фермерством в теплицах и на картофельных участках, а также за занятиями экопоэзисом в бассейне.
Он летал в Сабиси на готовых планерах и жил там в небольшой студии в восстановленном доме своего старого учителя Тарики, среди древних иссеев, которые манерой разговора напоминали ему Хироко. Арт и Надя тоже там жили, воспитывая свою дочь Никки. Также в городе были Виджика, Реул, Аннетт, все его друзья времен студенчества – и сам университет, пусть он теперь назывался не университетом Марса, а просто колледжем Сабиси. Это небольшое учебное заведение сохраняло беспорядочный стиль времен «полусвета», из-за чего наиболее амбициозные студенты уехали на Элизий, в Шеффилд или в Каир. Те же, кто остался в Сабиси, либо были заворожены таинством «полусвета», либо интересовались работой кого-нибудь из профессоров-иссеев.
Все эти люди и их деятельность вызывали у Ниргала странные и даже неловкие ощущения. Он много работал штукатуром и разнорабочим на различных стройках, которые его кооператив вел по всему городу. Ел он в рисовых барах и пабах. Спал на чердаке гаража Тарики, с нетерпением ожидая возвращения в свой бассейн.
Однажды поздно ночью он возвращался из паба, засыпая на ходу, и наткнулся на маленького человечка, спящего на парковой скамье. Это был Койот.
Ниргал резко остановился. Затем подошел к скамье. Долго смотрел на него. Иногда по ночам в бассейне он слышал, как выли койоты… Это его отец. Он вспомнил все те дни, когда выискивал Хироко, не имея ни малейшей зацепки. А его отец вот он – спит на скамье в городском парке. Ниргал мог в любой момент позвонить ему и увидеть эту яркую, живую ухмылку, олицетворяющую сам Тринидад. На глаза у него навернулись слезы, он тряхнул головой и постарался успокоиться. Старик, развалившийся на скамье. Такое зрелище встречалось не так уж редко. Многие иссеи, когда оказывались в городе, спали в парках.
Ниргал подошел и сел на край скамьи, возле самой головы отца. Седые потрепанные дреды. Вид пьяницы. Ниргал просто сидел с ним, глядя на липы, что росли рядом. Ночь была тихой. Сквозь листья проглядывали звезды.
Койот пошевелился и, вывернув голову, посмотрел вверх.
– Кто тут?
– Привет, – поздоровался Ниргал.
– Привет! – сказал Койот и сел, потер глаза. – Ниргал, дружище. Испугал ты меня.
– Прости. Я шел мимо и увидел тебя. Что ты тут делаешь?
– Сплю.
– Ха-ха.
– Ну, по крайней мере, спал. Насколько я знаю, больше я ничего и не делал.
– Койот, разве у тебя нет дома?
– Да нет вроде.
– И тебя это не смущает?
– Нет, – Койот усмехнулся. – Я как та дурацкая телепередача. Весь мир – мой дом.
Ниргал лишь покачал головой. Койот, увидев, что он не оценил шутки, сощурился. Он долго смотрел на Ниргала из-под приспущенных век, глубоко дыша.
– Мальчик мой, – наконец, сонно произнес он. Весь мир, казалось, затих. Койот бормотал, словно засыпая: – Что делает герой, когда история заканчивается? Заплывает в водопад. Уносится на волне.
– Что?
Койот широко открыл глаза, повернувшись к Ниргалу.
– Помнишь, когда мы принесли Сакса на купол Фарсиды и ты сидел с ним, то, что они сказали после того, как ты вернул его к жизни? Вот о чем я… Ты подумай над этим. – Он тряхнул головой и откинулся на скамейку. – Это неправильно. Это просто история. Чего тревожиться из-за истории, если она все равно не твоя? То, чем ты занимаешься сейчас, – лучше. Ты можешь уйти из такой истории. И сидеть в парке, как обычный человек. Идти куда тебе вздумается.
Ниргал неопределенно кивнул.
– Чего я хочу, – сонно продолжил Койот, – так это ходить в летние кафе, пить каву и наблюдать за лицами людей. Ходить по улицам и заглядывать в лица. Мне нравится смотреть на женские лица. Они прекрасны. И некоторые такие… такие особенные. Не знаю. Мне они нравятся. – Он снова засыпал. – Ты сам поймешь, как тебе жить.
Среди тех, кто время от времени заглядывал к нему в бассейн, были Сакс, Койот, Арт с Надей и Никки, которая становилась все выше с каждым годом и уже обогнала Надю, которую воспринимала скорее как няню или прапрабабушку – прямо как сам Ниргал, когда рос в Зиготе. Никки унаследовала от Арта чувство юмора, и тот сам поощрял ее, сговариваясь с ней против Нади, смотря на нее самым лучезарным взглядом, какой Ниргалу только доводилось видеть у взрослого. Однажды Ниргал наблюдал, как они втроем сидели на каменной стене рядом с его картофельным участком, безудержно смеясь над какой-то шуткой Арта, и сам ощутил такой резкий прилив радости, будто смеялся вместе с ними. Его старые друзья теперь были семьей, и у них рос ребенок. Их жизнь теперь протекала по древнейшему образцу. Когда он это понял, его собственная жизнь на своей земле теперь не казалась ему столь же существенной. Но что он мог поделать? Лишь немногим в этом мире повезло встретить своих настоящих спутников жизни – это требовало сначала исключительной удачи, затем чутья, чтобы это понять, и, наконец, смелости, чтобы действовать. Лишь немногие обладали всем этим. Остальным же приходилось довольствоваться тем, что есть.
И он жил в своем бассейне, отчасти на то, что выращивал сам, а отчасти – на то, что зарабатывал в кооперативе. Раз в месяц летал в Сабиси на новом аппарате, хорошо проводил там неделю-другую и возвращался домой. У него часто гостили Арт, Надя и Сакс, значительно реже – Майя и Мишель или Спенсер, они теперь жили в Одессе, или Зейк и Назик, приносившие вести из Каира и Мангалы, которые он старался пропускать мимо ушей. А когда все уходили, он поднимался на гребень, садился на один из валунов и наблюдал за лугами, раскинувшимися на склонах, сосредотачиваясь на том, что у него было, – на этом мире ощущений, камней, мхов и лишайников.
Бассейн эволюционировал. Теперь на его лугах обитали кроты, а на склонах – сурки. В конце долгих зим сурки, чьи биологические часы все шли в земном режиме, рано выходили из спячки и потом страдали от голода. Ниргал выкладывал им на снег пищу, а потом наблюдал из верхних окон, как те ее ели. Им нужна была помощь, чтобы протянуть до весны, пережив долгую зиму. Его дом был для них источником пищи и тепла, и в камнях под ним жили две сурочьи семьи, которые издавали предупреждающий писк, когда кто-нибудь приближался к дому. Однажды они предупредили Ниргала о прибытии людей из Тирренского комитета по внедрению новых видов, которые попросили его предоставить перечень видов с указанием приблизительной численности особей. Они взялись составлять местный перечень «местных обитателей», который помог бы им принимать решения о внедрении быстро распространяющихся видов. Ниргал с удовольствием помог им в их деле, как и, наверное, все, кто занимался экопоэзисом на массиве. Поскольку на острове выпадало много осадков, а до других островов отсюда были сотни километров, здесь развился свой высокогорный состав фауны и флоры, который все чаще называли «естественным» для Тиррены и который полагалось изменять исключительно по общему согласованию.
Когда люди из комитета ушли, Ниргал со странным ощущением сел возле жилища своих домашних сурков.
– Что ж, – сказал он, – теперь мы с вами туземцы.
Он жил счастливо в своем бассейне, и остальной мир со своими заботами его не интересовал. Весной из ниоткуда появлялись новые растения, и некоторые из них он приветствовал лопаткой компоста, других – выкорчевывал и превращал в компост. Весной зелень была не такая, как в другое время года, – светлый, сверкающий нефрит и лаймовые почки и листья, молодые ростки изумрудной травы, голубоватая крапива, красная листва. А чуть позже появлялись цветы, пышущие своей растительной энергией, стремясь выжить и распространить свои семена… Бывало, что Надя и Никки, возвращаясь с прогулки, приносили в руках огромные букеты, и Ниргалу тогда казалось, что жизнь действительно имеет смысл. Он смотрел на них и думал о детях, чувствовал в себе какое-то дикое желание, которого обычно не возникало до этого.
И это чувство, судя по всему, передавалось всем. В южном полушарии весна длилась 143 дня, сменяя суровую зиму. После первых ее месяцев растения уже цвели – сначала форзиция и печеночник, потом флокс и вереск, после них – камнеломка и тибетский ревень, смолевка и альпийский приноготовник, васильки и эдельвейсы… И так до тех пор, пока каждый клочок зеленого ковра в каменистой чаше бассейна не оказывался украшен сверкающими голубыми, темно-розовыми, белыми точками, где каждый цвет колыхался на определенной высоте, характерной для растения, на котором держались эти точки, и все они сияли в полутьме, как капли света, изливающиеся в мир из ниоткуда. Марс в пуантилизме, где пестрые краски бассейна создавали картину настоящего буйства цвета. Ниргал стоял на дне, будто посреди сложенной лодочкой ладони, которая, наклоняясь, выливала талую воду вдоль линии жизни прочь, в безмерный тенистый мир, который вырисовывался на западе, под неясным низким солнцем. Это был последний проблеск дня.
Одним ясным утром на экране искина его дома возникла Джеки, которая объявила, что едет по железной дороге из Одессы в Ливию и хотела бы заскочить. Ниргал дал свое согласие, прежде чем успел хорошенько подумать.
Он спустился к тропе у ручья, чтобы ее встретить. Небольшой горный бассейн… На юге был миллион примерно таких же кратеров. Следов старого удара по поверхности. Ничто не выделяло его бассейн среди остальных. Он вспомнил Сияющую гору, ее изумительные желтые тона на рассвете.
Они подъехали на трех машинах, бойко, словно дети, проскакавших по местности. Джеки сидела за рулем первой, Антар – во второй. Выбравшись, они безудержно смеялись. Антар, похоже, не расстроился, что проиграл гонку. Вместе с ними из машин высыпала целая компания молодых арабов. Сами Джеки и Антар выглядели удивительно молодо. Ниргал не видел их много лет, но они за это время ничуть не изменились. Эти двое явно проходили терапию – теперь народная мудрость гласила, что это нужно делать рано и часто, чтобы тем самым обеспечить вечную молодость и предупредить всякие редкие заболевания, от которых люди до сих пор периодически умирали. Полностью предотвратить смерть. Рано и часто. Они все еще выглядели на пятнадцать М-лет. Но Джеки была на год старше Ниргала, а ему было почти тридцать три М-года, причем ему казалось, что ему гораздо больше. Глядя на их смеющиеся лица, он подумал, что когда-нибудь и ему придется пройти терапию.
И они гуляли, ступая по траве, охая и ахая при виде цветов. Ближе к концу своего визита Джеки отвела Ниргала в сторону и серьезно на него посмотрела.
– Нам тяжело сдерживать землян, Ниргал, – сказала она. – Они присылают по миллиону человек в год – а ты когда-то говорил, что они никогда так не смогут. И эти новоприбывшие больше не вступают в «Свободный Марс», как раньше. Они продолжают поддерживать свои земные правительства. Марс не меняет их достаточно быстро. Если так будет продолжаться, то вся идея свободного Марса превратится в фарс. Мне иногда кажется, что мы, может быть, зря тогда решили сохранить провод.
Она нахмурилась, и все двадцать лет, прибавившись в один миг, отразились на ее лице. Ниргалу пришлось сдержать слабую дрожь.
– Было бы легче, если бы ты не отсиживался здесь! – воскликнула она во внезапном гневе, обводя рукой бассейн. – Нам нужны все, кто может помочь. Люди еще помнят тебя, но через пару лет…
«Значит, нужно подождать еще пару лет», – подумал он. Он смотрел на нее. Да, она была красива. Но красота ведь заключалась в душе, уме, жизнерадостности, понимании других. Выходит, хоть Джеки и хорошела внешне, в то же время становилась менее красивой. Вот еще одна загадка. И Ниргалу не нравилось это ухудшение ее натуры, ничуть. Даже наоборот – это было еще одной нотой в гармонии той боли, которую он чувствовал, думая о ней. Он не хотел, чтобы все это было правдой.
– То, что мы принимаем иммигрантов, мало выручает землян, – сказала она. – И они сами это понимают. Даже лучше нас, уж точно. Но все равно переправляют людей. А знаешь, зачем? Знаешь? Просто чтобы испортить жизнь здесь. Хотят сделать так, чтобы нигде не было такого места, где у людей все хорошо. Это единственная причина.
Ниргал пожал плечами. Он не знал, что ответить. Может, в том, что она говорила, и была правда, но Джеки назвала лишь одну причину из миллиона, и не было никаких оснований фокусироваться именно на ней.
– Так, значит, ты не вернешься, – сказала она наконец. – Тебе все равно.
Ниргал отрицательно покачал головой. Как было сказать ей, что ее саму заботит не Марс, а лишь собственная власть? Он был не из тех, кто мог ей такое сказать. Она бы ему и не поверила.
Затем она перестала уговаривать его. Бросила королевский взгляд на Антара, и тот принялся собирать их особо приближенных в машины. Последний вопросительный взгляд, поцелуй, во все губы, словно электрический шок для души, – несомненно, чтобы досадить то ли Антару, то ли Ниргалу, то ли им обоим, – и затем уехала.
Вторую половину того дня и весь следующий он провел, странствуя, сидя на плоских камнях и наблюдая за мелкими ручьями, скачущими вниз по течению. В какой-то момент вспомнил, как быстро вода проливалась на Земле. Неестественно. Ну и что. Зато это было его место, которое он знал и любил, каждую диаду, каждый кустик смолевки и даже скорость воды, спускающейся по камням и плещущейся, принимая гладкие серебристые формы. Ощущение на подушечках пальцев, когда он прикасался ко мху. А для людей, которые у него гостили, Марс был идеей, зарождающимся государством, политической ситуацией. Они жили в куполах и с таким же успехом могли жить в любом городе, где угодно, и были привязаны к какому-то образу, к какому-то выдуманному Марсу.
Впрочем, в этом не было ничего плохого. Но для Ниргала теперь важна сама земля, места, куда прибывала вода, где она струилась по скале возрастом в миллиарды лет, попадая на мох. Политику следовало оставить молодым – он свою роль уже отыграл. И больше этим заниматься не хотелось. Или, по крайней мере, он подождал бы, пока не уйдет Джеки. Власть напоминала Хироко – все время куда-то ускользала. Разве нет? Зато его амфитеатр всегда был как на ладони.
Но однажды утром, когда он вышел прогуляться на рассвете, что-то изменилось. Небо было ясное, залитое фиолетовыми тонами, но на иглах можжевельника появился желтоватый оттенок. То же было со мхом и листьями картофеля.
Он сорвал немного образцов пожелтевших иголок, листьев и побегов и принес их на свое рабочее место в теплице. За два часа работы с микроскопом искин не выявил никаких проблем. Тогда он вернулся и сорвал несколько образцов корней и еще иголок, листьев, травы и цветов. Трава вообще выглядела поникшей, хотя день был не жаркий.
Его сердце стучало, желудок сжимался, он проработал так весь день до самой ночи, но ничего не смог выяснить. Ни насекомых, ни патогенов. Но растения выглядели плохо – особенно листья картофеля. В ту же ночь он позвонил Саксу и обрисовал ситуацию. Так совпало, что Сакс как раз находился в университете Сабиси, и на следующее утро заехал к нему на маленьком марсоходе, последней модели кооператива Спенсера.
– Прекрасно, – сказал он, выбравшись и осмотревшись. Затем осмотрел образцы Ниргала в теплице. – Хм, – проговорил он. – Интересно.
Он привез с собой кое-какие инструменты, и они затащили их в дом Ниргала, после чего Сакс приступил к работе. В конце долгого дня он заключил:
– Ничего не могу найти. Придется взять несколько образцов в Сабиси.
– Ничего не можешь найти?
– Ни патогенов, ни бактерий, ни вирусов. – Он пожал плечами. – Давай возьмем немного картофелин.
Они вышли наружу и накопали их на поле. Некоторые были скрюченными, удлиненными, потрескавшимися.
– Что это такое? – воскликнул Ниргал.
Сакс слегка сдвинул брови.
– Похоже на веретеновидность клубней.
– Что ее вызывает?
– Вироид.
– Что это?
– Просто фрагмент РНК. Самый маленький из известных возбудителей инфекции. Странно.
– Ка, – Ниргал почувствовал, как его желудок сжимается. – И как он сюда попал?
– Вероятно, на каком-нибудь паразите. Он вроде бы передается по траве. Это нужно будет узнать.
И, собрав образцы, они выехали в Сабиси.
Ниргал сидел на футоне в гостиной Тарики, ему нездоровилось. Тарики и Сакс после ужина долго говорили, обсуждая ситуацию. Быстро распространяясь с Фарсиды на другие регионы, появлялись и другие вироиды; очевидно, они преодолели санитарный кордон в космосе и прибыли в мир, где до этого их никогда не было. Они были меньше вирусов, намного меньше, и на порядок проще. Просто цепочки РНК, как сказал Тарики, около пятидесяти нанометров в длину, только и всего. Индивидуумы имели молекулярную массу порядка 130 000, тогда как у наименьших вирусов она составляла более миллиона. Они были настолько малы, что, для того чтобы прервать их жизненный цикл, их нужно было центрифугировать при более чем 100 000 g.
Вироид веретеновидности клубней картофеля был хорошо изучен, сказал им Тарики, стуча по экрану и указывая на появляющиеся на нем схемы. Цепочка всего лишь из 359 нуклеотидов, выстроенных в замкнутую однорядную нить с короткими двухрядными участками. Подобные вироиды вызывали несколько болезней растений, включая побледнение огурцов, карликовость хризантем, хлоротическую крапчатость, каданг-каданг, экзокортис цитрусовых. Также бывали случаи, когда вироиды становились возбудителями заболеваний мозга у животных – почесухи, куру, болезни Крейтцфельдта – Якоба у людей. Для размножения вироиды использовали энзимы хозяина, после чего как регуляторные молекулы попадали в ядра зараженных клеток и там, в частности, нарушали выработку гормона роста.
Вироид, обнаруженный в бассейне Ниргала, продолжил Тарики, мутировал из вироида веретеновидности клубней картофеля. В университетской лаборатории все еще продолжалась его идентификация, но по болезни травы они четко поняли, что имеют дело с чем-то иным, с чем-то совершенно новым.
Ниргала мутило от одних только названий этих болезней. Он смотрел на свои руки, которыми так часто прикасался к зараженным растениям. Вироид поступал сквозь кожу в мозг, вызывая какую-нибудь форму губчатых энцефалопатий, грибком разрастающихся по всему мозгу.
– Мы можем с ним как-нибудь бороться? – спросил он.
Сакс и Тарики посмотрели на него.
– Сначала нам нужно выяснить, что это такое, – ответил Сакс.
Эта задача оказалась не из простых. Спустя несколько дней Ниргал вернулся в свой бассейн. Там он по крайней мере мог что-то сделать: Сакс посоветовал ему убрать с полей весь картофель. Эта была большая и грязная работа, похожая на охоту за сокровищами, только наоборот – он выкапывал пораженные болезнью плоды один за другим. Казалось, уже и сама почва стала носителем вироида. Существовала даже вероятность, что ему придется бросить поле, а то и весь бассейн. В лучшем же случае – достаточно было выращивать что-то другое. Пока никто не знал, как размножается вироид, а в Сабиси говорили, что это может быть вовсе и не вироид в том смысле, в каком его понимали раньше.
– Его нить короче, чем обычно, – сообщил Сакс. – Это либо новый вироид, либо что-то вроде вироида, только еще короче. В лабораториях Сабиси его уже называют virid.
Через неделю, которая тянулась очень долго, Сакс снова приехал в бассейн.
– Можно попробовать удалить его физически, – предложил он за ужином, – а потом засадить другие виды, те, что устойчивы к вироидам. Это лучшее, что мы можем сделать.
– А это сработает?
– Растения, чувствительные к инфекции, довольно специфичны. Твой участок заразился чем-то новым, но если ты посадишь новую траву и виды картофеля, то, возможно, тебе удастся окончить цикл этой почвы.
Сакс пожал плечами.
Ниргал ел теперь с большим аппетитом, чем на прошлой неделе. Даже такая вероятность решения проблемы стала для него облегчением. Он выпил немного вина и чувствовал себя все лучше.
– А это все странно, да? – сказал он, когда они пили бренди после ужина. – То, что иногда преподносит жизнь.
– Если ты называешь это жизнью.
– Ну да, конечно.
Сакс не ответил.
– Я тут читал новости в сети, – продолжил Ниргал. – Сейчас вообще много заражений. Я раньше и не замечал. Паразиты, вирусы…
– Да. Иногда я опасаюсь, что наступит мировая эпидемия. Что-то такое, что мы не сможем остановить.
– Ка! Неужели такое возможно?
– В мире много чего происходит. Популяционные всплески, резкие вымирания. По всему миру. Равновесие нарушено. Нарушаются балансы, о существовании которых даже не знали. Происходят вещи, которых мы не понимаем.
Непонимание чего-либо всегда расстраивало Сакса.
– Биомы рано или поздно найдут свое равновесие, – предположил Ниргал.
– Я не уверен, что оно вообще существует.
– Равновесие?
– Да. Может, это просто… – Он замахал руками, изображая чайку. – Периодическое равновесие, но не равновесие в целом.
– С периодическими изменениями?
– С постоянными изменениями. Многоуровневыми изменениями… иногда наступающими резкими всплесками…
– Как каскадная рекомбинация?
– Пожалуй.
– Я слышал, что математику способна по-настоящему понять только дюжина людей.
Сакс удивился.
– Не может такого быть. Во всяком случае, если говорить о математике в целом. И вообще, смотря что ты имеешь в виду под словом «понять». Вот, например, я знаю кое-что по такой-то теме. Ты можешь применить свое знание, чтобы построить модель в этой области. Но не предсказать, что будет потом. А я не знаю, как применить знание так, чтобы предположить какие-либо… реакции. Я даже не уверен, что его можно применить таким образом.
Затем он рассказал о точке зрения Влада на холоны, органические единицы, имеющие субъединицы и в то же время являющиеся субъединицами более крупных холонов, и на каждом уровне они объединялись, создавая следующий, и так в обе стороны, по принципу эмерджентности, до конца Великой цепи бытия. Влад разработал математические описания этих эмерджентностей, которых оказалось более одного типа, и у каждого типа было несколько родов свойств. Поэтому если получить достаточно информации о поведении двух последовательных уровней холона, то можно попробовать связать их математической формулой, а потом, вероятно, и найти способы их разорвать.
– Это лучший способ, какой мы можем применить для таких малых организмов, – заключил он.
На следующий день они позвонили в теплицы Ксанфа и заказали партию новых ростков и образцов нового штамма травы на основе той, что растет в Гималаях. К тому времени, как они туда прибыли, Ниргал уже вырвал в бассейне всю траву и бо́льшую часть мха. От этой работы ему становилось не по себе, но с этим ничего нельзя было поделать. А однажды, услышав, как на него закричал обеспокоенный глава семейства сурков, он сел и разрыдался. Сакс предался привычному для себя молчанию, отчего Ниргалу становилось еще хуже, потому что этим он напоминал о Саймоне и о смерти в целом. Ему нужна была Майя или кто-то, кто способен столь же легко и выразительно рассказывать о своем внутреннем мире, о душевных муках и стойкости духа. Но рядом был только Сакс, затерявшийся в своих мыслях, которые, казалось, поступали к нему на иностранном языке, личном идиолекте, с которого он сейчас не желал переводить.
Они начали высаживать новые ростки гималайской травы по всему бассейну, уделяя особое внимание берегам ручьев и их жилообразным ответвлениям, струящимся подо льдом. Крепкий мороз на самом деле помогал, убивая зараженные растения быстрее, чем здоровые. Зараженные они сжигали в печи вниз по массиву. На помощь приходили люди из соседних бассейнов, которые приносили ростки, которые можно было посадить взамен.
Прошло два месяца, и зараза отступила. Оставшиеся растения, судя по всему, были более устойчивы. Те, что были высажены позже, не заражались и не умирали. Бассейн выглядел по-осеннему, хотя стояла середина лета, но важнее всего было то, что прекратилось вымирание. Сурки смотрели на него, более встревоженные, чем когда-либо, – это вообще были беспокойные существа. И Ниргал вполне их понимал. У бассейна был разоренный вид. Но при этом создавалось впечатление, что биом все-таки сохранится. Вироид уходил, и теперь им было трудно даже найти его – как бы долго и усердно они ни центрифугировали образцы. Судя по всему, он покинул бассейн так же загадочно, как появился.
Сакс потряс головой.
– Если вироиды, которые заражают животных, станут более стойкими… – он вздохнул. – Хотел бы поговорить об этом с Хироко.
– Я слышал, люди говорят, она на северном полюсе, – горько проговорил Ниргал.
– Да.
– И?
– Не думаю, что она правда там. И… не думаю, что захотела бы со мной говорить. Но я все еще… еще жду.
– Что она тебе позвонит? – саркастически спросил Ниргал.
Сакс кивнул.
Они печально смотрели на пламя, горевшее в лампе. Хироко – мать, любовница – бросила их обоих.
Но бассейн был жив. Когда Сакс, собираясь уезжать, пошел к своему марсоходу, Ниргал крепко обнял его, подняв в воздух и слегка покружив.
– Спасибо.
– Рад помочь, – ответил Сакс. – Было очень интересно.
– Чем теперь займешься?
– Думаю, поговорю с Энн. Попытаюсь поговорить с Энн.
– Ах, ну удачи!
Сакс кивнул, словно соглашаясь, что она ему понадобится. И уехал, махнув ему, прежде чем взяться обеими руками за руль. Уже через минуту он оказался за гребнем и скрылся из виду.
Итак, Ниргал приступил к тяжелой работе по восстановлению бассейна, стараясь при этом обеспечить ему максимальную устойчивость к патогенам. Больше многообразия, больше местных видов паразитов. От хазмоэндолитических обитателей скал до насекомых и микробов, летающих по воздуху. Более полный, более стойкий биом. Время от времени он ездил в Сабиси. И, заменив всю почву на картофельном участке, засадил его картофелем другого вида.
Когда в регионе Кларитас, близ Сензени-На, на его широте, только с другой стороны планеты, началась мощная пылевая буря, к нему заехали Сакс со Спенсером. Они услышали об этом из новостей и следующие пару дней следили за ней по фотографиям со спутников. Она двигалась на восток и предположительно должна была пройти южнее них, но в последний момент повернула на север.
Они сидели в гостиной его дома-валуна и смотрели на юг. И тогда она появилась – темная масса, постепенно застилающая все небо. Спенсер вскрикивал, прикасаясь к различным предметам, – он получал удары статического электричества.
Ниргала охватил страх. Но страх не имел смысла – они пережили уже десятки пылевых бурь. Это был остаточный страх после гибели растений из-за вироида. Но они справились с этой бедой.
Только в этот раз всё было не так, как прежде. Дневной свет потускнел, стал коричневым. Казалось, наступила ночь, – шоколадная ночь, которая выла высоко над валуном и стучала по окнам.
– Смотрите, как ветер усилился, – задумчиво проговорил Сакс.
Затем вой ослабел, но темнота никуда не делась. И, пока звуки затихали, Ниргала мутило все сильнее – а когда шум прекратился, он почувствовал такую тошноту, что едва устоял у окна. С глобальными пылевыми бурями так иногда бывало: они резко заканчивались, наталкиваясь на встречный ветер или неподходящий рельеф. А затем она обрушила на землю свой груз из пыли и частиц. По сути, пошел пылевой дождь, и окна валуна стали грязно-серыми. Словно мир застлал пепел. «Раньше, – беспокойно бормотал Сакс, – даже крупнейшие пылевые бури оставляли после себя слой всего в несколько миллиметров частиц». Когда же атмосфера стала намного толще, а ветры – намного сильнее, в воздух поднимались огромные количества пыли и песка. И если он обрушивался в один миг, как иногда случалось, наносы могли получиться гораздо толще, чем несколько миллиметров.
Час спустя все, кроме разве что мельчайших частиц, выпало прямо на них. Оставшаяся часть дня выдалась неясной и безветренной. В воздухе витало что-то вроде слабого дымка, и они могли видеть весь бассейн – он оказался устлан комковатым покрывалом из пыли.
Ниргал вышел, как всегда, в маске и в отчаянии попробовал копать землю сначала лопатой, затем голыми руками. За ним, пошатываясь на мягких сугробах, вышел Сакс и, положив руку Ниргалу на плечо, сказал:
– Я думаю, здесь уже ничего нельзя поделать.
Пыль лежала слоем глубиной в метр, а то и больше.
Со временем другие ветры унесут какую-то ее часть. Остальное занесет снегом, а когда он растает, получившуюся грязь смоют ручьи, и новая жилообразная система каналов нарисует фрактальный узор, который во многом будет похож на старый. Вода унесет пыль и частицы прочь, вниз по массиву, где они развеются по миру. Но к тому времени, когда это произойдет, каждое растение и животное в бассейне будут мертвы.
Часть девятая Естественная история
Позже Ниргал уехал с Саксом в Да Винчи и поселился у него в квартире. Однажды ночью, когда никто и подумать не мог, что явятся гости, к ним заглянул Койот.
Ниргал вкратце рассказал, что случилось с его посадками.
– Ну и что? – сказал на это Койот.
Ниргал отвел взгляд.
Койот ушел на кухню и пошарил у Сакса в холодильнике, крича в направлении гостиной с набитым ртом:
– И чего ты ожидал от такого ветреного склона? Мир, знаешь ли, несколько сложнее, чем один большой сад. И часть его засыпает каждый год, он просто так устроен. А потом, может, через год, может, через десять, другой ветер придет и сдует эту пыль с твоей горы.
– Тогда все уже будет мертво.
– Такова жизнь. А сейчас пора заняться чем-то другим. Чем ты занимался перед тем, как осесть там?
– Искал Хироко.
– Черт, – Койот возник в дверном проеме, указывая на Ниргала большим кухонным ножом. – И ты туда же.
– Да, и я.
– Да ладно тебе. Когда ты уже вырастешь? Хироко умерла. Пора бы тебе с этим смириться.
Тут из своего кабинета вышел Сакс, быстро моргая.
– Хироко жива, – заявил он.
– Еще один! – воскликнул Койот. – Вы оба как дети!
– Я видел ее на южном склоне Арсии, когда там была буря.
– Вступай-ка ты в чертову партию!
Сакс сощурился, глядя на него.
– Что ты имеешь в виду?
– Черт…
Койот ушел обратно на кухню.
– Ее видели и другие, – сказал Саксу Ниргал. – Сообщения выглядят довольно связными.
– Я знаю, что…
– Они появляются каждый день! – прокричал Койот с кухни. Он снова бросился в гостиную. – Люди видят ее каждый день! В сети даже есть специальный ресурс, где можно сообщать, где ее видели! На прошлой неделе я прочел, что она появилась в двух разных местах в одну ночь – в земле Ноя и на Олимпе. На противоположных сторонах мира!
– Не вижу, чтобы это что-либо доказывало! – упрямо проговорил Сакс. – То же самое говорят и о тебе, но ты же еще жив.
Койот яростно потряс головой.
– Нет. Я – исключение, доказывающее правило. Все остальные, кого якобы встречают в разных местах одновременно, на самом деле мертвы. Это верный знак. – Предупреждая замечание Сакса, он воскликнул: – Она мертва! Смиритесь с этим! Она умерла при атаке на Сабиси! Штурмовики Временного Правительства поймали ее, Ивао, Джина, Риа и всех остальных, отвели в какую-то комнату и выкачали оттуда воздух или просто нажали на курок. Вот что бывает! Или вы думаете, такого никогда не случается? Вы думаете, тайная полиция не убивала диссидентов и не прятала их тела так, чтобы никто не нашел? Это случается. Да еще как, мать вашу, и даже на вашем драгоценном Марсе, да, и не раз! И вы знаете, что это так! Такое уже случалось. Таковы уж люди. Они пойдут на что угодно – убьют и будут думать, что зарабатывают себе на жизнь, кормят своих детей или делают мир безопаснее. И в тот раз было то же самое. Они убили Хироко и всех остальных.
Ниргал и Сакс смотрели на него. Койота трясло, казалось, он вот-вот всадит нож в стену.
Сакс прочистил горло.
– Десмонд… почему ты так уверен?
– Потому что я искал! Да, искал. Искал так, как не мог искать никто другой. Ее нет ни в одном из ее мест. Ее нет нигде. Она не выбралась. Никто не видел ее по-настоящему со времен Сабиси. Вот почему вы ничего больше от нее не слышали. Она не настолько бесчеловечна, чтобы оставить нас в неведении на все это время.
– Но я ее видел, – настаивал Сакс.
– В бурю, ты сам сказал. Полагаю, у тебя тогда были какие-то проблемы. И видел ты ее недолго – ровно столько, сколько нужно было, чтобы выбраться из передряги. А потом она исчезла, насовсем.
Сакс заморгал.
Койот жестоко рассмеялся.
– Так я и думал. Нет, все нормально. Мечтай о ней, сколько хочешь. Только не путай это с реальностью. Хироко мертва.
Ниргал переводил взгляд с одного на другого, они молчали.
– Я тоже ее искал, – проговорил он. А затем, увидев сокрушенный взгляд Сакса, добавил: – Но может быть что угодно.
Койот покачал головой. Бормоча, он вернулся на кухню. Сакс смотрел на Ниргала, глядя сквозь него.
– Может быть, я попробую поискать ее, – сказал ему Ниргал.
Сакс кивнул.
– Это лучше, чем выращивать картошку, – донесся с кухни голос Койота.
Гарри Уайтбук недавно нашел метод повышения переносимости CO2 животными, который заключался во внедрении в геном млекопитающих гена, задающего определенные характеристики крокодильего гемоглобина. Крокодилы умели задерживать дыхание под водой на очень долгое время, и CO2, который должен был собираться у них в крови, разлагался на бикарбонатные ионы, которые входили в состав аминокислот, содержащихся в гемоглобине, и в результате гемоглобин высвобождал молекулы кислорода. Высокая переносимость CO2, таким образом, сочеталась с возросшим обогащением кислородом, как оказалось, весьма простой (особенно после того, как на него указал Уайтбук) возможностью внедрения гена в геном млекопитающих – благодаря использованию новейшей технологии транскрипции признаков: собирались цепочки фотолиазы, фермента репарации ДНК, которые корректировали характеристики признаков в геноме при антивозрастной терапии, слегка изменяя свойства гемоглобина у субъекта.
Сакс оказался одним из первых людей, кто применил этот признак на себе. Данная идея понравилась ему тем, что избавляла от необходимости носить лицевую маску на открытом воздухе, а он проводил там много времени. Уровень углекислого газа в атмосфере все еще составлял порядка 40 миллибар из 500, что действовали на уровне моря, тогда как остальное давление складывалось из: 260 миллибар азота, 170 – кислорода и 30 – различных инертных газов.
Таким образом, в атмосфере все еще было слишком много CO2, и люди не могли дышать без фильтрующих масок. Но после транскрипции признаков он смог свободно бродить на открытой местности, наблюдая множество разновидностей животных, которым уже провели аналогичные процедуры. Все они стали чудовищами, которые заселяли свои экологические ниши в смешанном потоке всплесков роста и вымираний, вторжений и отступлений – все тщетно искали баланс, которого, учитывая меняющийся климат, попросту не могло существовать. Иными словами, жизнь ничем не отличалась от земной; только здесь все происходило гораздо быстрее, процессы ускорялись изменениями, вызванными человеком, модификациями, внедрениями, транскрипциями, трансляциями, вмешательствами, которые срабатывали или не срабатывали, имели эффекты непреднамеренные, непредвиденные, незамечаемые – до того, что многие рассудительные ученые переставали делать вид, будто держат что-то под контролем. «Будь что будет», – как говорил Спенсер, после того как выпивал. Мишель считал, что это оскорбляло чувство значимости, но ничего поделать было нельзя – разве что изменить мнение о том, что стоило считать значимым. Случайность, течение жизни – одним словом, эволюция. В переводе с латыни – «развертывание свитка», то есть «развертывание книги». И не целенаправленная эволюция, и не выстрел наобум. Пожалуй, эволюция под воздействием. Однозначно ускоренная эволюция (во всяком случае, в некоторых своих аспектах). Но не управляемая, не поставленная. Они не знали, что делали. И к этому нужно было привыкнуть.
И Сакс бродил по полуострову Да Винчи – прямоугольному клочку земли, обступившему круглый обод одноименного кратера и, в свою очередь, ограниченному фьордами Симуд, Шалбатана и Рави, каждый из которых выходил к южной части залива Хриса. Два острова, Коперника и Галилея, располагались в устьях фьордов Ареса и Тиу. Столь богатое переплетение моря и суши идеально подходило для зарождения жизни – лаборанты из Да Винчи не могли найти лучшего места, хотя Сакс был вполне уверен, что они ничуть не обращали внимания на окрестности, когда выбирали кратер для размещения своей скрытой под землей аэрокосмической лаборатории. Кратер этот имел широкий обод и находился на приличном отдалении от Берроуза и Сабиси – им этого вполне хватило. Они просто забрели в рай. За этим местом можно было наблюдать всю жизнь и даже больше и ни разу при этом не покидать свой дом.
Гидрология, инвазивная биология, ареология, экология, материаловедение, физика частиц, космология – все это крайне интересовало Сакса, но бо́льшую часть его рутинной работы в последние годы занимало изучение метеоусловий. На полуострове Да Винчи условия были захватывающие, и с залива приходили влажные бури, а с южных гор на каньоны фьордов обрушивались сырые нисходящие ветры, отчего на море поднимались большие волны, уходящие на север. Из-за близости экватора цикл перигелия-афелия сказывался на них гораздо сильнее, чем обычные сезонные изменения наклонения орбиты. В дни афелия было холодно уже в двадцати градусах севернее экватора, тогда как в перигелии экватор становился таким же жарким, как южные регионы. В январях и февралях южный воздух, нагретый солнцем, поднимался в стратосферу, поворачивал на восток в тропопаузе и вступал в струйные течения, которые неслись вокруг света. Эти течения расходились в разные стороны вокруг купола Фарсиды. Южный поток уносил влагу от залива Амазония и вываливал на Дедалию и Икарию, а иногда и на западную стену гор бассейна Аргир, где формировались ледники. Северный поток пролетал над горами Темпе и Мареотис, после чего спускался к Северному морю, где, проходя сквозь бурю за бурей, собирал влагу. Еще севернее, над полярной шапкой, воздух охлаждался и падал на вращающуюся планету, поднимая приповерхностный ветер с северо-востока. Иногда эти холодные сухие ветры проходили ниже более теплого и влажного воздуха умеренных западных ветров, отчего образовывались огромные грозовые фронты, возвышающиеся над Северным морем, порой достигая до двадцати километров в высоту.
В южном полушарии, бывшем более однородным, чем северное, дули ветры, которые еще больше следовали физике воздуха, облекавшего вращающийся шар, – южные пассаты от экватора до тридцатой широты; преобладающие западные ветры от тридцатой широты до шестидесятой и полярные, идущие оттуда до южного полюса. В этом полушарии простирались огромные пустыни, особенно между пятнадцатой и тридцатой широтами, где воздушные потоки, поднимавшиеся от экватора, снова шли вниз, создавая высокое давление и горячий воздух, насыщенный большим количеством водяного пара без конденсата, и на этом промежутке – а он включал сверхсухие плато Солнца, землю Ноя и Гесперию – почти не выпадало дождей. Ветры в этих регионах подхватывали сухую пыль и начинали пылевые бури, пусть и не более локализованные, чем прежде, но и более плотные – Сакс сам имел несчастье убедиться в этом на Тирренском массиве вместе с Ниргалом.
Таковыми были основные особенности метеорологической обстановки на Марсе – суровая в районе афелия, мягкая в период солнечного равноденствия, экстремальная на юге, умеренная на севере. Во всяком случае, это показывало моделирование. Саксу нравилось проводить симуляции, создавая такие модели, хоть он и понимал, что их соответствие реальности в лучшем случае было лишь приблизительным: каждый год наблюдений становился в некоторой степени исключением, и условия среды менялись с каждым этапом терраформирования. Предсказать будущий климат было невозможно, даже если заморозить переменные и сделать вид, будто терраформирование стабилизировалось. Сакс снова и снова прогонял тысячи лет, меняя в моделях значения переменных, и всякий раз у него получались совершенно разные тысячелетия. Это было потрясающе. Малая гравитация и обусловленная ею высота атмосферы, огромные высоты поверхности, наличие Северного моря, которое могло или не могло покрыться льдом, плотнеющий воздух, цикл перигелия-афелия или, другими словами, эксцентриситет, прецессирующий сезонные изменения наклонения орбиты, – пожалуй, все это производило эффекты, которые можно было предвидеть, но все вместе они делали марсианскую погоду крайне недоступной для понимания, и чем больше Сакс за этим наблюдал, тем меньше понимал. Но это было потрясающе, и он мог следить за повторяющимися циклами хоть весь день напролет.
Или просто сидеть в Симшал-Поинте, наблюдая за облаками, плывущими по лиловому небу. Фьорд Касэй, что находился на северо-западе, служил ветровым туннелем для сильнейших нисходящих порывов на планете, несущихся в залив Хриса со скоростью, временами достигающей пятисот километров в час. Когда эти ревуны достигали фьорда, Сакс видел, как северный горизонт застилали коричневые облака. А спустя десять-двенадцать часов с той стороны накатывали большие волны, которые бились о береговые скалы, пятидесятиметровые стены воды вставали и врезались в берег, отчего по всему полуострову воздух превращался в плотную белую мглу. Находиться на море в такое время опасно – однажды он убедился в этом, когда плавал на небольшом катамаране, которым учился управлять в прибрежных водах южной части залива.
Гораздо приятнее наблюдать за бурей с береговых скал. Ревуны сегодня не появились – лишь ровный несокрушимый ветер с отдаленными порывами к северу от острова Коперника и горячее солнце, обжигающее кожу. Глобальная средняя температура менялась из года в год, скакала то вверх, то вниз, но чаще всего вверх. Если построить график, разложив годы по горизонтальной оси, получится восходящий горный хребет. «Год без лета» выглядел на нем, как небольшой провал; на самом деле этот период длился три года, но никто не стал бы менять такое название ради какой-то формальности. «Три необычайно холодных года»? Ну уж нет. Люди хотели не этого, им, очевидно, требовалось как-нибудь сжать правду, чтобы получился четкий след в памяти. Символическое мышление – людям требовалось «бросание вместе». Сакс знал это потому, что провел немало времени в Сабиси с Мишелем и Майей. Люди любили драматизм. Майя, пожалуй, больше многих, но тем ярче был пример. Демонстрация предела нормы. Его, однако, тревожило ее влияние на Мишеля. Тот, похоже, не получал никакого удовольствия от своей жизни. Ностальгия, от греческого «nostos» – «возвращение на родину» и «algos» – «боль». Боль возвращения на родину. Очень удачное описание; какой бы расплывчатой ни представлялась им жизнь, слова иногда могли быть весьма точными. Это казалось парадоксом, если не знаешь, как работает мозг, а когда узнаёшь – то удивляться приходится все меньше. Модель взаимодействия мозга с физической реальностью, слегка расплывчатая по краям. Даже наука была вынуждена это признать. Но это не означало, что нужно отказаться от попыток объяснять различные явления жизни!
– Выезжай со мной на полевые исследования, – уговаривал он Мишеля.
– Скоро съездим.
– Сосредоточься на настоящем, – посоветовал Сакс. – Каждое мгновение – это отдельная реальность. И каждое обладает своей определенной конкретностью. Ты не можешь его предсказать, но можешь объяснить. Или хотя бы попытаться. Если ты внимателен и если тебе везет, то можешь сказать: вот почему это происходит! И это очень интересно!
– Сакс, когда это ты успел стать поэтом?
Сакс не знал, что на это ответить. Мишеля все еще глодала сильнейшая ностальгия.
– Найди время выбраться в поле, – сказал он наконец.
Мягкими зимами, когда дули слабые ветры, Сакс плавал вокруг южной оконечности залива Хриса. Золотого залива. Остальную часть года он жил на полуострове, покидая кратер Да Винчи пешком или выезжая на небольшом марсоходе с ночевкой. Занимался он в основном метеорологией, хотя, конечно, уделял внимание и всему прочему. Оказываясь на воде, он садился и ощущал ветер в парусах, обходя тем временем один изгиб побережья за другим. По суше же он выезжал утром и смотрел в окно, пока не замечал подходящего места, и тогда останавливал марсоход и выходил наружу.
Штаны, рубашка, ветровка, туристические ботинки, старая шляпа – больше ему ничего не было нужно в этот день М-65 года. Эта данность никогда не переставала его удивлять. Температура обычно была 280 с небольшим – бодрящая, но ему это нравилось. Глобальная же средняя колебалась в районе 275 градусов. Такой показатель он считал хорошим – это было выше температуры замерзания воды, благодаря чему к вечномерзлому грунту поступал тепловой импульс. Сам по себе этот импульс растопит грунт через десять тысяч лет. Но ему, конечно, не придется делать это в одиночку.
Он бродил по тундровому мху, среди критмума и прочих трав. Жизнь на Марсе. Странное дело. На самом деле она присутствовала везде. Хоть и непонятно было, откуда она появлялась. Об этом Сакс часто размышлял в последнее время. Почему в различных частях космоса возрастал порядок, когда там, по идее, не должно было возникать ничего, кроме энтропии? Это серьезно его озадачивало. Однажды вечером, когда они пили пиво в Одессе, его любопытство распалил Спенсер, с ходу давший объяснение: это расширяющаяся вселенная, сказал Спенсер, порядок, который на самом деле не порядок, а просто разница между действительной и максимально возможной энтропией. А люди приняли эту разницу за порядок. Услышать такую космологическую идею от Спенсера стало для Сакса неожиданностью, но Спенсер был полон сюрпризов. К тому же он в тот вечер много выпил.
Лежа на траве и глядя на тундровые цветы, трудно было не думать о происхождении жизни. Маленькие цветки, насыщенные яркими красками, возвышались на своих стеблях, сияя при солнечном свете кристалликами. Идеограммы порядка. Они не позволяли заметить особой разницы в уровнях энтропии. Лепестки имели очень мелкую текстуру и, пропитанные светом, казалось, были различимы до самых молекул: вот белая молекула, вот лиловая, а эта голубая, как княжик. Конечно, эти пуантилистские точки молекулами не были – те оставались гораздо ниже предела видимости. Но даже если бы и были, то составные элементы лепестка были бы настолько меньше, что их было бы трудно себе представить – можно сказать, ниже воспринимаемого разрешения. Однако в последнее время группа теоретиков в Да Винчи начала обсуждать различные доводы из теории суперструн и квантовой гравитации, которые сами выстраивали; они дошли даже до стадии проверяемых прогнозов, которые в теории струн исторически считались слабым местом. Заинтересовавшись этим восстановлением опытов, Сакс стал пытаться вникнуть в то, что они делали. То есть отказался от морских утесов в пользу лекционных аудиторий – впрочем, он поступал так и раньше, в сезоны дождей, когда посещал послеобеденные заседания группы, слушая презентации и последующие обсуждения, изучал запутанные уравнения на своем экране и посвящал утренние часы римановым поверхностям, алгебре Ли, числам Эйлера, топологиям компактных шестимерных пространств, дифференциальной геометрии, переменным Грассмана, вычислениям эмерджентности Влада и всему остальному, за чем было необходимо следить математику, чтобы оставаться в курсе текущих событий.
Кое-что из теории суперструн ему уже было знакомо. Теория существовала почти два столетия, но впервые была предложена задолго до того, как появилась математическая или опытная возможность должным образом ее исследовать. Теория описывала мельчайшие частицы пространства-времени не как геометрические точки, но как ультрамикроскопические петли, колеблющиеся в десяти измерениях, шесть из которых компактифицировались вокруг петель, превращая их в своего рода экзотические математические объекты. Пространство, где они колебались, было проквантовано теоретиками двадцать первого века на моделях петель, называемых спиновыми сетями, в которых силовые линии на уровне мелких единиц гравитационного поля действовали примерно как линии сил магнитного поля вокруг магнита, из-за чего струны колебались лишь определенными гармоническими волнами. Эти суперсимметричные струны гармонично колебались в десятимерных спиновых сетях, очень изящно и надежно рассчитанные для различных сил и частиц на субатомном уровне, для всех бозонов и фермионов, а также их гравитационных воздействий. Таким образом, полностью разработанная теория должна была успешно объединить квантовую механику и гравитацию, что считалось важнейшей проблемой теоретической физики на протяжении двух столетий.
И все было хорошо и даже замечательно, но, по мнению Сакса и многих других скептиков, проблему сопровождала трудность подтверждения этих красивых расчетов опытным путем ввиду очень-очень-очень малых размеров петель и пространств, описываемых в теории. Все они находились в пределах 10-33 сантиметров, так называемой длины Планка, которая была невообразимо меньше субатомных частиц. Типичное ядро атома в диаметре достигало порядка 10-13 сантиметров, или миллионной доли от одной миллиардной сантиметра. Сначала Сакс какое-то время всерьез старался их разглядеть; это было безнадежно, но кто-то же должен был попробовать, кто-то должен был сосредоточиться над этой непостижимой малостью хотя бы на мгновение. А потом он вспомнил, что в теории струн речь шла о расстояниях, на двадцать порядков меньших этого, – об объектах размерами в тысячную долю одной миллиардной атомного ядра! Сакс корпел над расчетами пропорций; струна по отношению к атому, атом по отношению к… Солнечной системе. В этой пропорции едва ли можно было постичь хотя бы ее рациональность.
Но что еще хуже, размеры струны не позволяли исследовать ее опытным путем. И Сакс считал это корнем всей проблемы. Физикам удавались опыты на ускорителях на энергетических уровнях около ста гигаэлектрон-вольт – то есть в сто раз больше энергии массы протона. На основе этих опытов, ценой многолетних усилий им удалось разработать так называемую улучшенную стандартную модель физики частиц. Эта модель многое объяснила, став поистине выдающимся достижением. Она также дала много прогнозов, которые можно было подтвердить или опровергнуть лабораторными экспериментами или космологическими наблюдениями, – прогнозов, которые были такими разными и такими полными, что физики могли с уверенностью говорить почти обо всем, что происходило в истории вселенной со времен Большого взрыва, и вернуться в любой момент с точностью до миллионной доли секунды.
Специалисты по этой теории, однако, хотели совершить совершенно фантастический скачок за пределы улучшенной стандартной модели, к длине Планка, то есть наименьшей возможной величины, совершить минимальное квантовое движение, которое нельзя будет сократить, не вступив в противоречие с принципом запрета Паули. Это в некотором смысле заставляло задуматься о минимальном размере объектов, однако на самом же деле для того, чтобы увидеть что-то в пределах таких величин, нужно было достичь энергетических уровней порядка 1019 гигаэлектрон-вольт, а этого они сделать не могли. Пока ни один ускоритель не подобрался к ним и близко. Это больше походило на сердце суперновой. Нет. Между ними и длиной Планка находился целый водораздел вроде огромной долины или пустыни. Этому уровню реальности было предопределено остаться неизвестным во всех возможных физических смыслах.
Во всяком случае так утверждали скептики. Но поглощенных теорией ученых невозможно было отговорить от дальнейшего ее изучения. Они искали косвенные доказательства теории на субатомном уровне, который в данном контексте казался гигантским, буквально космологическим. Те отклонения в феномене, которые не могла объяснить улучшенная стандартная модель, можно было объяснить прогнозами, сделанными по теории струн на уровне длины Планка. Таких прогнозов, правда, было немного, а прогнозируемые феномены – тяжело различимы. И никаких решающих доводов найдено не было. Но спустя десятилетия лишь очень немногие «струнные энтузиасты» продолжали исследовать новые математические структуры, которые могли вскрыть еще больше следствий теории или предсказать больше найденных косвенных результатов. Все это было допустимо, и Сакс чувствовал, что на этом пути развития физики лежало множество возможностей. Он также всем сердцем верил в опытные испытания теорий. Если ее нельзя было испытать, то оставалась лишь математика, а ее красота была здесь неуместна; в математике существовало множество диковинных, завораживающих областей, но если они не позволяли моделировать полный феноменов мир, Саксу это было не интересно.
И сейчас, спустя десятилетия упорных трудов, наука начинала делать успехи как раз в тех направлениях, которые он находил интересными. Так, в новом суперколлайдере в кратере Резерфорда была обнаружена вторая Z-частица, существование которой давно предсказывалось теорией струн. А детектор магнитного монополя, вращающийся по орбите солнца вне плоскости эклиптики, уловил след того, что было похоже на частично заряженную свободную частицу с массой, как у бактерии, – очень быстрый проблеск вимпа, или слабовзаимодействующей массивной частицы. Теория струн предполагала наличие вимпов, тогда как улучшенная стандартная модель их не предусматривала. Это давало повод задуматься, так как формы галактик говорили о том, что их гравитационные массы были в десять раз больше, чем казалось по излучаемому ими свету. Сакс считал, что если темную материю можно было удовлетворительно объяснить в виде вимпов, то такая теория представлялась весьма интересной.
Интересным, но несколько по-другому, было то, что один из ведущих теоретиков этой новой ступени развития работал как раз в Да Винчи, в той самой впечатляющей группе, на занятиях которой присутствовал Сакс. Ее звали Бао Шуйо. Она родилась и выросла в Дорсе Бревиа, и у нее были японские и полинезийские корни. Она была невелика ростом для уроженки Марса, но все равно превосходила Сакса на добрых полметра. Черные волосы, темная кожа, тихоокеанские черты лица, очень правильные и довольно простые. С Саксом она вела себя робко, как и со всеми остальными, и иногда даже заикалась, что казалось ему чрезвычайно милым. Но когда она вставала в зале для семинарских занятий, чтобы представить презентацию, то становилась предельно твердой. Твердость проявлялась если не в голосе, то, несомненно, в движениях – и поразительно быстро, словно упражняясь в скоростной каллиграфии, она записывала на экране уравнения и заметки. И все в такие минуты очень внимательно за ней следили, словно завороженные. Она проработала в Да Винчи уже год, и местные были достаточно умны, чтобы понять, что наблюдают за работой гения, совершающего открытия прямо у них на глазах.
Некоторые из молодых турок перебивали ее, задавая вопросы, – конечно, в этой группе присутствовало немало блестящих умов, – и если все складывалось, то они вместе создавали математические модели гравитонов и гравитино, темной и теневой материи, совершенно забывая о своих индивидуальностях. Это были крайне продуктивные и увлекательные сессии, и Бао явно была их движущей силой, той, от кого все зависело и на кого все рассчитывали.
И это слегка сбивало с толку. Сакс и раньше встречал женщин среди математиков и физиков, но Бао была единственной женщиной – гением в математике, о ком он когда-либо слышал за долгую историю науки, которая, как он теперь понимал, странным образом была чисто мужским делом. Существовало ли в мире какое-нибудь более мужское дело, чем математика? И почему она была таковой?
Сбивало с толку, но несколько по-другому, то, что области деятельности Бао основывались на неопубликованных трудах тайского математика прошлого столетия, незрелого юноши по имени Самуй, который жил в публичных домах Бангкока и покончил с собой в двадцать три года, оставив после себя несколько «последних задач» в духе Ферма и до конца настаивая на том, что все расчеты ему телепатическим способом надиктовывали инопланетяне. Бао, не обращая внимания на «инопланетян», объяснила некоторые из наиболее неясных новаторских идей Самуя и применила их для выведения группы выражений усовершенствованной операции Ровелли – Смолина, что позволило ей создать систему спиновых сетей, которая, в свою очередь, весьма изящно сочеталась с суперструнами. По сути, это было долгожданное полное объединение квантовой механики и гравитации, решение великой проблемы – если все это было верно, конечно. Но в любом случае оно позволило Бао дать ряд конкретных прогнозов в более крупных областях атома и космоса – и некоторые из них впоследствии подтвердились.
Так она стала королевой физики – первой королевой физики! – и экспериментаторы отовсюду выходили на видеосвязь с Да Винчи, желая получить от нее совет. На послеполуденные сессии в зале для семинарских занятий прибывали в напряжении и возбуждении; встречи начинал Макс Шнелл, а потом в какой-то момент вызывал Бао, и она поднималась и подходила к экрану посреди зала, спокойная, грациозная, сдержанная, решительная. И ее ручка металась над экраном, когда она рассказывала им, как точно рассчитать массу нейтрино, или описывала, очень подробно, колебания струн, при которых образовывались различные кварки, или квантовала пространство таким образом, чтобы гравитино делились на три семейства, и так далее. А ее друзья и коллеги, человек двадцать мужчин и еще одна женщина, перебивали ее, чтобы задать вопросы, добавить уравнения, объясняющие второстепенные проблемы, или рассказать остальным последние новости из Женевы, Пало-Альто или Резерфорда. И на протяжении этого часа они все понимали, что находились в самом центре мира.
А в лабораториях Земли, Марса и астероидного пояса, во многом благодаря ее работам, в результате очень сложных и хрупких экспериментов были обнаружены нетипичные гравитационные волны, открыты причудливые геометрические фигуры отклонений частиц при космической фоновой радиации, найдены вимпы темной материи и виспы теневой материи, объяснены различные семейства лептонов, фермионов и лептокварков, приблизительно описано галактическое комкование первой инфляции и так далее. Создавалось впечатление, будто физика наконец вышла на рубеж Финальной теории. Или, по крайней мере, достигла середины Следующей большой ступени.
Учитывая важность работы Бао, Сакс сам стеснялся заговаривать с ней. Он не хотел тратить ее время на всякие мелочи. Но однажды днем, после распития кавы, когда он стоял на балконе с видом на кратерное озеро Да Винчи, она подошла к нему – еще более робкая и запинающаяся, чем он, до такой степени, что ему пришлось войти в весьма непривычную роль человека, старающегося дать другому почувствовать себя свободнее. Сакс завершал за нее предложения, подбадривал ее и тому подобное. Он старался, как мог, и они запинались вдвоем, беседуя о схемах гравитино, составленных когда-то Расселлом. Эти схемы, как он считал, теперь были бесполезными, но она сказала, что они до сих пор помогали ей увидеть гравитационное воздействие. А когда он спросил ее о занятии, которое прошло в тот день, она сразу расслабилась. Да, это явно ее успокаивало, ему стоило догадаться об этом сразу. Ему и самому нравилась эта тема.
После этого случая они стали время от времени общаться друг с другом. И каждый раз ему нужно было сперва разговорить ее, что он находил довольно любопытной задачей. А когда наступил сухой сезон, осеннее солнечное равноденствие, и он начал выходить в залив из маленькой бухты Альфа, Сакс сбивчиво спросил ее, не хотела бы она к нему присоединиться, и последующее крайне неловкое, прерываемое запинками общение привело к тому, что на следующий день она отправилась с ним на одном из многочисленных катамаранов, которыми располагала лаборатория.
Проплавав весь день, Сакс остановился в небольшой бухте под названием Флорентин на юго-востоке полуострова, где фьорд Рави уже расширялся, но еще не переходил в бухту Гидроат. Это было место, где он учился плавать, и ветра и течения там по-прежнему оставались для него хорошо знакомыми. В более продолжительных плаваниях он исследовал дельту фьордов и бухт на окраине системы Маринер, и три или четыре раза ходил вдоль восточного побережья залива Хриса, до самого фьорда Маурта и вокруг Синайского полуострова.
В этот день, однако, он решил ограничиться Флорентином. Ветер дул с юга, и Сакс привязался к нему, заручившись помощью Бао при каждом изменении направления. Бо́льшую часть пути они молчали. Затем, чтобы завязать, наконец, беседу, Сакс заговорил о физике. Они стали говорить о том, каким образом струны составляли саму ткань пространства-времени, вместо того чтобы просто заменять точки в какой-нибудь абсолютной абстрактной сетке.
– Ты никогда не боялась, что вся работа в этой области, которая не поддается опытам, рухнет, как карточный домик? – поразмыслив, спросил Сакс. – Что ее сведет на нет какое-нибудь расхождение в числах или другая новая теория, которая окажется лучше или которую будет проще подтвердить?
– Нет, – ответила Бао. – То, что настолько красиво, не может не быть истиной.
– Хм, – произнес Сакс, глядя на нее. – Должен признать, мне для такого спокойствия понадобилось бы нечто более существенное. Нечто вроде эйнштейновой ртути – известного расхождения в ранней теории, которое решается благодаря более новой.
– Некоторые считают, что тут эту нишу заполняет недостающая теневая материя.
– Возможно.
Она рассмеялась и сказала:
– Вижу, тебе этого мало. Наверное, нужно что-то такое, что мы сможем сделать сами.
– Необязательно, – сказал Сакс. – Хотя это, конечно, было бы здорово. Я имею в виду, что-то убедительное. Если бы мы лучше это понимали, то могли бы им манипулировать. Как плазмами в термоядерном реакторе. – Он вспомнил об извечной проблеме одной из лабораторий в Да Винчи.
– Мы гораздо лучше бы их поняли, если бы ты смоделировал их, наложив на спиновые сети.
– Правда?
– Думаю, да.
Она закрыла глаза – словно пыталась прочитать ответы на внутренней стороне век. Ответы на все вопросы мира. Сакс почувствовал острый укол зависти… и утрату. Он всегда хотел иметь такую проницательность, какую видел сейчас, в лодке рядом с собой. Наблюдать за гениями всегда интересно.
– Ты думаешь, эта теория станет концом физики? – спросил он.
– О нет. Хотя мы и можем вывести главные принципы. То есть основные законы. Это возможно, да. Но тогда каждый вышестоящий уровень эмерджентности будет создавать собственные проблемы. Работа Танеева только слегка касается этой темы. Это похоже на шахматы: мы можем знать все правила, но все равно не будем хорошо играть из-за эмерджентных свойств. Например, из-за того, что фигуры становятся сильнее, когда выходят на середину доски. В правилах этого нет, но это вытекает из всех правил, вместе взятых.
– Как с погодой.
– Да. Мы уже понимаем в атомах больше, чем в погоде. Взаимодействия элементов слишком сложны, чтобы в них разобраться.
– Это голономия. Изучение целых систем.
– Но пока это не более чем домыслы. Если повезет, станет началом новой науки.
– Как и плазмы?
– Нет, те гомогенны. Зависят только от немногих факторов, поэтому поддаются анализу через спиновые сети.
– Тебе стоит поговорить об этом с термоядерщиками.
– Думаешь? – она удивилась.
– Да.
Затем обрушился сильный ветер, и следующие несколько минут они следили за поведением лодки, за тем, как надувались паруса, пока Сакс их не поднял, чтобы поплыть навстречу укрепляющемуся бризу, к самому солнцу. Свет играл на тонких черных волосах Бао, собранных сзади. А дальше лежали прибрежные скалы Да Винчи. Сети, трепещущие под прикосновением солнца… Нет, он не мог их видеть, ни открытыми глазами, ни закрытыми.
– Ты когда-нибудь задумывалась о своем значении? – спросил он осторожно. – Что ты одна из первых великих женщин-математиков?
Она посмотрела на него удивленно, а затем отвернулась. Он понял, что она об этом уже думала.
– Атомы в плазме движутся по принципам, которые также представляют собой крупные фракталы спиновых сетей, – проговорила она.
Сакс кивнул и задал еще несколько вопросов об этом. Казалось, она сумеет помочь термоядерщикам Да Винчи с проблемами, которые у них возникали при создании легковесного термоядерного двигателя.
– Ты когда-нибудь работала в инженерном деле? Или занималась физикой?
– Я физик, – оскорбленно ответила она.
– Ну, физик-математик. Я сейчас об инженерной работе.
– Физика – это физика.
– Верно.
Он надавил на нее еще лишь раз – теперь косвенно.
– Когда ты впервые занялась математикой?
– В четыре года мама дала мне квадратные уравнения и всякие математические игры. Она работала в статистике и очень все это любила.
– А школы в Дорсе Бревиа…
Она пожала плечами.
– Они неплохие. О математике я в основном читала и переписывалась с кафедрой в Сабиси.
– Понятно.
И они вернулись к разговору о свежих результатах из ЦЕРН[31], о погоде, о способности лодки четко придерживаться направления при ветре. А на следующей неделе она снова вышла с ним – на этот раз на прогулку по береговым скалам полуострова. Он с большим удовольствием показал ей тундру. А спустя какое-то время ей постепенно удалось убедить Сакса в том, что они, вероятно, подбирались к пониманию того, что происходит на уровне Планка. Он подумал, что это в самом деле поразительно – интуитивно постичь этот уровень, а затем строить предположения и выводы, необходимые для того, чтобы понять его в деталях, создать очень сложную и сильную физическую картину области, которая так мала и лежит далеко за пределами восприятия. Это ввергало в трепет. Ткань реальности. Хотя они оба считали, что, как и в случаях с более ранними теориями, многие важные вопросы оставались без ответа, это неизбежно. Так что они могли лежать в траве на солнце, бок о бок, и разглядывать лепестки тундровых цветов – так же, как это делать мог кто угодно другой, – и неважно, что происходило на уровне Планка, у них было лишь здесь и сейчас, где лепестки светились на солнце голубым цветом, наполненные какой-то таинственной, приковывающей внимание силой.
Лежа в траве, он понял, как сильно таял вечномерзлый грунт. И оттаявшая масса оставалась поверх подпочвенного, все еще мерзлого слоя, отчего поверхность была подмокшей и вязковатой. Когда Сакс встал, его спина мгновенно охладилась под бризом. Он вытянул руки к свету. Дождь из фотонов, колеблющихся в спиновых сетях.
Возвращаясь к марсоходу, он рассказал Бао, что во многих регионах выход тепла атомных электростанций направлялся по капиллярным галереям в вечномерзлые грунты. Это вызывало проблемы в некоторых влажных областях, где поверхность чересчур насыщалась водой. Иными словами, земля таяла. Быстро превращалась в болото. И при этом – весьма активный биом. Правда, Красные были против. Но бо́льшая часть земли, подверженной воздействию этого таяния, все равно находилась на дне Северного моря. А те немногие участки, что оставались на суше, расценивались как болота и марши.
Остальная часть гидросферы менялась почти такими же темпами. И с этим ничего нельзя было поделать: вода хорошо точила камень, как ни трудно в это поверить, глядя на легкие водопадики, струящиеся по береговым скалам и превращающиеся в белую мглу задолго до попадания в океан. Но были и тяжелые шумные волны, бьющие по утесам с такой силой, что земля тряслась под ногами. Пройдет несколько миллионов лет, и эти утесы заметно изменят свой вид.
– Ты видел береговые каньоны? – спросила она.
– Да, долина Ниргал. Там так удивительно видеть воду на дне. Она так хорошо смотрится.
– Я и не знала, что теперь здесь столько тундры.
Он объяснил ей, что тундра вообще преобладала в большей части южных гор. Тундра и пустыня. В тундре частицы крепко приставали к земле, и никакой ветер не действовал ни на пыль, ни на болота, которых здесь было изрядное количество и которые придавали опасности путешествиям по некоторым отдельным регионам. Но в пустынях сильные ветры вырывали огромные массы пыли, которые поднимались в небо и понижали температуру, затеняя дневной свет, а когда опадали, создавали проблемы, как в случае с посадками Ниргала. Вдруг он, пытливо взглянув на нее, спросил:
– Ты когда-нибудь встречалась с Ниргалом?
– Нет.
Конечно, в последнее время песчаные бури не имели ничего общего с давно забытой Великой бурей, но оставались обстоятельством, которое нельзя не принимать во внимание. Весьма многообещающим решением было создать там пустынный панцирь из микробактерий, но он зафиксировал бы лишь верхний сантиметр грунта, и стоит ветру оторвать его краешек, как он опять разнесет все, что залегает под ним. Проблема не из простых. Пылевые бури могли угрожать еще не одно столетие.
Но у них уже была активная гидросфера. А это означало, что теперь повсюду будет зарождаться жизнь.
Мать Бао погибла при крушении самолета, и Бао как младшей дочери пришлось отправиться домой, чтобы обо всем позаботиться и принять во владение фамильный дом. Вот он, минорат в действии, еще и основанный на матриархате хопи[32], как она ему пояснила. Бао точно не знала, вернется ли обратно – была вероятность, что нет. Она говорила об этом как о некой данности, словно так и должно было быть. Она как будто уже находилась в своем внутреннем мире, и Саксу оставалось лишь помахать ей рукой на прощание и, качая головой, вернуться в свою комнату. Они хотели понять фундаментальные законы вселенной, прежде чем научились хоть чуть-чуть управляться с обществом. А это был очень неподатливый объект для изучения. Он позвонил по видео Мишелю и выразил ему что-то в этом роде, на что тот ответил:
– Это все потому, что культура не стоит на месте, развивается.
Сакс понял, что Мишель имел в виду – сейчас быстро менялось отношение к различным вещам. Wertewandel, как называл это Бела, – переоценка ценностей. Но они по-прежнему жили в обществе, борющемся со всякого рода архаизмами. Приматы, объединяющиеся в племена, охраняющие территорию, молящиеся богу, как какому-то мультяшному родителю…
– Иногда мне кажется, что никакого развития нет, – печально проговорил он.
– Но, Сакс, – возразил Мишель, – ведь мы здесь, на Марсе, видели, как пришли к концу патриархат и право собственности. А это одно из величайших достижений в истории человечества.
– Если это действительно так.
– Разве ты не считаешь, что женщины сейчас имеют столько же власти, сколько мужчины?
– Насколько я могу судить, имеют.
– И даже больше, если говорить о деторождении.
– Это логично.
– А земля находится в совместном управлении всеми людьми. У нас в собственности еще остались личные вещи, но собственности на землю здесь не было никогда. Это новая общественная реальность, и мы боремся за нее каждый день.
И это действительно было так. Сакс вспомнил, какими острыми оказывались конфликты раньше, когда право владения и капитал считались нормальными явлениями. Да, пожалуй, это было правдой: патриархат и право собственности исчезали из общественной жизни. По крайней мере, на Марсе, по крайней мере, пока. Но, как и в случае с теорией струн, может понадобиться немало времени, чтобы ситуация с ними наладилась. Все-таки даже сам Сакс, имевший предубеждение против всего и вся, пришел в изумление, когда увидел работу женщины-математика. Или, если точнее, женщины-гения. Которой он был буквально заворожен, равно как и все остальные мужчины из группы теоретиков – до такой степени, что, когда она уехала, они оказались словно убиты горем.
– Но на Земле воюют так же, как и до этого, – беспокойно проговорил он.
И даже Мишель был вынужден с этим согласиться.
– Демографическое давление, – объяснил он, словно отмахиваясь от этой проблемы. – Там слишком много людей, и число их постоянно растет. Ты же видел, каково это, когда мы там были. И пока Земля остается в таком положении, Марс будет находиться под угрозой. Значит, нам тоже придется бороться.
Сакс кивнул. Это в некотором смысле успокаивало; людское поведение не было непреодолимо злым или глупым, но соответствующим обстановке, полурациональным и, оглядываясь на историю, – опасным. Каждый хватал, что мог, понимая, что на всех не хватит, и делал все, чтобы защитить свое потомство. Конечно, совокупный эгоизм каждого ставил под угрозу всех, но это, по крайней мере, можно было назвать попыткой действовать разумом, первым признаком адекватности.
– Сейчас дела уже не так плохи, как раньше, – продолжал Мишель. – Даже на Земле люди заводят гораздо меньше детей. И они довольно успешно преобразовывают коллективы с учетом наводнения и всех бед, что его предваряли. Возникло множество новых общественных движений, и часть из них вдохновлялась тем, чем мы занимаемся здесь. И тем, чем занимается Ниргал. Они до сих пор следят за ним и готовы слушать, даже когда он не говорит. То, что он заявил, когда мы там были, до сих пор имеет большой отклик.
– Полагаю, что так.
– Ну еще бы! Дела налаживаются, ты должен это признать. А когда антивозрастная терапия перестанет помогать, наступит баланс рождаемости и смертности.
– И это случится уже скоро, – мрачно предрек Сакс.
– Откуда ты знаешь?
– Уже проявляются разные признаки. Люди умирают то от одного, то от другого. Старение – это сложный процесс. Продолжать жить после того, как оно наступило, – это чудо, которого мы уже достаточно повидали. У старения, очевидно, есть какая-то своя цель. Наверное, избежать перенаселения. Освободить место под новый генетический материал.
– Для нас это не сулит ничего хорошего.
– Мы уже превысили среднюю продолжительность жизни более чем на двести процентов.
– Согласен, но тем не менее. Никто не захочет умирать только из-за этого.
– Нет. Но нам нужно сосредоточиться на настоящем моменте. Кстати, об этом: почему ты не выходишь со мной в поле? Я буду очень этому рад, да ты и сам хочешь. Это же невероятно интересно!
– Я постараюсь немного освободиться от дел. У меня сейчас много клиентов.
– Да у тебя полно свободного времени. Сам посмотришь.
Солнце висело высоко. Круглые белые облака сбивались в кучу над головой, образуя огромные формы, неповторимые, несмотря на то, что казались твердыми, как мрамор, только затемняющиеся в нижних частях. Они несли дождь. Сакс снова стоял на западном обрыве полуострова Да Винчи и смотрел через фьорд Шалбатана на скалу, которой плато Луна заканчивалось на востоке. За его спиной возвышался плоский холм, служивший ободом кратера Да Винчи. Родная база. Он уже долго прожил в этом месте. В последнее время их кооператив строил спутники и выводил их на орбиту, а также ракетоносители – сотрудничая с лабораторией Спенсера в Одессе и многими другими. Кооператив, устроенный по мондрагонскому принципу, управляющий рядом лабораторий, домов на ободе, а также полей и озер на дне кратера. Некоторых здесь донимали ограничения судов, наложенные на задуманные ими проекты, в которых требовалось ввести новые электростанции, что повлекло бы выброс слишком большого количества тепла. В последние годы МПС выпускал так называемые К-нормы, которые давали сообществам право добавлять сколько-то градусов Кельвина к глобальному потеплению. Некоторые общины Красных прикладывали все усилия, чтобы получить как можно бо́льшую К-норму и не воспользоваться ей. Это, а также постоянные случаи экотажа не позволяли потеплению развиваться слишком быстро, даже несмотря на действия других сообществ. Во всяком случае так утверждали в этих сообществах. Но экосуды все равно выдавали К-нормы очень ограниченно. Решения выносили местные экосуды, затем одобрялись МПС и все: никаких апелляций, если только не собрать петицию, подписанную пятьюдесятью другими сообществами, но и тогда этот вопрос просто увяз бы в трясине мирового законодательного собрания, где его судьбу определяла неорганизованная толпа членов думы.
Медленный прогресс. Тем же лучше. Пока средняя мировая температура была выше температуры замерзания, Сакс был спокоен. Без ограничений МПС она легко могла взлететь выше, чем нужно. Нет, он уже никуда не спешил. Он стал сторонником стабилизации.
Сейчас в солнечный день перигелия стояла бодрящая температура 281 градус по Кельвину, и он гулял вдоль выходящего к заливу края обода Да Винчи, рассматривая альпийские цветы, росшие в трещинах. Потом взглянул дальше, на далекий квантовый блеск подсвеченной солнцем поверхности фьорда, и увидел, что ниже по краю шла высокая женщина в лицевой маске, куртке и тяжелых альпинистских ботинках: Энн. Он узнал ее мгновенно – этот широкий шаг не вызывал сомнений. Энн Клейборн, собственной персоной.
Эта неожиданность пробудила в его памяти сразу два воспоминания: о Хироко, появляющейся среди снега, чтобы отвести его к марсоходу, и о самой Энн, в Антарктике, которая шла такими же шагами по скале, чтобы встретиться с ним – но зачем?
Смятенный, он попытался сосредоточиться на этой мысли. Двойной образ… быстрый одиночный…
Затем Энн оказалась перед ним, и воспоминания пропали, как забытый сон.
Он не видел ее с тех пор, как заставил пройти процедуру омоложения в Темпе, и теперь весьма тревожился – и, возможно, даже был напуган. Но, конечно, вряд ли она стала бы прибегать к физическому насилию. Хотя раньше это и случалось. Но это никогда не было тем насилием, которое бы его беспокоило. Тот раз в Антарктике… он попытался ухватиться за ускользающее воспоминание, но снова его потерял. Такие воспоминания всегда пропадали, если хорошенько попытаться их восстановить. Почему так – оставалось загадкой. Он не знал, что сказать.
– У тебя появился иммунитет к диоксиду углерода? – спросила она через маску.
Он рассказал о новой гемоглобиновой терапии, старательно выговаривая каждое слово, так же, как говорил после инсульта. На середине его рассказа она рассмеялась вслух.
– Крокодилья кровь, значит?
– Да, – согласился он, угадывая ход ее мыслей. – Кровь крокодила, мозг крысы.
– Сотни крыс.
– Да. Особых крыс, – поправил он, стараясь быть точным. Ведь мифы имели свою строгую логику – и Леви Страусс служил этому примером. Он хотел сказать, это были гениальные крысы, целые сотни, каждая из которых была гениальна. Даже самые безнадежные его студенты вынуждены были это признать.
– С измененным сознанием, – она продолжила развивать его мысль.
– Да.
– А после твоей мозговой травмы – измененным дважды, – заметила она.
– Точно. – Такие мысли ввергали Сакса в уныние. Те крысы оказались далеко от дома. – С повышенной пластичностью мозга. А ты…
– Нет, я этого не делала.
Да, это была старая добрая Энн. Он надеялся, что она пройдет лечение сама. Что она увидит свет. Но нет. Вместе с тем стоящая перед ним женщина не была той самой Энн, была не совсем той. Ее взгляд… Он привык к тому, что она смотрит с некоторой ненавистью. Еще со времен их раздоров на «Аресе», а то и раньше. У него было время, чтобы к этому привыкнуть. Или, по крайней мере, изучить этот взгляд.
А сейчас, когда на ней была маска, выражение лица было не таким – это вообще практически другое лицо. Она внимательно на него смотрела, но кожа вокруг глаз уже не натягивалась, как раньше. Лица их обоих покрывали морщины, очень густо, но рисунок морщин говорил о том, что мышцы их лиц расслаблены. А под маской у нее, возможно, даже скрывалась улыбка. Сакс не знал, как это воспринимать.
– Ты провел мне процедуру омоложения, – сказала она.
– Да.
Должен ли он извиняться, если не сожалел об этом? Лишившись дара речи, он смотрел на нее, как птица, замершая при виде змеи, и надеялся увидеть хоть какой-нибудь знак, что все хорошо, что он поступил правильно.
Она неожиданно обвела рукой окружающий их пейзаж.
– Что ты сейчас пытаешься сделать?
Он с трудом понял смысл ее вопроса – тот показался ему гномическим, как коан.
– Я хожу и смотрю, – проговорил он. Он не мог думать о том, что говорил. Речь, со всеми ее прекрасными словами, внезапно ускользнула от него, словно стая испуганных птиц. И оказалась вне его досягаемости. Значения всех слов вмиг перестали существовать. Осталось лишь двое животных, стоящих друг против друга под лучами солнца. Смотри, смотри, смотри!
Она больше не улыбалась – да и улыбалась ли до этого? И не сверлила его взглядом. Она смотрела скорее оценивающе, словно он был для нее камнем. А если Энн считала его камнем, для него это был шаг вперед.
Но затем она отвернулась и двинулась вниз по скале к небольшому порту в Зеде.
Сакс вернулся в кратер Да Винчи, несколько ошеломленный. Там проходил ежегодный Вечер русской рулетки, на котором они выбирали представителей мирового парламента и распределяли различные должности в кооперативе. После ритуального вытягивания имен из шляпы они благодарили людей за их работу, проведенную за год, утешали тех, на кого пал жребий в этот раз, а затем большинство оставшихся отмечало то, что эта участь прошла мимо них.
Распределение административных должностей случайным образом практиковалось в Да Винчи потому, что это был единственный способ заставить людей работать в парламенте и занимать должности в кооперативе. Как ни смешно, после всех их стараний дать каждому гражданину полноценное участие в самоуправлении оказалось, что сами техники Да Винчи просто на дух не переносили подобной работы. Они хотели лишь заниматься своими исследованиями.
– Нужно полностью предоставить администрирование искину, – заявил Конта Арай между глотками пенящегося пива из глиняной кружки. Он предлагал это каждый год.
Аония, прошлогодний представитель в думе, напутствовала тех, кого выбрали в этот раз:
– Вы отправитесь в Мангалу и будете просто сидеть и что-то обсуждать, а основную работу сделают штатные служащие. Бо́льшая ее часть ляжет на совет, суды и партии. По-настоящему управляют этой планетой аппаратчики «Свободного Марса». Зато это по-настоящему красивый город, там здорово плавать по заливу под парусами и скользить на буерах зимой.
Сакс ушел с вечеринки. Кто-то стал жаловаться на то, что в южной части залива появлялось слишком много новых прибрежных городов, которые теперь их окружали. Это выражение недовольства и было политикой в самом распространенном ее виде. Никто не хотел ею заниматься, но все с радостью выражали свое недовольство по этому поводу. Такое обсуждение могло продлиться у них с полчаса, после чего они обычно возвращались к разговорам о работе.
Одна группа уже перешла к рабочим вопросам, догадался Сакс, заметив, что лица в этой компании повеселели. Подойдя к беседующим, он понял, что они говорили о ядерном синтезе. Сакс остановился: оказалось, они восхищены последними успехами своей лаборатории в создании импульсного термоядерного двигателя. Непрерывный ядерный синтез появился несколько десятилетий назад, но для этого требовались огромнейшие токамаки, и установки были слишком габаритными, тяжелыми и дорогими, чтобы использовать их в некоторых ситуациях. Эта же лаборатория пыталась быстро и многократно схлопывать мелкие топливные гранулы и использовать результаты синтеза для питания энергией.
– Это Бао вам подсказала? – спросил Сакс.
– Да, конечно, прежде чем уехать, она зашла, чтобы рассказать нам о моделях плазмы, это не сразу помогло, это настоящее макро по сравнению с тем, чем она обычно занимается, но она чертовски умна, а потом она сказала Янанде задуматься над тем, как можно изолировать схлопывание так, чтобы потом осталось место для выпуска тепла.
Им требовались лазеры, чтобы разрушить гранулы со всех сторон одновременно, но нужно было еще оставить отдушину для выхода заряженных частиц. Оказалось, что Бао также интересовалась этой проблемой, и теперь они снова начали живо обсуждать вопрос, который, как они считали, был уже решен, и, когда кто-то ворвался в их круг и заговорил о результатах лотереи этого дня, на него шикнули:
– Ка, пожалуйста, не надо о политике.
Сакс двинулся дальше, вполуха слушая разговоры, мимо которых проходил, и в очередной раз задумался об аполитичности большинства ученых и техников. В политике было что-то, чего они не переносили, и стоило признать, он и сам это ощущал. Политика была в невероятной степени субъективной и стремилась к компромиссам, что полностью противоречило сути научного метода. Действительно ли это так? Эти чувства и предубеждения были субъективны сами по себе. Политику можно было рассматривать как своего рода науку – длительную серию экспериментов над общественной жизнью, в которых, скажем, все данные неизменно искажаются. То есть люди построили систему управления, подчинились ей, посмотрели, каково это, потом изменили систему и попробовали снова. Некоторые постоянные принципы, казалось, закрепились на протяжении веков, поскольку вытекали из их экспериментов и парадигм и последовательно приводили ко все более удачной системе, которая обеспечивала бы благосостояние, личную свободу, равенство, разумное управление землей и рынками, верховенство права, всеобщее сочувствие. После ряда экспериментов стало ясно – во всяком случае на Марсе, – что все эти цели подчас противоречили друг другу и могли быть достигнуты лишь в поликратии, сложной системе, при которой власть распределялась на множество институтов. В теории эта сеть распределенной власти, отчасти централизованной, отчасти децентрализованной, обеспечивала наибольшее количество личной свободы и общественных благ, доводя до максимума степень контроля, которые индивид имеет над своей жизнью.
Итак, политическая наука. Вполне складная – в теории. Но из этого следовало, что если они верили в теорию, то людям приходилось тратить много времени на то, чтобы упражняться в применении своей власти. Это и было самоуправлением, словно следуя игре слов, – они управляли собой. И это отнимало время. «Тот, кто ценит свободу, должен сделать все необходимое для ее защиты», – сказал когда-то Том Пейн, и Сакс знал об этом благодаря дурной привычке Белы, который любил вывешивать в коридорах плакаты с подобными вдохновляющими изречениями. «Наука – это политика иными средствами», – извещал другой, весьма загадочный плакат.
Но большинство работающих в Да Винчи не хотели занимать этим свое время. «Социализм никогда не достигнет цели, – заметил Оскар Уайльд (о чем свидетельствовала надпись, сделанная от руки и вывешенная на другом плакате), – он отнимает слишком много вечеров». Так оно и было: чтобы его достичь, требовалось заставить своих друзей посвятить этому свои вечера. Поэтому они и проводили выборы лотерейным способом, смирившись с рассчитываемым риском того, что избранный мог когда-нибудь не справиться со своей задачей. Но обычно риск оправдывался. Поэтому эти ежегодные вечеринки получались такими веселыми: сотрудники входили и выходили через французские двери общего зала, собирались на открытых террасах с видом на кратерное озеро и оживленно там беседовали. Даже те, на кого пал жребий, утешившись каваявой и алкоголем, тоже бодрились, вероятно, думая, что власть – это все-таки власть, что они получали некоторые возможности повлиять на то, что происходит с ними прямо сейчас, – досадить соперникам, сделать благо для тех, на кого желали произвести впечатление, и прочее. Так что система в очередной раз проявила свою дееспособность, и новые лица заняли места во всем поликратическом ряду: в районных, сельскохозяйственных, водных, архитектурных комитетах, в советах по обсуждению проектов, координации экономики, в совете кратера, координирующего все эти младшие советы, во всемирном консультативном совете. То есть по всей сети мелких органов, которую теоретики в той или иной форме предлагали веками и которая сочетала в себе черты почти забытого британского гильдейского социализма, югославского управления трудящихся, мондрагонского права собственности, системы землевладения в Керале и прочих. И пока она вроде бы работала – в том смысле, что техники Да Винчи казались примерно такими же независимыми и счастливыми, что и в неопределенные подпольные годы, когда все делалось, судя по всему, инстинктивно или, если точнее, по общему согласию населения Да Винчи, которое в то время было гораздо малочисленней, чем теперь.
Они явно выглядели счастливыми, выстраиваясь в ряды возле больших сосудов каваявы и ирландского кофе или кег с пивом, сбившись в шумные кучки, и шум их голосов расходился волнами, как на любой другой коктейльной вечеринке, – все голоса звучали одновременно, сливаясь в удивительную гармонию. Хор голосов – музыка, которую никто не слушал сознательно, кроме Сакса; он же, слушая ее, подозревал, что этот шум, пусть они и не замечали его, служил одной из причин, по которой люди на вечеринках становились такими радостными и общительными. Стоило собрать вместе двести человек, дать им общаться так, что каждая беседа была бы слышна лишь небольшой кучке стоящих рядом, – и получалась прекрасная музыка!
Таким образом, управление Да Винчи оказалось успешным экспериментом, даже несмотря на то, что граждане проявляли к нему небольшой интерес. Иначе они не могли бы быть такими счастливыми. Вероятно, игнорирование правительства – правильная стратегия. Вероятно, хорошим правительством стоило считать то, которое можно было спокойно игнорировать, чтобы «с удовольствием вернуться к своей работе», как только что воскликнул бывший председатель водного комитета. То есть самоуправление здесь не рассматривалось как часть своей работы!
Но были и те, кому эта работа приходилась по душе тем, что сочетала в себе теорию с практикой, давала возможность участвовать в спорах, нескончаемых обсуждениях, решать проблемы, сотрудничать с другими людьми, служить обществу, обладать властью. И эти люди оставались по два срока, а то и на три, если это допускалось, а потом добровольно брались за какое-нибудь общественное задание и, как правило, занимались сразу несколькими такими заданиями одновременно. Бела, например, уверял, что ему не по нраву быть председателем лаборатории лабораторий, но теперь собирался занять место в добровольческой консультативной группе, где всегда оставались свободные места. Сакс подошел к нему и спросил:
– Ты согласен с Аонией, что «Свободный Марс» – доминирующая политическая сила?
– О, несомненно, я в этом уверен. Их партия просто слишком велика. Они завладели судами и решают вопросы в свою пользу. Полагаю, они намереваются контролировать все новые астероидные колонии. Ну и заодно захватить Землю. И туда вступают все политически активные молодые уроженцы – их притягивает как магнитом.
– То, что они пытаются доминировать в других поселениях…
– Что?
– Похоже, это ведет к беде.
– Так и есть.
– Ты слышал, что говорят о легковесном термоядерном двигателе?
– Да, немного.
– Ты бы подумал, как поддержать эту идею. Если у нас будут космические корабли с такими двигателями…
– То что, Сакс?
– Транспортные средства, способные передвигаться с такой скоростью, смогут создать эффект, который сведет на нет доминирование любой партии.
– Ты так думаешь?
– Ну, тогда положение будет трудно контролировать.
– Да, полагаю, что так. Хм, что ж, я еще подумаю над этим.
– Хорошо. Наука – это политика иными средствами, помнишь?
– Это точно! Это точно. – И Бела отошел к кеге с пивом, бормоча что-то себе под нос, а потом приветствовал очередную группу, которая приблизилась к нему.
Так сам собой сформировался бюрократический класс, которого всегда страшились многие политические идеологи – класс экспертов, которые управляли обществом и предположительно не должны были ослаблять свою хватку. Но на кого бы они оставили свои посты? Кто еще хотел их занять? Насколько мог сказать Сакс – никто. Бела, если бы захотел, мог остаться в консультативной группе навсегда. Эксперт, от латинского «experiri» – «пытаться». Как бы проводить эксперимент. Выходит, это было правление экспериментаторов. Попытки пытающихся. По сути, правление тех, кому это интересно. Новая форма олигархии. Но какой еще у них был выбор? Когда приходилось таким образом набирать людей в органы власти, то понятие самоуправления как личной свободы превращалось в нечто парадоксальное.
Гектор и Сильвия, из посетителей курса Бао, вырвали Сакса из забытья и пригласили спуститься и послушать, как их музыкальная группа будет играть избранные композиции из оперы «Мария де Буэнос-Айрес». Сакс, согласившись, проследовал за ними.
Перед входом в небольшой амфитеатр, где должен был состояться концерт, Сакс остановился у столика с напитками и налил себе очередную чашечку кавы. Дух праздника витал здесь повсюду. Гектор и Сильвия, светящиеся от удовольствия, поспешили на свои места, чтобы приготовиться к выступлению. Наблюдая за ними, Сакс вспомнил свою недавнюю встречу с Энн. Если бы он только мог тогда как следует думать! Но он оказался совершенно на это неспособным! Если он сейчас снова стал Стивеном Линдхольмом, то, наверное, это бы ему помогло. И где теперь была Энн, о чем она сейчас думала? И что она тогда там делала? Просто ли странствовала по Марсу, будто призрак, переходя с одной станции Красных на другую? Чем теперь занимались Красные, как жили? Собирались ли взорвать Да Винчи, нарушила ли его случайная встреча с ней их планы? Нет, нет. Экотажники все еще вели свою деятельность, орудуя гаечным ключом, но, когда терраформирование стало регулироваться законом, большинство Красных так или иначе стало частью общества. Они превратились в важную политическую силу, одну из многих, всегда были начеку и быстро принимали решения – они были куда сильнее заинтересованы в политике, чем менее идейные граждане, – но в целом пришли к нормальности. Какое место среди них предназначалось для Энн? С кем она была в команде?
В принципе, он мог позвонить ей и спросить.
Но он боялся звонить, боялся спрашивать. Боялся говорить с ней! Во всяком случае, по видео. И вживую, наверное, тоже. Она так и не сказала, как относится к тому, что он омолодил ее против ее воли. Он не услышал ни благодарности, ни проклятий – ничего. Что она думала? Что она теперь думает?
Вздохнув, он отпил кавы. На сцене уже начинали. Гектор произносил речитатив на испанском таким музыкальным и выразительным голосом, что Сакс понимал его по одному только тону.
Энн, Энн, Энн. От такого навязчивого интереса к мыслям другого человека становилось неуютно. Гораздо легче было сосредотачиваться на планете, камнях и воздухе, на биологии. Такое занятие поняла бы и сама Энн. Было что-то завораживающее и в экопоэзисе. Рождение мира. Неподвластное им. И все равно ему было интересно, что на этот счет думала она. Может, он еще когда-нибудь случайно ее встретит…
Тем временем жизнь продолжалась. Он снова вышел на природу. На бугристую землю под куполом голубого неба. Весной небо на экваторе меняло цвет день ото дня, и, чтобы определить его хотя бы приблизительно, требовалась цветовая шкала. Оно бывало фиолетово-голубым, цвета княжика, гиацинта, лазурита, индиго с лиловым оттенком. Или цвета прусской лазури, который получался из-за ферроцианида двухвалентного железа, он здесь в изобилии. Железной лазури. Чуть более пурпурной, чем небо над Гималаями на фотографиях, но не такой, как на земном небе на большой высоте. И все же в сочетании с каменистым неровным ландшафтом все оружающее Сакса казалось высокогорной местностью. Высокогорье проявляло себя цветом неба, бугристыми скалами, прохладным разреженным воздухом, чистым и бодрящим. Все, как на высоте. Он шел навстречу ветру, поперек ему, с ветром за спиной – и каждый раз получал разные ощущения. Ветер проникал в ноздри и, словно мягкий алкоголь, опьянял мозг. Сакс ступал по покрытым лишайником камням, переходя с одной плиты на другую, будто идя по своему личному тротуару, который волшебным образом появлялся из развороченной земли. Он шел то вверх, то вниз, делал шаг за шагом, сосредотачиваясь на конкретности каждого момента. Мгновение за мгновением, каждое по отдельности, как петли пространства-времени, о которых говорила Бао, как последовательные положения головы вьюрка, маленькой птички, с планковской быстротой меняющей одну квантовую позицию за другой. При тщательном рассмотрении выяснялось, что мгновения не были типовыми единицами, а различались по длительности в зависимости от того, что в них происходило. Ветер стих, птиц не было и в помине: все внезапно замерло, о, как стало спокойно, лишь насекомые продолжали жужжать – такие мгновения могли тянуться по несколько секунд каждое. А мгновения, когда воробьи вступали в воздушный бой с вороном, быстро проносились одно за другим. Стоило хорошенько присмотреться, и становилось ясно: они то протекали постепенно, то сменялись с резкостью, находящейся где-то на уровне Планка.
Чтобы знать… Существовали разные виды знаний, но ни один из них не был столь же удовлетворительным, считал Сакс, как прямое понимание чувств. Здесь, в ослепительно весеннем свете и при холодном ветре, он вышел на край обрыва и взглянул вниз на ультрамариновую гладь фьорда Симуд, посеребренного мириадами ярких вспышек, отражавшихся на воде. По утесам на дальней стороне тянулись полосы, и в некоторых из них образовались зеленые выступы, разделяющие слои базальта. А перед ними, над водой, проносились чайки, тупики, крачки, скопы и кайры.
Изучив немало фьордов, он понял, что у него были свои любимые среди них. Флорентин, строго на юго-восток от Да Винчи, представлял собой приятный овальный участок воды, и прогуливаться по невысоким утесам с живописным видом на него было здорово. На этих утесах росла густая, как ковер, трава, и Сакс воображал себе, что так же, должно быть, выглядело побережье Ирландии. Обрывы становились мягче, и трещины в них заполнялись почвой и растениями, которые держались за насыпи вопреки углу откоса, так что можно было даже ходить по этим клочкам земли, раздавшимся между острыми зубами все еще голых скал.
Облака плыли с моря, и шли дожди, стойкие ливни, которые все пропитывали водой. На следующий день после бури в воздух поднимался пар, земля булькала и сочилась, а каждый шаг мимо голого камня увязал в грязи. Болота, трясины, топи. Скрюченные мелкие леса в низких каналах. Проворная коричневая лиса, которую он заметил краем глаза как раз перед тем, как она юркнула за можжевельник. Скрываясь от него, преследуя кого-то? Кто мог это знать? Она шла по своим делам. Волны ударяли о береговые скалы, затем отступая и создавая интерференционные узоры, объединяясь с теми, что только набегали на них, – восхитительное зрелище! И как странно было видеть, что мир подчинялся законам математики. Это была неумеренная сила, проникавшая таким образом в самое сердце Великого необъяснимого.
Каждый закат отличался от других, и причиной тому служили остаточные частицы в верхних слоях атмосферы. Они поднимались так высоко, что часто оставались подсвеченными солнцем еще долго после того, как все остальное погружалось в сумерки. И Сакс сидел на береговой скале на западной стороне, завороженный садящимся солнцем, а затем и сумерками, наблюдая за тем, как меняется цвет, пока все небо не становилось черным, потом иногда появлялись ночные светящиеся облака, в тридцати километрах над землей, мерцающие широкими полосами, как ракушки моллюсков.
Оловянное небо пасмурного дня. Багровый закат при сильном ветре. Ощущение тепла солнца на коже, в тихие, безветренные вечерние часы. Мерные накаты волн у подножий скал. Прикосновения ветра, его порывы в воздухе.
Но как только наступили темно-синие сумерки и зажглись крупные неясные звезды, Саксу стало не по себе. «Снежные полюса безлунного Марса», – написал Теннисон всего за пару лет до открытия спутников. Безлунный Марс. В этот час Фобос когда-то вспыхивал над западным горизонтом, словно пламя. Если существовал самый подходящий час, чтобы предаться ареофании, то это был он. Страх и Ужас. И Сакс собственноручно завершил десателлизацию. Они могли взорвать любую военную базу, которую построили бы на Фобосе, – о чем он вообще думал? Теперь он этого не помнил. Какое-то желание добиться симметрии; вверх, вниз; но симметрия, пожалуй, была качеством, которое ценилось, прежде всего, математиками и лишь потом остальными людьми. Вверх. Деймос где-то все еще вращался по орбите вокруг Солнца.
– Хм-м.
Он поискал информацию об этом на наручной консоли. Возникало множество новых колоний: люди устраивали полости в астероидах и раскручивали их, чтобы создать внутри гравитационное воздействие, а потом там заселялись. Создавали новые миры.
Одно слово привлекло его внимание. Псевдофобос. Он прочитал подробнее: это неофициальное название астероида, напоминавшего потерянную луну формой и размерами.
– Хм-м. – Сакс нашел фотографию. Оказалось, что сходство было поверхностным. Тоже трехосный эллипсоид – но разве это относилось не ко всем астероидам? Форма картофелины, правильный размер, добрая вмятина с одной стороны, стикниподобный кратер. Стикни… внутри него было хорошее маленькое поселение. Что значит имя? Допустим, если отбросить «псевдо»… Пара разгонных двигателей, искин, несколько боковых сопел… И тот удивительный момент, когда Фобос появляется на западном горизонте.
– Хм-м-м, – произнес Сакс.
Проходили дни, проходили времена года. Он занимался полевыми исследованиями в области метеорологии. Изучал воздействие атмосферного давления на образование облачности. Для этого он ездил по полуострову или ходил пешком, нося с собой воздушные шары и змеев. Метеозонды были теперь весьма изящными: аппаратура весом менее десяти граммов поднималась в корзине на восьмиметровом тросе. Они могли достигать самой экзосферы.
Саксу нравилось раскладывать зонд на ровном участке песка или травы, со стороны, куда дует ветер, от себя, затем садиться, брать в руки небольшой груз и нажимать рычажок, наполняя шар сжатым водородом, а потом следить за тем, как он, расправляясь, взлетал к небу. Когда Сакс держался за трос, его почти поднимало на ноги, и, если у него не было перчаток, трос, как Сакс быстро усвоил, мог порезать ему руки. А отпуская трос, он падал на песок и следил за красной точкой, мерцающей на ветру, до тех пор, пока та не уменьшалась до размера булавочной головки и не пропадала из виду совсем. Это происходило на высоте около тысячи метров, в зависимости от облачности; однажды она пропала на 479 метрах, в другой раз – на 1352-х, тогда выдался по-настоящему ясный день. После этого он читал какие-то данные на наручной консоли, сидя на солнце и чувствуя, как частичка его души улетает в космос. Удивительно, что нужно человеку для счастья!
С воздушными змеями было так же здорово. Они немного сложнее шаров, но доставляли особое удовольствие осенью, когда сильные и настойчивые пассаты дули каждый день. Сакс выходил на какой-нибудь из западных утесов, совершал короткую пробежку навстречу ветру и запускал змея. Большой и оранжевый, он качался то в одну, то в другую сторону, а поднявшись повыше, где ветры были более размеренными, выравнивался, и Сакс разматывал шнур, чувствуя по его легкому дрожанию каждый порыв ветра. Или же вставлял катушку в какую-нибудь трещину и просто наблюдал, как змей, взмывая вверх, уносился прочь. Его шнур был едва различим. Когда катушка раскручивалась полностью, то шнур начинал гудеть, а если он держал ее между пальцами, колебания ветра создавали нечто, напоминавшее музыку. Змей мог оставаться вверху по нескольку недель, скрытый из виду, а если держать его достаточно низко – казался крошечной точкой в небе. И все это время он передавал данные. Квадратный объект был виден с гораздо большего расстояния, чем круглый такой же площади. Вот уж забавный зверь – человеческий разум!
Мишель позвонил поболтать просто так. Саксу такой тип общения давался труднее всего. Мишель на экране опускал взгляд, косясь немного вправо, а когда он говорил, становилось видно, что мыслями он находится где-то в другом месте, что он в печали и что Саксу нужно было взять инициативу в разговоре на себя.
– Приезжай, развеемся, – повторил Сакс в очередной раз. – Мне кажется, тебе действительно нужно. – Хотя как это вообще можно было увидеть? Но он снова повторил: – Мне кажется, тебе это действительно нужно. – Ох уж это «бросание вместе»! – Да Винчи похож на западное побережье Ирландии. Край Европы, сплошные зеленые мысы над огромным простором воды.
Мишель неопределенно кивнул.
А пару недель спустя был здесь и шел по коридору в Да Винчи.
– Я был бы рад увидеть край Европы.
– Вот это я понимаю!
На следующий день они отправились в поездку на целый день. Сакс повез его на запад к скалам Шалбатаны, где они выбрались из машины, чтобы пойти пешком на север, в сторону Симшал-Пойнта. Отправиться со старым другом в столь красивое место было для Сакса сущей радостью. И вообще, встреча с кем-либо из первой сотни становилась для него светлым пятном посреди обыденности, редким событием, которое он высоко ценил. Могли пройти недели своим чередом, а потом вдруг появлялся кто-то из старых друзей, и Саксу казалось, будто он вернулся в родной дом, хотя такого дома у него не было, он начинал размышлять над тем, как однажды переберется в Сабиси или в Одессу, чтобы испытывать это чаще.
Но ничье присутствие не доставляло ему большей радости, чем присутствие Мишеля. Даже несмотря на то, что в этот день тот плелся позади, отвлеченный и вроде бы обеспокоенный. Заметив это, Сакс спросил, что может для него сделать. Мишель так сильно ему помог в те долгие месяцы, когда Сакс заново учился говорить, – он заново научил его думать, по-другому все воспринимать. Теперь Сакс с удовольствием сделал бы что-то, чтобы отплатить за ту великую помощь, хотя бы частично. Но это могло произойти лишь в том случае, если бы Мишель ему хоть что-то рассказал.
Когда они остановились, Сакс достал змея и собрал его, потом отдал катушку другу.
– Держи, – сказал он. – Я буду его держать, а ты беги с ним. Вон туда, против ветра. – И Сакс держал змея, пока Мишель пересекал травянистые холмики, потом шнур натянулся, и Сакс отпустил змея, а Мишель побежал, и змей стал подниматься выше и выше.
Мишель вернулся, улыбаясь.
– Потрогай шнур, можно почувствовать ветер.
– Ага, – ответил Сакс, – можно. – Еле заметная нить забренчала о его пальцы.
Они сели и, открыв плетеную корзинку Сакса, вынули оттуда заранее приготовленный обед. Мишель снова притих.
– Тебя что-то беспокоит? – отважился спросить Сакс, когда они стали есть.
Мишель взмахнул куском хлеба и, сглотнув, ответил:
– Кажется, я хочу вернуться в Прованс.
– Насовсем? – спросил Сакс, изумленный.
Мишель сдвинул брови.
– Не обязательно. Но хотя бы на время. В прошлый раз, когда я только начал получать удовольствие от пребывания там, сразу пришлось уехать.
– На Земле высокое давление.
– Знаю. Но мне было на удивление легко приспособиться.
– Хм-м-м…
Саксу возврат к земной гравитации тогда не понравился. Эволюция, несомненно, адаптировала их к ней, а жизнь при 0,38 g действительно влекла за собой множество медицинских проблем. Но теперь он привык ощущать марсианское g настолько, что совсем его не замечал, а если и замечал, от этого становилось лишь приятнее.
– Без Майи? – спросил он.
– Думаю, придется без нее. Она не хочет лететь. Говорит, что когда-нибудь слетает, но все потом да потом. Она работает в кооперативном коммерческом банке в Сабиси и считает, что без нее там не обойдутся. Хотя это неправда: она просто не хочет от этого отрываться.
– А ты не можешь создать себе здесь что-то похожее на Прованс?
– Это будет не то.
– Да, но…
Сакс не знал, что на это ответить. Сам он по Земле не тосковал. А жизнь с Майей казалась ему практически жизнью в сломанной и неуправляемой центрифуге – ощущения были бы одни и те же. Поэтому, видимо, Мишелю и хотелось ступить на твердую землю, прикоснуться к родной планете.
– Слетать тебе нужно, – сказал наконец Сакс, – только немного подожди. Если они соберут эти импульсные термоядерные двигатели для кораблей, ты попадешь туда довольно скоро.
– Но тогда могут возникнуть серьезные проблемы с земной гравитацией. Мне кажется, чтобы подготовиться к ней, нужен не один месяц.
Сакс кивнул.
– Тебе бы понадобилось что-то вроде экзоскелета. Внутри него ты будешь чувствовать, будто он тебя поддерживает, поэтому будет казаться, что g меньше, чем на самом деле. Я слышал о новых «птичьих костюмах», они должны становиться негнущимися, иначе в них никак нельзя было бы держать крылья неподвижно.
– Трансформирующийся углеродный панцирь, – заметил Мишель с улыбкой. – Текучая оболочка.
– Да. Ты мог бы носить что-то подобное там. Это не так уж плохо.
– Значит, ты говоришь, сначала мы летим на Марс, где сто лет ходим в прогулочниках, потом мы тут все изменяем, чтобы можно было сидеть на солнце и лишь слегка подмерзать, а теперь, когда летим обратно на Землю, нам снова сто лет приходится носить прогулочники.
– Или до бесконечности, – сказал Сакс. – А так все верно.
Мишель рассмеялся.
– Ну, может, я полечу, когда что-то изменится. – Он с сомнением покачал головой. – Однажды мы ведь сможем сделать все, что захотим, да?
Солнце припекало. Ветер шумел в траве. Каждая травинка была как зеленый луч света. Мишель рассказывал о Майе – сначала жаловался, потом оправдывался, перечислял ее достоинства, те, из-за которых без нее нельзя было обойтись, которые служили источником всех ее волнений. Сакс почтительно кивал при каждом его заявлении – как бы сильно те ни противоречили друг другу. Он воображал, будто слушает наркозависимого, – но таковы уж были люди, и он сам недалеко ушел от подобных противоречий.
А когда наступило молчание, Сакс спросил:
– Как, по-твоему, Энн сейчас воспринимает окружающее?
Мишель пожал плечами.
– Не знаю. Я не видел ее несколько лет.
– Она не стала повышать пластичность мозга.
– А она упрямая, да? Хочет остаться собой. Но в этом мире, боюсь…
Сакс кивнул. Если считать любые признаки жизни осквернительными, как мерзкую плесень, покрывающую чистую красоту минерального мира, то в немилость попадал даже кислород, который придавал небу голубой оттенок. Это, должно быть, сводило с ума. Даже Мишель с этим согласился:
– Боюсь, она никогда уже не будет в здравом уме, во всяком случае полностью.
– Знаю.
С другой стороны, как они могли об этом судить? Разве в здравом уме находился Мишель, одержимый регионом другой планеты и влюбленный в столь трудного человека? Был ли в здравом уме Сакс, который не мог нормально говорить и с трудом выполнял многие умственные задачи после инсульта и применения экспериментального лечения? В обоих случаях – едва ли. Но он был твердо убежден, что от бури его спасла именно Хироко, что бы там ни говорил Десмонд. Кто-то мог решить, что Саксу встреча с Хироко лишь пригрезилась. А такие воображаемые, но принимаемые за действительные события, насколько помнил Сакс, нередко считались симптомом психического расстройства, галлюцинациями.
– Как те люди, которые думают, будто видели Хироко, – робко пробормотал он, чтобы посмотреть на реакцию Мишеля.
– О да, – ответил тот. – Примитивное мышление – это весьма устойчивая форма. Никогда не позволяй своему рационализму ослепить себя. Легко заметить, что мыслим мы по большей части примитивно. И часто следуем архетипичным схемам, как в случае Хироко, во многом похожем на историю Персефоны или Христа. Думаю, когда кто-то из этого ряда умирает, какой-нибудь пророк, то потрясение от потери становится невыносимым и заставляет скорбящего друга или последователя, мечтающего о том, чтобы тот был жив, просыпаться с криком: «Я видел его!» – и не пройдет и недели, как все будут уверены, что пророк вернулся или даже вообще не умирал. То же и с Хироко, которую постоянно где-то замечают.
«Но я действительно ее видел! – хотелось возразить Саксу. – Она хватала меня за руку!»
И все же он был глубоко озабочен. Объяснение Мишеля казалось вполне логичным. И во многом совпадало с тем, что говорил Десмонд. Сакс полагал, что они оба сильно скучали по Хироко, но тем не менее мирились с ее исчезновением. А необычные умственные события вполне понятным образом могли происходить в результате стресса. Но нет, нет, этого не могло быть: ведь он в подробностях помнил, как это случилось, и каждая деталь была такой живой!
Но это был фрагмент, заметил он, – как когда сразу после пробуждения вспоминается отрывок сна, и все ускользает, будто что-то неуловимое. Например, он не мог как следует вспомнить, ни что происходило перед самым появлением Хироко, ни что после. Не помнил никаких деталей.
Он нервно щелкнул зубами. Очевидно, здесь присутствовали все виды безумия. Энн странствовала по старому миру сама по себе, остальные – бродили по новому, будто призраки, пытающиеся построить ту или иную жизнь. Может, то, о чем говорил Мишель, и было правдой: они не могли совладать со своим долголетием, не знали, что делать со всем этим временем, как построить жизнь.
И тем не менее. Вот они, сидят на морской скале в Да Винчи. По сути, нужды чересчур волноваться у них нет. Как сказал бы Нанао, чего им не хватает? Они хорошенько отобедали, были сыты, жаждой не мучились, сидели на солнце, обдуваемые ветром, наблюдали за воздушным змеем, парящим далеко в темно-синем небе, – старые друзья за беседой. Чего им не хватает? Душевного спокойствия? Нанао поднял бы их на смех. Присутствия старых друзей? Ну, на это еще будет время. Сейчас же, в этот момент, они были парочкой старых братьев по оружию, которые сидели на скале. После долгих лет борьбы они могли просидеть так хоть весь день, если бы захотели, запуская воздушного змея и беседуя друг с другом. Обсуждая старых друзей и погоду. Заботы были в прошлом и будут в будущем, но сейчас были только они двое.
– Интересно, как это понравилось бы Джону, – запинаясь, проговорил Сакс. О таких вещах говорить было трудно. – Не знаю, смог бы он заставить Энн это увидеть. Я по нему скучаю. И хочу, чтобы она увидела новый мир. Не так, как его вижу я. Просто увидеть, что это что-то… хорошее. Увидеть, как этот мир прекрасен… по-своему. Каким он создает сам себя. Мы говорим, что управляем им, – но это не так. Он слишком сложен. Мы только подтолкнули его. И потом он стал развиваться сам. Сейчас мы пытаемся направить его в ту или иную сторону, но вся биосфера… Она создает себя сама. И в ней нет ничего неестественного.
– Ну… – засомневался Мишель.
– Нет! Мы можем играть, как хотим, но мы лишь ученики чародея. Жизнь идет сама по себе.
– Но жизнь была здесь и прежде, – заметил Мишель. – Это как раз то, что ценит Энн. Жизнь камней и льда.
– Жизнь?
– Что-то вроде вялотекущего существования минералов. Зови это как хочешь. Ареофанией камней. Да и кто вообще сказал, что у этих камней нет своего медленного сознания?
– Я думаю, что для сознательности нужны мозги, – чопорно заявил Сакс.
– Может быть, но кто скажет наверняка? Или пусть не сознательность, как ее понимаем мы, но хотя бы существование. Некая внутренняя ценность – просто потому, что они существуют.
– Эта ценность у них есть и сейчас. – Сакс поднял камень размером с бейсбольный мяч. Брекчированная изверженная порода, судя по виду. Конусы растрескивания. Таких здесь было как грязи – и даже больше. Он внимательно его рассмотрел. – Привет, камешек. О чем думаешь?.. – Он помолчал и добавил: – Я имею в виду, вот они все. По-прежнему здесь.
– Но они уже не такие.
– Ничто никогда не остается таким, как раньше. Все меняется от мгновения к мгновению. Что же до минеральной сознательности, так по мне, это чересчур мистично. Не то чтобы я был против нее, но все же…
Мишель рассмеялся.
– Ты сильно изменился, Сакс, но все равно остался собой.
– Надеюсь, что это так. Но не думаю, что и Энн мистически настроена. Разве она мистик?
– А кто она тогда?
– Не знаю! Не знаю. Просто… истинный ученый, который не может вынести порчи данных? Это попросту неразумно. Страх перед феноменом. Ты понимаешь, что я имею в виду под этим? Приверженность сущему. Жить с этим, быть преданным, но не пытаться изменить или повредить, испортить. Не знаю. Но хочу знать.
– Ты всегда хочешь что-то знать.
– Да, это так. Но это я хочу знать больше, чем многое другое. Большего я и придумать не могу! Честно…
– О, Сакс. Мне нужен Прованс, тебе нужна Энн, – Мишель ухмыльнулся. – Мы с тобой пара сумасшедших!
Они рассмеялись. Фотоны лились дождем им на кожу и проходили насквозь. Ведь люди были прозрачны для мира.
Часть десятая Wertewandel
Было уже за полночь, и в офисе стояла тишина. Главный консультант подошел к самовару и стал разливать кофе в маленькие чашки. Трое его коллег стояли вокруг стола, заставленного сенсорными мониторами.
– Таким образом шары дейтерия и гелия-3 поражаются вашей лазерной системой один за другим, – сказал главный консультант, не отходя от самовара. – Они схлопываются, и происходит синтез. При зажигании температура достигает семи миллионов градусов Кельвина, но ничего страшного – потому что это местная температура, и она очень кратковременна.
– Несколько наносекунд.
– Хорошо. Это успокаивает. Так, ладно, потом получаемая энергия выходит в виде заряженных частиц, благодаря чему они все могут помещаться в ваши электромагнитные поля – так как тут нет нейтронов, которые будут влетать и поджаривать ваших пассажиров. Поля служат как щит и отражающая плита, а также как система сбора энергии, используемой для заправки лазеров. Все заряженные частицы направляются назад, проходя через зеркальное устройство, расположенное под углом и служащее входной дугой для лазеров, и продукты синтеза при этом прохождении сводятся в параллельный пучок.
– Верно. Складно звучит, да? – сказал инженер.
– Очень складно. А сколько в нем сгорает топлива?
– Если хотите добиться ускорения, эквивалентного гравитации Марса, то есть 3,73 метра в квадратную секунду, и предположим, что корабль весит тысячу тонн, триста пятьдесят – люди, шестьсот пятьдесят – оборудование и топливо, то нужно сжигать триста семьдесят три грамма в секунду.
– Ка, это совсем немало!
– Около тридцати тонн в день, но и ускорение будет приличным. Полеты будут довольно короткими.
– А каких размеров должны быть шары?
– Сантиметр в радиусе, – ответил физик, – масса – 0,29 грамма. То есть мы сжигаем 1290 таких шаров в секунду. Это позволит пассажирам постоянно ощущать приятное g.
– Ну еще бы. А гелий-3, он же довольно редко встречается?
– Галилеева команда уже начала собирать его из верхних слоев атмосферы Юпитера. Кроме того, его можно собирать и с поверхности Луны, хотя это еще не очень налажено. Зато на Юпитере есть все, что нам когда-либо понадобится.
– Значит, корабли смогут перевозить по пятьсот пассажиров.
– Такое количество мы закладываем в расчеты. Но, конечно, его можно изменить.
– Вы ускоряетесь полпути, затем поворачиваете и тормозите всю вторую его половину.
Физик покачал головой.
– При коротких перелетах да, при более длинных – нет. Ускоряться нужно всего лишь несколько дней, чтобы развить достаточную скорость. При длинных перелетах в середине приходится двигаться по инерции, чтобы сэкономить топливо.
Главный консультант кивнул и передал остальным их чашки. Они отпили по глотку.
– Продолжительность полета будет радикально меняться, – сообщила математик. – С Марса на Уран – три недели. С Марса на Юпитер – десять дней. С Марса на Землю – три дня. Три дня! – Она взглянула на остальных, сдвинув брови. – Таким образом, Солнечная система станет примерно как Европа в девятнадцатом веке. Путешествия на поездах, на океанских лайнерах.
Остальные кивнули. Инженер заметил:
– Теперь мы станем соседями с теми, кто живет на Меркурии, Уране, Плутоне.
Главный консультант пожал плечами.
– Или, раз уж на то пошло, и на Альфа Центавре. Давайте не будем за это переживать. Контакт – это хорошо. Только соединить, как сказал поэт[33]. Только соединить. Теперь они будут так соединены, что мало не покажется! – Он поднял чашку. – Ваше здоровье.
Ниргал вошел в ритм и сохранял его на протяжении всего дня. Лунг-гом-па. Религия бега, бег вместо медитаций и молитв. Дзадзен, ка дзен. Часть ареофании, неотъемлемо связанная с марсианской гравитацией; при двух пятых g, к которым приспособилось, человеческое тело могло достичь эйфории от прилагаемых усилий. Человек, бегущий, как паломник, – наполовину поклонник, наполовину бог.
Религия, которая в последнее время приобрела немало приверженцев, бегающих одиночек. Иногда они устраивали организованные забеги и гонки – «Нитью по Лабиринту», «Ползком по хаосу», «Трансмаринерский бег», «Кругосветка». А между ними – ежедневные тренировки. Все это имело бесцельный характер – искусство ради самого искусства. Для Ниргала это было почитанием, медитацией, забвением. Его разум странствовал или сосредотачивался на теле или на пути – или просто отключался. В такие мгновения он бежал к музыке – к Баху, затем к Брукнеру, к Бонни Тиндэллу, элизийскому неоклассику, чья музыка разливалась, как дневной свет, а протяжные аккорды сменялись ровными внутренними модуляциями, похоже на Баха или Брукнера, но медленнее и ровнее, неумолимее и величественнее. Подходящая музыка для бега, хотя даже за несколько часов она совершенно не проникала в его сознание. Он просто бежал.
Приближалось время «Кругосветки», которая всегда начиналась в перигелий. Стартуя в Шеффилде, участники бежали на запад или на восток вокруг света, без наручных консолей и без какой-либо навигационной помощи, лишенные всего, кроме той информации, что давали им собственные органы чувств, имея при себе лишь небольшие сумки с едой, питьем и снаряжением. Им разрешалось выбирать любой маршрут в пределах двадцати градусов от экватора (их отслеживали по спутникам и в случае ухода из экваториальной зоны – снимали с забега) и пересекать любые мосты, включая мост через Ганг, благодаря которому маршруты севернее и южнее долин Маринер становились примерно одинаково выгодными, а количество пригодных вариантов увеличивалось приблизительно до числа самих участников. Ниргал выиграл пять из девяти предыдущих забегов – прежде всего благодаря умению выискивать маршруты, а не из-за скорости. Многие горные бегуны считали «путь Ниргала» неким мистическим достижением, нелогичной причудливостью, и в последние пару гонок его преследовало несколько человек, которые рассчитывали обогнать его перед финишем. Но он каждый год выбирал новый маршрут и не раз принимал выбор, который казался таким неправильным, что некоторые из преследователей сдавались и уходили в более перспективных направлениях. Другие не могли выдерживать темп на протяжении двухсот с лишним дней, за которые нужно было преодолеть около 21 000 километров: требовалось сохранять выдержку длительное время и принять этот темп за образ жизни. Бежать изо дня в день.
Ниргалу это нравилось. Он хотел выиграть и следующую «Кругосветку», чтобы стать победителем большинства из первых десяти. Он изучал маршрут, проверял новые пути. Каждый год появлялись новые тропы, а в последнее время стало модно устраивать лестницы в скалах каньонов, хребтов и уступов, делая их таким образом проходимыми.
Трасса, по которой он бежал сейчас, появилась уже после того, как он был здесь в последний раз; он спускался по отвесной стене провала в хаосе Ароматов, и на противоположной стене теперь была такая же трасса. Если взять путь через хаос напрямик, бежать придется при значительном уклоне, но все более ровные пути отклонялись на север или на юг.
Новый путь проходил по угловым трещинам в глыбистой стене, и ступеньки были сложены очень ровно, как кусочки пазла, отчего ему казалось, будто он бежит по лестнице в разрушенной стене замка какого-нибудь великана. Прокладка горных дорог была искусством, которым время от времени с удовольствием занимался и Ниргал, помогая убирать вырезанные камни с помощью крана и ставить их на ступеньку ниже, – проводил многие часы в страховочном поясе, натягивал тонкие зеленые тросы, направлял крупные базальтовые многогранники. Первым строителем дорог, которого он повстречал, оказалась женщина, она прокладывала путь вдоль гребня гор Герион, тянущегося по дну каньона Ио. Ниргал помогал ей все лето, пройдя с ней бо́льшую часть хребта. Она и сейчас была где-то среди долин Маринер и строила дороги с помощью своих ручных инструментов, мощных породных пил, полиспастов со сверхпрочными канатами и вяжущих болтов, более крепких, чем сами скалы. Она заботливо собирала тротуары или лестницы из окружающих пород, и одни ее дороги напоминали естественные формы рельефа, чудесным образом приходящие на помощь, другие были как римские дороги, третьи сохраняли масштаб, как у древних египтян или инков, и состояли из огромных блоков, с миллиметровой точностью разложенных по склонам и хаосам.
Триста ступенек вниз – он считал, – затем поперек дна пролома за час до заката. Над темными стенами светило фиолетовое небо. На дне, устланном тенистым песком, дороги не было, и он сосредоточил внимание на скалах и растениях, что были там повсюду. Пока он бежал между ними, уловил взглядом светлые цветы на верхушке бочкообразного кактуса, которые сияли, как само небо. Да и его тело тоже сияло под конец бегового дня и в преддверии ужина. Голод же терзал его изнутри, порождая слабость, которая становилась все более неприятной с каждой минутой.
Найдя лестницу на западной стене, он стал по ней взбираться, то ускоряясь, то замедляясь. Он поднимался вверх большими размеренными шагами, поворачивая то влево, то вправо, восхищаясь удачным расположением этого прохода сквозь систему трещин. Раньше ему приходилось почти все время бежать вдоль каменной стены высотой по пояс с одной стороны, прерывающейся куском голой скалы, где строителям пришлось пойти на крайность, закрепив на болтах крепкую магниевую лестницу.
Он торопливо поднялся по новой лестнице, от усталости собственные мышцы казались ему гигантскими эластичными резинками. Слева от лестницы, на отдельной плите, находился ровный участок с великолепным видом на длинный узкий каньон, простирающийся внизу. Он свернул с дороги и прекратил свой бег. Сел на камень, который был здесь вместо стула. Дул крепкий ветер, и Ниргал раскрыл свой маленький грибообразный шатер, который в темноте казался прозрачным. Постельные принадлежности, лампа, планшет – все было поспешно извлечено из поясной сумки, где он копался в поисках еды, вещи словно отполировались за годы пользования и были легкими, как перышки: вся сумка весила меньше трех килограммов. А потом он нашел в задней части плиту на батарейках, пищевую сумку и бутылку с водой.
Сумерки проходили с гималайским величием, а он тем временем разогревал котелок с порошковым супом, скрестив ноги на подушке и прислонившись к прозрачной стенке шатра. Утомленные мышцы ощущали блаженство от обычного сидения. Заканчивался еще один прекрасный день.
Проворочавшись всю ночь, он поднялся при предрассветном холодном ветре, быстро собрался, весь дрожа, и снова побежал на запад. Преодолев последние ухабы Ароматов, он оказался на северном побережье залива Ганг. Темно-синяя гладь залива лежала теперь слева от него. Здесь длинные пляжи были усеяны песчаными дюнами, поросшими короткой травой, бежать по которой было легче. Ниргал мчался в своем ритме, бросая беглые взгляды то на море, то на тайгу, что тянулась справа. Вдоль береговой линии высадили миллионы деревьев, которые должны были придать устойчивость земле и ослабить пылевые бури. Большой лес в Офире – один из наименее заселенных регионов Марса: в первые годы его существования его редко посещали, здесь никогда не было шатровых городов, путешествовать сюда не решались из-за глубоких отложений пыли и частиц. Теперь эти отложения были кое-как укреплены лесом, но вблизи ручьев они превращались в болота и топи с непрочными лёссовыми обрывами, из-за которых случались бреши в решетчатой крыше из веток и листьев. Ниргал держался границы леса и моря, бежал по дюнам или участкам мелких деревьев. Он пересек несколько небольших мостов, соединявших берега речных устьев. Затем заночевал на пляже, убаюканный звуками разбивающихся волн.
Проснувшись на рассвете, направил путь по тропе, тянувшейся под навесом из листьев, – побережье уже было преграждено дамбой каньона Ганг. День был тусклым и холодным. В этот час казалось, будто каждый объект превратился в собственную тень. От дороги ответвлялись слабо различимые тропы, уводя налево, в гору. Лес в этих местах был по большей части хвойным: здесь росли высокие красные секвойи, окруженные более низкими соснами и можжевельником. Поверхность почвы устилали сухие иголки. Там, где было более влажно, сквозь этот коричневый ковер пробивались папоротники, лишь усложняя своими архаичными фракталами узор из солнечных бликов. Между узкими травянистыми островками вился ручей. Здесь редко когда открывался обзор более чем на сто метров вперед. Преобладали зеленые и коричневые цвета, красный был виден только в грубой коре секвой. На ковре, словно живые, танцевали лучи света. Ниргал бежал прочь от самого себя, завороженный, минуя эти пучки лучей. Он перепрыгивал через неглубокие ручьи, с камней – на поросшие папоротником поляны. Он словно пересекал комнату, к которой примыкали коридоры, уводившие в похожие комнаты – выше и ниже по течению. Слева журчал небольшой водопад.
Он остановился, чтобы напиться у ручья. А когда поднялся, увидел сурка, который, переваливаясь, шел по мху под водопадом. У Ниргала кольнуло сердце. Сурок попил, вымыл лапы и морду, но не заметил его.
Затем послышался шорох, и сурок сорвался с места, но его тут же накрыла пятнистая шерсть, мелькнули белые зубы – крупная рысь пронзила ему горло, сжав его мощными челюстями и крепко встряхнув, после чего прижала к земле огромной лапой.
Ниргал отскочил в момент атаки. Рысь, лишь зафиксировав свою добычу, посмотрела в его сторону, будто только теперь заметив движение человека. Ее глаза сверкали в тусклом свете, пасть истекала кровью. Их взгляды встретились, и Ниргал содрогнулся. Ему показалось, что рысь ринулась к нему, острые зубы ярко сияли даже в тусклом свете…
Но нет. Она исчезла вместе с добычей, оставив после себя лишь колышущийся папоротник.
Ниргал побежал дальше. День оказался темнее обычного, что объяснялось тенью от облаков, – все окутывал враждебный полумрак. Приходилось быть внимательным, чтобы не потерять тропу из виду. Сквозь тени пробивался свет – белое сквозь зеленое. Преследователь и преследуемый. Обледеневшие пруды посреди сумрака. В поле бокового зрения – мох на коре, контуры папоротников. То кривой ряд остистых сосен, то участок трясины. День был холодным, а ночь предстояла совсем студеная.
Он пробежал весь день. Сумка колыхалась у него за спиной, в ней почти не осталось еды. Он был рад тому, что приближался к следующему тайнику с провиантом. Бывало, он брал с собой лишь несколько горстей какой-нибудь крупы и жил тем, что давала земля, – собирал сосновые шишки и рыбачил. Но в таких случаях ему приходилось тратить по полдня на поиски еды, да и то добыть удавалось немного. Когда где-то появлялась рыба, то озеро объявляли невероятным рогом изобилия и там тут же собирался озерный народ. Но в этот раз он двигался на полной скорости от тайника к тайнику, поглощая семь-восемь тысяч килокалорий в день и все равно оставаясь вечером голодным. И, когда он достиг небольшого арройо, где находился следующий тайник, и увидел, что в нем обвалилась одна из стен, то закричал от ужаса и гнева. Он даже попытался раскопать рыхлую груду камней – обвал был небольшим, но все равно требовалось расчистить пару тонн. Так что найти здесь еду шансов не было. Теперь ему нужно изо всех сил бежать поперек каньона Офир к следующему месту – и бежать на голодный желудок. Едва поняв это, он тронулся в путь, думая лишь о том, как сэкономить время.
Теперь он присматривался ко всему съедобному, что попадалось ему на пути: сосновым шишкам, луговому луку – к чему угодно. Остаток той еды, что был у него в сумке, расходовал медленно, подолгу пережевывая, стараясь, чтобы она казалась более питательной. Наслаждаясь каждым кусочком. Голод теперь не давал ему спать каждую ночь, хотя в часы перед рассветом ему удавалось погрузиться в крепкий сон.
На третий день этого непредвиденного голода он вышел из леса и оказался на самом юге каньона Ювента, в том месте, где в древности случился прорыв одноименного водоносного слоя. Чтобы преодолеть этот участок, требовалось много сил, а он был голоден, как никогда в жизни, и до следующего тайника оставалось еще два дня пути. Его организм, судя по ощущениям, использовал все свои запасы и теперь работал за счет самих мышц. От этого самопоглощения все вокруг казалось ему более резким и ярким, будто все сверкало белизной, точно весь мир начинал просвечиваться. Вскоре после этой стадии, как он знал из похожего опыта прошлого, состояние «лунг-гом-па» даст ход галлюцинациям. Хотя у него в глазах уже рябили извивающиеся червячки, черные точки и окружности маленьких белых грибов, а на песке мерещились зеленые ящероподобные твари, которые оказывались у него прямо под ногами и не исчезали по несколько часов.
Ему приходилось прикладывать все умственные силы, чтобы ориентироваться в этой пересеченной местности. Он в равной степени смотрел на камни под ногами и на окружающий ландшафт, постоянно то поднимая, то опуская голову, практически бездумно, тогда как мысли двигались его в совершенно другом ритме. Хаос Ювента, спускавшийся справа от него, представлял собой неглубокую неровную полость, поверх которой виднелся далекий горизонт – как если бы смотреть из большой расколотой чаши. Впереди местность была беспорядочной и неровной, испещренной ямами и буграми из валунов и барханов, тени были слишком темными, а освещенные места – слишком яркими. Темно и в то же время ярко; время вновь приближалось к закату, и ему слепило глаза. Вверх-вниз, вверх-вниз. Он взбежал по склону древней дюны, соскользнул по песку и камням – спуск казался ему блаженством, – влево, вправо, влево, с каждым шагом перелетая на несколько метров и тормозя благодаря песку или гравию. Это было слишком просто и вызывало привыкание, но, снова оказавшись на ровной поверхности, пришлось вновь возвращаться к честному бегу, а последовавший далее подъем выдался и вовсе изнурительным. Вскоре ему нужно было найти место для ночлега, может быть, в следующей низине или на ровном песчаном участке рядом с какой-нибудь террасой размыва. Он мучился голодом, ослаб от недоедания, а в руке у него оставалось только несколько луговых луковиц, которые сорвал ранее. Но усталость сейчас играла ему на руку: он был готов уснуть, невзирая ни на что. Истощение всегда побеждало голод.
Он пересек небольшое углубление, взобрался на холм, прошел между двумя огромными валунами. И во вспышке света перед ним оказалась обнаженная женщина, она стояла и размахивала зеленым шарфом. Он резко остановился, пошатнувшись, сначала ошеломленный тем, что ее увидел, затем обеспокоенный тем, что галлюцинации вышли из-под контроля. Но она стояла перед ним, яркая, как пламя, он видел вены, что тянулись по ее груди и ногам, и она лишь молча качала зеленым шарфом. Затем другие люди, пробежав мимо нее, перемахнули через небольшой бугор, направляясь туда, куда она показывала, – или ему так почудилось. Она взглянула на Ниргала, жестом указала на юг, будто давая понять, что это относилось и к нему, а затем побежала. У него складывалось впечатление, будто ее худое белое тело плыло не только в привычных трех измерениях. Сильная спина, длинные ноги, округлый таз; она была уже далеко, и зеленый шарф, которым она продолжала указывать путь, вился то в одну, то в другую сторону.
Вдруг он увидел впереди трех антилоп, взбегающих на холм, что возвышался на западе силуэтом в свете заходящего солнца. Значит, это охотники! Люди, выстроившись в дугу, гнали антилоп на запад, размахивая шарфами. Все происходило молча, словно во всем мире пропал звук – ни шума ветра, ни криков. В какое-то мгновение одна антилопа остановилась на холме, и все замерли, все были начеку, но стояли неподвижно – и преследующие, и преследуемые застыли на месте. Живая картина сковала и Ниргала. Он боялся моргнуть, будто все это могло исчезнуть, когда он откроет глаза.
Первой сдвинулась с места антилопа: разрушив картину, она тихонько двинулась мелкими шажками. Женщина с зеленым шарфом, выпрямившись, последовала за ней. Остальные охотники то появлялись, то исчезали из поля зрения, перемещаясь, как вьюрки, от одной неподвижной позиции к другой. Они были босиком, в набедренных повязках или майках. У некоторых лица и спины были расписаны красными, черными или желтыми красками.
Ниргал последовал за ними. Они резко повернули и двигались на запад, он заметил, что оказался в их левом крыле. В этом ему повезло, потому что, когда антилопа попыталась прорваться с его стороны, Ниргал оказался в нужном месте, перерезав ей путь и бешено махая руками. Тогда все три антилопы, как одна, повернулись и снова устремились на запад. Группа охотников побежала следом, быстрее, чем когда-либо бегал Ниргал, но при этом сохраняла дугу. Ниргалу с трудом удавалось хотя бы держать их в поле зрения: босые или нет, они бегали по-настоящему быстро. Трудно было видеть их среди длинных теней, к тому же они по-прежнему молчали. В другом крыле дуги кто-то взвизгнул, и это был единственный изданный ими звук, не считая скрипа песка и гравия и тяжелого дыхания. Они то появлялись, то скрывались из виду, а антилопы бежали впереди, время от времени ускоряясь короткими рывками. Ни одному человеку не по силам было их настичь. И Ниргал продолжал бежать, задыхаясь, участвуя в охоте. Затем он снова увидел жертву впереди. Ага, антилопа остановилась! Они подобрались к краю обрыва. Край каньона… Он увидел овраг и противоположную стену. Неглубокая борозда, заросшая соснами. Знали ли антилопы, что она там была? Знакомы ли им эти места? Каньон не был заметен даже за пару сотен метров…
Но, похоже, они эти места знали, потому что с безупречной животной грацией полурысью-полувскачь пронеслись вдоль обрыва на юг, где находилось небольшое углубление. Оно оказалось вершиной крутого оврага, откуда камни сносило на дно каньона. Когда антилопы исчезли в проеме, все охотники ринулись к краю и увидели, как антилопы спускались по оврагу, словно щеголяя своей силой и выдержкой, перескакивая с камня на камень огромными прыжками. «Ау-у-у!» – с этим криком охотники поспешили к изголовью оврага, визжа и кряхтя. Ниргал вместе с ними соскочил с обрыва, и они, обезумев, спускались, улюлюкая и припрыгивая, и даже его ноги, хоть и ставшие ватными после бессчетных дней лунг-гома, сейчас были снова сильны. Он обгонял других охотников, перескакивая и скользя по валунам, прыгая и сохраняя равновесие с помощью рук. Как и остальные, он был предельно сосредоточен на происходящем, стараясь спускаться как можно скорее и при этом не упасть.
Лишь очутившись на дне каньона, Ниргал увидел, что каньон весь зарос лесом, который сверху был едва заметен. Деревья тянулись высоко над засыпанным снегом и иголками дном: здесь были ели и сосны, а дальше, вверх по каньону на юг – легко узнаваемые огромные стволы гигантских секвой, по-настоящему крупные деревья – настолько, что каньон вдруг показался мелким, несмотря на то что спускаться сюда пришлось довольно долго. Некоторые верхушки даже возвышались над его стенами – искусственно выведенные двухсотметровые гигантские секвойи, каждая из которых имела широкую крону, прикрывающую меньших размеров ели и сосны и коричневый ковер из иголок с редкими участками снега.
Антилопы рысили вверх по каньону, на юг, прямо в этот девственный лес. Охотники с радостными криками преследовали их, перепрыгивая один огромный ствол за другим. Из-за массивных цилиндров, обтянутых потрескавшейся красной корой, все остальное казалось меньше – они все словно были маленькими животными, вроде мышей, которые разбегались по заснеженному лесу, когда на них падал свет. У Ниргала покалывало кожу на спине и боках, он все еще был возбужден после спуска, задыхался и чувствовал легкое головокружение. Охотники явно были не в состоянии догнать антилопу, и Ниргал не понимал, что они теперь делали. Но все равно несся между громадными деревьями, следуя за теми, кто бежал впереди. Он хотел просто участвовать в погоне.
Затем секвойи поредели, как на выезде из района небоскребов, и вскоре впереди осталось лишь несколько деревьев. И глядя между их стволами, Ниргал снова резко остановился: на дальней стороне узкой поляны каньон преграждала стена воды. Настоящая стена воды, тянущаяся от самого края и нависающая над ними ровной и прозрачной массой.
Дамба водохранилища. С недавних пор их начали строить из прозрачных листов алмазной сетки, вставленных в бетонное основание – Ниргал видел его: тонкую белую линию, которая тянулась вдоль обеих стен каньона и по его дну.
Масса воды стояла над ними, как поверхность огромного аквариума, мутная возле дна, где в грязи плавали какие-то растения. Чуть выше были видны серебристые рыбы размером с тех антилоп – они мелькали у прозрачной стены, а затем исчезали в темных глубинах.
Три антилопы беспокойно метались перед барьером, самка и детеныш следовали за резкими поворотами самца. Когда охотники приблизились к ним, самец внезапно подскочил и со всей силы ударил головой о дамбу. Рога, как костяные ножи, стукнулись о нее со страшным звуком, и Ниргал в страхе замер, как и все остальные, кто лицезрел это дикое действо, такое яростное, словно это сделал человек, – но самец отпрянул и попятился. Затем развернулся и ринулся на них. Тогда в воздухе закрутились боласы, его ноги оплела веревка, прямо над копытами, и он рухнул оземь. Часть охотников столпилась вокруг него, остальные камнями и копьями повалили самку с детенышем. Визг резко оборвался. Ниргал увидел, как горло самки перерезали клинком с обсидиановым лезвием, и кровь хлынула на песок возле самого основания дамбы. Сверху подплыла крупная рыба и взглянула на них.
Женщины с зеленым шарфом теперь не было видно. Другой охотник, мужчина, на котором было надето только ожерелье, закинул голову и издал вой, нарушив то странное молчание, которое сопровождало их работу. Он протанцевал по кругу, а потом ринулся к прозрачной стене дамбы и метнул копье прямо в нее. Оно отскочило от поверхности. Торжествующий охотник подбежал к стене вплотную и ударил по ней кулаком.
Женщина-охотник с кровью на руках повернула голову и надменно взглянула на него.
– Хватит дурачиться, – сказала она.
Копьеметатель рассмеялся.
– Не волнуйся, эти дамбы в сто раз прочнее, чем нужно.
Женщина презрительно покачала головой.
– Какая глупость так искушать судьбу.
– Поразительно, какие подозрения кроются в боязливых умах.
– Дурак ты, – сказала женщина. – Случайности так же реальны, как что угодно другое.
– Случайности! Судьба! Ка! – Он поднял копье и снова метнул его в дамбу: то отскочило и чуть не попало в него самого, и он безудержно рассмеялся. – Какая счастливая случайность! Судьба помогает смелым, да?
– Придурок. Проявил бы хоть какое-то уважение.
– Я и так, со всем уважением к этой антилопе, ударил в стену прямо как она. – Он хрипло рассмеялся.
Остальные не обращали на них внимания, занятые тем, что забивали пойманных животных.
– Большое спасибо, брат! Большое спасибо, сестра!
У Ниргала дрожали руки, он чувствовал запах крови и истекал слюной. От кучек кишок в холодный воздух поднимался пар. Из поясных сумок появились магниевые жерди, их выдвинули во всю длину и привязали за ноги обезглавленные тела антилоп. И охотники, взявшись по краям, подняли их над землей.
Женщина с окровавленными руками кричала на копьеметателя:
– Ты бы лучше помог нести, если хочешь это есть.
– Да пошла ты! – ответил он, но все же взялся за передний конец жерди, на которой висел самец.
– Идем, – сказала женщина Ниргалу, и они поспешили на запад поперек дна каньона, между водной стеной и последней из огромных секвой. Ниргал пошел следом, в животе у него урчало.
Западную стену каньона украшали наскальные рисунки: животные, лингамы, йони, отпечатки ладоней, кометы и космические корабли, геометрические фигуры, сгорбленный флейтист Кокопелли, – все едва различимые в сумраке. В скале была вырезана лестница, которая тянулась вдоль уступа, имевшего форму почти идеально правильной буквы Z. Охотники двинулись вверх, и Ниргал за ними. Когда он снова стал подниматься в гору, то почувствовал, что желудок пожирал сам себя, а голова закружилась. А прямо перед ним несли черную антилопу.
Чуть выше росло несколько гигантских секвой, оставшихся на краю каньона в стороне от остальных. Когда охотники добрались туда, то, повернувшись к последним лучам заходящего солнца, Ниргал увидел, что эти деревья образовывали круг – неровный хендж из девяти деревьев с большим местом для костра в центре.
Группа вошла в круг и принялась разжигать костер, свежевать антилопу, вырезать крупные куски мяса с ее бедер. Ниргал стоял и смотрел, и ноги его колотились, будто он работал на швейной машинке, рот фонтанировал слюной, он сглатывал снова и снова, каждый раз, когда чувствовал запах мяса, возносившийся в свете ранних звезд. Свет от костра растекался в темноте, создавая в круге деревьев мерцающее пространство под открытым небом. Ниргал глядел на отблески на иглах секвой, и ему чудилось, будто он видит собственные кровеносные сосуды. Вокруг некоторых стволов вверх, уводя к ветвям, поднимались винтовые лестницы. Высоко над ними горели лампы, и звучали голоса, словно крики жаворонков, взлетевших к звездам.
Трое или четверо охотников сгрудились вокруг Ниргала, угостив его лепешками, судя по вкусу, из ячменя, затем каким-то пламенным алкоголем, который разливали в глиняные чашки. Они рассказали ему, что нашли хендж секвой несколько лет назад.
– А куда делась… ваша главная охотница? – спросил Ниргал, озираясь.
– О, Диана-охотница не сможет ночевать сегодня с нами.
– К тому же она облажалась и не хочет быть здесь.
– Да все она хочет! Ты же знаешь Зо, она всегда найдет причину.
Они рассмеялись и переместились поближе к огню. Женщина достала обугленный кусок мяса и помахала им на палке, пока тот не остыл.
– Я съем тебя целиком, сестра моя! – и откусила его.
Ниргал ел с ними, впав в беспамятство от вкуса горячего мяса, с силой пережевывая, и все равно глотая пищу кусками, весь возбужденный и дрожащий от сводящего с ума голода. Еда, еда!
Второй кусок он ел медленнее, больше наблюдая за другими. Его желудок быстро наполнялся. Он вспомнил рывок по оврагу: поразительно, на что оказалось способно тело в подобной ситуации, он словно испытал внетелесный опыт – или же телесный, но управляемый подсознательно, вероятно, откуда-то из глубины мозжечка, тем древним подсознанием, которое позволяло совершать невиданные вещи в состоянии благодати.
Пропитанная смолой ветка выплевывала из пламени искры. Его зрение до сих пор не успокоилось, изображение прыгало и казалось размытым. К нему подошел копьеметатель вместе с еще одним мужчиной.
– На, выпей это, – сказали ему и, смеясь, поднесли к губам кожаную трубку, после чего ему в рот полился горький, похожий на молоко напиток. – Выпей крови белого брата, брат.
Несколько человек взяли в руки камни и стали ритмично стучать ими друг о друга. Остальные начали танцевать вокруг костра, крича и распевая:
– Аль-Кахира, Маадим, Окакух, Хармахис, Аль-Кахира, Маадим, Окакух, Хармахис…
Ниргал танцевал вместе с ними, прогнав мысли об усталости. Стояла прохладная ночь, и танцующие то приближались к жаркому костру, то отдалялись от него – то ощущали его свет на голой коже, то уходили назад в холод. Когда все разгорячились и вспотели, они вышли в ночь и побрели обратно в сторону каньона, вдоль обрыва на юг. Кто-то схватил Ниргала за предплечье, и ему показалось, что это Диана-охотница снова оказалась перед ним, но было слишком темно и нельзя было разглядеть. А потом они полетели прямо в водохранилище, совсем ледяное, он нырнул под воду, оказался по пояс в иле и песке, вынырнул, почувствовал убийственный холод, его бешено затрясло, он стал хватать ртом воздух, рассмеялся, кто-то схватил его за ногу, и он снова ушел вниз, смеясь. Затем мокрый, замерзший, босой, вскрикивая на каждом шагу, вернулся в хендж, в тепло. Там, промокшие, они снова танцевали, приникая к костру, вытянув руки, словно пытаясь обнять исходившее от него излучение. Все тела казались красными в его свете, иглы секвой мелькали на фоне звезд, качаясь в ритм каменным перкуссиям.
Когда они отогрелись и костер потух, Ниргала отвели по одной из лестниц на секвойю. На крупных верхних ветвях располагались плоские спальные платформы с низкими стенками и без крыш. Пол слегка качался под ногами, когда прохладный ветер шевелил ветвями, пробуждая в них глубокие неземные хоры. Ниргала оставили одного на самой высокой платформе. Он достал свои постельные принадлежности, улегся и под шум ветра, гуляющего в иглах секвойи, уснул.
Он неожиданно проснулся на рассвете. Сел, прислонившись к стенке своей платформы, удивленный тем, что весь предыдущий вечер не оказался сном. Он выглянул через край: до земли было очень, очень далеко. Он словно находился в марсовой площадке огромного корабля. Это напоминало ему высокую бамбуковую комнату в Зиготе, но здесь все было гораздо крупнее, здесь были усыпанный звездами купол неба и черная линия горизонта вдалеке. Вся земля казалась смятым темным одеялом с вкрапленным в него узором серебристой поверхности водохранилища.
Он спустился по лестнице – в ней было четыреста ступенек. Дерево, по-видимому, достигало порядка 150 метров и вдобавок возвышалось над 150-метровым обрывом, за которым располагался каньон. В предрассветных лучах он выглянул на стену, к которой они пытались подвести антилоп, увидел овраг, по которому промчались вниз, прозрачную дамбу, массу воды за ней.
Он вернулся в хендж. Несколько охотников уже были на ногах и, дрожа в утренней прохладе, пытались снова разжечь костер. Ниргал спросил их, собирались ли они в путь в этот день. Те ответили, что да, готовились двинуться на север по хаосу Ювента и оттуда на юго-западное побережье залива Хриса. А что дальше – пока не знали.
Ниргал спросил, можно ли ему присоединиться к ним на какое-то время. Они удивились, внимательно на него посмотрели и переговорили между собой на незнакомом ему языке. Пока они говорили, Ниргал сам размышлял над тем, зачем об этом спросил. Да, он хотел увидеть снова Диану-охотницу, это так. Но не только из-за этого. В его лунг-гом-па не было ничего такого, что могло бы сравниться с последним получасом охоты. Конечно, бег дал ему некоторые способности – выдерживать голод, усталость, но теперь с ним случилось что-то новое. Занесенная снегом лесная почва, погоня по девственным лесам, бросок по оврагу, эпизод у дамбы…
Охотники кивнули ему. Он мог пойти с ними.
Весь тот день они шли на север, следуя по извилистой тропе по хаосу Ювента. Вечером добрались до невысокой столовой горы, чью вершину целиком занимал яблоневый сад. Они смогли подняться туда по уступу, где была проложена дорога. Деревья были обрезаны и имели форму бокалов для коктейля, и прямо из старых, искривленных ветвей теперь тянулись новые ростки. Всю вторую половину следующего дня они переставляли лестницы от дерева к дереву, обрезая тонкие веточки с твердыми, терпкими, незрелыми маленькими яблоками.
Посреди рощи находилось строение с круглой крышей и открытыми стенами. Дисковый дом, как сказали они. Ниргал вошел внутрь и изумился его дизайну. Основание состояло из круглой бетонной плиты, отполированной до мраморного блеска. Крыша, такой же формы, поддерживалась Т-образной внутренней стеной, которая тянулась по диаметру и по радиусу. В открытом полукруге располагались кухня и гостиная, с другой стороны – спальни и ванная. Внешний контур, сейчас открытый, при плохой погоде мог закрываться прозрачными стенами, которые опускались вдоль всего круга, как занавески.
Как рассказала Ниргалу женщина, забивавшая антилопу, дисковые дома можно было найти по всему плато Луна. Другие группы использовали такие же дома, когда ухаживали за садами, что попадались им на пути. Они все являлись частью широкого кооператива, члены которого жили кочевниками, занимались немного сельским хозяйством, немного охотой, немного собирательством. Сейчас одна группа запекала яблоки, чтобы сделать из них пюре про запас, другая жарила мясо антилопы на костре за домом или работала в коптильне.
От двух круглых ванных, что находились прямо возле дома, поднимался пар, и какая-то часть группы посбрасывала одежду и забралась в одну из них, что поменьше, желая вымыться перед ужином. Они были очень грязными, уже долгое время живя в полевых условиях. Ниргал пошел за женщиной (на ее руках до сих пор оставалась запекшаяся кровь) и присоединился к купающимся. Горячая вода показалась ему чем-то инопланетным, словно жар огня стал жидким, чтобы к нему можно было прикоснуться и погрузить в него свое тело.
Проснувшись на рассвете, они расселись у костра и принялись заваривать кофе и каву, болтать, штопать одежду, бродить вокруг дискового дома. Спустя какое-то время собрали свои немногочисленные вещи, потушили огонь и выдвинулись в путь. У каждого был рюкзак за спиной либо поясная сумка, но большинство путешествовали налегке, как Ниргал, а то и вовсе лишь с тонкими спальными мешками, едой и копьями или луками со стрелами, подвешенными через плечо. Они шли все утро, затем разделились на небольшие группы, чтобы насобирать сосновых шишек, желудей, луговых луковиц и дикой кукурузы, либо поохотиться на сурков, кроликов, лягушек или что-нибудь покрупнее. Они были худы: ребра выпирали, лица имели тонкие черты. Женщина объяснила ему, что им нравилось, когда оставалось чувство легкого голода. Тогда еда казалась вкуснее. И в самом деле каждую ночь этого затянувшегося похода Ниргал заглатывал свою пищу, как после своих пробежек, жадно дрожа, и все казалось ему на вкус амброзией. Они ежедневно преодолевали большие расстояния и во время таких больших охот не раз оказывались на местности, совершенно непригодной для бега, – такой грубой и неровной, что им часто требовалось четыре-пять дней, чтобы найти друг друга в следующем дисковом доме. Поскольку Ниргал не знал месторасположения этих домов, то ему приходилось всегда держаться какой-нибудь группы. Однажды его определили в группу с четырьмя детьми, которые отправились по легкому маршруту поперек кратерированного участка плато Луна, и, когда нужно было выбирать дорогу, дети каждый раз говорили ему, куда идти, и в итоге первыми добрались до следующего дискового дома. Детям это понравилось. Члены других групп иногда подсказывали им, когда лучше покинуть дом. «Эй, детишки, не пора ли в дорогу?» – и они хором отвечали, да или нет. Однажды двое взрослых подрались, после чего представили свои доводы четырем детям, которые вынесли решение против одного из них. Женщина-мясник тогда объяснила Ниргалу:
– Мы их учим, а они нас судят. Они у нас суровые, но честные.
Они собрали немного урожая из садов: персиков, груш, абрикосов, яблок. Если плоды начинали переспевать, они срывали их все, запекали и разливали по бутылкам в виде пюре или чатни[34], которые оставляли потом в больших кладовках под домами – для других групп или себя, до своего следующего прихода. Затем они снова тронулись в путь – на север по плато Луна, туда, где оно переходило в Большой Уступ. С того места уровень земли резко падал на пять тысяч метров – с высоты плато до залива Хриса, и весь этот спуск тянулся лишь немногим более сотни горизонтальных километров.
Идти по наклонной поверхности было тяжело, тем более что ее рельеф нарушали миллионы мелких деформаций. Здесь еще не было дорог, как не было и удобного маршрута: приходилось подниматься и опускаться, возвращаться назад и снова идти вперед. Не на кого было охотиться, не было дисковых домов поблизости, да и собирать здесь было особо нечего. А когда они переходили через ряд коралловых кактусов, прошивавший землю, будто забор из колючей проволоки, один из подростков соскользнул, упав коленом на скопление иголок. После этого магниевые жерди служили у них как носилки, и они шли дальше на север, неся плачущего мальчишку, а лучшие охотники, взяв луки и стрелы, отклонялись от маршрута группы по сторонам в надежде подстрелить какую-нибудь добычу. Ниргал заметил, как они сначала несколько раз промахнулись, но затем издалека пущенная стрела настигла бегущего кролика, и тот свалился, после чего они его добили; это был выдающийся выстрел, заставивший всех с криком подскочить на месте. В итоге они сожгли больше калорий, празднуя попадание в цель, чем получили из своей доли кроличьего мяса. Разделывавшая его женщина отнеслась к этой радости с презрением.
– Ритуальное поедание брата-грызуна, – ухмыльнулась она, поедая свой обрезок. – И не вздумай мне говорить, что случайностей не бывает.
Но вспыльчивый копьеметатель лишь усмехнулся ей, а остальные, просто набив полные рты, наслаждались доставшимся им мясом.
Позднее в тот же день они наткнулись на молодого самца карибу, который бродил в одиночку, похоже, отбившись от своих. Сумей они его поймать – их проблема с продовольствием была бы решена. Но он, несмотря на свое смятение, был осторожен и держался вне досягаемости даже самых дальних выстрелов. Он бежал прочь от людей, спускаясь по Большому Уступу. Охотники, находившиеся выше по склону, оставались у него в поле зрения.
Тогда все опустились на четвереньки и принялись старательно спускаться по раскаленным от солнца камням, двигаясь быстро, чтобы успеть окружить карибу. Но ветер дул им в спины, и карибу легко спускался по склону, иногда немного смещаясь на север или пощипывая траву. Он все с большим интересом оглядывался на своих преследователей, словно недоумевая, почему они все еще продолжают этот фарс. Ниргал и сам начинал недоумевать. И он явно не был в этом одинок: скептицизм карибу заразил их всех. Охотники пересвистывались в разных тональностях, подавая сигналы: было ясно, что во мнениях относительно стратегии возникло расхождение. Ниргал понял, что охота была делом непростым и нередко заканчивалась ничем. Вероятно, они и не были хорошими охотниками. Их припекало на камнях, они не ели как следует уже пару дней. Такие ситуации были частью их жизни, но сегодняшний день выдался слишком скверным, чтобы получать от этого удовольствие.
Когда они прошли еще немного, восточный горизонт как будто раздвоился: это им открылся залив Хриса со своей сияющей голубой гладью. Но до него было еще далеко. И пока они продолжали спускаться за карибу, море занимало все бо́льшую часть их обзора. А Большой Уступ имел здесь такой резкий уклон, что, даже несмотря на крутой изгиб Марса, залив Хриса был виден на многие километры вперед. Море, голубое море!
Возможно, им удастся поймать карибу у воды. Но тот сейчас все больше уклонялся на север, смещаясь поперек склона. Они карабкались вслед за ним, а когда преодолели небольшой гребень, им открылся прекрасный вид до самой береговой линии. Воду обрамляла кромка зеленого леса, из-под деревьев выглядывали маленькие белесые строения. На утесе возвышался маяк.
Они продолжили путь на север, и вскоре изгиб побережья протянулся до горизонта. Сразу за местом, где начинался изгиб, раскинулся прибрежный город, уместившийся в бухту в форме полумесяца на южной стороне того, что, как они теперь увидели, было проливом или, точнее, фьордом: узкий проход с противоположной стороны встречал стену еще более крутую, чем тот склон, по которому спускались они. Три тысячи метров красной скалы выпирали из воды, образуя утес такой величины, словно это был край целого материка. На нем виднелись горизонтальные полосы, глубоко высеченные ветрами, обдувавшими его миллиарды лет. Ниргал вдруг понял, где они очутились: этот массивный утес был выходящим к морю уступом полуострова Шаранова, фьорд – фьордом Касэя, а город в гавани – Нилокерасом. Длинный же путь они проделали!
Пересвистывания между охотниками стали громче и выразительнее. Примерно половина из них уселась на склон. Ряд голов возвышался над камнями, и они переглянулись друг с другом, словно всех одновременно посетила какая-то идея. А потом все встали и пошли в сторону города, бросив охоту и позволив карибу беспечно щипать свою траву. Через некоторое время бросились бегом, крича и смеясь, оставив носильщиков и раненого мальчика позади.
Но все-таки подождали их внизу, под высокими хоккайдскими соснами, росшими в предместье. Когда группа с носилками подоспела, они спустились мимо сосен и садов к городским улицам. Шумной толпой они миновали опрятные домики с окнами, выходящими на гавань, и пришли прямо к врачебному пункту, словно заранее знали, куда идти. Оставив там раненого юношу, отправились в общественные бани. А быстро искупавшись, двинулись в сторону доков, где заняли три или четыре смежных ресторана, возле которых были выставлены столики, прикрытые зонтами, и висели ряды ярких лампочек. Ниргал сел за столик рыбного ресторана в компании подростков. Спустя некоторое время к ним присоединился и раненый, с перевязанными коленом и голенью. Они много ели и пили – креветки, моллюски, мидии, голец, свежий хлеб, сыры, крестьянский салат, несколько литров воды, вино, узо. Все было в таком избытке, что, закончив, они вышли, пошатываясь, пьяные и с упругими, как барабаны, животами.
Затем некоторые из них отправились в то место, которое женщина-мясник называла «их гостиницей», чтобы сразу лечь. Остальные же прохромали мимо зданий к близлежащему парку, где после оперы Тиндэлла «Филлис Бойл» должны были начаться танцы.
Ниргал растянулся на траве в парке, среди собравшейся толпы. Как и остальные, он был восхищен способностями певцов и чистейшим буйством оркестра Тиндэлла. Когда опера закончилась, оказалось, что некоторые из их группы успели переварить пищу и были готовы танцевать. Присоединился к ним и Ниргал, а спустя час танцев он сам заиграл музыку, вместе с другими участвующими зрителями. И он пробарабанил с ними до тех пор, пока все его тело не стало гудеть, как эти магниевые барабаны.
Но он все же слишком обильно поел, и, когда его группа стала возвращаться в гостиницу, решил уйти с ними. Когда они возвращались, кто-то из прохожих бросил:
– Гляньте на диких, – или что-то в этом роде.
Копьеметатель тут же взвыл и вместе с парой молодых охотников пригвоздил прохожего к стене.
– Следи за языком, не то выбью из тебя все дерьмо, – радостно прокричал копьеметатель. – Вы, крысы в клетках, наркоманы, лунатики, долбаные черви, думаете, можете принимать свои наркотики и чувствовать то, что чувствуем мы, да мы надерем тебе задницу, и тогда у тебя будет настоящее ощущение, ты поймешь, о чем я говорю.
Ниргалу пришлось оттащить его назад, успокаивая:
– Ладно, ладно, не создавай проблем.
Но теперь прохожие, скорые на расправу, с шумом набросились на них; они не были пьяны и не шутили. Молодым охотникам пришлось отступить, позволив Ниргалу увести себя. Противники оказались удовлетворены уже тем, что прогнали «диких». Охотники захромали по улице прочь, держась за ушибленные места. Они продолжали выкрикивать оскорбления, смеялись и огрызались, совершенно забывшись.
– Чертовы лунатики, позаворачивались, видите ли, в свои подарочные коробки, но мы-то вам надерем задницы! Уж мы выпрем вас из ваших кукольных домиков! Безмозглые бараны, вот вы кто!
Ниргал вел их под руку, невольно давясь со смеху. Пустозвоны были пьяны, да и сам Ниргал не намного трезвее. Когда они подошли к своему хостелу, он заглянул в бар на противоположной стороне улицы, увидел, что там уже сидела женщина-мясник, и зашел внутрь вместе со своими буйными мальчишками. Он сел поодаль, взял бокал коньяка и, перекатывая напиток по языку, стал наблюдать за ними. Прохожий назвал их дикими.
Женщина смотрела на него, по-видимому, пытаясь понять, о чем он думал. Много позже он поднялся, с явным трудом, и вместе с остальными неуверенно пересек мощеную улицу. Они выкрикивали слова из «Раскачивайся плавно, прекрасная колесница»[35], и он бормотал им в такт. На обсидиановой глади фьорда Касэй восходили и опускались звезды. Разум и тело переполнялись чувством приятной усталости.
Они проспали все утро, очнувшись поздно вялыми и с похмельем. Некоторое время провалялись в своей большой комнате, потягивая каваяву. Затем спустились вниз и, хотя уверяли, что не голодны, все же съели плотный гостиничный завтрак. И, пока ели, решили дальше лететь. Ветры, которые носились по фьорду Касэй, были сильными, как и в любом другом регионе, и виндсерферы и летатели всех мастей съезжались в Нилокерас, чтобы их оседлать. Иногда, конечно, выдавались слишком уж мощные бури, и тогда веселье заканчивалось для всех, кроме обладателей самых крепких аппаратов, но обычно погодные условия были весьма подходящими.
Оперативная летная база располагалась на краю кратера, который превратился в остров и получил название Санторини. После завтрака они отправились в доки и сели на паром. А спустя полчаса сошли на небольшой изогнутый остров и вместе с другими пассажирами двинулись строем к аэропорту для планеров.
Ниргал не летал уже несколько лет и испытал огромное удовольствие, когда пристегнулся к гондоле планера-аэростата и поднялся на мачту, а потом предался воле мощных восходящих потоков, поднимающихся по внутренней стороне обода Санторини. Набрав высоту, Ниргал увидел, что большинство летателей были одеты во всякого рода «птичьи костюмы», и казалось, он летел в стае летучих созданий с большими крыльями, которые напоминали не птиц, но, скорее, летучих лисиц или каких-то мифических гибридов вроде грифонов или Пегаса. Каких-то птицелюдей. Костюмы были разных типов и в некоторой степени копировали формы различных видов – альбатросов, орлов, стрижей, ястребов. Каждый костюм облекал летателя в то, что, по сути, представляло собой постоянно изменяющийся экзоскелет, который реагировал на внутреннее давление тела, чтобы можно было принимать и удерживать позицию или делать определенные движения, которые усиливались пропорционально давлению, создаваемому внутри. Таким образом, усилием человеческих мышц можно было махать большими крыльями или сохранять их в ровном положении вопреки яростным порывам ветра, держа при этом обтекаемые шлемы и хвостовые перья в правильной позиции. Встроенный в костюм искин помогал летателям, если это было им нужно, и мог даже поддерживать режим автопилота, но большинство предпочитало думать самостоятельно и управлять костюмами, как манипулятором, многократно увеличивая силу своих мышц.
Сидя в своем планере, Ниргал смотрел на этих птицелюдей одновременно с наслаждением и тревогой, когда они проносились мимо него в пугающих пике навстречу морю, а затем, распустив крылья, рисовали дугу и поднимались обратно по спирали в восходящем потоке воздуха. Все это выглядело так, будто для полета в костюмах требовались серьезные навыки. Такие костюмы были полной противоположностью планеров, которые парили над островом, будто проворные аэронавты, вздымаясь и падая гораздо плавнее.
Затем Ниргал увидел, как рядом с ним взвилась по восходящей спирали Диана-охотница, женщина, руководившая охотой диких. Она тоже узнала его, подняла подбородок и коротко улыбнулась, после чего подтянула крылья и, перевернувшись, стремительно ринулась вниз. Ниргал наблюдал за ней сверху с боязливым волнением, а затем и с ужасом, когда она пронеслась совсем рядом с обрывом Санторини, – с его позиции это выглядело так, будто она должна была врезаться. И вот она уже снова, оседлав восходящий поток, поднималась по узкой спирали. Ее полет был настолько грациозен, что он сам захотел научиться летать в костюме – даже несмотря на свой учащенный пульс, который все еще не пришел в норму после ее нырка. Взлеты и падения, взлеты и падения – ни один планер не был способен вытворять что-либо подобное. Птицы были величайшими из всех, кто поднимался в воздух, а Диана-охотница летала, как птица. И сейчас, глядя на все это, Ниргал думал о том, что люди превратились в птиц.
Вместе с ним, мимо него, вокруг него – она словно исполняла брачный танец, как это принято у некоторых видов. И спустя час таких виражей она улыбнулась ему в последний раз и, перевернувшись, стала медленными кругами опускаться к аэропорту в Фире. Ниргал последовал за ней и через полчаса приземлился, пролетев над самой землей вместе с ветром и остановившись прямо перед Дианой-охотницей. Она уже ждала, разложив крылья рядом с собой.
Она обошла его кругом, словно в продолжение брачного танца. Подошла к нему, отбросив капюшон, – ее черные волосы заструились на свету, точно воронье крыло. Богиня Диана. Она вытянулась на цыпочках и поцеловала его в губы, затем, отступив, пристально на него посмотрела. Он припомнил, как она бежала голая во главе охоты, как зеленый шарф развевался у нее в руке.
– Завтрак? – предложила она.
Была уже середина дня, и он изнывал от голода.
– Ага.
Они поели в столовой аэропорта, откуда открывался вид на дугу маленькой бухты острова и громадные утесы Шаранова, над которыми все еще выписывали свои фигуры летуны. Они говорили о полетах и о беге, об охоте на трех антилоп, об островах Северного моря и величественном фьорде Касэя, откуда до них доносился ветер. Они заигрывали друг с другом, и Ниргал с наслаждением предвкушал то, к чему это их вело. Такого с ним не было давно. И это тоже являлось частью возвращения в город, в цивилизацию. Заигрывания, соблазнения – как же это чудесно, когда это интересно обоим! Она казалась довольно молодой, но лицо было загорелым и вокруг глаз виднелись складки – значит, не совсем юна. Она сказала, что бывала на спутниках Юпитера и училась в новом университете Нилокераса, а теперь уже некоторое время бегала с дикими. Двадцать М-лет, наверное, или старше – теперь определять возраст было трудно. В любом случае она была взрослой: в эти первые двадцать М-лет люди получали бо́льшую часть того жизненного опыта, который им полагался, далее следовали лишь повторения. Он встречал старых дураков и молодых мудрецов примерно с одинаковой частотой. Они оба были взрослыми, ровня друг другу. И сейчас приобретали совместный жизненный опыт.
Ниргал смотрел ей в лицо, когда она говорила. Беззаботная, умная, уверенная. Настоящая минойка – темнокожая, темноглазая, с орлиным носом, выразительной нижней губой. Возможно, со средиземноморскими, греческими, арабскими или индийскими корнями – как и в большинстве случаев с йонсеями, определить было невозможно. Она просто была марсианкой, говорила на бревийском английском и смотрела на него тем самым взглядом… о, да! Как много раз это случалось в его странствиях, когда разговор в какой-то момент менял направление, и его с какой-нибудь женщиной вдруг уносили долгие и плавные обольщения, а потом ухаживания приводили их в постель или в какую-нибудь скрытую лощину в горах…
– Слышишь, Зо, – бросила женщина-мясник, проходя мимо, – идешь с нами на перешеек предков?
– Нет, – ответила Зо.
– Перешеек предков? – спросил ее Ниргал.
– Перешеек Буна, – ответила Зо. – Городок на полярном полуострове.
– А почему предков?
– Она праправнучка Джона Буна, – объяснила женщина-мясник.
– Каким образом? – спросил Ниргал, глядя на Зо.
– Джеки Бун, – сказала она. – Она моя мать.
– Ой, – только и сумел выговорить Ниргал.
Он откинулся на стуле. Ребенок, которого Джеки кормила в Каире. Теперь ее сходство с матерью казалось очевидным. Он покрылся гусиной кожей, волосы на предплечьях встали дыбом. Он обхватил себя руками, задрожал.
– Должно быть, я старею, – произнес он.
Она улыбнулась, и он вдруг осознал, что она знала, кто он такой. Она играла с ним, заводя в маленькую ловушку, – в порядке эксперимента, наверное, или назло матери, а может, по какой-то другой причине, которую он не мог вообразить. Забавы ради.
Но затем она сдвинула брови, стараясь принять серьезный вид.
– Это не имеет значения, – сказала она.
– Нет, – ответил он. На улице их ждали другие дикие.
Часть одиннадцатая Viriditas
Это было время разлада. Перенаселение теперь двигало всем. Общий план преодоления гипермальтузианского периода был очевиден и довольно хорошо работал. Каждое поколение было малочисленнее предыдущего, однако на Земле все равно проживало восемнадцать миллиардов человек, плюс восемнадцать миллионов на Марсе, а рождаемость непрерывно росла, и все больше людей переселялось с Земли на Марс. При этом обе планеты рыдали в один голос: хватит, хватит!
Когда земляне слышали плач Марса, некоторые приходили в гнев. Понятие вместимости существовало лишь в виде голых цифр, как изображение на экранах. Марсианское мировое правительство кое-как делало все, что могло, чтобы давать этому гневу отпор. Оно объясняло, что Марс, с его тонкой новой биосферой, не мог вынести столько людей, сколько могла приютить старая толстая Земля. Также оно превратило марсианскую ракетную промышленность в производство шаттлов и оперативно расширило программу, чтобы делать из астероидов летающие города. Эта программа стала неожиданным ответвлением того, что служило частью тюремной системы. Наказанием за серьезные преступления на Марсе уже много лет являлось пожизненное изгнание с планеты, которое начиналось с нескольких лет заточения с принудительным трудом в каком-нибудь поселении на астероиде. После этого приговор считался отбытым, и правительству было уже безразлично, куда отправлялся изгнанник, – главное, чтобы не возвращался на Марс. Таким образом, устойчивый поток людей прибывал на Гебу, высаживался и отбывал срок, после чего отправлялся в какое-нибудь другое место, иногда на какой-нибудь малонаселенный пока внешний спутник, иногда – обратно во внутреннюю систему, но чаще всего – на одну из многочисленных колоний, что основывались в полых астероидах. Да Винчи и несколько других кооперативов создавали и распространяли программное обеспечение для запуска таких поселений, и так же поступали многие другие организации – сами программы, по сути, были довольно просты. Изыскательские команды находили в астероидном поясе тысячи кандидатов для этой процедуры, и на лучших из них устанавливали оборудование для их превращения. Затем к работе с одного из его концов приступала команда самовоспроизводящихся роботов-копателей, которые бурили породу, выбрасывая бо́льшую часть камней в космос, а остальное используя для сборки и заправки новых машин. Когда астероид становился полым, открытый конец запечатывали, и его запускали вращаться таким образом, чтобы центробежная сила создавала гравитацию, равную внутренней. Внутри этих полых цилиндров зажигались мощные лампы, которые обеспечивали освещение, равносильное уровню земного или марсианского дня, и таким же устанавливалось g. В итоге получались маленькие города с условиями как на Марсе или как на Земле, либо с какими-нибудь средними между ними или вовсе запредельными; и во многих из этих мирков ставили эксперименты с низкими g.
Эти новые города-государства заключали между собой союзы и нередко поддерживали связь со своими учредительными организациями на родных планетах, но общей системы у них не существовало. Независимые колонии, особенно те, на которых проживали преимущественно изгнанники с Марса, в первое время враждебно встречали проходящие мимо них корабли – в том числе пытаясь взимать с них пошлину, еще и таким наглым образом, что это напоминало пиратство. Но теперь шаттлы проносились мимо поясов на очень высоких скоростях и либо немного выше, либо ниже плоскости эклиптики, чтобы избежать попадания пыли и камней, которых по мере выдалбливания новых астероидов становилось все больше. Поэтому стало тяжело требовать уплаты пошлины, не угрожая кораблям полным уничтожением, которое повлекло бы за собой тяжелое возмездие. Так что мода на ее взимание оказалась кратковременной.
Теперь, когда и Земля, и Марс все сильнее испытывали проблему перенаселения, марсианские кооперативы делали все возможное, чтобы ускорить развитие новых астероидных городов. Кроме того, строились крупные купольные поселения на лунах Юпитера и Сатурна, а с недавних пор и на Уране, плюс следующим, судя по всему, был Нептун и, может, даже Плутон. Крупные спутники внутренних газовых гигантов были действительно большими, все равно что малые планеты, и на каждом из них имелись обитатели, запускавшие там проекты терраформирования, длительность которых зависела от местной ситуации. Ни один из них нельзя было терраформировать быстро, зато везде это было возможно до определенной степени, а некоторые даже предлагали волнующую возможность создать новый мир. Титан, например, начинал выходить из азотной завесы, потому что поселенцы, которые жили под куполами на малых лунах поблизости, нагрели его атмосферу и накачали ее кислородом. Летучие газы на Титане хорошо подходили для терраформирования, и, хотя он находился на значительном расстоянии от Солнца и получал всего один процент земной инсоляции, длинные ряды зеркал добавляли все больше света, и местные рассматривали возможность установки дейтериевых ядерных фонарей, которые свободно висели бы на его орбите и освещали еще сильнее. Это могло стать альтернативой другому приспособлению, которое сатурнианцы не желали использовать, известному как газовый фонарь. Такие устройства сейчас летали в верхних слоях атмосферы Юпитера и Урана, собирая гелий-3 и другие газы и производя пламя, чей свет отражался за пределы электромагнитных дисков. Но сатурнианцы отказались их запускать, так как не хотели нарушать внешний вид своей окольцованной планеты.
Таким образом, марсианские кооперативы весьма активно занимались развитием этих внешних орбит, помогая марсианам и землянам эмигрировать в новые маленькие миры. По ходу этого процесса сотни, а затем и тысячи астероидов и мини-лун обрели местное население и названия, и дело спорилось, став тем, что одни окрестили взрывной диаспорой, другие – просто аччелерандо[36]. Люди взялись за идею, и проект набрал силу, которая ощущалась повсюду, выражая всевозрастающее желание человечества создавать новое, его стойкость и многообразие. И аччелерандо также воспринималось как отклик на тяжелейший кризис популяционного всплеска, настолько сильный, что наводнение на Земле 2129 года в сравнении с ним выглядело не более чем обычным приливом. Этот кризис мог привести к полному краху, погрузить человечество в хаос и варварство, но встретился лицом к лицу с величайшим расцветом цивилизации в ее истории, с новым Ренессансом.
Многие историки, социологи и другие общественные наблюдатели пытались объяснить столь выразительную природу этой самой сознательной из эпох. Одна из исторических школ, Группа потопа, вспомнив великое наводнение, объявила его причиной нового Ренессанса – тогда случился вынужденный переход на более высокий уровень. Другая научная школа применила так называемое Техническое Объяснение: утверждалось, что человечество перешло на новый уровень технологического развития – так же, как это происходило примерно каждые полвека со времен первой промышленной революции. Группа потопа предпочитала термин «диаспора», Техники – «аччелерандо». Позднее, в 2170-х, марсианский историк Шарлотта Дорса-Бревиа написала и опубликовала глубокую многотомную аналитическую метаисторию, как она сама ее назвала, в которой утверждалось, что великое наводнение действительно послужило спусковым крючком, а техническое развитие – механизмом содействия, но особый характер нового Ренессанса был вызван чем-то гораздо более фундаментальным, а именно переходом от одного типа глобальной социально-экономической системы к следующему. Она описала так называемый остаточный/появляющийся комплекс наслаивающихся парадигм, в котором каждая значительная социально-экономическая эра складывалась из примерно равных частей смежных с ней систем в ближайшем прошлом и в ближайшем будущем. Однако эти периоды «до» и «после» были не единственными: они составляли основу системы и включали в себя ее наиболее несовместимые компоненты, но дополнительные важные свойства обеспечивались особенно стойкими чертами более древних систем, а также теми слабыми и неуверенными предположениями, которым предстояло развиться много позже.
Феодализм, например, по мнению Шарлотты, возник на стыке остаточной системы абсолютной духовной монархии и появляющейся системы капитализма, а также важных отголосков более древнего варварского строя и слабых предвестий более позднего индивидуалистического гуманизма. Столкновение этих сил смещалось во времени до тех пор, пока в шестнадцатом веке Ренессанс не возвестил наступление эры капитализма. Тот тогда складывался из противоборствующих элементов остаточного феодализма и появляющегося строя будущего, который лишь теперь стал характеризоваться тем, что Шарлотта называла демократией. Потому что сейчас, как утверждала Шарлотта, они – во всяком случае, на Марсе – жили как раз в эпоху демократии. Стало быть, капитализм, подобно всем остальным эпохам, представлял собой сочетание двух систем, остро противостоящих друг другу. Эту несовместимость составляющих подчеркивал горький опыт его критической тени – социализма, который теоретически предполагал становление истинной демократии и взывал к ней, но в попытке ее достижения применял доступные в то время методы, ничем не отличающиеся от феодальных и широко используемые в самом капитализме. В итоге оба варианта завершили свое развитие примерно таким же разрушительным и незаслуженным образом, что и их общий предшественник. Феодальные иерархии в капитализме нашли свое отражение в пережитых социальных экспериментах, да и вся эра стала напряженной и беспорядочной борьбой, показавшей несколько разных вариантов активного противостояния феодализма и демократии.
И наконец, эпоха демократии на Марсе началась, сменив эру капитализма. Она тоже, если следовать логике Шарлотты, неизбежно служила борьбой остаточного и появляющегося – между спорными, конкурентными остатками капиталистической системы и появляющимися элементами порядка, выходящего за пределы демократии, – его пока нельзя было как следует охарактеризовать, так как его еще не существовало, но Шарлотта отваживалась называть этот порядок Гармонией, или Всеобщей благодатью. Этот умозрительный скачок она совершила отчасти в результате тщательного изучения различий между кооперативной экономикой и капитализмом и отчасти – охватывая еще бо́льшую метаисторическую перспективу и выделяя в истории широкое движение, которое эксперты прозвали Большими качелями, – движения от остаточных иерархий доминирования, что существовали у наших предков-приматов в саваннах, к крайне медленно, неопределенно и с трудом появляющейся чистой гармонии и равенству, которые затем должны были характеризовать самую истинную демократию. Оба этих долго противоборствующих элемента существовали всегда, заявляла Шарлотта, создавая Большие качели, баланс между которыми медленно и неравномерно смещался на протяжении всей истории человечества. Иерархии доминирования ложились в основу всех систем, представленных до этих пор, но демократические ценности в то же время всегда считались надеждой и целью, которые выражались в самоощущении каждого примата и недовольстве иерархической системой, которую в итоге приходилось навязывать силой. И поскольку баланс качелей этой метаистории смещался на протяжении столетий, то несовершенные попытки установить демократию постепенно набирали силу. Так что лишь малая доля людей считалась по-настоящему равными в рабовладельческих обществах, таких как Древняя Греция или Америка времен революции, и круг этих равных только чуть-чуть ширился при более поздних «капиталистических демократиях». Но с каждым переходом от одной системы к следующей круг равных граждан увеличивался на какую-то величину, пока не только все люди (во всяком случае, теоретически) стали равны, но заходила речь и о равенстве животных и даже растений, экосистем и их элементов. Шарлотта рассматривала эти последние расширения «гражданственности» как одни из предвестий появляющейся системы, которая могла заступить вслед за демократией, то есть ожидаемым ею периодом утопической «гармонии». Намеки на нее были слабы, а желанная, но далекая система – лишь смутной гипотезой. Когда Сакс Расселл прочитал последние тома ее труда и, страстно углубляясь в бесконечные примеры и доказательства (они здорово сокращали объем самой ее работы, которая к тому же была чисто умозрительной), в возбуждении обнаружил общую парадигму, которая могла, наконец, прояснить для него историю, то задался вопросом, наступит ли когда-нибудь эта предполагаемая эпоха вселенской гармонии и благодати. Ему это казалось возможным. Более того, он считал вероятным, что сквозь историю человечества тянулась асимптотическая кривая, которая вела цивилизацию в состоянии нескончаемой борьбы даже в эпоху демократии и всегда направляла ее вверх, никогда не снижаясь и не повышаясь чересчур резко. Но также ему казалось, что такое состояние само по себе было достаточно положительной чертой, чтобы считать цивилизацию успешной. А достаточно – значит достаточно.
Как бы то ни было, метаистория Шарлотты имела большое влияние, превращая взрывную диаспору в своего рода всеобщую задачу, на которую все ориентировались. Таким образом, она вошла в короткий список историков, чьи выводы повлияли на ход их настоящего, – таких как Платон, Плутарх, Бэкон, Гиббон, Шамфор, Карлейль, Эмерсон, Маркс, Шпенглер и, уже на Марсе, до нее – Мишель Дюваль. Люди теперь, как правило, считали капитализм сочетанием противоборствовавших ранее феодализма и демократии, а настоящее – эпохой демократии, примыкающей к гармонии. При этом считалось, что эта их эпоха еще может превратиться во что угодно другое, – Шарлотта была убеждена, что никакого исторического детерминизма не существовало: были лишь многократные попытки людей воплотить свои мечты, а иллюзию детерминизма порождали аналитики, выявлявшие эти мечты потом, когда те уже сбывались. Могло случиться что угодно: они могли скатиться в анархию, стать вселенским полицейским государством, чтобы обеспечить «контроль» в годы кризиса. Но раз большие наднационалы на Земле, по сути, мутировали в праксисоподобные кооперативы, где люди сами контролировали свой труд, – в мире царила демократия. По крайней мере, на данный момент. Эту мечту они воплотили.
Теперь же их демократическая цивилизация достигла того, что никогда не могло быть достигнуто при предыдущей системе, – просто пережила гипермальтузианский период. И сейчас, в двадцать втором веке, они начинали видеть фундаментальные изменения в системах, они сместили баланс, чтобы выжить в новых условиях. В кооперативной демократической экономике все понимали, что ставки высоки, все чувствовали ответственность за общую судьбу, и все вносили свой вклад в бурное строительство, которое велось по всей Солнечной системе.
Цветущая цивилизация включала в себя не только Солнечную систему за пределами Марса, но и внутренние планеты. Испытывая прилив энергии и уверенности, человечество взялось за территории, прежде считавшиеся необитаемыми, и Венера теперь привлекала целые толпы новых терраформирователей, которые по примеру Сакса Расселла, изменившего положение гигантских зеркал Марса, разработали грандиозный план заселения этой планеты, во многом сестринской по отношению к Земле.
Даже на Меркурии теперь появились поселения, хотя и приходилось признать, что для большинства задач он не годился, так как находился слишком близко к Солнцу. День на нем длился пятьдесят девять земных дней, а год – восемьдесят восемь, то есть три таких дня составляли два года, и это было не совпадением, но узлом пересечения, обеспечивавшим ему приливный захват, как у Луны, оборачивающейся вокруг Земли. Благодаря сочетанию этих двух вращений Меркурий очень медленно прокручивался на протяжении своего солнечного дня, отчего освещенное полушарие нагревалось слишком сильно, а темное становилось чрезвычайно холодным. Поэтому единственный город на планете представлял собой что-то вроде гигантского поезда, который ехал по рельсам, проложенным по северной сорок пятой широте и изготовленным из металлокерамического сплава, ставшего первым из алхимических находок меркурианских физиков и способного выдерживать нагрев до восьмисот градусов Кельвина в своей полуосвещенной зоне. Сам город, названный Терминатором, перемещался по этим рельсам на скорости около трех километров в час, находясь, таким образом, в пределах терминатора планеты – зоны предрассветной тени примерно в двадцать километров шириной. Легкое расширение рельсов, подвергнутых воздействию утреннего солнца на востоке, смещало город все дальше и дальше на запад, поскольку он имел плотно прилегающую фрикционную муфту, чья форма позволяла уходить от расширения. Движение было так неумолимо, что сопротивление ему в другой части муфты генерировало огромное количество электрической энергии, как и солнечные коллекторы, тянущиеся вслед за городом и установленные на самую верхушку Рассветной стены, чтобы ловить первые лучи света. В цивилизации со столь дешевой энергией Меркурий был исключительно освещен. И по сравнению с другими планетами был самым ярким из всех. А каждый год появлялось по сто новых миров – летучих городов, маленьких городов-государств, каждый со своими законами, составом населения, ландшафтом, стилем.
И тем не менее при всех успехах и уверенности человечества в своем аччелерандо, в воздухе витало напряжение, чувствовалась опасность. Потому что, несмотря на все стройки, эмиграции и поселения, на Земле по-прежнему проживало восемнадцать миллиардов человек, плюс на Марсе – восемнадцать миллионов, и полупроницаемая мембрана между двумя планетами была до предела натянута осмотическим давлением демографического неравновесия. Отношения между ними были напряжены, и многие боялись, что прокол в мембране мог разорвать все на отдельные части. В этом опасном положении история приносила лишь слабое успокоение: до сих пор они справлялись хорошо, но человечеству еще не приходилось отвечать на кризис какими-либо долгосрочными разумными действиями, зато массовое безумие раньше случалось и они были ровно теми же животными, что жили в более ранние столетия, сталкивались с проблемами поиска средств к существованию, пытались выживать – и без разбора убивали друг друга. Это вполне могло случиться снова. И люди строили, спорили, злились, беспокойно ждали признаков вымирания сверхстариков, содрогались при виде всякого ребенка, что попадался им на глаза. Стрессовый Ренессанс, быстрая жизнь на пределе, сумасшедший золотой век. Аччелерандо. И никто не знал, что будет дальше.
Зо сидела в задней части комнаты, полной дипломатов, и выглядывала в окно на Терминатор. Овальный город величаво перемещался по подпаленным пустошам Меркурия. Полуэллипсоидальное пространство под его высоким прозрачным куполом иделаьно подходило для полетов, но местные власти запретили летать, объясняя, что это слишком опасно. Таким был один из многих «фашистских» запретов, которые ограничивали жизнь здесь: государство служило своего рода нянькой. То, что Ницше метко прозвал рабской психологией, все еще существовало и прекрасно утвердилось тут в конце двадцать второго столетия, да и вообще возникало повсюду, а иерархия строилась и перестраивалась во всех этих новых провинциальных поселениях, на Меркурии, астероидах, внешних системах – повсюду, за исключением величественного Марса.
Здесь же, на Меркурии, было особенно плохо. Встречи марсианской делегации с меркурианами шли в Терминаторе уже не одну неделю, и Зо от них устала – и от самих встреч, и от меркурианских переговорщиков. Последние были скрытными, напыщенными муллами из олигархической верхушки, заносчивыми и в то же время раболепствующими, которые до сих пор не понимали нового положения вещей в Солнечной системе. Ей хотелось забыть их всех вместе с их мирком и улететь домой.
С другой стороны, прикрываясь должностью всего лишь секретаря-референта, она пока была совершенно незаметной фигурой в процессе, и сейчас, когда переговоры заходили в тупик, столкнувшись с упрямым непониманием этих счастливых рабов, наконец настал ее час. Когда встреча закончилась, она отвела в сторону помощника верховного лидера Терминатора – лидера здесь весьма образно называли Львом Меркурия – и попросила побеседовать с ней наедине. Молодой человек, бывший землянин, ответил согласием – Зо уже давно убедилась в его заинтересованности, – и они удалились на террасу возле городского управления.
Зо коснулась его предплечья и доброжелательно произнесла:
– Мы глубоко обеспокоены тем, что если Меркурий и Марс не заключат надежного партнерства, то Терра встанет между нами и настроит друг против друга. Мы обладаем крупнейшими в Солнечной системе запасами тяжелых металлов, и чем больше расширяется цивилизация, тем более ценными они становятся. А цивилизация так и будет расширяться. Это аччелерандо, как-никак. Металлы – это богатство.
А их запасы на Меркурии были труднодоступными, но все же впечатляли: сама планета была чуть крупнее Луны, но имела гравитацию, примерно равную марсианской, что служило явным признаком наличия тяжелого железного ядра и большого количества более ценных металлов, усеявших истерзанную метеоритами поверхность.
– Да? – сказал молодой человек.
– Мы полагаем, что нам нужно установить более креп…
– Картель?
– Партнерство.
Молодой меркурианин улыбнулся.
– Мы не боимся, что кто-либо станет натравливать нас с Марсом друг на друга.
– Несомненно. Зато мы боимся.
Некоторое время, в начале своей колонизации, Меркурий считался очень богатым. Колонисты не только имели запасы металлов, но и, находясь в такой близости от Солнца, имели возможность собирать огромные количества его энергии. Одно только сопротивление, возникающее между фрикционными муфтами и расширяющимися путями, по которым город скользил, создавало ее в избытке, а в потенциале можно было собирать еще больше. Коллекторы на орбите Меркурия уже начали направлять некоторое количество солнечного света новым колониям во внешней области Солнечной системы. Начиная с первых полетов рельсоукладочных машин в 2142 году, во время мобильного строительства Терминатора в 2150-х и на протяжении 2160-х и 2170-х меркурианцы считали себя очень богатыми.
Но сейчас шел уже 2181-й, и при широком внедрении термоядерной энергии она стоила немного, и света стало в изобилии. В верхних слоях атмосферы газовых гигантов горели так называемые ламповые спутники и газовые фонари, которые теперь строились и зажигались по всей внешней системе. В результате обширные солнечные ресурсы Меркурия оказались несущественными. Планета снова стала не более чем богатой металлом, но страдающей от ужасной жары и холода, что затрудняло ее развитие и вдобавок делало невозможным терраформирование.
Это было крушение надежд, как напомнила Зо молодому человеку, не особо заботясь о деликатности. Это означало, что им необходимо было сотрудничать с союзниками, имевшими более удобное расположение в системе.
– В противном случае повышается риск, что доминирование Терры возобновится.
– Терра слишком погрузилась в собственные проблемы, чтобы представлять опасность для кого-либо, – проговорил молодой человек.
Зо слегка покачала головой.
– Чем бо́льшие у них трудности, тем в большей опасности оказываемся мы. Поэтому мы и беспокоимся. Поэтому и считаем, что если вы не захотите заключить с нами соглашение, то нам, может быть, придется построить на Меркурии новый город и рельсовую систему, в южном полушарии, и ездить по терминатору там. Где сосредоточены лучшие залежи металла.
Молодой человек пришел в изумление.
– Вы не сможете этого сделать без нашего разрешения.
– Разве?
– Ни один город не может быть построен на Меркурии, если мы этого не захотим.
– И что вы нам сделаете?
Он молчал.
– Любой может делать все, что хочет, так? – продолжила Зо. – Это справедливо для всех.
Молодой человек задумался.
– Вам не хватит воды.
– Нет. – Запасы воды на Меркурии полностью состояли из небольших ледяных полей, находящихся внутри кратеров на обоих полюсах, остававшихся в постоянной тени. Эти ледники содержали достаточное количество воды для нужд Терминатора, но не более того. – Можно обрушить на полюса пару комет, тогда хватит.
– Если вода не испарится от удара! Нет, это не сработает! Лед в полярных кратерах – это лишь малая часть воды, собиравшейся за миллиарды лет, что кометы попадали по Меркурию. Бо́льшая же часть улетела в космос в момент удара либо выгорела потом. То же самое случится, если кометы упадут снова. В итоге вы только потеряете воду.
– Наши моделисты прорабатывают разные возможности. Мы всегда можем попробовать и посмотреть, что будет.
Молодой человек отступил, словно оскорбившись. И вполне справедливо: более недвусмысленной угрозы и быть не могло. Но в рабском поведении хорошее и глупое было почти одним и тем же, поэтому изъясняться приходилось открыто. Зо говорила со спокойным выражением лица – и это несмотря на то, что молодой человек показывал свое возмущение, словно в комедии дель арте, что смотрелось довольно смешно. Она сделала к нему шаг, подчеркнув тем самым их разницу в росте: она была выше его на полметра.
– Я передам ваше сообщение Льву, – процедил помощник лидера сквозь зубы.
– Спасибо, – ответила Зо и наклонилась, чтобы поцеловать его в щеку.
Эти рабы избрали своей правящей кастой физиков-жрецов, которые оставались для посторонних темными лошадками, но, подобно всем нормальным олигархам, были предсказуемы и имели довольно ограниченную власть. Физики поймут намек и начнут действовать. И придут к соглашению. Поэтому Зо вышла из управления и с довольным видом стала спускаться по ступенчатым улицам Рассветной стены. Ее работа была выполнена, поэтому миссию ждало скорое возвращение на Марс.
Она зашла в Марсианское консульство, что располагалось в середине спуска по стене, и отправила Джеки звонок, рассказав, что следующий шаг сделан. После этого она вышла на балкон и закурила.
Под действием хромотропов, добавленных в сигарету, цвета плыли у нее перед глазами, и город, простирающийся внизу, производил изумляющее впечатление, как фовистическая фантазия. Напротив Рассветной стены террасированный склон тянулся ввысь, делясь на еще более узкие полосы, и самые высокие здания – разумеется, офисы городских руководителей, – представляли собой просто ряд окон под Большими воротами и прозрачным куполом над ними. Черепичные крыши и балконы гнездились под зелеными верхушками деревьев, все стены и перекрытия балконов были выложены мозаикой. Внизу на овальной равнине, в которой помещалась бо́льшая часть города, крыши были крупнее и плотнее ютились друг к другу, и пучками росла зелень, сверкающая на свету, что отражался от фильтрующих зеркал купола. Все это вместе напоминало большое яйцо Фаберже, с множеством деталей и насыщенное цветами. Город был таким же красивым, как и все прочие. Но находиться в нем все равно что в ловушке… Делать здесь было нечего, разве что можно было пытаться хоть чем-нибудь себя развлечь, прежде чем получить разрешение вернуться домой. Для человека благородного преданность долгу – превыше всего.
И она широким шагом спустилась по лестничным улицам вдоль стены к Ле Дому, где шла вечеринка и были Мигель, Арлин, Ксеркс и группа композиторов, музыкантов, писателей и других деятелей и ценителей искусства, которые праздно проводили время в кафе. Это была шумная компания. Вообще кратеры Меркурия столетия назад были названы в честь наиболее известных творцов в земной истории, поэтому, скользя по его поверхности, Терминатор проезжал кратеры: Дюрера и Моцарта, Филия и Пёрселла, Тургенева и Ван Дейка. В других регионах располагались кратеры Бетховена, Имхотепа, Малера, Матисса, Мурасаки, Мильтона, Марка Твена; кратеры Гомера и Гольбейна соприкасались краями, Овидия – украшал собой обод кратера Пушкина, гораздо более крупного вопреки реальному историческому значению; Гойи – накладывался на Софокла; Ван Гога – располагался внутри Сервантеса; Чжао Мэнфу – был заполнен льдом и так далее, в самой непредсказуемой манере, точно комитет Международного астрономического союза по выбору названий однажды ночью напился в стельку и стал метать дротики с именами в карту; здесь осталось даже явное свидетельство этой вечеринки – огромный уступ под названием Пуркуа-Па[37].
Зо всецело одобряла этот принцип. Хотя его воздействие на творческих людей, живших на Меркурии сейчас, бывало в высшей степени катастрофическим. Они постоянно высказывали недовольство несправедливыми порядками Терры и страдали от того, что никак не могли избавиться от их влияния. Зато их вечеринки проходили в соответствующей грандиозной обстановке, и Зо весьма нравилось там бывать.
В этот вечер, прилично выпив в Доме, пока город скользил между кратерами Стравинского и Вьясы, группа вышла на узкие проулки искать приключения. Уже через несколько кварталов они вторглись в церемонию то ли митраистов, то ли зороастрийцев – иными словами, солнцепоклонников, имевших влияние на местное правительство. Улюлюканья прибывших нарушили действо и спровоцировали драку на кулаках, после чего им пришлось убегать, чтобы спастись от ареста местной полицией – спассполицаями[38], как их здесь прозвали.
Затем они завалились в «Одеон», откуда были вышвырнуты за буйное поведение. Побродили по проулкам района развлечений, потанцевали снаружи бара, где играл плохой индастриал. Но чего-то все же не хватало. Заставлять себя веселиться было жалким занятием, подумала Зо, глядя на их потные лица.
– А давай выйдем наружу, – предложила она. – Сходим на поверхность и сыграем на дудочке перед вратами зари.
Никто, кроме Мигеля, не проявил к этому интереса. Они жили как селедки в банке, забыв о существовании настоящей земли. Но Мигель много раз обещал ее взять наружу и сейчас, когда их пребывание на Меркурии подходило к концу, ему наконец стало достаточно скучно, чтобы на это согласиться.
Рельсы Терминатора, гладкие и серые, имели цилиндрическую форму и на несколько метров возвышались над землей, установленные на бесконечных рядах толстых пилонов. И город величественно двигался на запад, проезжая небольшие станционные платформы, которые вели в подземные перегрузочные бункеры, к баллардианским обожженным взлетным полосам и убежищам в ободах кратеров. Покинуть город незаметно было невозможно, что неудивительно, но у Мигеля имелся пропуск, которым они активировали южный выход, попав в шлюз и добравшись до подземной станции под названием Хаммерсмит. Там они надели объемные, но гибкие костюмы, а потом прошли по туннелю и очутились на пыльной и беспорядочной поверхности Меркурия.
Ничто не могло быть таким же чистым и свободным, как эта темно-серая пустошь. При таком окружении пьяное хихиканье Мигеля донимало Зо сильнее, чем обычно, и она приглушила уровень громкости в своем скафандре до того, чтобы оно звучало не громче шепота.
Идти на восток от города было опасно, как и просто стоять в той стороне, но увидеть кромку солнца можно было только оттуда. Зо стала пинать камни, когда они двинулись на юго-запад, чтобы получить оттуда угловой вид на город. Ей хотелось взлететь над этим черным миром, и, может быть, какой-нибудь ракетный ранец позволил бы добиться желаемого, но, насколько она знала, никто не удосужился доработать такую идею. Поэтому они просто пробирались вперед, внимательно глядя на восток. Очень скоро солнце поднимется над горизонтом, а пока над ними, в ультратонкой неоново-аргоновой атмосфере, мелкая пыль, поднимаясь под воздействием электронной бомбардировки, превращалась в бледную белую пыль, которая попадала под солнечную бомбардировку. Верхняя часть Рассветной стены, находившейся у них за спиной, казалась вспышкой чистейшей белизны, на которую невозможно было смотреть даже сквозь тяжелые дифференциальные фильтры их скафандров.
Затем скалистый ровный горизонт на востоке, возле кратера Стравинского, засеребрился. Зо, завороженная, не сводила глаз с пылающей и танцующей светящейся линии: солнечная корона возвышалась над горизонтом, словно пламя над волшебным серебряным лесом. Зо и сама горела от восхищения, она готова была махнуть к солнцу подобно Икару. Она чувствовала себя бабочкой, которую манил к себе свет. Она словно мучилась сексуальным голодом. И в самом деле – кричала сейчас несдержанно, будто испытывала оргазм: какое пламя, какая красота! Солнечный восторг – вот как это чувство называли в городе, и надо сказать, это было подходящее название. Мигеля тоже охватил восторг: он скакал по валунам на восток, раскинув руки в стороны, словно Икар, который пытался взлететь.
Затем он неуклюже упал в пыль, и Зо услышала его крик, при том, что громкость внутренней связи у нее находилась почти на нуле. Она побежала к нему и увидела, что его левое колено согнуто под невозможным углом. Тогда она закричала сама и села подле него. Ледяной холод поверхности ощущался даже через костюм. Она помогла Мигелю встать, обхватила его рукой и добавила громкости у себя в скафандре: несчастный громко стонал.
– Заткнись! – приказала она. – Сосредоточься, смотри под ноги.
Они стали ритмично, вприпрыжку двигаться на запад вслед Рассветной стене, чья высокая колоколообразная кривая все еще сияла сверху. Она удалялась от них, и терять время было нельзя. Но они постоянно падали. В третий раз распростершись в пыли, когда все вокруг слилось в слепящую смесь чистой белизны и такой же чистой черноты, Мигель вскричал от боли и, задыхаясь, сказал:
– Беги дальше, Зо, спасай себя! Нам обоим незачем тут умирать!
– Да хрен тебе! – ответила Зо, поднимаясь.
– Уходи!
– Не уйду! А ну заткнись, я тебя понесу.
Он, по ощущениям, весил примерно столько же, сколько весил бы на Марсе – семьдесят килограммов вместе с костюмом. От нее требовалось в первую очередь удерживать равновесие, пока он истерично бормотал:
– Отпусти меня, Зо. «“Краса есть правда, правда – красота”… одно лишь это надо знать»[39].
Она наклонилась и просунула руки ему под спину и колени.
– Заткнись! – крикнула она. – Сейчас это и есть правда, а значит, и краса. – И рассмеялась, побежав с ним на руках.
Из-за него она не могла смотреть под ноги, поэтому устремила взгляд вперед, где яркий свет встречался с чернотой, отчего у нее заслезились глаза. Двигаться было тяжело, и она упала еще дважды, но когда бежала, то нагоняла город с довольно приличной скоростью.
Затем она почувствовала, как ее спину осветило солнце. Это ощущение напоминало покалывание иголками, несмотря на то, что на ней был теплоизоляционный костюм. Мощный прилив адреналина, свет в глаза… Какая-то лощина, параллельная восточному горизонту, вернула себе вид пятнистой области засвеченных теней с безумными контрастами, а затем медленно превратилась в обычный терминатор, после чего все стало темным и тусклым, за исключением огненной городской стены, горящей далеко вверху. Она судорожно хватала ртом воздух, разгоряченная больше от напряжения, чем от света. И все же одного взгляда на раскаленную дугу на вершине города было достаточно, чтобы удариться в митраизм.
Конечно, даже когда город оказался прямо перед ними, забраться в него мгновенно было нельзя. Ей пришлось обежать его сбоку, до ближайшей подземной станции. Всецело сосредоточившись, она бежала минуту за минутой и уже ощущала запоздалую боль в мышцах. Затем впереди на горизонте появилась дверь в холме возле рельсов – Зо тяжело бежала к ней по гладкому реголиту. Бешеный стук в дверь – и их впустили в шлюз, а затем в сам город, где тут же задержали. Зо лишь усмехнулась спассполицаям и сняла скафандр сначала с себя, а потом с Мигеля, и принялась целовать его, рыдающего, растрогавшись его неуклюжестью. Он от боли этого не замечал и просто цеплялся за нее, как утопающий за своего спасителя. Высвободиться из его хватки ей удалось, лишь легонько стукнув его по больному колену. Когда он взвыл, она громко рассмеялась и ощутила прилив адреналина, более приятного и особенного, чем любой сексуальный оргазм, а потому – более ценного. И она снова поцеловала Мигеля, хотя он по-прежнему этого не замечал, после чего протиснулась мимо спассполицаев, заявив, что она дипломат и ей нужно торопиться.
– Дайте ему каких-нибудь лекарств, идиоты! – крикнула она. – Сегодня отправляется шаттл на Марс, мне нужно идти.
– Спасибо тебе, Зо! – Мигель рыдал. – Спасибо! Ты спасла мне жизнь!
– Я спасла свой рейс домой, – отозвалась она, рассмеявшись над его выражением лица. Она вернулась, чтобы поцеловать его еще раз. – Это я должна тебя благодарить! За такую-то возможность! Спасибо тебе, спасибо.
– Да нет, это тебе спасибо!
– Нет, тебе!
Невзирая на муки, он рассмеялся.
– Я люблю тебя, Зо.
– А я тебя.
Но ей нужно было спешить, чтобы не опоздать на свой шаттл.
Шаттл представлял собой ракету с импульсным термоядерным двигателем, и уже через два дня они должны были достичь Земли. И все это при приличной гравитации – не считая времени большого кувырка.
Все подряд претерпевало изменения из-за этого внезапного уменьшения масштабов Солнечной системы. Так, одним из его малозначительных последствий стало то, что больше не нужно было использовать Венеру как гравитационный рычаг при полетах на ракете, и лишь случайно шаттл Зо, «Ника Самофракийская», пролетел вблизи этой тенистой планеты. В это время Зо вместе с другими пассажирами вышла в большой обзорный зал, чтобы посмотреть на нее. Облака ее сверхгорячей атмосферы были темного цвета, а сама планета казалась серым кругом на фоне черноты космоса. Терраформирование Венеры шло быстрыми темпами, и вся планета находилась в тени зонта, которым служила старая марсианская солетта с зеркалами, размещенными таким образом, чтобы они выполняли ровно противоположную функцию той, что была у них на Марсе: не направляли свет на планету, а отражали его от нее. Так что Венера вращалась в темноте.
Это был первый этап проекта терраформирования, который многие считали безумным. На Венере не было воды, ее окутывала крайне плотная перегретая атмосфера из углекислого газа, день длился больше года, а температура поверхности стояла такая, что плавились свинец и цинк. Да, не самые многообещающие исходные условия, но люди все равно делали попытку за попыткой, и цели человечества превосходили их возможности даже тогда, когда, возможно, сами люди стали богоподобными, – Зо находила это восхитительным. Те, кто инициировал этот проект, даже заявляли, что он завершится быстрее, чем терраформирование Марса. И причиной тому – полное устранение солнечного света, которое оказывало ощутимое действие. Так, плотная углекислотная атмосфера (девяносто пять бар на поверхности!) теряла по пять градусов Кельвина в год на протяжении последнего века. Вскоре должен был начаться Большой дождь, а уже через пару сотен лет весь диоксид углерода окажется на поверхности – в виде ледников из сухого льда, которые появятся в ее низменностях. К тому моменту сухой лед должен быть покрыт изолирующим слоем алмазного напыления или пористых пород, и, как только он будет запечатан, можно будет устроить на поверхности водные океаны. Воду предполагалось откуда-нибудь завезти, так как собственных запасов Венере хватило бы, лишь чтобы поверхность оказалась не более чем на сантиметровой глубине. Венерианские терраформирователи, мистики некой новой viriditas, как раз вели переговоры с Сатурнийской лигой о правах на ледяную луну Энцелад, которую надеялись подвести к орбите Венеры и растопить в несколько проходов сквозь атмосферу. Вода Энцелада, выпав дождем на поверхность, зальет неглубокими океанами порядка семидесяти процентов поверхности, полностью скрыв сухие ледники. В результате останется атмосфера из смеси кислорода и водорода, сквозь зонт откроют путь некоторому количеству света, и тогда станет возможным основать поселения людей на двух крупных материках – Иштар и Афродите. После этого останутся лишь те трудности, что были и на Марсе. На их устранение понадобится много времени – особенно что касается удаления сухих ледяных щитов и установления удобного суточного цикла; до тех пор дни и ночи можно было сменять, используя зонт как гигантские кольцевые жалюзи, но им не хотелось полагаться на что-либо настолько уязвимое. Она с трепетом это вообразила: через несколько столетий на Венере появится биосфера, и будет существовать цивилизация с двумя заселенными материками, прекрасным рифтом Дианы в виде живописной долины, миллиардами людей и животных – а потом в один день зонт сместится куда-нибудь вбок и шшш! – целый мир поджарится на солнце. Не очень-то радужная перспектива. И вот теперь, задолго до Большого дождя, который должен залить и очистить планету, они пытались выложить металлическую обмотку в качестве материализованных линий широт. А когда питаемые от солнца генераторы встанут на колеблющиеся орбиты вокруг Венеры, планета превратится, по сути, в ротор гигантского электродвигателя, сила магнитного поля которого создаст крутящий момент, который ускорит ее вращение. Разработчики этой системы заявляли, что примерно за то же время, которое понадобится, чтобы выморозить атмосферу и устроить океан, импульс этого «мотора Дайсона» мог ускорить вращение Венеры настолько, чтобы день длился целую неделю. Таким образом, предполагалось, что примерно через триста лет у них появится преображенный мир, где даже можно будет выращивать растения. Конечно, поверхность окажется сильно размытой, хотя вулканы все равно останутся, а под водой будет диоксид углерода, готовый вырваться и отравить их. Но все равно они будут там, в обнаженном и сыром новом мире.
План был безумен. И при этом – прекрасен. Зо смотрела сквозь потолок зала на выпуклый серый шар, пританцовывая от возбуждения, в ужасе и в восторге, надеясь хоть мельком увидеть крошечные точки тех новых астероидов, где жили мистики-терраформирователи, или, может быть, протуберанец, отразившийся в кольцевом зеркале, что когда-то висело возле Марса. Но не судьба: она видела лишь серый диск затененной вечерней звезды, будто символ человечества, которое взялось за задачу, менявшую его роль в мире, делая людей некими божественными бактериями, пожиравшими миры по кусочкам и погибавшими, чтобы подготовить почву для будущих поколений. Подготовить к жизни чрезвычайно ничтожной в масштабах космоса, уменьшенной в почти кальвинистическом мазогероизме и являвшей собой пародию на весь марсианский проект, – но при этом столь же величественной. Они были крупинками в этой вселенной, всего лишь крупинками! Зато какие у них идеи! А ради идей люди готовы сделать что угодно. Что угодно.
Даже посетить Землю. Дымящуюся, спекшуюся, заразную. Человеческий муравейник, разворошенный палкой. Где посреди ужасного месива в панике продолжали размножаться, где сбылся наяву худший гипермальтузианский кошмар, где был жаркий, влажный и тяжелый воздух. Но все равно – а может, и благодаря всему этому – Земля оставалась прекрасным местом для посещения. К тому же Джеки все равно хотела, чтобы она, Зо, встретилась с парой человек в Индии. Так что Зо взяла «Нику», чтобы позднее сесть на шаттл, который будет отправляться на Марс с Земли.
Прежде чем отбыть в Индию на встречу со знакомыми Джеки, она совершила свое традиционное паломничество на Крит, чтобы увидеть руины, которые все еще назывались минойскими, хотя в Дорсе Бревиа ее учили, что правильно было называть их ариадниными. Все-таки Минос уничтожил древний матриархат – выходит, это было одним из многочисленных перевираний земной истории, если разрушенную цивилизацию называли по имени ее разрушителя. Но имена изменить уже было нельзя.
Она носила взятый напрокат экзоскелет, специально предназначенный для посетителей с других планет, на которых давило местное g. Гравитация – это судьба, как здесь говорили, и на Земля судьба была большая. Костюмы эти напоминали «птичьи», только без крыльев; удобные и облегающие, они двигались вместе с мышцами, обеспечивая некоторую поддержку – как бюстгальтеры для всего тела. Хотя они и не устраняли воздействие тянущей силы полностью: дышать все равно было трудно, а конечности Зо казались тяжелыми и внутри костюма и, так сказать, неприятно прижатыми к его ткани. В свои предыдущие визиты она привыкла ходить в костюме, и это было замечательное упражнение, как подъем тяжестей, только не из тех, что она любила выполнять. Хотя и лучше альтернативных вариантов. Она пробовала и другие, но те постоянно ее раздражали, не позволяли ничего увидеть и вообще занимали все мысли.
И она прогуливалась по древней Гурнии, с таким странным ощущением от костюма, словно находилась под водой. Гурния была любимым ее городом из всех Ариаднийских руин, единственным простым поселением из тех, что были обнаружены и раскопаны, – все остальные были дворцами. Вероятно, раньше она находилась в зависимости от дворца Малии, а теперь имела вид лабиринта каменных стен высотой по пояс, занимавших вершину холма, откуда открывался вид на Эгейское море. Все комнаты были очень малы: их сторона часто составляла всего метр или два, между общими стенами тянулись узкие проулки, и это действительно были маленькие лабиринты, очень похожие на те побеленные деревеньки, что до сих пор встречались в провинции. Говорили, что Крит тяжело переживал большое наводнение, как когда-то ариаднийцы – последствия извержения на Тире[40]. И действительно, все уютные рыбачьи гавани оказались в той или иной степени затоплены, а руины Закроса и Малии теперь находились полностью под водой. Но Зо видела в критянах упрямую жизнестойкость. На Земле не было другого места, которое бы так хорошо справлялось с популяционным всплеском; эти деревеньки повсюду цеплялись за землю и, будто ульи, занимали вершины гор, заполняли долины, окружали сады и огороды. И сухие шишковатые холмы до сих пор выступали из обрабатываемой земли, образуя рельефные выступы, восходящие к центральному гребню острова. Как она слышала, население острова выросло до сорока миллионов, но остров выглядел, как и раньше, – только появилось больше деревень, которые были построены по принципу не только современных, но и древних, таких как Гурния или Итанос. История строительства городов насчитывала здесь уже пять тысяч лет, пережила и первый расцвет цивилизации, и последний – доисторического периода. Города эти были настолько величественны – даже античные греки видели их уже тысячелетними, – что о них уже в древности передавали рассказы из уст в уста вместе с мифом об Атлантиде, а потом и следующие поколения, не только на Крите, но даже на Марсе – в других, доступных современных людям формах. Благодаря именам, которые использовались в Дорсе Бревиа, и повышению культурной значимости ариаднийского матриархата, Марс и Крит развивали между собой отношения. Многие марсиане прибывали на остров, чтобы посетить древние города, рядом с каждым из которых теперь были выстроены новые гостиницы, со специально увеличенными размерами комнат для юных паломников, которые ездили по священным местам, таким как Фест, Гурния, Итанос, подводные Малия и Закрос и даже нелепо «реконструированный» Кносс. Они приезжали, чтобы увидеть, как все начиналось, как зарождалась цивилизация. Так же и Зо – стояла посреди ослепительной эгейской синевы, расставив ноги по обе стороны каменного проулка, которому было пять тысяч лет, и ощущая, как ее наполняют отголоски этого величия, поднимающиеся из пористых красных камней и проникающие в самое сердце. Благородство, которое не знало конца.
Остальная часть Земли – это просто Калькутта. Ну, не совсем. Хотя Калькутта уж точно была Калькуттой. Зловонное человечество, размещенное самым компактным образом: куда бы Зо ни вышла из своей комнаты, она постоянно видела вокруг себя по меньшей мере пятьсот человек, а нередко – и несколько тысяч. И вид этой бурлящей жизни на улицах вызывал у нее пугающую окружающих веселость – ей казалось, что мир карликов, лилипутов и прочих маленьких человечков собирался вокруг нее так же, как птенцы собирались кучкой возле матери, которая приносила им еду. Однако Зо следовало признать, что эти кучкования были дружелюбными и вызывались скорее любопытством, чем голодом, – оказывалось, что им интереснее рассмотреть ее экзоскелет, а не ее саму. И выглядели они вполне счастливыми, хоть и худыми, но не истощенными, даже при том, что некоторые постоянно жили на улицах. Сами улицы превратились в кооперативы, принадлежавшие жителям. Они их подметали, регулировали миллионы мелких рынков, что-то выращивали на каждой площади и здесь же спали. Такой стала жизнь на Земле в позднем голоцене. Со времен упадка Ариадны здесь все так и шло по наклонной.
Зо поднялась в Прахапор, анклав, который располагался в горах к северу от города. Там жил один из земных шпионов Джеки, в переполненном общежитии изможденных госслужащих, которые проводили все время перед своими экранами и спали под рабочими столами. Джеки должна была встретиться с женщиной, которая программировала переводческие искины и знала мандаринский, урду, вьетнамский и дравидийские языки так же хорошо, как хинди и английский. Кроме того, она была важным звеном в обширной сети прослушивания телефонных разговоров и могла держать Джеки в курсе некоторых индийско-китайских переговоров относительно Марса.
– Конечно, и те, и другие будут посылать на Марс еще больше людей, – сообщила Зо эта грузная женщина, когда они вышли в небольшой сад возле жилого комплекса. – Это данность. Но обоим правительствам нужны долгосрочные решения. Никто больше не думает иметь больше одного ребенка. И не только по закону – такая сложилась традиция.
– Закон утробы, – сказала Зо.
– Может быть, – пожала плечами женщина. – Традиция в любом случае очень сильна. Люди смотрят вокруг, видят проблему. Надеются пройти антивозрастную терапию и думают, что получат при этом стерилизующий имплантат. А в Индии люди чувствуют себя счастливыми, если получают разрешение удалить эти имплантаты. Но если у них уже есть один ребенок, они ожидают, что их стерилизуют навсегда. Теперь даже индуистские фундаменталисты изменили свое мнение на этот счет – уж очень сильно на них давило общество. А китайцы делают это уже несколько веков, и антивозрастная терапия только закрепила эту практику.
– Выходит, Марсу не стоит опасаться их так, как кажется Джеки.
– Ну, они все равно хотят отправлять эмигрантов, это часть общей стратегии. А к правилу одного ребенка здесь отнеслись с бо́льшим пониманием, чем в некоторых католических и мусульманских странах, которые хотели колонизировать Марс, как если бы он был пуст. Сейчас угроза меняется: от Индии и Китая уходит к Филиппинам, Бразилии, Пакистану.
– Хм-м, – проговорила Зо. Разговоры об иммиграции всегда ее угнетали. Угроза от хомяков. – А что насчет бывших наднационалов?
– Старая «Группа одиннадцати» старается поддерживать наиболее сильных среди наднационалов. Они будут искать места для своего развития. Хоть и останутся намного слабее, чем до наводнения, но они имеют серьезное влияние в Америке, России, Европе, ЮАР. Передай Джеки, пусть понаблюдает, что будут делать японцы в ближайшие несколько месяцев. Она поймет, о чем я.
Они подключили свои консоли друг к другу, и женщина по защищенному каналу передала более подробную информацию для Джеки.
– Хорошо, – сказала Зо. Вдруг она почувствовала себя такой уставшей, будто кто-то большой сел сверху на ее экзоскелет, придавив ее. Ах, Земля, какое тут все тяжелое! Некоторые говорили, что им эта тяжесть нравилась, будто они нуждались в таком давлении, чтобы ощущать окружающую реальность. Зо к их числу не относилась. Земля была для нее экзотикой, и это было прекрасно, но внезапно ей захотелось снова оказаться дома. Она отсоединила свою консоль от консоли переводчика, прокрутив в голове весь проделанный путь, идеальное испытание ее воли и выносливости. Она мечтала вновь оказаться в приятной гравитации Марса.
Далее был спуск с Кларка на космическом лифте, который занял больше времени, чем весь полет с Земли, а потом она снова оказалась в своем мире. И это был единственный реальный мир. Марс великолепный.
– Ничто не сравнится с домом! – сказала Зо пассажирам на железнодорожной станции в Шеффилде.
Потом она с довольным видом сидела в поезде, который плавно спускался по склонам Фарсиды, а затем взял курс на север, в Эхо-Оверлук.
Город вырос с тех времен, когда служил штабом программы терраформирования, но ненамного. Все-таки он располагался в стороне от привычных маршрутов, вмурованный в отвесную восточную стену каньона Эхо, из-за чего снаружи была видна лишь малая его часть: один кусочек с плато на вершине скалы, другой – со дна каньона. А поскольку между ними было три вертикальных километра и их никак нельзя было увидеть одновременно, то казалось, что это две отдельные деревни, соединенные вертикальным туннелем. На самом же деле, если бы не летатели, Эхо-Оверлук погрузился бы в спящее состояние, как Андерхилл, Сензени-На или ледяные убежища на юге. Но восточная стена каньона Эхо стояла прямо на пути преобладающих западных ветров, спускавшихся с купола Фарсиды, заставляя их резко вздыматься и создавая поразительно мощные восходящие потоки. И это место становилось настоящим «птичьим» раем.
Зо должна была встретиться с Джеки и аппаратчиками «Свободного Марса», но прежде чем ее впутают во все это, ей хотелось полетать. Поэтому она достала из хранилища в аэропорту свой старый ястребиный костюм из Санторини и ушла с ним в раздевалку. Там она быстро его натянула, тут же почувствовав гладкую текстуру материала, из которого был изготовлен его гибкий экзоскелет. Затем вышла на ровную тропинку, волоча за собой хвостовые перья, на вышку для прыжков – естественный выступ, удлиненный с помощью бетонной плиты. Подошла к самому краю этой плиты и посмотрела вниз, далеко-далеко, на три тысячи метров вниз, где лежало янтарное дно каньона Эхо. Ощутив, как всегда, прилив адреналина, она шагнула вперед и упала с обрыва. Сначала летела головой вниз, все ниже и ниже, и ветер быстро свистел, облекая ее шлем, а потом она достигла равновесной скорости – и поняла это, когда свист достиг апогея, – и расправила руки, почувствовала, как костюм становится жестким и помогает мышцам удерживать ее прекрасные крылья широко расставленными в стороны. Затем с громким шумом ветра она стала менять положение, чтобы полететь навстречу солнцу, – повернула голову, изогнула спину, вытянула носочки и задвигала хвостовыми перьями – влево, вправо, влево, и ветер начал поднимать ее вверх. Тогда она задвигала руками и ногами одновременно, вошла в узкую спираль, увидела утес, затем дно каньона, осмотрелась вокруг – она летела. Зо – ястреб, дикая и свободная. Она счастливо смеялась, и слезы, вырвавшись под воздействием g, текли во все стороны у нее под очками.
Воздух над Эхо в это утро был почти безлюден. Большинство летателей, после того как оседлали восходящие потоки, переместились на север и там вздымались или опускались в одну из расщелин в стене утеса, где поток был меньше и можно было наклоняться и нырять на большой скорости. Вот и Зо: когда набрала высоту пять тысяч метров над Оверлуком, дыша чистым кислородом из закрытой системы своего скафандра, повернула голову вправо и опустила правое крыло, чтобы в возбуждении столкнуться с ветром, чувствуя, как он окутывает ее тело, словно быстрыми и безостановочными касаниями. И ни звука – только громкий свист у нее в крыльях. Соматическое давление ветра ощущалось по всему телу, как легкий массаж, передавалось сквозь сжавшийся костюм, словно его и не было, словно она летела голая, чувствуя ветер обнаженной кожей, и ей хотелось, чтобы так и было. Конечно, хороший костюм усиливал это ощущение, а свой она начала использовать еще за три М-года до полета на Меркурий, и теперь он подходил ей, как перчатка, поэтому было так чудесно снова оказаться в нем.
Она вытянулась, изобразив воздушного змея, а затем бросилась вперед, выполнив маневр «Падающий Иисус». Затем, пролетев тысячу метров вниз, сложила крылья и задвигалась так, будто плыла по-дельфиньи, чтобы ускорить снижение, пока ветер неистово свистел вокруг, а она, наконец, не пролетела мимо края стены, существенно превысив равновесную скорость. Это был знак, что пора выворачивать, потому что, хоть утес и был высок, при максимальном снижении дно каньона приближалось очень быстро, а чтобы вывернуть обратно, нужно было некоторое время даже при большой силе, владении навыками и выдержке. Она выгнула спину и выпростала крылья, почувствовав напряжение в мышцах груди и бицепсах и сильнейшее давление, даже несмотря на костюм, который помогал ей справляться со стремительно растущей нагрузкой. Хвостовые перья опустились, четырежды взмахнули из стороны в сторону – и она избежала песчаного дна каньона, опустившись над ним так низко, что могла бы схватить мышь с его поверхности.
Она повернулась и вновь оказалась в восходящем потоке, опять войдя по спирали в собирающиеся в вышине облака. Ветер дул порывисто, и играть с ним доставляло настоящее удовольствие. В этом и состоял смысл жизни, значение вселенной – в искренней радости, позволяющей забыться, когда разум становится не более чем отражением ветра. Восторг… Кто-то говорил, что она летала, как ангел. Одни летали, как беспилотники, другие – как птицы, а третьи, самые редкие – как ангелы. Она давно не чувствовала такой радости.
Снова придя в себя, она стала опускаться вдоль стены к Оверлуку. В руках уже ощущалась усталость. Затем она заметила ястреба. Как и многие летатели, которые, завидев птицу, начинали за ней следовать, она полетела за ястребом, наблюдая за ним так внимательно, как не мог бы наблюдать ни один птицевод. Она подражала каждому его рывку, каждому взмаху, пытаясь перенять у него хотя бы частичку летного мастерства. Иногда ястребы кружили над этим утесом, высматривая пищу, и тогда целый авиаотряд летателей мог повторять их движения, собравшись чуть выше. Это смотрелось забавно.
Сейчас она превратилась в тень ястреба, поворачивала, когда поворачивал он, копировала положение крыльев и хвоста. Она мечтала владеть воздухом так же, как он, но это было ей не дано. Зато она могла пытаться: яркое солнце среди мчащихся облаков, темно-синее небо, ветер, обдувающий ее тело, кратковременная эйфория невесомости, когда Зо резко начинала падение… мгновения полного забытья. Лучшее, чистейшее времяпрепровождение, которое может выбрать человек.
Но солнце опускалось на запад, а ее уже мучила жажда, поэтому она оставила ястреба и, повернув, стала спускаться к Оверлуку, лениво выписывая в воздухе восьмерки, чтобы очутиться прямо на зеленом Кокопелли. Она опустилась так легко, словно никуда и не летала.
Место за стартовым комплексом называлось Верхушкой. Она представляла собой скопление дешевых общежитий и столовых, где находились почти одни летатели и туристы, приехавшие, чтобы посмотреть на полеты. Здесь ели, пили, шатались, болтали, танцевали и искали, с кем составить пару в ближайшую ночь. Неудивительно, что там оказалось несколько друзей Зо, с которыми она летала: Роуз, Имхотеп, Элла и Эстеван. Все они сидели в «Адлер Хофбройхаус», уже навеселе, и очень обрадовались, увидев, что Зо снова вернулась к ним. Они выпили за встречу и отправились непосредственно в Оверлук, где сели на поручень, чтобы наверстать упущенное по части сплетен, передавая по кругу здоровенный косяк с пандорфом. При этом они отвешивали неприличные комментарии по поводу тех, кто прогуливался внизу, и кричали друзьям, которых замечали в толпе.
Наконец, они покинули эту часть Оверлука и присоединились к людям в Верхушке. Медленно пройдя между баров, они зашли в баню. Завалившись в раздевалку и сняв одежду, принялись бродить по темным комнатам, где вода была по пояс, по щиколотку, по грудь – горячая, холодная, еле теплая. Они расставались и потом находили друг друга, занимались сексом с еле различимыми незнакомцами. Зо медленно, сменив несколько партнеров, дошла до оргазма, радостно мурлыча, когда ее тело содрогалось, а мысли разлетались прочь. Секс, секс, ничто не могло с ним сравниться – разве что полеты, у которых было с ним много общего: пьянящий восторг тела, словно еще одно эхо Большого взрыва, самого первого оргазма. Радость при виде звезд в иллюминаторе над головой, при ощущении тепла от воды или при прикосновениях парня, который вошел в нее и находился в ней, весь твердый, а три минуты спустя окреп еще и вновь задвигался, смеясь в предвкушении нового оргазма. После этого Зо переместилась в сравнительно светлый бар, где уже сидели остальные, и Эстеван рассказывал, что лучшим за ночь оргазмом, как правило, оказывался третий – который наступал после долгого приготовления, но когда еще оставался приличный запас семени для извержения.
– После него тоже неплохо, но тогда уже требуется больше усилий, к тому же нужно хорошенько завестись, чтобы кончить, так что все равно: лучше третьего быть не может.
Зо, Роуз и остальные девушки согласились, что в этом отношении, как и во многих других, быть женщиной гораздо лучше. Этой ночью в бане они совершенно естественно испытали по нескольку чудесных оргазмов, но даже это было ничем по сравнению со status orgasmus, непрерывным оргазмом, который может длиться хоть полчаса, если женщине повезет и если ей попадется достаточно умелый партнер. Это было целое ремесло, которое они старательно изучали, но, как все соглашались, оно было скорее искусством, чем наукой. Нужно быть высокой, но не выше, чем нужно; быть с группой, но не с целой толпой… Позже они достигли в этом относительных успехов и, когда рассказали об этом Зо, та весело потребовала доказательств.
– Ну же, я хочу, чтобы меня положили на стол!
Эстеван загорланил и повел ее вместе с остальными в комнату, где стоял, возвышаясь над водой, большой стол. Имхотеп уже лежал на нем на спине, готовый стать для нее человеком-матрацем. Остальные подняли ее и уложили так же на спину, поверх него, а затем ее обступила вся группа: руки, ноги, гениталии, языки в каждом ухе, во рту, повсюду какой-то контакт. Спустя какое-то время они смешались в однородную массу эротических ощущений, охватив ее со всех сторон, и Зо громко замурчала. Когда начался оргазм, она резко изогнулась над Имхотепом, а все вокруг продолжали, только теперь нежнее, лаская ее и не отпуская, – и тогда ее унесло, она будто взлетела, ей было достаточно прикосновения мизинцем, чтобы это продолжалось.
– Все, больше не могу! – закричала она.
Но они лишь засмеялись и ответили:
– Нет, можешь! – И продолжали, пока по мышцам живота не побежали судороги и она, резко перекатившись с Имхотепа, не оказалась в руках Роуз и Эстевана. Она не могла даже стоять. Кто-то сказал, что ее унесло на двадцать минут. По ощущениям же прошло две… или бесконечность. Мышцы живота страшно болели, равно как и бедра с тазом.
– Холодную ванну, – проговорила она и уползла в соседнюю комнату.
Но после стола в бане ее уже мало что привлекало. Последующие оргазмы лишь причинили бы боль. Она помогла устроить стол для Эстевана и Ксеркса, а затем для худой женщины, которую раньше не знала, и это было весело, но затем наскучило. Плоть, плоть, плоть. Некоторые после стола только сильнее распалялись и требовали еще, но она теперь видела лишь кожу, волосы, плоть, и было уже все равно, что есть что.
Она ушла в раздевалку, оделась и покинула это место. Стояло уже утро, солнце ярко светило над голыми равнинами Луны. Она двинулась по пустым улицам к своей гостинице, чувствуя себя расслабленной, чистой и сонной. Плотный завтрак, падение на постель, сладкий сон.
Но, как оказалось, в столовой гостиницы ее ждала Джеки.
– А вот и наша Зоя! – Она ненавидела имя, которое Зо выбрала себе сама.
– Ты что, меня выследила? – ответила Зо, удивившись.
Джеки презрительно на нее посмотрела.
– Это тоже мой кооператив, если ты не забыла. Ты почему не заехала ко мне, когда прилетела?
– Хотела полетать.
– Это не оправдание.
– Я и не собиралась оправдываться.
Зо подошла к буфетному столику, взяла тарелку с омлетом и булочками. Затем вернулась к столику Джеки и поцеловала мать в макушку.
– Хорошо выглядишь.
На самом деле она выглядела даже моложе, чем Зо, которая часто обгорала на солнце, отчего на лице появлялись морщины. Джеки выглядела моложе и казалась искусственно сохранившейся – как сестра-близнец Зо. Словно Джеки законсервировали и только недавно откупорили. Она не призналась бы дочери, как часто проходила процедуру омоложения, но Рейчел говорила, что Джеки всегда пробовала новые варианты, которые появлялись по два-три раза в год, и что использовала основной комплекс не реже, чем раз в три года. Поэтому несмотря на то, что она разменяла шестой десяток М-лет, Джеки выглядела как сверстница Зо, если не считать этого ощущения консервации, которое присутствовало не столько во внешности, сколько в поведении – во взгляде, напряженности, настороженности, усталости. Быть альфа-самкой на протяжении многих лет стоило тяжелого труда, героических усилий, которые заметно изнуряли ее даже при всей младенческой гладкости ее кожи и сбереженной красоте – а она, несомненно, была весьма красивой женщиной. Но тоже старела. Близился час, когда молодые мужчины перестанут виться вокруг нее и просто исчезнут.
Пока же она оставалась весьма представительной, а в настоящий момент – еще и явно разозленной. Люди отводили глаза, словно боясь, что, встретившись с ней взглядом, падут замертво, и это вызвало у Зо смех. Не самый вежливый способ поприветствовать любимую мать – но что поделать? Зо была слишком расслаблена, чтобы сейчас раздражаться.
И все же смеяться над Джеки, пожалуй, было ошибкой. Та вперила в нее холодный взгляд и смотрела так, пока Зо не успокоилась.
– Давай рассказывай, что случилось на Меркурии.
– Я же тебе рассказывала, – Зо пожала плечами. – Они так и думают, что могут перенаправлять солнечную энергию во внешнюю область системы. Вбили себе в голову, и все.
– Полагаю, этот их свет еще окажется там полезен.
– Энергия всегда полезна, но внешние спутники уже должны уметь сами генерировать все, что им нужно.
– Значит, у меркурианцев остаются только их металлы.
– Именно.
– Но что они за это хотят?
– Все хотят свободы. А каждый из этих новых миров слишком мал, чтобы быть самодостаточным, поэтому им нужно обладать чем-то, чем можно торговать. Только так они могут иметь свободу. У Меркурия есть солнечная энергия и металлы, у астероидов – тоже металлы, у других спутников – в лучшем случае парниковые газы. Поэтому они пакуют и продают то, что у них есть, и пытаются заключать союзы, чтобы не допустить доминирования Земли или Марса.
– Это не доминирование.
– Конечно, нет, – согласилась Зо с невозмутимым видом. – Но крупные миры, понимаешь ли…
– Ну и пусть крупные, – Джеки кивнула. – Но сложи все эти малые вместе, и тоже получится крупный мир.
– И кто будет их складывать? – сказала Зо.
Джеки оставила вопрос без внимания. Ответ и так был очевиден: сама Джеки. Джеки, поглощенная продолжительной битвой с различными силами Земли, которые пытались установить контроль над Марсом. Она же старалась не дать им утопить его в безмерности родной планеты, и, когда человеческая цивилизация продолжала расширяться по Солнечной системе, рассматривала новые поселения как пешки в этой большой битве. И в самом деле: если их было достаточно много, они могли изменить картину.
– Из-за Меркурия волноваться не стоит, – заверила ее Зо. – Это тупик. Провинциальный городишко, где всем заправляет один культ. Никто не сможет расселить там много людей, никто. Поэтому даже если нам удастся вовлечь их в дело, большой роли они не сыграют.
На лице Джеки отразилось такое пренебрежение, будто проведенный Зо анализ положения был каким-то ребячеством, будто на Меркурии существовали некие скрытые ресурсы политической власти. Это раздражало, но Зо сдержала себя, не показав своих чувств.
Тут в столовую, разыскивая их, вошел Антар. Заметив их, улыбнулся, подошел и коротко поцеловал Джеки, затем чуть дольше – Зо. Он шепотом переговорил с Джеки, после чего та приказала ему уйти.
Зо в который раз заметила, как много стремления к власти было в ее матери. Она помыкала Антаром без особых на то причин, просто щеголяла властью, как многие женщины-нисеи, которые выросли при патриархате и питали к нему ненависть. Они не вполне понимали, что патриархат более не имел значения и, вероятно, никогда не имел и прежде – он всегда был стиснут сжатием Кегеля[41], подчиняясь закону утробы, который действовал вне патриархата, имея биологическую силу, неподвластную простой политике. Женщины обусловливали сексуальное удовольствие мужчин, саму жизнь – при патриархате это было столь же естественно, как и в любых других условиях. И это невзирая на все стремление подавить женщин, на весь страх перед ними, который выражался столькими способами – в пурде, клиторидэктомии, бинтовании ног и других, поистине ужасных вещах, безжалостных и отчаянных, какое-то время пользовавшихся успехом, но теперь сгинувшим без следа. Теперь бедолагам-парням приходилось заботиться о себе самим, и это было нелегко. А женщины вроде Джеки их погоняли. И женщинам вроде Джеки нравилось их гонять.
– Я хочу, чтобы ты отправилась в систему Урана, – продолжила Джеки. – Там сейчас закладывают новое поселение, и я хочу начать с ними отношения как можно раньше. Кроме того, ты можешь передать сообщения галилеянам, а то они начинают выходить за рамки.
– Мне нужно поработать немного в кооперативе, – сказала Зо, – иначе кто-нибудь догадается, что это прикрытие.
Спустя несколько лет, проведенных среди диких на плато Луна, Зо вступила в кооператив, служивший ширмой для «Свободного Марса», что позволяло ей и другим рабочим выполнять партийную работу, не выдавая своей основной деятельности. Этот кооператив занимался строительством и установкой защитных сетей над кратерами, но она не занималась там реальной работой уже больше года.
Джеки кивнула.
– Тогда побудь там какое-то время, а потом вылетай. Через месяц или около того.
– Хорошо.
Зо было интересно увидеть внешние спутники, поэтому и согласилась легко. Но Джеки в ответ лишь кивнула, словно не допускала мысли, что она могла отказаться. Ее мать явно не обладала богатым воображением. Зо, несомненно, унаследовала это качество от отца, да прибудет с ним ка. Она не знала, кем он был, да и если бы узнала сейчас, это лишь ограничило бы ее свободу, но была ему благодарна за эти гены, за то, что не дал ей стать копией Джеки.
Зо встала, слишком изнуренная, чтобы выносить свою мать слишком долго.
– Ты выглядишь усталой, а я совсем вымоталась, – сказала она и, чмокнув Джеки в щеку, направилась в свою комнату. – Люблю тебя. Тебе, наверное, пора уже проходить новую терапию.
Ее кооператив располагался в кратере Морё в столовых горах Протонил между Мангалой и Брэдбери-Пойнтом. Это был крупный кратер, прерывавший длинный склон Большого Уступа и спускающийся к полуострову, на котором находился Перешеек Буна. Здесь постоянно разрабатывали новые разновидности молекулярных сетей на замену более ранним материалам и старым шатровым тканям. Та сеть, что они установили над Морё, была новейшим изобретением – пластик из полигидроксибутирата, волокна которого собраны из соевых бобов, выведенных специально для того, чтобы производить ПГБ в хлоропластах. Сеть удерживала собой что-то наподобие инверсионного слоя, благодаря чему воздух внутри кратера был на тридцать процентов плотнее и существенно теплее, чем снаружи. Эти сети сглаживали резкий переход биомов из куполов под открытый воздух, а если установить такие насовсем, они создавали приятный мезоклимат на значительных высотах и широтах. Морё достигал сорок третьей северной широты, и зимы снаружи него бывали весьма суровыми. А с сетью они могли содержать теплолюбивый горный лес, внося в него разнообразие экзотическими растениями, выведенными на основе тех, что растут на восточноафриканских вулканах, в Новой Гвинее и Гималаях. Летом же на дне кратера становилось весьма жарко, и странные колючки, расцветая, благоухали, как духи.
Жители кратера занимали просторные комнаты, вырытые в северной дуге его края и расположенные на глубине в четыре этажа. Комнаты с балконами и широкими окнами, откуда открывался вид на зеленые папоротники со склонов Килиманджаро. Зимой балконы грелись на солнце, а летом – прятались под вьющимися лозами, когда дневная температура подскакивала до 305 градусов по Кельвину и люди шептались о замене сети на более крупноячеистую, чтобы жаркий воздух мог выходить наружу, или даже о том, чтобы разработать систему, которая позволит просто сворачивать сеть на лето.
Зо проводила дни в основном на внешней стороне кратера или под ним, рьяно стараясь проделать как можно больше реальной работы до того, как наступит пора отправляться на спутники. В этот раз работа была интересной и включала долгие походы под землю, в туннели, где надо было следовать по жилам в слоях подножия старого всплескового кратера. В результате импактного брекчирования образовались все типы полезных метаморфических пород, но наиболее часто встречались минералы, используемые для производства парниковых газов. Поэтому кооператив также разрабатывал новые методы добычи полезных ископаемых, в том числе сырья для оплетки сетей, надеясь найти рентабельное улучшение, которое позволит производить интенсивную выработку реголита, оставляя поверхность нетронутой. Большинство подземных работ выполняли роботы, но существовали и различные задачи, с которыми куда лучше справлялись люди, – и это в горном деле всегда оставалось неизменным. Зо очень нравилось исследовать подземные ходы в этом темном мире, проводя целые дни в недрах планет, между двумя огромными каменными плитами, в пещерах с их близкими грубыми стенами, блестящими, отражающими яркий свет кристаллами. Нравилось ей и проверять образцы пород, осматривать свежевырытые галереи в окружении леса магниевых стоек, расставленных роботами, и выискивать редкие подземные сокровища. Она представляла себя пещерным человеком. И как хорошо было потом подняться на лифте и изо всех сил щуриться от предзакатного света, оказавшись в бронзовом, оранжевом, янтарном воздухе, под багровеющем небом, которое подсвечивалось солнцем, будто это был старый друг, подогревающий тех, кто устало взбирался по склону к воротам обода, где внизу простирался круглый лес Морё, затерянный мир, дом ягуаров и стервятников. Оказываясь под сетью, исследователи тут же садились в вагон канатной дороги, ведущей к поселению, но Зо чаще всего шла в сторожку у ворот и брала в своем шкафчике птичий костюм, надевала его и застегивалась, а потом сбегала с платформы, расправляла крылья и летела, лениво выписывая нисходящую спираль, направляясь к северной окраине города, к ужину на одной из обеденных террас, наблюдая за попугаями, кореллами и лори, которые мельтешили в поисках еды. Полеты развлекали ее. И потом она хорошо высыпалась.
Однажды днем к ним заехала группа инженеров-атмосферологов, чтобы посмотреть, сколько воздуха проходит через сеть при летней жаре. Среди них оказалось много стариков с уставшими глазами и рассеянными манерами людей, которые провели много времени в полевых исследованиях. Один из иссеев – сам Сакс Расселл, невысокий лысый мужчина с крючковатым носом. У него была сморщенная кожа, как у какой-нибудь черепахи, что расхаживали по дну кратера. Зо не могла отвести взгляд от Расселла, одного из самых известных людей в марсианской истории. Она удивилась, когда столь книжная личность вот так просто с ней поздоровалась. Казалось, следом за этим стариком сейчас проковыляет Джордж Вашингтон или Архимед, как будто мертвецы из прошлого все еще жили среди них, ошеломленные их новыми достижениями.
Расселл явно был ошеломлен и казался совершенно потрясенным на протяжении всего вводного собрания. Право отвечать на вопросы он предоставил своим коллегам, а сам просто разглядывал лес, что простирался под городом. Когда за ужином кто-то представил ему Зо, он подмигнул ей с каким-то черепашьим лукавством.
– Я когда-то учил твою мать.
– Да, – только и проговорила Зо.
– Покажешь мне дно кратера? – спросил он.
– Обычно я над ним летаю, – ответила она, удивившись.
– Я надеялся на прогулку, – сказал он и, взглянув на нее, часто заморгал.
Ощущение новизны было таким сильным, что она согласилась составить ему компанию.
Они вышли прохладным утром в тень под восточной частью обода. Бальзы и салы скрещивали ветви у них над головами, образуя высокий навес, по которому шумно скакали лемуры. Старик шел медленно, разглядывая беззаботных обитателей леса. Говорил он редко, в основном спрашивая у Зо названия различных папоротниковых и деревьев. Но она могла опознать разве что птиц.
– Боюсь, эти названия растений в одно ухо влетают, из другого вылетают, – весело призналась она.
Он поморщил лоб.
– Наверное, так я даже лучше их вижу, – добавила она.
– И правда. – Он снова посмотрел на землю, будто оценивая ее. – Значит ли это, что ты видишь птиц хуже, чем растения?
– Птицы не такие. Они мои братья и сестры, у них и должны быть имена. Без них они не могут. Но это… – она указала жестом на зеленые ветви вокруг, на гигантские папоротники под шипастыми цветущими деревьями, – это все безымянное. Мы придумываем растениям имена, но на самом деле у них нет имен.
Он задумался над этим.
– А где ты летаешь? – спросил он, когда они прошли с километр по заросшей тропе.
– Везде.
– Есть любимые места?
– Мне нравится Эхо-Оверлук.
– Хорошие там восходящие потоки?
– Очень. Я там и была, пока Джеки не насела на меня и не заставила работать.
– А здесь разве не твоя работа?
– О, да, да. Но в моем кооперативе гибкий график.
– А-а. Так, значит, ты еще побудешь здесь какое-то время?
– Только до отбытия шаттла на галилеевы спутники.
– И тогда эмигрируешь?
– Нет-нет. Слетаю и вернусь. Джеки туда меня посылает. С дипломатической миссией.
– А-а. Значит, и на Уране побываешь?
– Да.
– Я бы хотел увидеть Миранду[42].
– Я тоже. Это одна из причин, по которой я лечу.
– А-а.
Они перешли неглубокий ручей, ступая по плоским камням. Отовсюду раздавалось пение птиц и жужжание насекомых. Солнечный свет наполнял всю чашу кратера целиком, но под лесным навесом все равно было прохладно, воздух проникал сюда параллельными наклонными столбиками желтого света. Расселл нагнулся, чтобы всмотреться в ручей, который они пересекли.
– А какой была моя мама в детстве? – спросила Зо.
– Джеки?
Он задумался. С тех пор прошло много времени. Когда Зо уже с досадой решила, что он забыл вопрос, он ответил:
– Она быстро бегала. Задавала много вопросов. Почему то, почему се. Мне это нравилось. Кажется, она была старшей в поколении эктогенов. Как ни крути, она была лидером.
– Она была влюблена в Ниргала?
– Не знаю. А что, ты знакома с Ниргалом?
– Да, вроде бы. Встречалась с ним однажды у диких. А что Питер Клейборн, его она любила?
– Любила? Потом, может быть, и любила. Когда они подросли. В Зиготе. Не знаю.
– От вас много не узнаешь.
– Пожалуй, что так.
– Вы все забыли?
– Не все. Но то, что помню… это трудно оценить. Я помню, как Джеки спрашивала о Джоне Буне точно так же, как ты сейчас спрашиваешь о ней. И не раз. Ей нравилось быть его внучкой. Она им гордилась.
– И до сих пор гордится. А я горжусь ею.
– А один раз… я помню, как она плакала.
– Почему? Только не говорите, что не знаете!
Он умолк на минуту. Но потом, наконец, взглянул на нее и изобразил на лице почти человеческую улыбку.
– Ей было грустно.
– Ну замечательно!
– Из-за того, что мать ее покинула. Эстер вроде бы?
– Да, верно.
– Касэй и Эстер разошлись, и она уехала… не знаю, куда. Но Касэй и Джеки остались в Зиготе. И однажды она пришла в школу рано, я в тот день преподавал. Она задавала много своих «почему». И в тот раз тоже, но о Касэе и Эстер. А потом заплакала.
– Что вы ей сказали?
– Я не… Кажется, ничего. Я не знал, что сказать. Хм… Я думал, что ей стоило уехать с Эстер. Материнские узы важнее всего.
– Да ладно.
– Разве ты не согласна? Я-то считал всех молодых уроженцев социобиологами.
– А кто это?
– Ну… те, кто верит, что самые основные культурные особенности имеют биологическое объяснение.
– О, нет. Конечно, нет. Мы гораздо свободнее. Материнство может быть каким угодно. Иногда матери просто выполняют роль инкубаторов, и все.
– Я полагаю…
– Уж мне-то можете поверить.
– …Но Джеки плакала.
Они шли вперед молча. Подобно многим другим крупным кратерам Морё, как оказалось, был разделен на несколько водосборных бассейнов, которые стекались в центральное озеро, окруженное болотом. Оно было небольшим и имело форму почки, изгибаясь вокруг небольших холмиков, относившихся к группе возвышенностей по центру кратера. Зо и Расселл вышли из-под лесного навеса по слабо различимой тропинке, затерявшейся в слоновой траве. Они быстро бы заблудились, если бы не ручей, который извивался среди травы, выходя на поляну, а затем впадая в заболоченное озеро. Поляна тоже заросла слоновой травой, крупные пучки которой тянулись много выше человеческого роста, отчего они, идя сквозь ее заросли, часто видели лишь эту гигантскую траву и небо. Длинные стебли мерцали под лиловым полуденным небом. Расселл ковылял, сильно отставая от Зо; его круглые солнечные очки казались зеркалами, в которых, когда он глядел по сторонам, отражалась трава. С видом, совершенно сбитым с толку тем, что его окружало, он бормотал что-то в свою старую консоль, которая свисала у него с запястья, точно наручник.
У последней перед озером излучины находился песчано-галечный пляж, и Зо, проверив палкой песок перед линией берега – он оказался твердым, – сняла свое потное трико и зашла в воду. В нескольких метрах от берега та обдавала приятной прохладой. Она нырнула, проплыла немного, ударилась головой о дно. На некоторой глубине из воды торчал валун, на который она взобралась. Затем она стала прыгать с него в воду, кувыркаясь вперед сразу после погружения. В воздухе это действие давалось тяжело и выглядело совсем не изящно, но вызывало кратковременное тянущее ощущение в животе, такое близкое к оргазму, как ничто другое, что ей когда-либо приходилось испытывать. И она нырнула несколько раз, пока ощущение не ослабло и она не замерзла. Затем выбралась из воды и легла на песок, чувствуя, как его тепло поджаривает ее с одной стороны, а солнечная радиация – с другой. Сейчас для нее идеально было бы испытать настоящий оргазм, но несмотря на то, что она растянулась перед Саксом, словно сексуальная карта, он сидел, скрестив ноги, вроде бы увлеченный илом. Он и сам успел раздеться, оставив лишь очки и консоль. С фермерским загаром, низенький и лысый, ссохшийся примат, похожий на образы Ганди или Homo habilis[43], какими она их себе представляла. Это даже казалось немного сексуальным – то, как сильно он отличался от молодых мужчин, такой древний и маленький, словно самец какого-нибудь вида беспанцирных черепах. Она отвела колено в сторону и приподняла таз, приняв недвусмысленную позу и подставив вульву под теплый солнечный свет.
– Какой удивительный ил, – произнес он, глядя на вязкую массу у себя в ладони. – Никогда не видел подобного биома.
– Неужели?
– А тебе нравится?
– Этот биом? Думаю, да. Тут жарковато и слишком сильно все зарастает, но он интересный.
– Значит, ты не против. Выходит, ты не из Красных.
– Красных? – она рассмеялась. – Нет, я либерал.
Он задумался над ее заявлением.
– То есть ты хочешь сказать, что политики больше не делятся на Зеленых и Красных?
Она указала на слоновую траву, окаймлявшую поляну.
– Куда уж им теперь?
– Очень интересно, – он откашлялся. – Когда соберешься на Уран, пригласишь с собой моего друга?
– Может быть, – сказала Зо и слегка пошевелила бедрами.
Он понял намек и спустя мгновение наклонился вперед, чтобы начать массажировать ближайшее к нему бедро. Она ощущала, будто к ее коже прикасались маленькие обезьяньи лапки, ловкие и умелые. Его кисть исчезала в ее лобковых волосах целиком, и, похоже, это ему нравилось, потому что он погружал ее так несколько раз, пока не достиг эрекции, и тогда она крепко взялась за его член. Конечно, это было не так, как на столе, но оргазм – это всегда хорошо, особенно на природе под теплым солнцем. Он обращался с ней довольно просто, не стремился к взаимным чувствам, не был и сентиментальным. В общем, не походил на тот тип занудных стариков, которым недостаточно физического наслаждения. Перестав содрогаться, она перекатилась на бок и взяла член в рот – будто мизинец, который она могла полностью обхватить языком, – открыв ему при этом отличный вид на свое тело. Раз она прервалась, чтобы посмотреть на себя, роскошные и аккуратные изгибы своего тела, – и увидела, что ее бедра находились почти на уровне его плеч. Затем вернулась к своему занятию и невольно задумалась о vagina dentata[44], нелепом патриархальном мифе. Зубы казались совершенно излишними – ведь не всем обязательно их иметь. Достаточно было хватать бедолаг за члены и сжимать их так, чтоб они скулили, – и что бы они могли поделать? Могли попробовать не попадать в эту хватку, но в то же время этого им хотелось больше всего. Поэтому они, жалкие и растерянные, подвергали себя риску попасться в зубы, используя каждую возможность, что им выпадала. И она слегка защемила его, чтобы напомнить об этом его положении, а потом довела дело до оргазма. Для мужчин было благом, что они не владели телепатией.
Потом они еще раз окунулись в озеро, а когда вернулись на песок, он достал из сумки буханку хлеба. Разломив ее пополам, они поели.
– Ты там мурчала? – спросил он между делом.
– Угу.
– Это ты поставила себе такой признак?
Она кивнула и, сглотнув, пояснила:
– Когда в последний раз проходила терапию.
– Кошачьи гены?
– Тигриные.
– А-а.
– Мне слегка изменили гортань и голосовые связки. И тебе стоит попробовать – дает отличные ощущения.
Он поморгал и ничего не ответил.
– Так что это за друг, которого ты хочешь отправить на Уран?
– Энн Клейборн.
– А, твой заклятый враг!
– Вроде того.
– А почему ты думаешь, что она согласится лететь?
– Еще не факт, что согласится. Но может. Мишель говорит, она пробует новое. И мне кажется, ей будет интересна Миранда. Луна, расколотая надвое ударом и собранная обратно. Луна и то, что ее ударило, вместе. И все эти камни… Она любит камни.
– Я об этом наслышана.
Расселл и Клейборн, Зеленый и Красная, два известнейших противника в драматической саге о первых годах в поселении. Первые годы… Они были такими тяжелыми, что Зо содрогалась, думая о них. И их опыт, несомненно, оставил след в мозгу каждого, кто через это прошел. А Расселл позднее получил еще более впечатляющее повреждение, как она сейчас вспомнила. Ей было трудно восстановить события, все истории о первой сотне расплывались у нее в памяти: Великая буря, тайная колония, измена Майи – все ее споры, романы, убийства, мятежи и тому подобные грязные дела, в которых, насколько она понимала, едва ли было хоть что-то положительное. Эти старики – словно бактерии-анаэробы, которые жили в ядовитой среде, медленно выделяя из себя необходимые условия для появления обогащенной кислородом жизни.
Исключением была лишь Энн Клейборн, которая, судя по историям, поняла: чтобы радоваться жизни в каменном мире, нужно любить камни. Зо такое отношение нравилось, поэтому она сказала:
– Конечно, я спрошу ее. Или ты сам спросишь? Если спросишь, скажи ей, что я согласна. Мы найдем ей место в дипломатической группе.
– Группе «Свободный Марс»?
– Да.
– Хм.
Он расспросил ее о политических стремлениях Джеки, она ответила, на что смогла, опустив глаза на свое тело с его изгибами и твердыми мышцами, смягченными подкожным жиром: тазовые кости по бокам живота, пупок, жесткие черные волосы на лобке – она смахнула с них хлебные крошки, – длинные мощные бедра. Женские тела имели куда более красивые пропорции, чем мужские. Микеланджело на этот счет был не прав, пусть его Давид и служил отличным доводом против. Тело Давида походило на тело летателя.
– Я хочу, чтобы мы слетали к ободу, – сказала она.
– Я не умею летать в птичьем костюме.
– Я могу понести тебя на спине.
– Правда?
Она осмотрела его. Лишние тридцать – тридцать пять килограммов.
– Конечно. Это будет зависеть от костюма.
– Удивительно, на что они способны.
– Дело не только в костюмах.
– Нет. Но нам не дано летать от природы. Тяжелые кости и все такое. Сама знаешь.
– Знаю. Костюмы, разумеется, необходимы. Просто их было бы недостаточно.
– Точно. – Он смотрел на ее тело. – Любопытно, какими крупными становятся люди.
– Особенно их гениталии.
– Ты так считаешь?
Она рассмеялась.
– Просто подкалываю.
– А-а.
– Хотя как думаешь, могут ли вырасти части тела, которые мы сильнее всего используем, а?
– Да. Я читал, выросла ширина грудной клетки.
Она снова рассмеялась.
– От разреженного воздуха, да?
– Предположительно. Во всяком случае, в Андах это так. Там расстояние от спинного хребта до грудины примерно вдвое больше, чем у тех, кто живет на уровне моря.
– Ого! Как грудные полости у птиц?
– Наверное.
– А еще большие пекторальные мышцы, молочные железы…
Он не ответил.
– Выходит, мы эволюционируем в кого-то похожего на птиц.
Он покачал головой.
– Это лишь фенотипы. Если ты будешь растить детей на Земле, их грудная клетка снова сожмется.
– Сомневаюсь, что у меня будут дети.
– А-а. Из-за перенаселения?
– Да. Нам нужно, чтобы вы, иссеи, начали умирать. Даже эти малые миры не помогают. Земля и Марс превращаются в муравейники. Вы, по сути, отняли у нас наши миры. Вы клептопаразиты.
– Звучит слишком сильно.
– Нет, это настоящий термин. Означает животных, которые воруют пищу у своих детенышей в особенно тяжелые зимы.
– Очень подходяще.
– Наверное, нам придется вас убить, когда вам перевалит за сотню М-лет.
– Или если мы будем заводить детей.
Она ухмыльнулась. Он выглядел таким невозмутимым!
– Смотря что случится быстрее.
Он кивнул, словно это было разумное предположение. Зо рассмеялась, хотя и чувствовала некоторую досаду. Она пояснила:
– Конечно, никто никого убивать не собирается.
– Нет. Но это и не обязательно.
– Нет? Вы что, как лемминги, сброситесь с обрыва?
– Нет. Ведь появляются болезни, которые не лечатся антивозрастной терапией. Старые люди умирают. Это будет происходить.
– Правда?
– Я так думаю.
– А вдруг придумают, как лечить эти болезни, и еще усложнят ситуацию?
– С некоторыми болезнями это может случиться. Но старение – сложный процесс, поэтому рано или поздно… – Он пожал плечами.
– Это всё дурные мысли, – сказала Зо.
Она поднялась, натянула высохшее трико. Он тоже встал и оделся.
– Ты когда-нибудь встречала Бао Шуйо? – спросил он.
– Нет, а кто она такая?
– Математик, живет в Да Винчи.
– Нет. А почему ты спросил?
– Просто любопытно.
Они стали подниматься через лес, время от времени останавливаясь, чтобы проследить взглядом за быстрым животным. Видели крупную джунглевую курицу, которая стояла и смотрела на них, словно одинокая гиена… Зо сама испытывала удовольствие от прогулки. Иссей же держался сдержанно и невозмутимо, а его мысли было невозможно предугадать – и это было характерно для многих стариков, а то и вообще для всех. Большинство древних, которых встречала Зо, казались ограниченными в сильно искривленном пространстве-времени собственной значимости и собственных ценностей. И поэтому все то, чем они дорожили, теряло свою ценность в зависимости от того, как крепко старики были привязаны к своим «миражам». Старики превращались в Тартюфов – или ей так только казалось? – лицемеров, которых она на дух не переносила. Она презирала стариков и их «прелестные» ценности. Но этот, похоже, был не таким. И ей хотелось общаться с ним еще.
Когда они вернулись в деревню, она погладила его по голове.
– Было весело. Я поговорю с твоей подругой.
– Спасибо.
Через несколько дней она позвонила Энн Клейборн. Лицо, возникшее на экране, выглядело отталкивающе, словно череп.
– Здравствуйте, я Зоя Бун.
– И?
– Меня так зовут, – добавила Зо. – Так я представляюсь незнакомым.
– Бун?
– Я дочь Джеки.
– А-а.
Она явно не любила Джеки. Это была распространенная реакция: Джеки замечательно удавалось устраивать всё так, чтобы люди ее ненавидели.
– А еще я дружу с Саксом Расселлом.
– А-а.
На этот раз понять ее чувства оказалось невозможным.
– Я рассказала ему, что собираюсь отправиться в систему Урана, и он сообщил, что вам, возможно, будет интересно присоединиться.
– Он так сказал?
– Да, сказал. Поэтому я и позвонила. Я собираюсь на Юпитер, а потом на Уран, две недели буду на Миранде.
– На Миранде! – воскликнула она. – Так кто ты такая, говоришь?
– Я Зо Бун! У вас что, склероз?
– Миранда, говоришь?
– Да. Две недели. А если мне понравится, может, и больше.
– Если тебе понравится?
– Да. Я не остаюсь там, где мне не нравится.
Клейборн кивнула, словно только это было единственное из сказанного, что имело смысл, и Зо нарочито серьезным тоном, как если бы обращалась к ребенку, добавила:
– Там много камней.
– Да, да.
Долгая пауза. Зо изучала лицо на экране. Худое и сморщенное, как у Расселла, только почти все морщины тянулись вертикально. Лицо, будто высеченное из дерева. Наконец она ответила:
– Я подумаю над этим.
– Вам следует пробовать новое, – заметила Зо.
– Что?
– Вы меня слышали.
– Это Сакс тебе сказал?
– Нет, я спрашивала о вас у Джеки.
– Я подумаю над этим, – повторила она и оборвала связь.
«Ну и ладно», – подумала Зо. Она все же попыталась и теперь чувствовала себя благородной, хотя и остался неприятный осадок. Эти иссеи как-то умели затягивать других в свою реальность, и еще они все были сумасшедшими.
И непредсказуемыми: на следующий день Клейборн ей перезвонила и сказала, что согласна лететь.
При личной встрече Энн Клейборн оказалась такой же сморщенной и высушенной на солнце, как и Расселл, но еще более молчаливой и странной: желчной, неразговорчивой, склонной к кратковременным вспышкам раздражительности. Она пришла в последнюю минуту перед отбытием с одним только ранцем и узкой наручной консолью, одной из новейших моделей. Ее кожа была орехово-коричневой, в жировиках, бородавках и шрамах в местах удаления различных воспалений. Долгая жизнь, проведенная на природе, в том числе в ранние годы, когда имелось сильное ультрафиолетовое излучение… Короче говоря, она хорошенько поджарилась. Она спеклась, как сказали бы в Эхо. Серые глаза, тонкий, как у ящерицы, рот, полоски от уголков рта до ноздрей, как глубокие засечки, сделанные топором. Суровее этого лица не могло быть ничего.
Неделю, что они летели на Юпитер, Энн провела в маленьком судовом парке, прогуливаясь меж деревьев. Зо предпочитала сидеть в обеденном зале или в большом обзорном пузыре, где по вечерам собиралась немногочисленная группа людей, чтобы принимать пандорф, играть в го, курить опиум и смотреть на звезды. Энн она видела редко.
Они пронеслись мимо пояса астероидов, слегка вне плоскости эклиптики, оставив позади несколько выдолбленных малых миров, хотя, может, это были всего лишь шахты: каменные картофелины, которые возникали на экранах, могли быть как грубыми оболочками типа закрытых шахт, так и красивыми благоустроенными городами. Это могли быть анархические и опасные миры либо миры, населенные религиозными группами или болезненно миролюбивыми утопистами. Существование множества систем, пребывающих в полуанархическом состоянии, заставило Зо усомниться в планах Джеки, предполагавшей создать союз внешних спутников под покровительством Марса. Зо казалось, что пояс астероидов мог служить моделью того, во что когда-нибудь превратится политическое устройство всей Солнечной системы. Но Джеки считала иначе: она говорила, что пояс таков, каков он есть, – поскольку имеет исключительное положение, представляя собой широкую полосу вокруг Солнца. Внешние спутники, с другой стороны, собирались в группы вокруг газовых гигантов и поэтому определенно должны были учредить лиги. К тому же они были настолько крупными по сравнению с астероидами, что их выбор, с кем заключать союз во внутренней системе, мог повлиять на расстановку сил.
Зо, однако, оставалась при своем мнении.
Замедлившись, они прибыли в систему Юпитера, где у нее могла появиться возможность проверить теории Джеки. Там корабль прошел по замысловатой траектории между галилеевыми спутниками, продолжая торможение, и они увидели четыре крупнейшие луны вблизи. Для каждой из них были разработаны грандиозные проекты терраформирования, которые уже начали претворять в жизнь. Тройка внешних спутников – Каллисто, Ганимед и Европа – имели схожие начальные условия: были покрыты слоями водного льда, Каллисто и Ганимед – на глубину в тысячу километров, Европа – в сто. Вода во внешней части Солнечной системы не считалась редкостью, но встречалась отнюдь не повсеместно, поэтому эти водные миры вполне могли ею торговать. Ледяная поверхность всех трех лун была усеяна камнями, в основном оставшимися после метеоритных ударов, углеродистыми хондритами, которые могли отлично служить в качестве строительного материала. Жители этих трех лун, прибыв туда около тридцати М-лет назад, растопили хондриты и построили каркасы куполов из углеродных нанотруб вроде тех, что использовались при строительстве космического лифта на Марсе. Эти многослойные купольные материалы позволяли покрывать по двадцать – пятьдесят километров за раз. Под куполами же рассыпа́ли дробленые камни, создавая таким образом тонкий слой почвы – совершенный вечномерзлый грунт, который в некоторых местах, поблизости озер, подтаивал и превращался в лед.
Купольный город, построенный по этому плану на Каллисто, назывался Женевским озером, и в это место марсианская делегация отправилась, чтобы встретиться с различными лидерами и политическими группами системы Юпитера. Зо, как обычно, сопровождала делегацию в качестве младшего служащего и наблюдателя, выискивая возможность передать сообщения Джеки людям, которые могли разумно на них отреагировать.
Такие встречи проходили два раза в год. Жители системы организовывали их, чтобы обсудить терраформирование галилеевых спутников, что создавало хороший фон для обозначения интересов Джеки. Зо сидела в задней части комнаты рядом с Энн, которая решила также поприсутствовать на мероприятии. Технические трудности терраформирования этих лун были велики по своим масштабам, но просты в принципе. Каллисто, Ганимед и Европа развивались по общему плану, по крайней мере, на начальном этапе: по их поверхности рыскали мобильные термоядерные реакторы, которые нагревали лед и перекачивали газы в исходную водородно-кислородную атмосферу. В итоге они надеялись создать экваториальные пояса, где камни собирались бы и дробились, чтобы создать почву поверх льда. Температура атмосферы тогда держалась бы на уровне замерзания, благодаря чему вокруг полосы экваториальных озер образуется зона тундры с кислородно-водородной атмосферой, в которой можно будет дышать.
С самым близким к планете галилеевым спутником, Ио, дело обстояло сложнее всего, но оно же было и наиболее интересным. Рельсовые пушки стреляли по нему с остальных трех лун крупными снарядами льда и камней. Из-за своей близости к Юпитеру Ио имел очень малый запас воды, а его поверхность состояла из смешанных слоев базальта и серы. Причем сера вырывалась эффектными вулканическими струйками, возникающими под приливным воздействием Юпитера и других спутников. Проект по терраформированию Ио был самым длительным и, помимо прочего, включал в себя вливание серопоглощающих бактерий в горячие серные источники возле вулканов.
Все эти четыре проекта тормозились из-за недостатка света, и в точках Лангранжа планеты, где осложнения от гравитационных полей системы Юпитера были не так существенны, как раз устанавливали огромные космические зеркала, которые должны были направлять солнечный свет на экваторы галилеевых спутников. Все четыре луны синхронно вращались вокруг Юпитера с разными периодами – от сорока двух часов у Ио до пятнадцати дней у Каллисто, – и независимо от своей длительности суток все они получали лишь четыре процента от того количества света, что доставалось Земле. Хотя на самом деле Земли достигало намного больше света, чем требовалось, поэтому даже четыре процента давали неплохой результат, если говорить об освещенности. Здесь оказывалось в семнадцать тысяч раз больше света, чем Земля получала от Луны. Впрочем, такой свет давал слишком мало тепла, а оно необходимо для терраформирования. Поэтому местные выторговывали свет всеми возможными путями. Женевское озеро, как и все поселения на других лунах, располагалось на стороне, обращенной к Юпитеру, – чтобы использовать преимущество света, отражаемого от этого гигантского шара и летающих «газовых фонарей», выброшенных в верхнюю часть его атмосферы и поджигавших гелий-3, образуя такие яркие точки света, что на них нельзя было смотреть дольше секунды. Термоядерного горения не возникало перед электромагнитными отражающими чашами, которые направляли весь свет за пределы плоскости эклиптики планеты. Поэтому исполинский шар теперь выглядел еще более зрелищно с ослепительно белыми алмазными точками, каждая из которых соответствовала одному из пары десятков «газовых фонарей», что рыскали над его поверхностью.
Космические зеркала и «газовые фонари» общими усилиями должны были обеспечить количество света, почти вдвое меньшее того, что получал Марс, но это было лучшее, что они могли сделать. Зо пришла к выводу, что такова уж участь жителей внешней Солнечной системы – постоянно быть погруженными в сумрак. Даже чтобы получить это количество света, потребовалось создать огромную инфраструктуру, – и в этот момент и заявилась марсианская делегация. Джеки предложила большую помощь, включая предоставление новых термоядерных гигантов, новых «газовых фонарей», а также опыта Марса в установке космических зеркал и применении различных методов терраформирования. Теперь, когда ситуация в области Марса в целом стабилизировалась, ассоциация аэрокосмических кооперативов была заинтересована в новых проектах. Они были готовы вкладывать капитал и применять свои знания в обмен на преференциальные торговые соглашения, поставки гелия-3, собранного в верхней части атмосферы Юпитера, и возможность исследований, проведения горных работ, а также участия в проектах терраформирования всех восемнадцати[45] малых спутников.
Вложение капитала, знания, торговля – это все равно что пряник, причем большой. Если галилеяне на него купятся, ассоциация с Марсом будет делом времени, и Джеки сможет развить сотрудничество до заключения всякого рода политических союзов, затянув луны Юпитера в свою сеть. Но для юпитерианцев эта вероятность была столь же очевидна, как и для всех остальных, и они делали все, чтобы получить желаемое, не отдавая слишком много взамен. И, несомненно, скоро они противопоставят марсиан земным экс-наднационалам и другим организациям, которые выдвинут похожие предложения.
И в этот момент Зо вступила в игру: она была кнутом. На публике – пряник, при закрытых дверях – кнут. Это был метод Джеки – та широко применяла его всю свою жизнь.
Зо выявила для Джеки угрозы, выраженные мимолетными скрытыми взглядами, отчего они были еще более опасными. Краткая встреча с представителями Ио: план экопоэзиса, как бы мимоходом заметила им Зо, осуществлялся чересчур медленно. На то, чтобы бактерии переработали серу в полезные газы, понадобятся тысячи лет, на протяжении которых на Юпитер будет действовать сильное радиочастотное поле, окутывающее Ио и создающее для него проблемы, и бактерии успеют существенно мутировать. Ио необходима ионосфера, вода, может, даже стоило задуматься о том, чтобы перевести спутник на другую орбиту, подальше от их великого газового божества. Марс, родина знаний в области терраформирования и самая благополучная цивилизация Солнечной системы, мог помочь им со всем этим, в том числе оказать свое особое содействие. Или даже обсудить с другими галилеянами возможность принять на себя руководство проектом, чтобы ускорить его развитие.
Далее последовали такие же случайные беседы с различными представителями ледяных галилеевых спутников – на коктейльных вечеринках после рабочих встреч, в барах после вечеринок, на прогулках по набережной Женевского озера под сонолюминесцентными фонарями, свисающими с каркаса купола. Она сообщила им, что делегаты с Ио подумывают заключить отдельное соглашение: все-таки у них наибольший потенциал, плотный грунт, тепло, тяжелые металлы, огромные перспективы для развития туризма. Зо рискнула надавить на то, что эти галилеяне сами хотели использовать эти же преимущества ради собственной выгоды и разделить Юпитерианскую лигу на фракции.
Энн ходила на эти прогулки вместе с Зо и остальными, и Зо позволила ей послушать пару бесед – ей было любопытно, что та в них поймет. Энн ходила за ними по набережной, что располагалась на невысоком ободе метеоритного кратера, который вмещал в себя озеро. Вообще же здешние всплесковые кратеры могли дать солидную фору любому марсианскому. У этого, например, ледяной край возвышался над остальной поверхностью луны всего на несколько метров, образуя круглую насыпь, с которой было видно все озеро и – с другой стороны – травянистые улицы города, а за ними – щебенистую ледяную равнину за пределами купола, заметно изгибающуюся к близкому горизонту. Чрезвычайно ровный рельеф снаружи купола давал представление об этой местности: это был ледник, покрывающий всю луну, в тысячу километров толщиной, лед, который сглаживал каждое место падения метеорита и каждую приливную трещину.
На ровной глади озера мельтешили интерференционные узоры, рисуемые небольшими черными волнами. Сама вода, белая, как ледяное дно озера, была тронута желтизной громадного шара Юпитера. Он нависал сверху, и все его кремовые и оранжевые полосы танцевали вокруг точек газовых фонарей.
Они прошли мимо ряда деревянных строений – дерево завозилось с лесистых островов, плавающих, будто плоты, на дальней стороне озера. На улицах переливалась зеленым трава, в огромных цветочных контейнерах под длинными и яркими лампами росли сады. Во время прогулки Зо слегка приложилась по собеседникам кнутом, напомнив им о военной мощи Марса и снова обратив внимание на возможный выход Ио из лиги.
Ганимедианцы ушли ужинать в мрачном настроении.
– Какие неженки! – заметила Энн, когда они оказались вне предела слышимости.
– Так-так, теперь мы издеваемся, – отозвалась Зо.
– Ты настоящая разбойница. Подумай над этим.
– Придется мне записаться в школу Красных и выучиться там дипломатической деликатности. Может, даже договорюсь с помощниками пойти со мной и взорвать им пару объектов.
Энн шумно выпустила воздух сквозь зубы. Затем двинулась дальше по набережной, и Зо пошла следом.
– Странно, что Большое красное пятно исчезло, – заметила Зо, когда они пересекали мост над каналом. – Будто это какой-то знак. Но я все равно жду, что оно еще появится.
Воздух был прохладным и влажным. Прохожие, которые им попадались, были в основном земного происхождения, частью диаспоры. Возле каркаса купола лениво выписывали спирали несколько летателей. Зо понаблюдала за ними на фоне огромной планеты. Энн часто останавливалась, чтобы осмотреть поверхности срезов камней, не обращая внимания ни на город среди льдов, ни на его жителей с их грациозными походками и разноцветной одеждой, – даже когда мимо пронеслась кучка молодых местных уроженцев.
– А тебя в самом деле камни интересуют намного больше, чем люди, – отметила Зо одновременно и с восхищением, и с раздражением.
Энн взглянула на нее – это был настоящий взгляд василиска! Но Зо лишь пожала плечами и, взяв ее под руку, потащила вперед.
– Этим молодым уроженцам и пятнадцати М-лет не исполнилось, они прожили всю жизнь при одной десятой g и плевать хотели и на Землю, и на Марс. Они верят в юпитерианские луны, в воду, плавание и полеты. Большинство из них изменили себе глаза, чтобы легче было переносить слабое освещение. Некоторые отрастили жабры. По плану терраформирование этих лун должно занять пять тысяч лет. Видит ка, они представляют новую ступень эволюции, а ты тут пялишься на камни, которые ничем не отличаются от любых других, которых навалом в этой галактике! Верно люди говорят, что ты сумасшедшая.
Это заставило Энн отскочить, как брошеный камень.
– Ты говоришь в точности, как я, когда я пыталась вытащить Надю из Андерхилла.
Зо пожала плечами.
– Ладно, – проговорила она. – У меня еще одна встреча.
– Мафия работает без передышки, верно?
Но все же Энн двинулась за Зо, глядя по сторонам, будто сморщенный придворный шут, крохотный и одетый в странную старомодную куртку.
У доков их с некоторой тревогой встретила группа членов совета Женевского озера. Они сели на небольшой паром, и тот стал прокладывать себе путь между мелкими парусными судами. На озере было ветрено.
Они плыли к одному из лесистых островов. Над заболоченным ковром подогревающейся почвы плавучего острова возвышались огромные образцы бальз и тиковых деревьев, а на берегах, у маленькой пилорамы, работали лесопогрузчики. И хотя пилорама была звуконепроницаемой, к разговорам примешивался ее приглушенный шум. Плывя по озеру на юпитерианской луне, где в каждый цвет от удаленности Солнца вкраплялась серость, Зо ощущала легкие порывы того возбуждения, что испытывала в полетах, и сказала местным:
– Здесь так красиво! Теперь я понимаю, почему на Европе хотят построить целый водный мир и все время там плавать. Они даже смогут переправить часть своей воды на Венеру и создать у себя несколько островов. Не знаю, говорили ли они вам об этом. Может, это просто пустые слова, вроде той затеи, что я слышала, – создать небольшую черную дыру и поместить ее в верхнюю атмосферу Юпитера. Чтобы превратить его в звезду! Тогда у вас появится столько света, сколько вам нужно.
– Разве дыра не поглотит сам Юпитер? – спросил один из местных.
– Да они говорят, это произойдет очень нескоро. Через миллионы лет.
– А потом получится новая звезда, – указала Энн.
– Да-да. И уничтожит все, кроме Плутона. Но нас к тому времени уже давно не будет. Так или иначе. А если и будем, то что-нибудь придумаем.
Энн внезапно рассмеялась. Местные глубоко задумались.
Вернувшись на берег, Энн и Зо двинулись дальше по набережной.
– Ты совсем бессовестная, – заметила ей Энн.
– Скорее, наоборот. Это очень тонко. Они же не знают, говорю ли я от своего имени, от имени Джеки или представляю весь Марс. Может, я просто болтаю. Мне же это напоминает об общем контексте. А они слишком легко погружаются в проблемы Юпитера, забывая обо всем остальном. Хотя стоило бы думать о всей Солнечной системе как о единой политической силе – но они не могли этого даже представить, и им нужно помочь.
– Тебе самой нужно помочь. Это, знаешь ли, не Италия времен Ренессанса.
– Макиавелли прав во все времена, если ты об этом. А местным следует о нем напомнить.
– Ты напоминаешь мне Фрэнка.
– Фрэнка?
– Фрэнка Чалмерса.
– Я этим иссеем восхищаюсь, – призналась Зо. – Во всяком случае, то, что о нем читала, меня восхищает. Он единственный из вас не был лицемером. И сделал больше, чем кто бы то ни было.
– Ты ничего об этом не знаешь, – сказала Энн.
Зо пожала плечами.
– Прошлое одинаково для всех. Я знаю об этом столько же, сколько и ты.
Мимо прошла группа юпитерианцев, бледных и с большими глазами, полностью поглощенных своими разговорами.
– Посмотри на них! – жестом указала Зо. – Они так сосредоточены. Ими я тоже восхищаюсь, если честно. Они так энергично взялись за проект, который не будет завершен еще долго после их смерти. Это нелепость, знак неповиновения и свободы, высшей степени безумия, будто они – сперматозоиды, безумно движущиеся к неведомой цели.
– Так можно сказать обо всех нас, – сказала Энн. – Это эволюция. Так когда мы полетим на Миранду?
Тела близ Урана, удаленного от Солнца на вчетверо большее расстояние, чем Юпитер, получали лишь одну четвертую процента земного освещения. Это препятствовало крупным проектам по терраформированию, хотя, когда они вошли в систему Урана, оказалось, что видимость здесь вполне достаточна. Солнечный свет был в 1300 раз ярче, чем свет полной Луны на Земле, а само Солнце – все тем же ослепляющим пятнышком среди темных звезд, и, несмотря на общую тусклость, его было прекрасно видно. И это говорило о великой силе человеческого зрения и духа, которая не сократилась даже в такой дали от родной планеты.
Но вокруг Урана не вращалось спутников, которые были бы достаточно большими, чтобы привлечь крупные проекты. В его системе находилось пятнадцать[46] малых лун, крупнейшие из которых – Титания и Оберон – не превышали шестисот километров в диаметре. Остальные же, значительно меньших размеров, представляли собой, по сути, скопление небольших астероидов. Они носили в основном имена женских персонажей произведений Шекспира и вращались вокруг самого безликого из газовых гигантов – сине-зеленого Урана, чьи полюса лежали в плоскости эклиптики, а одиннадцать узких колец выглядели еле различимыми иллюзорными петлями. В общем и целом, все это казалось не самой пригодной для жизни системой.
Но люди все равно прибывали и заселяли ее. Зо это не удивляло: бывали и такие, кто исследовал и начинал застраивать Тритон, Плутон и Харон, а если бы открыли десятую планету и отправили бы туда экспедицию, то она, несомненно, обнаружила бы, что там уже стоит купол, а ее жители грызутся друг с другом и вспыхивают гневом при всякой попытке вмешательства в их дела. Диаспора как она есть.
Главный купольный город системы Урана находился на Обероне, самом крупном и далеком от планеты среди пятнадцати спутников. Зо, Энн и остальные прибывшие с Марса вошли в орбиту Урана прямо возле Оберона и сели в челнок, чтобы нанести краткий визит в основное поселение.
Этот город, Ипполита, растянулся во всю ширину одной из просторных долин, характерных для всех крупных спутников Урана. Гравитация здесь была еще слабее, чем свет, и город представлял собой отдельное трехмерное пространство с перилами и троллеями, летающими подъемниками-буфетами, скальными балконами и лифтами, горками и лестницами, вышками и трамплинами, висячими ресторанами и цокольными павильонами – и все это было освещено яркими белыми ламповыми шарами, которые парили в воздухе. Зо сразу же заметила, что от такого числа всякого рода приспособлений в воздухе летать внутри купола было невозможно. Однако при такой гравитации здесь вся жизнь протекала словно в полете – и, подпрыгнув в воздухе, она решила присоединиться к числу тех, кто тоже считал здешнюю жизнь полетом. На самом деле лишь немногие из местных пытались ходить земным способом, большинство передвигалось по воздуху, волнообразно, скачками, выполняя крутые пике и длинные петли в стиле Тарзана. Нижняя часть города была перетянута сетью.
Те, кто здесь жил, прибыли из разных уголков системы, хотя большинство, конечно, составляли марсиане и земляне. Коренных ураниан пока еще не было, не считая кучки малышей, которые родились у матерей, занимавшихся строительством поселения. Заселили уже шесть лун, а в верхнюю атмосферу Урана недавно поместили несколько «газовых фонарей», которые плавали кольцами вокруг его экватора. Теперь они горели точками света на фоне сине-голубой планеты, словно образуя бриллиантовое ожерелье для великана. Эти фонари повышали освещенность системы до такой степени, что все, кого они встречали в Обероне, отмечали, насколько светлее теперь стало. Но Зо не была впечатлена.
– Представляю, как здесь было отвратно раньше, – сказала она одному из местных энтузиастов. – Как в черно-белом мире.
На самом же деле все здания в городе были ярко раскрашены, но в какие цвета, Зо сказать не могла. Ей нужен был расширитель для зрачков.
Но местным, похоже, нравилось. Конечно, некоторые из них поговаривали о том, чтобы улететь после того, как уранианские города будут построены, дальше, на Тритон, где ждало «следующее большое дело», или на Плутон с Хароном. Они были строителями. Но остальные селились навсегда, принимали лекарства и проходили транскрипцию генов, чтобы приспособиться к низкой гравитации, повысить чувствительность зрения и так далее. Они говорили о том, чтобы направить сюда кометы из облака Оорта, обеспечить систему водой, и, может быть, столкнуть две-три малые незаселенные луны, создав таким образом более крупные и теплые тела – «искусственные Миранды», как кто-то метко выразился.
Энн ушла с той встречи или, точнее, потянулась прочь по перилам, не сумев сладить с мини-g. Спустя некоторое время Зо последовала за ней и оказалась на улицах, поросших буйной зеленой травой. Посмотрев вверх, она увидела аквамариновую громадину с тонкими тусклыми кольцами – сказочное зрелище, от которого веяло холодом, неприглядное по прежним человеческим стандартам. Пожалуй, это место еще долго будет непригодным для жизни из-за астероидной гравитации. Однако на встрече уранианцы восхваляли тонкую красоту своей планеты, находя в ней какие-то эстетические свойства, хотя и собирались изменить в ней все, что было в их силах. Они особенно выделяли нежные оттенки ее цветов, прохладу купольного воздуха, движения, создающие ощущение полета, танца во сне… Некоторые даже оказались до того патриотичными, что стали возражать против радикального терраформирования; они были сторонниками сохранения этой среды.
И вот они встретились с Энн. Подошли к ней группой, окружили и принялись пожимать руки, обнимать, целовать в макушку; кто-то даже припал к коленям и поцеловал ей ногу. Зо, увидев выражение лица Энн, рассмеялась.
– Оставьте ее, – сказала она группе, которая, по-видимому, была назначена кем-то вроде хранителей Миранды.
Местная разновидность Красных возникла там, где ее существование было лишено всякого смысла, причем спустя долгое время после того, как это движение практически исчезло даже на Марсе.
Они подплыли по воздуху или подтянулись по перилам к своим местам вокруг стола, установленного в центре купола на высокой узкой колонне, и принялись за еду, обсуждая все вопросы, касающиеся их системы. Стол этот был оазисом посреди тусклого купола, подсвеченного бриллиантовым ожерельем на нефритовом фоне. Казалось, он находился в самом центре города, но Зо видела и другие оазисы, подвешенные в воздухе, которые также словно находились в его центре. Ипполита была настоящим городом, но на Обероне можно было построить таких десятки, равно как и на Титании, Ариэли и Миранде – пусть эти спутники малы, но каждый из них покрывала поверхность в сотни квадратных километров. И эти не обласканные Солнцем луны привлекали людей своей нетронутой территорией, незанятым пространством. Это был новый рубеж в мире, где возможности начать что-то новое, создать общество с нуля таяли с каждым днем. Для уранианцев эта свобода была дороже света и гравитации. И собрав роботов и программное обеспечение, они отправились на этот рубеж, чтобы построить купол и написать свою конституцию, чтобы стать новой первой сотней.
Но этим людям как раз было не интересно слушать о планах Джеки создать союз в масштабе всей системы. Здесь даже на местном уровне уже сложились достаточно сильные противоречия, и среди сидящих за столом, как видела Зо, находились заклятые враги. Она внимательно наблюдала за их лицами, когда глава делегации, Мари, в общих чертах изложила предложение Марса: заключить союз, который поможет избавиться от историческо-экономического гравитационного колодца Земли – огромной, переполненной, затопленной, увязшей в своем прошлом, как свинья в грязи, но остающейся преобладающей силой в диаспоре. В интересах поселений – вступить в союз с Марсом, составив объединенный фронт, чтобы самим управлять иммиграцией, торговлей и развитием, самим вершить свою судьбу.
Несмотря на все свои внутренние разногласия, сейчас уранианцы все как один выглядели неубежденными. Пожилая женщина, бывшая мэром Ипполиты, ответила, что они сами разберутся с Землей, – и даже Красные с Миранды на это кивнули. Они считали Марс такой же угрозой их свободе. И намеревались вести дела со всеми потенциальными союзниками или противниками на свободной основе, вступая во временные соглашения или противостояния с равными себе в зависимости от обстоятельств. У них просто не было необходимости заключать какие-либо формальные договоренности.
– Все эти союзы предполагают какой-то контроль свыше, – подытожила женщина. – У вас нет такого на Марсе, так почему пытаетесь применить здесь?
– На Марсе у нас это есть, – ответила Мари. – Такой уровень контроля вытекает из комплекса мелких систем более низкого уровня, и решать проблемы целостным методом полезно. А теперь это будет происходить на межпланетном уровне. Вы путаете тотализацию с тоталитаризмом, а это очень разные понятия.
Но они не переубедились. Их следовало мотивировать с помощью рычага – и для этого здесь была Зо. И применить рычаг будет легче, если изложить аргументы заранее.
Энн на протяжении ужина хранила молчание, пока не закончилось обсуждение основной темы и мирандианцы не стали задавать ей вопросы. Тогда она словно оживилась и начала расспрашивать их о текущих проблемах местной планетологии – о классификации разных регионов Миранды как частей двух столкнувшихся планетезималей, о свежей теории, согласно которой мелкие луны Офелия, Дездемона, Бианка и Пак образовались при Мирандианском столкновении, и прочем. Она расспрашивала их подробно и со знанием дела, и хранители спутника взволнованно отвечали, выпучивая глаза, как лемуры. Остальные уранианцы также с удовольствием наблюдали за оживлением Энн. Она была Той Самой Красной – теперь Зо понимала, что это означало, она была одной из легендарнейших людей в истории. А каждый из уранианцев, похоже, был хоть немного Красным – в отличие от жителей систем Юпитера и Сатурна, у них не имелось крупномасштабных планов по терраформированию, они собирались жить в куполах и всю свою жизнь гулять по первозданным камням. И они чувствовали – по крайней мере, группа хранителей, – что Миранда настолько необычна, что ее следовало полностью сохранить в исходном виде. Как отметил один из уранианских Красных, люди не могли сделать на Миранде ничего такого, что стало бы для них полезным, они могли лишь ее обесценить. Она имела внутреннюю ценность, превосходящую даже ее ценность в качестве планетологического образца. Она имела свое достоинство. Энн внимательно смотрела на них, когда они это говорили, но Зо видела по ее взгляду, что она не согласна или даже не вполне их понимает. Для нее это был вопрос науки, для них – вопрос души. Зо сейчас больше разделяла чувства местных, чем Энн с ее ограниченным упорством. Но итог был один – и местные, и Энн придерживались взглядов Красных в их чистом виде: никакого терраформирования Миранды, ни куполов, ни шатров, ни зеркал – только одна станция для гостей и несколько платформ для ракет. Хотя и платформы для ракет могли вызвать возражение со стороны хранителей – существовал запрет на все, кроме невинных пеших прогулок и подлетов на ракетах, на достаточной высоте над поверхностью, чтобы не потревожить пыль. Хранители рассматривали Миранду как девственную пустошь, на которой можно прогуливаться, но не жить и которую нельзя изменять. Мир альпинистов, или, даже лучше, мир летателей. На который можно смотреть, но не больше. Как на природное произведение искусства.
Энн, слушая их, кивала. И вот в ней проявилось что-то большее, чем сковывающий ее страх. Страсть по камням, желание оказаться в мире камней. Фетишем могло стать что угодно, а у всех этих людей он был общий. Зо они удивляли – такие странные люди, но интересные. Точка приложения рычага вырисовывалась все яснее. Хранители заказали специальный паром на Миранду, чтобы показать ее Энн. Больше туда никого не брали. Индивидуальная экскурсия по самой необычной из лун, для самой необычной из Красных. Зо рассмеялась.
– Я бы тоже хотела там побывать, – настоятельно сказала она.
Великое Нет сказало «да». Энн оказалась на Миранде.
Это была наименьшая из крупных спутников Урана, всего 470 километров в диаметре. На заре своего существования, около трех с половиной миллиардов лет назад, ее малый предшественник врезался в луну примерно такого же размера. Они раскололись, затем собрались вместе и, наконец, в результате нагрева от столкновения срослись в единый шар. Но новая луна успела остыть прежде, чем сращивание было завершено.
В итоге получился ландшафт мечты, крайне неоднородный и беспорядочный. Одни регионы были гладкими, как кожа, другие – грубыми и рыхлыми; одни представляли собой преобразованные поверхности двух протолун, другие – обнаженные внутренности камней. Встречались здесь и участки глубоких расщелин, в которых соединялись фрагменты разных пород. Расщелины эти изгибались под острыми углами, расчерчивая рельеф эффектными узорами в форме буквы V, что служило явным свидетельством сильнейшего крутящего момента, возникшего при столкновении протолун. Наиболее крупные из расщелин, достигавшие десятков километров в глубину, были даже видны из космоса в виде борозд, рассекающих поверхность серой сферы.
Они спустились на плато рядом с крупнейшей из этих зазубренных борозд, которая называлась разломом Просперо. Они надели костюмы, вышли из корабля и направились к краю разлома. Темная бездна была настолько глубокой, что, казалось, дно лежит в каком-то другом мире. В сочетании с невесомой микро-g это зрелище давало Зо ощущение полета, такое же, как она иногда получала во сне, когда все марсианские условия исчезали, сменяясь неким духовным небом. А сверху висел зеленый круг Урана, придававший всей Миранде нефритовый оттенок. Зо протанцевала вдоль края, отталкиваясь носочками, возносясь в воздух и опускаясь в кратких плие. Ее сердце переполняло чувство прекрасного. Так странно было видеть бриллиантовые искры «газовых фонарей», плывущие по стратосфере Урана на фоне таинственного нефрита. Свет исходил от круглых зеленых небесных фонариков. О глубине расщелины можно было лишь догадываться. Все сияло своей внутренней зеленью, viriditas, пробивающейся отовсюду. Но все оставалось навеки безмолвным и неподвижным – все, кроме них, чужаков и наблюдателей. Зо танцевала.
Энн шагала более ловко, чем в Ипполите, невольно излучая грацию человека, который провел много времени, бродя среди скал, – как в каменном балете. В руке, облаченной в плотную перчатку, она держала длинный угловатый молоток, а ее набедренные карманы выпирали, заполненные образцами пород. Она не отвечала возгласам ни Зо, ни хранителей – она не замечала никого. Будто актриса, играющая Энн Клейборн. Зо, изумившись такой схожести Энн с ее собственным стереотипным образом, рассмеялась.
– Если накрыть куполом эту глубокую пропасть времен, получится превосходное место для жизни, – сказала она. – Большая территория под огромным шатром, а, как вам? И какой вид! Вот было бы чудо.
Разумеется, на эту откровенную провокацию никто не ответил. Но она заставила их задуматься. Зо двигалась за группой хранителей плавно, как альбатрос. Они спускались по прерывистой скалистой лестнице, уходившей по краю узкого выступа, который протягивался от стены ущелья вдаль, напоминая складку одежды мраморной статуи. Заканчивалось все это плоской воронкой в нескольких километрах от стены и ниже обрыва на километр или больше. За этим плоским участком выступ резко заканчивался, опускаясь ко дну ущелья примерно на двадцатикилометровой глубине. Двадцать километров! Двадцать тысяч метров, около семидесяти тысяч футов… Даже великий Марс не мог похвастаться такой стеной.
На другой стене, похожей на ту, по которой они шли, тоже было много выступов и прочих деформаций: бороздки и складки, как в известковых пещерах, только сформировавшиеся все в один момент. Сама стена плавилась, и расплавленная порода капала в бездну, где навечно застывала в промозглом пространстве. С места, куда они спустились, было видно все. По краю выступа были установлены перила, к которым они все и прикрепились с помощью страховочных систем своих костюмов. Это было необходимо, поскольку из-за узости края выступа даже при малейшем шажке в сторону можно было улететь в бездну ущелья. Похожий на паука корабль, оставив их, теперь опускался вниз, чтобы потом забрать у подножия лестницы с того плоского участка, где заканчивался выступ. Это позволяло им спускаться, не беспокоясь о возвращении, и они спускались, минуту за минутой, в совсем не дружелюбном молчании. Зо не могла сдержать ухмылку: она буквально ощущала их мрачные мысли о ней, практически слышала, как они скрипели зубами. Все, кроме Энн: та останавливалась каждые пару метров, чтобы осмотреть трещины между грубыми ступенями.
– Какая жалкая одержимость камнями, – сказала Зо на приватной частоте. – Жалко быть такой старой и все еще такой маленькой. Ограничивать себя миром инертных материалов, миром, которому нечем тебя удивить. Так ни разу и не сделать ничего настоящего. Так, чтобы ничто не причиняло боль. Ареология – это разновидность трусости. Поистине печально.
Шум на внутренней линии: воздух, выпущенный сквозь зубы. Раздражение.
Зо усмехнулась.
– Что за дерзкая девчонка! – проговорила Энн.
– Да, я такая.
– И вдобавок глупая.
– А вот тут уж нет! – Зо сама удивилась своей горячности. А потом увидела, как лицо Энн перекосило от гнева в ее скафандре. По внутренней связи поверх тяжелого дыхания раздалось шипение.
– Не порть прогулку! – гаркнула она.
– Я устала от того, что меня игнорируют.
– Так кто здесь у нас боится?
– Я боюсь умереть со скуки.
Снова раздраженное шипение.
– Как же ты дурно воспитана!
– И чья в этом вина?
– Да твоя. Твоя. Но страдать в результате приходится нам!
– Ну и страдай. Только помни, это я тебя сюда привезла.
– Это Сакс меня сюда привез, спасибо его маленькой душе.
– Для тебя все маленькие.
– По сравнению с этим… – кивком скафандра она указала на ущелье.
– С этой молчаливой неподвижностью, в которой ты себя так хорошо чувствуешь.
– Это следы столкновения, очень похожего на те, что происходили в первое время после образования Солнечной системы. Такое же было на Марсе и на Земле. Это шаблон зарождения жизни. Это окно в те времена, понимаешь?
– Понимаю, но мне все равно.
– Ты думаешь, это не важно.
– Ничто не важно настолько, как ты говоришь. Все это не имеет смысла. Это просто побочный эффект Большого взрыва.
– О, я тебя умоляю, – проговорила Энн. – Нигилизм – это такая глупость.
– Ну кто бы говорил! Ты же сама нигилист! Твои жизнь и чувства не имеют ни смысла, ни ценности. Это слабый, трусливый нигилизм, если ты способна такое понять.
– Ух ты, храбрый мой нигилист!
– Да, я это признаю. А потом наслаждаюсь тем, чем можно наслаждаться.
– И чем же?
– Нахожу удовольствия. Чувства и то, что их вызывает. Я вообще-то сенсуалист. Да, наверное, это требует некоторой храбрости. Чтобы терпеть боль, рисковать жизнью, чтобы получить по-настоящему глубокие чувства…
– Ты думаешь, тебе приходилось терпеть боль?
Зо припомнила жесткую посадку в Оверлуке, боль, несравнимую с переломами ног и ребер.
– Да, приходилось.
На частоте повисла тишина, нарушаемая лишь помехами магнитного поля Урана. Похоже, Энн не возражала. И этим молчанием она только разозлила Зо.
– Неужели ты считаешь, чтобы стать человеком, нужны сотни лет? Что до появления вашей гериатрии людей вообще не было? Китс умер в двадцать пять, а ты читала «Гиперион»? Ты думаешь, эта дыра в скале настолько совершенна, что может сравниться хоть со строкой оттуда? Ну в самом деле, вы, иссеи, совершенно невыносимы! И ты – особенно. Как ты можешь меня судить, если сама не изменилась ни на йоту с того момента, как впервые оказалась на Марсе?
– Неплохое достижение, а?
– Достижение в изображении мертвеца. Энн Клейборн, величайшая мертвая из всех когда-либо живших.
– И рядом – дерзкая девчонка. Но ты лучше взгляни на структуру этой породы. Они закрученные, как крендели.
– Да к черту эти камни!
– Это же как раз для сенсуалистов. Нет, ты посмотри. Этот камень не менялся три с половиной миллиарда лет. А когда изменился, то, боже ты мой, какая же это была перемена!
Зо посмотрела на нефритовую породу у себя под ногами. Та слегка напоминала стекло, но в остальном была совершенно неопределенного вида.
– Ты одержима, – сказала она.
– Да. И мне моя одержимость нравится.
Далее они спускались молча. До конца дня они оказались на Донной площадке. Та лежала в вертикальном километре ниже края ущелья, и небо оттуда имело вид звездной полоски, с тучным Ураном посередине и с одной стороны подсвеченной солнцем. Под всем этим великолепием глубина ущелья казалась грандиозной, поразительной; Зо снова испытала ощущение полета.
– Ваша внутренняя ценность находится в неподходящем месте, – сказала она всем по общей частоте. – Это как радуга. Но если нет наблюдателя, который стоял бы под углом двадцать три градуса к свету, отражающемуся от облака из сферических капель, то и никакой радуги тоже нет. И так по всей вселенной. Наши души расположены под углом двадцать три градуса к вселенной. При контакте фотона и сетчатки образуется нечто новое, образуется некоторое пространство между камнем и разумом. А без разума нет никакой внутренней ценности.
– Это только одно мнение, что внутренней ценности нет, – отозвался один из хранителей. – И оно приводит к утилитаризму. Но участие человека не является необходимым. Эти места существовали без нас и до нас, и это их внутренняя ценность. И мы, прибыв сюда, должны уважать то, что было раньше, если мы хотим иметь правильное отношение к вселенной, если мы хотим по-настоящему ее увидеть.
– Но я и так ее вижу, – довольным тоном возразила Зо. – Или почти вижу. А вам придется повысить чувствительность глаз, добавив кое-чего в ваше генетическое средство. А пока все славно, да. Но вся эта слава существует только у нас в головах.
Они не ответили, и после некоторой паузы Зо продолжила:
– Все эти вопросы поднимались и раньше, на Марсе. Вся экологическая этика, приобретя опыт Марса, поднялась на новый уровень, поднялась в самое сердце наших действий. А вы сейчас хотите сохранить это место нетронутым, и я понимаю, почему. Но я марсианка, поэтому я и понимаю. И многие из вас тоже марсиане, как и ваши родители. Вы начинаете с этой этической позиции и заканчиваете тем, что этической позицией у вас становится эта нетронутая пустыня. Земляне не поймут вас так, как понимаю я. Они придут и построят на этом выступе большое казино. Протянут над этим ущельем навес, от края до края, и попытаются его терраформировать, как и все остальное. Китайцы все еще толкутся у себя в стране, как сельди в бочке, и совершенно не парятся насчет внутренней ценности даже самого Китая, не говоря уже о пустой луне на задворках Солнечной системы. Им нужно место, и они видят, что здесь свободно, поэтому придут, начнут строить, посмотрят на ваши смешные возражения – и что вы тогда будете делать? Можете заняться саботажем, как Красные на Марсе, но тогда вместе с ними вы рискуете взорвать и луны, а у них на каждого убитого колониста найдется миллион новых. Вот что мы имеем в виду, когда говорим о Земле. Мы как лилипуты против Гулливера. Нам нужно собраться вместе и связать его столькими веревками, сколькими сумеем.
Никто ей не ответил, и Зо вздохнула.
– Что ж, – продолжила она, – может, и к лучшему. Если люди расселятся здесь и везде, то давление на Марс ослабнет. Возможно, даже удастся заключить соглашение, по которому китайцы получат право селиться где захотят, и нам, марсианам, удастся свести иммиграцию почти к нулю. Это тоже может сработать.
И снова – никакого ответа.
Наконец Энн не выдержала:
– Заткнись уже. Дай нам сосредоточиться на местности.
– Ой, да пожалуйста…
Затем, когда они подошли к самому краю выступа, где он выдавался далеко над пропастью, а сверху висел нефритовый диск, украшенный бриллиантами, какие-то объекты вдруг разделили все небо на треугольники, прояснив истинные масштабы картины. И они увидели движущиеся звезды, но это оказались просто газовые струи двигателя их корабля.
– Видите? – воскликнула Зо. – Это китайцы, летят посмотреть на все вблизи.
Один из хранителей внезапно яростно бросился на нее и ударил прямо в забрало. Зо рассмеялась. Но забыла о сверхслабой гравитации на Миранде и удивилась, когда после нелепого апперкота ее ноги оторвались от земли. Затем споткнулась о перила, перевернулась вверх тормашками, изогнулась, попытавшись выровняться, и бум! – мощный удар в голову… Спас скафандр, и она осталась в сознании, покатившись на край выступа… к самой бездне… Страх пронзил ее, как удар электрическим током, она попыталась найти равновесие, но бесконтрольно летела дальше… ее тряхнуло – ну конечно, страховочный пояс! Затем неприятно ощутила дальнейшее скольжение – видимо, защелка подвела. Еще один выброс адреналина… она развернулась и ухватилась за скалу. Ей помогла способность человека при 0,005 g – таком же, при котором она летала, – ухватиться одним только кончиком пальца, и, будто чудесным образом, она внезапно остановила свое падающее тело.
Она была на грани падения. Искры из глаз, тошнота и тьма впереди – она не видела дна ущелья, словно никакого дна и не было, представила, как летит в эту черноту…
– Не шевелись, – приказал голос Энн у нее в ухе. – Держись и не двигайся.
Над Зо возникла ступня, затем обе ноги. Она медленно подняла голову, чтобы их рассмотреть. В ее правое запястье крепко вцепилась рука.
– Так, тут есть за что тебе ухватиться правой рукой, примерно в полуметре. Выше. Давай, поднимайся. Эй, наверху, тяните нас.
Их вытащили, как рыб на леске.
Зо уселась на землю. Маленький челнок бесшумно садился на платформу на дальней стороне плоского участка. Свет на ракетах быстро мигал. Хранители озабоченно смотрели на нее, сгрудившись вокруг.
– Шутка получилась несмешная, – проговорила Энн.
– Ага, – согласилась Зо, стараясь придумать, как ей лучше использовать происшествие в свою пользу. – Спасибо, что помогла.
Удивительно, как быстро Энн сумела прыгнуть, чтобы ее спасти, – не потому, что она вообще решила это сделать, а потому, считала Зо, что такое поведение предписывал Энн ее древний моральный кодекс: человек выполнял долг перед равным себе, а враги считались важными и были необходимы, чтобы ценить друзей. Поступок Эн был впечатляющим лишь формально, подвела итог Зо.
– Хорошая у тебя реакция.
Обратный путь на Оберон они молчали, пока один из членов экипажа не повернулся к Энн, чтобы сказать, что недавно в системе Урана, на Паке, видели Хироко и нескольких ее последователей.
– Ну что за чепуха! – отозвалась Энн.
– Откуда ты знаешь? – спросила Зо. – Может, она решила убраться подальше и от Земли, и от Марса. Я бы ее поняла.
– Это место не в ее духе.
– Может, она этого не знает. Может, она не знает, что это твой личный каменный сад.
Но Энн лишь отмахнулась.
Назад на Марс, на красную планету. Красивейший мир во всей Солнечной системе. Единственный настоящий мир.
Шаттл выполнил ускорение, затем поворот, еще несколько дней плавно парил, пока не замедлился, – и через две недели они уже были в очереди на Кларк, сели в лифт и стали спускаться вниз, вниз, вниз. Каким же медленным казался этот последний спуск! Зо смотрела на Эхо, видневшийся на северо-востоке, между красной Фарсидой и синим Северным морем. Как приятно было его видеть! Когда кабина стала приближаться к Шеффилду, Зо приняла несколько таблеток пандорфа, а когда вышли в Гнездо и двинулись по улицам между блестящими каменными зданиями к гигантской станции на краю, ее охватил восторг ареофании, она любила лицо каждого прохожего, любила каждого высокого брата и сестру с их удивительной красотой и феноменальной грацией и любила даже землян, мельтешащих у нее под ногами. До поезда в Эхо оставалось два часа, и она, не в силах усидеть на месте, стала бродить по парку, заглядывая в огромную кальдеру горы Павлина, которая была эффектнее любого ущелья Миранды, пусть и не такой глубокой, как разлом Просперо: бесконечные горизонтальные полосы всех оттенков красного – рыжеватые, малиновые, ржавые, коричневые, бордовые, медные, кирпичные, багряные, пунцовые, цветов умбры, охры, красного перца, киновари, – и все это под темным, усеянным звездами предвечерним небом. Ее мир. Только Шеффилд был навечно накрыт шатром, а ей хотелось снова отдаться воле ветра.
И вернувшись на станцию, она села на поезд в Эхо и почувствовала, как он мчится вниз по конусу Павлина, по искусственному ландшафту восточной Фарсиды, в Каир, куда прибыл со швейцарской точностью, чтобы она пересела на другой, который направлялся на север, в Эхо-Оверлук. Поезд прибыл около полуночи, она заселилась в кооперативный хостел и вышла в Адлер, чувствуя, как заканчивается действие пандорфа вместе с ее ощущением счастья. Зато вся ее компания оказалась на месте, словно и не было той разлуки. Они с радостью ее встретили, обнимали, по одному и все сразу, целовали, наливали и расспрашивали о поездке, рассказывали о состоянии ветра в последнее время и всячески ее лелеяли, пока за час до рассвета не оделись и не высыпали на планку. Оттолкнувшись от нее к темному небу, поймали опьяняющий восходящий поток ветра, немедленно получив естественное ощущение, сравнимое с дыханием или сексом, и видя черный массив откоса Эхо, выпирающий на востоке, как край материка, и темное дно каньона, лежащее далеко внизу. Пейзаж ее души, с сумрачными долинами и высокими плато, с головокружительной скалой между ними, и над всем этим – яркое пурпурное небо. Лавандовое на востоке, индиго на западе, оно вспыхивало и насыщалось цветом с каждой секундой. Звезды внезапно гасли, высокие облака на западе окрашивались розовым. Выполнив несколько снижений, она оказалась много ниже уровня Оверлука и смогла сблизиться с утесом, а потом поймать сильный восходящий поток с запада и влиться в него, пролетев буквально в дюймах над Андерлуком, нижним входом, а затем подняться по узкой спирали. Она была неподвижна, но ее рьяно возносил ветер, пока она, наконец, не вышла из тени утеса в резкую желтизну нового дня, в потрясающе приятном сочетании кинетических и зрительных ощущений, чувств и реальности. И взмыв в облака, она подумала: «Черт с тобой, Энн Клейборн! Вы вместе с тебе подобными можете вечно следовать своему моральному долгу, своей иссейской этике, ценностям, задачам, ограничениям, принципам, большим жизненным целям. Вы можете всю жизнь сыпать этими словами, полными лицемерия и страха, но никогда не испытаете ощущения, такого, как это, когда разум, тело и реальность образуют идеальную гармонию. Вы можете до посинения выкрикивать свои кальвинистские проповеди о том, как людям распоряжаться своими короткими жизнями, как будто кто-то способен знать это наверняка, как будто вы не стали в старости кучкой бездушных мерзавцев. Но до тех пор, пока вы не подниметесь сюда, не полетаете, не прыгнете, не испытаете этих ощущений, не почувствуете этой грации тела – вы просто не будете ничего знать, не будете иметь права говорить, вы, рабы собственных идей и порядков, и не сможете увидеть, что нет высшей цели, чем этот подлинный смысл существования, смысл самого космоса – свобода полета».
Северной весной пассаты вступали в противоборство с западными ветрами и восходящими потоками Эхо. Джеки находилась в Гранд-канале, отвлекшись от своих межпланетных маневров на скучные местные политические процессы. Казалось даже, что ее тяготила необходимость участвовать в них, и она явно не желала, чтобы ее дочь была сейчас рядом. Поэтому Зо на какое-то время вернулась к горным работам в Морё, а затем присоединилась к группе друзей-летателей на побережье Северного моря, к югу от Перешейка Буна, возле Блохс-Хоффнунга, где морские утесы на целый километр выступали над бьющимися о них волнами прибоя. Предвечерний бриз дул с моря и, обрушиваясь на эти утесы, поднимал в воздух стайки летателей, которые проносились сквозь морские скалы, торчащие из пены, непрерывно вздымающейся и опадающей, чисто-белой в темно-красном море.
Этой летной группой руководила девушка, которую Зо никогда не встречала прежде. Ее звали Мелка, и ей было всего девять М-лет. И она летала лучше всех, кого знала Зо. Когда Мелка вела свою группу в воздухе, то создавалось впечатление, будто среди них оказался ангел. Она то устремлялась стрелой, словно хищная птица в окружении голубей, то вела их точными маневрами, благодаря которым полеты стаей превращались в настоящее удовольствие.
Зо каждый день работала с местным партнером своего кооператива, а по вечерам, после работы, – летала. И ее душа постоянно возносилась ввысь, постоянно находя в чем-то радости. Однажды она даже позвонила Энн Клейборн, чтобы попытаться рассказать ей о полетах, о том, что действительно имело значение, но старуха уже еле вспомнила, кем была Зо, и не проявила к ней интереса, даже когда Зо постаралась объяснить, где и как они встречались.
В тот день она летала, страдая душевной болью. Разумеется, прошлое было все равно что письмо, не дошедшее до адресата, но люди при этом могли превращаться в настоящих призраков…
Эти чувства могли притупить лишь солнце, соленый воздух и брызги морских волн, бьющихся об утесы. Там как раз ныряла Мелка, и Зо полетела за ней, внезапно ощутив, что ее буквально притягивает к этой прекрасной душе. Но Мелка увидела ее и, задев кончиком крыла самую высокую скалу, стала падать, как подбитая птица. Пораженная случившимся, Зо сложила крылья и, размахивая хвостом, начала опускаться к скале. Затем, резко нырнув, поймала падающую девушку, заключила ее в объятия. Зо махала одним крылом над голубыми волнами, пока Мелка сопротивлялась в ее руках, – а потом поняла, что они упадут в воду.
Часть двенадцатая Все происходит слишком быстро
Они спустились на невысокий обрыв, возвышающийся над Флорентином. Стояла ночь, спокойная и прохладная, тысячи звезд висели над головой. Они шагали бок о бок по тропе вдоль обрыва, глядя на лежащие внизу пляжи. На всей черной глади воды отражался звездный свет, и длинная смазанная полоса, отражающая свет Псевдофобоса, садящегося на востоке, вела к темному массиву земли на другой стороне бухты.
– Я беспокоюсь, да, беспокоюсь. Даже боюсь.
– Чего?
– Это из-за Майи. Ее рассудка. Ее психологических проблем. Эмоциональных проблем. Ее состояние ухудшается.
– В чем это проявляется?
– Все в том же, только теперь хуже. Она не может уснуть по ночам. Иногда ее раздражает, как она выглядит. Она еще в своем маниакально-депрессивном цикле, но он каким-то образом меняется, не знаю, как это описать. Она будто не всегда помнит, в какой части цикла находится. Просто болтается по нему, и все. И забывает всякое, очень часто.
– Мы все забываем.
– Знаю, но Майя забывает то, что я бы назвал самым типичным для нее. И ей как будто все равно. И это – что ей все равно – как раз хуже всего.
– Мне это трудно себе представить.
– Мне тоже. Может, в ее цикле настроений сейчас просто преобладает депрессия. Но бывают дни, когда у нее пропадают все эмоции.
– Это то, что ты называешь жамевю[47]?
– Нет, не совсем. Хотя такое у нее тоже, кстати, случается. Как будто она в каком-то прединсультном состоянии. Знаю, знаю, я же говорю, я боюсь. Но я не знаю, что это – по крайней мере, не знаю точно. У нее бывают жамевю, похожие на прединсультное состояние. И прескевю[48], при котором она чувствует себя на грани откровения, которое никогда не наступает. Это часто случается с людьми перед эпилептическими припадками.
– У меня тоже такое бывает.
– Да, думаю, это бывает у всех. Иногда кажется, что сейчас все прояснится, но затем чувство пропадает. Да. Но у Майи это выражается очень ярко, как и все у нее.
– Это лучше, чем лишиться эмоций.
– О да, согласен. Прескевю – это не так уж плохо. Хуже всего – дежавю, а она может испытывать его постоянно, периодами, которые иногда длятся по несколько дней. Для нее это губительно – оно отнимает у нее что-то жизненно важное.
– Возможности. Свободу воли.
– Может быть. Но суммарный эффект всех этих симптомов приводит к состоянию апатии. Почти кататонии. Она пыталась избегать любых ненормальных состояний, не испытывая сильных чувств. Или вообще ничего не испытывая.
– Говорят, впадение в депрессию – это одно из распространенных заболеваний у иссеев.
– Да, я об этом читал. Потеря эмоциональной функции, отчуждение, апатия. Это лечили, как кататонию или шизофрению – давали принять серотонино-дофаминовый комплекс, стимуляторы лимбической системы… целый коктейль, сам можешь представить. Химия мозга… Я давал ей все, что только мог придумать, вел журналы, проводил тесты, иногда с ее помощью, иногда не ставя ее в известность. Я делал все, что мог, готов в этом поклясться.
– Не сомневаюсь.
– Но это не помогает. Ей все хуже. О, Сакс…
Он умолк, взял друга за плечо.
– Я не вынесу, если она умрет. Она все делала с такой легкостью. Мы с ней – как земля и вода, огонь и воздух. И Майя всегда парила в полете. Такая воздушная, она всегда летала с собственными ветрами выше нас. Я не вынесу, если она вот так упадет.
– Ах, да.
Они двинулись дальше.
– Хорошо, что Фобос вернулся.
– Да, это ты здорово придумал.
– На самом деле это ты придумал. И предложил мне.
– Разве? Что-то не помню.
– Да, было дело.
Море под ними тихо накатывалось на скалы.
– А четыре элемента – земля, вода, огонь и воздух – это тоже какой-нибудь твой семантический квадрат?
– Их придумали греки.
– Как четыре типа темперамента?
– Да. Гипотезу выдвинул Фалес, первый ученый.
– Но ты же мне говорил, что ученые были всегда. Еще со времен, когда мы жили в саваннах.
– Да, это правда.
– А греки – при всем уважении к ним, – это, несомненно, были великие умы, но являлись лишь частью непрерывного множества ученых. И с тех пор было проделано много работы.
– Да, знаю.
– Ага. И какая-то часть этой более поздней работы могла принести пользу и тебе в этой твоей концептуальной схеме. В составлении для нас карты мира. И ты мог получить новые представления о разных вещах, и это помогало тебе решать проблемы, даже вроде той, что сейчас у Майи. Потому что элементов на самом деле не четыре. Их сто двадцать или около того. И типов темперамента, может быть, тоже не четыре. Может, тоже сто двадцать, а? И природа этих элементов… или вещей со времен греков стала странной. Ты же знаешь, что субатомные частицы имеют спины, которые могут быть только кратными половине. И знаешь, как объект в нашем мире оборачивается на триста шестьдесят градусов и возвращается в исходное положение. Так вот, частица с полуцелым спином, например протон или нейтрон, должна совершить оборот на семьсот двадцать градусов, чтобы вернуться в исходное положение.
– Почему это?
– Она должна обернуться дважды относительно обычных объектов и только тогда примет начальное состояние.
– Да ты шутишь.
– Нет-нет, это было известно еще столетия назад. Просто у частиц с полуцелым спином другая геометрия пространства. Они живут в другом мире.
– И…
– Ну, не знаю. Но мне кажется, это наводит на мысли. То есть я хочу сказать, если ты попробуешь применить модели физики в качестве аналогии к психическим состояниям и бросить их вместе, как ты обычно делаешь, то тебе, наверное, стоит подумать о каких-нибудь более новых моделях. Представь, что Майя – это протон, что у нее полуцелый спин и она живет в мире, вдвое большем нашего.
– А-а.
– И тогда все примет еще более странный оборот. В нашем мире десять измерений, Мишель. Три – макрокосмос, который мы можем воспринимать, одно – время, еще шесть – микроизмерения. Компактифицированные вокруг фундаментальных частиц таким образом, что мы можем описать их математически, но не можем вообразить. Витки и топологии. Другие геометрии, невидимые, но реальные, на предельном уровне пространства-времени. Ты подумай. Это может привести тебя к совершенно новым системам взглядов. К новому расширению ума.
– Меня не заботит мой ум. Я беспокоюсь только за Майю.
– Да, знаю.
Они смотрели сверху вниз на подсвеченную звездами воду. Над ними выгибался купол звезд, и в этой тишине их окутывал легкий бриз, а внизу бормотало море. Мир казался огромным, свободным и необузданным, темным и загадочным.
Вскоре они повернули и двинулись обратно по тропе.
– Один раз я ехал из Да Винчи в Шеффилд, но что-то случилось с дорогой, и мы на некоторое время остановились в Андерхилле. Я вышел и прогулялся по старому трейлерному парку. И начал кое-что вспоминать. Просто осматривался и вспоминал, хотя и не прикладывал особых усилий. Но память возвращалась сама собой.
– Это распространенный феномен.
– Да, я так и понял. Но я подумал, не поможет ли Майе что-то в этом роде. Не обязательно именно Андерхилл, но другие места, где она была счастлива. Где вы вдвоем были счастливы. Вы сейчас живете в Сабиси, но почему бы вам не вернуться, например, в Одессу?
– Она не хочет.
– Может, она ошибается. Почему бы не попытаться снова пожить в Одессе и время от времени посещать Андерхилл, Шеффилд или Каир? Может, даже Никосию. И города у южного полюса, Дорсу Бревиа. Понырять в Берроузе. Проехаться поездом по бассейну Эллада. Сделать все, что может сшить ее личности вместе, увидеть места, где все начиналось. Где мы сформировались, к добру или к худу, где жили на заре этого мира. Возможно, ей это необходимо, даже если она об этом не знает.
– Хм.
Пройдя рука об руку по темной тропе сквозь заросли орляка, они вернулись в кратер.
– Спасибо тебе, Сакс. Спасибо.
Вода в бухте Исиды имела цвет то ли кровоподтека, то ли лепестка ломоноса и искрилась солнечным светом, который отражался на волнах у самых их гребней. Зыбь шла с севера, и катер качался и рыскал, идя на северо-восток из гавани кратера Дю Мартерея. Был яркий весенний день, Ls=51°, 79-го М-года, 2181-го н. э.
Майя сидела на верхней палубе, упиваясь морским воздухом и голубым солнечным светом. Находиться вот так посреди воды, вдали от тумана и старых судов на берегу, было удовольствием. Как чудесно было и то, что море нельзя ни приручить, ни как-либо изменить. И то, когда берег исчезал из виду и вокруг оказывалась сплошная голубизна, всегда одинаковая, несмотря ни на что. Она могла бы плавать так бесконечно, изо дня в день, и каждое покачивание на волнах отдавалось в ней таким ощущением, словно она каталась на русских горках.
Но на самом деле они плыли с определенной целью. Гребни волн впереди разбивались о широкую полосу, а позади Майи командир корабля повернул штурвал на одну или две ручки и немного сбавил обороты. Белая вода оказалась вершиной Двухэтажного холма, которая теперь представляла собой риф, отмеченный черным буем, лязгавшим с глубоким звуком: «Бом-бом, бом-бом, бом-бом».
Заякоренные буи были расставлены по всему периметру этого большого церковного колокола. Командир пришвартовал судно к ближайшему из них. Других лодок поблизости не было видно – казалось, они остались одни в этом мире. Мишель поднялся на палубу и встал рядом с ней, положив руку ей на плечо. Матрос в носовой части, вытянув крюк, зацепился за буй и набросил на него швартовый трос. Командир выключил двигатель, и корабль отнесло назад на длину троса. С громким шлепком и всплеском белых брызг его окатила волна. Они бросили якорь над самым Берроузом.
Спустившись в каюту, Майя сняла одежду и натянула гибкий оранжевый гидрокостюм – с капюшоном, ботинками, баллоном, скафандром и, наконец, перчатками. Она научилась нырять только ради этого, и все здесь было для нее внове – кроме ощущения пребывания под водой, которое напоминало состояние невесомости в космосе. Поэтому, едва перемахнув за борт и оказавшись в воде, она испытала знакомое чувство. Погрузилась, затянутая вниз тяжелым поясом, осознавая окруживший ее холод, но не ощущая его по-настоящему. Задышала под водой – это было непривычно, но у нее получалось. Вниз, во мрак. Она направилась на глубину, подальше от солнечного света.
Глубже и глубже. Мимо верхнего края Двухэтажного холма, мимо его посеребренных или медных окон, стоящих рядами, как минеральные тиснения или зеркала одностороннего видения для наблюдателей из другого измерения. Но очень скоро мрак сгустился еще сильнее, и она снова, будто во сне, продолжила снижение. Мишель вместе с парой остальных следовали за ней, но было так темно, что она их не видела. Затем мимо них ко дну опустился автоматизированный трал в форме фундаментной рамы. Его мощные фонари прорезали плавные прозрачные конусы, такие длинные, что превращались в один расплывчатый цилиндр, качающийся в разные стороны вместе с опускающимся тралом. Он попадал то на металлические окна столовой горы, то на черный перегной на крышах старого Нидердорфа. Где-то там внизу тянулся канал Нидердорф… а там, в блеске белых зубов – колонны Барейса, непроницаемо белые под своим алмазным покрытием, примерно наполовину скрытые в черном песке и перегное. Она вытянулась и несколько раз взмахнула ластами, чтобы остановить снижение, после чего нажала на кнопку, выпустив сжатый воздух в грузовой пояс, чтобы принять устойчивое положение. А потом она, словно призрак, стала плыть над каналом. Да, это походило на сон Скруджа, в котором трал играл роль некоего машинного Святочного духа Прошлых лет, освещавшего затопленный мир потерянного времени, город, который она когда-то так любила. Вдруг ее словно пронзили стрелы боли – это случилось внезапно, потому что в последнее время она почти ничего не чувствовала. Было слишком странно, слишком трудно было понять и поверить, что это Берроуз, ее Берроуз, превратившийся теперь в Атлантиду на дне Марсианского моря.
Встревоженная своей бесчувственностью, она с силой оттолкнулась и поплыла по Парк-Каналу, над солеными колоннами, дальше на запад. Слева неясно вырисовывалась гора Хант, где Мишель, скрываясь, жил над танцевальной студией, а за ней – черный восходящий склон бульвара Большого Уступа. Впереди лежал парк Принцесс, где во время второй революции она вышла на сцену и произнесла речь перед огромной толпой, которая тогда стояла прямо там, где она проплывала сейчас. А чуть дальше было место, откуда выступали они с Ниргалом. Теперь там располагалось темное дно бухты. И все это происходило так давно, целую жизнь назад… Они прорезали купол и покинули город, затопили его и ни разу не обернулись назад. Да, Мишель, несомненно, прав: это погружение давало идеальную картину темных процессов памяти и могло помочь ей, но все же… Майя цепенела и терзалась сомнениями. Конечно, город был затоплен. Но он был. Можно было в любой момент заново отстроить дайку, выкачать воду из этой части залива – и город снова окажется на месте, промокший и исходящий паром при солнечном свете, надежно огороженный в польдере, как некоторые города в Нидерландах. Можно было отмыть заиленные улицы, посадить траву и деревья, вычистить внутренность столовых гор, дома и магазины вдоль Нидердорфа и вверх по широким бульварам… оттереть окна – и все станет, как было: Берроуз вновь засияет на поверхности. Это было осуществимо и даже имело смысл – почти, – если учесть, какой был масштаб раскопок девяти столовых гор и что в заливе Исиды не было других достойных гаваней. Пожалуй, никто никогда этого не сделает. Пусть это и реально. А значит, это вовсе не было похоже на прошлое.
Онемевшая и все сильнее замерзающая, Майя добавила воздуха в грузовой пояс, развернулась и поплыла обратно по Парк-Каналу, навстречу светящемуся тралу. Снова увидела ряд соленых колонн, и что-то в них привлекло ее внимание. Она направилась к ним, подплыла прямо к черному песку, побеспокоив зыбкую поверхность, взмахнув над ней ластами. Ряды колонн Барейса тянулись вдоль берегов старого канала и выглядели еще более ветхими, чем когда-либо, – теперь их симметричность нарушало то, что они оказались наполовину погребены. Она вспомнила, как любила гулять по парку во второй половине дня, к западу, навстречу солнцу, и обратно, чувствуя струящийся мимо свет. Это было красивое место. И если оказаться внизу среди огромных столовых гор, казалось, будто находишься в гигантском городе с множеством кафедральных соборов.
А за колоннами начинался ряд зданий, которые теперь были оплетены бурыми водорослями. Из их крыш в темноту уходили длинные стебли, а широкие листья мягко колыхались при медленном течении. Перед крайним зданием когда-то находилось уличное кафе, отчасти закрытое трельяжем, по которому вилась глициния. Последняя соленая колонна служила для Майи как указатель, и она точно знала, где находилась.
После некоторых усилий она оказалась в вертикальном положении, и прошлое вернулось к ней. Фрэнк накричал на нее и сбежал – как обычно, без всякой на то причины. Она оделась и пошла за ним, нашла его склонившимся над чашкой кофе. Да. Там они и устроили перебранку, где она обвинила его в том, что он не медлил с отъездом в Шеффилд, и стукнула по столу чашкой – у той отбилась ручка, и она скатилась на землю. Фрэнк встал, и они ушли, не переставая спорить. А потом вернулись в Шеффилд. Но нет, нет, все было не так. Да, они ругались, но потом помирились. Фрэнк перегнулся через стол и взял ее за руку, и у нее словно камень с души свалился – она ощутила миг благодати, почувствовала, что любит и что любят ее.
Две версии – но как было на самом деле?
Вспомнить не получалось. Точно она не знала. У них с Фрэнком случалось столько ссор, столько примирений – могло быть и то, и другое. И невозможно ни отследить историю, ни вспомнить, что и когда происходило. У нее в голове все перемешалось, превратившись в смутные впечатления, отдельные моменты. Прошлое бесследно исчезало. Слабые шумы, будто зверь, страдающий от боли, – они исходили из ее собственного горла. Хныканья, всхлипывания. Бесчувственность и всхлипывания одновременно – какой абсурд! Что бы ни случилось тогда, она хотела вернуть то время.
– Ух!
Она не могла произнести его имя. Ей было больно, будто в сердце вонзили иглу. Ах, это же было настоящее чувство! Отрицать это было нельзя – она задыхалась от этой боли. Никто не мог этого отрицать.
Она медленно покачала ластами, оттолкнулась от песка, поднялась выше крыш с их бурыми водорослями. Что бы они сделали тогда, сидя в кафе в дурном настроении, если бы знали, что спустя сто двадцать лет она будет проплывать в этом месте, а Фрэнк будет уже давно мертв?
Конец видения. Дезориентация, переход из одной реальности в другую. Когда она продолжила плыть в темной воде, к ней снова вернулась бесчувственность. Но при этом оставалась и боль внутри – словно от укола булавкой, изолированная и настойчивая. Нужно было ухватиться за нее, ухватиться за любое чувство, которое удавалось вспомнить в этой черной массе. Что угодно, лишь бы не бесчувственность – всхлипывать от боли было блаженством в сравнении с ней.
Итак, Мишель снова оказался прав. Старый алхимик! Она осмотрелась, пытаясь его найти. Он где-то плавал сам по себе. Прошло уже порядочно времени, и остальные собирались в конусе света перед тралом, как тропическая рыба в темном прохладном водоеме, привлеченная теплом. Смутная, вялая невесомость. Она подумала о Джоне, как он парил голый на фоне черного космоса и кристальных звезд. Ах, сколько в этом было чувств! За раз можно было вынести лишь один осколок прошлого – этот затопленный город. Но она занималась любовью с Джоном и здесь, в общежитии в первые годы… с Джоном, Фрэнком, с тем инженером, чье имя ей редко удавалось вспомнить, и наверняка другими, забытыми или почти забытыми, – чтобы их вспомнить, ей нужно хорошенько постараться. Изолировать их всех, все эти драгоценные уколы чувств, которые оставались с ней навсегда, пока их не разлучала смерть. Вверх, вверх, вверх, находя путь между ярких тропических рыбин с руками и ногами, назад в дневной свет голубого солнца. О боже, да! Давление в ушах, головокружение от азотного наркоза, восхищение человечеством, тем, как долго оно жило, как держалось все это время.
Мишель плыл к поверхности, следуя за ней. Она подождала его, а потом крепко обняла – о, как она любила ощущать твердость чьего-то тела – доказательство реальности происходящего. Она сжимала его, думая: «Спасибо тебе, Мишель, ты мой чародей, и спасибо тебе, Марс, за все, что хранится в нас, пусть затопленное, пусть изолированное, но живет». Вверх, к прекрасному солнцу, к ветру, стянуть с себя костюм холодными неловкими пальцами, выйти из него, словно куколка, не обращая внимания на мужчин, охотно подчиняющихся силе женской наготы, а потом вдруг почувствовать свою обнаженность и позволить им смотреть на нее в лучах солнца. Далее секс во второй половине дня, глубокое дыхание на ветру, мурашки по телу от осознания реальности.
– Я все та же Майя, – повторяла она Мишелю, стуча зубами. Она обхватила свои груди и вытерлась полотенцем, наслаждаясь ощущением махровой ткани на влажной коже. Затем оделась, вскрикнула от холодного ветра. Лицо Мишеля излучало счастье, божественно сияло, точно на нем была маска радости, образ старого Диониса. Он громко смеялся, радуясь успеху своего плана, восторгу своей подруги и спутницы.
– Что ты видела?
– Кафе… парк… канал… А ты?
– Гору Хант… танцевальную студию… бульвар Тота… Столовую гору.
В каюте у них было ведерко со льдом и бутылкой шампанского. Он открыл его, выстрелив пробкой. Ее унесло ветром в море, где она мягко опустилась на поверхность и поплыла на голубых волнах.
Но Майя отказалась углубляться в подробности. Не захотела рассказывать больше о своем погружении. Другие рассказывали, а потом, когда наступил ее черед, все стали смотреть на нее, как хищники, жадные до ее ощущений. А она пила шампанское, тихо сидя на верхней палубе и наблюдая за волнами. Те выглядели чудно́ для Марса, крупные и грязные, внушительные. Она посмотрела на Мишеля, дав ему понять, что с ней все нормально, что он поступил правильно, позволив ей нырнуть. И больше не сказала ничего. Пусть хищники кормятся собственными впечатлениями.
Судно возвратилось в гавань Дю Мартерей, которая представляла собой небольшой бассейн в форме полумесяца, изгибающийся у подножия кратера Дю Мартерея, застроенного зданиями и заросшего зелеными насаждениями, тянущимися вверх до самого края.
Они высадились на берег и пошли в город, отужинали в столовой на краю кратера, наблюдая за закатом над водами Исиды. По уступу со свистом спускался вечерний ветер, который поддерживал высокие волны и срывал пены с их гребней, образуя белые струйки, разлетающиеся быстрыми радугами. Майя сидела рядом с Мишелем, держа руку у него то на бедре, то на плече.
– Вот удивительно, – сказал кто-то, – что ряд соляных колонн все еще блестит там, внизу.
– А окна в столовых горах! Видели, одно было разбито? Я хотел залезть и посмотреть, но побоялся.
Майя скривилась, сосредоточившись на происходящем вокруг. Сидящие напротив говорили с Мишелем о новом учреждении, касающемся первой сотни и прочих ранних колонистов, – чего-то наподобие музея, хранилища изустных историй, комитетов по защите первых строений от сноса и прочего, а также программ оказания помощи сверхстарым ранним поселенцам. Естественно, эти искренние молодые люди – а такими искренними могли быть только молодые – хотели получить какое-то содействие от Мишеля и найти и составить список всех членов первой сотни, кто остался в живых. Сейчас таких двадцать три, сказали они. Мишель говорил с ними очень учтиво и, казалось, действительно заинтересовался проектом.
Майе идея решительно не нравилась. Нырнуть к обломкам из прошлого, ощутить их соль, неприятную, но бодрящую – это еще ладно. Это приемлемо и даже полезно. Но зацикливаться на прошлом – просто отвратительно. Она бы сейчас с удовольствием вышвырнула этих искренних ребят за борт. Мишель тем временем согласился опросить оставшихся из первой сотни, помочь запустить проект. Майя встала и подошла к борту, наклонилась над ним. Там в темнеющей воде, на гребне каждой волны по-прежнему светились струйки водяной пыли.
К ней подошла девушка и тоже склонилась над бортом.
– Меня зовут Вендана, – сказала она глядящей на волны Майе. – Я в этом году местный представитель партии Зеленых.
У нее был красивый профиль, ровный и острый, как у индусов, желто-коричневая кожа, черные брови, продолговатый нос, маленький рот. Умные, проницательные карие глаза. Удивительно, как много о человеке говорит его лицо. Майе начинало казаться, что она узнала о ней все самое важное уже с первого взгляда. А учитывая, как часто слова молодых уроженцев теперь сбивали ее с толку, это было полезным и даже необходимым умением.
Впрочем, Зеленых она понимала – или думала, что понимала. Теперь она считала их название архаическим политическим понятием – ведь Марс уже давно был зеленым, равно как и голубым.
– Что тебе нужно?
– Джеки Бун и группа кандидатов от партии «Свободный Марс», которые баллотируются в нашем регионе, проводят кампанию к наступающим выборам. Если Джеки останется у руля и переизберется в исполнительный совет, она продолжит свою работу по запрету иммиграции с Земли. Это ее идея, и она упорно ее продвигает. И аргументирует тем, что земную иммиграцию можно перенаправить в любой другой регион Солнечной системы. Это неправда, но ее позицию поддерживают в определенных кругах. Землянам это, конечно, не нравится. Если «Свободный Марс» крупно выиграет с этой изоляционистской программой, то Земля, как нам кажется, очень неприятно на это ответит. Они и так еле справляются со своими проблемами, и наша маленькая помощь им просто необходима. А если Джеки добьется своего, они объявят это нарушением договора, который вы когда-то заключили. Они даже могут начать из-за этого войну.
Майя кивнула. Она уже многие годы, несмотря на заверения Мишеля, ощущала растущее напряжение между Землей и Марсом. Она знала, что это случится, она это предвидела.
– Джеки поддерживают многие группы, а «Свободный Марс» составляет сверхбольшинство в мировом правительстве уже много лет. Они постоянно входят в состав природоохранных судов. Суды поддержат любой ее запрет на иммиграцию. Мы хотим, чтобы ваш договор был соблюден или даже чтобы были немного увеличены иммиграционные квоты. Надо помочь Земле по максимуму. Но остановить Джеки будет непросто. Сказать по правде, я даже не знаю точно, как это сделать. Поэтому и хотела спросить у вас.
– Как ее остановить? – удивилась Майя.
– Да. Или вообще – попросить вас помочь. Я подумала, это будет интересно вам лично.
И она повернула голову, чтобы с понимающей улыбкой взглянуть на Майю.
В этой ироничной улыбке было что-то смутно знакомое. Пусть в ее полных губах чувствовалось что-то неприятное, но это было гораздо предпочтительнее того энтузиазма с выпученными глазами, который светился на лицах молодых историков, донимавших Мишеля. И Майе, по мере раздумий, приглашение казалось все более и более привлекательным: современная политика, напрямую связанная с настоящим. Обыденность настоящего обычно ее отталкивала, но сейчас она посчитала, что в конкретный момент политика всегда выглядела мелочной и глупой и лишь потом проявлялась ее разумность и значение для истории. Этот случай, как сказала девушка, тоже мог оказаться важным и мог снова вовлечь ее в гущу событий. И конечно – хоть она и старалась об этом не думать, – все, что могло помешать Джеки, приносило ей особое удовлетворение.
– Уж не сомневайся, – ответила Майя и спустилась с балкона подальше от остальных беседующих. Высокая ироничная марсианка последовала за ней.
Мишель всегда хотел совершить путешествие по Гранд-каналу и недавно уговорил Майю переехать из Сабиси в Одессу, чтобы излечить ее умственные недуги. Там они даже могли поселиться в том же комплексе «Праксиса», где жили перед второй революцией. Это было единственное место, которое Майя считала домом, кроме Андерхилла, возвращаться куда отказывалась наотрез. А Мишель считал, что подобное возвращение могло ей помочь. Итак, Одесса. Майя согласилась – ей по большому счету было без разницы. И против желания Мишеля отправиться в путешествие по Гранд-каналу тоже ничего не имела. Ей все равно. Она в последнее время не была ни в чем уверена, почти не имела точек зрения и предпочтений – в этом и заключалась ее проблема.
Вендана рассказывала, что Джеки в рамках своей кампании собиралась проплыть по Гранд-каналу с севера на юг на большом прогулочном судне, превращенном в избирательный штаб. Они уже прибыли в северный конец канала и готовились к выходу в Нэрроуз.
Затем Майя вернулась на террасу, к Мишелю, а когда историки их оставили, сказала:
– Поедем в Одессу, через Гранд-канал, как ты хотел.
Мишель был в восторге. От этой новости с его лица даже исчезла некоторая угрюмость, которая появилась после погружения в Берроуз, – он был рад тому, какое действие это произвело на Майю, но вскоре снова погрузился в глубокую грусть. Он стал непривычно молчаливым, несколько угнетенным, словно его потрясло то, как много великая затопленная столица значила в его жизни. Майя не вполне его понимала. А сейчас, увидев, как на нее повлиял этот опыт, и внезапно ощутив перспективу оказаться в Гранд-канале – это название казалось Майе одной большой шуткой, – Мишель рассмеялся. И это ей уже было приятно видеть. Мишель считал, что Майя в последнее время нуждалась в помощи, но она точно знала, что трудности сейчас были у него.
Через несколько дней они поднялись по трапу на палубу длинного и узкого парусника, чья единственная мачта и парус составляли один элемент из матово-белого материала, формой напоминая птичье крыло. Это был своего рода пассажирский паром, который все время плыл по Северному морю на восток, совершая бесконечное кругосветное путешествие. Когда все оказались на борту, они вышли из небольшой гавани Дю Мартерея и, не теряя из виду землю, повернули на восток. Парус, как выяснилось, был гибким и двигался в разных направлениях. Изгибаясь, как птичье крыло, он изменялся и каждую секунду принимал новое положение, управляемый искином, постоянно реагирующим на порывы ветра.
Ближе к вечеру второго дня путешествия к Нэрроуз на горизонте перед ними появился Элизийский массив – отсвечивающая розовым масса на фоне гиацинтового неба. Тогда же возникло и побережье материка на юге, которое словно вытянулось специально, чтобы увидеть массив по ту сторону бухты. Утесы перемежались с болотистыми участками, а за ними возвышалась еще бо́льшая скала. Ее горизонтальные красные слои рассекались черными и кремовыми полосами, а уступы были покрыты криткумом и травой и посыпаны белым гуано. Волны ударялись об эти утесы и отступали назад, после чего быстро смешивались с надвигающимися водами. Коротко говоря, плыть здесь было восхитительно: плавно скользя по волнам, подгоняемые ветром, несущимся от берега, особенно во второй половине дня, вместе с водяной пылью, придающей воздуху соленый вкус – Северное море теперь становилось соленым, – и играющим у нее в волосах, белый V-образный кильватерный след, блестящий посреди темно-синей воды… Восхитительные дни. Майе хотелось оставаться на борту, плавать вокруг света снова и снова, никогда не сходить на берег и никогда не меняться… Она слышала, что появились люди, которые так и жили – в гигантских кораблях-теплицах. Так, полностью себя обеспечивая, они плавали по просторам океана в своей собственной талассократии.
Но впереди начинался Нэрроуз, сужающийся пролив. Путешествие из Дю Мартерея почти подошло к концу. Почему хорошее всегда так быстро заканчивалось? Мгновение за мгновением, день за днем – такие насыщенные и прекрасные, – и вдруг они уходили навсегда, задолго до того, как удавалось должным образом в них погрузиться, как удавалось прожить их по-настоящему. Плавать всю жизнь, оглядываясь на кильватер, открытое море, проносящийся ветер…
Солнце опустилось, свет косо падал на скалы, поднимался по всем их неровностям, выступам, полостям, уходящим прямо в море утесам, красным камням в голубой воде. И все было не тронуто человеком – не считая того, что само море создано искусственным путем. Внезапные осколки великолепия разлились по ее телу. Но солнце пропадало из виду, и зазор между скалами впереди знаменовал первую большую гавань Нэрроуза – Родос, где они собирались встать в док на ночь. Там они намеревались в длинных сумерках отужинать в прибрежном кафе, после чего такого славного плавания под парусом уже не повторится. В предвкушении вечера она чувствовала странную ностальгию по только что ушедшему моменту.
– Вот я снова жива, – сказала она себе, удивившись тому, что это вообще произошло.
Мишель и его хитрости… Стоило бы ожидать, что к этому времени она станет невосприимчива ко всей его психологической-алхимической абракадабре. Ей пришлось столько всего вынести! Но ладно, уж лучше это, чем бесчувственность. В этом тонком чувстве присутствовало некоторое болезненное великолепие, и она могла его вынести и даже находила в нем какое-то удовольствие, иногда… И совершенная насыщенность предвечерних оттенков заливала все вокруг. Гавань Родоса в этом ностальгическом свете выглядела изумительно: большой маяк на западном мысе, пара полязгивающих буев, красный и зеленый, по левому и по правому борту. Затем вошли в спокойную темную воду, встали на якорь, спустились в шлюпки при слабеющем освещении, проплыли между рядами экзотических кораблей, среди которых не было и двух одинаковых – проектирование судов сейчас переживало период быстрого внедрения инноваций, с созданием новых материалов не осталось практически ничего невозможного, и все старые разработки переосмысливались, существенно изменялись и возвращались к прежнему виду. Им попадался то клипер, то шхуна, то что-то похожее на аутригер… Когда они, наконец, причалили в шумном деревянном доке, уже наступили сумерки.
В такое время дня все прибрежные города походили друг на друга. Горная дорога, узкий парк, ряды деревьев, дряхлые гостиницы и столовые за причалами… Они заселились в одну из таких гостиниц, а потом вышли прогуляться по доку, поели под навесом, как Майя и планировала. Она расслабилась на стуле, который твердо стоял на земле, наблюдая за светлой заводью перед вязкой черной гаванью, слушая, как Мишель разговаривает с людьми, сидящими за соседним столиком, пробуя оливковое масло и хлеб, сыры и узо. Удивительно, сколько боли иногда причиняла красота и тем более счастье. Но ей все равно хотелось сидеть так на стуле, неуклюже развалившись после еды, хоть до самой бесконечности.
Но, конечно, это желание не исполнилось. Они поднялись в спальню, держась за руки – она вцепилась в Мишеля со всей силы. А на следующий день они перенесли свой багаж через весь городок ко внутренней гавани, чуть севернее первого шлюза канала, и подняли на большое судно, длинное и роскошное, как баржа, превратившаяся в круизный корабль. Они вдвоем оказались в числе примерно двухсот пассажиров, включая Вендану и компанию ее друзей. А впереди, опережая их на несколько шлюзов, на частном судне на юг продвигалась Джеки и кучка ее приспешников. Некоторые ночи им предстоит провести в доках одних и тех же прибрежных городов.
– Любопытно, – растягивая слова, проговорила Майя, отчего Мишель и обрадовался, и насторожился одновременно.
Русло Гранд-канала было вырыто с помощью воздушных линз, которые собирали солнечный свет, поступавший от солетты. Линзы летали очень высоко в атмосфере, выше тепловых облаков газов, которые выбрасывались тающими и испаряющимися породами, – летали ровными рядами и выжигали на земле следы, не имеющие ничего общего с существующими топографическими деталями. Майя смутно припомнила, как смотрела видео, как это происходило, но его снимали с большого расстояния, поэтому реальный размер канала оказался для нее неожиданностью. Их длинный и низкий корабль вошел в первый шлюз, слегка поднялся на воде, вышел из открытых ворот – и они очутились внутри, в рябящемся от ветра водоеме в два километра шириной, который тянулся ровной линией строго на юго-запад к морю Эллады на две тысячи километров. Огромное множество больших и малых судов сновали в обоих направлениях. Они держались правой стороны, причем более медленные, следуя стандартному морскому правилу, шли ближе к берегу. Почти все судна были моторными, хотя на многих стояли мачты в шхунном вооружении, а некоторые из самых малых лодок шли под треугольными парусами без двигателей – Мишель, указав на них, назвал их «дау». Вероятно, дизайн был придуман арабами.
Где-то впереди шел агитационный корабль Джеки. Майя старалась об этом не думать, сосредоточившись на самом канале и переводя взгляд с одного берега на другой. Смотря на них, становилось заметно, что канал не был вырыт, а образовался испарением породы: температура под концентрированным светом воздушных линз достигала пяти тысяч градусов Кельвина, и камень попросту расщеплялся на атомы и выстреливал в воздух. После охлаждения некоторые материалы падали обратно на берега и в сам канал, заливая его, как будто лавой. Таким образом, у канала образовалось плоское дно и берега в сто метров высотой. Ширина его составляла не менее километра – закругленные черные шлаковые валы, почти лишенные растительности и примерно такие же голые и черные, как в то время, когда они охладились, сорок М-лет назад, – только изредка в засыпанных песком трещинах процветала зелень. Вода у берегов тоже была черной, чуть темнее неба, что явно говорило о темном дне канала. И повсюду – вьющиеся зеленые полосы.
Обсидиановые берега, прямой разрез между ними, заполненный темной водой; суда всех размеров, но в основном длинных и узких форм, чтобы свободнее было проходить через шлюзы; прибрежные города через каждые несколько часов, врезанные в откосы и поднимающиеся на высоту валов. Большинству этих городов названия достались от классических каналов по картам Лоуэлла и Антониади, которые, в свою очередь, были взяты опьяненными своими идеями астрономами у каналов и рек античности. Первые пройденные ими города находились почти на самом экваторе, ограниченные пальмовыми рощами, затем последовали деревянные доки с суетливыми береговыми районами и приятными жилыми комплексами с террасами, а за ними – скопление городов на береговом валу. Линзы, вырезая прямую линию, конечно, устроили канал, который поднимался вверх по Великому Уступу на высокую Гесперийскую равнину, то есть на четырехкилометровую высоту, и поэтому через каждые несколько километров путь по нему преграждали шлюзы. Как и все современные дамбы, они представляли собой прозрачные стены, которые казались тонкими, будто целлофановые, но при этом были в несколько раз крепче, чем было необходимо для сдерживания воды, – по крайней мере, так говорили люди. Майе эта прозрачность не нравилась, она считала такие дамбы проявлением капризного высокомерия, за которое однажды обязательно придется поплатиться, когда какая-нибудь тонкая стена лопнет, устроив хаос, и люди вернутся к старым добрым цементу и углеродным нитям.
Но пока, приближаясь к шлюзу, казалось, что они плывут к стене воды, как по Красному морю, прегражденному для израильтян. Рыбы проносились над головой туда и обратно, как примитивные птицы, и это было сюрреалистическое зрелище, словно какая-нибудь картина Эшера. Потом они вошли в шлюз, будто оказавшись в могиле со стеклянными стенами, в окружении этих птицерыб, и далее вверх, вверх – и наконец выплыли на новый уровень великой реки, прорезающей черную землю.
– Невероятно, – говорила Майя, выходя из первого шлюза, а потом и из второго и третьего. Мишель лишь усмехался и кивал в ответ.
Четвертую ночь своего путешествия они проводили в доке небольшого городка под названием Наарсар. Причем напротив находился городок поменьше, Наармалха. Названия, судя по всему, были месопотамскими. Из расположенного террасами ресторана на вершине вала открывался далекий вид в обе стороны канала и на окружающие его бесплодные горы. Впереди было видно, как канал проходил сквозь край кратера Гейл, заполненного водой: теперь Гейл превратился в круглое расширение канала, отведенное под стоянку кораблей и склад багажа.
После ужина Майя вышла на террасу и всмотрелась сквозь чернильные сумерки в зазор в стене кратера. К ней подошли Вендана и несколько ее друзей.
– Как вам канал? – спросили они.
– Очень любопытное место, – отрывисто проговорила Майя. Ей не нравилось, когда ей задают вопросы, не нравилось быть в центре внимания – от этого она ощущала себя музейным экспонатом. Но они не собирались расспрашивать ее, и она лишь пристально смотрела на них. Наконец один из молодых парней не выдержал и заговорил со стоящей рядом с ней женщиной. У него было на редкость красивое лицо с аккуратными чертами под копной черных волос, сладкая улыбка, естественный смех – и все это вместе производило чарующее впечатление. Он был молод, но не настолько, чтобы казаться несформировавшимся. Вроде бы он походил на индуса – смуглая кожа, белые ровные зубы. Мускулистый, стройный, как гончая, ростом намного выше Майи, но не из тех молодых гигантов – он был еще человеческого роста, статный и грациозный. Сексуальный.
Когда группа стала вести себя расслабленнее, в формате коктейльных вечеринок – слоняясь, болтая и глядя на канал и доки, – Майя начала медленно двигаться в сторону парня. Наконец, у нее возникла возможность заговорить с ним, а он отреагировал вовсе не так, как если бы к нему приблизилась Елена Троянская или Люси вида «человек умелый». Такие губы она бы с удовольствием поцеловала. Об этом, конечно, не могло быть и речи, да ей не особо и хотелось. Но ей нравилось об этом думать, это будило в ней некоторые мысли. В лицах заключалось столько силы…
Его звали Атос. Он был родом из каньона Ликус, что к западу от Родоса. Сансей из семьи морехода. Дедушки и бабушки его были греками и индусами. Он участвовал в учреждении новой партии Зеленых и был убежден, что помогать Земле с ее популяционным всплеском – единственный путь избежать попадания в водоворот. Это был спорный метод, из разряда «хвост вертит собакой», как он сам признал с легкой и красивой улыбкой. Сейчас он баллотировался в представители городов бухты Непентес и помогал координировать кампанию Зеленых в целом.
– Так мы пересечемся со «Свободным Марсом» через несколько дней? – спросила Майя у Венданы чуть позже.
– Да. Мы собираемся устроить с ними дебаты в Гейле.
Потом, когда они поднимались по трапу на свой корабль, молодые, отвернувшись от нее, собрались на баке, где продолжили вечеринку. О Майе забыли – она не была частью всего этого. Посмотрев им вслед, она присоединилась к Мишелю в их маленькой каюте ближе к корме. Она кипела и ничего не могла с этим поделать, хоть и испытала шок, когда это увидела: иногда она просто на дух не переносила молодежь.
– Я их ненавижу! – заявила она Мишелю.
Она ненавидела их только потому, что они были молоды. Она могла презирать их за их безрассудство, глупость, незрелость, ограниченность, и это все было правдой, но она также ненавидела их молодость – не физическое совершенство, а сам возраст и то, что у них еще все было впереди. Ведь не было ничего лучше, чем предвкушение. Иногда она просыпалась от счастливых снов, в которых смотрела на Марс с «Ареса», вскоре после того, как они выполнили аэродинамическое торможение и стабилизировались на орбите, готовясь к высадке. И пораженная внезапным переносом в настоящее, понимала, что это для нее было лучшим моментом из всех, это волнующее предвкушение при виде огромной планеты, где все казалось возможным. Это и была молодость.
– Подумай о них просто как о попутчиках, – посоветовал Мишель, как и во все предыдущие разы, когда Майя признавалась ему в этом чувстве. – Они будут молоды ровно столько же, сколько были мы: щелк – и все, да? А потом состарятся и умрут. Мы все через это проходим. Сотней лет больше, сотней меньше – без разницы. И среди всех людей, кто жил и когда-либо будет жить, эти – единственные, кто живет в ту же эпоху, что и мы. Мы живем с ними в одно и то же время, и поэтому мы современники. А наши современники – это единственные, кто может по-настоящему нас понять.
– Да-да, – согласилась Майя. – Но я все равно их ненавижу.
Воздушные линзы прожгли поверхность везде примерно на одинаковую глубину, поэтому, когда их лучи прошли над кратером Гейл, они прорезали широкую полосу поперек обода на северо-востоке и юго-западе. Но эти прорезы находились выше уровня русла в остальных участках канала, так что в ободе были вырыты более узкие проходы, а во внутренней площади – создано озеро, напоминавшее шарик бесконечного термометра канала. Система античной номенклатуры Лоуэлла здесь почему-то не использовалась, и у северо-восточного шлюза располагался городок под названием Бёрч-Тренчез, тогда как на юго-западе был город покрупнее – Бэнкс. Последний находился в зоне расплава и поднимался широкими изгибающимися уступами на сохранивший свой прежний облик край Гейла, откуда открывался вид на все внутреннее озеро. Это был безумный город, где экипажи и пассажиры спускали трапы, чтобы присоединиться к практически беспрерывным празднествам. Этой ночью гуляния были посвящены прибытию кампании «Свободный Марс». Просторная травянистая площадь, поместившаяся на широком уступе над озерным шлюзом, была набита людьми. Некоторые из них слушали речи, произносимые с плоской крыши, где была устроена сцена, другие, не обращая внимания на эту суматоху, что-то покупали, просто прогуливались, пили, сидели над шлюзом, где ели купленную в дымящихся палатках еду, танцевали, бродили по верхним районам города.
Все то время, что звучали речи, Майя простояла на террасе над сценой, откуда хорошо видела, как Джеки и другие высшие лица партии слонялись за кулисами, разговаривая между собой или слушая в ожидании своей очереди выступать. Среди них были и Антар, и Ариадна, и еще несколько человек, которых Майя видела в недавних новостных выпусках. Наблюдение издалека могло многое о них рассказать; так, Майя видела, что у них действовала та характерная для приматов иерархия доминирования, о которой столько рассказывал Джон. Двое-трое мужчин были закреплены за Джеки, как и – с другими обязанностями – несколько женщин. Один из мужчин, по имени Микка, состоял в мировом исполнительном совете и был лидером партии «Первые на Марсе». Это одна из старейших политических партий на планете, основанная для того, чтобы бороться за продление первого Марсианского договора, – Майя вспомнила, что тоже вроде бы в чем-то подобном участвовала. Сейчас политика на Марсе стала напоминать ситуацию в европейском парламенте, где множество мелких партий сосредотачивались вокруг нескольких центристских коалиций. В данном случае центром притяжения являлся «Свободный Марс». Красные, матриархи из Дорсы Бревиа и другие примыкающие то заполняли бреши, то откалывались. Все изменялось и так, и сяк, и создавались временные союзы, чтобы протолкнуть свои проекты. «Первые на Марсе» в этом множестве стали своего рода крылом Красных экотажников, которые оставались все такими же дикими, являлись опасной и беспринципной организацией, прибившейся к сверхбольшинству партии «Свободный Марс», не имея на то никаких идеологических причин, – вероятнее всего, они заключили какую-то сделку. Или же имело место что-то личное – судя по тому, как Микка бегал за Джеки, как смотрел на нее. Майя могла биться об заклад, что он был либо ее любовником или совсем недавним бывшим любовником. К тому же ходили какие-то слухи на этот счет.
Во всех их речах говорилось о прекрасном и чудесном Марсе и о том, как его могло сгубить перенаселение, если его не закрыть для иммиграции с Земли. И, судя по всему, эта точка зрения пользовалась большой поддержкой, так как речи сопровождались возгласами одобрения и аплодисментами. И это отношение толпы было явно лицемерным: большинство аплодирующих жило за счет туристов с Земли, да и сами они были либо иммигрантами, либо детьми иммигрантов, но все равно выражали одобрение. В этом заключалась немалая проблема: сейчас не стоило пренебрегать риском войны, игнорировать мощь Земли и ее первенство в становлении людской цивилизации. Не стоило бросать ей вызов вот так… Этим людям плевать на Землю, они ее просто не понимали. Такое пренебрежительное поведение толпы лишь придавало Джеки храбрости и привлекательности в ее борьбе за свободный Марс. Овации в ее честь оказались громкими и продолжительными; она многому научилась со времен неловких выступлений во вторую революцию и весьма преуспела. Весьма.
На сцену поднялись Зеленые, чтобы высказаться в поддержку открытого Марса. Они попытались предупредить об опасности замкнутой политики, но реакция, разумеется, была куда менее восторженной, чем после слов Джеки. Сказать по правде, их позиция выглядела трусоватой, а желание сделать Марс открытым казалось несколько наивным. Перед прибытием в Бэнкс Вендана предложила Майе тоже взять слово, но та отказалась и теперь лишь убедилась, что правильно сделала: она не завидовала выступавшим, которые высказывали свою непопулярную точку зрения уменьшающейся толпе.
После мероприятия Зеленые устроили небольшое обсуждение, и Майя довольно строго их раскритиковала.
– Такой некомпетентности я еще никогда не видела. Мы пытались их запугать, но на самом деле только сами выглядели запуганными. Кнут, конечно, необходим, но без пряника тоже нельзя. Вероятность войны – это кнут, но следовало рассказать им, почему продолжить принимать землян – это хорошо, – рассказать так, чтобы не выглядеть идиотами. Нужно было им напомнить, что у нас у всех есть земные корни, что мы сами навсегда останемся иммигрантами. И никогда не сможем забыть о Земле.
Они кивнули – и Атос, с задумчивым видом, вместе с ними. После этого Майя отвела Вендану в сторонку и расспросила о последних любовных связях Джеки. Как она и предполагала, ее недавним партнером оказался Микка, и, вероятно, он оставался им до сих пор. «Первые на Марсе», пожалуй, были еще более ярыми противниками иммиграции, чем «Свободный Марс». Майя кивнула: в ее голове начал вырисовываться план.
Когда обсуждение завершилось, Майя вышла прогуляться по городу вместе с Венданой, Атосом и остальными. Там они набрели на большую группу, которая играла с так называемым шеффилдским звучанием. Для Майи это был просто шум: двадцать разных барабанных ритмов звучали одновременно и исполнялись инструментами, которые изначально не задумывалось использовать ни как перкуссии, ни вообще для того, чтобы извлекать музыку. Но это ей подходило: под этот стук и грохот она могла ненавязчиво вести молодых Зеленых к Антару, которого заметила на дальней стороне танцевальной площадки. Когда они подошли к нему ближе, она воскликнула:
– Ой, здесь же Антар! Привет, Антар! А это ребята, с которыми я плыву. Мы идем прямо за вами, в Адовы Врата, а потом в Одессу. Как там идет кампания?
Антар был все таким же, со своей привычной королевской грациозностью. К нему трудно было испытывать неприязнь, даже зная, каким он был реакционером, как беспрекословно подчинялся арабским странам Земли. Сейчас он, должно быть, разрывал связи с теми старыми союзниками, что также стало частью антииммигрантской стратегии. Любопытно, как лидеры «Свободного Марса» додумались до того, чтобы бросить вызов силам Земли и в то же время попытаться взять под контроль все новые поселения во внешней части Солнечной системы? Они настолько высокомерны? Или, может быть, они чувствовали угрозу? Ведь «Свободный Марс» всегда был партией молодых уроженцев, и если бы неограниченный поток иммигрантов стал приносить миллионы новых иссеев, то статус партии оказался бы в опасности. Эти новые полчища со своей закостенелой фанатичностью – церкви и мечети, скрытые пистолеты, открытые распри… Это был весомый довод в пользу позиции партии, ведь за предыдущее десятилетие активной иммиграции новоприбывшие явно начали строить здесь новую Землю – такую же нелепую, как предыдущая. Джон сошел бы с ума, Фрэнк бы залился смехом. Аркадий сказал бы: «Я же вам говорил», – и предложил бы устроить новую революцию.
Но проблемы с Землей нужно решать более реалистичным путем: ее нельзя просто прогнать из мыслей и надеяться, что все сложится само собой. И сейчас перед Майей стоял Антар, грациозный и даже более того, и думал, что Майя может принести ему пользу. А поскольку он всюду следовал за Джеки, Майя совсем не удивилась, когда та вместе с остальными внезапно возникла рядом, и все тут же принялись здороваться. Майя кивнула Джеки – та ответила безукоризненной улыбкой. Майя обвела рукой своих новых товарищей, обстоятельно назвав каждого по имени. Дойдя до Атоса, Майя обратила внимание на то, как Джеки смотрит на него, а Атос, когда назвали его имя, также дружелюбно на нее взглянул. Майя быстро, но как бы между делом, начала расспрашивать Антара о Зейке и Назик, которые теперь, как выяснилось, жили на побережье бухты Ахерон. Обе их группы медленно двигались в сторону музыкантов и вскоре должны были полностью перемешаться, после чего станет слишком шумно, чтобы расслышать собеседника.
– Люблю это шеффилдское звучание, – сказала Майя Антару. – Поможешь мне пробраться на площадку?
Это была очевидная уловка: ей явно не требовалась помощь, чтобы пройти через толпу. Но Антар взял ее под руку и не заметил – или сделал вид, – как Джеки беседует с Атосом. Но Микка, такой высокий и сильный, вероятно, выходец из Скандинавии, казался слегка вспыльчивым и сейчас плелся вслед за группой с кислым выражением лица. Майя сложила губы бантиком, удовлетворенная тем, что ее замысел пока себя оправдывал. Если «Первые на Марсе» были бо́льшими изоляционистами, чем «Свободный Марс», то раздор между ними окажется еще полезнее.
Она танцевала с таким воодушевлением, какого не ощущала многие годы. Если сосредоточиться на бас-барабанах и прислушиваться только к их ритмам, то музыка напоминала что-то вроде биения возбужденного сердца. А раздававшийся поверх этой повторяющейся темы стук всяких деревянных чурбанов, кухонных принадлежностей и круглых камней казался не более чем урчанием в животе или проносящейся в голове мыслью. И в этом был некий смысл – не музыкальный смысл в ее понимании, но ритмический, в некотором роде. Она танцевала, потела, смотрела на шаркающего рядом Антара. Джеки и Атос исчезли. Микки тоже не было видно. Наверное, он был готов взорваться и всех их поубивать. Майя ухмыльнулась и закружилась в танце.
К ним подошел Мишель, и она, широко ему улыбнувшись, обняла его вспотевшей рукой. Он любил потные объятия и выглядел довольным, но любопытным:
– Я думал, ты не любишь такую музыку.
– Иногда люблю.
К юго-западу от Гейла канал возвышался все сильнее с каждым шлюзом, поднимаясь на Гесперийские высоты. А пересекая горы на востоке Тирренского массива, оставался на этом четырехкилометровом возвышении, которое теперь чаще называли пятью километрами над уровнем моря, так что в шлюзах там уже не было нужды. Они по несколько дней кряду шли в моторном режиме или под парусами, останавливаясь в одних прибрежных городках и проходя мимо других. Окс, Яксарт, Скамандр, Симоис, Ксанф, Стеропа, Полифем – они заходили в каждый из них, упорно следуя за кампанией «Свободного Марса» и заодно за большинством направлявшихся в Элладу барж и яхт. Однообразный пейзаж простирался в обе стороны до самого горизонта, хотя кое-где в регионе линзы прожгли не привычный базальтовый реголит, а что-то другое, отчего при испарении и выпадении этих новых пород береговые валы сложились несколько иначе, образовав собой блестящие полоски обсидиана или сидеромелана, мрамора или порфира, ярко-желтой серы, комковатых конгломератов и даже один протяженный участок стеклянных берегов, прозрачных по обе стороны канала. Этот промежуток, который так и назывался – Стеклянные Берега, разумеется, был широко развит. Прибрежные города соединялись мозаичными дорожками, бегущими в тени пальмовых деревьев, которые росли в гигантских керамических горшках. Вдоль этих троп располагались виллы, чей вид довершали травяные лужайки и изгороди. Города в Стеклянных Берегах были выбелены и сверкали пастельными ставнями, окнами и дверьми, голубыми черепичными крышами и большими неоновыми вывесками над синими навесами прибрежных ресторанов. Это был своего рода Марс мечты, канал, обыденный для древнего фантастического пейзажа, но от этого не менее прекрасный: на самом деле эта очевидность даже была одним из его достоинств. Дни, в которые они шли через этот район, оказались теплыми и безветренными, а поверхность канала – такой же гладкой и прозрачной, как его берега. Это был стеклянный мир. Майя сидела на верхней палубе на носу корабля под зеленым навесом и разглядывала грузовые баржи и туристические колесные судна, двигающиеся в противоположную сторону с пассажирами, высыпавшими на палубу, чтобы насладиться видом стеклянных берегов и цветных городов, которые их украшали. Самое сердце марсианского туризма, излюбленное направление гостей из других миров – стоило признать: здесь было красиво. Вглядываясь в проносящуюся мимо картину, Майя пришла к мысли, что, какая бы партия ни победила на следующих крупных выборах и чем бы ни завершилась битва за иммиграцию, этот мир должен сохраниться и сверкать на солнце так же, как сейчас. Тем не менее она продолжала надеяться на успех своего замысла.
Пока они медленно двигались на юг, в воздухе стала ощущаться южноосенняя прохлада. На вновь появившихся базальтовых берегах стали виднеться деревья с яркими красными и желтыми листьями, а однажды утром на гладкой воде у берегов образовался тонкий слой льда. Поднявшись на вершину западного берега, они увидели, что на горизонте, словно две сплюснутые Фудзиямы, вырисовывались патеры Тирренская и Адриатическая, причем черные скалы последней окаймлялись белыми ледниками. Когда-то давно Майя впервые видела эти скалы с другой стороны, когда выбралась из каньона Дао, путешествуя по затопленному бассейну Эллада. С той девушкой… как там ее звали? Она еще была родственницей какого-то ее знакомого.
Канал проходил между драконьими хребтами Гесперия. В здешних городах был менее экваториальный климат, более терпкий воздух и высокое расположение. Приволжские города, новоанглийские рыбацкие деревни – только с названиями вроде следующих: Астап, Эрия, Ухрония, Апис, Эвност, Агатодемон, Кайко… Лента воды вела их вперед, все дальше и дальше, строго на юго-запад. Вскоре оказалось уже трудно принять мысль, что это был единственный такой канал на Марсе, что вся планета не была оплетена их паутиной, как следовало из старинных карт. Да, существовал еще один крупный канал, в районе Перешейка Буна, но он был коротким и очень широким и с каждым годом расширялся все сильнее, разрываемый экскаваторами и восточными течениями, – по сути, он уже и не был каналом, а скорее искусственным проливом. Нет, мечта о каналах воплотилась только в этом месте и больше нигде. И, безмятежно плывя по этой воде, по бокам можно было наблюдать лишь высокие берега, закрывавшие собой все, что находилось за ними, и это создавало ощущение нереальности, заставляло думать, будто во всех их политических и личных дрязгах присутствовало барсумское величие.
Во всяком случае так казалось во время прогулки прохладным вечером под пастельными неоновыми вывесками прибрежных городков. В одном из них, он назывался Антей, Майя прогуливалась, разглядывая лодки, крупные и небольшие, где красивые и высокие молодые люди выпивали, лениво болтали и иногда жарили мясо на жаровнях, прикрепленных к бортам и свисающих над водой. В широком доке, выходящем далеко в канал, располагалось кафе на открытом воздухе, откуда доносилось грустное звучание цыганской скрипки; она инстинктивно повернулась в ту сторону и лишь в последнее мгновение заметила Джеки и Атоса, которые сидели вдвоем за столиком со стороны канала, склонившись друг к другу так близко, что почти касались лбами. Майя определенно не хотела нарушать столь многообещающей сцены, но сама внезапность ее остановки привлекла внимание Джеки, и та подняла взгляд и встрепенулась. Майя повернулась, чтобы уйти, но заметила, что Джеки встает и идет к ней.
«Еще одна сцена, только едва ли такая же счастливая», – подумала Майя, однако Джеки улыбалась, и Атос тоже поднялся и шел рядом с ней, невинно глядя во все глаза: он либо понятия не имел об истории их отношений, либо хорошо управлял своей мимикой. Майя считала более вероятным второе – судя только по взгляду, который казался слишком невинным, чтобы быть настоящим. Он был актером.
– Красивый канал, да? – начала Джеки.
– Ловушка для туристов, – отозвалась Майя. – Правда, симпатичная. Неудивительно, что собирает столько людей.
– Да ладно тебе, – усмехнулась Джеки и взяла Атоса за руку. – Где же твое чувство прекрасного?
– Какого еще прекрасного? – сказала Майя, довольная этим проявлением расположенности на публике. Старая Джеки такого бы не показала. На самом деле Майя даже была потрясена, увидев, что та уже не молода, – хотя с ее стороны и глупо было думать иначе, однако ее ощущение времени давало такие сбои, что ее постоянно повергало в шок даже собственное лицо: она каждое утро просыпалась не в том столетии. Поэтому вид Джеки, казавшейся пожилой рядом с Атосом, был всего лишь дополнением ко всему этому – чем-то нереальным для дерзкой девчонки из Зиготы, юной богини из Дорсы Бревиа!
– У всех есть это чувство, – проговорила Джеки. Видно, годы не прибавили ей мудрости. Очередное хронологическое несоответствие. Вероятно, антивозрастная терапия застопорила ей мозг. Любопытно, откуда у нее вообще взялись признаки старения, если она всегда так усердно проходила процедуру, – откуда они появлялись, если у нее не имелось ошибок при делении клеток? На лице Джеки не было морщин, и ее в какой-то момент все-таки можно было принять за двадцатипятилетнюю. Присутствовал у нее и довольный, по-бунски уверенный взгляд – единственная ее черта, напоминавшая о Джоне, – и она светилась, точно неоновая вывеска кафе, что висела сейчас у них над головой. Но, несмотря на все это, вопреки всем медицинским ухищрениям, она каким-то неуловимым образом выглядела на свои годы.
Вдруг рядом возникла одна из многочисленных помощниц Джеки – задыхаясь, жадно ловя воздух, она потащила Джеки за руку, прочь от Атоса.
– Джеки, мне жаль, очень жаль, – вся дрожа, крича она, – ее убили, убили…
– Кого? – спросила Джеки, отрывисто, будто давая пощечину.
Молодая девушка – но уже стареющая – печально ответила:
– Зо.
– Зо?
– Несчастный случай в воздухе. Он упала в море.
«Это должно притормозить ее», – подумала Майя.
– Ну конечно, – сказала Джеки.
– Но «птичьи костюмы»… – не верил Атос. Он тоже мгновенно постарел. – Разве они…
– Этого я не знаю.
– Неважно, – Джеки заставила их умолкнуть.
Позже Майя узнала об очевидцах происшествия, и образ навечно засел в ее воображении: два летателя, качающихся на волнах, как намокшие стрекозы, держащихся на плаву и вроде бы спасшихся, но лишь до тех пор, пока мощная волна, какие бывают в Северном море, не поднимает их и не разбивает об утес. После чего лишь их тела остались дрейфовать в пенной воде.
Джеки ушла в себя, погрузилась в свои мысли. Как слышала Майя, они с Зо не были близки, поговаривали даже, что они терпеть не могли друг друга. Но это же ее ребенок. Люди не должны переживать своих детей – даже бездетная Майя чувствовала это на уровне инстинкта. Но они упразднили все законы, и биология больше ничего не значила. Если бы Энн потеряла Питера при падении провода, если бы Надя с Артом потеряли Никки… даже Джеки, при всем своем слабоумии, должна была это понимать.
И она понимала. Она напряженно думала, стараясь найти выход. Но найти его не могла и должна была стать потом другим человеком. Старение, зрелость не были связаны со временем, совсем.
– О, Джеки, – пожалела ее Майя, коснувшись ее рукой. Но Джеки отмахнулась, и Майя руку убрала. – Мне так жаль.
Но в минуты, когда человеку сильнее всего нужна помощь, он становится изолированным как никогда. Майя поняла это в ночь исчезновения Хироко, когда пыталась успокоить Мишеля. В таких случаях ничего нельзя было поделать.
Майя чуть не стукнула всхлипывающую помощницу, с трудом сдержав себя:
– Почему бы вам не проводить мисс Бун на корабль? И держите людей подальше от нее какое-то время.
Джеки все еще выглядела потерянной. Ее отмашка от Майи была чисто инстинктивной: сама она пребывала в шоке, в неверии – и это неверие поглотило все ее силы. Этого и следовало от нее ожидать – равно как и от любого другого человека на ее месте. Наверное, было даже хуже оттого, что она не ладила с дочерью, – хуже, чем если бы она ее сильно любила…
– Ну же, идите! – сказала Майя помощнице и взглядом приказала Атосу тоже пошевеливаться. Он кое-как привлек внимание Джеки, и они увели ее. У нее по-прежнему был самый красивый зад в мире, а сама она держала королевскую осанку. Но когда она переварит новость – это изменится.
Позднее Майя оказалась на южной окраине города, где свет уже не горел и было видно лишь, что наполненный звездными отблесками канал обрамляли черные насыпи берегов. Это было похоже на спираль жизни, чью-то мировую линию – яркие неоновые завитки, двигающиеся к черному горизонту. Звезды над головой и под ногами. Черная дорога, по которой они скользили, не издавая шума.
Она вернулась к своему судну. Кое-как спустилась по трапу. Ей было неприятно испытывать такое чувство к своей сопернице, терять ее таким образом.
– Кого мне теперь ненавидеть? – воскликнула она Мишелю.
– Ну… – протянул тот потрясенно, а затем успокоительным тоном добавил: – Я уверен, ты кого-нибудь найдешь.
Майя коротко рассмеялась, Мишель изобразил слабую улыбку. А затем, пожав плечами, нахмурился. Его терапия поддерживала меньше, чем кого-либо. «Бессмертные истории в смертном теле», – всегда повторял он. При этом он имел весьма болезненный вид, лишь подтверждая свою точку зрения.
– Значит, в ней наконец появится что-то человеческое, – сказал он.
– Зо была дурой, когда всем рисковала, просто сама напрашивалась.
– Она в это не верила.
Майя кивнула. Это было несомненной правдой. В смерть теперь верили лишь немногие. Молодежь не верила в нее и до появления терапии. А сейчас и подавно. Но как ни странно, смерти наступали все чаще и чаще, как правило, конечно, среди сверхстариков. Появлялись новые болезни, возвращались старые, наступал резкий спад без очевидных на то причин. Последнее не так давно стало причиной смерти Гельмута Бронски и Дерека Хастингса – людей, с которыми Майя была знакома, пусть и не очень близко. Сейчас несчастный случай произошел с девушкой, которая была настолько моложе их, что это не имело никакого смысла, не укладывалось ни в какие рамки и объяснялось лишь юношеским безрассудством. Несчастный случай. Удар судьбы.
– Ты еще хочешь, чтобы Питер приехал? – спросил Мишель, перескочив на другую, совершенно далекую тему. Это что у него, такая политическая уловка? А, нет, он просто пытался ее отвлечь. Она снова чуть не рассмеялась.
– Давай пока останемся с ним на связи, – ответила она. – Посмотрим, получится ли у него приехать. – Но она сказала это лишь затем, чтобы успокоить Мишеля: на самом деле она думала о другом.
Это было начало череды смертей.
Но тогда она еще об этом не знала. Тогда это было лишь концом их путешествия по каналу.
Выгорание от воздушных линз прекратилось прямо перед восточным краем водосборной площади бассейна Эллады, между каньонами Дао и Хармахис. Последний участок канала был вырыт обычным способом и так резко опускался по крутому восточному склону, что пришлось устроить шлюзы на малых промежутках. Они функционировали как дамбы, и канал уже выглядел не так, как в горах, а превратился, скорее, в цепочку водохранилищ, соединенных короткими красноватыми речками, что тянулись из каждой дамбы. И они проплывали озеро за озером, в медленной веренице барж, парусников, катеров и пароходов, а когда подплывали к шлюзам, то сквозь их прозрачные стены видели ряды озер, напоминавшие гигантскую лестницу с голубыми ступенями, простиравшуюся до далекой бронзовой глади моря Эллады. Слева и справа, в бесплодных землях, каньоны Дао и Хармахис кое-где глубоко врезались в красное плато, следуя более естественным образом вниз по склону, но с тех пор, как убрали накрывавшие их навесы, их можно было увидеть, лишь подойдя к самому краю, – с канала же они оставались незаметными.
На борту их корабля жизнь продолжалась. Это же, очевидно, относилось и к барже «Свободного Марса», где Джеки, поговаривали, неплохо справлялась. И по-прежнему встречалась с Атосом, когда оба судна останавливались в одном доке. Снисходительно принимая соболезнования, она тут же переводила тему разговора, как правило, на текущий ход кампании. А их кампания продолжала пользоваться успехом. У Зеленых дела тоже немного улучшились благодаря консультациям Майи, но антииммигрантские настроения оставались весьма сильны. Куда бы они ни попали, на митингах вещали различные члены совета и кандидаты «Свободного Марса», а Джеки чинно появлялась на публике лишь от случая к случаю. Она стала куда более сильным и разумным оратором, чем была прежде. Но, наблюдая за другими выступающими, Майя стала понимать, кто состоял в партийной верхушке, и эти несколько человек, похоже, были очень рады оказаться в центре внимания. Один молодой человек, тоже из числа молодых людей Джеки, по имени Нанеди, выделялся больше других. И Джеки вроде бы была не очень этим довольна: она стала с ним холодна, все сильнее склонялась к Атосу, Микке и даже Антару. Иногда по вечерам она казалась сущей королевой среди своих супругов. Но за этим всем Майя видела ее истинное поведение в Антее. С расстояния в сотню метров она различила тьму в самой сути вещей.
Тем не менее, когда Питер ей перезвонил, Майя попросила его о встрече, чтобы поговорить о грядущих выборах, и, когда тот прибыл, Майя принялась наблюдать. Что-то должно было случиться.
Питер выглядел спокойным, расслабленным. Теперь он жил в горах Харит, где работал над проектом пустыни Аргир, а также участвовал в кооперативе, собиравшем летательные аппараты «Марс – космос» для тех, кто желал улететь с планеты, минуя лифт. Он казался спокойным, расслабленным и даже слегка замкнутым. Точно как Саймон.
Антар уже сердился на Джеки из-за ее показного романа с Атосом. Микка сердился еще сильнее Антара. Джеки теперь, когда Питер оказался рядом, уже сердила и Атоса, так как уделяла тому все свое внимание. Она была надежной, как магнит. Но ее тянуло к Питеру, который, как всегда, был к ней безразличен. Он был как железо, она – как магнит. Их предсказуемость даже наводила грусть. Зато это было полезно: кампания «Свободный Марс» потихоньку слабела. Антар больше не имел смелости предложить кахирским маджари бросить Аравию вместе с ее бедами. Микка и «Первые на Марсе» все сильнее порицали различные позиции партии «Свободный Марс» по вопросам, не связанным с иммиграцией, и переманили на свою сторону нескольких членов исполнительного совета. Да, Питер служил усилителем той части Джеки, что не имела отношения к политике, и это делало ее слабой и рассеянной. Таким образом, все шло по плану Майи: достаточно было лишь бросать мужчин к Джеки, как шары для боулинга, и она не могла устоять на ногах. Но ощущения триумфа у Майи пока не было.
Наконец, они вышли из последнего шлюза в Малахитовую бухту – воронкообразное углубление берега в море Эллады, чья залитая солнцем поверхность колыхалась под действием ветра. Оттуда плавно вышли в более темные воды, где многие баржи и судна поменьше поворачивали на север и брали курс на Адовы Врата, крупнейшую глубоководную бухту на восточном побережье Эллады. Их баржа примкнула к остальным, и вскоре над горизонтом появился большой мост над каньоном Дао, а затем и застроенные стены у входа в него и, наконец, мачты, длинный причал, бассейны между пирсами.
Майя и Мишель сошли на берег и поднялись по мощеным ступенчатым улицам к старому общежитию «Праксиса», что располагалось под мостом. На следующей неделе там должен был пройти осенний праздник урожая, который хотел посетить Мишель, чтобы потом двинуться дальше, на остров Минус Один и в Одессу. Заселившись и оставив вещи, Майя вышла прогуляться по улицам Адовых Врат, счастливая оттого, что освободилась от ограничений плывущего по каналу судна и может ходить куда ей заблагорассудится. Близился закат дня, в начале которого они были еще в Гранд-канале. То путешествие завершилось.
В последний раз Майя была в Адовых Вратах в 2121 году, во время своей первой поездки по бассейну, когда работала в «Дип-Уотерс» и путешествовала с… с Дианой! Вот как ее звали! Внучка Эстер, племянница Джеки. Крупная веселая девушка стала для Майи первым настоящим представлением о молодых уроженцах – раньше она знала их по контактам в новых поселениях в районе бассейна, но теперь узнала лично. Узнала взгляды и идеи Дианы – Земля была для девушки всего лишь словом. Тогда Майя впервые почувствовала, что выпадает из настоящего, сползая куда-то в учебник по истории. Лишь ценой неимоверных усилий ей удалось остаться в реальности и сохранить влияние на ход текущих событий. Тогда она с этим справилась. Это был один из выдающихся периодов в ее жизни, может быть, последний такой период. Последующие годы напоминали поток, несущийся с южных гор, по трещинам и грабенам, а затем внезапно выливаясь во всякого рода котловины.
Но когда-то, шестьдесят лет назад, она стояла здесь же, под огромным мостом, по которому проходила железная дорога, соединявшая скалы над устьем каньона Дао, – под знаменитым мостом Адовых Врат. А город тянулся вниз по крутым солнечным склонам с обеих сторон реки и выходил к самому морю. Там сейчас только песок – не считая полосы льда, что виднелась на горизонте. Раньше город был меньше и проще, а каменные ступени улиц – грубыми и пыльными. Теперь же они слегка стерлись, а пыль за прошедшие годы смыло прочь, и все стало чистым и покрылось темным налетом. Теперь это место походило на красивую средиземноморскую бухту, разместившуюся в тени моста, из-за которого весь город казался миниатюрным – сделанным из папье-маше – или картинкой с открытки из Португалии. По-настоящему красивым это место становилось в первые минуты осеннего заката, затененное и румянящееся в лучах, тянущихся с запада, в цвете сепии, словно мгновение, запечатленное в янтаре. Но как только она прошлась здесь с той сильной молодой амазонкой, когда перед ней, Майей, открывался новый молодой мир, этот истинный Марс, – она увидела, как изменились хорошо знакомые ей улицы, и почувствовала, что сама она остается частью прошлого.
За этими воспоминаниями и село солнце. Майя вернулась в здание «Праксиса», под сенью все того же моста. Последняя лестница к нему была особенно крутой, и, поднимаясь рывками по ней, Майя вдруг ощутила дежавю. Она уже это делала – не только поднималась по этой лестнице, но и поднималась с чувством, что это уже было. С точно таким же чувством, что и в прошлый свой визит.
Ну конечно – она была одним из первых исследователей бассейна Эллады, в первые годы после Андерхилла. Это вылетело у нее из головы. Она помогла основать Лоу-Пойнт, а потом разъезжала по бассейну, изучая его, когда здесь еще никто не бывал, даже Энн. А позднее, когда она уже работала в «Дип-Уотерс» и осматривала новые поселения уроженцев, у нее возникло похожее ощущение.
– Боже! – воскликнула она в ужасе.
Слой за слоем, жизнь за жизнью – они жили так долго! Это чем-то напоминало реинкарнацию, вечное возвращение.
Но в этом чувстве было и маленькое зерно надежды. Тогда, при первом ощущении выпадения из реальности, она начала новую жизнь. Да, точно: переехала в Одессу и оставила след в истории революции – помогла ей победить своим упорным трудом, много думала о том, почему люди поддерживали перемены, как было их провести, не вызвав неприятных последствий, которые тем не менее наступали после каждой революции, обесценивая все блага, что они приносили. И им вроде бы удалось этих неприятностей избежать.
По крайней мере, пока. Пожалуй, она не так уж и преуспела, как ей казалось, – разве что не так откровенно провалилась, как Аркадий, Джон или Фрэнк. Кто теперь мог быть уверен? Ведь больше нельзя было сказать, что на самом деле происходило в истории – она была слишком необхватной, слишком незавершенной. Все что угодно могло произойти везде где угодно. Кооперативы, республики, феодальные монархии… А в каком-нибудь свихнувшемся караване наверняка уже правили сатрапы… И любой образ, имевший место в истории, мог теперь где-нибудь воплотиться. То, во что ее вовлекли сейчас, – проблемы поселений молодых уроженцев, которые требовали воды и сбрасывали с себя путы ВП ООН… нет, не так… что-то другое…
Но, стоя у двери, ведущей в квартиру «Праксиса», она не могла вспомнить что. Следующим утром им с Дианой предстояло сесть в поезд и отправиться на юг, вокруг юго-восточного изгиба Эллады, чтобы увидеть хребты Зеа и туннель лавовой трубы, который теперь превратили в акведук. Нет, она была здесь, потому что…
Вспомнить никак не удавалось. Ответ вертелся на кончике языка… «Дип-Уотерс». Диана… Они только что ездили по каньону Дао, на дне которого уроженцы и иммигранты пытались обустроить сельское хозяйство, создать сложную биосферу под своим гигантским шатром. Некоторые из них говорили по-русски, и от звуков родной речи у нее на глаза наворачивались слезы! Вот голос матери, резкий и язвительный, – она гладила одежду в тесной кухне их квартирки, раздавался едкий запах капусты…
Нет, тоже не оно. Майя посмотрела на запад – в сумраке мерцало море. Песчаные дюны восточной Эллады затопило водой. Должно быть, прошло целое столетие, не меньше. Она находилась здесь по какой-то другой причине… Множество лодок, крошечных точек за волнорезами в гавани – словно ожившая картинка с почтовой марки. Нет, уже не вспомнить. От неприятного ощущения «кончика языка» у нее началось головокружение, затем тошнота – как если бы от него можно было избавиться с приступом рвоты. Она присела на ступеньку. Вся ее жизнь вертелась на кончике языка! Вся жизнь! Она громко застонала, и дети, бросавшиеся камнями в чаек, посмотрели на нее. Диана. Она случайно встретила Ниргала, они поужинали… Но Ниргал заболел. На Земле!
И все вернулось, как по щелчку, словно удар в солнечное сплетение, окатив ее всю волной. Путешествие по каналу, ну конечно же, погружение в затопленный Берроуз, Джеки, несчастная дурочка Зо. Конечно, конечно, конечно… Да, она забыла все это не насовсем. Теперь это казалось таким очевидным. Оно ушло не по-настоящему, это лишь кратковременный сбой в ее мышлении, пока внимание сосредоточилось где-то в другом месте. В другой жизни. Сильная память была по-своему целостной и по-своему опасной – так же, как и слабая. Такой вывод вытекал из мысли, что прошлое было интереснее настоящего. Что во многом соответствовало действительности. Но все же…
Все же ей пока не хотелось вставать. Тошнота еще не прошла. Она ощущала давление в голове, будто после этого «кончика языка» остались какие-то нарушения; да, момент неприятный. Трудно это отрицать, все еще чувствуя пульсацию от болезненных импульсов.
Она наблюдала, как в уходящих сумерках город погрузился в темно-оранжевые тона, а потом замерцал таким цветом, как если бы молния сверкнула в бутылке из коричневого стекла. Настоящие Врата Ада. Она задрожала, поднялась и неуверенно пошла вниз по ступеням в сторону гавани, где набережные освещались яркими, собирающими мошек шарами, развешенными у таверн. Сверху, как негативное изображение Млечного Пути, вырисовывался мост. Майя прошла за доки, к пристани для судов.
Там была Джеки, и она шла навстречу. С ней было несколько помощников, но все они шагали чуть позади. Заметив Майю, Джеки сжала губы, лишь слегка, но Майе этого хватило, чтобы заметить, что ей – сколько? – лет девяносто? Сто? Она была красива, она была властна, но уже не молода. Вскоре события поплывут и в ее голове – так же, как и у всех остальных. История – это волна, которая движется сквозь время чуть быстрее, чем человеческая жизнь, поэтому даже когда люди жили всего семьдесят-восемьдесят лет, к моменту своей смерти они оказывались позади этой волны – сейчас же они отставали гораздо сильнее. Ни один парус не мог позволить человеку за ним угнаться, ни один птичий костюм не мог позволить справиться с волной. Ах, вот в чем дело: это смерть Зо она увидела на лице Джеки. Та изо всех сил старалась не подавать виду, поскорее об этом забыть. Но у нее не получалось, и вот она теперь – старуха у воды, отражающей звезды, висящие над Адовыми Вратами.
Майя, потрясенная глубиной этого образа, остановилась. Джеки тоже. Вдали гремела посуда, из ресторанов доносились шумные разговоры. Две женщины смотрели друг на друга. Майя не помнила, чтобы раньше у нее случались такие моменты с Джеки, – не помнила, чтобы они показывали друг другу свое признание, глядя вот так глаза в глаза. «Да, ты настоящая, и я настоящая. И вот мы вдвоем, стоим и смотрим». Майе показалось, будто внутри нее треснули большие стекла. Почувствовав себя свободнее, она развернулась и ушла.
Мишель нашел им пассажирскую шхуну, которая направлялась в Одессу через остров Минус Один. Экипаж рассказал им, что на острове ждали Ниргала, который должен был участвовать в гонках, и эта новость обрадовала Майю. Повидаться с Ниргалом всегда приятно, а в этот раз она нуждалась в его помощи. И ей хотелось увидеть Минус Один: в последний раз, когда она туда выбиралась, он вообще не был островом – лишь метеостанцией с летной полосой на кочке, торчащей на дне бассейна.
Их шхуна была длинной и невысокой, с пятью парусами, похожими на птичьи крылья. Едва они вышли из пристани, паруса расправились, туго натянувшись и приняв треугольную форму, а когда ветер задул в корму, экипаж поднял впереди большой синий спинакер. После этого корабль понесся по ярко-синим волнам, разбивая их и разбрызгивая вокруг водяную пыль. Избавившись от ограничения черными берегами Гранд-канала, было чудесно оказаться в море, чувствовать ветер, дующий в лицо и поднимающий волны, – он выдул из ее головы всю ту сумятицу, что донимала ее в Адовых Вратах. Она забыла о Джеки и рассматривала весь предыдущий месяц как какой-то тлетворный карнавал, который ей никогда не придется посещать вновь. Туда она не вернется, ведь теперь у нее есть открытое море и ветер в спину.
– Ах, Мишель, вот такая жизнь по мне!
– Красиво, да?
В конце своего путешествия они собирались поселиться в Одессе, которая теперь стала прибрежным городом вроде Адовых Врат. Живя там, они смогли бы плавать в любой погожий день, когда светило солнце и дул ветер, – стоило лишь захотеть. Эти яркие моменты настоящего были единственной их реальностью, тогда как будущее являлось лишь видением, а прошлое – кошмаром… или наоборот. Как бы то ни было, лишь в эти моменты можно было ощутить силу ветра и великолепие волн, таких больших и брызжущих во все стороны. Майя указала на голубой склон, который проносился мимо неровной, быстроменяющейся линией, и Мишель громко рассмеялся. Они всмотрелись в него внимательнее и стали смеяться совсем безудержно. За многие годы Майя не испытывала столь сильного ощущения, что находится в другом мире: эти волны вели себя не так, как должны были, они метались и опрокидывались, выпячивались и извивались куда живее, чем можно было объяснить сильным ветром, и это выглядело странно и даже чуждо. Ах, Марс, Марс, Марс!
Моряки рассказали им, что волны в море Эллады всегда были крупными. Отсутствие течений роли не играло: больше всего на волны воздействовали гравитация и сила ветра. Слушая об этом и глядя на непостоянную голубую равнину, она почувствовала, что ее настроение тоже вдруг подскочило: у нее было малое g, а ее внутренние ветры задували сильно. Она была марсианкой, одной из первых, и она изучала этот бассейн с самого начала, помогала заполнять его водой, строить гавани, и именно благодаря ей моряки могли выходить в море. А теперь она плыла по нему сама, так, будто только этим и занималась всю свою жизнь, и этого было достаточно.
Судно неслось вперед, и Майя стояла возле бушприта, держась рукой за борт, ощущая на себе ветер и брызги волн. К ней подошел Мишель и встал рядом.
– Как здорово выйти наконец из канала, – сказала она.
– Это точно.
Они заговорили о кампании, и Мишель покачал головой:
– Эти антииммигрантские взгляды слишком популярны.
– Как думаешь, йонсеи расисты?
– Им трудно стать расистами, учитывая их собственное смешение рас. Думаю, они просто ксенофобы. Им наплевать на проблемы Земли – они всего лишь боятся, что их возьмут числом. Вот Джеки и взывает к тому страху, который сидит в каждом из них. Я бы не назвал это расизмом.
– Просто ты хороший человек.
Мишель выпустил воздух сквозь зубы.
– Ну, большинство людей тоже хорошие.
– Не преувеличивай. – Иногда Мишель бывал чересчур оптимистичен. – Расизм или нет, это все равно мерзко. С Земли сейчас смотрят на наши незанятые земли, и если мы закроем от них дверь, то они, очень может быть, возьмутся за топор и прорубят ее. Многие думают, что этого никогда не случится, но если землянам станет совсем туго, они просто отправят людей и высадят их здесь, а если мы попробуем их остановить, они будут защищать себя, и тогда мгновенно развяжется война. Причем здесь, у нас, на Марсе. Не на Земле, не в космосе, а на Марсе. Это может произойти – ты же слышишь, как они нам угрожают, те люди из ООН, которые пытаются нас предупредить. Но Джеки не слушает. Ей все равно. Они поддерживает эту ксенофобию в своих целях.
Мишель внимательно смотрел на нее. О да, к этому времени она уже должна была избавиться от ненависти к Джеки. Но бросить привычку тяжело. Она отмахнулась от всего, что сказала, от всех тлетворных политических игр, которые велись в Гранд-канале.
– Может, у нее и хорошие мотивы, – сказала она, стараясь сама в это поверить. – Может, она хочет, как лучше для Марса. Но она все-таки ошибается, и поэтому ее необходимо остановить.
– Дело не только в ней.
– Знаю, знаю. Нам нужно подумать, что мы можем сделать. Только хватит уже о них говорить. Давай лучше попробуем заметить остров раньше экипажа.
Спустя два дня это им удалось. А подобравшись к Минус Один ближе, Майя с радостью отметила, что остров совсем не был похож на Гранд-канал. Да, у воды ютились выбеленные рыбацкие деревни, но дома казались сделанными вручную, словно сюда не добрались современные технологии. А на отвесных берегах, что над ними, виднелись рощи с домиками на деревьях, как маленькие надземные поселения. Как им объяснили, на острове жили дикие и рыбаки. На мысах земля была голой, в морских долинах – зеленела возделываемыми растениями. Холмы из темно-коричневого песчаника вторгались в море, чередуясь с небольшими пляжами в бухтах, на которых не было ничего, кроме колосняка, колышущегося на ветру.
– Он выглядит таким пустым, – заметила Майя, когда они, обогнув северную оконечность острова, плыли вдоль западного берега. – А на Земле это смотрят по видео. Вот почему они не дадут нам захлопнуть ту дверь.
– Да, – согласился Мишель. – Но посмотри, как они здесь живут отдельными кучками. В Дорсе Бревиа взяли пример с Крита. Все живут в деревнях, но днем работают за их пределами. То, что выглядит пустым, уже используется, обеспечивает эти деревеньки.
Хорошей гавани здесь не было. Они вошли в неглубокую бухту, над которой стояла крошечная рыбацкая деревня, и встали на якорь – он был отчетливо виден на песчаном дне, на глубине в десять метров. Затем добрались до берега на шлюпках, проплыв мимо нескольких яхт и рыболовных лодок, стоявших на якоре ближе к берегу.
За деревней, почти заброшенной, начиналось извилистое арройо – по нему они добрались до холмов. Оно закончилось ящикообразной долиной, из которой по неровной тропе они смогли взобраться на плато. Там, на заболоченной поверхности, откуда по всему горизонту было видно только море, когда-то давно посадили дубовые рощи. Теперь некоторые из этих деревьев были украшены мостиками и лестницами, а высоко среди ветвей виднелись небольшие деревянные помещения. Эти домики напомнили Майе о Зиготе, и она не удивилась, узнав, что среди известных жителей острова было несколько зиготских эктогенов – Рейчел, Тиу, Симад, Эмили, которые, когда-то остановившись здесь, помогли обустроиться таким образом, что Хироко, наверное, могла бы этим гордиться. И действительно, некоторые утверждали, что островитяне прятали Хироко и других выходцев из тайной колонии в одной из этих дубовых рощ, где они могли бродить без страха быть обнаруженными. Осматриваясь, Майя думала, что это вполне возможно; в этих слухах было столько же смысла, как и в любых других, что ходили о Хироко, но эти выглядели более вероятными. Однако сказать наверняка было нельзя, да это и неважно: если Хироко решила спрятаться – а если она жива, то иначе быть не могло, – то нечего и думать о том, где она это делала. Почему кого-то это заботило, Майя решительно не понимала. Впрочем, ничего необычного в этом не было: все, что касалось Хироко, всегда вызывало у нее затруднения.
Северное побережье острова Минус Один было не таким холмистым, как остальная его часть, и, когда они спустились на его равнину, то увидели строения, стоявшие скученно. Они предназначались для проведения Олимпиады и походили на что-то древнегреческое. Здесь были стадион, амфитеатр, священная роща секвой и, на внешней точке над морем, небольшой храм с колоннами, сложенный из какого-то белого камня, не мрамора, но похожего по виду – возможно, соль с алмазным покрытием. Вверху на холмах высились временные лагеря юрт. Вокруг слонялось несколько тысяч человек – наверное, бо́льшая часть населения острова и приличное число гостей со всего бассейна Эллады: игры до сих пор оставались, в первую очередь, местным событием. Поэтому они удивились, встретив на стадионе Сакса, который помогал делать замеры на соревнованиях метателей. Он обнял их и кивнул, в своей рассеянной манере.
– Сегодня Аннарита будет метать диски, – сказал он. – Должно быть интересно.
И во второй половине этого прекрасного дня Майя и Мишель присоединились к Саксу на стадионе и позабыли обо всем, кроме соревнований. Они стояли прямо на поле, так близко от спортсменов, как только можно было желать. Майе больше всего нравились прыжки с шестом, они ее завораживали: этот вид, как никакой другой, демонстрировал возможности марсианского g. Хотя, чтобы их использовать, требовалось овладеть сложной техникой: разгоняться управляемыми скачками, найти точку опоры для чрезвычайно длинного шеста, который к тому же сильно трясся при беге, прыгнуть, подтянуться, подскочить ногами вверх, в таком положении взлететь в воздух выше шеста, подняться еще немного вверх, аккуратно изогнуться над планкой (если получится) и завершить все долгим падением на воздушную подушку. Марсианский рекорд составлял четырнадцать с лишним метров и сейчас выполнял прыжок молодой мужчина, который уже победил в соревновании и пытался взять пятнадцать метров – но неудачно. Когда он упал на подушку, Майя увидела, каким он был высоким, с широкими мощными плечами и руками, но остальное было худым и даже костлявым. Женщины-прыгуньи, ждавшие своей очереди, выглядели так же.
И так во всех соревнованиях: все были крупными, тощими и мускулистыми. Новый вид людей, подумала Майя, чувствуя себя маленькой, слабой и старой. Homo martial. Она была рада, что у нее были крепкие кости, которые все еще ее выдерживали, иначе было бы стыдно находиться среди этих созданий. И она стояла, не ощущая своей несогласной с окружением грации, и смотрела на дискоболку, о которой упоминал Сакс, – она закрутилась, набирая скорость, а потом выбросила диск, и тот полетел, словно запущенный из метательного устройства. Аннарита была очень высокой, с длинным торсом и необъятными мускулистыми плечами. Широчайшие мышцы ее спины напоминали крылья, изящная грудь теснилась под трико. У нее были узкие бедра, мощный таз и крепкие длинные голени. Да, она была красавицей из красавиц. И очень сильной, хотя и было очевидно, что метать диски так далеко ей удавалось благодаря быстроте ее вращения.
– Сто восемьдесят метров! – воскликнул Мишель, улыбаясь. – Вот это успех!
Женщина была довольна. Спортсмены сосредотачивали все усилия в момент своего действия, затем расслаблялись – или пытались расслабиться, – растягивая мышцы и перебрасываясь шутками. Здесь не было ни судей, ни табло – только несколько помощников вроде Сакса. Люди сменяли друг друга, проводя те соревнования, в которых не участвовали сами. С громким хлопком начались состязания в беге. Время засекали вручную, называя результаты вслух и выводя их на экраны. Толкание ядра по-прежнему выглядело тяжелым и нескладным. Копья, казалось, улетали в бесконечность. Прыгуны в высоту, к удивлению Майи и Мишеля, не могли брать выше четырех метров. В длину прыгали на двадцать, и исполнение прыжка выглядело потрясающе: атлеты махали ногами на протяжении всего прыжка, который длился четыре-пять секунд, и пересекали таким образом приличный кусок поля.
Ближе к вечеру начались забеги на короткие дистанции. Как и в других дисциплинах, мужчины и женщины соревновались вместе, и все были одеты в трико.
– Интересно, не уменьшился ли в этих людях половой диморфизм? – сказал Мишель, наблюдая за тем, как спортсмены разогревались перед стартом. – Для них все стало намного менее гендеризировано: они выполняют одну и ту же работу – только женщины раз в жизни беременеют, и то не все, – занимаются одними и теми же видами спорта, развивают одни и те же мышцы…
Майя, полностью уверовавшая в реальность нового вида людей, к этому замечанию отнеслась с издевкой:
– Тогда почему ты все время пялишься на женщин?
Мишель ухмыльнулся.
– Ну я-то вижу разницу, но я отношусь к старому виду. Мне просто интересно, видят ли это они.
Майя громко рассмеялась.
– Да ну, ты посмотри туда или вон туда, – она указала на спортсменок. – Пропорции, лица…
– Да, вижу. Но все же, это не как… скажем, Бардо и Атлас, если ты понимаешь, о чем я.
– Понимаю. Эти симпатичнее.
Мишель кивнул. Майя подумала, что он об этом и говорил с самого начала. На Марсе, наконец, должно стать очевидным, что все они – боги и богини, которым полагается жить в священном довольствии… И половые различия были заметны. Впрочем, она тоже относилась к старому виду, и дело могло быть в ней. Но тот бегун… ах! И вон женщина, пусть и с короткими сильными ногами, узкими бедрами и плоской грудью. А кто это рядом с ней? Еще одна женщина… Хотя нет, мужчина! Прыгун в высоту, изящный, как танцор, – хотя у всех, кто занимался этой дисциплиной, имелись проблемы – Сакс пробормотал что-то о какой-то траве. И все же, даже несмотря на то, что некоторые из них выглядели слегка андрогинными, пол большинства было довольно легко определить.
– Сама видишь, о чем я, – сказал Мишель, понаблюдав за ней.
– Вроде бы. Но интересно, молодежь действительно видит это по-другому? Если с патриархатом покончено, то должен неизбежно появиться новый социальный баланс полов…
– Это то, чего требуют в Дорсе Бревиа.
– Тогда, может, это и создает проблемы для иммиграции с Земли? Не ее объем, а само то, что прибывающие люди происходят из более старых культур. Они будто прилетают из средневековья и вдруг встречают тут этих огромных минойцев, с их почти одинаковыми мужчинами и женщинами…
– И новым коллективным подсознанием.
– Да, наверное. И прибывшие не могут с этим совладать. Они теснятся в иммигрантских гетто или даже в новых городах, где соблюдают свои традиции. Сохраняют связь с домом и ненавидят все здешнее, и их старые культуры снова пронизывает ксенофобия и мизогиния – по отношению как к их женщинам, так и к уроженкам.
Она действительно слышала о проблемах в городах – в Шеффилде и по всей восточной Фарсиде. Случалось, что молодые уроженки выбивали дерьмо из удивленных иммигрировавших обидчиков; иногда бывало и наоборот.
– И молодым уроженцам это не нравится. Им кажется, что они подпускают к себе каких-то чудовищ.
Мишель изобразил гримасу.
– Земные культуры насквозь невротичны, а когда невротичное сталкивается со здоровым, обычно оно становится еще более невротичным, чем когда-либо. А здоровое просто не знает, что делать.
– Вот они и стоят за запрет иммиграции. И толкают нас к новой войне.
Но Мишель отвлекся: начинался очередной забег. Атлеты были быстры, но и быстрей не в два с половиной раза, чем на Терре, как следовало ожидать исходя из разницы в гравитации. Они испытывали те же проблемы, что и прыгуны в высоту, но на протяжении всего забега: они отрывались от земли с таким ускорением, что нужно было держаться очень низко, чтобы не подскакивать слишком высоко над дорожкой. На коротких дистанциях они так сильно наклонялись вперед, что едва не падали лицом вниз, и яростно работали ногами. На более длинных выравнивались почти прямо и начинали грести по воздуху, будто плыли стоя, при этом их шаги удлинялись все сильнее и сильнее, пока не начинало казаться, что они скачут, как кенгуру, только сменяя ноги поочередно, а не на обеих сразу. Это зрелище напоминало Майе, как Питер и Джеки, самые быстрые в Зиготе, бегали по пляжу под полярным куполом – тогда они сами выработали для себя похожий стиль.
С этой техникой победитель в забеге на пятьдесят метров показал результат 4,4 секунды, на сто метров – 8,3, на двести метров – 17,1, а на четыреста метров – 37,9. Но в каждом забеге они испытывали трудности с равновесием, которые возникали на такой скорости, не позволяя им совершать рывки в полную силу. Майя помнила, как видела подобное в молодости.
Соревнующиеся на более длинных дистанциях грациозно подскакивали, примерно как при марсианском беге вприпрыжку, как они называли его в Андерхилле, когда без особого успеха пытались двигаться так же в тесных прогулочниках. Сейчас это было похоже на полет. Одна девушка лидировала бо́льшую часть забега на десять тысяч метров и сохранила столько сил в конце, что ускорялась весь последний круг, бежала все быстрее и быстрее, пока наконец не поскакала, касаясь земли лишь через каждые несколько метров, перемахивая через других бегунов, с трудом перебиравших ногами, пока она пролетала мимо. Это зрелище приводило в восторг, и Майя кричала до хрипоты. Она взяла Мишеля за руку, чувствуя головокружение. У нее лились слезы, она не сдерживала смех. Удивительно было наблюдать за этими новыми созданиями и при этом ничего о них не знать!
Ей нравилось видеть, что женщины побеждают мужчин, хотя сами они, казалось, этого не замечали. Женщины побеждали немного чаще на длинных дистанциях и беге с барьерами, мужчины – в спринте. Сакс объяснил, что тестостерон придавал силу, но и вызывал судороги, которые возникали при длительных нагрузках. Было очевидно, что в большинстве дисциплин все зависело от владения техникой. И каждый видел то, что хотел, подумала Майя. Возвращаясь на Землю… там рассмеялись бы, если бы она начала предложение этой фразой. Возвращаясь на Землю – ну и что? На их материнской планете люди вели себя странно и мерзко, но зачем об этом переживать, когда впереди близится барьер, а боковое зрение улавливает другого бегуна, который уже сокращает расстояние?
– Лети! Лети! – она кричала до хрипоты.
В конце дня атлеты, завершив свои соревнования, освободили проход на стадион, и под бурные аплодисменты и несдержанные крики на дорожке появился одинокий бегун. Это оказался Ниргал! Уже чувствуя боль в горле, Майя хрипло закричала.
Забег по пересеченной местности начался на южной оконечности острова Минус Один сегодня утром. Голые и босые участники пробежали более ста километров по сложной заболоченной местности в центральной части острова, по дьявольскому хитросплетению оврагов, грабенов, бугров, гребней, уступов и завалов. Впрочем, слишком глубоких ущелий, очевидно, не попадалось, и было доступно много разных маршрутов, что превращало забег скорее в состязание по ориентированию, а не по бегу. Но это равно тяжело, и прибежать к четырем часам дня явно было феноменальным достижением. Следующего бегуна, говорили, не стоило ждать раньше заката. Ниргал пробежал круг почета, грязный и изнуренный, будто пережил бедствие, а потом надел штаны, пригнул голову, чтобы его наградили лавровым венком, и принялся обниматься – желающих были сотни.
Майя оказалась последней в этой толпе, и Ниргал радостно рассмеялся, увидев ее. Его кожа была белой от засохшего пота, губы затвердели и потрескались, волосы приняли цвет пыли, глаза налились кровью. Тело было костлявым и жилистым, почти исхудалым. Он выпил воды из бутылки, осушив ее, но от второй отказался.
– Спасибо, я не настолько обезвожен. Возле Джири-Ки наткнулся на водоем.
– По какому маршруту вы бежали? – спросил кто-то.
– Ох, лучше не спрашивайте! – ответил он со смешком, будто маршрут был так неприятен, что о нем не хотелось и вспоминать. Позже Майя узнала, что маршруты оставались в тайне: за бегунами не наблюдали и не сообщали об их местонахождении. Эти соревнования по кроссу были популярны среди определенных групп, и Ниргал, как знала Майя, был чемпионом, и лучше всего ему давались длинные дистанции. Рассуждая о его маршрутах, поговаривали даже, что он использовал телепортацию. В этот раз он победил на коротком для себя забеге, поэтому был особенно доволен.
Наконец, он подошел к скамье и сел.
– Дай мне немного прийти в себя, – сказал он и стал смотреть последние состязания спринтеров, с отрешенным, но счастливым видом. Майя села рядом, не в силах отвести от него глаз. Он долго прожил вдали от цивилизации, вместе с дикими состоял в кооперативе, занимавшемся фермерством и собирательством… Такую жизнь Майя представляла с трудом и считала, будто он пребывал в забвении, изгнанный в дикие, необжитые земли, где выживал, как крыса или как растение. Но теперь он сидел здесь и, несмотря на свою изможденность, бурно реагировал на фотофиниш забега на четыреста метров, – тот самый пышущий жизнью Ниргал, которого она помнила еще по давнему путешествию в Адовы Врата, – для него те времена были столь же славными, как и для нее. Но, глядя на него, трудно было поверить, что он думал о прошлом так же, как она. Она ощущала себя в плену своего прошлого, в плену самой истории, тогда как его занимало что-то другое: он выжил и отложил свою судьбу в сторону, как старую книгу, и теперь был здесь, в настоящем, смеялся в лучах солнца, обыграв целую стаю молодых диких зверей в их собственную игру – лишь своим умом, чувством Марса, техникой лунг-гом-па и силой ног. Он всегда был бегуном – Майя вспоминала, как они с Джеки мчались по пляжу вслед за Питером, будто это было только вчера, те двое были быстрее, но Ниргал, случалось, наворачивал круги вокруг озера днями напролет, и никто не знал зачем.
– О, Ниргал… – Она наклонилась к нему и поцеловала пыльные волосы, почувствовала, что он ее обнял. Рассмеялась и оглянулась на всех этих прекрасных гигантов, которые все еще соревновались, румяные в закатном свете, и ощутила, как жизнь вливается в нее обратно. Все благодаря Ниргалу.
Но позднее, после праздничного ужина в вечерней прохладе, она отвела Ниргала в сторону и рассказала ему о своей боязни конфликта между Землей и Марсом. Мишель разговаривал с какими-то людьми, Сакс, задумавшись, сидел на скамье по другую сторону стола.
– Джеки и лидеры партии «Свободный Марс» призывают отказаться от компромиссов, но это не сработает. Землян не остановить. Это может привести к войне. Точно тебе говорю: к войне.
Ниргал пристально смотрел на нее. Он по-прежнему воспринимал ее серьезно, благослови Господь его добрую душу, и Майя приобняла его, будто родного сына, и сжала крепко-крепко.
– И что нам, по-твоему, делать? – спросил он.
– Оставить Марс открытым. За это необходимо бороться, и ты тоже должен в этом участвовать. Ты нам нужнее, чем кто-либо другой. Ты тяжелее всех перенес визит на Землю, и это, по сути, сделало тебя величайшим марсианином в истории Земли. Они до сих пор пишут о тебе книги и статьи, ты знал об этом? В Северной Америке и Австралии набирает большую силу движение диких, и на других материках тоже. На Черепашьем острове почти полностью преобразовали американский Запад – сейчас там созданы десятки дикарских кооперативов. Они тебя слушают. И точно так же здесь. Я делаю, что могу, мы только что победили их в предвыборной кампании в Гранд-канале. Я попыталась противостоять Джеки. Это немного помогло, но думаю, бороться надо не только с Джеки. Она уехала к Иришке, и, конечно, в этом есть смысл: Красные против иммиграции, они считают, что запрет поможет им защитить их бесценные камни. Получается, «Свободный Марс» и Красные впервые могут оказаться в одном лагере и именно из-за этой проблемы. Их будет тяжело победить. Но если они не…
Ниргал кивнул. Он все понимал. Ей хотелось его расцеловать. Она сжала его плечи, наклонилась и чмокнула в щеку, прижалась к его шее.
– Я люблю тебя, Ниргал.
– А я тебя, – ответил он с легким смешком, слегка удивленный. – Но слушай, я не хочу участвовать в политической кампании. Нет, послушай… Я согласен, что это важно, согласен, что Марс нужно оставить открытым, нужно помочь Земле справиться с ее популяционным всплеском. Я всегда об этом твердил и говорил, когда мы были там. Но не стану вступать в политические организации. Этого я не могу. Я внесу свой вклад так же, как делал это раньше, понимаешь? Охвачу много разных мест, встречусь со многими людьми. Поговорю с ними. Снова начну выступать на собраниях. Сделаю все, что смогу, на этом уровне.
Майя кивнула.
– Это будет здорово, Ниргал. Нам все равно еще нужно достичь этого уровня.
Сакс откашлялся и спросил:
– Ниргал, ты когда-нибудь встречал математика по имени Бао?
– Нет, не думаю.
– Эх!
Сакс вернулся в свои грезы. Майя еще немного рассказала о проблемах, которые они с Мишелем обсуждали в тот день, – о том, что иммиграция действовала как машина времени, привнося в настоящее маленькие островки прошлого.
– Джона тоже это волновало, и вот сейчас оно и происходит.
Ниргал кивнул.
– Мы должны верить в ареофанию. И в конституцию. Им придется жить по ней, если они окажутся здесь, – правительству необходимо на этом настаивать.
– Да. Но народ, я имею в виду, уроженцы…
– Это как бы ассимиляционная этика. Нужно добиться, чтобы все ее соблюдали.
– Согласна.
– Хорошо, Майя. Я посмотрю, что смогу сделать. – Он улыбнулся ей, а потом внезапно начал засыпать, прямо перед ней. – Может, нам снова удастся все это предотвратить?
– Может быть.
– Мне нужно прилечь. Спокойной ночи. Люблю тебя.
Они поплыли на северо-запад от острова Минус Один, и тот ускользнул за горизонт, словно сон о Древней Греции, и они снова оказались в открытом море с его высокими и широкими брызжущими волнами. Каждый час их пути с северо-востока доносились мощные порывы пассатов, срывая с волн белые гребни, на фоне которых темно-пурпурные воды казались еще темнее. Ветер и вода шумели не умолкая, ничего другого не было слышно, и каждый раз приходилось кричать. Члены экипажа и не пытались говорить, с воодушевлением занявшись постановкой парусов и настройкой искина корабля. С каждым порывом паруса натягивались, как птичьи крылья, дополняя ветер, гармонируя с невидимыми рывками, которые Майя ощущала на своей коже, пока стояла в носовой части корабля, глядя то вперед, то назад, увлеченная всем этим зрелищем.
На третий день ветер задул еще сильнее, и судно понеслось с аквапланирующей скоростью. Корпус вздымался, становясь на плоскую секцию кормы, а потом опадал на волны, разбрасывая столько брызг, что едва ли кому-то на палубе могло быть при этом комфортно. Майя ушла в первую каюту выглядывать в носовые окна, чтобы видеть все происходящее. Вот это была скорость! Изредка к ней заходили промокшие члены экипажа, чтобы перевести дух и выпить немного явы. Один из них рассказал Майе, что они регулировали курс с учетом течения Эллады:
– Это море – как крупнейшая в мире ванна со сливающейся водой, где действуют силы Кориолиса. Оно круглое и лежит на широтах, где пассаты дуют так же, как если бы на него влияли силы Кориолиса, поэтому оно кружит по часовой стрелке вокруг Минус Одного, образуя огромный водоворот. И нам приходится это учитывать, иначе прибьемся к берегу где-нибудь на полпути к Адовым Вратам.
Ветер не ослабевал, и они все так же летели, бо́льшую часть дня аквапланируя. В итоге им хватило всего четыре дня, чтобы пройти по своему радиусу моря Эллады. На четвертый, ближе к вечеру, паруса затрепетали, и корпус опустился обратно на воду с ее перекатывающимися гребнями волн. На севере появилась земля – сразу по всему горизонту. Это был край огромного бассейна, вроде горного хребта без вершин, – гигантский вал склона, похожий на внутреннюю стенку кратера, коей, несомненно, и являлся. Да, он был по-настоящему огромен и буквально поразил этим Майю. А когда они приблизились к суше и поплыли на запад в сторону Одессы – они все-таки оказались восточнее города, несмотря на то, что учитывали круговое течение, – она залезла по вантам и сумела разглядеть пляж, который сама создала. Это была широкая полоса, за которой возвышались поросшие травой дюны и то тут, то там бежали ручьи. Красивое побережье, в самых окрестностях Одессы, а значит – часть красоты Одессы, часть ее города.
На западе поверх волн стали просматриваться неровные пики гор Геллеспонт, далекие и мелкие, они составляли противоположность гладкой возвышенности, тянущейся по северной стороне. Из этого следовало, что они уже были почти на месте. Майя забралась по вантам еще выше. И увидела ее на подъеме северного склона – самые верхние ряды парков и зданий, и все зеленое и белое, бирюзовое и терракотовое. А затем и раскидистый центр города, выгнутый, как амфитеатр с видом на гавань вместо сцены. Та появлялась на горизонте постепенно: сначала белый маяк, затем статуя Аркадия, волнорез, целая тысяча мачт на пристани и, наконец, множество крыш и деревьев за пятнистым бетоном береговой дамбы. Одесса.
Майя поспешно слезла с вантов, чуть ли не как настоящий матрос, и заключила в объятия нескольких членов экипажа и Мишеля, улыбаясь и чувствуя, как их обдувал ветер. При входе в гавань паруса посворачивались на мачтах, как потревоженные улитки. Корабль занял место на стоянке между пирсами, и они спустились по трапу, прошли по доку, через пристани и оказались в прибрежном парке. Они прибыли. Голубой трамвай все так же лязгал, проезжая по улице сразу за парком.
Майя и Мишель, держась за руки, спустились по дороге, идущей вдоль обрыва. Они разглядывали лавки с едой и маленькие летние кафе по другую сторону улицы. Все названия вроде бы были новыми – ни одно не оказалось знакомым, но таковы были особенности работы ресторанов. Все они мало изменились, и город, поднимающийся от набережной, терраса за террасой, выглядел точь-в-точь таким же, каким они его запомнили.
– Вот «Одеон», а это «Синтер»…
– Там я работала в «Дип-Уотерс», интересно, чем они сейчас занимаются?
– Думаю, многие из этих ребят сейчас поддерживают уровень моря. С этой водой всегда есть чем заняться.
– Это точно.
Вскоре они подошли к старому жилому зданию «Праксиса». Его стены густо оплел плющ, белый гипс обесцветился, голубые ставни потускнели. Мишель заметил, что его хорошо было бы привести в порядок, но Майе нравилось и так: отдавало стариной. На третьем этаже она заметила старое окно кухни и балкон, а рядом – окно Спенсера. Сам он должен был быть дома.
И они вошли в ворота, поздоровались с новым консьержем, и действительно – Спенсер оказался дома, по крайней мере, физически: он скончался несколько часов назад.
Это ничего особо не меняло. Майя не виделась со Спенсером Джексоном годами, как не особо виделась, даже когда они были соседями, и вообще не так уж хорошо его знала. Его вообще никто не знал хорошо. Спенсер был одним из самых загадочных членов первой сотни, а это говорило о многом. Он всегда держался сам по себе, жил собственной жизнью. И часть своей жизни на поверхности пользовался вымышленным именем – он шпионил для сил безопасности в каньоне Касэя почти двадцать лет, вплоть до ночи, когда они взорвали город и спасли Сакса и его самого. Двадцать лет играть чью-то роль, следовать легенде, ни с кем не разговаривать по душам, – какой отпечаток могли наложить эти годы? Но Спенсер всегда был замкнут, скрытен, весь в себе. Так что это, может быть, ничего не меняло и для него. Он вроде бы хорошо себя чувствовал все эти годы в Одессе, постоянно проходил терапию у Мишеля, временами много пил, но здорово было иметь такого соседа и друга – спокойного, верного, надежного. И он, безусловно, продолжал работать: его проекты с конструкторами-богдановистами никогда не останавливались – ни во время его двойной жизни, ни после них. Он был выдающимся конструктором. И его наброски, сделанные ручкой, были прекрасны. Но что происходит с человеком после двадцати лет двойственности? Может быть, все его личности стали ложными. Майя никогда об этом не задумывалась и не могла такого себе представить. И сейчас, собирая его вещи в пустой квартире, она размышляла над тем, что никогда не приходило ей в голову прежде, – как Спенсеру удавалось жить так закрыто? Это было очень странное достижение. В слезах она сказала Мишелю:
– Ты должен был обо всех думать!
Он лишь кивнул. Спенсер был одним из его лучших друзей.
А в следующие несколько дней на его похороны прибыло на удивление много людей. Сакс, Надя, Михаил, Зейк и Назик, Роальд, Койот, Мэри, Урсула, Марина и Влад, Юрген и Сибилла, Стив и Мэриан, Джордж и Эдвард, Саманта – это напоминало собрание оставшихся членов первой сотни и ближайших к ним иссеев. Майя смотрела на знакомые лица и с горечью в сердце осознавала, что они будут встречаться так еще долго. Съезжаться со всего света, каждый раз меньшим числом, до тех пор, пока однажды кому-нибудь не позвонят и он не поймет, что остался последним. Ужасная судьба. Но Майя не думала, что она достанется именно ей: она не сомневалась, что умрет до этого. Она резко сдаст или ее настигнет что-нибудь другое – если придется, она готова даже броситься под трамвай. Все что угодно – лишь бы избежать такой участи. Ну, или не так уж все. Броситься под трамвай было бы одновременно слишком малодушно и слишком храбро. Она надеялась, что умрет прежде, чем дойдет до этого. О, волноваться не стоило: смерть обязательно придет. Причем задолго до того, как ей захочется умереть. И вообще, может, оказаться последним человеком из первой сотни не так уж плохо. Новые друзья, новая жизнь – не этого ли она теперь искала? Не были ли эти старые печальные лица для нее препятствием в достижении этой цели?
Она грустно стояла, слушая короткую церемонию прощания и быстрые надгробные речи. Говорившие, казалось, терялись, не зная, что сказать. Здесь присутствовало много людей из Да Винчи, коллег Спенсера в его конструкторские годы. Его явно многие любили, чего Майя никак не ожидала, хоть и сама его любила. Удивительно, как такой скрытый человек мог привлечь к себе стольких людей. Наверное, каждый по-своему объяснял пробелы, что в нем были, и любил его как частичку себя. Все они так делали – просто так устроена жизнь.
Но теперь его не было. Они спустились в гавань, и инженеры выпустили гелиевый шарик, а когда он поднялся на стометровую высоту, из него начал медленно высыпаться прах Спенсера, становясь частью тумана, голубизны неба, медных оттенков заката.
В следующие дни вся эта толпа рассеялась, и Майя бродила по Одессе, рыская по магазинам подержанной мебели, отдыхая на скамьях, что стояли вдоль набережной, и наблюдая за солнцем, отражающимся от воды. Она была рада снова здесь оказаться, но все еще ощущала, что ее скорбь по Спенсеру оказалась сильнее, чем она предполагала. Эта скорбь омрачала даже красоту этого прекраснейшего из городов, напоминала о том, что сейчас, приехав сюда и поселившись в старом доме, они пытались сотворить невозможное – вернуться назад, отвергнуть ход времени. Это было безнадежно: время все равно двигалось вперед, и все, что бы они ни делали, – они делали в последний раз. Привычки были отчаянной ложью, они создавали чувство, будто существовало нечто нерушимое, но на самом деле все когда-нибудь заканчивалось. Сейчас в последний раз она сидит на этой скамье. А если выйдет на набережную завтра и опять сядет на нее, то все уже будет по-другому, это тоже будет последний раз – и так все будет когда-нибудь заканчиваться. Последний раз снова и снова, еще и еще, одно последнее мгновение, а за ним следующее, завершенность за завершенностью в неразрывной бесконечной последовательности. Она не могла этого до конца понять. Этого нельзя было ни выразить словами, ни сформулировать в мысль. Но она могла это чувствовать – будто ее все время несла вперед волна или подталкивал ветер, отчего все вокруг проносилось так быстро, что она едва успевала думать и даже как следует чувствовать. Она размышляла ночью в постели, это был последний раз для этой ночи, и она обнимала Мишеля, крепко-крепко, будто могла все остановить, если достаточно его сожмет. Будто могла сохранить Мишеля, тот маленький мир на двоих, что они построили…
– О, Мишель, – проговорила она испуганно. – Все происходит слишком быстро.
Он кивнул не размыкая губ. Он больше не пытался ее вылечить, не пытался представить для нее все в лучшем свете. Теперь он относился к ней как к равной себе, а к ее перепадам настроения – как к некой правде, единственному, что от нее следовало ожидать. Но иногда ей и не хотелось, чтобы он ее успокаивал.
Мишель ни возражал ей, ни говорил ничего воодушевляющего. Спенсер был его другом. Раньше, когда они жили в Одессе и они с Майей ссорились, он иногда уходил к Спенсеру ночевать и наверняка до ночи засиживался с ним за бутылкой виски. Если кто и мог разговорить Спенсера, то это был Мишель, Сейчас же он, усталый старик, сидел на кровати и смотрел в окно. Они уже давно перестали ссориться. Хотя Майе казалось, ей было бы полезно, если бы они это делали – сметали бы паутину, заряжались энергией. Но Мишель не отвечал ни на какие провокации. Самому ему не было дела до ссор, а поскольку он бросил ее лечить, то не хотел вступать в них ради нее. Нет. Они просто сидели рядом на кровати. Майя подумала, что если бы кто-то сейчас к ним вошел, то увидел бы пару потрепанных стариков, которым уже не хотелось даже разговаривать друг с другом. Они молча сидели, каждый думая о своем.
– Да, – произнес Мишель после длиннейшей паузы. – И вот мы здесь.
Майя улыбнулась. Воодушевляющая цитата, произнесенная с большим трудом. Он был храбрым человеком. Ведь это первые слова, произнесенные на Марсе. Джону хорошо удавались разные слова. «И вот мы здесь». На самом деле это звучало глупо. Но ведь Мишель мог вкладывать в них больший смысл, чем Джон в свою очевидную констатацию факта. Может, это был не просто бессмысленный возглас, который мог издать кто угодно?
– И вот мы здесь, – повторила она, пробуя фразу на вкус. На Марсе. Сначала идея, а потом место. И вот они были в почти пустой спальне, не в той, где жили раньше, а в угловой квартире с видами из больших окон на юг и на запад. Такой изгиб моря и гор был только в Одессе и нигде больше. Старые гипсовые стены покрылись пятнами, деревянные полы потемнели и теперь поблескивали – понадобилось много лет, чтобы получилась такая патина. Одна дверь – в гостиную, другая в коридор, ведущий на кухню. У них был матрац на каркасной кровати, диван, несколько стульев, нераспакованных коробок – с их вещами из прошлого, теперь привезенными из хранилища. Удивительно, как несколько предметов мебели могли изменить облик комнаты. Сейчас, глядя на эту обстановку, она начинала чувствовать себя лучше. Они распакуют вещи, расставят мебель и будут ею пользоваться, пока она не станет незаметной. Привычка снова скроет обнаженную реальность. И спасибо Богу за это.
Вскоре после этого состоялись всемирные выборы, и «Свободный Марс» вместе со своими младшими союзниками снова составила сверхбольшинство в мировом парламенте. Их победа, однако, оказалась не такой сокрушительной, как ожидалось, и некоторые из союзников, придя в недовольство, искали для себя лучшие возможности. Мангала стала рассадником слухов, и можно было проводить перед экранами дни напролет, читая колонки, анализы и сплетни, в которых обсуждались вероятные развития событий. Страсти вокруг проблемы иммиграции разгорались сильнее, чем за долгие годы, и обстановка в Мангале, напоминающей теперь потревоженный муравейник, лишь подтверждала это. Результаты выборов следующего исполнительного совета оставляли очень много сомнений, и стали ходить слухи, что Джеки приходилось отражать нападки, исходившие изнутри партии.
Майя выключила экран и глубоко задумалась. Затем позвонила Атосу, который, увидев ее, удивился, но тут же принял вежливый вид. Его избрали представителем городов в бухте Непентес, и сейчас он находился в Мангале, где напряженно работал на Зеленых, которые показали весьма сильный результат и, собрав мощную группу представителей, заключили много новых союзов.
– Тебе стоит выдвинуть себя в исполнительный совет, – сказала ему Майя.
Теперь он удивился не на шутку.
– Мне?
– Тебе. – Майя хотела сказать ему, чтобы он посмотрел в зеркало и подумал над этим, но прикусила язык. – Ты лучше всех показал себя во время кампании, а многие хотят поддержать иммиграцию, но не знают, за кем им идти. Ты для них лучший вариант. Ты можешь даже переговорить с «Первыми на Марсе» и попробовать убедить их разорвать союз со «Свободным Марсом». Пообещай, что займешь умеренную позицию и поддержишь своим голосом, – и получишь перспективные симпатии Красноватых.
Это уже его взволновало. Если он, находясь в отношениях с Джеки, выдвинется в совет, то накликает на себя беду. Особенно если уйдет вслед за «Первыми на Марсе». Но после приезда Питера это, вероятно, заботило его не так, как в те жаркие ночи в канале. Майя оставила его переваривать эти мысли. Теперь она сделала все, что было в ее силах.
Хоть она и не собиралась воссоздавать свою прошлую жизнь в Одессе, но хотела работать и склонялась к тому, чтобы основным ее направлением сейчас стала гидрология, а не эргономика и тем более политика. Ее интересовал водный цикл бассейна Эллады и то, как он изменялся теперь, когда бассейн был заполнен. Мишель занимался своей практикой и готовился начать работу над проектом первопоселенцев, о котором ему рассказали еще в Родосе, поэтому и ей нужно было что-то делать. Распаковав вещи и обставив новую квартиру, она отправилась в «Дип-Уотерс».
Старое офисное здание теперь превратилось в весьма симпатичный жилой дом в приморской части города. В справочниках названия фирмы больше не было. Зато там оказалась Диана – она жила в одном из крупных домов в микрорайоне в верхней части города и была рада увидеть Майю, когда та появилась у нее на пороге. Они вышли пообедать, и Диана рассказала о текущей обстановке в местном «водном мире», в котором она по-прежнему работала.
– Большинство тех, кто работал в «Дип-Уотерс», переехали прямо в институт моря Эллады.
Это была многопрофильная группа, состоящая из представителей всех сельскохозяйственных кооперативов и водных станций в районе бассейна, а также рыбных хозяйств, Одесского университета, со всех городов побережья и из поселений, что располагались выше на протяженных водоразделах бассейна. Прибрежные города были особенно заинтересованы в стабилизации уровня моря немного над минус-однокилометровым, то есть на несколько десятков метров выше нынешнего уровня Северного моря.
– Они хотят, чтобы уровень по возможности не менялся ни на метр, – пояснила Диана. – А Гранд-канал не позволяет наладить сток в Северное море, потому что его шлюзы требуют, чтобы вода стекала в обоих направлениях. Поэтому приходится уравновешивать входящие потоки с водоносных горизонтов и дожди, учитывать потери от испарения. Пока это получается. Испаряется сейчас больше, чем выпадает осадков на водосборную площадь, поэтому с каждым годом водоносные горизонты сокращаются на несколько метров. Когда-нибудь это станет проблемой, но это случится нескоро, потому что у них еще остался большой запас и он сейчас немного пополняется, а в будущем может пополняться еще больше. Мы надеемся, что количество осадков тоже со временем возрастет – до сих пор оно увеличивалось, так что, наверное, еще какое-то время рост будет продолжаться. Не знаю. Но пока это в любом случае наша основная забота – что атмосфера вберет в себя больше, чем водоносные горизонты смогут возместить.
– Разве атмосфера не должна полностью гидратизироваться?
– Может быть. Никто точно не знает, насколько влажной она станет. Изучение климата, как по мне, – это просто абсурд. Глобальные модели слишком сложны, на них влияет слишком много переменных. Мы знаем только, что воздух пока еще довольно сухой и, судя по всему, будет увлажняться. Так что каждый верит во что хочет и что-то пытается предпринимать, а природоохранные суды, как могут, за всем этим следят.
– А запрещают что-нибудь?
– О да, но только тепловые насосы. Всякими мелочами они не занимаются. По крайней мере, до сих пор не занимались. Хотя в последнее время стали вести себя жестче и берутся даже за не очень крупные проекты.
– Полагаю, именно такие проекты легче всего рассчитываются.
– Пожалуй, так. И они уравновешивают друг друга. Есть много проектов Красных, по которым они стараются защитить высокогорные регионы и все, что можно, на юге. Они используют предел высоты, прописанный в конституции, и чуть что, сразу жалуются в мировой суд. И там выигрывают дела, проводят свои проекты, и те каким-то образом нейтрализуют друг друга. И это – своего рода правовой кошмар.
– Они просто пытаются сохранить стабильность.
– Ну, мне кажется, на больших высотах все же больше воздуха и воды, чем положено. Только в самых высокогорных регионах этого нет.
– Ты же говоришь, они выигрывают в судах?
– В судах – да. Но на атмосферу не могут повлиять. Сейчас очень много всего в ней происходит.
– А они не пытались закрыть фабрики парниковых газов?
– Пытались, но проиграли. Эти газы все только поддерживают. Без них у нас наступил бы ледниковый период и длился бы до сих пор.
– Но сокращение уровня выпуска…
– Да, знаю. Насчет этого еще идут споры. И будут идти бесконечно.
– Это точно.
Тем временем уровень воды в море Эллады был согласован. Это был законный факт, и все усилия в районе бассейна были направлены на обеспечение того, чтобы его море подчинялось закону. Все это было фантастически сложным, хотя принцип и был прост: они измеряли гидрологический цикл с учетом всех бурь, изменений количества дождя и снега, таяния и просачивания в землю, стока в виде рек и ручьев в озера и само море, где вода застывала зимой и испарялась летом, после чего весь цикл начинался заново… И при этом колоссальном цикле они делали все, что возможно, для стабилизации уровня моря размером с Карибский бассейн. Если воды оказывалось слишком много и они хотели снизить уровень, то у них была возможность откачать немного ее обратно в опустевшие водоносные слои в горах Амфитриты на юге. Правда, в этом им приходилось сталкиваться со значительными ограничениями, так как эти слои состояли из пористых пород, которые зачастую обрушивались после первого удаления воды, из-за чего их было невозможно заполнить заново. По сути, это было одной из главных проблем проекта. В стремлении соблюсти баланс…
И подобные усилия предпринимались по всему Марсу. Это было каким-то безумием. Но они просто хотели достичь этой цели, и все тут. Диана пустилась рассказывать о попытках осушить бассейн Аргир. По масштабу этот проект был сопоставим с затоплением Эллады и предусматривал строительство гигантских трубопроводов, по которым вода будет транспортироваться из Аргира в Элладу, если там возникнет ее нехватка, или, если нет, в речные системы, ведущие к Северному морю.
– А с самим Северным морем что? – спросила Майя.
Диана, с набитым ртом, покачала головой. Очевидно, все соглашались с тем, что Северное море находилось вне правового регулирования, но оставалось более-менее стабильным. За ним нужно только наблюдать, следить за тем, что происходит, а прибрежным городам приходилось принимать на себя все риски. Майя считала, что его уровень со временем немного снизится – вода снова собиралась в вечномерзлых грунтах или застревала в тысячах кратерных озер в южных горах. Поэтому большое значение имело выпадение осадков и их сток в Северное море. Относительно южных гор еще нужно было принять решение, рассказала Диана. Она вызвала на экран своей наручной консоли карту и показала Майе. Кооперативы по строительству водоразделов все еще устанавливали отводы, направляли воду в горные ручьи, укрепляли русла рек, раскапывали зыбучие пески, где иногда оказывались скрытые русла древних ручьев, но большинство новых потоков все же должно было проходить по лавовым образованиям, каньонам или редким коротким каналам. Результат этих действий мало походил на венозную сеть водоразделов Земли, представляя собой смешение мелких круглых озер, замерзших болот, арройо и длинных прямых рек, резко изгибающихся под прямыми углами, иногда уходящих под грунт или направленных в трубопроводы. Лишь повторное наполнение древних русел выглядело «как надо»; остальные же места напоминали полигон для бомбометания, залитый ливневым дождем.
Многие старожилы «Дип-Уотерс», которые не работали в университете моря Эллады напрямую, учредили собственный кооператив, который занимался составлением карт бассейнов подземных вод в районе Эллады, измерением возврата воды в водоносные слои и грунтовые реки, рассчитывал, сколько воды можно запасти и восстановить, и так далее. Диана, как и многие из прежних коллег Майи, состояла в этом кооперативе. После обеда Диана отправилась к своим и рассказала, что Майя вернулась в город. Услышав, что Майя интересовалась возможностью присоединиться к ним, они предложили ей место и даже уменьшили вступительный взнос. Довольная такой любезностью, Майя решила принять их предложение.
И она начала работать в «Эгейском горизонте», как назывался кооператив. Теперь она просыпалась по утрам, варила кофе, съедала тост, или бисквит, или круассан, или булочку, или лепешку. В погожие дни она ела на балконе, но чаще всего – перед окном с видом на бухту, за круглым обеденным столом, читая с экрана «Одесский вестник», где подмечала каждую мелочь, что говорила о сгущающихся тучах в отношениях между Марсом и Землей. В Мангале парламент избрал новый исполнительный совет, и в нем не оказалось Джеки – ее заменил Нанеди. Майя даже вскрикнула и принялась читать все обзоры, которые смогла найти, смотреть интервью. Джеки заявляла, что отказалась от выдвижения своей кандидатуры, что устала после стольких М-лет и собиралась взять отпуск, как уже делала несколько раз, а потом вернуться – при этих последних словах она остро сверкнула взглядом. Нанеди благоразумно воздерживался от комментариев, но был доволен и смотрел слегка изумленно – взглядом человека, повергнувшего дракона. И хотя Джеки твердила, что продолжит работать в партийном аппарате, ее влияние там явно ослабло – иначе она, несомненно, осталась бы в совете.
Итак, она вывела Джеки из большой игры, но антииммигрантские силы по-прежнему оставались у власти. Партия «Свободный Марс» все еще имела при себе коалицию, благодаря которой составляла сверхбольшинство. Ничего существенно не поменялось: жизнь продолжалась, с Земли, как и раньше, поступали угрожающие сообщения. Майя была уверена, что когда-нибудь земляне всерьез возьмутся за марсиан. Разберутся между собой, успокоятся, осмотрятся, составят планы, скоординируют силы. Если она хотела сохранить аппетит, ей явно не стоило завтракать перед экраном.
И она взяла в привычку выходить в город и заказывать более плотный завтрак в кафе у обрыва вместе с Дианой, а позднее с Надей и Артом или кем-нибудь еще из приезжих. После завтрака она отправлялась в офис «Эгейского горизонта», который находился в районе восточного края приморской части города, – для этого она совершала приятную прогулку, дыша воздухом, который с каждым годом становился чуть соленее. В «Эгейском горизонте» у нее был свой кабинет с окном, где она занималась тем же, чем и в «Дип-Уотерс», взаимодействуя с институтом моря Эллады и координируя быстроменяющуюся команду ареологов, гидрологов и инженеров, направляя их исследовательскую мощь преимущественно в горы Геллеспонт и Амфитриты, где располагалась бо́льшая часть водоносных горизонтов. Она ездила по побережью, осматривая некоторые их объекты и сооружения, а также поднималась в горы, часто бывая в небольшом городке Монтепульчиано на юго-западном берегу моря. Возвращаясь в Одессу, она работала там днем, рано заканчивая и потом слоняясь по городу, заходя в магазины подержанной мебели или одежды – ее начинали интересовать новые стили и их сезонные изменения. Это был стильный город, люди здесь хорошо одевались, и ей новейшие стили шли: она выглядела скорее как низенькая старая уроженка с царственной осанкой… Ближе к вечеру она часто оказывалась у обрыва – прогуливаясь оттуда к их квартире, сидя в парке или, летом, заказывая себе что-нибудь в одном из прибрежных кафе. Осенью в доках останавливалась целая флотилия кораблей, которые перекидывали между собой трапы и начинали принимать плату за вход на винный фестиваль, а после наступления темноты устраивали салюты над водой. Зимой на море рано опускалась темнота, и прибрежные воды иногда покрывались льдом – в такие вечера под сияющим пастельными тонами небом на море появлялись катающиеся на коньках и мелких буерах.
Однажды, когда она сидела одна в кафе, театральная труппа устроила постановку «Кавказского мелового круга» на соседней аллее, и свет у временной сцены оказался настолько ярок, что привлек Майю, словно мотылька. Она едва улавливала ход пьесы, но некоторые моменты производили на нее сильное впечатление, особенно когда выключались огни и действие как будто прекращалось, а актеры замирали в слабом вечернем освещении. В такие моменты, казалось Майе, не хватало лишь немного голубых тонов – и они были бы идеальны.
Потом труппа отправилась ужинать в кафе, и Майя пообщалась с режиссером, средних лет уроженкой по имени Латроуб, которой так же интересно было встретиться с ней. Они поговорили о спектакле, о теории политического театра Брехта. Латроуб, как оказалось, поддерживала Землю и иммиграцию, хотела ставить пьесы, которые приводили бы доводы в пользу идеи открытого Марса и приобщали новых иммигрантов к ареофании. Она сетовала, что в классическом репертуаре существовало до боли мало пьес, которые взывали бы к подобным чувствам. Им нужны были новые пьесы. Майя рассказала ей о политических вечерах Дианы во времена ВП ООН, как они иногда собирались в парках. На замечание о голубом цвете в постановке того вечера Латроуб пригласила Майю зайти поговорить с труппой о политике и, возможно, помочь с освещением. Оказалось, что раньше труппа выступала в тех же парках, где собиралась и группа Дианы. Может, у них даже получится выбраться туда снова и поставить еще что-нибудь брехтианское.
И Майя стала заходить и беседовать с труппой, а спустя время, сама того не заметив, оказалась в бригаде осветителей, а заодно стала помогать с костюмами, что было в некотором смысле связано с модой. Также она подолгу, засиживаясь допоздна, обсуждала с актерами концепцию политического театра, помогала находить новые пьесы – по сути, превратилась в политического и эстетического консультанта. Но она решительно сопротивлялась всяким попыткам вытащить себя на сцену – не только со стороны труппы, но и Мишеля и Нади.
– Нет, – говорила она. – Не хочу этого делать. Если выйду, они тут же захотят, чтобы я играла Майю Тойтовну в той пьесе о Джоне.
– Это опера, – возразил Мишель. – Тебе тогда придется петь сопрано.
– И тем не менее.
Играть она не хотела, для игры хватало повседневной жизни. Но все же она наслаждалась миром театра. Это был новый способ достучаться до людей, изменить их ценности – менее утомительный, чем прямой подход через политику, но более зрелищный и в некоторых отношениях более эффективный. Театр в Одессе развивался, кино стало мертвым искусством – постоянное и нескончаемое перенасыщение картинками с экранов сделало их все одинаково скучными, но что жители Одессы любили, так это непосредственность и рискованность непроизвольных представлений, мгновения, которые нельзя было вернуть и которые никогда не были такими, как раньше. Театр по праву считался важнейшим искусством в городе, и во многих других марсианских городах происходило то же самое. И за несколько М-лет одесская труппа поставила целый ряд политических пьес, включая полный список работ южноафриканского драматурга Атола Фугарда, чьи пронзительные, страстные драмы вскрывали укоренившиеся убеждения, бросали вызов ксенофобии души и были, по мнению Майи, лучшими англоязычными пьесами со времен Шекспира. А потом труппа стала открывать и делать знаменитыми тех, кого позже прозвали Одесской группой, – полдюжины молодых драматургов из числа уроженцев, таких же беспощадных, как Фугард, мужчин и женщин, которые в каждой пьесе исследовали самые гнетущие проблемы новых иссеев и нисеев, их болезненное приобщение к ареофании – писали о миллионах маленьких Ромео и Джульетт, о миллионах маленьких кровавых узлов, завязанных и разрубленных. Для Майи такие спектакли служили лучшим окном в современный мир, и театр для нее все больше становился способом отвечать миру, пытаться придать ему форму, насколько это возможно. Ей приносило большое удовлетворение, когда о пьесах ее театра говорили, когда они даже производили фурор, когда новые работы труппы встречали нападки антииммигрантского правительства, которое все еще имело власть в Мангале. Это была политика нового типа, самого занимательного из всех, с какими она встречалась; ей хотелось рассказать об этом Фрэнку, показать, как это устроено.
В те годы, пока месяцы попарно сменяли друг друга, Латроуб поставила немало и старой классики, и при подготовке и просмотре таких пьес Майю все сильнее захватывала сила трагедии. Ей нравилось работать над политическими пьесами – злободневными, утопическими, зовущими к прогрессу, но старые земные трагедии пробирали ее своей правдивостью до глубины души. И чем трагичнее звучал финал, тем сильнее эмоции потрясали Майю. Она испытывала весьма сильный катарсис, каким его описывал Аристотель, и после хороших постановок великих трагедий выходила сокрушенной, очищенной и – почему-то счастливой.
Однажды ночью она поняла, что пьесы заменяли ей ссоры с Мишелем – он назвал бы это сублимацией, причем очень полезной, – ему, конечно, было легче оттого, что вместо него Майе помогал театр. Да и вообще воздействие театра возвышеннее, благороднее, чем воздействие бесед с психиатром. Кроме того, в этих трагедиях присутствовала Древняя Греция, а ведь связь с ней ощущалась по всему бассейну Эллады, в городах и среди диких. Таким образом, отдельные регионы Марса утверждали неоклассицизм, который, как чувствовала Майя, приносил пользу всем: люди пытались соответствовать греческой правдивости и безбоязненным взглядам древних греков на действительность. «Орестея», «Антигона», «Электра», «Медея», «Агамемнон» (которого стоило бы назвать «Клитемнестра») – все они об удивительных женщинах, которые вынуждены отвечать на те невзгоды, которым подвергли их мужчины и которые давали отпор, как Клитемнестра, которая убила Агамемнона и Кассандру, а потом рассказала, как она это сделала, в конце взглянув на зрителей, прямо на Майю:
Дел ужасных все ли мало? Новой крови лить нельзя. В дом иди! И вы, о старцы, расходитесь по домам, — Прежде чем беда случилась. А былому – так и быть[49].А былому – так и быть. Как правдиво! Она любила эту правдивость. Грустные пьесы, грустная музыка – тренодии, цыганское танго, «Прометей прикованный» и даже яковианские трагедии мести – и вообще, чем мрачнее, тем лучше. Тем правдивее. Она делала освещение для «Тита Андроника», и люди приходили в возмущение и ужас, говорили, что все свелось к сплошной кровавой бане – она действительно использовала много красного, – но в сцене, где лишенная рук и языка Лавиния пытается выяснить, кто ее покалечил, или опускается на колени, чтобы, как собака, взять зубами отрезанную руку Тита, – публика словно застывала, и никто бы не сказал, что Шекспир не обладал тем драматургическим мастерством с самого начала, и не важно, кровавая это была баня или нет. А потом, с каждой следующей пьесой он лишь набирал силу, становясь более мрачным и правдивым, даже в позднем творчестве. После долгой и утомительной, но вдохновенной постановки «Короля Лира» она вышла в приподнятом настроении, возбужденная; смеясь, приобняла молодого парня из бригады осветителей за плечо, и встряхнув его, закричала:
– Разве это не чудесно, не блестяще?
– Ка, Майя, не знаю, мне самому больше нравится реставрационная версия, где Корделия выживает и выходит замуж за Эдгара, знаешь ее?
– Ба! Глупое дитя! Мы же сегодня показали правду, вот что важно! Это ты завтра можешь вернуться к своей лжи! – резко рассмеявшись над ним, она оттолкнула парня к его друзьям. – Дурная молодежь!
Тот объяснил своим:
– Просто это Майя.
– Тойтовна? Это которая из оперы?
– Да, только настоящая.
– Да, настоящая, – усмехнулась Майя, махнув на них рукой. – Вы даже не знаете, что это значит – настоящее. – И она чувствовала это знание в себе.
Друзья приезжали и к ней, на неделю-две, а потом, когда каждое лето становилось все теплее предыдущего, они взяли в привычку проводить один из декабрей в пляжном поселении к востоку от города, где жили в лачуге за дюнами, плавали и катались на лодках, занимались серфингом, валялись на песке под зонтом, читали и просыпали перигелий. А потом возвращались в Одессу, к знакомым удобствам квартиры и города, в сияющий свет южной осени, самого длинного времени марсианского года. И приближались к афелию, перед которым дни становились все более унылыми, и он наступал, в Ls=70°, а между ним и зимним солнцестоянием на Ls=90° проходил Ледяной фестиваль, и они катались на коньках по белому льду под самым обрывом, глядя оттуда вверх на городскую набережную, всю занесенную снегом, белую под черными облаками, или катались на буерах, уходя в море настолько далеко, что город превращался в небольшой разрыв в белой кривой огромного обода. Или же она сама ела в теплых шумных ресторанах, где ждала, когда начнет играть музыка, и наблюдала, как мокрый снег засыпает улицу. Ходила пешком в затхлый маленький театр и смеялась там над шутками раньше времени. Ела на балконе впервые за весну, надев свитер, чтобы не замерзнуть, разглядывая новые почки на ветках, выделяющиеся своей зеленью, как маленькие слезы viriditas. И так по кругу, глубоко погрязнув в своих привычках и ритмах, счастливая в состоянии дежавю, которое сама для себя создала.
А однажды утром, включив экран и почитав новости, узнала, что в долине Хуо Синь – будто название могло служить оправданием вторжению – было обнаружено крупное китайское поселение. Изумленная мировая полиция приказала им покинуть планету, но те спокойно игнорировали приказ. При этом правительство Китая предупредило Марс, что любое посягательство на поселение будет расценено как нападение на китайских граждан и повлечет соответствующую реакцию.
– Что? – вскричала Майя. – Нет!
Она позвонила каждому своему знакомому в Мангале – правда, мало кто из них теперь занимал сколько-нибудь влиятельные посты. Она выспрашивала у них обо всем, что они знали, и требовала ответить, почему поселенцы не были выпровожены к лифту и отправлены домой.
– Это просто неприемлемо, вы должны сейчас же это остановить!
Ведь подобные случаи, только не такие шумные, случались уже некоторое время – она сама видела такого рода сообщения в новостях. Иммигранты прибывали на дешевых транспортных аппаратах, минуя лифт и администрацию Шеффилда. Ракеты и парашюты – точно как в старые времена, и с этим ничего нельзя было поделать, не создав межпланетный инцидент. В кулуарах упорно работали над разрешением ситуации. ООН поддерживала Китай, и это усложняло дело. Но прогресс был, и он двигался медленно, но верно. Ей не стоило беспокоиться.
Однако признать это было тяжело.
– Этого уже достаточно, чтобы примкнуть к Красным, – сказала она Мишелю, уходя на работу. – Достаточно, чтобы перебраться на работу в Мангале, – добавила она.
Но спустя неделю кризис миновал. Компромисс был найден: поселение разрешили сохранить, а китайцы пообещали отправить соответственно меньшее количество иммигрантов в следующем году. Это выглядело крайне неудовлетворительно, но что было, то было. И жизнь продолжилась, уже омраченная этой новой тенью.
А однажды вечером, поздней весной, когда она возвращалась домой после работы, ее внимание привлек ряд розовых кустов вдоль дороги, и она подошла, чтобы поближе их рассмотреть. За ними, вдоль кафе по Хармахис-авеню бродили люди, и большинство из них торопились. На кустах появилось много новых листьев, чей коричневый цвет состоял из смеси зеленых и красных оттенков. Молодые розы были темно-красными, и их бархатистые лепестки сияли в вечернем свете. «Линкольн» – было написано на стволе. Сорт розы. Еще один великий американец, человек, который, каким представляла его Майя, был чем-то средним между Джоном и Фрэнком. Один из драматургов труппы написал о нем великолепную пьесу, мрачную и тревожную, где героя бесчувственно убивают, – настоящая трагедия. Вот и сегодня им не хватало такого Линкольна. Розы ярко сияли красным. Внезапно ей захотелось отвернуться, на мгновение у нее поплыло перед глазами – словно она посмотрела на солнце.
А затем посмотрела сразу на множество вещей.
Формы, цвета… она все это понимала, но чем они были… кем она была… она, не говоря ни слова, пыталась определить…
И тогда все разом хлынуло на нее. Роза, Одесса, все в один миг, как если бы оно никуда и не пропадало. Но она пошатнулась и еле устояла на ногах.
– О нет, – проговорила она. – Боже мой…
Она сглотнула: горло оказалось сухим, совсем сухим. Психологическое событие. Оно продлилось какое-то время. Она фыркнула, подавила слезы. Твердо встала на гравийную дорожку перед зелено-коричневой изгородью, усеянной багрово-красными точками. Этот цветовой эффект ей стоило запомнить для следующей яковианской постановки, над которой они работали.
Она всегда знала, что это случится. Всегда. Привычка – такая ложь, она это знала. Внутри нее тикала бомба. Раньше она должна была протикать три миллиарда раз или около того. Сейчас их бомбы протикали уже десять миллиардов раз и продолжали тикать дальше. Она слышала, что можно было купить часы, которые шли заданное количество часов – предположительно равное остатку жизни человека, если он собирался прожить, например, пятьсот лет или любое количество, которое он задаст. Выбери миллион и расслабься. Выбери один год и внимательнее сосредоточься на настоящем.
Или, как все, кого знала Майя, следуй своим привычкам и никогда об этом не задумывайся. Она бы с удовольствием так и сделала. Она делала так раньше и была готова повторить. Но сейчас, в этот момент что-то произошло, и она снова оказалась на перепутье, в каком-то пустом времени между наборами привычек, в ожидании следующего опустошения. Нет, нет! Почему? Она не хотела такого времени – слишком тяжелого для нее – и едва ощущала его ход. Она чувствовала, будто все случается в последний раз. И ненавидела это чувство всей душой. В этот раз она совсем не меняла своих привычек. Все было как раньше, ничего не изменилось. Может быть, прошло слишком много времени с последнего раза, и привычки не выстояли. Может быть, это начнет происходить теперь, когда само захочет, в произвольном порядке и, вероятно, с высокой частотой.
Она вернулась домой («Я знаю, где мой дом!») и попыталась объяснить Мишелю, что случилось. Она рассказывала в рыданиях, но затем сдалась.
– Мы делаем все только один раз! Ты понимаешь?
Его это весьма взволновало, хотя он старался этого не показывать. С пробелами в памяти или нет, она всегда распознавала настроения мсье Дюваля без труда. Он сказал, что ее небольшое жамевю, вероятно, было вызвано крошечным эпилептическим припадком или инсультом, но сказать наверняка он не мог и даже тесты не гарантировали ответа. Жамевю было слабо изучено, но считалось противоположностью дежавю.
– Это что-то вроде временного расстройства характеристик мозговых волн. Они переходят от альфа-волн к дельта-волнам и при этом образуют небольшой провал. Если ты будешь носить монитор, то мы сможем понять, когда это произойдет в следующий раз – если оно произойдет. Это похоже на бодрствующий сон, при котором отключаются когнитивные функции.
– А в нем можно остаться надолго?
– Нет. Я не знаю таких случаев. Это случается редко и всегда имеет временный характер.
– Пока что.
Он постарался показать своим видом, что этот ее страх совершенно безоснователен.
Но Майя знала лучше его и ушла на кухню ужинать. Погремела кастрюлями, открыла холодильник, достала овощей, порезала их и бросила на сковородку. Вжик, вжик, вжик, вжик! Она пыталась перестать плакать, перестать переставать плакать – даже это уже происходило десять тысяч раз. Катастроф нельзя избежать, но еще была привычка чувствовать голод. На кухне она пыталась, не обращая ни на что внимания, приготовить еду – в который уже раз. Что ж, и вот мы здесь.
После этого она стала избегать ряда розовых кустов, боясь, что подобное повторится. Но они, конечно, были отовсюду видны на том участке обрыва, что соседствовал с волнорезом. И они почти всегда были в цвету – в такое время розы выглядели потрясающе. А однажды, в таком же предвечернем свете, струящемся над Геллеспонтом, заставляя все, что находилось на западе, казаться несколько блеклым, непрозрачным в наступающей темноте, она уловила взглядом эти красные розы, хотя и шла по дамбе. И, видя с одной стороны пену на черной воде, а с другой – розы и возвышающуюся Одессу за ними, она остановилась – от чего-то, замеченного при двоении в глазах, от осознания того, что она оказалась – или почти оказалась – на грани эпифании. Она ощутила, как на нее давит некая огромная правда, находящаяся совсем рядом – или внутри нее, может, даже, внутри ее черепа, но не в мыслях, и давящая на ее твердую мозговую оболочку, – объясняющая все, и она, наконец, все понимает, в один миг…
Но эпифания никогда не проходила этот барьер. Одно лишь чувство, смутное, но сильное – а потом давление на разум спало и вечер принял свой привычный оловянный оттенок. Она пошла домой, ощущая, будто в груди у нее бушуют океаны и она готова взорваться от чего-то напоминающего то ли бессилие, то ли мучительную радость. Она снова рассказала Мишелю о случившемся, и он кивнул. Он знал название и для этого:
– Прескевю. Почти увиденное. У меня оно часто бывает, – сказал он с тайной грустью в глазах.
Но Майе внезапно показалось, что все его группы симптомов нужны лишь затем, чтобы скрыть то, что происходило с ней на самом деле. Иногда она приходила в сильное замешательство, иногда – думала, что понимала то, чего не существовало, иногда – что-то забывала, навсегда, иногда – пугалась до глубины души. И все это Мишель стремился облечь именами и заключить в свои квадраты.
Почти увиденное. Почти понятое. А потом – обратно в мир света и времени, где уже не оставалось ничего, кроме этого ощущения, и можно было лишь продолжать дальше. И она продолжала. Через несколько дней она уже не могла вспомнить этого чувства – помнила лишь то, как была напугана и как близка была к ощущению радости. Оно казалось странным, а потому легко забылось. Она просто жила в la vie quotidienne[50], заполняя ее работой, друзьями, гостями.
Среди последних были и Шарлотта с Ариадной, которые приехали из Мангалы, чтобы посовещаться с Майей по поводу ухудшающегося положения на Земле. Они вышли позавтракать у обрыва и обсудили тревоги, актуальные в Дорсе Бревиа. По сути, несмотря на то, что минойцы вышли из коалиции со «Свободным Марсом» из-за неприятия их попыток доминировать над внешними поселениями и не только, сейчас бревийцы пришли к мнению, что позиция Джеки по иммиграции была верна – по крайней мере, до некоторой степени.
– Это неправда, что Марс скоро достигнет своей максимальной численности населения, – сказала Шарлотта. – Тут они ошибаются. Мы можем затянуть пояса, увеличить компактность городов. А новые плавучие города в Северном море способны вместить немало людей – они даже показывают, сколько еще людей могли бы там у них жить. Плавучие города вполне самостоятельны и имеют влияние только на портовые города, в некотором смысле. Но и для новых портов есть место, по крайней мере в Северном море.
– И много места, – добавила Майя. Несмотря на вторжение Земли, ей не нравилось слушать антииммигрантские разговоры в какой-либо форме, даже в пересказе своих сторонников.
Но Шарлотта снова оказалась в исполнительном совете и уже много лет поддерживала тесную связь с Землей, поэтому она продолжала говорить:
– Дело не просто в цифрах. А в том, кто они такие, во что они верят. Проблемы ассимиляции становятся по-настоящему серьезными.
Майя кивнула.
– Я читала об этом с экрана.
– Да. Мы всеми способами пытались приобщить новоприбывших, но они только сбиваются в кучки, их никак нельзя разнять.
– Да, не получается.
– Но возникает столько проблем: шариат, бытовое насилие, стычки этнических банд, нападения иммигрантов на уроженцев – чаще всего мужчины нападают на женщин, но не всегда. Да и шайки молодых уроженцев отвечают тем же – донимают новых поселенцев и тому подобное. Это большая беда. И это притом, что иммиграция уже существенно ограниченна – по крайней мере, официально. Но ООН сердится на нас из-за этого и хочет отправлять больше людей. Так, пожалуй, мы станем чем-то вроде человеческой свалки и все, что мы здесь сделали, пропадет даром.
– Хм-м, – Майя покачала головой. Конечно, она знала об этой проблеме. Но ее печалила мысль, что сторонники вроде этих могли перейти на противоположную сторону лишь потому, что проблема усугубляется. – И все равно, что бы вы ни сделали, нужно считаться с ООН. Если вы запретите иммиграцию, а они все равно продолжат отправлять людей, то наш труд пропадет даром еще быстрее. Ведь так уже случалось с этими их вторжениями, верно? Лучше разрешить иммиграцию, сохранить ее в минимальном объеме, который будет удовлетворять ООН, и смириться с теми иммигрантами, что будут прилетать.
Две женщины печально кивнули. Они еще немного поели, глядя на свежую синеву утреннего моря.
– Есть еще одна проблема – экс-наднационалы, – сообщила Ариадна. – Они хотят сюда еще сильнее, чем те, кого отправляет ООН.
– Несомненно.
Майю ничуть не удивляло, что прежние наднационалы до сих пор сохраняли некоторое влияние на Земле. Конечно, им всем пришлось скопировать модель «Праксиса», чтобы выжить, и, претерпев столь существенные изменения в своей природе, они больше не походили на тоталитарные силы, стремящиеся захватить весь мир, но оставались большими и сильными, в них состояло много людей и вращалось много средств. Они по-прежнему хотели заниматься бизнесом, обеспечить своих членов. Стратегии, по которым они намеревались это сделать, иногда были достойны восхищения, иногда – нет: можно было сделать то, что людям было действительно нужно, более свежим и лучшим способом, или можно было играть, пытаться использовать какие-то преимущества, заострять внимание на ложных потребностях. Большинство экс-наднационалов, конечно, использовали смешанные стратегии, пытаясь стабилизировать сложившееся многообразие, как в свои старые капиталистические деньки. Но от этого стало лишь сложнее бороться с плохими стратегиями – ведь все применяли их на том или ином уровне. И теперь многие экс-наднационалы активно брались за марсианские программы, работая на земные правительства, – транспортировали людей, строили города, добывали полезные ископаемые, занимались промышленностью и торговлей. Иногда казалось, что эмиграция с Земли на Марс не прекратится, пока планеты не будут заполнены в равной степени, что, учитывая гипермальтузианское положение Земли, обернется для Марса катастрофой.
– Да-да, – с нетерпением проговорила Майя. – И тем не менее мы должны попытаться им помочь, а самим нам нужно держаться в пределах допустимого. Иначе случится война.
Уходя, Шарлотта и Ариадна выглядели такими же обеспокоенными, какой Майя себя ощущала. И внезапно она с ужасом поняла, что, если они приезжали за помощью к ней, значит, дела действительно плохи.
Так ее политическое прошлое взыграло снова, несмотря на то, что она старалась держать его в рамках. Она редко покидала Одессу – только по делам «Эгейского горизонта». Не прекращала она и работать в театре, который, так или иначе, стал основой ее политической деятельности. Теперь же она начала выезжать на встречи и съезды, где иногда даже выступала на сцене. Wertewandel принимала разные формы. Однажды ночью она так забылась, что приняла предложение баллотироваться в мировой сенат от Одессы как член Земного общества друзей, в случае если не удастся найти более способного кандидата. Позднее, когда она смогла обдумать свое согласие, ей пришлось умолять, чтобы сначала рассмотрели другие кандидатуры, и в итоге решили выбрать одного из молодых драматургов из группы, с которой она сотрудничала. Он работал в Одесской городской администрации, и это был хороший выбор. А она продолжала делать все, что было в ее силах, чтобы помочь землянам, но менее активными способами. Ее собственная деятельность вызывала у нее все более странные чувства – с одной стороны, нельзя превысить максимально допустимую численность населения планеты, не приведя к катастрофе, – вся история Земли после девятнадцатого столетия эта доказывала. Поэтому им следовало быть осторожными и не впускать слишком много людей – они словно ходили по натянутому канату, – но, с другой стороны, ограниченный период перенаселения лучше прямого вторжения, и об этом она твердила на каждом собрании, где брала слово.
Ниргал все это время проводил на необжитых территориях, живя своей кочевничьей жизнью, общаясь с дикими и фермерами, и, как она надеялась, производя свой привычный эффект на марсианское мировоззрение. Или на коллективное подсознание, как подсказывал ей Мишель. Майя возлагала на Ниргала большие надежды. И, как могла, старалась справиться с другими цепочками событий в своей жизни, в том числе стремилась противостоять истории, что в некотором смысле было самой темной из всех цепочек, потому что она тянулась через всю ее жизнь, связывая ту в большую извивающуюся петлю и возвращая обратно к дурному предчувствию, какое преобладало в период ее предыдущей жизни в Одессе.
Выходит, это уже было тем вредным дежавю. А затем реальные дежавю возвращались и, как всегда, высасывали жизнь из всего вокруг. О, единственная вспышка этого чувства была лишь коротким потрясением, пугающим напоминанием, но затем она проходила. Но если бы такое чувство тянулось день, оно превратилось бы в пытку, неделю – в сущий ад. Состояние двойного времени, как, по словам Мишеля, называли его современные медицинские журналы. Другие пользовались термином «ощущение всегда-уже». Очевидно, с этой проблемой сталкивался определенный процент стариков. А если смотреть по ее эмоциям, то казалось, ничто не могло быть хуже. В последнее время она просыпалась, и каждое мгновение дня становилось точным повторением какого-нибудь более раннего, идентичного дня – именно это она сейчас ощущала. Словно понятие Ницше о вечном возвращении, нескончаемом повторении всех возможных пространственно-временных континуумов каким-то образом стало очевидным, вторглось в ее жизнь. Ужас, ужас! И все же ей не оставалось ничего, кроме как, шатаясь, пробираться сквозь «всегда-уже», сквозь предвиденные дни, будто зомби, пока не будет снято проклятие, иногда как в медленном тумане, иногда – быстро переключаясь в состояние не-двойного времени – будто двоение фокусировалось обратно, возвращая предметам их объем. Она попадала назад, в реальность, с ее блаженным ощущением новизны, непредвиденностью, слепым становлением, где она была вольна испытывать каждый миг с удивлением, чувствовать обыкновенные подъемы и спады синусоид ее эмоций, русские горки, которые приносили пусть и неуютное, но движение.
– Ах, хорошо, – сказал Мишель, когда она вышла из одного из таких провалов, вероятно, размышляя, какое из лекарств, что он ей дал, возымело действие.
– Вот бы мне оказаться по другую сторону прескевю, – слабо проговорила она. – Не дежа-, не преске-, не жаме-, а просто – вю. Увидеть.
– Это было бы чем-то вроде просвещения, – предположил Мишель. – Или эпифании. Мистического единения со вселенной. Обычно такой феномен имеет кратковременное свойство, как я уже говорил. Пиковое переживание.
– Но от него что-нибудь остается?
– Да. Потом начинаешь лучше понимать разные вещи. Но, опять же, говорят, что обычно это бывает, только если человек достигает определенного…
– Покоя?
– Нет, хотя… да. Спокойствия разума, вроде того.
– То есть мне это не подходит, ты хочешь сказать.
Мишель широко улыбнулся.
– Но это можно развить. Можно подготовиться. Этим как раз занимаются в дзен-буддизме, если я правильно его понимаю.
Она прочитала несколько текстов о дзене. Но они все ясно говорили о том, что дзен – это не информация, а поведение. Если твое поведение верно, то может снизойти загадочная ясность. А может и не снизойти. И даже если она наступит, обычно это длится недолго, как видение.
Она была слишком привязана к своим привычкам, чтобы настолько изменить свое духовное поведение. Она не контролировала свои мысли так, чтобы уметь подготовить себя к пиковому переживанию. Она жила своей жизнью, а несносные нервные расстройства неприятно вторгались в нее. Ей казалось, что их вызывали мысли о прошлом, поэтому она изо всех сил старалась сосредотачиваться на настоящем. По сути, это и был дзен, и она неплохо в нем преуспела; он на долгие годы стал ее инстинктивной стратегией выживания. Но пиковое переживание… иногда она молила о нем, чтобы, наконец, увидеть это почти увиденное. Чтобы наступило прескевю, и мир наполнился для нее тем неясным и мощным смыслом прямо за пределами ее мыслей, а она лишь стояла бы и подталкивала или просто пыталась им следовать и понять их, испытывая любопытство, страх, надежду; а потом это ощущение угаснет и пройдет. И все же, когда-нибудь… если бы только она знала наверняка! Это могло помочь, спустя какое-то время. А иногда ей становилось страсть как любопытно: каким же будет это озарение? Что несло в себе странное понимание, нависшее за пределами ее мыслей? Оно казалось слишком реальным, чтобы быть просто иллюзией…
И хотя поначалу она не осознавала, что это и являлось тем, что она искала, она приняла предложение Ниргала отправиться на фестиваль на горе Олимп. Мишель счел это здравой идеей. Раз в М-год, северной весной, народ собирался на вершине горы Олимп возле кратера Zp, где внутри каскада шатров-полумесяцев, над камнями и керамической мозаикой, и проходил фестиваль – точно как в то первое собрание в этом месте, когда праздновали окончание Великой бури и астероиды озарили небо, а Джон произнес свою речь о формирующемся марсианском обществе.
И это общество, подумала Майя, поднимаясь в вагоне поезда на великий вулкан, можно сказать, сформировалось, по крайней мере, в некоторых местах и в некоторые времена. И вот мы здесь. На Олимпе, каждый год в Ls=90°, чтобы сохранить память об обещании Джона и отпраздновать свои достижения. Подавляющую часть празднующих составляли молодые уроженцы, но немало было и новых иммигрантов, которые приезжали посмотреть, каков из себя знаменитый фестиваль, и прогулять целую неделю, в основном играя музыку или танцуя под нее – или и то и другое сразу. Майя, так и не овладев никаким инструментом, кроме тамбурина, предпочитала танцевать. И там она потеряла из виду Мишеля и всех остальных своих друзей – Надю, Арта, Сакса, Марину, Урсулу, Мэри, Ниргала, Диану и других. После этого оставалось лишь забыться и танцевать с незнакомцами. Лишь смотреть на мелькающие перед ней сияющие лица, каждое из которых напоминало пульсар сознания, кричащий: «Я живу! Я живу! Я живу!»
Прекрасные танцы всю ночь напролет, признак того, что ассимиляция, вероятно, все-таки происходила и ареофания накладывала свои невидимые чары на каждого, кто попадал на планету, а яд их земного прошлого слабел и забывался. Истинная марсианская культура наконец переживала свое коллективное сотворение. Да, и это замечательно. Но это не пиковое переживание. Здесь было неподходящее для восторгов место – пожалуй, здесь слишком сильна тень прошлого: на вершине Олимпа все выглядело по-старому, небо было таким же черным и звездным, перетянутым пурпурной лентой вокруг горизонта… Марина рассказывала, что вокруг безмерного края вулкана построены гостиницы для паломников, обходящих вершину по кругу, а в кальдере имелись другие убежища – для Красных скалолазов, которые почти все время жили в этом мире пересекающихся выпирающих скал. Майя считала такой образ жизни странным, особенно в нынешние времена на Марсе.
Такая жизнь не для нее. Гора Олимп слишком высока, а потому слишком сильно погрязла в прошлом. Это не то место, где она могла испытать то переживание, которого искала.
Впрочем, здесь ей выпала возможность обстоятельно побеседовать с Ниргалом на обратном пути в Одессу. Она рассказала ему о Шарлотте с Ариадной и их заботах, а он кивнул и поделился некоторыми из своих приключений по необжитым районам, здорово иллюстрировавшим прогресс в ассимиляции.
– В итоге мы победим, – предсказал он. – Марс стал полем битвы между прошлым и будущим, и прошлому сейчас хватает сил, но будущее – это то, куда мы все идем. В нем присутствует некая неумолимая мощь, и нас будто затягивает вперед. В последнее время я уже почти чувствую это. – Говоря это, он лучился счастьем.
Затем он достал их вещи с верхних полок и поцеловал ее в щеку. Весь стройный и крепкий, он уже шагнул к выходу:
– Мы же продолжим работать в этом направлении, да? Я заскочу к вам с Мишелем в Одессе. Люблю тебя.
После этого она, разумеется, почувствовала себя лучше. Пусть это было и не пиковое переживание, но путешествие на поезде с Ниргалом подарило возможность поговорить с самым неуловимым из уроженцев, который был для нее как любимый сын.
Но, когда Майя вернулась с Олимпа, ее снова стали донимать «психологические события», как называл их Мишель. И с каждым разом, после того как что-то подобное происходило, он становился все более озабочен. «Психологические события» начинали пугать даже его. И Майя видела страх Мишеля, как он ни пытался казаться спокойным. Неудивительно, что он напуган. Эти «события», как и прочее, подобное им, случались у многих из его престарелых клиентов. Антивозрастная терапия, очевидно, не помогала людям хранить воспоминания своего непрерывно удлиняющегося прошлого. А когда прошлое ускользало от них год за годом и воспоминания слабели, охват «событий» постепенно расширялся до того, что людей даже приходилось помещать в лечебные учреждения.
Или, в противном случае, они умирали. В институте первопоселенцев, в котором Мишель по-прежнему продолжал работать, с каждым годом оставалось все меньше членов. В каком-то году даже умер Влад. Когда это случилось, Марина и Урсула переехали из Ахерона в Одессу. Надя и Арт тогда жили в западной части города вместе с уже взрослой дочерью Никки. Даже Сакс Расселл снимал там квартиру, хотя бо́льшую часть времени до сих пор проводил в Да Винчи.
На Майю эти переезды влияли как хорошо, так и плохо. Хорошо, потому что она любила всех этих людей. Ей казалось, будто они специально собираются вокруг нее, и это тешило ее тщеславие. И видеть их лица было для нее огромным удовольствием. Она помогала, например, Марине и Урсуле пережить потерю Влада. Казалось, Урсула и Влад всегда были настоящей парой, хотя Марина и Урсула… в общем, трудно сказать, как была устроена их шведская семья. Как бы то ни было, от нее остались лишь Марина и Урсула, очень близкие в своем горе и во многом напоминающие те однополые парочки молодых уроженцев, которых часто можно было встретить в Одессе, – мужчин или женщин, что с умиротворяющим видом шли по улице, держась за руки.
Поэтому она была счастлива видеть их двоих, как и Надю или кого-либо еще из старой компании. Но ей не всегда удавалось вспомнить события, о которых они говорили, как о чем-то, чего нельзя забыть, и это ее раздражало. Еще одна разновидность жамевю, ее собственная жизнь. Нет, лучше сосредоточиться на настоящем, работать над уровнем воды или освещением спектакля, просто засиживаться в барах с новыми друзьями с работы или даже незнакомцами. И ждать, что однажды наступит просветление…
Саманта умерла. А за ней Борис. Впрочем, между их смертями прошло года два или три, но все равно, после долгих десятилетий, на протяжении которых никто из них не умирал, казалась, что все случилось очень быстро. На похоронах собравшиеся держались как могли, но тем временем вокруг сгущалась тьма, словно к обрыву подрывался черный шквал с Геллеспонта: народы Терры продолжали самовольно посылать людей и высаживать их на Марсе, ООН по-прежнему сыпала угрозами, Китай и Индонезия внезапно начали наступать друг другу на глотку, Красные экотажники взрывали объекты все более бессистемно и безрассудно, приводя к гибели людей. А затем взобрался по лестнице Мишель и скорбно сообщил:
– Илья умер.
– Что? Нет, о, нет…
– У него была аритмия сердца.
– О боже.
Майя не видела Илью несколько десятилетий, но потерять еще одного из первой сотни, потерять возможность снова увидеть его застенчивую улыбку… нет. Мишель говорил что-то еще, но она его не слышала – не столько от горя, сколько от потери внимания. Или от скорби по самой себе.
– Это будет случаться все чаще и чаще, да? – спросила она наконец, когда заметила, что Мишель пристально на нее смотрит.
Он вздохнул.
– Возможно.
И снова большинство выживших из первой сотни приехало в Одессу на церемонию прощания, которую организовал Мишель. Там Майя многое узнала об Илье, в основном от Нади. Покинув Андерхилл, он переехал в Лассвиц и участвовал там в строительстве крытого города, а затем стал специалистом по гидрологии водоносных слоев. В 61-м находился вместе с Надей, пытаясь восстанавливать сооружения и при этом остаться в живых, но в Каире, где Майя видела его мельком, он отделился от остальных и не сумел уйти в долины Маринер. Тогда они посчитали, что он погиб, как Саша, но оказалось, что нет, он выжил, вместе с большинством каирцев. После мятежа перебрался в Сабиси и снова стал работать с водоносными слоями, держа связь с подпольем и помогая превратить Сабиси в столицу «полусвета». Какое-то время он прожил с Мэри Данкел, а когда ВП ООН закрыла Сабиси, они вместе переехали в Одессу. Он был там и на пятидесяти-М-летнюю годовщину – тогда Майя, насколько она помнила, и видела его в последний раз, в тот день все русские в их группе произносили длинные тосты. Затем он расстался с Мэри, как она сама сказала, и переехал в Сензени-На, где стал одним из лидеров второй революции. Когда Сензени-На объединился с Никосией, Шеффилдом и Каиром, образовав союз восточной Фарсиды, он поднялся выше, чтобы помочь разрешить ситуацию в Шеффилде. А затем вернулся в Сензени-На и стал работать там в первом независимом городском совете, постепенно став одним из корифеев этого общества, как и многие другие члены первой сотни в других городах. Он женился на девушке-нисее, ее семья из Нигерии; у них родился мальчик. Илья дважды летал в Москву и был известен как комментатор российских видеоканалов. Незадолго до смерти он работал в проекте бассейна Аргир вместе с Питером, занимаясь выкачиванием нескольких крупных водоносных слоев под горами Харит таким образом, чтобы не нарушить рельеф поверхности. Его правнучка, которая жила в Каллисто, была беременна… Но однажды, на пикнике на насыпи мохола, он провалился, и спасти его не удалось.
Теперь от первой сотни осталось восемнадцать. Хотя Сакс, единственный из всех, утверждал, что нужно было прибавить еще семерых, учитывая возможность того, что группа Хироко также осталась в живых. Майя считала это фантазией, принятием желаемого за действительное, но, с другой стороны, Сакс не был склонен к подобному мышлению, так что, кто знал, может, действительно группа Хироко где-то скрывается. Уверены они были только в восемнадцати, и самой молодой из них, Мэри (если не считать Хироко), исполнилось 212 лет. Самой старой, Энн, – 226. Самой Майе сейчас 221 год, что казалось явной нелепицей, но новости Земли в самом деле сообщали, что сейчас шел 2206-й год…
– Но есть и те, кому уже за двести пятьдесят, – заметил Мишель, – и терапия может действовать еще очень-очень долго. Уход наших, может, просто неудачное совпадение.
– Может быть.
С каждой смертью близких казалось, будто от Мишеля отрезают кусок. Он становился мрачнее и мрачнее, и Майю это злило. Он, без сомнения, по-прежнему считал, что ему следовало остаться в Провансе – это было его навязчивой фантазией. Там находился его воображаемый дом – Мишель отрицал очевидный факт, что его домом был Марс еще с того момента, когда они на него высадились, или с того, когда он ушел с Хироко, – а может быть, даже с того, как он впервые, еще мальчишкой, увидел его в небе! Никто не мог знать, когда это случилось, но Марс стал его домом, и это было очевидным для всех, кроме него самого. Он тосковал по Провансу и считал Майю одновременно причиной и местом своего изгнания, а ее тело – заменой Прованса: груди – холмы, живот – долина, гениталии – пляжи и океан. Конечно, невозможно быть для кого-то и домом, и партнером в одном лице, но Мишеля терзала ностальгия, и он считал невозможное благом. Это было частью их отношений. Хотя иногда становилось для Майи тяжким бременем. Особенно, когда смерть кого-нибудь из первой сотни подталкивала его к ней, а значит, и к мыслям о доме.
Сакс на похоронах и церемониях прощания всегда имел раздосадованный вид. Он явно чувствовал, что смерть неотступно шла за ними, злобно маша ему в лицо своим красным флагом; он не мог покорно ее ожидать – это была проблема, которую науке еще только предстояло решить. Но даже его сбивали с толку различные проявления скоротечного ухудшения здоровья, которые каждый раз кардинально отличались. Общим в них было лишь отсутствие конкретных причин возникновения.
Казалось, на знакомых и друзей Майи обрушивались волны – точно ее жамевю, только, скорее, jamais vivre. Теорий было не счесть, и, поскольку дело напрямую касалось и стариков, и молодых, которые когда-нибудь станут стариками, – то есть, иными словами, всех, – проблему сейчас активно изучали. Тем не менее пока никто так и не выяснил, ни чем вызвано большое количество смертей, ни даже то, существует ли резкий спад численности населения на самом деле. А смерти продолжали наступать.
Завершая службу в честь Ильи, они засыпали немного его праха в еще один быстрый воздушный шар и выпустили его с того же места на волнорезе, что и шар Спенсера. Оттуда, где они стояли, можно было, повернувшись, увидеть всю Одессу. Затем они поднялись в квартиру Майи и Мишеля. Они держались друг за друга, листали памятные альбомы Мишеля, говорили об Олимпе, о 61-м, об Андерхилле. О прошлом. Майя во всем этом не участвовала, а лишь разносила им чай и пирожные до тех пор, пока в квартире не остались только Мишель, Сакс и Надя. Поминки закончились, и она могла расслабиться. Встав перед кухонным столом, она положила руку Мишелю на плечо и, выглянув через него, увидела зернистую черно-белую фотографию, заляпанную чем-то, напоминающим кофе и соус для спагетти. Выцветшее изображение молодого человека, ухмыляющегося прямо в камеру. С хитрой, самоуверенной улыбкой.
– Какое интересное лицо, – сказала она.
Рукой она ощутила, что Мишель напрягся. Надя посмотрела изумленно. Майя поняла, что сказала что-то не то, даже Сакс, казалось, смутился. Майя внимательно посмотрела на молодого человека на фото. Она смотрела и смотрела, но ничего не вспомнила.
Она вышла из квартиры. Поднялась на крутые одесские улицы, миновала все побеленные и бирюзовые двери и ставни, всех кошек и коричневые горшки с цветами. Наконец, оказалась в верхнем городе, откуда смогла обвести взглядом темно-синюю гладь моря Эллады, простирающуюся вдаль на многие километры. Она шла и плакала, сама не зная почему. Ее охватило странное ощущение покинутости – но и это уже случалось с ней раньше.
Чуть позже она осознала, что забрела в западную часть верхнего города. Там находился Парадеплац-парк, где они ставили «Кровные узы» – или это была «Зимняя сказка»? Да, точно, «Зимняя сказка». Но она не собиралась к этому возвращаться.
Ну и ладно. И вот она здесь. Она медленно спустилась по длинным лестничным проулкам, вниз и вниз, к их зданию, думая о спектаклях, и ее настроение улучшалось тем больше, чем ниже она спускалась. Но у их ворот стояла «Скорая», и она, пронзенная холодом, словно на нее вылили ушат ледяной воды, пошатнулась и прошла мимо дома, спустилась к обрыву.
Она шла вдоль него до тех пор, пока не устала от ходьбы. Затем присела на скамью. По другую стороны дороги в тротуарном кафе на хриплом бандонеоне играл лысый мужчина, пухлый, с седыми усами, красным носом и мешками под глазами. Его грустная музыка буквально отражалась у него на лице.
Солнце садилось, море было почти неподвижным, каждая его широкая грань искрилась тем густым стеклянным блеском, какой иногда бывает на жидких поверхностях, и все оно было оранжевым, как само солнце, меркнущее поверх западных гор. А в небе парили чайки. Внезапно цвет моря показался ей знакомым, и она вспомнила, как смотрела из «Ареса» на пестрый оранжевый шар, который был когда-то Марсом, – девственная планета, вращавшаяся перед ними, после того как они вышли на ее орбиту, символ всякого счастья, которое было тогда возможно. Она никогда не была счастливее, чем в тот момент, – никогда с тех пор.
А затем на нее вновь нахлынуло то самое чувство, предэпилептическое состояние прескевю. Сверкающее море, какой-то смысл всего и присущий всему, накладывающий свой отпечаток, но такой неуловимый… И с тихим хлопком она поймала его – вдруг осознала, что само свойство явления и служило его сутью, что всеобщий смысл лежал прямо за пределами досягаемости, в будущем, увлекая их вперед, что в особые моменты человек чувствовал его толчки, которые выражались у него в глубоком и счастливом предвкушении, как когда она смотрела на Марс с борта «Ареса», подсознательно заполнив разум не ворохом мертвого прошлого, но нежданными возможностями будущего, и да, могло произойти все, что угодно. Все, абсолютно все. И, когда прескевю мало-помалу сошло на нет и ее разум сузился обратно, в ней осталось некое озарение. Преисполненная чувств и разгоряченная, она откинулась на спинку скамьи. И вот она была здесь, несмотря ни на что, и возможность для счастья останется в ней навсегда.
Часть тринадцатая Экспериментальные процедуры
Ниргал поднялся в Шеффилд в последнюю минуту. На железнодорожной станции он сел в метро до Гнезда. По его просторным коридорам прошел в зал вылета. И вот он был там.
Увидев его, она обрадовалась, хоть и выглядела раздраженной оттого, что он явился так поздно. Вверх по проводу, на шаттл, к новому полому астероиду, особо крупному и богатому. А оттуда – прочь, с многомесячным ускорением, пока скорость движения по инерции не достигнет нескольких процентов от скорости света. Тот астероид был космическим кораблем и направлялся к звезде в районе Альдебарана, где похожая на Марс планета вращалась по орбите, похожей на земную, вокруг солнца, похожего на Солнце. Новый мир, новая жизнь. И Джеки отправлялась туда.
Ниргалу до сих пор в это не верилось. Он получил сообщение всего двумя днями ранее и с тех пор не спал, размышляя о том, что бы это могло означать, имело ли отношение к его жизни, должен ли он провожать ее, должен ли пытаться ее отговорить.
Увидев ее сейчас, он понял, что убедить ее отказаться от этой идеи невозможно. Она твердо решила лететь. «Я хочу попробовать что-то новое, – сказала она в голосовом сообщении, которое пришло ему на наручную консоль. – Здесь мне больше нечего делать. Я сделала все, что могла. И теперь хочу попробовать что-то новое».
Пассажиры корабля-астероида были в основном из региона Дорса Бревиа. Ниргал позвонил Шарлотте, чтобы выяснить, зачем они туда летели. Причин оказалось много. Планета, куда они собирались, находилась сравнительно недалеко и идеально подходила для терраформирования. Человечеству предстояло сделать большой шаг. Первый шаг к звездам.
– Я знаю, – ответил тогда Ниргал. На аналогичные планеты уже отправилось немало кораблей. Так что шаг был сделан.
Но пока эта планета оставалась лучшей из всех. И в Дорсе Бревиа начинали задумываться, не стоит ли совсем отдалиться от Земли и начать все сначала? Но оставить Землю навсегда какое-то время назад и было труднее всего.
Сейчас ситуация осложнилась. Самовольные высадки землян могли вылиться в целое вторжение. И если считать Марс демократическим обществом, а Землю – феодальным, то могло показаться, что старое пытается подавить новое, пока оно не успело чересчур разрастись. И земляне превосходят марсиан числом – на двадцать миллиардов или около того. К тому же их старинный феодализм по своей сути патриархален. Поэтому в Дорсе Бревиа и задумываются, не отдалиться ли еще сильнее. До Альдебарана всего двадцать лет пути, и у них впереди еще долгая жизнь. Так что они решились. Семьи, семейные группы, бездетные пары, бездетные одиночки… Они похожи на первую сотню, улетевшую на Марс, – точно как во времена Буна и Чалмерса.
Джеки села на устланный ковром пол зала вылета, и Ниргал присоединился к ней. Опустив глаза, она стала гладить ковер ладонью, а затем начала выводить что-то на его ворсе. «Ниргал», – написала она.
Он сидел рядом с ней. Зал был полон, но обстановка царила спокойная. Люди выглядели мрачными, усталыми, расстроенными, задумчивыми и источали свет. Одни улетали, другие их провожали. Они смотрели сквозь широкое окно на внутреннее пространство Гнезда, где кабины лифта бесшумно поднимались вдоль стен, а нижний конец провода, уходящего отсюда на 37 000 километров, покачиваясь, висел в десяти метрах над бетонным полом.
– Улетаешь, значит, – сказал Ниргал.
– Да, – сказала Джеки. – Хочу начать сначала.
Ниргал ничего не ответил.
– Это будет настоящим приключением, – продолжила она.
– Точно, – он не знал, что еще сказать.
На ковре она вывела: «Джеки Бун махнула на луну».
– Если подумать, это отличная идея, – сказала она. – Человечество рассеивается по галактике. Звезда за звездой, все дальше и дальше. Это наше предназначение. То, что нам положено сделать. Я даже слышала, люди говорят, что туда отправилась Хироко – что она вместе со своими людьми села на один из первых кораблей, тот, который улетел на звезду Барнарда. Чтобы основать новый мир. Распространить viriditas.
– Эта история не правдоподобнее остальных, – ответил Ниргал. И это было действительно так: он мог представить, как Хироко это делает – снова уходит, примыкает к новой диаспоре звездного человечества, которое заселяет сначала ближайшие планеты, а потом рассеивается все дальше. Выход из колыбели. Конец доисторической эпохи.
Пока она водила пальцем по ковру, он смотрел на ее профиль. Это был последний раз, когда он мог на нее посмотреть. Для каждого из них это было все равно что смертью другого. И так чувствовали себя многие пары, которые собрались в этом зале и теперь стояли молча. Тем, кто улетал, предстояло оставить здесь всех, кого они знали.
И это была первая сотня. Поэтому-то они были такими странными: они по собственной воле оставляли всех, кого знали, чтобы улететь с девяноста девятью незнакомцами. Некоторые из них были знаменитыми учеными, у каждого, предположительно, были родители. Но ни у одного не было детей. И ни у одного не было супругов, не считая шесть семейных пар, которые входили в эту сотню. Одинокие бездетные люди среднего возраста, готовые к новому началу. Вот кем они были. И Джеки теперь была такой же – одинокой и бездетной.
Ниргал отвернулся, затем снова посмотрел на нее. Вот она, вся в свету. С тонким блеском черных волос. Она подняла на него взгляд, снова опустила его. «Куда бы ты ни шел – ты уже там», – написала она.
Она посмотрела на него.
– Как думаешь, что с нами стало? – спросила она.
– Не знаю.
Они сидели и смотрели на ковер. В помещении за окном кабина двигалась в воздухе, проходя над рельсами, ведущими к проводу. Когда она заняла нужную позицию, раскрылся телетрап, тут же обхвативший внешнюю сторону кабины.
«Не улетай, – хотел сказать он. – Не улетай. Не бросай этот мир навсегда. Не бросай меня. Помнишь, как нас поженили суфисты? Помнишь, как мы занимались любовью в жерле вулкана? Помнишь Зиготу?»
Но он промолчал. Она все помнила.
– Не знаю.
Он потянулся и провел по ворсу так, чтобы стерлось второе «ты», а потом вывел на этом месте пальцем слово «мы».
Она с тоской улыбнулась. Чего стоило одно слово против всех этих лет?
По громкой связи объявили, что лифт был готов к отправлению. Люди повставали, зазвучали взволнованные голоса. Ниргал осознал, что встает и сам, смотрит на Джеки. Она смотрела на него. Он обнял ее, и ее тело показалось ему настоящим, как скала. Он ощутил запах ее волос. Вдохнул его, задержал дыхание. Отпустил ее. Она вышла, не сказав ни слова. У входа в телетрап оглянулась. Он еще раз увидел ее лицо. А потом она исчезла.
Позднее он получил радиосообщение из дальнего космоса. «Куда бы ты ни шел – мы уже там». Это было неправдой, но ему стало от этого легче. Слова могли приносить облегчение. «Ладно, – сказал он, продолжая странствовать по планете. – Я полечу на Альдебаран».
Северный полярный остров, пожалуй, испытал на себе бо́льшую деформацию, чем любой другой регион Марса. По крайней мере, так Сакс слышал. И сейчас, идя вдоль отвесного берега Великой Северной реки, видел, почему так утверждалось. Полярная шапка растаяла примерно наполовину, а громадные ледяные стены Великого Северного каньона теперь практически исчезли. Такого таяния на Марсе не происходило со времен средней гесперийской эры, и вся эта вода каждую весну и лето устремлялась вниз по слоистому песку и лёссу, прорезая их с огромной силой. Отлогие спуски превращались в глубокие каньоны с песчаными стенами, тянущиеся к Северному морю, рассеченные крайне нестабильными водоразделами. Те давали направление воде при последующих весенних таяниях и быстро сменяли друг друга, когда обрушивались склоны и обвалы создавали недолговечные озера, откуда, после прорыва дамб, вода уходила прочь, оставляя только пляжные террасы и плоские щиты.
Сакс стоял и смотрел вниз на один из этих плоских щитов, подсчитывая, сколько воды должно было собраться в озере, прежде чем прорвало дамбу. Подходить к краю обрыва слишком близко здесь было нельзя: новые стены каньона были явно нестабильны. Растений виднелось немного: лишь несколько полос цвета бледного лишайника, создававшие приятный контраст с оттенками скальных пород. Северная река представляла собой широкий, небольшой глубины бурный поток ледникового молока, несущийся примерно в ста восьмидесяти метрах внизу. Ее притоки прорезали висячие долины гораздо меньшей глубины и сбрасывали свои воды прозрачными водопадами, напоминавшими тонкослойные разливы красок.
Если смотреть на каньоны, то плато, где раньше находилось дно Великой Северной равнины, теперь было прорезано притоками, которые напоминали прожилки на листе. Изначально это был регион напластованной земли, которая выглядела так, будто контуры рельефа были искусно выгравированы, а теперь по выточенным водой углублениям стало видно, что пластинки этих лекал уходили на многие метры вниз, словно участок нанесли на карту, где были обозначены самые дальние глубины.
Была середина лета, и солнце парило в небе целый день. Облака, преодолевая ледники, плыли на север. Когда солнце опускалось к своей самой низкой точке, что случалось во второй половине дня, эти облака уносило на юг, к морю, в виде густого тумана, окрашенных в бронзовые, пурпурные или прочие яркие и нежные оттенки. Плато украшали редкие пустынные цветы, что вызывало у Сакса в памяти ледник Арена – первое место, которое привлекло его внимание, еще до инсульта. Тот случай он помнил очень слабо, но ледник врезался ему в память примерно так же, как утятам запоминались первые увиденные ими существа, которых они принимали за своих матерей. Сейчас на планете росли леса, где древостои гигантских секвой затеняли сосновые подлески; высились живописные морские утесы, где собирались крупные облака и гнездились линяющие птицы; разрастались всевозможные джунгли внутри кратеров и там же зимой образовывались бесконечные снеговые дюны; тянулись почти вертикальные уступы, необъятные пустыни красных песков, склоны вулканов из черных пород; существовали самые многообразные биомы, но для Сакса не было ничего лучше этих голых скал.
Он шагал по камням. Его проворная машинка старательно следовала за ним, пересекая притоки в первых бродах, где только могла проехать. Цветущее лето – хоть это и не было заметно уже на десятиметровом отдалении – насыщалось теплыми оттенками, производя впечатление столь же приятное, что и любой дождевой лес. Почва, которая образовывалась за многие поколения этих растений, была практически бесплодной, и ее свойства улучшались очень медленно. Процесс был сложным и потому, что всю почву, опадавшую в каньоны, ветром уносило в Северное море, а на напластованной земле зимы бывали такими суровыми, что почвы не играли особой роли и лишь становились вечномерзлым грунтом. Поэтому каменистые пустыни медленно превращались в тундру, и оставалось заняться созданием почвы для более перспективных регионов на юге. Что представлялось Саксу вполне приемлемым. Оставалось ждать еще много столетий, пока возникнет первый ареобиом, который будет иметь такой скудный и неземной вид.
Пробираясь по валунам, глядя под ноги, чтобы не раздавить какое-нибудь растение, Сакс повернул к своей машине, которая теперь скрылась из виду. Солнце висело примерно на той же высоте, где было весь день, и было удалено от глубокой и узкой новой Великой Северной равнины, которая тянулась вниз в пределах широкой старой. И оттого здесь было трудно ориентироваться: север мог находиться где угодно, в любой точке ставосьмидесятиградусного круга, но, как правило, оказывался у него за спиной. И отсюда нельзя было так просто выйти к Северному морю, которое начиналось где-то впереди, из-за белых медведей, которые были активны на том побережье – вторгались на лежбища и убивали тюленей.
Сакс ненадолго остановился и сверился с наручной консолью, чтобы получить точные данные о своем местонахождении и местонахождении своей машины. Сейчас у него стояла очень надежная программа, которая позволяла это определить. Он выяснил, что находился на 31,63844 градусе долготы и 84,89926 северной широты, плюс-минус несколько сантиметров, а машина – на 31,64114; 84,86857. Ему было достаточно взобраться на вершину бугра в форме буханки хлеба на западо-северо-западе, чтобы ее увидеть. Да. Вон он, марсоход, лениво катился с пешеходной скоростью. А там, в трещинах этой хлебной буханки (какой удачный антропоморфный аналог!), пробивалась мелкая сиреневая камнеломка, жизнелюбиво устроившаяся под укрытием изломанной скалы.
И что-то во всем этом здорово успокаивало: напластованная земля, камнеломка в свету, машинка, спешащая к нему, приятная усталость в ногах… и что-то неопределенное, чего нельзя было объяснить какими-то отдельными ощущениями. Что-то сродни эйфории. Он полагал, что это и была любовь. Дух места, любовь к месту… ареофания – не только такая, как Хироко ее объясняла, но и как она ее чувствовала. Ах, Хироко… неужели она действительно могла ощущать эту радость, причем постоянно? Блаженное создание! Неудивительно, что она излучала такую ауру, собирала столько последователей. Пребывать в такой безмятежности, научиться чувствовать ее саму по себе… любить планету. Любить жизнь на ней. Безусловно, биологическая составляющая в этом пейзаже была важнейшей, если так на него посмотреть. Даже Энн пришлось бы это признать, окажись она сейчас рядом с ним. Интересно было бы проверить эту гипотезу. «Посмотри, Энн, на эту сиреневую камнеломку. Смотри, как она привлекает внимание». Сосредоточенный взгляд в середину неровного ландшафта – и любовь рождалась сама собой.
И действительно, эти совершенные земли казались ему чем-то вроде изображения самой вселенной, во всяком случае в ее отношении живого к неживому. Он руководствовался биогенетическими теориями Делёза, которые являли собой попытку объяснить с позиции математики и в космологическом масштабе что-то наподобие viriditas Хироко. Насколько Сакс понимал, Делёз утверждал, что viriditas была нитевидной силой при Большом взрыве, сложным пограничным феноменом между силами и частицами, чистой потенциальностью до тех пор, пока планетарные системы второго поколения не собрали весь набор более тяжелых элементов – и в этот момент возникла жизнь, разразившись «маленькими взрывами» в конце каждой нити viriditas. Этих нитей было не слишком много, и они были равномерно распределены по вселенной, следуя галактическому комкованию и отчасти придавая ему форму, так что каждый маленький взрыв на конце нити был удален от остальных, насколько это возможно. Поэтому все островки жизни находились на почтительном расстоянии друг от друга в пространстве-времени, и контакты между ними были крайне маловероятны просто потому, что все они были поздними феноменами и держались обособленно – у них не было времени для контакта. Эта гипотеза, если она верна, казалась Саксу более чем разумным объяснением провала программы поиска внеземных цивилизаций – того, что безмолвие звезд длилось уже около четырех веков. Пусть это и было как один миг в сравнении с миллиардами световых лет, которые, по оценке Делёза, отделяли нас от других островков жизни.
Таким образом, viriditas существовала во вселенной, точно как эта камнеломка на песочных изгибах полярного острова – маленькая, одинокая, прекрасная. Сакс видел перед собой изгибающуюся вселенную, но Делёз утверждал, что они жили в плоской, хрупко балансируя на выступе между непрерывным расширением и моделью расширения-сжатия. Еще он считал, что поворотный момент – когда вселенная либо начнет сжиматься, либо расширится сверх всякой меры, – был очень близок к настоящему времени! Это вызывало у Сакса большие подозрения, как и подразумеваемый Делёзом вывод о том, что они могли так или иначе влиять на материю: топнув по земле, отправить вселенную распадаться и принять тепловую смерть или, задержав дыхание, втянуть ее всю до немыслимой Точки Омеги, знаменующей Конец Времен. Ну уж нет. Эту космологическую галлюцинацию, такой себе экзистенциализм мелкого бога, породил первый закон термодинамики, наравне со многими другими принципами. Вероятно, это служило психологическим следствием внезапно возросших реальных сил человечества. Или собственной склонности Делёза к мании величия – он считал, что способен объяснить все на свете.
Сакс на самом деле имел подозрения ко всей современной космологии, которая раз за разом ставила человечество в центр всего. Сакс считал все эти изъявления артефактами сугубо человеческого восприятия, сильным антропным принципом, который, подобно цвету, пронизывал все, что они видели. Однако он был вынужден признать, что некоторые из этих замечаний выглядели вполне убедительными и их было трудно списать на несовершенство человеческого восприятия или совпадения. Конечно, было трудно поверить, что Солнце и Луна выглядели телами одинакового размера, если смотреть с поверхности Земли, но это факт оставался фактом. Совпадения случались. Большинство этих антропоцентрических черт тем не менее казались Саксу, скорее, признаком ограниченности людского понимания; вполне возможно, что существовали объекты, которые были крупнее вселенной, и такие, что меньше струн, и какая-нибудь еще бо́льшая область, заполненная меньшими компонентами – и все это находилось за пределами человеческого восприятия, даже в математическом смысле. И если это было действительно так, то объяснялись некоторые противоречия в уравнениях Бао: если допустить, что четыре макроизмерения пространства-времени находились в зависимости от более крупных измерений, как шесть микроизмерений по отношению к этим четырем, то уравнения весьма красиво складывались. Ему пришло в голову одно из возможных выражений, прямо с ходу…
Он споткнулся, удержал равновесие. Еще один песчаный выступ, примерно втрое большего размера, чем обычно. Ну и ладно – нужно было просто дойти до машины. Так, о чем он только что думал?
Вспомнить не получалось. Но он думал о чем-то интересном – в этом он был уверен. Вроде бы, решал какую-то задачу. Но как бы он ни старался, не мог вспомнить, что именно. Мысль застряла у него на задворках сознания, как камень в ботинке, как слово, вертевшееся на кончике языка и никак не приходившее. Это было чрезвычайно неуютное, даже раздражающее чувство. Такое случалось с ним и раньше, он припоминал что-то подобное, – и в последнее время это бывало все чаще, или ему просто так казалось? Он не знал наверняка, но по ощущениям так и было. Он терял нить рассуждений, а потом не мог к ним вернуться – какие бы усилия ни прикладывал.
Он добрался до машины почти случайно. Любовь к месту, да – только нужно было еще помнить то, что любишь! Нужно было помнить, о чем думаешь! Смятенный и расстроенный, он немного погремел в машине, готовя ужин, а потом съел его, даже не заметив.
Жизнь с такой проблемной памятью никуда не годилась.
И сейчас, задумавшись об этом, он понял, что терял нити рассуждений довольно часто. Или ему казалось, что он помнил, будто терял. И это было странно. Но он точно осознавал, что терял нити, которые, как казалось потом, вели к чему-то важному. Он даже пробовал начитывать свои идеи на консоль, когда те вдруг вспыхивали у него в голове, когда он чувствовал, что несколько нитей сплетаются вместе, образуя что-то совершенно новое. Но когда он начинал говорить, прекращался мыслительный процесс. Он не был вербальным мыслителем, ему нужны были образы, иногда построенные на языке математики, иногда – идущие в каком-то зачаточном потоке, который он не мог описать. Но стоило заговорить – и все обрывалось. Или же потерянные мысли на самом деле были вовсе не такими важными, как казалось. Ведь записи на консоли состояли лишь из нескольких фраз, нечетких, разобщенных и, прежде всего, медлительных, – они не имели ничего общего с теми мыслями, что он надеялся записать, а даже были полностью противоположны им – быстрым, связным, непринужденным, уносящим разум в свободный полет. Этот процесс был неуловим, и Сакс осознал, как мало мыслей поддавались записи, запоминанию или передаче другим каким-либо образом – из всего потока сознания можно было поделиться лишь парой капель, даже если поток этот принадлежал самому успешному математику или самому усердному автору дневников.
Что ж, эти случаи были лишь одними из многих условий, к которым людям приходилось приспосабливаться в своей неестественно затянувшейся старости. Это было неудобно и даже вызывало раздражение. Несомненно, данную неприятность было необходимо исследовать, пусть память и считалась известной проблемой изучения мозга. Все это чем-то напоминало проблемы с протекающей крышей. Сразу же после потери нити рассуждений, когда он не мог вспомнить, о чем думал, и был эмоционально возбужден, это выводило его из себя. Но когда мысли забывались окончательно, спустя полчаса они уже казались ему не более существенными, чем сон, ускользающий в первые минуты после пробуждения. Ему и без того хватало, о чем беспокоиться.
Например, о смерти своих друзей. На этот раз – Ильи Зудова, члена первой сотни, с которым он никогда не был достаточно близок. Тем не менее он приехал в Одессу и после церемонии прощания, траурного мероприятия, в ходе которого Сакс часто отвлекался на мысли о Владе, Спенсере или Филлис, а затем и об Энн, они вернулись в здание «Праксиса» и поднялись в квартиру Мишеля и Майи. Это была не та квартира, где они жили перед второй революцией, но Мишель приложил усилия, чтобы она выглядела очень похожей на ту, прежнюю. Это было как-то связано с терапией Майи, которая все сильнее страдала от психических расстройств – Сакс не знал точно, какое именно наблюдалось у нее сейчас. Ему никогда не удавалось разобраться с излишне эмоциональной частью ее натуры, и он никогда не обращал особого внимания на то, что о ней рассказывал Мишель, когда они с ним встречались. У нее каждый раз было что-то новое и каждый раз одно и то же.
Сейчас, однако, он, приняв от Майи чашку чаю, смотрел, как она возвращается на кухню мимо стола, на котором были разложены памятные альбомы Мишеля. Сверху лежала фотография Фрэнка, которой Майя дорожила много лет, – в ее старой квартире эта фотография висела на кухонном буфете, возле раковины, – Сакс отчетливо ее помнил. Она словно служила отражением тех напряженных лет: они вели свою борьбу, а молодой Фрэнк смеялся над ними.
Майя остановилась и взглянула на фотографию, внимательно присмотрелась. Она явно вспоминала тех, кто умер ранее. Тех, кто ушел уже давным-давно. Но сказала только:
– Какое интересное лицо.
Сакс ощутил холодок. Какой отчетливый, физиологический симптом расстройства! Потерять суть мысли, нить рассуждений – это одно, но это… собственное прошлое, их прошлое – это было нестерпимо. Он бы такого не вынес.
Майя заметила, что они поражены, но явно не знала почему. У Нади в глазах стояли слезы – такое нечасто можно увидеть. Мишель сидел ошеломленный. Майя, почувствовав серьезную ошибку, выбежала из квартиры. Никто ее не остановил.
Остальные встали из-за стола. Надя подошла к Мишелю.
– Это все сильнее и сильнее, – беспокойно бормотал тот. – Сильнее и сильнее. Я и сам этим страдаю. Но для Майи… – Он покачал головой в глубоком унынии.
Даже Мишель не мог ей помочь, – Мишель, который успешно применял свою алхимию оптимизма на всех их прежних отклонениях, делая их отклонения частью своей великой истории, мифа о Марсе. Но теперь история закончилась. Такое уже не превратится в миф. Нет, жизнь после потери памяти – сущий фарс, бессмысленный и ужасный. Следовало что-то с этим сделать.
Сакс все еще размышлял над этим, сидя в углу и уткнувшись в свою консоль, на котором читал выдержки из последних экспериментов по изучению памяти, когда из кухни донесся тяжелый звук, а за ним крик Нади. Сакс бросился на кухню и увидел, как Надя и Арт склонились над Мишелем, который лежал на полу с побелевшим лицом. Сакс позвонил консьержу, и бригада «Скорой» быстрее, чем он ожидал, ворвалась в квартиру со своим оборудованием. Оттолкнув Арта, здоровенные молодые уроженцы бесцеремонно оплели Мишеля своей сетью аппаратов. Старикам оставалось лишь наблюдать за тем, как они сражаются за жизнь их друга.
Сакс сидел среди врачей, держа руку на шее Мишеля. Тот уже не дышал, пульс не бился. Лицо побелело. Его усиленно пытались оживить – применяли электрошок, изменяя напряжение, подключили к аппарату для сердечно-легочной реанимации. Молодые врачи работали почти в абсолютной тишине, разговаривая друг с другом лишь при необходимости, словно и не замечали стариков, сидевших у стены. Они делали все, что было в их силах, но Мишель упорно, загадочным образом оставался лежать мертвым.
Несомненно, он был расстроен провалом памяти Майи. Но это не выглядело достаточным объяснением. Он и так прекрасно знал о ее проблеме и давно был ею беспокоен, так что очередное ее проявление не могло так на него повлиять. Это было совпадение. Несчастливое. В конце концов, довольно поздно вечером, когда врачи, сдавшись, вынесли Мишеля вниз и уже складывали оборудование, вернулась Майя, и они рассказали ей, что произошло.
И теперь она была в смятении. Ее страдания оказались слишком невыносимыми для одного из молодых врачей, который попытался ее утешить («Это не поможет, – хотел сказать Сакс. – Я так уже пробовал») и получил от нее пощечину за свои заботы. Он разозлился и, выйдя в коридор, тяжело там уселся.
Сакс вышел за ним и сел рядом. Парень плакал.
– Я больше не могу этим заниматься, – сказал он спустя какое-то время. Он потряс головой, будто хотел оправдаться. – Это бессмысленно. Мы приезжаем и делаем все, что можем, но это не помогает. Ничто не помогает, когда случается резкий спад.
– А что это?
Парень пожал массивными плечами и шмыгнул носом.
– В этом и загвоздка. Никто не знает.
– Но должны ведь быть теории? Проводились же вскрытия?
– Аритмия сердца, – коротко бросил другой врач, проходивший мимо с каким-то оборудованием.
– Это только симптом, – возразил парень и снова шмыгнул носом. – Что вызывает эту аритмию? И почему реанимация не помогает?
Никто не ответил.
Еще одна загадка, которую только предстояло решить. В проеме двери Сакс увидел, что Майя плакала на диване, а Надя, будто статуя, сидела рядом. Внезапно Сакс осознал, что, даже если они найдут объяснение, Мишель все равно останется мертвым.
Арт общался с врачами, о чем-то договаривался. Сакс обратился к консоли и увидел список заголовков статей о резком спаде. В указателе их оказалось 8361. Это были обзоры литературы, составленные машиной таблицы, – но ничего такого, что напоминало бы привычное научное описание. До сих пор в стадии наблюдения и предварительных гипотез… Ничего определенного. Ситуация во многом напоминала Саксу исследования памяти, о которых он много читал. Смерть и память – сколько они уже изучали эти проблемы, столько те им не поддавались! Мишель сам на это указывал, подразумевая наличие неких более глубоких фактов, объяснявших то, что им не удавалось объяснить, – Мишель, который избавил его от афазии, научил понимать в себе то, о существовании чего Сакс и не догадывался. Мишеля больше не было. И он не вернется. Последнюю версию его тела только что вынесли из квартиры. Он был с Саксом примерно одного возраста, около двухсот двадцати лет. По всем былым меркам такой возраст считался преклонным, но почему тогда у Сакса болело в груди и хотелось плакать? В этом не было смысла. Но Мишель бы и тут разобрался. И сказал бы: «Уж лучше так, чем смерть разума». Но Сакс не был в этом уверен: его проблемы с памятью, как и расстройство Майи, сейчас казались менее важными. Она помнила достаточно, чтобы чувствовать себя опустошенной. И он тоже. Все важное он помнил.
Ему пришла странная мысль: он каждый раз оказывался рядом с ней, когда умирал кто-то из ее мужчин. Джон, Фрэнк и теперь Мишель. И каждый раз ей было все труднее. Как и ему.
Прах Мишеля поднялся на шаре над морем Эллады. Одну горсть они сохранили, чтобы отправить в Прованс.
Литература о долголетии и старении была настолько обширна, что Саксу поначалу оказалось трудно организовать свой привычный штурм справочных материалов. Самой очевидной начальной точкой служили недавние труды на тему резкого спада, но для понимания статей приходилось часто возвращаться к более ранним работам и углублять свои знания самой антивозрастной терапии. Эту область Сакс всегда понимал лишь поверхностно, непроизвольно чураясь ее из-за запутанной и необъяснимой природы, имеющей чуть ли не чудодейственный характер. Тема действительно была очень близка к самой сути великого необъяснимого. Он с радостью оставил ее Хироко и в высшей степени одаренному Владимиру Танееву, который вместе с Урсулой и Мариной разработал и курировал первые курсы терапии, а затем и многие основные доработки к нему.
Но сейчас Влад был мертв. А у Сакса появился интерес. Пора было совершить нырок в viriditas, в поле этого комплекса.
Существовало последовательное поведение и хаотичное поведение, а где-то между ними, так сказать, в их взаимодействии, находилась обширная и запутанная зона, как раз и служившая полем комплекса. Она же была местом, где появлялась viriditas и где могла существовать жизнь. Удерживание жизни в ее пределах, в наиболее общем философском смысле, и было задачей антивозрастной терапии – это же подразумевало сдерживание различных посягательств со стороны хаоса (вроде аритмии) или порядка (вроде злокачественного клеточного роста), которые могли привести к гибели организма.
Но сейчас появилось что-то приводившее в тому, что прошедшие процедуру омоложения люди переходили от медленного старения к чрезвычайно быстрому – или, что еще тревожнее, от здоровья к смерти, без какого-либо старения. Некое доселе невиданное вторжение хаоса или порядка в пограничную область комплекса. Во всяком случае, он представлял это себе именно так после того, как вдоволь начитался общих описаний феномена, которые только сумел найти. А в математических описаниях границ комплексности с хаосом и порядком подразумевались различные пути исследования. Но он потерял это целостное видение проблемы при одном из провалов – тогда нить его математических рассуждений ушла безвозвратно. Хотя, наверное (так он пытался утешить себя позднее), это видение было чересчур философским, чтобы принести пользу. Объяснение явно не могло быть простым, иначе сосредоточенные усилия медицины уже давно бы его нашли. Скорее наоборот, оно крылось в какой-нибудь мелочи в биохимии мозга – области, которая сопротивлялась попыткам исследовать ее вот уже пятьсот лет и напоминала гидру, представляя с каждым новым открытием лишь горсть загадок…
Тем не менее он был настойчив. На несколько недель погрузился в чтение, решив разобраться в области лучше, чем когда-либо прежде. Раньше он полагал, что его процедура омоложения включала достаточно простую инъекцию ДНК пациента, и искусственно произведенные цепочки усиливали те, что уже содержались в клетках, благодаря чему ошибки, которые закрадывались с течением времени, исправлялись, а сами цепочки в целом укреплялись. Это во многом соответствовало истине, но терапия заключалась не только в этом – равно как и старение объяснялось не только ошибками в делении клеток. Как и следовало ожидать, терапия была гораздо более сложной, чем обычный разрыв хромосом: она представляла собой целый комплекс процессов. И лишь часть из них была достаточно изучена. Процесс старения протекал на всех уровнях: молекулярном, клеточном, органном и организменном. Иногда старение вызывало гормональные эффекты, положительные для молодых организмов в их репродуктивной фазе и лишь позже становящиеся отрицательными для организмов, которые находились в пострепродуктивном периоде, когда эти эффекты не имели значения с точки зрения эволюции. Некоторые клеточные линии были, по сути, бессмертны; клетки костного мозга и слизи желудочно-кишечного тракта продолжали воспроизводиться столько, сколько были живы окружающие их клетки, и при этом не проявляли изменений, которые наступали бы с течением времени. Другие клетки, например незаменимых белков в хрусталике глаза, подвергаются изменениям, вызываемым воздействием света или тепла, и имеют достаточно регулярный характер, чтобы служить своего рода биологическим хронометром. Клеточные линии разных типов старели каждый со своей скоростью или не старели вовсе. То есть это было не просто «дело времени», понимаемого, как ньютоновское абсолютное время, которое воздействовало на организм энтропическим образом, – такого времени не существовало. Зато существовало великое множество цепочек физических и химических событий, которые происходили с разной скоростью и вызывали разные эффекты. В каждом крупном организме было также заложено большое количество механизмов восстановления клеток и имелась мощная иммунная система. Антивозрастная терапия часто дополняла эти процессы, взаимодействовала с ними напрямую либо заменяла их. Современная терапия включала в себя добавки фермента фотолиазы, призванного исправлять повреждения ДНК, добавки мелатонина, гормона эпифиза и дегидроэпиандростерона, стероидного гормона, который производился в надпочечниках… Всего в составе антивозрастной терапии теперь находилось около двухсот подобных составляющих.
Такая обширная, такая сложная… Иногда Сакс, закончив к вечеру чтение, выходил на одесскую набережную, чтобы посидеть с Майей у обрыва, и останавливался съесть буррито, пристально его разглядывая, чувствуя свое дыхание, которое и не замечал раньше, – а потом внезапно ощущал себя бездыханным, терял аппетит, терял веру в то, что такая сложная система способна существовать дольше одного мгновения, прежде чем впасть в первобытный хаос и астрофизическую простоту. Как стоэтажный карточный домик на ветру. Его достаточно коснуться в любом месте… Счастье, что Майя не нуждалась в активном общении, так как он часто лишался дара речи на несколько минут за раз, поглощенный размышлениями о невозможности собственного существования.
Но он был настойчив. Ученые всегда так себя вели, когда сталкивались с неведомым. И в этом поиске ему помогали другие, кто работал впереди, на самых рубежах, или плечом к плечу, в смежных областях, начиная с малого – вирологии, где исследования крошечных форм вроде прионов и вироидов обнаруживали еще меньшие формы, которые казались слишком элементарными, чтобы называться жизнью, – и каждая из них могла иметь отношение к более крупной проблеме… Вплоть до крупных процессов на организменном уровне, таких как ритмы мозговых волн и их влияние на сердце и прочие органы или как постоянно сокращающиеся выделения эпифизом мелатонина, гормона, регулирующего многие аспекты старения. Сакс исследовал каждый из них, пытаясь сформировать на них новый взгляд под более свежим, как он надеялся, широким углом. При этом он был вынужден интуитивно выбирать то, что казалось важным, и изучать то, что выбирал.
И он, конечно, испытывал затруднения, когда его рассуждения прерывались и забывались в последний момент. Ему следовало научиться записывать эти потоки мыслей, прежде чем они пропадали! Он начал разговаривать с собой вслух, часто, даже на людях, надеясь, что это поможет предупредить провалы, – но не получалось. Это был просто не речевой процесс.
И среди всей этой работы удовольствие ему приносили встречи с Майей. Каждый вечер – если он замечал, что был вечер, – он бросал читать и спускался по ступенчатым улицам города к обрыву, где на одном из четырех уступов часто находил ее. Она сидела и через всю гавань всматривалась в даль моря. Он подходил к какой-нибудь лавке с едой в парке, покупал буррито, гирос, салат или корндог, а потом садился рядом с ней. Она кивала, ела и мало говорила. А потом они сидели и смотрели на море.
– Как прошел день?
– Нормально. А у тебя?
Он не пытался особо рассказывать о том, что читал, и она не особо рассказывала о своей гидрологии или театральных постановках, на которые уходила после наступления темноты. У них и не было особой нужды разговаривать. Им и так было приятно находиться в обществе друг друга. А в один вечер солнце садилось с необычным лавандовым сиянием, и Майя спросила:
– Интересно, что это за цвет?
– Лавандовый? – рискнул ответить Сакс.
– Но лаванда же более нежная, разве нет?
Сакс открыл цветовую шкалу, которой стал пользоваться уже давно, чтобы распознавать оттенки неба. Майя фыркнула, увидев это, но он все равно поднял запястье и стал сравнивать разные образцы квадратиков неба.
– Нужен экран побольше.
А потом они нашли образец, который, как им показалось, подошел: светло-фиолетовый. Или что-то среднее между светло- и бледно-фиолетовым.
И с тех пор у них появилось это маленькое увлечение. В самом деле было удивительно, как сильно отличались оттенки одесских закатов, разливавшиеся по небу, морю, побеленным городским стенам, – их число было бесконечно. Куда больше, чем названий цветов. Скудность языка в этом отношении оказалась для Сакса неожиданностью. Даже шкалы было мало. Глаз, как он вычитал, различал до десяти миллионов различных оттенков, а справочник, которым он пользовался, содержал лишь 1266 образцов, и лишь малая их часть имела названия. Поэтому большинство вечеров они поднимали руки и пытались сравнивать разные цвета на фоне неба, а когда находили более-менее подходящий, оказывалось, что он никак не определялся и не имел названия. И они сами их придумывали: оранжевый 11-го октября-2, афелиевый фиолетовый, лимоновый листок, почти зеленый, борода Аркадия – Майя могла продолжать бесконечно, в этом она была действительно хороша. Иногда случалось, что оттенок неба совпадал (хотя бы на мгновение) с именованным образцом, и тогда они узнавали настоящее значение нового слова, которое Сакс обычно находил вполне удовлетворительным. Но английскому языку было на удивление мало чем заполнить эту полосу между красным и синим; язык просто не был достаточно оснащен для Марса. Однажды вечером, после заката цвета мальвы, они стали методично двигаться по шкале, чтобы увидеть все как есть: пурпурный, фуксиновый, сиреневый, амарантовый, баклажановый, мов, аметистовый, сливовый, фиалковый, фиолетовый, гелиотроповый, цвет клематиса, лаванды, индиго, гиацинтовый, ультрамариновый – а затем еще множество названий оттенков синего. И синевы было очень, очень много. Но красно-синяя полоса этим и ограничивалась, не считая многочисленных модуляций этого списка вроде королевского фиолетового, лавандово-серого и прочих.
А одним ясным вечером, когда солнце уже скрылось за горами Геллеспонт, но еще подсвечивало небо над морем, оно приняло очень знакомый ржаво-коричневый, оранжевый оттенок. Майя вцепилась ему в руку:
– Это же марсианский оранжевый, смотри, это цвет планеты, который мы видели с «Ареса»! Смотри! Быстрее, что это за цвет, что это за цвет?
Они принялись просматривать шкалу, поднимая перед собой руки.
– Красный перец.
– Помидор.
– Оксид железа, вот, вроде бы он, все-таки этот цвет получается из-за соприкосновения кислорода с железом.
– Но он же намного темнее, смотри!
– Точно.
– Коричневато-красный.
– Красновато-коричневый.
Цвет корицы, охры, персидский оранжевый, верблюжий, ржаво-коричневый, пустынный, оранжевый крон… Они начали смеяться. Ни один не подходил полностью.
– Назовем его марсианским оранжевым, – решила Майя.
– Ладно. Но посмотри, насколько у этих цветов названий больше, чем у пурпурных оттенков, интересно, почему так?
Майя пожала плечами. Сакс продолжил читать текст пояснения к шкале, чтобы выяснить, указывало ли там что-нибудь на это.
– А-а, оказывается, колбочки сетчатки имеют клетки, чувствительные к синему, зеленому и красному, поэтому цвета, близкие к ним, имели много различий, а те, что между ними, смешивались друг с другом.
Затем в багровеющем сумраке он наткнулся на предложение, которое удивило его настолько, что он прочитал его вслух:
– Красный и зеленый образуют еще пару цветов, которые не воспринимаются одновременно как составляющие одного цвета.
– Это неправда, – мгновенно возразила Майя. – Это все из-за того, что они используют цветовой круг, а эти два находятся на противоположных его сторонах.
– Что ты имеешь в виду? Что цветов на самом деле больше?
– Конечно. Как на картинах или в театре. Стоит направить на кого-нибудь зеленый и красный, получишь цвет, который не будет ни тем, ни другим.
– Но какой? У него есть название?
– Не знаю. Посмотри на художественную цветовую шкалу.
И они оба принялись смотреть. Она нашла первой:
– Вот. Жженая умбра, индийский красный, ализариновый… все это смеси красного и зеленого.
– Интересно! Смеси красного и зеленого. Тебе это ничего не напоминает?
Она взглянула на него.
– Мы говорим о цветах, Сакс, а не о политике.
– Знаю, знаю, но все же…
– Нет, не глупи.
– Но тебе не кажется, что нам как раз нужна смесь красного и зеленого?
– В политическом смысле? Такая смесь уже есть, Сакс. И в этом-то заключается проблема. «Свободный Марс» взяли к себе Красных, чтобы остановить иммиграцию, – вот почему они так успешны. Они собираются вместе и закрывают Марс для землян, а потом у нас опять начнется война с ними. Точно говорю, я уже вижу, что она приближается. Мы снова в нее скатываемся.
– Хм, – проговорил Сакс, словно протрезвев. Он в последнее время не придавал значения политическим процессам в Солнечной системе, но знал, что Майя очень внимательно за ними следила и все сильнее тревожилась – со своим обычным язвительным удовлетворением, какое вызывал у нее приближающийся кризис. Так что, может быть, это было не так плохо, как она думала. Пожалуй, ему стоило в ближайшее время обратить внимание на эту проблему. Но пока…
– Смотри, оно стало индиго, вон, над самыми горами. – Над границей черного виднелась пурпурно-синяя полоса.
– Это не индиго, а королевский синий.
– Но он не может называться синим, если в нем есть примесь красного.
– Не может. Но ведь есть прусская синяя лазурь, кобальтовая синь – в них присутствует оттенок красного.
– Но этот цвет над горизонтом – ни к тому, ни к другому не относится.
– Ты прав, не относится. Он безымянный.
Они обозначили его на своих шкалах. Ls=24°, 91-й М-год, сентябрь 2206-го. Новый цвет. Так прошел еще один вечер.
А позже, одним зимним вечером, они сидели на самой западной скамье, в предзакатный час, и всюду царило спокойствие. Море Эллады напоминало стеклянную тарелку, небо было безоблачным и чистым, ясным, прозрачным, а по мере понижения солнца все погружалось в синеву. Но тут Майя оторвала взгляд от своего никосийского салата и схватила Сакса за руку.
– О боже, смотри! – Она отставила свою бумажную тарелку, и они оба непроизвольно вскочили на ноги, как старики-ветераны, услышавшие национальный гимн. Сакс вмиг проглотил свой гамбургер.
– А-а, – проговорил он и пристально посмотрел. Все было синим – небесно-синим, как на Земле, пропитывающим все и вся, наполняющим их сетчатки и нервные пути у них в мозгах, которые, без сомнения, долго скучали по этому цвету, по дому, покинутому навсегда.
Это были приятные вечера. Дни, однако, становились все более сложными. Сакс бросил изучать недомогания всего тела и сосредоточился только на мозге. Он ощущал, будто разделил надвое бесконечность, но тем не менее трудов, с которыми ему следовало ознакомиться, теперь поубавилось, и ему казалось, что, так сказать, суть проблемы заключалась именно в мозге. В сверхстаром мозге происходили изменения, которые были заметны как при вскрытии, так и при различных сканированиях кровотока, электрической активности, потребления белка и сахара, теплового излучения и прочих косвенных тестах, которые люди придумали на протяжении столетий для изучения мозга, совершающего какую-либо умственную деятельность. Среди наблюдаемых изменений в сверхстаром мозге было отвердение эпифиза, вызывавшее сокращение производимого им мелатонина; и, хотя синтетические мелатониновые добавки включались в антивозрастную терапию, несравненно лучше было бы прежде всего остановить отвердение, которое могло иметь и другие последствия. Также был замечен явный рост числа нейрофибриллярных клубков, то есть скоплений белка, что растут между нейронами, оказывая на них физическое давление – вероятно, аналогичное тому давлению, на которое Майя жаловалась при своих прескевю, – никто не знал наверняка. Кроме того, бета-амилоиды накапливались в церебральных сосудах и во внеклеточном пространстве вокруг нервных окончаний, опять же, затрудняя их функционирование. Пирамидальные нейроны в лобной доле и гиппокампе накапливали кальпаин, что означало, что они становились уязвимыми для притоков кальция, который их разрушал. А это были неделящиеся клетки, такого же возраста, что и сам организм, так что разрушения оказывались необратимыми, как те, что Сакс перенес при своем инсульте. Тогда он потерял значительную часть мозга и теперь не любил об этом думать. Также молекулы в этих неделимых клетках могли утратить способность заменять себя, и это было меньшим, но существенным с течением времени ухудшением. Вскрытия людей, умерших от резкого спада в возрасте свыше двухсот лет, постоянно показывали значительное отвердение эпифиза в сочетании с повышенным уровнем кальпаина в гиппокампе. А гиппокамп и уровень кальпаина, как правило, присутствовали в некоторых современных моделях работы памяти. И такая связь выглядела любопытно.
Но все это бездоказательно. Нельзя было решить задачу, просто читая литературу. Но эксперименты, которые могли что-то прояснить, нельзя было провести практически, учитывая невозможность получить доступ к живому мозгу. Можно было убивать кур, мышей, крыс, собак, свиней, лемуров и шимпанзе, можно было убивать особей любого существующего вида, резать мозги их зародышей и эмбрионов, но так и не найти то, чего искал, – потому что просто вскрытия недостаточно, чтобы найти ответ. Как и недостаточно сканирования живых особей: интересующие его процессы были либо слишком мелкими, чтобы наблюдать их с помощью сканирования, либо более комплексными, либо более комбинаторными – а скорее, и то, и другое, и третье сразу.
И все же кое-какие эксперименты и вытекающее из них моделирование позволяли сделать некоторые предположения – например, накопление кальпаина, похоже, изменяло характер мозговых волн. Этот и другие факты наводили Сакса на мысли относительно дальнейших исследований. Он начал углубляться в литературу о влиянии уровней кальций-связывающих белков, о кортикостероидах, о потоках кальция в пирамидальных нейронах и об отвердении эпифиза. Как оказалось, все это производило синергические эффекты, которые могли повлиять и на память, и на работу мозговых волн в целом, да и на все ритмы организма, включая сердечный.
– У Мишеля были проблемы с сердцем? – просил он у Майи. – Может, у него путались мысли – даже самые важные?
Майя пожала плечами. Мишеля к этому времени не было уже год.
– Не помню.
Это беспокоило Сакса. Майя казалась отчужденной, ее память ухудшалась с каждым днем. Даже Надя никак не могла ей помочь. Сакс все чаще встречал ее у обрыва, это была их привычка, которая нравилась обоим, хоть они и никогда этого не обсуждали; они просто сидели, ели еду из лавки, смотрели на закат и прикладывали к небу свои цветовые шкалы, стараясь обнаружить новые цвета. Но если они не находили к ним примечаний, которые сами там оставляли, то никто из них не был уверен, видели ли они эти цвета раньше или нет. Сакс сам уже чувствовал, что провалы в памяти случались у него чаще, примерно от четырех до восьми раз в день, хотя точно он не знал. У него всегда был наготове диктофон на искине, который активировался голосом, и, вместо того чтобы пытаться описать полную нить своих рассуждений, Сакс лишь проговаривал несколько слов, которые, как он надеялся, дадут ему ключ к восстановлению всего хода мыслей. И вечерами он садился и с опаской и с надеждой прослушивал то, что искин записал в течение дня. В основном это были мысли, которые он помнил, но изредка он слышал, как говорил что-то вроде: «Синтетический мелатонин может оказаться лучшим антиоксидантом, чем естественный, значит, свободных радикалов не хватает» или «Viriditas – это фундаментальная загадка, которая никогда не впишется в единую теорию». Он не помнил, как говорил это, и часто даже не понимал, что бы это могло значить. Но иногда эти заявления наводили на размышления, а до их значений можно было докопаться.
И он продолжал бороться. И снова видел, четко, как в студенческие годы, как прекрасно устроена наука. Она, несомненно, была одним из величайших достижений людского духа, выдающимся храмом разума, непрерывно развивающимся, как эпичная симфоническая поэма в тысячу стансов, творимая всеми вместе в безмерном и бессрочном соавторстве. Писалась поэма на языке математики, который, похоже, был языком самой природы: иначе не объяснить потрясающую привязанность природных феноменов к предельно сложным и точным математическим выражениям. В этом удивительном семействе языков их песни охватывают различные воплощения реальности, в разных областях науки, каждая из которых имела свою стандартную модель для объяснения мира. Их собирали на том или ином расстоянии от физики элементарных частиц в зависимости от уровня и масштаба их исследования, так что существовала надежда, что все стандартные модели могли объединиться в более крупную целостную структуру. Модели эти представляли собой нечто вроде кунианской парадигмы, только в реальности (парадигмы-то были лишь образцами для моделирования), более гибкие и разнообразные, диалогический процесс, в котором тысячи умов объединяются на протяжении столетий, так что такие личности, как Ньютон, Эйнштейн или Влад, становятся не обособленными гигантами общественного восприятия, но высочайшими пиками великой горной гряды, – так, Ньютон сам пытался объяснить, будто стоит на плечах гигантов. Научный труд, по сути, был делом совместным и брал истоки еще до рождения современной науки, в доисторические времена, как настаивал Мишель, и сопровождался непрерывным стремлением к пониманию.
Сейчас, конечно, он имел сложную структуру и ни один живой человек не был способен охватить его целиком. Но это следовало лишь из его великого объема, а удивительный расцвет этой структуры в принципе не был непостижимым, и человек по-прежнему мог бродить по этому храму, понимая картину хотя бы в целом, и выбирать, что изучать глубоко, что поверхностно, какой делать вклад самому. Сначала нужно было выучить диалект языка, имеющий отношение к выбранной области, что само по себе было трудной задачей, особенно в случае теории суперструн или каскадного рекомбинантного хаоса, и только потом можно было проштудировать сопутствующую литературу и, если повезет, найти синкретический труд какого-нибудь автора, кто долго проработал в самом авангарде и мог дать связный ответ о состоянии дел в его области для новичков. Этот труд, к которому большинство действующих ученых отнесутся с пренебрежением, назывался «серой литературой» и рассматривался как уход или снижение активности самого синкретика, но тем не менее зачастую представлял значительную ценность для тех, кто приходил в область со стороны. Благодаря общим обзорам, позволяющим взглянуть на картину с высоты (ведь авторы писали их, сидя где-то на тусклых брусьях стропил), можно было перейти на журналы и рецензируемую самими учеными «белую литературу», где описывались новейшие исследования, можно было читать статьи и сводки и быть в курсе того, кто над чем сейчас работал. Все так общедоступно и наглядно… И над каждой научной проблемой работала группа людей, они находились на рубеже, – самое большее несколько сотен человек, и часто в их числе имелась ключевая группа синкретиков и инноваторов, которых было не более дюжины на всех планетах, – они придумывали новые разновидности своих диалектов, чтобы выразить новые знания, спорили над выводами, предлагали новые пути исследований, раздавали друг другу задания в лабораториях, встречались на конференциях, посвященных конкретным темам, – общались всеми возможными способами. И так в лабораториях и на конференциях, где люди, понимавшие друг друга, вели между собой диалоги, ставили эксперименты и размышляли над их результатами, дело продвигалось вперед.
И вся эта колоссальная сочлененная конструкция стояла открытая, среди белого дня, доступная каждому, кто желал присоединиться, кто хотел и умел работать. Здесь не было секретов, не было закрытых дверей, и если каждая лаборатория и каждая отрасль вела какую-то политику, то это была просто политика, которая не могла повлиять на саму конструкцию, на их математически выстроенную систему понимания феноменов мира. Поэтому Сакс всегда верил в науку, и ни анализы социологов, ни даже проблемный опыт терраформирования Марса не могли пошатнуть его убеждения. Наука была социальной конструкцией, но она также была – что особенно важно – отдельным пространством, связанным с одной лишь реальностью, и в этом заключалась ее красота. Краса есть правда, как писал поэт, думая о науке. И это было действительно так: поэт оказался прав (хотя иногда поэты ошибаются).
И Сакс передвигался по огромному зданию науки со знанием дела, уверенный в себе и местами вполне довольный.
Но он начал понимать, что при всей красоте и силе науки проблема биологического старения была, пожалуй, чересчур сложна. Не настолько, чтобы навсегда остаться нерешенной, но достаточно, чтобы ее нельзя было решить за одну жизнь. На самом деле вопрос, насколько сложной она была, еще оставался открытым. Современное понимание материи, пространства и времени было неполным, и могло случиться так, что им придется всегда обращаться к метафизике, как, например, при рассуждениях о космосе перед Большим взрывом или частицах размерами меньше струн. С другой стороны, мир мог постепенно поддаваться новым объяснениям, пока весь (по крайней мере, от струн до космоса) не окажется однажды внутри великого храма. Впрочем, этого могло и не случиться. Следующие тысячи лет или около того расставят все по местам.
А пока он испытывал по несколько провалов в день. И иногда страдал одышкой. Иногда его сердце, казалось, билось слишком учащенно. Он плохо спал по ночам. И Мишель был мертв, поэтому значения некоторых вещей становились расплывчатыми, и он сильно нуждался в помощи. Когда он пытался думать обо всем на уровне значений, то ему начинало казаться, будто он бежит наперегонки. И он, и все остальные, особенно ученые, работающие над этой проблемой, – они все пытались обогнать смерть. Выиграть забег и разгадать одну из величайших загадок, объяснить необъяснимое.
А однажды, сидя с Майей на скамье после очередного дня, проведенного перед экраном, и думая об обширности этого всевозрастающего крыла храма, он понял, что эту гонку ему не выиграть. Человеческому виду это когда-нибудь, может, и удастся, но до этого, похоже, еще далеко. Впрочем, и неудивительно, он и так это знал, всегда знал. Обозначение крупнейшего проявления проблемы не скрыло от него ее глубины: «резкий спад» был не более чем названием – неточным, чересчур упрощенным, ненаучным. Но в то же время – как и «Большой взрыв» – попыткой если не понять, то хотя бы сократить и наполнить его реальность. В данном случае проблемой была просто смерть. А учитывая природу жизни и времени, такая проблема была не из тех, что мог бы по-настоящему решить живой организм. Отсрочить – да, решить – нет.
– Реальность сама смертна, – проговорил он.
– Конечно, – согласилась Майя, наслаждавшаяся видом заката.
Ему нужна была проблема полегче. Как отсрочка, шаг к чему-то более сложному или просто к тому, что было ему по силам. Например, память. Борьба с провалами – эта проблема стояла прямо перед ним, готовая к изучению. Его память требовала помощи. И работа над этой проблемой могла даже пролить свет на резкий спад. Даже если и нет, он все равно должен попробовать этим заняться, и неважно, насколько это сложно. Так или иначе, им всем суждено умереть, но, по крайней мере, они могли сделать это, сохранив воспоминания.
И бросив изучение резкого спада и старения, он переключился на проблему памяти. Все-таки он был всего лишь смертным.
Последние труды о памяти предполагали множество путей дальнейшего изучения. Этот рубеж науки несколько касался тех знаний, благодаря которым Сакс сумел (частично) справиться с последствиями инсульта. Что и неудивительно, ведь память – это запоминание знаний. Вся наука о мозге стремилась, прежде всего, к пониманию сознания. Но при всем этом прогрессе сохранение и обращение к воспоминаниям оставались неподатливыми ключевыми вопросами, которые пока так и не удавалось в полной мере понять.
Зато выявлялись некоторые особенности, и их становилось все больше. Тому способствовали случаи на практике: многие из древних страдали от разного рода проблем с памятью, а вслед за ними шло многочисленное поколение нисеев, которые видели проявление проблемы у этих стариков и сами надеялись их избежать. Так что память была темой злободневной. Сотни и даже тысячи лабораторий подходили к ней то так, то этак, и в результате многие аспекты проблемы становились ясны. Сакс сам, в своем привычном стиле, погрузился в непрерывное чтение на несколько месяцев и к концу этого срока мог рассказать, в общих чертах, как была устроена память. Хотя в итоге, как и остальные ученые, работавшие над данной проблемой, столкнулся с недостатком понимания основ – сознания, материи, времени. И достигнув этой точки, Сакс не видел, как улучшить или укрепить память. Им нужно больше знаний.
Теория, впервые предложенная Дональдом Хеббом в 1949 году, не только не была опровергнута, но и считалась основным принципом: заучивание меняло в мозге некоторое физическое свойство, и затем это измененное свойство каким-то образом кодировало выученный факт. Во времена Хебба считалось, что физическое свойство (энграмма) имеет место примерно на синаптическом уровне, а поскольку синапсов могут быть сотни тысяч на каждый из десяти миллиардов нейронов в мозге, то получалось, что мозг был способен вместить около 1014 бит информации, – и в то время это казалось логичным объяснением человеческого сознания. А поскольку охватить такой объем было по силам компьютеру, то вскоре на недолгое время вошла в моду тема сверхмощного искусственного интеллекта, как и «машиноморфизм» в версии той эпохи, вариант антропоморфизма, в котором мозг рассматривался как нечто вроде мощнейшей машины. Благодаря исследованиям XXI–XXII веков, однако, стало ясно, что мест для энграмм как таковых не существует. Немало экспериментов, с помощью которых их пытались найти, потерпели неудачу – включая тот, где крысам удаляли разные участки мозга после того, как они выучивали какое-то задание, но ни один участок не оказался существенно важным. Провалившиеся эксперименты показали, что память располагалась «всюду и нигде», что вело к аналогии между мозгом и голограммой, хотя это было даже глупее аналогии с машинами, – но ученые были в тупике и хватались за все подряд. Более поздние эксперименты прояснили ситуацию, и стало очевидно, что все сознательные действия совершались на уровне гораздо более малом, чем даже нейронный; Сакс ассоциировал это с общей миниатюризацией внимания науки, которая наблюдалась на протяжении двадцать второго столетия. И выйдя на эти малые уровни, они начали исследовать цитоскелеты нейронов, которые представляли собой внутренние ряды микротрубочек с белковыми мостиками между ними. Эти микротрубочки были полыми и состояли из тринадцати столбиков тубулиновых димеров – округлых, в форме арахиса, белковых пар, каждая размером 8×4×4 нанометров, существовавших в двух разных конфигурациях в зависимости от своей электрической поляризации. Таким образом, димеры служили возможным выключателем предполагаемых энграмм, но были настолько малы, что на электрическое состояние каждого из них в результате взаимодействия Ван-дер-Ваальса влияли окружающие димеры. И всякого рода сообщения могли проходить по столбикам микротрубочки и соединяющим их белковым мостикам. А совсем недавно был сделан шаг к еще большей миниатюризации: каждый димер содержал около 450 аминокислот, которые могли сохранять информацию, изменяя свою последовательность. Столбики же, что содержались внутри димеров, оказались крошечными нитями воды в упорядоченном состоянии, или так называемой вицинальной воды, – и она могла передавать квантово-когерентные колебания по всей длине трубочки. В результате многочисленных экспериментов над живыми обезьяньими мозгами с применением всевозможных миниатюрных приборов было установлено, что, пока сознание думает, последовательности аминокислот меняются, тубулиновые димеры во многих местах меняют конфигурацию, микротрубочки перемещаются, иногда увеличиваются в размерах, а на гораздо большем уровне дендритные шипики также растут и образуют новые соединения, в некоторых случаях непрерывно изменяя синапсы, в некоторых – нет.
И теперь из лучшей модели следовало, что воспоминания были закодированы (каким-то образом) в виде комбинаций квантово-когерентных колебаний, устанавливаемых изменениям в микротрубочках и их составных частях, и все это происходило внутри нейронов. Впрочем, сейчас некоторые исследователи предполагали, что могли протекать важные процессы даже на меньших, ультрамикроскопических уровнях, которые пока оставались недоступными для изучения (как это знакомо!). Другие же усмотрели признаки того, что колебания совершались по аналогии со спиновыми сетями, которые описывала Бао, – вырисовывая завязанные узлы и сети. Это странным образом напоминало Саксу план дворца памяти с его комнатами и коридорами – казалось, будто древние греки посредством одной только интроспекции постигли саму суть геометрии пространства-времени.
В любом случае не возникало сомнений в том, что эти ультрамикроскопические процессы имели отношение к пластичности мозга и были частью процесса получения информации и их сохранения. То есть память откладывалась на гораздо меньшем уровне, чем считалось ранее, что давало мозгу гораздо более высокую вычислительную способность, чем до этого, – вероятно, до 1024 операций в секунду, а то и до 1043, по некоторым подсчетам. В результате один исследователь заметил, что каждый человеческий мозг был в определенном смысле сложнее, чем вся остальная вселенная (не считая ее сознательности, разумеется). Сакс нашел это подозрительно похожим на сильные антропные фантомы, которые встречались тут и там в космологической теории, но вообще это предположение казалось ему интересным.
Так что дело было не только в том, что процессов происходило больше, чем они думали, но и в том, что происходили они на таких тонких уровнях, что в них определенно были вовлечены и квантовые эффекты. Проведенные опыты дали понять, что крупномасштабные коллективные квантовые феномены имели место в каждом мозге. Как существовали в нем и квантовая когерентность, и квантовая запутанность между различными электрическими состояниями микротрубочек. Это означало, что все неожиданные феномены и явные парадоксы квантовой реальности являлись неотъемлемой частью сознательности. Лишь недавно одна команда французских исследователей, включив квантовые эффекты в цитоскелеты, наконец, сумела выдвинуть связную теорию, объясняющую работу общих анестетиков. И это спустя все столетия их беспечного применения.
И они столкнулись с еще одним причудливым квантовым миром, где действие происходило на расстоянии, где непринятые решения не могли повлиять на реальные события, а некоторые из событий, казалось, запускались телеологически или, иными словами, событиями, наступавшими после них… Сакса эти открытия не особо удивили. Они лишь укрепили то ощущение, которое преследовало его всю жизнь, – что людской разум был полон загадок, как черный ящик, который едва поддавался научным исследованиям. А сейчас, когда наука все-таки стала к нему подбираться, то столкнулась с великими необъяснимыми самой реальности.
Но все равно можно было сохранить верность своей науке и признать, что реальность на квантовом уровне показывает такое поведение, какое на уровне человеческих чувств и повседневного опыта показалось бы возмутительным. Ученым понадобилось триста лет, чтобы с этим свыкнуться, и в итоге они были вынуждены включить эти знания в свою картину мира и жить дальше. Сакс, конечно, сказал бы, что эти квантовые парадоксы ему знакомы и они ему нипочем: то, что происходит в микротрубочках, выглядит причудливым, но это объяснимо, измеримо или как минимум описываемо, требует применения комплексных чисел, римановой геометрии и всего остального вооружения, что находилось в распоряжении математики. То, что нечто подобное нашлось в самой работе мозга, было совсем не удивительно. И по сравнению, например, с человеческой историей, психологией или культурой это даже немного успокаивало. Все-таки это была всего лишь квантовая механика. То, что моделировалось математическими средствами. А это уже кое-что.
Так вот. На предельно малом уровне структуры мозга можно было увидеть, что прошлое по большей части содержалось в закодированном виде в комплексной сети синапсов, микротрубочек, димеров, вицинальной воды и цепочек аминокислот. Все они были достаточно малы и располагались достаточно плотно, чтобы оказывать квантовый эффект друг на друга. Характеры квантовых колебаний, нарастающие и затухающие, – они и были сознательностью. Формируясь и поддерживаясь в особых участках мозга, эти характеры выражались на многих уровнях. Гиппокамп, например, был критически важен, особенно участок зубчатой извилины и ведущие к нему нервы перфорирующего пути. При этом гиппокамп был чрезвычайно чувствителен к процессам в лимбической системе, находившейся в мозге прямо под ним, и во многих отношениях служил тем источником эмоций, за который в древности всегда принимали сердце. Таким образом, от эмоционального заряда события сильно зависело, насколько полно оно отложится в памяти. Что-то происходило вокруг, и сознание наблюдало или испытывало это на себе, этот опыт неизбежно изменял мозг и навсегда становился его частью; особенно события, усиливавшие эмоции. Это описание казалось Саксу правильным: то, что он сильнее прочувствовал, то и лучше всего помнил – или особенно исправно забывал, как показывали некоторые эксперименты, и, прикладывая подсознательные постоянные усилия, он не забывал по-настоящему, а подавлял воспоминания.
Однако после этого исходного изменения в мозге начинался медленный процесс деградации. Прежде всего, способность вспоминания у разных людей отличалась, но всегда уступала способности запоминать и была очень трудноуправляемой. И таким образом, большое количество информации в мозг заносилось, но затем никогда не извлекалось. А если не запоминать информации, не вспоминать ее и не повторять, то не удастся и укрепить ее очередным обращением к ней. Тогда примерно через сто пятьдесят лет, как показывали эксперименты, она начинала деградировать все быстрее и быстрее, по мере того как квантовые эффекты свободных радикалов бессистемно накапливались в мозге. Очевидно, это и происходило с древними: процесс распада, начинавшийся сразу после того, как событие откладывалось в мозге, затем нараставший до уровня, на котором эффекты оказывали катастрофическое действие на характер колебаний, а значит, и на сами воспоминания. И он шел точно как часы, хмуро подумал Сакс, как помутнение хрусталика глаза.
И если кто-нибудь мог повторить все воспоминания, экфоризировать их – как было указано где-то в тематической литературе, от греческого слова, означающего что-то вроде «передать эхо», – это сделало бы характер колебаний более устойчивым и свело деградацию к нулю. По сути, стало бы своего рода процедурой омоложения для димеров, тем, что в литературе называлось анамнезом, или потерей забывания. И после такой процедуры вспомнить любое заданное событие было бы легче или, по меньшей мере, так же легко, как вскоре после того, как это событие произошло. Это и служило основным направлением, в котором двигались исследования в области укрепления памяти. Кое-кто называл лекарства и электрические устройства, применяемые в этом процессе, «ноотропиками» – Сакс понимал это слово как «действие по уму». Сам процесс в свежей литературе обозначался многими терминами: авторы перелопачивали греческие и латинские словари в надежде стать теми, кто даст название феномену. Так, Саксу попадались: «мнемоник», «мнемонистик», «мнемосина» (в честь богини памяти) и даже «мименскестен» (от греческого глагола «помнить»). Сам он предпочитал термин «укрепитель памяти», но нравился ему и «анамнез», который казался наиболее точным определением того, что они пытались сделать. Он хотел придумать анамнестик.
Но экфоризация – то есть запоминание прошлого или хотя бы его части – сопровождалась огромными практическими трудностями. Требовалось не только найти анамнестики, которые могли стимулировать процесс, но и необходимое для этого время! Прожившему два столетия, ему казалось, что на экфоризацию всех значимых событий его жизни могут уйти целые годы.
Последовательные хронологические обращения к воспоминаниям явно были нецелесообразны по многим причинам. Предпочтительнее было провести что-то вроде разовой промывки системы, которая усилила бы всю сеть без сознательного запоминания каждой ее составляющей. Неясно, правда, была ли такая промывка электрохимически возможной, и нельзя было даже предположить, какие бы она принесла ощущения. Но если провести электрическую стимуляцию перфорирующего пути в гиппокамп и, допустим, протолкнуть аденозинтрифосфат через гематоэнцефалический барьер, можно тем самым стимулировать долговременную потенциацию, которая более всего способствует запоминанию. И потом задать такую характеристику мозговых волн, которая бы стимулировала и поддерживала квантовые колебания микротрубочек, после чего направить сознание на просмотр наиболее важных воспоминаний, тогда как остальные воспоминания также будут укрепляться, но уже бессознательно…
Эти мысли пронеслись в его разуме очередным аччелерандо, а затем внезапно пропали. Он сидел в гостиной своей квартиры, в забытьи, проклиная себя за то, что даже не попытался пробубнить что-нибудь на свой искин. Он чувствовал, что до чего-то додумался – чего-то, связанного с аденозинтрифосфатом… или с долговременной потенциацией? Ладно. Если это была действительно важная мысль, она еще вернется. Он должен был в это верить. Это казалось вероятным.
И чем больше он изучал проблему, тем сильнее ему казалось, что тот момент, когда Майя потеряла память, и послужил причиной резкого спада Мишеля. Не то чтобы это можно было доказать или это имело большое значение. Но Мишель не захотел бы пережить свою память или память Майи – он любил ее как дело всей своей жизни, словно она определяла его самого. И он испытал шок, когда она не смогла вспомнить такую простую, такую важную вещь – как ключ к восстановлению памяти… А связь разума с телом была такой сильной, что даже различия между ними были, казалось, ложными – как пережитки картезианской метафизики или более ранних религиозных представлений о душе. Разум был жизнью, что теплилась в теле. Память была разумом. А значит, по простому транзитивному отношению, память равнялась жизни. Поэтому если нет памяти – то нет и жизни. Это, должно быть, и чувствовал Мишель, в те последние травмирующие полчаса, будто сам, страдая от смерти разума своей любимой, вверг себя в эту фатальную аритмию.
Чтобы по-настоящему жить, нужно было уметь помнить. Поэтому нужно было обязательно попробовать экфоризацию – ему оставалось лишь придумать подходящую анамнестическую методологию.
Конечно, это могло быть опасно. Если ему удастся разработать этот укрепитель памяти, он, вероятно, выполнит промывку сразу всей системы, и никто не сможет предсказать, как это отразится на самом человеке. Нужно было взять и попробовать. Это должен быть просто эксперимент. Опыт над самим собой. Что ж, не впервой. Влад проводил на себе первую процедуру омоложения, пусть это и могло его убить, Дженнингс ввел себе противооспенную вакцину, Александр Богданов, предок Аркадия, обменялся кровью с парнем, страдавшим от малярии и туберкулеза, и умер, тогда как парень прожил еще тридцать лет. И конечно, стоило вспомнить и историю юных физиков из Лос-Аламоса, которые произвели первый ядерный взрыв, не зная точно, сгорит из-за него вся земная атмосфера или нет, – это также было чем-то вроде опыта над собой. По сравнению с этим прием внутрь нескольких аминокислот казался вполне себе пустяком – вроде того эксперимента, когда доктор Хоффман[51] испытал на себе ЛСД. Экфоризация, предположительно, не будет так дезориентировать, как употребление ЛСД, потому что, если укрепить в один миг все воспоминания, сознание явно не сумеет охватить все, что будет с ним происходить. Так называемый поток сознания, как чувствовал Сакс при самоанализе, был довольно однолинеен. Поэтому самое большее, что человек мог почувствовать, – быструю ассоциативную цепочку воспоминаний или их беспорядочную массу, совсем не похожую на каждодневные размышления Сакса. И он собирался пойти на еще больший риск, раз уж это было необходимо.
И улетел в Ахерон.
В старых лабораториях Ахерона работали новые люди, а сами лаборатории теперь расширились настолько, что весь длинный и высокий гребень был раскопан и заселен. В городе сейчас жило порядка 200 000 человек. Но он, конечно, оставался все тем же захватывающим дух гребнем километров в пятнадцать длиной и шестисот метров в высоту, тогда как ширина на всем его протяжении не превышала километра. И здесь оставались все те же лаборатории, точнее их комплекс, каким давно перестал быть Эхо-Оверлук, теперь больше напоминавший Да Винчи, устроенный похожим образом. После того как «Праксис» восстановил инфраструктуру, Влад, Урсула и Марина возглавили обустройство новой исследовательской биостанции. Сейчас Влад был мертв, но Ахерон продолжал жить сам по себе и, похоже, не ощущал потери. Урсула и Марина управляли собственными небольшими лабораториями и жили все в той же квартире, которую прежде делили с Владом, под самым пиком гребня, – в частично огороженном, подверженном ветрам высотном жилище. Как всегда, в уединении, теперь они отрешились от большого мира еще сильнее, чем когда жили с Владом. Ахеронцы их принимали как само собой разумеющееся: более молодые ученые видели в них лишь местных бабушек или тетушек, а то и просто коллег по лаборатории.
На Сакса здесь, однако, пялились так ошеломленно, словно видели перед собой живого Архимеда. В нем будто видели какой-то анахронизм, и это сбивало с толку, так что в ряде бесед Саксу пришлось бороться с неловкостью: он пытался убедить всех в том, что не знал волшебных секретов жизни, что занимался всем тем же, чем занимались они, что его мозг еще не совсем испортился от старости и прочем.
Но эта отчужденность могла сыграть ему на руку. Молодые ученые были, как правило, наивными эмпириками, энергичными энтузиастами и идеалистами. И, придя со стороны, одновременно и как новый, и как бывалый здесь человек, Сакс мог произвести на них впечатление на семинарах, которые Урсула устраивала, чтобы обсудить текущую работу над проблемой памяти. Сакс поделился с ними своими гипотезами о создании анамнестика, предложив разные пути экспериментальной работы. Эти предложения, увидел он, казались молодым ученым пророческими, даже если (или, скорее, особенно) на самом деле сводились лишь к общим замечаниям. А если его идеи сколько-нибудь перекликались с тем, над чем они уже работали, то отклики можно было получить предельно восторженные. Более того, чем гномичнее – тем лучше. Пусть это не очень научно, но уж как есть.
Наблюдая за ними, Сакс впервые понял, что та изменчивая, податливая, крайне целеустремленная природа науки, к которой он пытался привыкнуть в Да Винчи, была присуща не только Да Винчи, но и вообще лабораториям, организованным как кооперативные предприятия. Таковой была природа марсианской науки в целом. Ученые сами управляли своей работой, до такой степени, какой он не видывал в своей земной молодости, и работа их спорилась с небывалой скоростью и энергичностью. В его времена средства, необходимые для работы, принадлежали другим людям и учреждениям, имевшим собственные интересы и создававшим бюрократические трудности, зачастую приводившие к глупому и неловкому распылению сил; при этом многие меры направлялись лишь на выполнение заурядных задач вроде извлечения прибыли учреждений, управлявших лабораториями. Здесь, наоборот, Ахерон представлял собой полуавтономное самодостаточное предприятие, отвечающее перед природоохранными судами и, конечно, соблюдающее конституцию и только ее одну. Они сами между собой выбирали, за что браться, а когда их просили о помощи, они, если хотели, могли тут же откликнуться.
Так что Саксу не нужно было разрабатывать укрепитель памяти в одиночку, вовсе нет. Ахеронские лаборанты проявили к теме глубокий интерес, Марина по-прежнему активно работала в лаборатории лабораторий, а сам город сохранял тесные отношения с обеспеченным всеми необходимыми средствами «Праксисом». Плюс многие лаборатории уже занимались изучением памяти. Сейчас, по очевидным причинам, это было довольно важной частью проекта омоложения. Марина рассказала, что этим проектом сейчас так или иначе занималось порядка двадцати процентов всех ученых планеты. А само по себе омоложение было бессмысленным без памяти, которая работала бы столько же, сколько все остальные системы организма. Поэтому комплексу вроде Ахерона было логично сосредоточиться именно на ней.
Вскоре после своего прибытия Сакс встретился с Мариной и Урсулой, зайдя к ним в квартиру на завтрак. Они сидели втроем, окруженные передвижными стенами, покрытыми батиками из Дорсы Бревиа, и деревьями, растущими в горшках. Ничего здесь не напоминало о Владе. Не говорили о нем и за столом. Сакс, понимая, насколько необычным было получить приглашение в их жилище, с трудом сосредотачивался на разговоре. Он знал их обеих с самого начала и питал к ним глубокое уважение, особенно к Урсуле за ее выдающиеся эмпатические способности, – но не мог сказать, что так уж хорошо их знает.
Так что он просто сидел, обдуваемый ветром, ел и смотрел то на них, то на вид в открытом стенном проеме. К северу от них тянулась узкая голубая полоса – бухта Ахерон, широко выгибающаяся в Северном море. К югу – далеко за первым, ближним горизонтом, возвышалась огромная масса горы Олимп. А между ними – дьявольское поле для гольфа с лавовыми потоками, шишковатыми и обветренными, расколотыми и выщербленными, где в каждой впадине в темной пустоши плато виднелся маленький зеленый оазис.
– Мы все думаем, – сказала Марина, – почему психологи-экспериментаторы всех поколений сообщали о нескольких единичных случаях совершенно необычных воспоминаний, но никто никогда не пытался объяснить их с помощью моделей памяти своего времени.
– Более того, об этом будто старались как можно скорее забыть, – добавила Урсула.
– Именно. А потом, когда находили те записи, никто не верил, что такое могло быть. И все объясняли легковерностью того времени. Как правило, нельзя было найти ни одного живого человека, кто мог бы воспроизвести описанные достижения, поэтому ранние исследования признавали ошибочными или ложными. И все же довольно многие записи были подкреплены вполне реальными доказательствами.
– Например? – спросил Сакс. Ему не приходило в голову просматривать рабочие отчеты о наблюдениях на организменном уровне, которые неизменно оказывались какими-нибудь невероятными. Но теперь было понятно, что это стоило сделать.
– Дирижер Тосканини, – сказала Марина, – знал наизусть каждую ноту каждого инструмента примерно двухсот пятидесяти симфонических произведений, слова и музыку сотни опер, плюс множество других, более коротких вещей.
– И это кто-то проверял?
– Выборочно, так сказать. Фаготист сломал клапан своего фагота и доложил об этом Тосканини, а тот, поразмыслив, сказал ему не волноваться, мол, в тот вечер ему не придется играть эту ноту. Это было в его духе. И он дирижировал без партитуры, распределив эти его фрагменты между другими музыкантами. Вот так вот.
– Угу…
– У музыковеда Тови был схожий дар, – добавила Урсула. – Среди музыкантов это не редкость. Будто музыка – это язык, на котором необыкновенные достижения памяти были иногда возможны.
– Хм-м.
Марина продолжила:
– Профессор Атенс, работавший в начале двадцать первого века в Кембриджском университете, обладал обширными знаниями самого разного толка. Это была, опять же, музыка, а еще стихи, факты, математические знания, все о своем прошлом. «Интерес – это все», – говорил он. – «Интерес направляет внимание».
– Это правда, – согласился Сакс.
– И он использовал свою память прежде всего для того, что находил интересным. И называл это «интересом в смысловом содержании». Но в 2060 году он помнил весь список из двадцати трех слов, которые выучил, когда проходил тест в 2032-м. И так далее.
– Хотелось бы мне узнать о нем побольше.
– Да, он был не таким чудаком, как большинство остальных, – сказала Урсула. – Вроде так называемых календарных расчетчиков или тех, кто может вспомнить зрительные образы в мельчайших подробностях – в других сферах жизни они зачастую испытывали затруднения.
Марина кивнула.
– Как латыши Шерескевский и человек, известный как В. П., которые помнили огромное множество различных фактов, но оба испытывали синестезию.
– Хм, наверное, дело в гиппокампальной гиперактивности.
– Наверное.
Они привели еще несколько примеров. Мужчина по фамилии Финкельштейн, который мог подсчитать результаты выборов по всем США быстрее, чем любой калькулятор 1930-х годов. Талмудисты, которые помнили не только содержание Талмуда, но и расположение каждого слова на каждой странице. Устные рассказчики, которые выучивали наизусть произведения Гомера. Даже те, кто, как утверждалось, для наилучшего эффекта применяли метод «дворца памяти», известный со времен Ренессанса, и достигали приличных результатов. И так далее.
– Эти необычные способности, похоже, выходят за рамки обычной памяти, – заметил Сакс.
– Это зрительная память, – сказала Марина. – Основанная на образах, которые возвращаются в мельчайших подробностях. Говорят, именно так обычно работает память у детей. Затем, в период полового созревания, способ запоминания меняется – во всяком случае, у большинства людей. Некоторые, в каком-то смысле, не перестают быть детьми.
– Хм, – проговорил Сакс, – и все равно интересно, есть ли верхняя граница непрерывного распределения этой способности или это все примеры редкого бимодального распределения?
Марина пожала плечами.
– Мы не знаем. Но изучаем сейчас один такой пример.
– Неужели?
– Да. Это Зейк. Они с Назик переехали сюда, и мы теперь с ним работаем. Он очень охотно идет нам навстречу, а Назик подталкивает его к этому. Она говорит, это может принести пользу. Хотя ему, представь себе, не нравится его способность. У него это не связано с вычислительными приемами, хотя считает он лучше большинства из нас. Но он помнит свое прошлое в мельчайших деталях.
– Кажется, я об этом слышал, – сказал Сакс. Обе женщины рассмеялись, и он, удивившись, рассмеялся с ними. – Я хотел бы посмотреть, как вы с ним работаете.
– Легко. Он в лаборатории Смадар. Это довольно интересное зрелище. Они просматривают записи событий, при которых он присутствовал, а потом задают ему вопросы об этих событиях, и он рассказывает, что помнит, – и в это время ему сканируют мозг.
– Звучит крайне любопытно.
Урсула провела его в длинную, слабо освещенную лабораторию, где несколько коек были заняты людьми, подключенными к разного рода сканирующим устройствам, и на экранах или в виде голограммы мерцали цветные изображения. Часть коек оставались пустыми и смотрелись достаточно зловеще.
Миновав всех молодых уроженцев, они подошли к Зейку. Тот посмотрел на Сакса, как представитель Homo habilis, которого выдернули из доисторического периода, чтобы протестировать его умственные способности. На нем был шлем, на внутренней стороне которого размещалось множество контактных точек. Белая борода его была смочена, а глаза были ввалившимися и усталыми на фоне иссохшей, синюшного цвета кожи. Назик сидела на другой стороне кровати, держа его руку в своей. Над стоящим рядом голографом в воздухе висело подробное трехмерное прозрачное изображение какого-то участка мозга Зейка. Его разноцветные огоньки раз за разом вспыхивали, точно молнии, образуя зеленые, красные, голубые и бледно-золотистые узоры. На экране у кровати подрагивали изображения небольшого шатрового поселения, погрузившегося в темноту. Молодая женщина – очевидно, исследователь Смадар, – задавала вопросы.
– Значит, ахады напали на фетахов?
– Да. Они подрались, но у меня было такое впечатление, что ахады начали первыми. Хотя, думаю, кто-то натравил их друг против друга. Кто-то вырезал призывы на окнах.
– В Мусульманском братстве часто случались такие серьезные конфликты?
– В то время да. Но почему это произошло именно той ночью, я не знаю. Кто-то стравил их между собой. Казалось, будто они все вдруг посходили с ума.
Сакс почувствовал тяжесть в животе. Затем его охватил холод, будто по вентиляционной системе в помещение проник утренний воздух. Шатровым городом на записи была Никосия. Они говорили о ночи, когда был убит Джон Бун. Смадар смотрела видео и задавала вопросы. Зейка сканировали и записывали. Он посмотрел на Сакса и кивнул в знак приветствия.
– Расселл тоже там был.
– Это правда? – спросила Смадар, задумчиво взглянув на Сакса.
– Правда.
Это было то, о чем Сакс не размышлял уже годы, десятилетия – может, даже целые сто лет. Он осознавал, что больше не возвращался в Никосию, – ни разу после той ночи. Словно избегал этого города. Несомненно, пытался подавить воспоминания. Он очень любил Джона, который проработал на него несколько лет до того, как его убили. Они были друзьями.
– Я видел, как на него напали, – сказал Сакс, удивив их всех.
– Да вы что! – воскликнула Смадар. Зейк, Назик и Урсула тоже уставились на него, затем к ним присоединилась Марина.
– Что вы видели? – спросила его Смадар, бросив быстрый взгляд на изображение мозга Зейка, трепещущее, словно переживая тихую бурю. Прошлое таким и было – как тихая электрическая буря. И в такую бурю они все сейчас были вовлечены.
– Была драка, – медленно, неловко проговорил Сакс, всматриваясь в голограммное изображение, будто в хрустальный шар. – На небольшой площади, где переулок выходил на центральный бульвар. Возле медины.
– Это были арабы? – спросила молодая женщина.
– Возможно, – ответил Сакс. Он закрыл глаза и, хоть и не мог это увидеть, представил себе – как будто воспользовался слепозрением. – Да, думаю, да.
Он снова открыл глаза и увидел, что Зейк смотрит на него.
– Ты их знал? – прохрипел он. – Можешь сказать, как они выглядели?
Сакс покачал головой, но этим словно вытряс из нее изображение, которое и без того присутствовало в сознании, но было черным. Теперь экран показывал темные улицы Никосии, где, как и в мыслях в мозгу Зейка, мерцали огоньки.
– Высокий мужчина с узким лицом и черными усами. У них у всех были черные усы, но у этого они длиннее. И он кричал на других людей, которые нападали на Буна, но не на него самого.
Зейк и Назик переглянулись.
– Юсуф, – проговорил Зейк. – Юсуф и Неджм. Они тогда управляли фетахами и ненавидели Буна сильнее, чем кто-либо из ахадов. А когда Селим пришел к нам, позже той ночью, перед смертью, он сказал: «Бун убил меня, Бун и Чалмерс». Не «Я убил Буна», а наоборот. – Зейк посмотрел на Сакса. – А что случилось потом? Что ты сделал?
Сакса передернуло. Вот почему он никогда не возвращался в Никосию и никогда о ней не думал: в ту ночь в критический момент он замешкал. Испугался.
– Я был на другой стороне площади, когда увидел их. Я стоял на каком-то расстоянии и не знал, что делать. Они повалили Джона с ног и утащили его прочь. Я… я просто смотрел. Потом… потом я оказался в группе, которая стала их преследовать, не знаю, кем были остальные. Они придали мне уверенности. Но нападавшие утащили его по тем переулкам, а там было темно, и наша группа… мы их потеряли.
– Они, видимо, были подставными, друзьями нападавших, – сказал Зейк. – И по своему плану увели вас в неверном направлении.
– А-а, – сказал Сакс. В этой группе тоже были усатые мужчины. – Возможно.
Ему стало дурно. Он замер. Изображения на экране мерцали, огоньки бегали в темноте, а кора мозга Зейка подавала признаки жизни в виде микроскопических цветных молний.
– Значит, это был не Селим, – сказал Зейк Назик. – Не Селим и не Фрэнк Чалмерс.
– Нужно сказать Майе, – заявила Назик. – Мы должны ей сказать.
Зейк пожал плечами.
– Ей не будет до этого дела. Если Фрэнк действительно натравил Селима против Джона, но убийство совершил кто-то другой, то какое это имеет значение?
– Так вы думаете, это кто-то другой? – спросила Смадар.
– Да. Юсуф и Неджм. Фетахи. Или кто-то еще, кто стравливал людей между собой. Думаю, Неджм…
– Который уже мертв.
– Как и Юсуф, – мрачно заметил Зейк. – И все, кто начал беспорядки в ту ночь… – Он покачал головой, и изображение слегка вздрогнуло.
– Расскажите, что произошло потом, – сказала Смадар, посмотрев на экран.
– Унси аль-Хал вбежал на хаджр и сказал нам, что на Буна напали. Унси… в общем, я и еще несколько человек бросились к Сирийским воротам посмотреть, не выходил ли кто-нибудь через них. Арабы в то время казнили людей через выдворение на поверхность. И мы увидели, что воротами воспользовались один раз, но никто через них не возвращался.
– Ты помнишь код замка? – спросила Смарад.
Зейк сдвинул брови, пошевелил губами, зажмурился.
– Там был фрагмент последовательности Фибоначчи, помню, что обратил на это внимание. Пять-восемь-один-три-два-один.
Сакс от изумления вытаращил глаза. Смадар кивнула.
– Продолжай.
– Потом подбежала женщина, я ее не знал, и сказала, что Буна нашли в теплице. Мы пошли за ней во врачебный пункт в медине. Тот был совсем новый, все было чистым и блестящим, даже стены еще были голыми. Сакс, ты тоже был там, как и все остальные из первой сотни, кто находился в городе, – Чалмерс, Тойтовна и Саманта Хойл.
Сакс понял, что совсем не помнил, что происходило в медпункте. Хотя… образы Фрэнка, с горящим лицом, и Майи в белой полумаске, с губами, превратившимися в бескровную линию. Но то было снаружи, на травянистом бульваре. Он рассказал им, что на Буна напали, и Майя тут же закричала: «А ты их не остановил?! Ты их не остановил?!» И он разом понял, что не остановил их, что не выручил друга, что просто застыл там на месте и смотрел, как на него нападают и тащат прочь. «Мы пытались, – ответил он Майе. – Я пытался». Хотя это была неправда.
Но из того, что было потом, в медпункте, он ничего не помнил. Да и обо всем, что происходило позже в ту ночь. Сомкнув глаза, он зажмурился, как Зейк, будто пытался выдавить таким образом новый образ. Но ничего не выходило. В этом отношении память была странной штукой: он помнил критические моменты, когда его пронзало осознание случившегося, а остальные события стирались из нее. Лимбическая система и эмоциональный заряд каждого эпизода, несомненно, играли принципиально важную роль в приеме, кодировании и отложении воспоминаний.
А Зейк тем временем перечислял поименно всех, кого знал и кто присутствовал тогда в медпункте – должно быть, там собралась целая толпа. Затем он описал лицо доктора, которая вышла и сообщила им о смерти Буна.
– Она сказала: «Он мертв. Слишком долго находился там». Майя положила руку Фрэнку на плечо, и он вздрогнул.
– Нужно рассказать Майе, – прошептала Назик.
– Он сказал ей: «Мне жаль», и мне это показалось странным. Она сказала ему что-то о том, что ему Джон все равно никогда не нравился, и это было действительно так. Фрэнк даже согласился с этим, но затем ушел. Он и сам злился на Майю. Сказал: «Да что ты знаешь о том, что мне нравится, а что нет?»
Зейк возмущенно покачал головой.
– Я при всем этом тоже присутствовал? – спросил Сакс.
– Да. Ты сидел как раз рядом с Майей, с другой стороны. Но ты ничего не слушал. Ты плакал.
Сакс не помнил ничего из этого. Ничего. Внезапно он осознал, что он делал не только такие вещи, о которых не знали другие, но и такие, о которых помнили другие, но он не помнил сам. Как же мало они знали! Как мало!
А Зейк продолжал: остаток той ночи, следующее утро. Появление Селима, его смерть. Затем следующий день, в который Зейк и Назик уехали из Никосии. И день после этого. Затем Урсула сказала, что он мог пересказать в таких подробностях любую неделю своей жизни.
Но Назик прервала сеанс.
– Это слишком тяжело, – сказала она Смадар. – Давай продолжим завтра.
Смадар согласилась и застучала по клавишам консоли стоящего возле нее компьютера. Зейк, весь встревоженный, смотрел на темный потолок, и Сакс понял, что слишком хорошая память – тоже одно из ее функциональных нарушений. Но почему оно возникало? В чем заключался этот механизм? Изображение мозга Зейка, воспроизводящее в другой среде модели квантовой активности – молнии, сверкающие вокруг коры… Разум, помнящий прошлое лучше других древних, не знающий горя потери воспоминаний, которую Сакс считал участью, со временем постигавшую каждого… И они проводили над этим мозгом все испытания, которые только могли придумать. Но вполне могло статься, что у них так и не выйдет разгадать его загадку. Ведь происходило столько всего, о чем они абсолютно ничего не знали. Как той ночью в Никосии.
Дрожа от холода, Сакс надел теплую куртку и вышел на свежий воздух. Ахеронская природа позволяла совершать приятные прогулки в перерывах между работой в лабораториях. И сейчас он был весьма доволен, что здесь ему было куда уйти от всего.
Он пошел на север, в сторону моря. Часть его лучших мыслей, касающихся памяти, являлась ему, когда он спускался к этому берегу, такими окольными путями, что никогда не проходил в одном месте дважды, – отчасти потому, что старое лавовое плато было слишком изломано грабенами и уступами, отчасти – потому что он никогда не обращал внимания на карты местности и погружался в размышления, лишь время от времени осматриваясь, чтобы понять, где находится. Заблудиться здесь на самом деле невозможно: достаточно подняться на любой пригорок, и оттуда всегда виднеется гребень Ахерона, как хребет гигантского дракона, а в противоположной стороне – все лучше заметная по мере приближения, раскинувшаяся голубая гладь бухты Ахерон. И между ними – миллион микросред, каменистые плато, усеянные скрытыми оазисами, где из каждой трещинки тянулись растения. Все это было совсем непохоже на тающий полярный берег, что находился по другую сторону моря. Это каменистое плато со своими обитаемыми нишами, казалось, существовали здесь с незапамятных времен – хотя здесь явно продолжали трудиться ахеронские экопоэты. Многие из оазисов были созданы в порядке эксперимента, и Сакс именно так их и воспринимал – не вторгаясь туда, лишь смотрел на эти пространства между гладкими стенами и пытался понять, чего занимавшийся ими экопоэт хотел добиться. Здесь можно было развеять почву, не опасаясь, что ее смоет морем, хотя, судя по буйной зелени в устьях рек, тянущихся по долинам, было видно, что часть плодородного грунта все же попадала в ручьи. И эти устьевые болота должны со временем заполниться эродированной почвой, она будет становиться все более соленой – как и само Северное море…
В эту прогулку, однако, его наблюдения то и дело прерывались мыслями о Джоне. Тот проработал на него последние несколько лет своей жизни, и они много обсуждали друг с другом быстро меняющуюся ситуацию, которая складывалась на Марсе в те ключевые годы, – и Джон в то время всегда был счастливым, жизнерадостным, уверенным… надежным, верным, любезным, доброжелательным, обходительным, добрым, послушным, жизнерадостным, рассудительным, храбрым, честным и учтивым… нет-нет, не совсем так… еще он был резким, нетерпеливым, надменным, ленивым, небрежным, наркозависимым, гордым. Но Сакс так полагался на него, так его любил… любил, как старшего брата, защищавшего его от этого огромного мира. А потом его убили. Он был из тех, на кого всегда покушаются. Чью храбрость не могут вынести. Его убили, а Сакс тогда стоял и ничего не сделал. Замерев в шоке и страхе. «И ты их не остановил?!» – кричала Майя, теперь он вспомнил ее резкий голос. «Нет, я испугался. Нет, я ничего не сделал». Конечно, ему вряд ли удалось бы тогда что-то изменить. Хотя, когда покушения на Джона только начались, Сакс мог перевести его на другую работу, предоставить телохранителей или, поскольку Джон никогда бы на такое не согласился, Сакс мог сам нанять телохранителей, которые ходили бы за Джоном по улицам и защищали бы, когда его друзья замирали на месте и ошеломленно смотрели. Но он никого не нанял. И его брата убили, – брата по первой сотне, который над ним смеялся, но тоже его любил и любил тогда, когда до него, Сакса, никому не было дела.
Сакс брел по растрескавшейся равнине, погруженный в мысли о том, как потерял друга сто пятьдесят три года назад. Иногда казалось, что никакого времени не существовало.
Затем он резко остановился, увидев кое-что живое, вернувшее его к реальности. Маленькие белые грызуны вынюхивали что-то на зеленом ввалившемся лугу. Это были снежные пищухи или им подобные, но белые, как лабораторные крысы, – цвет и изумил Сакса. Да, белые крысы, только без хвоста… мутировавшие… вырвавшиеся на волю, из клеток – в дикую природу. Они сновали по зеленой луговой траве, как сюрреалистичные или галлюцинаторные существа. Они бегали вслепую, вынюхивая, нет ли в траве чего съестного. И сгрызали семена, орехи и цветы. Он вспомнил, как Джон любил ту историю, в которой Сакс представал сотней лабораторных крыс. И сейчас его разум словно вырвался на свободу и бросился врассыпную.
Он присел и стал рассматривать этих мелких грызунов, пока не замерз. На равнине обитали животные и покрупнее, и, замечая их, он всякий раз замирал на месте. Олени, вапити, лоси, толстороги, карибу, барибалы, гризли, даже стаи волков, похожих на быстрые серые тени, – и все они казались Саксу словно явившимися из снов, и он то и дело вздрагивал и, ошеломленный, останавливался. Они казались невозможными и выглядели совершенно неестественными. Но они были. И вот теперь эти пищухи, довольные в своем оазисе. Не природа, не культура – просто Марс.
Он подумал об Энн. Ему захотелось, чтобы она тоже их увидела.
Он часто вспоминал о ней в последнее время. Столько его друзей уже умерло, но Энн была жива, и он по-прежнему мог с ней поговорить – во всяком случае это было возможно. Он выяснил, что она жила теперь в кальдере горы Олимп, в той небольшой общине Красных скалолазов, что ее населяли. Судя по всему, они жили там поочередно, чтобы сохранять численность населения кальдеры небольшим. При этом вокруг их крупных нор были крутые стены, а условия для жизни оставались первобытными – все, как они любили. Но Энн, как слышал Сакс, находилась там столько, сколько хотела, и покидала кальдеру лишь изредка. Об этом ему рассказал Питер, который и сам узнал это через кого-то. Мать и сын стали чужими друг другу, и это было грустно и бессмысленно, но семейные разрывы, пожалуй, являлись самыми непоправимыми из всех.
В любом случае она находилась на горе Олимп, слегка выглядывавшей поверх южного горизонта. Саксу хотелось поговорить с ней. Все его раздумья о том, что случилось с Марсом, считал он, строились в виде воображаемых диалогов с Энн. И получались у него не столько споры (по крайней мере, он на это надеялся), сколько бесконечные уговоры. Если воплощение в реальность голубого Марса смогло так изменить его, то почему оно не могло так же повлиять и на Энн? Разве это не было неизбежно и даже необходимо? Или, может быть, это уже произошло? Сакс чувствовал, что спустя столько лет полюбил в Марсе то, что там любила Энн, и теперь хотел, чтобы она ответила тем же, если это было возможно. Она стала для него, самым неуютным образом, мерилом ценности того, что они сделали. Ценности или, может быть, приемлемости. Это чувство казалось странным, но оно поселилось в нем и теперь не давало покоя.
Очередной неприятный бугорок в мозгу, как внезапно заявившая о себе вновь вина в смерти Джона, которую он теперь снова пытался забыть. Если он мог терять полезные мысли, то должен уметь и избавляться от дурных, разве нет? Джон умер, и он не мог ничего сделать. Точнее сказать нельзя. И вернуться назад – тоже. Джона убили, а Сакс не сумел ему помочь. И теперь Сакс жив, а Джон мертв и остался лишь в виде системы узлов в умах тех, кто его знал. И ничего с этим нельзя поделать.
И была жива Энн, которая лазала по стенам кальдеры Олимпа. Он мог поговорить с ней, если бы захотел. Хотя она вряд ли согласилась бы с ним встретиться. Значит, ее нужно выследить. И он мог это сделать. Он так страдал от смерти Джона потому, что он не имел возможности заглушить чувство вины – не мог с ним поговорить. А с Энн такой шанс у него был.
Работа над анамнестическим комплексом тем временем продолжалась. В этом отношении Ахерон был сущим удовольствием: Сакс проводил дни в лабораториях, общался с их заведующими по поводу экспериментов, старался чем-нибудь помогать. Раз в неделю здесь проходили семинары, где все собирались перед экранами и делились результатами, обсуждали их значение и дальнейшие планы. Некоторые иногда прерывались, чтобы помочь с теплицами, съездить куда-нибудь или заняться каким-то другим делом, но остальные продолжали работу, а когда первые возвращались, то у них часто оказывались новые идеи и всегда – свежий заряд энергии. После этих недельных сводок Сакс оставался сидеть в зале для семинаров, глядя на кофейные чашки и высыхающие на потертых деревянных столах коричневые круги и темные пятна кавы, на сияющую экранную доску, исчерченную схемами, химическими диаграммами и длинными стрелками, указывающими на различные сокращения и алхимические символы, которые так любил Мишель, и что-то внутри него загоралось, до боли, какая-то парасимпатическая реакция лимбической системы – теперь вот это все стало наукой! О боже, теперь это марсианская наука, которой занимались настоящие ученые, преследующие общую цель, вполне разумную и направленную на всеобщую пользу. Теория и опыты словно играли друг с другом в пинг-понг, а они продвигали границы своих знаний, неделю за неделей узнавали что-то новое и стремились к большему, расширяя свой невидимый храм и сокращая непаханое поле людского разума. Это делало Сакса таким счастливым, что ему было чуть ли не все равно, даже если они ничего добьются, – ему хватало самого процесса.
Но кратковременная его память была нарушена. У него каждый день случались провалы и прескевю, в том числе во время семинаров: он вынужден был замолкать на полуслове и садиться, махнув остальным, чтобы продолжали, а те кивали, и стоявший у доски рассказывал что-то дальше. Нет, эту проблему ему надо решить. Тогда сами собой появятся новые цели – та же проблема резкого спада и прочее, что связано со старением. Да, в мире всегда хватало необъяснимого, и работать над ним можно бесконечно. А тем временем проблема анамнестика казалась достаточно сложной.
Впрочем, некоторые очертания ее решения уже проявлялись. Часть комплекса должна была составить лекарственная смесь, укрепляющая синтез белков и включающая даже амфетамины и вещества, родственные стрихнину, а также медиаторы вроде серотонина, сенсибилизаторы глутаматных рецепторов, холинэстераза, циклический аденозинмонофосфат и прочее. Все это должно было так или иначе способствовать укреплению структуры памяти. Также в комплекс планировалось включить процедуру повышения пластичности мозга, которую Сакс проходил после инсульта, только гораздо менее интенсивную. По опытам электрической стимуляции ожидалось, что возникающий при этом шок с последующим непрерывным колебанием на очень высоких частотах, синхронизированным с естественными мозговыми волнами, послужит началом нейрохимических процессов, усиленных комплексом лекарств. После этого пациент должен будет как можно активнее управлять процессом запоминания – например, двигаться от одного узла к другому, вспоминая что-нибудь в каждом из них, и сети между этими узлами завибрируют и будут таким образом укрепляться. Иными словами, ходить из комнаты в комнату по «дворцу памяти». Эксперименты со всеми этими аспектами процесса проводились на добровольцах, которыми часто выступали сами молодые экспериментаторы из местных уроженцев. Они запоминали множество вещей и отзывались о своем опыте с восторгом, так что общие перспективы проекта выглядели все более радужными. Неделю за неделей испытуемые оттачивали свою технику и продвигались к успеху.
По мере проведения опытов становилось все очевиднее, что важную роль в процессе запоминания играл контекст. Списки, заученные под водой в гидрокостюмах, вспоминались гораздо лучше, когда подопытные возвращались на дно, чем если бы пытались вспомнить их на земле. Те, у кого при запоминании списков с помощью гипноза вызывали чувства радости или печали, лучше вспоминали их, когда их снова погружали в гипноз и вызывали радость или печаль. Согласованность пунктов списка также им помогала, равно как и возвращение в комнату такого же размера или цвета, как при запоминании. Конечно, все эти опыты были довольно примитивными, но связь между контекстом и силой воспоминания проявлялась так сильно, что Сакс уже серьезно размышлял над тем, где ему лучше будет пройти процедуру, когда они закончат ее разработку. Где и с кем.
На завершающем этапе Сакс позвонил Бао Шуйо и попросил приехать к ним в Ахерон для консультаций. И хотя ее работа была куда более теоретической и касалась куда более мелких частиц, после ее успехов в ядерной группе Да Винчи он проникся глубоким уважением к ее способности помочь в любой проблеме, касающейся квантовой гравитации и ультрамикроструктуры материи. Он хотел лишь, чтобы она просмотрела то, чего они достигли, и прокомментировала увиденное. Он был уверен, это принесет какую-нибудь пользу.
Но Бао, к сожалению, оказалась слишком загружена в Да Винчи – сильнее, чем когда-либо со времен ее славного возвращения из региона Дорса Бревиа. Сакс был поставлен в необычное положение: ему нужно было воспользоваться своей родной лабораторией, чтобы выцепить оттуда одного из ее лучших теоретиков. И он проделал это без угрызений совести. Бела помог ему прижать нынешнюю администрацию, «выкрутив ей руки».
– Ка, Сакс! – воскликнул Бела во время одного из звонков. – Никогда бы не подумал, что ты окажешься таким беспощадным охотником за головами.
– Единственная голова, за которой я охочусь, – моя собственная, – ответил Сакс.
Обычно для того, чтобы выследить человека, достаточно связаться с ним по наручной консоли и посмотреть, где он находится. Энн же оставила консоль на краю кальдеры Олимпа, на станции у места проведения фестиваля в кратере Zp. Это показалось Саксу странным: насколько он помнил, они всегда носили хоть какие-нибудь консоли с самого начала, когда только жили в Андерхилле. Неужели она когда-нибудь ее снимала? Он позвонил Питеру, чтоб об этом спросить, но тот, конечно, не знал, так как родился много позже времен Андерхилла. В любом случае сейчас ходить без браслета означало последовать примеру неопримитивных кочевников, которые странствовали по каньонам и побережью Северного моря, – но он не думал, что Энн выбрала бы подобный образ жизни. Нельзя было и жить, как в эпоху палеолита, на Олимпе – там, в отличие от большинства других мест, приходилось постоянно пользоваться разного рода технологиями и было не обойтись без консолей. Может быть, она хотела просто сбежать. Питер не знал.
Зато он знал, как с ней связаться:
– Тебе придется отправиться туда и найти ее. – Увидев выражение лица Сакса, он рассмеялся: – Это не так уж сложно. В кальдере живет всего пара сотен человек, и они могут либо сидеть в своих хижинах, либо лазать по стенам скал.
– Так она стала скалолазом?
– Да.
– Она делает это… ради развлечения?
– Она это делает. Не спрашивай меня, зачем.
– То есть мне нужно просто осмотреть все скалы.
– Я ее именно так и нашел, когда умерла Мэриан.
Вершина горы Олимп большей частью пустовала. Хотя там было несколько приземистых каменных жилищ на краю пропасти, а на северо-востоке по лавовым потокам тянулась железная дорога, врезавшаяся в кольцо вокруг вулкана, обеспечивая доступ к фестивальному комплексу в кратере Zp. Но кроме этого не было ничего, что намекало бы на то, каким теперь выглядел весь остальной Марс, который был скрыт за горизонтом и совершенно не виден с края кальдеры. Оттуда казалось, что сам Олимп и был целым миром. Местные Красные отвергли идею накрыть кальдеру защитным молекулярным куполом, как на горе Арсии, поэтому здесь не могло не быть бактерий и лишайников, которые распространялись ветром, падали в кальдеру и там выживали, но при давлении, лишь чуть-чуть превышающем изначальные десять миллибар, они не могли разрастись. Те, что выживали, вероятно, были хазмоэндолитами[52] и поэтому оставались скрыты. Красным в целом повезло в том, что благодаря громадной высоте вулканов внутри получилась естественная и действенная стерилизация и сохранилось низкое давление.
Сакс добрался поездом до Zp, а оттуда поехал к краю на машине – в одном из фургонов-такси, которые водили Красные, контролировавшие въезд в кальдеру. Машина подъехала к краю, и Сакс выглянул вниз.
Кальдера имела много колец и отличалась крупными размерами – девяносто на шестьдесят километров, размером примерно с Люксембург, как вспомнил Сакс. Главный центральный круг, бывший намного больше остальных, нарушался мелкими кольцами, которые заходили на него на северо-востоке, юге и в центре. Самое южное из них наполовину врезалось в более старое и высокое кольцо на юго-востоке, и место, где встречались эти три дугообразные стены, считалось одним из самых привлекательных для скалолазания участков на планете. Саксу рассказывали, что это был самый высокий район кальдеры – высотой от 26 километров над нулевой отметкой (здесь не было принято считать от уровня моря) до 22,5 километра на дне южного кратера. Утес в десять тысяч футов! Молодой колорадец в душе Сакса глядел на него мечтательным взглядом.
Дно основной кальдеры размечалось множеством извилистых тектонических разрывов, сосредоточенных вдоль ее стен, – дугообразных хребтов и каньонов, тянущихся по более прямым откосам. Все эти особенности рельефа объяснялись обвалами кальдеры, вызванными оттоком магмы из основной камеры под вулканом. Но, когда Сакс смотрел вниз со своего возвышения, гора казалась ему загадочным, обособленным миром, откуда был виден лишь замкнутый контур ее края и пять тысяч квадратных километров самой кальдеры. Окружающие ее скалы тянулись вверх не менее чем на тысячу метров и, как правило, не были строго вертикальными: средний уклон, по-видимому, составлял лишь немногим более сорока пяти градусов. Но повсюду можно было заметить более крутые участки, и скалолазы, несомненно, сосредотачивались именно там. Некоторые из таких участков были вполне себе вертикальными, один или два даже с отрицательным уклоном – как тот, что находился под ними и нависал над стыком трех стен.
– Я ищу Энн Клейборн, – сказал Сакс водителям, восхищенно смотревшим на скалы. – Вы не знаете, где я могу ее найти?
– Вы не знаете, где она? – спросила одна из них.
– Я слышал, она лазает по скалам в кальдере Олимпа.
– Она знает, что вы ее ищете?
– Нет. Она не отвечает на звонки.
– Она вообще вас знает?
– О да. Мы старые… друзья.
– А вы кто?
– Сакс Расселл.
Они пристально на него посмотрели.
– Старые друзья, говорите? – произнесла одна из женщин.
Ее подруга ткнула ее локтем.
Они называли место, где находились, Тремя Стенами, что было вполне логично. Прямо под их машиной, на небольшой просевшей террасе располагалась станция лифта. Сакс посмотрел на нее в бинокль: двери наружного шлюза, укрепленная кровля – она могла быть построена еще в ранние годы. В эту часть кальдеры можно было попасть лишь с помощью лифта – для тех, конечно, кому не хотелось спускаться по веревке.
– Энн всегда пополняет запасы на станции Мэриан, – сообщила, наконец, женщина, ткнувшая другую локтем, чем поразила свою спутницу. – Вон там, видите? В том квадратном пятнышке, где лавовые каналы с основного дна примыкают к Южному кольцу.
Место находилось на противоположном краю самого южного кольца, которое на карте Сакса было обозначено номером 6. Разглядеть квадратное пятно ему поначалу не удавалось, даже с увеличением бинокля. Но затем он все-таки увидел крошечный блок, слишком ровный, чтобы быть естественным, хоть и окрашенный ржаво-серым под местный базальт.
– Вижу. Как мне туда добраться?
– Спуститесь на лифте, а потом идите туда пешком.
Он показал работникам лифтовой станции пропуск, который дала ему женщина, ткнувшая подругу локтем, и начал долгий спуск по стене Южного кольца. Лифт тянулся по направляющим, закрепленным вдоль утеса, и, глядя в окна кабины, он чувствовал, будто падает в вертолете или проезжает последний участок пути космического лифта над Шеффилдом. К тому времени как он спустился на дно кальдеры, день уже близился к концу. Он заселился в домик со спартанскими условиями жизни, плотно и неспешно поужинал, снова и снова думая о том, что скажет Энн. И так мало-помалу, шаг за шагом, составил связное и, вроде бы, убедительное объяснение, признание, крик души. Затем, к его величайшему огорчению, все разом вылетело у него из головы. Да, он находился на дне кальдеры вулкана, под темным ограниченным кругом звездного неба. Он был на Олимпе. Искал Энн Клейборн, но ему нечего было ей сказать. Как же это досадно.
На следующее утро, позавтракав, он надел прогулочник и вышел. И хотя его материал был усовершенствован, эластичная ткань обжимала конечности и туловище так же плотно, как и старые костюмы. Его кинетика странным образом выпускала нити размышлений, вызывала вспышки воспоминаний: вид Андерхилла, когда они строили над ним квадратный купол, и что-то вроде соматической эпифании, которую они ощутили, впервые выйдя из посадочных модулей, поразившись близости горизонтов и текстурированной розоватости неба. Вот опять – контекст и воспоминания.
Он пошел поперек Южного кольца. Небо этим утром было окрашено в цвет индиго, темный, граничащий с черным. По цветовой шкале это был морской синий, что казалось странным названием, учитывая, насколько он был темным. И на нем было видно множество звезд. Горизонт составляла круговая скала, возвышающаяся со всех сторон: южный полукруг в три километра высотой, северо-восточный квадрант – два, а северо-западный – всего один, и то раздробленный. И эта закругленность представляла удивительное зрелище. Как и термодинамика охлаждающейся породы в магматических камерах и жерлах. Находясь между смыкающихся стенами, Сакс чувствовал, что у него голова идет кругом. Казалось, что стены со всех направлениях были одной высоты, словно воплощали собой хрестоматийный пример способности сжимать вертикальные расстояния, выбирая подходящий ракурс.
Он тяжело ступал размеренными шагами. Дно кальдеры было довольно гладким, лишь изредка попадались лавовые бомбы, следы падения поздних метеоритов и неглубокие извилистые грабены. Иногда ему даже приходилось их обходить. Но бо́льшую часть пути он шел строго навстречу расколотому утесу в северо-западном квадранте кальдеры.
У него ушло шесть часов неспешной ходьбы, чтобы пересечь дно Южного кольца – в котором не было и десятой части общей площади кальдеры, скрытой от него на протяжении всего этого пути. И ни единого признака жизни, никакого ее вмешательства в породы, составлявшие дно и стены кальдеры, а атмосфера была заметно разреженной, и давление, по ощущениям, было близко к исходным десяти миллибарам. Пока Сакс шел по этой девственной природе, ему даже стало неловко оставлять здесь следы, и он старался ступать на твердые камни, избегая участков пыли. Ему было странным образом приятно видеть этот первозданный ландшафт, где все было в красном цвете, пусть его и создавал лишь налет на темном базальте. Его шкала плохо справлялась с необычными смешанными оттенками.
Саксу ранее не доводилось спускаться в кальдеры больших вулканов. И даже проведя много лет внутри ударного кратера, он, как выяснилось, оказался не готов к этой глубине камер, крутизне стен, гладкости дна. К непомерным масштабам всего.
Во второй половине дня он приблизился к подножию северо-западной стенной дуги. Теперь стык стены и дна поднимался перед ним, образуя горизонт, и, к его невеликому облегчению, блок убежища оказался прямо перед ним: его APS сработала четко. Сориентироваться здесь было нетрудно, но подобная точность все-таки приносила некоторое удовлетворение. После того давнишнего случая, когда он попал в бурю, он каждый раз боялся снова заблудиться. Пусть на этой высоте никаких бурь и не бывало.
Приблизившись к шлюзу, он увидел группу людей, которые поднимались со дна невероятно широкого крутого ущелья. Оно раскалывало надвое утес, выдававшийся из дна кратера примерно в километре к западу от убежища. Четыре фигуры с крупными тюками за плечами. Сакс остановился, и собственное дыхание внутри шлема вдруг показалось ему слишком громким: он мгновенно узнал последнюю фигуру. Энн возвращалась пополнить запасы. Теперь ему следовало придумать, что ей сказать. И запомнить это.
Оказавшись в убежище, он отстегнул шлем и снял его, ощутив при этом знакомое, но совершенно нежеланное напряжение в животе. И с каждой встречей с Энн это ощущение выдавалось все неприятнее. Он отвернулся и стал ждать. Наконец, Энн вошла, сняла шлем и увидела его. Встрепенулась, будто увидела призрака.
– Сакс? – воскликнула она.
Он кивнул. Он помнил их последнюю встречу – на острове Да Винчи, давным-давно, будто в прошлой жизни. Он словно проглотил язык.
Энн потрясла головой, улыбнулась сама себе. Пересекла комнату с загадочным выражением лица, положила руки на его предплечья и, наклонившись, нежно поцеловала в щеку. Отстранившись, она не отпустила левую руку и скользнула к запястью. Она смотрела ему прямо в глаза и держала железной хваткой. Сакс снова лишился дара речи, хоть и очень хотел что-то ей сказать. Но говорить сейчас было нечего. Или, наоборот, хотелось сказать слишком многое, а его язык вновь парализовало. А ее рука на его запястье обезоруживала его сильнее, чем какой бы то ни было яростный взгляд или резкое замечание.
На нее, казалось, накатила чудесная волна, и Энн стала чем-то большим, чем та Энн, которую он знал. Она посмотрела на него сначала с удивлением, а затем с тревогой.
– Все хорошо?
– Да, да, – проговорил Сакс. – Ну то есть… ты слышала про Мишеля?
– Да. – Ее рот сжался в тонкую линию, и на мгновение она превратилась в темную Энн из его кошмаров. Затем ее охватила еще одна волна, и она снова стала той незнакомкой, которая все сжимала его руку так крепко, будто хотела отхватить ее. – Но ты пришел сюда, просто чтобы увидеть меня.
– Да. Я хотел… – он судорожно пытался завершить предложение, – поговорить! Да, хотел… хотел… хотел задать тебе пару вопросов. У меня проблемы с памятью. И я подумал, почему бы мне не… почему бы нам не встретиться здесь, чтобы поговорить. Пройтись пешком… – он сглотнул, – или полазать по скалам. Ты бы не могла показать мне кальдеру?
Она улыбалась. Другая Энн.
– Можешь пойти со мной на скалы, если хочешь.
– Я не скалолаз.
– Мы отправимся по легкому маршруту. Сначала по лощине Ванга, а потом по большому кольцу до северного. Я собиралась добраться туда, пока еще лето.
– Вообще-то сейчас Эл-эс-200. Но да, звучит хорошо. – Его сердце отбивало 150 ударов в минуту.
Как выяснилось, у Энн имелось при себе все необходимое оборудование. На следующее утро, когда они влезли в костюмы, она указала ему на консоль:
– Пока здесь, сними ее.
– Вот те на! – воскликнул Сакс. – Я… разве это не часть системы костюма?
Это действительно было так, но Энн покачала головой.
– Костюм автономный.
– Полуавтономный, насколько я знаю.
Она улыбнулась.
– Да, но консоль не обязательна. Видишь ли, она связывает тебя со всем остальным миром. Она приковывает тебя к пространству-времени. Давай сегодня будем только в лощине Ванга и больше нигде. Этого нам хватит.
Этого хватило. Лощина, широкая и выветренная, рассекала более отвесные хребты как гигантский разрушенный водоотвод. Бо́льшую часть дня Сакс следовал за Энн по мелким ущельям, находившимся внутри этой лощины, карабкаясь по ступеням высотой по пояс и часто помогая себе руками, но лишь изредка чувствуя, что падение его убьет или причинит нечто большее, чем растяжение связок.
– Это не так уж опасно, как я думал, – признался он. – Это так ты обычно занимаешься скалолазанием?
– Это вообще не скалолазание.
– А-а.
После этого она стала выбирать более крутые ступени. И этот риск, строго говоря, выглядел необоснованным.
Во второй половине дня они подошли к невысокой стене, изрезанной горизонтальными трещинами. Энн начала по ней взбираться без веревок и крючьев, и Сакс, стиснув зубы, последовал за ней. Когда, вцепившись носками ботинок и горящими пальцами в мелкие щели, он подобрался к вершине, то оглянулся на лощину Ванга, и та вдруг показалась ему намного более крутой, чем раньше. От нахлынувшего волнения у него задрожали напрягшиеся мышцы. Оставалось лишь завершить подъем, и он поспешил дальше, время от времени рискуя, так как щели, за которые он цеплялся, становились все у́же. В базальте, чью темно-серую массу разбавляли ржавые и желтоватые вкрапления, трещин оказалось совсем мало. Он сосредоточил все внимание на той, что находилась метром выше его глаз, собираясь ею воспользоваться, – но достаточно ли она глубока, чтобы он сумел ухватиться за нее кончиками пальцев? Нужно было как-то это выяснить. Набрав в грудь побольше воздуха, он подтянулся и попробовал уцепиться за щель, но она была совсем неглубокой. С быстрым рывком, издав невольный хрип, он поднялся выше нее и ухватился за что-то, чего даже не видел, и очутился рядом с Энн. Та, тяжело дыша, спокойно сидела на узком выступе.
– Старайся больше работать ногами, – посоветовала она.
– А-а.
– Похоже, эта стена все-таки захватила твое внимание, а?
– Да.
– И с памятью проблем не возникло, да?
– Не возникло.
– Поэтому я и люблю лазать по скалам.
Позже в тот день, когда лощина немного выровнялась и расширилась, Сакс спросил:
– Значит, у тебя тоже были проблемы с памятью?
– Давай потом об этом поговорим, – сказала Энн. – Глянь лучше на эту трещину.
– Ой, и правда.
Той ночью они спали в мешках под прозрачным грибовидным навесом, достаточно широким, чтобы вместить человек десять. На этой широте и при такой сверхтонкой атмосферой сила ткани выглядела особенно впечатляюще, сохраняя внутри давление в 450 миллибар и не допуская каких-либо вспучиваний по всей своей площади. Прозрачный материал был туго натянут, но не тверд, а значит, явно сохранял давление, намного меньшее того, на какое был рассчитан. Когда Сакс вспомнил, как им приходилось хоронить свои ранние жилища под многометровыми слоями камней и мешков с песком, чтобы те не взрывались, то пришел в изумление от последовавших за этим достижений науки в создании новых материалов.
Когда он рассказал об этом, Энн кивнула.
– Мы теперь сами не в состоянии понимать собственные технологии.
– Да, хотя это, наверное, понять можно. Просто трудно поверить.
– Кажется, я вижу разницу, – непринужденно проговорила она.
Почувствовав себя более уверенным, он вновь заговорил о памяти.
– У меня случаются провалы, как я их называю. Тогда я не могу вспомнить, о чем думал последние несколько минут или больше, скажем, до часа. По всей вероятности, это происходит из-за нарушений краткосрочной памяти, как-то связанных с колебаниями мозговых волн. И события давнего прошлого тоже, боюсь, кажутся очень смутными.
Хмыкнув в ответ, она долго не отвечала, а затем призналась:
– Я совершенно забыла себя. Мне кажется, сейчас во мне кто-то другой. Частично. Кто-то противоположный. Моя тень или тень моей тени. Посаженное и выросшее внутри меня.
– Что ты имеешь в виду? – спросил Сакс с опаской.
– Противоположность. Она думает о том, о чем не подумала бы я. – Она отвернулась, словно в застенчивости. – Я называю ее Контр-Энн.
– И какая… она из себя?
– Она… не знаю. Эмоциональная. Чувствительная. Глупая. Плачет при виде цветка. Думает, что все делают все, на что способны. И тому подобный бред.
– А раньше ты никогда такой не была?
– Нет, нет и нет. Это все чепуха. Но теперь я чувствую все это так, будто оно реально. Так что теперь есть Энн и Контр-Энн. И… возможно, третья.
– Третья?
– Так кажется. Кто-то, кто не относится ни к одной из первых двух.
– И как ты… ну, ты как-нибудь ее называешь?
– Нет. У нее нет имени. Она неуловима. И молода. У нее немного мыслей, но те, что есть, – странные. Это не Энн и не Контр-Энн. Она чем-то похожа на Зо, ты знал ее?
– Да, – ответил Сакс, удивившись. – Она мне нравилась.
– Правда? А мне она казалась кошмарной. Но все равно… во мне теперь тоже есть что-то такое. Три личности.
– Странно, если подумать.
Она рассмеялась.
– Разве это не у тебя была воображаемая лаборатория, где хранились все твои воспоминания, каталогизированные по номерам комнат или вроде того?
– Это была очень действенная система.
Она снова рассмеялась, теперь сильнее. Видя это, расплылся в улыбке и он, даже несмотря на свой испуг. Три Энн? Он и одну-то не мог понять.
– Но часть этой лаборатории я теряю, – сказал он. – Целые куски прошлого. Некоторые видят память как систему узлов, поэтому, если применять метод «дворца памяти», это вполне может отразиться и на соответствующих физических системах. Но если каким-то образом потерять узел, то и вся сеть вокруг него пропадет. Поэтому я, например, натыкаюсь в литературе на какое-нибудь упоминание о своей работе и пытаюсь вспомнить, как это делал, с какими сталкивался методологическими проблемами и все такое, и целый пласт, целая эпоха просто отказывается ко мне возвращаться. Будто ничего этого и не было.
– Проблемы во «дворце».
– Да. Я никак этого не предполагал. Даже после моего… инцидента… я был уверен, что с моей способностью… думать ничего не случится.
– Ты и сейчас вроде бы неплохо можешь думать.
Сакс потряс головой, припоминая свои провалы, затмения и прескевю, как их называл Мишель. Мышление было не только аналитической или когнитивной способностью, но чем-то более широким… Он попытался описать, что происходило с ним в последнее время, а Энн внимательно его слушала.
– В общем, я перечитал последние статьи об исследованиях памяти. Это теперь очень интересная и актуальная тема. Урсула и Марина с ахеронскими учеными мне помогали. И мне кажется, у них получилось кое-что, что нам поможет.
– Что, лекарство для памяти?
– Да. – Он объяснил ей, как действует анамнетический комплекс. – Так вот. Я считаю, что его стоит опробовать. Только я пришел к убеждению, что лучше всего будет, если собрать несколько человек из первой сотни в Андерхилле и принять его вместе. В процессе вспоминания очень важен контекст, и хорошо, если мы будем при этом видеть друг друга. Это интересно не всем, но на удивление многим из первой сотни.
– Не так уж это и удивительно. А кому?
Он перечислил всех, с кем уже связывался. Как ни печально было это признавать, это оказалась бо́льшая часть тех из них, кто остался в живых. Всего около дюжины человек.
– И все мы хотели бы, чтобы и ты была там. А я хотел бы этого сильнее всего.
– Звучит интересно, – сказала Энн. – Но сначала нам придется пройти кальдеру.
Идя по скалам, Сакс вновь поражался каменной реальности этого мира. В основе его лежали: камень, песок, пыль, частицы. И над ним – темное, шоколадного оттенка небо, беззвездное в этот день. Большие, визуально неопределимые расстояния. Отрезок в десять минут. Будто целый час, если идти пешком. Усталость в ногах.
И их окружили кольца кальдер, которые выдавались далеко в небо, когда они были в середине центрального кольца, откуда более новые и глубокие кальдеры выглядели большими углублениями в круглых стенах. Кривизна планеты здесь никак не влияла на перспективу и была незаметна, тогда как скалы четко виднелись на расстоянии даже в тридцать километров. В итоге это казалось Саксу большой огороженной территорией. Парк, каменный сад, лабиринт, отделенный единственной стеной от остального мира, – мира, который, пусть и оставался скрыт, но влиял на все, что было здесь. Кальдера была велика, но не настолько. Здесь нельзя было спрятаться. Внешний мир вливался сюда и наводнял разум. И при всей его вместимости в сотни триллионов бит информации, при всей величине нейронного массива в голове осталось место для одной только мысли, захватившей все сознание, живой и способной лишь твердить: скала, обрыв, небо, звезда.
Дно было усеяно множеством трещин, и каждая имела вид дуги окружности, центр которой лежал в середине центрального кольца. Старые трещины, тянущиеся из новых полостей северного и южного колец, были заполнены мелкими камнями и пылью. Из-за этих расщелин их путь превратился в хождение зигзагами: они словно попали в лабиринт, только вместо стен здесь были трещины, но прокладывать по нему дорогу было ничуть не легче.
Тем не менее они справились и, наконец, достигли края северного кольца – обозначенного на карте Сакса номером 2. А когда заглянули в него, им открылся новый вид: правильная форма кальдеры с круглыми стенами, резкий спуск к до сих пор скрытому дну, лежащему тысячей метров ниже.
Судя по всему, отсюда ко дну кольца пролегал скалолазный маршрут, по которому можно было спуститься только дюльфером. Но когда Энн показала туда и взглянула на лицо Сакса, она рассмеялась. И безмятежно добавила, что потом им придется снова взбираться оттуда, а главная стена кальдеры была довольно высока. Или же они могли просто обойти северное кольцо, пока не увидят другой путь.
Удивленный такой вариативностью и преисполненный благодарности за это, Сакс последовал за ней вокруг северного кольца по его западной части.
После заката над западной стеной кальдеры маленькой серой вспышкой взмыл Фобос. Страх и Ужас – что за имена?!
– Я слышала, это ты придумал вернуть на орбиту луны? – проговорила Энн из своего спального мешка.
– Да, я.
– Вот это я понимаю восстановление ландшафта, – похвалила она, довольная.
Сакс почувствовал, что его душа отогревается.
– Хотел сделать тебе приятно.
После недолгого молчания Энн проговорила:
– Мне нравится на них смотреть.
– А как тебе Миранда?
– О, там очень интересно. – Она рассказала о некоторых геологических особенностях этой необычной луны. Две столкнувшиеся планетезимали, не вполне удачно соединившиеся вместе…
– Между красным и зеленым есть один цвет, – начал Сакс, когда она рассказала достаточно о Миранде. – Смесь их обоих. Его иногда называют мареновый ализарин. Он встречается у некоторых растений.
– Угу.
– Мне он напоминает о политике. О таком объединении Красных и Зеленых.
– О коричневых.
– Да, или ализариновых.
– Я думала, оно уже есть – коалиция, соединившая «Свободный Марс» и Красных – Иришку и тех людей, кто вытеснил Джеки.
– Это антииммигрантская коалиция, – объяснил Сакс. – Неправильное сочетание Красных и Зеленых. Они втягивают нас в конфликт с Землей, которого можно избежать.
– Правда?
– Да. Проблема перенаселения скоро иссякнет. Иссеи… то есть мы, я думаю, подходим к своему пределу. А там придет и очередь нисеев.
– Ты имеешь в виду резкий спад?
– Именно. Когда вымрет наше поколение, а потом следующее, то население Солнечной системы сократится более чем вдвое.
– И тогда они придумают новый способ, как все испортить.
– Несомненно. Но тогда уже будет не гипермальтузианская эпоха. Это будет их проблема. Поэтому беспокоиться из-за иммиграции, развязывать конфликт, грозящий межпланетной войной… можно обойтись без всего этого. Если бы на Марсе существовало Красное движение, которое указало бы на это, предложило бы Земле помощь в последние тяжелые для них годы, это предотвратило бы бездумную бойню. И создало бы новый образ мышления о Марсе.
– Новую ареофанию.
– Да. Так говорила Майя.
Она рассмеялась.
– Но Майя же сумасшедшая.
– Почему? – резко возразил Сакс. – Вовсе нет.
Энн ничего не ответила, и Сакс не стал развивать тему. Фобос смещался поперек всего неба, от конца пояса Зодиака к его началу.
Они хорошо выспались. А на следующий день совершили трудный подъем по крутому ущелью, проходящему по стене. Энн и остальные Красные скалолазы, очевидно, считали такой путь подходящим для тех, кто покидал кальдеру пешком, но для Сакса этот день выдался самым физически тяжелым в жизни. Они даже не успели завершить подъем к концу дня и, когда солнце стало садиться, вынуждены были поспешно устанавливать навес на узком выступе. Лишь к обеду следующего дня они наконец поднялись наверх.
На краю горы Олимп все было по-прежнему. Гигантское плоское кольцо с выемкой посередине, полоса фиолетового неба вдоль далекого горизонта и черный купол над головой, маленькие одинокие жилища, выдолбленные в изверженной породе. Отдельный мир. Частью – голубой Марс, частью – нет.
В первом домике, где они остановились, жили очень старые Красные нищие, которые, похоже, просто ждали, когда их настигнет резкий спад, после чего их тела кремируют, чтобы развеять прах в восходящем потоке.
Сакс счел такое бытие чрезмерно фаталистическим. Энн также не пришла в восторг.
– Ладно, – сказала она, глядя, как нищие ели свою скудную пищу, – пойдем уже опробуем то лекарство.
Многие члены первой сотни не хотели собираться в Андерхилле и предлагали другие места. Они спорили как-то по-новому, нетипичным для своей группы образом. Но Сакс был непреклонен и отклонял все предложения о горе Олимп, низкой орбите, Псевдофобосе, Шеффилде, Одессе, Адовых Вратах, Сабиси, Сензени-На, Ахероне, южной полярной шапке, Мангале и открытом море. Он настаивал на том, что окружающая обстановка, как показали опыты, служила критическим фактором. Койот самым неуместным образом вопил, когда Сакс описывал эксперимент, в котором студенты с аквалангами заучивали списки на дне Северного моря, но факты есть факты. И, учитывая их, почему бы не провести теперь эксперимент в месте, которое должно обеспечить наилучший результат? Ставки были достаточно высоки, чтобы делать все возможное. Ведь, указал Сакс, если воспоминания вернутся к ним полностью, то могло случиться все что угодно: прорыв в других областях, наступление резкого спада, прилив здоровья на столетия вперед, непрерывно растущее сообщество садовых миров отныне и до какого-нибудь эмерджентного фазового изменения, которое перенесет человечество на более высокую ступень прогресса, в такую область познаний, которую пока нельзя даже вообразить. Сейчас же они балансировали на грани золотого века, сказал Сакс. Но все это зависело от целостности разума, без которой ничего не могло быть. Поэтому он настаивал на Андерхилле.
– Ты так уверен? – посетовала Марина, предлагавшая собраться в Ахероне. – Здесь следует мыслить шире.
– Да-да.
Мыслить шире. Для Сакса это было легко: его разум хранился в лаборатории, которая сгорела, и теперь он стоял под открытым небом. И никто не мог доказать несостоятельность идеи об Андерхилле – ни Марина, ни кто угодно другой. Те, кто возражал, просто боялись, как ему казалось, – боялись силы прошлого. Не желали признавать его силы, которую не могли преодолеть, не желали ей подчиняться. Мишель, будь он среди них, точно поддержал бы выбор Андерхилла. Место играло ключевую роль, и их жизни теперь доказывали это. Даже те, кто сомневались, не верили или боялись, – то есть все они, – вынуждены были признать, что Андерхилл подходил для того, что они намеревались совершить.
И в итоге все согласились встретиться там.
Андерхилл теперь стал своего рода музеем и был сохранен в том же виде, какой имел в 2138 году, когда там закрыли железнодорожную станцию. То есть он выглядел не совсем так, как в годы, когда там жили они, но в основе своей остался прежним, так что изменения не должны сильно отразиться на их проекте, как рассудил Сакс. Прибыв туда вместе с несколькими друзьями, он прогулялся вокруг и увидел, что все старые строения остались на месте: изначальные четыре жилища, целиком сброшенные из космоса, Надины сводчатые отсеки с крытой площадью посередине, тепличный корпус Хироко, Надина аркада на северо-западе, Чернобыль, соляные пирамиды и, наконец, Алхимический квартал, которым Сакс завершил свою прогулку, пройдясь между его строениями и трубами, пытаясь подготовить себя к тому, что предстояло им на следующий день. Пытаясь мыслить шире.
Теперь в нем бурлили воспоминания, словно память показывала, что ей не нужна никакая помощь. Здесь, среди этих строений, он впервые увидел преобразующую силу технологий над чистой материальностью природы: ведь, по сути, сначала у них были лишь камни и газы, которые они добывали, очищали, изменяли, комбинировали, придавая новую форму. И делалось это столькими способами, что ни один человек не мог не то чтобы во всех них разобраться, но и представить их результат. Так что он видел, но не понимал: они постоянно действовали, не осознавая своей истинной силы и (вероятно, как следствие) очень слабо ощущая, к чему стремятся. Но тогда, в Алхимическом квартале, он не мог этого видеть. Он был слишком уверен, что мир, если сделать его зеленым, станет прекрасным местом.
И теперь он стоял под голубым небом, на второавгустовской жаре, без скафандра, осматриваясь вокруг и пытаясь думать, копаясь в памяти. Управлять ею было тяжело: воспоминания то и дело являлись сами по себе. Объекты старой части города были отчетливо знакомыми и даже родными. Даже отдельные красные камни и валуны вокруг поселения и попадающие в поле зрения бугры и впадины были хорошо знакомы и, судя по компасу, по-прежнему находились на своих местах. Перспективы эксперимента казались Саксу весьма хорошими: они тоже были на своем месте, в нужном контексте, собранные и готовые. Дома.
Он вернулся к сводчатым отсекам, где они намеревались поселиться. Несколько машин прибыло сюда, пока он был на прогулке, а на подъездных путях у главной железной дороги стояло несколько маленьких экскурсионных поездов. Люди подтягивались. Майя и Надя уже обнимали прибывших вместе Ташу и Андреа, и их голоса звенели, как в какой-то русской опере, словно речитатив, готовый вот-вот перерасти в песню. Из сто одного человека, которые были в начале, сейчас должно было собраться всего четырнадцать: Сакс, Энн, Майя, Надя, Десмонд, Урсула, Марина, Василий, Джордж, Эдвард, Роджер, Мэри, Дмитрий, Андреа. Не так уж много, но это были все, кто выжил и был на связи с остальным миром; остальные либо умерли, либо пропали без вести. Если Хироко и еще семь членов первой сотни, кто был с ней, и оставались в живых, то они не давали о себе знать. Кто знает, может, они собирались заявиться без объявления, как на первый фестиваль Джона на Олимпе, а может, и нет.
В общем, их было четырнадцать. При таком сокращении численности Андерхилл выглядел малонаселенным, и, хотя они могли разбрестись по нему, как им захочется, все сгрудились в южном крыле сводчатых отсеков. И все равно пустота была ощутима. Само это место словно воплощало собой их забытые воспоминания с утерянными лабораториями и умершими товарищами. Каждый из собравшихся страдал от разного рода проблем с памятью: если говорить о них всех, то они сталкивались почти со всеми нарушениями умственной функции, какие только упоминались в литературе, и значительную часть их общения занимали сравнения симптомов и перечисления пугающих и/или потрясающих ощущений, которые они испытали за последнее десятилетие. Так, то забавляясь, то приходя в уныние, они слонялись по кухне в юго-западном углу, где высокие окна выходили на дно центральной теплицы, все еще покрытой толстым стеклянным куполом и покоящуюся в приглушенном свете. Они поужинали пикниковой едой, которую привезли в холодильниках, увлеченно беседуя, а затем разбрелись по южному крылу, чтобы приготовить спальни к беспокойной ночи. Они просидели допоздна, сколько смогли, говоря без умолку, но в итоге стали сдаваться и по одному-двое уходили, чтобы попытаться уснуть. Ночью Сакс несколько раз просыпался и слышал, как кто-то, спотыкаясь, ходил в туалет, шептался на кухне или бормотал во сне, как часто делали старики. И каждый раз, когда ему удавалось снова уснуть, к нему возвращались сновидения.
Наконец, наступило утро. Они встали на рассвете и, освещенные тусклым светом, наскоро поужинали фруктами, круассанами, хлебом и кофе. Каждая скала и холм отбрасывали на запад длинные тени. Как это знакомо.
Они были готовы. Иного пути не было. Собравшись вместе, они глубоко вдохнули и издали несколько беспокойных смешков, не в силах смотреть друг другу в глаза.
И только Майя до сих пор отказывалась пройти процедуру. Никто не мог ее убедить.
– Я не буду, – повторяла она всю прошлую ночь. – Кому-то придется за вами присматривать, если вы все сойдете с ума. Пусть это стану я.
Сакс думал, что она изменит мнение, что она просто упрямилась, как всегда, но теперь он лишь недоумевал:
– Я думал, у тебя самые серьезные проблемы с памятью из нас всех.
– Наверное.
– Тогда для тебя есть смысл пройти процедуру. Мишель давал тебе много лекарств от психических расстройств.
– Я не хочу, – проговорила она, посмотрев ему в глаза.
Он вздохнул.
– Я тебя не понимаю, Майя.
– Я знаю.
И она ушла в старый медпункт в углу, заняв место санитара. Все было готово. Она стала подзывать их по одному и, беря ультразвуковые инъекторы, прижимала к их шеям и с нажатием кнопки вводила им часть комплекса. Затем давала таблетки, содержащие остальную его часть, и помогала вставить беруши, изготовленные для каждого индивидуально и служившие для передачи электромагнитных волн. Сидя в напряженном молчании на кухне, они ждали, пока все завершат процедуру. Тогда Майя проводила их к двери и вывела наружу. И они вышли.
Сакс увидел и прочувствовал образ: яркий свет, ему сдавливает череп, он задыхается, отплевывается. Прохладный воздух, голос матери, будто животный крик:
– Ой? Ой? Ой! Ой!
Затем он лежал на груди, весь в поту и продрогший.
– Во дела.
Гиппокамп был одним из особых участков мозга, которые при прохождении процедуры получили сильную стимуляцию. Это означало, что лимбическая система Сакса, раскинувшаяся под гиппокампом, как сетка под грецким орехом, также была стимулирована, словно орех подпрыгивал на батуте из нервов, и тот резонировал или даже издавал пружинящие звуки. Так Сакс ощутил то, что, несомненно, должно было превратиться в поток эмоций: он не чувствовал ничего определенного, а все эмоции сразу, примерно одинаковой глубины и свободные от всего. Радость, печаль, любовь, ненависть, возбуждение, уныние, надежда, страх, щедрость, жадность – многие из них не отвечали противоположным себе и большинству других эмоций, что в нем бурлили. Итогом этой перенасыщенной смеси – во всяком случае для Сакса, который сидел на скамье возле сводчатых отсеков и тяжело дышал, – стало безудержно набирающее силу ощущение, будто все вокруг приобретает смысл. Оно то раздирало душу, то наполняло сердце – словно его грудь распирало от океанов облаков, и он едва мог дышать. Это походило на ностальгию в энной степени, нечто всеохватывающее, даже, может быть, блаженство – чистая возвышенность чувств, вызванная уже тем, что он просто сидел там, просто был жив! Но во всем этом присутствовала острая боль потери, сожаление об ушедшем времени, страх смерти, страх всего, скорбь по Мишелю, по Джону, по всем. Это так разнилось с привычным спокойствием Сакса, которого порой и вовсе называли флегматичным, что он почти потерял контроль над собой – не в силах пошевелиться, он несколько минут лишь горько сожалел о том, что вообще задумал подобный эксперимент. Это было так глупо и безрассудно – теперь его все будут вечно ненавидеть.
Растерянный, почти ошеломленный, он решил попробовать прогуляться – может быть, это прояснит его разум? Оказалось, что идти он мог: поднялся со скамьи, выровнялся, удержал равновесие и двинулся вперед. Он старался обходить других, блуждавших, каждый в своем мире, не обращая на него внимания так же, как и он на них, – они проходили друг мимо друга, точно мимо неодушевленных предметов. А потом он оказался на открытом просторе прилегающей к Андерхиллу территории, обдуваемый прохладным утренним ветерком, прошел мимо соляных пирамид под необычно голубым небом.
Остановился и посмотрел вокруг, задумался, удивленно хмыкнул и замер на месте – ноги на миг перестали его слушаться. Внезапно он вспомнил все.
Ну не так чтобы вообще все. Он не мог, например, сказать, что ел на завтрак 13 августа-2 2029 года – в этом результат подтверждал предположение, что события, связанные с естественной активностью, не различались настолько, чтобы запоминать их индивидуально. Только в общих чертах… в конце 2020-х он начинал свои дни в юго-западном углу сводчатых отсеков, где делил спальню верхнего этажа с Хироко, Евгенией, Риа и Ивао. Когда эта спальня возникла перед его мысленным взглядом, в голове у него замелькали эксперименты, происшествия и разговоры. Узел в пространстве-времени, заставляющий вибрировать всю сеть, сплетенную из дней. Красивая спина Риа, моющей подмышки в другой части комнаты. Обидные слова, сказанные по небрежности. Влад, рассуждающий о вырезании генов. Они с Владом стояли на этом самом месте в ту первую минуту, когда оказались на Марсе, и смотрели вокруг, не говоря друг другу ни слова, просто постигая гравитацию, розовое небо и близкие горизонты, которые выглядели так же, как и сейчас, столько лет спустя – ареологическое время тянулось медленно и долго. Одетые в прогулочники, они ощущали себя полыми. Чернобылю требовалось больше бетона, чем можно было изготовить в разреженном, сухом и холодном воздухе. Надя как-то нашла выход, но как? Нагрела его, да, точно. Надя в те годы много чего построила – сводчатые отсеки, заводы, аркаду; кто бы мог предположить, что человек, который так тихо вел себя на «Аресе», окажется таким знающим и энергичным? Он очень давно не вспоминал об этом впечатлении, которое составил о ней на «Аресе». А как она мучилась, когда Татьяну Дурову раздавило упавшим краном, они все тогда были потрясены – все, кроме Мишеля, который оказался удивительно равнодушным к несчастью, к их первой смерти. Вспомнит ли Надя об этом сейчас? Непременно вспомнит, если подумает об этом. Сакс не мог быть исключением, то есть если процедура помогла ему, то поможет и другим. Василий, воевавший на стороне УДМ ООН в обеих революциях, – с чего это он его вспомнил? Казалось, он был поражен, но это мог быть и восторг – все, что угодно, некое всеохватывающее чувство, ощущение насыщенности, судя по всему служившее одним из первых последствий лечения. Наверное, он теперь помнил и смерть Татьяны. Однажды в Антарктиде он вышел с ней в поход, и она поскользнулась на камне, вывихнув лодыжку, и им пришлось ждать на ригеле Нуссбаум, пока вертолет со станции Мак-Мердо заберет их, чтобы доставить на базу. Он забыл об этом на многие годы, а потом Филлис напомнила ему в ночь, когда взяла его под арест, а потом он забыл снова – до этого дня. Два раза за два столетия, но теперь оно вернулось вполне: низкое солнце, холод, роскошный вид Сухих долин, зависть Филлис к красоте Татьяны. То, что их красота должна была умереть первой, было знаком, первейшим проклятьем. Марс как Плутон, планета страха и ужаса. И теперь, когда их обеих не было в живых, Сакс остался последним носителем воспоминаний о том дне в Антарктике – а когда уйдет он, то и тот исчезнет безвозвратно. Да, человек запоминал именно ту часть прошлого, которую сильнее всего прочувствовал, те события, когда эмоции превышали определенный порог, как-то: великие радости, великие потрясения, великие трагедии. И малые тоже. В седьмом классе его исключили из баскетбольной команды, и, когда прочитал список, он плакал возле питьевого фонтана на дальнем конце школьной территории, думая: «Я буду помнить об этом всю жизнь!» Ей-богу, так и вышло. Великая красота.
Когда человек делал что-то впервые, это несло в себе особый заряд. Первая любовь… кто же это был? Пустота. Это было еще в Боулдере. Лицо… какая-то подруга какого-то друга… Но это была не любовь, и он не помнил ее имени. Нет… теперь он думал об Энн Клейборн – она стояла перед ним и пристально смотрела, это было давно. Что он пытался вспомнить? Поток мыслей был таким плотным и стремительным, что он был уверен, что некоторые воспоминания проносились в нем мимо сознания. Это был парадокс – но лишь один из многих, что создавал этот одинокий поток в необъятной области разума. Десять в сорок третьей степени, матрица, в которой распускались все большие взрывы. Внутри черепа лежала целая вселенная, размерами не уступающая той, что простиралась снаружи. Энн… с ней он тоже ходил в поход в Антарктике. Она всегда была сильной. Интересно, что за все время их пути через кальдеру горы Олимп он ни разу не вспомнил этот их поход по долине Райта, хоть они и были так похожи! Тогда, в Антарктике, они без устали спорили о судьбе Марса, и ему так хотелось взять ее за руку или чтобы она взяла его… Кажется, он тогда в нее влюбился! И его мозг лабораторной крысы, никогда прежде не испытывавший такого чувства, подавил его банальной застенчивостью. Она с любопытством смотрела на него, не понимая этого и лишь удивляясь, почему он так заикался, когда говорил. Он немного заикался и в детстве – вероятно, это было какое-то биохимическое нарушение, исчезнувшее при половом созревании, но оно изредка давало о себе знать, когда он нервничал. Энн… Энн… Он видел ее лицо, когда они спорили на «Аресе», в Андерхилле, в Дорсе Бревиа, на складах на горе Павлина. Почему он постоянно совершал нападки на женщину, которая его привлекала? Она была такой сильной. И все же он видел ее совершенно подавленной, когда она беспомощно лежала на полу марсохода-валуна все те дни, что погибал красный Марс. Просто лежала и не поднималась. Но потом сделала усилие и ожила. Заткнула Майю, когда та на него кричала. Помогла похоронить своего сожителя, Саймона. Она справлялась со всем этим, и Сакс всегда, неизменно, постоянно был ей неприятен. Доставлял боль. Вот кем он для нее был. Ругался с ней в Зиготе и в Гамете. В Гамете – хотя, пожалуй, и там, и там, – ее лицо так исказилось… после этого он не видел ее двадцать лет. А потом, после того, как он принудительно провел над ней процедуру омоложения, он не видел ее еще тридцать лет. Все это время было потеряно зря. Даже если бы они прожили еще тысячу лет, этого не хватило бы, чтобы восполнить эту потерю.
Он бродил по Алхимическому кварталу. Снова вспомнил Василия – тот сидел в пыли, и слезы стекали по его щекам. Они с ним вдвоем провалили эксперимент с андерхильскими водорослями, прямо в этом здании, но Сакс сильно сомневался, что он плакал из-за этого. Наверное, из-за чего-то, связанного с теми годами, что он проработал в УДМ ООН, или чего-нибудь еще. Он этого не знал, но можно было спросить – правда, если шататься по Ардерхиллу и видеть лица, а потом вспоминать все, что знал об этих людях, так сопутствующие вопросы не позадаешь. Нет, он пошел дальше, оставив Василия наедине с его собственным прошлым. Сакс не хотел знать, что того огорчило.
К тому же на полпути к северному горизонту крупным шагом уходила прочь другая фигура – Энн. Странно было видеть ее без скафандра, с седыми волосами, развевающимися на ветру. Этого оказалось достаточно, чтобы остановить поток воспоминаний. Но, опять же, он уже видел ее такой – в долине Райта, да, и тогда ее волосы были светлыми, такой цвет называли «помойным блондом», что было не очень благородно. Опасно было давать волю каким-либо чувствам под пристальным взором психологов. Их собрали здесь по делу, и они находились под давлением, тут не было места для личных отношений – это было само по себе опасно, и случай Наташи и Сергея служил тому подтверждением. Но это все равно происходило. Парой стали Влад и Урсула, так же, как Хироко и Ивао, Надя и Аркадий. Несмотря на опасность, несмотря на риск. Энн смотрела на него через лабораторный стол, когда они обедали, и что-то было в ее глазах, некий знак расположения – но он не знал, что именно, он не умел читать взгляды других людей. Все они казались ему загадками.
В день, когда он получил письмо о том, что его приняли в первую сотню, его охватила грусть – но почему? Он не знал. Зато сейчас он видел письмо, выползающее из факса, клен за окном; он позвонил Энн, чтобы узнать, включили ли ее, узнал, что да, включили, немного удивился, ведь она такая одиночка, но ему стало чуть веселее, хотя в целом он все равно оставался грустным. Листья клена покраснели, в Принстоне была осень – традиционная пора для меланхолии, но дело было не в этом, вовсе нет. Просто было грустно. Будто он достиг лишь того, что его сердце отбило определенное количество из положенных ему трех миллиардов ударов. А сейчас их число перевалило за десять миллиардов, и счет продолжался. Нет, этому не было объяснения. Люди были загадками. И когда Энн, в их лаборатории в сухой долине, спросила: «Хочешь, сходим на смотровую площадку?», он согласился мгновенно, без запинки. И, не сговариваясь, они вышли по отдельности: она покинула базу и ушла на площадку, а он пошел следом. И там – о да! – глядя на скопление домиков и купол теплиц, составлявших некий прото-Андерхилл, он взял ее затянутую в перчатку руку в свою, и они сидели бок о бок, рассуждая о терраформировании, в совершенно дружелюбном тоне, без всяких перепалок. Но она вдруг убрала руку, будто чем-то потрясенная, и содрогнулась (было очень холодно, во всяком случая для Терры), а он стал заикаться так же сильно, как потом после инсульта. Кровоизлияние в лимбической системе, мгновенно убивающее некоторые элементы, надежды, желания. Убивающее любовь. И после этого он стал ее изводить. Но был еще антарктический холод, когда они добирались обратно на базу. Даже при всей яркости эйдетических образов новых воспоминаний он слабо помнил, как они возвращались в тот день. Он был отвлечен. Чем же он тогда ее оттолкнул? Маленький человечек. Белый лабораторный халат. На то не было причины. Но это случилось. И оставило свой след навсегда. Даже Мишель никогда не знал, почему это случилось.
Подавленность. Вспомнив о Мишеле, он подумал и о Майе. Энн уже достигла горизонта, и ему уже было ее не поймать, да он и не знал, хотел ли этого, все еще ошарашенный такими неожиданными и мучительными воспоминаниями. И он отправился искать Майю. Прошел мимо того места, где Аркадий высмеял их безвкусицу, мимо теплицы Хироко, где она соблазнила его со своим безличным дружелюбием, как у приматов в саванне, когда альфа-самка хватала какого-нибудь самца, альфа-, бета- или типа «мог бы быть альфа-, но ему это не интересно», и тот избирал единственный достойный способ поведения. Прошел мимо парка трейлеров, где они спали на полу все вместе, как большая семья, а где-то в чулане – Десмонд. Тот обещал им показать, как он тогда жил, где прятался. Вереница воспоминаний о Десмонде, полет над горящим каналом, затем полет над горящим каньоном Касэй, чувство страха, когда люди из сил безопасности пристегнули его к своему странному устройству – то был конец Саксифрейджа Расселла. Теперь он стал кем-то другим, а Энн стала Контр-Энн и еще какой-то третьей женщиной, которая не была ни Энн, ни Контр-Энн. Пожалуй, это могло послужить основанием для их общения. Будто они были двумя незнакомцами, а не теми, кто знал друг друга еще с Антарктики.
Майя сидела на кухне и ждала, пока вскипит большой чайник. Она собиралась заварить чай для них.
– Майя, – сказал Сакс, и слова отдались у него во рту тяжестью, будто камни. – Тебе тоже стоит попробовать. Это не так уж плохо.
Она покачала головой.
– Я помню все, что хочу помнить. Даже сейчас, без твоих лекарств, когда мне с трудом это удается, я все равно помню больше, чем когда-либо сможешь ты. И мне этого вполне хватает.
Был шанс, что малое количество лекарства по воздуху попало ей на кожу и дало какую-то частицу эмоционального опыта. А возможно, это просто было ее обычное состояние.
– Почему этого должно быть мало? – продолжала она. – Я не хочу возвращать свое прошлое, не хочу. Я его не вынесу.
– Может, потом, – сказал Сакс.
Что он еще мог ей сказать? Такой же она была и в Андерхилле – непредсказуемой, капризной. Даже удивительно, насколько эксцентричные личности были отобраны в первую сотню. Но какой выбор был у отборочного комитета? Люди были либо такими, либо недалекими. А недалеких на Марс не отправляли. Во всяком случае сначала. Во всяком случае в больших количествах. К тому же и у глупцов бывают свои сложности.
– Может быть, – сказала она и, похлопав его по голове, сняла чайник с конфорки. – А может, и нет. Я помню столько, сколько помню.
– И Фрэнка? – спросил Сакс.
– Конечно. И Фрэнка, и Джона – всех. – Она ткнула себя большим пальцем в грудь. – Здесь достаточно боли. Больше мне не нужно.
– А-а.
Он вернулся на улицу, отягощенный мыслями, ни в чем не уверенный, выведенный из равновесия. Лимбическая система неистово вибрировала под воздействием всей его прошлой жизни, под воздействием Майи, такой красивой и обреченной. Он искренне желал ей счастья, но что он мог сделать? Майя была совершенно несчастна, и можно сказать, это как раз приносило ей счастье. Или делало ее жизнь полной. Может быть, она ощущала эту эмоциональную переполненность, горькую и неприятную, всю свою жизнь! Ух! Быть флегматиком куда проще. Но она выглядела такой живой! А как она провела их сквозь весь тот хаос на юг, в убежище в Зиготе… В ней было столько силы! Ох уж эти сильные женщины… Столкнуться лицом к лицу с поганостью жизни, прочувствовать ее, не уклоняясь и не защищаясь, просто признав и приняв. Джон, Фрэнк, Аркадий и даже Мишель – они все были полны оптимизма, пессимизма, идеализма, имели каждый свою мифологию, за которой скрывали боль существования, занимались своими науками, но все они были мертвы, тем или иным образом выйдя из игры и оставив Надю, Майю и Энн жить дальше. Сакс, несомненно, был счастливцем, раз его окружали такие стойкие сестры.
Даже Филлис, в каком-то смысле, которая с упрямством дураков шла своей дорогой и довольно успешно, по крайней мере, до определенного момента. И никогда не сдавалась. Никогда ничего не признавала. Она была против того, чтоб его пытали, как сообщил ему Спенсер. Тот самый Спенсер, который провел с ним столько часов аэродинамики, который распивал с ним виски, рассказывая, как Филлис ходила к начальнику службы безопасности в долине Касэй, как требовала отпустить Сакса, предоставить ему необходимый уход – даже после того, как он ее вырубил, чуть не убив веселящим газом, после того как лгал ей в ее постели. Очевидно, она все ему простила, и Спенсер так и не мог простить Майю за то, что убила ее, хоть он делал вид, что все хорошо. А Сакс ее простил, хотя несколько лет вел себя так, будто никак не мог этого сделать, – просто хотел ее помучить. Ах, какую странную рекомбинантную связку они создавали из своих жизней – то ли в результате ее слишком долгой продолжительности, то ли это вообще было типично для людей, живших в одной деревне. Но сколько тут было печали и предательства! Может, воспоминания вызывала потеря – ведь все неизбежно заканчивалось потерей. А как же насчет радости? Он попытался вспомнить: можно ли вернуться в прошлое лишь по категории эмоции, благодаря какой-нибудь занятной мысли. Было ли это возможно? Так, он вспомнил, как бродил по залам, где проходила конференция по терраформированию и увидел стенд с предполагаемым количеством тепла, получаемым благодаря применению «коктейля Расселла» при двенадцати Кельвинах. Как проснулся в Эхо-Оверлуке и увидел, что Великая буря стихла и в розовом небе сияло солнце. Как смотрел на лица сидевших в поезде, когда тот тронулся со станции Ливия. Как Хироко поцеловала его в ухо, когда они сидели в ванной одним из зимних дней в Зиготе и вечера тянулись целыми днями.
Хироко! Ах, ах… Он лежал, съежившись от холода, исстрадавшийся настолько, что уже думал, погибнет от бури как раз тогда, когда жизнь становилась такой интересной, пытался сообразить, как бы еще призвать к себе машину, уже не чувствуя в себе сил добраться до нее сам, – и тогда из-за снегов возникла она. Невысокая фигура в ржаво-красном космическом костюме, такая яркая посреди белой бури с горизонтально летящим снегом и ветром, таким громким, что даже звуки из микрофона внутренней связи в его скафандре казались не более чем шепотом. «Хироко?!» – вскричал он, увидев ее лицо сквозь заляпанное грязью забрало. Она ответила: «Да» – и, вытащив его за запястье, помогла подняться. Ее рука на его запястье! Он даже сейчас ее чувствовал. И он пошел за ней, словно ощущая саму viriditas, зеленую силу, что струилась по его телу, заглушая белый шум и атмосферные помехи. Ее рука отдавала тепло, а крепкая хватка сжимала его, как при повышенном давлении. Да. Хироко была там. Она отвела его к машине, спасла ему жизнь, а затем исчезла снова. И как бы ни был Десмонд уверен в ее смерти в Сабиси, какими бы убедительными ни казались его доводы, как бы часто измученным скалолазам ни мерещились другие скалолазы – Сакс знал лучше их всех, потому что чувствовал ее руку, помнил тот ее визит – самой Хироко, настоящей, во плоти. Живой! Так что Сакс мог быть уверен в своем знании – среди всего потока необъяснимого этот факт был неопровержим. Хироко была жива. Факт служил точкой отсчета, двигаясь от которой можно было обрести радость на всю жизнь. И, пожалуй, даже убедить Десмонда, принести ему успокоение.
Вновь оказавшись на улице, он стал искать Койота. Это никогда не было простой задачей. Что мог Десмонд помнить об Андерхилле? Как скрывался, разговаривал шепотом, пропал вместе с группой фермеров, затем оказался в тайной колонии. Он объездил весь Марс на замаскированных под валуны машинах, был любим Хироко, летал по ночам на малозаметном самолете, жил в «полусвете», служил связующим звеном для всего подполья – Сакс, наверное, мог бы вспомнить это и без лекарства: такими яркими были эти воспоминания. Все их истории передавались между ними телепатически – их было сто в квадрате. Нет, слишком много. Даже просто представить себе реальность другого было достаточно, чтобы считать это такой телепатией, которая кому-либо была нужна и которую можно было освоить.
Но куда запропастился Койот? Это безнадежно. Найти Койота было нельзя – можно было лишь ждать, пока он сам найдет того, кто его ищет. Он объявлялся только тогда, когда сам того хотел. Сакс удалился на северо-запад от пирамид и Алхимического квартала, где находился древний остов посадочного модуля, похоже, сброшенный еще до их прибытия: с его металлических поверхностей уже сошла краска, и они покрылись соляной коркой. Начало их надежд – теперь оно стало лишь старым металлическим остовом и ничего особенного из себя не представляло. Этот экземпляр им помогала распаковывать сама Хироко.
В Алхимическом квартале все оборудование в старых зданиях прекратило работу и безнадежно устарело – все, включая умнейший процессор Сабатье. Он любил наблюдать за тем, как эта штуковина работала. Однажды Надя починила ее, когда все остальные были сбиты с толку, – маленькая полная женщина, бубнящая себе под нос какую-то мелодию, погруженная в свой мир. Это было время, когда машины еще можно было понять, и Надя с удовольствием с ними общалась. Слава богу, что она у них была и играла роль якоря, который удерживал их в реальности, и человека, на которого они всегда могли положиться. Ему захотелось обнять ее, свою любимую сестру, которая, как оказалось, была недалеко – в автопарке, где пыталась завести музейный бульдозер.
Но на горизонте возникла другая фигура – Энн. Она шла на запад по небольшому возвышению. Неужели она обошла по кругу весь горизонт? Он побежал в ее сторону, спотыкаясь, точь-в-точь как в первую неделю на Марсе. Когда догнал ее, остановился, переводя дыхание.
– Энн? Энн?
Она обернулась, и он увидел на ее лице инстинктивный страх, как у загнанного зверя. Он был хищником, от которого нужно было бежать, – вот кем он был для нее.
– Я ошибался, – проговорил он, встав перед ней. Они могли свободно говорить на этом воздухе. Воздухе, что он создал ей наперекор. Хотя он и теперь оставался разреженным, отчего было трудно дышать. – Я не замечал… этой красоты, пока не стало слишком поздно. Прости меня. Прости. Прости. Прости.
О, он пытался сказать это и раньше, в машине Мишеля, во время наводнения, в Зиготе, в Земле Темпе – но никогда не получалось. Энн и Марс были словно одним целым – но у него не было извинений для Марса: закаты были прекрасны, и небо каждую минуту меняло свой оттенок, а голубой цвет говорил об их силе и ответственности, об их месте в космосе и властвовании в нем человечества, такого маленького, но значительного. Они принесли на Марс жизнь, и это было хорошо – тут он не сомневался.
Но перед Энн ему следовало извиниться. Годами он в своем миссионерском запале пытался… заставить ее согласиться, охотился на диких зверей ее отрицания, жаждал их истребить. Извиниться за то, извиниться за се… Его лицо намокло от слез, и она так на него посмотрела… точно, как тогда, на холодной скале в Антарктике, в момент первого своего отрицания. Воспоминание об этом все это время покоилось внутри Сакса, а теперь вернулось вновь. Его прошлое.
– Ты помнишь? – спросил он ее с любопытством, увлекшись этой новой мыслью. – Мы с тобой вышли на смотровую площадку… в смысле, сразу друг за другом… чтобы там встретиться, поговорить наедине. То есть вышли мы отдельно – ты же помнишь, как тогда было: та русская парочка рассорилась, и их отправили домой, а мы потом прятались от отборочного комитета везде, где только можно было.
Он рассмеялся, слегка подавившись, представил их крайне безрассудное начало отношений. Как оно было уместно! Как все, что случалось между ними потом, вязалось с таким началом! Попав на Марс, они повторили все, что было до этого, просто прошлись по тому же шаблону.
– Когда мы там сидели, я думал, у нас все склеится, и взял твою руку, но ты ее убрала – тебе это не понравилось. Я это почувствовал, очень явно почувствовал. Мы вернулись по отдельности и с тех пор уже так не общались, как раньше, никогда. А потом я, кажется, стал терзать тебя всем этим, и я думал, это из-за… – он махнул рукой на голубое небо.
– Я помню, – проговорила она и искоса взглянула на него.
Это его потрясало, ведь такое еще никому не удавалось. Никто не мог сказать любви своей молодости: «Я помню», словно чувство так и не угасло. Но она стояла перед ним и изумленно смотрела на него.
– Да, – подтвердила она. – Но все было не так. – Она сдвинула брови. – Ты тут ни при чем. В смысле я положила руку тебе на плечо, ты мне нравился, казалось, мы могли стать… но ты аж подскочил! Ха, да ты подскочил так, будто я ткнула тебя электропогонялкой! Со статическим электричеством там было плохо, но тем не менее… – она язвительно усмехнулась. – Нет, ты просто таким был. Ты не… я поняла, что это просто не твое. И не мое тоже! Как раз поэтому, как я думала, у нас и должно было получиться. Но не получилось. А потом я об этом забыла.
– Нет, – сказал Сакс.
Он потряс головой, словно в примитивной попытке вспомнить свою мысль. В театре своего сознания он по-прежнему видел то неловкое мгновение на смотровой площадке, очень четко, почти один в один. «Чистый выигрыш», – говорил он, пытаясь объяснить цель науки, а она ответила: «Но ради нее тебе придется полностью уничтожить лицо планеты». И он это запомнил.
Но Энн смотрела так, будто вспоминала тот день, смотрела, как человек, прекрасно владеющий своим прошлым, живущий с ним. Она отчетливо помнила те события, и все же ее воспоминания чем-то отличались от его. Выходит, один из них ошибался? Да?
– Неужели… – начал он, но был вынужден замолчать и попробовать снова: – Неужели может быть так, что мы, двое таких неловких людей, как мы, могли выйти вместе и… собираясь… раскрыться…
Энн рассмеялась.
– Еще и оба ушли, чувствуя себя отвергнуты другим. – И рассмеялась еще раз. – Ну да!
Сакс тоже смеялся. Они вместе смеялись, подняв лица к небу.
Но затем Сакс тряхнул головой, ощутив резкую горечь. Что бы ни случилось – это было в прошлом. Теперь уже этого не узнать. Даже после того, как воспоминания хлынули фонтаном, словно при залповом выбросе подземных вод, все равно нельзя было точно сказать, что на самом деле произошло.
И от этого по нему внезапно пробежал холодок. Если этим всплывающим воспоминаниям нельзя было доверять, если даже такие важные, как это, подвергались сомнению – то что было думать об остальных – о Хироко, которая в бурю отвела его в машину, сжав запястье… Неужели и это… Нет! Он чувствовал ее руку. Но ведь Энн отдернула от него руку, соматическая память была реальной, как физические события, которые на протяжении всей жизни откладывались в памяти его тела. Это воспоминание не могло не быть правдой. Они оба не могли.
Так в чем же дело?
В том, что это прошлое. Оно было и его не было. Вся его жизнь. Если не существовало никакой реальности, кроме настоящего момента – сменяющего одну постоянную Планка за другой и служившего невообразимо тонкой мембраной между прошлым и будущим, то чем, собственно, была его жизнь, такая тонкая, лишенная осязаемого прошлого и будущего? Цветной вспышкой? Нитью, потерянной в процессе размышления? Реальность была настолько мала, что ее едва удавалось ощутить. Неужели им даже не за что ухватиться?
Он попытался об этом сказать, но стал запинаться и умолк.
– Ну, – начала Энн, по-видимому сумевшая его понять. – По крайней мере, мы что-то помним. То есть мы согласны в том, что мы с тобой туда ходили. Что-то себе надумали, но ничего не вышло. Случилось нечто, чего мы в тот момент не поняли, поэтому не удивительно, что мы не смогли как следует это запомнить и теперь вспоминаем по-разному. Чтобы что-то запомнить, нужно это понять.
– Правда?
– Думаю, да. По этой же причине двухлетние дети не запоминают того, что происходит вокруг. Они прекрасно все чувствуют, но ничего не запоминают, потому что не понимают должным образом.
– Наверное.
Он не был уверен, что память работает именно так. Воспоминания раннего детства состояли из эйдетических образов, как экспонированные фотопластинки. Но если она была права, то, пожалуй, и все нормально: ведь он положительно знал, что Хироко являлась к нему в бурю, и ощущал ее руку на своем запястье. В тот вечер бушующей стихии он прочувствовал это всем сердцем…
Энн шагнула вперед и обняла его. Он повернулся к ней щекой, прижавшись ухом к ее ключице. Она была высокой. Он ощущал близость ее тела, крепко обнял в ответ. «Ты этого никогда не забудешь», – подумал он. Она отодвинулась назад и взяла его плечи.
– Это просто такое прошлое, – сказала она. – Думаю, оно не объясняет, что произошло между нами на Марсе. Это уже совсем другое.
– Наверное.
– Мы во многом не соглашались друг с другом, но у нас были общие… общие понятия. Для нас имели ценность одни и те же вещи. Помню, ты как-то старался, чтобы я почувствовала себя лучше – во время наводнения, когда мы ехали в машине-валуне.
– И ты мне помогла – когда Майя на меня кричала, после того как погиб Фрэнк.
– Да, – согласилась она, вспомнив. До чего же сильны были их воспоминания в эти удивительные часы! Та машина стала для них настоящим горнилом, в котором они все претерпели изменения, каждый по-своему. – Вроде бы да. Это было несправедливо: ты просто пытался ей помочь. И ты тогда так смотрел…
Они стояли и глядели на скопление приземистых сооружений, составлявших Андерхилл.
– И вот мы здесь, – наконец проговорил Сакс.
– Да, вот мы здесь.
Неловкое мгновение. Затем еще одно. Когда живешь с кем-то, такое случается раз за разом. К этому нужно было как-то привыкнуть. Он отступил назад. Протянул руку и взялся за ее кисть, крепко сжал. Затем отпустил. Она сказала, что хочет прогуляться к Надиной аркаде, по нетронутым дебрям западной части Андерхилла. Она испытывала такой сильный прилив воспоминаний, что не могла сосредоточиться на настоящем. Ей нужно было пройтись.
Он ее понимал. И она ушла, помахав ему рукой. Помахав рукой! И он увидел Койота – тот находился возле соляных пирамид, освещенный предвечерним светом. Ощутив марсианскую гравитацию – впервые за несколько десятилетий, – Сакс вприпрыжку двинулся к этому маленькому человечку. Единственному из первой сотни, кто ростом был ниже самого Сакса. К своему боевому товарищу.
Тут и там натыкаясь на события всей своей жизни, ввергаясь от них в шок на каждом шагу, было весьма непросто сосредоточиться на асимметричном лице Койота, с множеством, как у Деймоса, граней. Но оно находилось прямо перед Саксом – вибрируя и будто бы плавно сменяя свои же очертания из прошлого. Неизвестно еще, каким выглядел Сакс в глазах других или что бы он увидел в зеркале, – мысль об этом туманила голову, ему даже стало интересно проверить, может быть, посмотрев в зеркало, он вспомнил бы что-нибудь из своей юности, и его внешний вид тоже бы исказился.
Десмонд, выходец с острова Тобаго и потомок индусов, говорил что-то невразумительное, что-то об азотном опьянении, и было неясно – описывал ли он ощущения от процедуры или какой-то случай в море, произошедший с ним в молодости. Саксу не терпелось обрадовать его тем, что Хироко жива, но, едва раскрыв рот, чтобы это сказать, он остановился. Десмонд выглядел таким счастливым; он бы ему не поверил. Это лишь расстроило бы его. Знание, добытое из опыта, не всегда переводилось в знание, полученное в результате анализа. Это было печально, но ничего не попишешь. Десмонд не поверил бы ему потому, что не ощущал ее руки на своем запястье. Да и почему он вообще должен ему верить?
Двинувшись в сторону Чернобыля, они стали говорить об Аркадии и Спенсере.
– Мы стареем, – сказал Сакс.
Десмонд гикнул. Его смех по-прежнему казался пугающим, но все же был таким заразительным, что не сдержался и Сакс.
– Стареем? Только и всего?
А увидев маленький реактор Риковера, они и вовсе чуть не покатились со смеху. Они чувствовали себя одновременно и жалкими, и отважными, и недалекими, и смышлеными. Их лимбические системы до сих пор были перегружены – Сакс заметил это по тому, как в них бушевали все эмоции сразу. Все прошлое прояснялось все отчетливее, каждое событие несло свой уникальный эмоциональный заряд, и сейчас они выстреливали синхронно, в полную свою силу. Может, даже полнее, чем… что? разум? душа?.. полнее, чем могли вместить. Бьющие через край – вот какими они ощущались.
– Десмонд, у меня уже через край бьет.
Десмонд рассмеялся еще сильнее.
За свою жизнь Сакс испытал слишком многое, чтобы ощутить теперь это все одновременно. Только что это было за ощущение? Лимбический гул, завывание ветра среди высокогорных сосен, спальный мешок ночью в Скалистых горах, ветер, пробивающийся сквозь хвойные иголки… Очень интересно. Возможно, это было действие лекарства, которое должно скоро пройти, хотя он надеялся, что некоторые из его эффектов останутся. И кто мог знать, как было с этим ощущением и не являлось ли оно неотъемлемой частью всего лечения? Получалось, что если человек помнил свое прошлое и оно было очень продолжительным, то он обязательно должен был прочувствовать его в полной мере, до самого предела насытиться переживаниями и эмоциями. Могло же такое быть? Или, может быть, все так и будет казаться более острым, чем было приемлемо, может, он непредумышленно превратил их всех в невыносимых сентименталистов, которые приходили бы в отчаяние, наступив на муравья, и рыдали от восторга, увидев закат. Это было бы несчастьем. Все имело свою меру, которую не следовало превышать. Сакс на самом деле всегда верил, что амплитуду эмоциональных реакций большинства людей можно было слегка уменьшить, не особо потеряв в человечности. Конечно, для этого нельзя было сознательно пытаться заглушить свои эмоции – это стало бы подавлением, сублимацией и в итоге привело бы к перенапряжению. Любопытно, насколько полезной оставалась модель человеческого разума, представленного Фрейдом в виде парового котла, где происходило сначала сжатие, а потом выход пара. Это был целый аппарат – будто мозг был разработан самим Джеймсом Уаттом. Но были полезными и редуктивные модели – они лежали в самом сердце науки. И Саксу сейчас нужно было спустить пар, собравшийся за очень долгое время.
И они с Десмондом обошли вокруг Чернобыля, пошвыряли в него камнями, смеясь и вываливая друг другу потоки своих мыслей, не как при обычном разговоре, а одновременно, будто были глубоко ими поглощены. Получалась явно нарушенная, но вполне дружеская беседа. Они словно успокаивались, слыша, что собеседник тоже пребывает в замешательстве. Вместе с тем Саксу доставляло удовольствие находиться рядом с этим человеком, который, имея столько отличий от него, лепетал сейчас, как и он, что-то о школе, о снегах северного полярного региона, о парках в «Аресе». Все-таки они были так похожи!
– Мы все проходим через одно и то же.
– Правда! Правда!
Даже странно, что это обстоятельство так слабо влияло на человеческое поведение.
Наконец, они вернулись к парку трейлеров и, проходя по нему, замедлили шаг, затягиваемые густеющей паутиной, сплетенной из ассоциаций прошлого. День близился к закату. Остальные слонялись по сводчатым отсекам, готовясь к ужину. Большинство целый день пребывало в такой рассеянности, что им было не до еды, а лекарство, как выяснилось, несколько подавляло аппетит. Но к вечеру все проголодались. Майя приготовила большую кастрюлю картофельного рагу. Борщ? Буйабес? Она также предусмотрительно включила с утра хлебопечку, и теперь теплый воздух отсеков наполнился запахом с дрожжевым привкусом.
Они собрались в просторном сдвоенном помещении в юго-западном углу – в том самом, где когда-то, на начальном этапе терраформирования, между Саксом и Энн возникли те знаменитые прения. Теперь он надеялся, что она не вспомнит об этом, когда войдет туда. Но на небольшом экране в углу проигрывалась запись того дня. Просто прекрасно. Она, наверное, прибудет вскоре после заката, как делала это раньше, – и такое постоянство было приятным для всех. Так они могли сказать: «И вот мы здесь», – хотя их собралось намного меньше прежнего, в остальном все было по-старому. Обычная ночь в Андерхилле. Разговоры о работе, о разных местах… еда… те же знакомые лица. Казалось, Аркадий, Джон или Татьяна могли войти в любую минуту – прямо как заявившаяся сейчас Энн, как раз вовремя. Они притопывала, чтобы разогреть ступни, и не обращала внимания на других – все как обычно.
Но затем подошла и села рядом с Саксом. Как всегда молча съела свою порцию – это было провансальское рагу, которое раньше готовил Мишель. Но другие лишь изумленно смотрели на происходящее. У Нади на лице выступили слезы. Непроходящая сентиментальность – это могло стать проблемой.
Позднее, под звон посуды и голосов, когда, казалось, все говорили в одночасье, Сакс вдруг почувствовал, что способен понимать их всех сразу, даже в процессе разговора. И в этом шуме Энн наклонилась к нему и сказала:
– Куда поедешь после всего этого?
– Ну… – начал он, внезапно снова занервничав, – ребята из Да Винчи звали меня… звали… звали… поплавать. Испытать новую лодку, которое построили для меня, для моих… моих… плаваний. Парусник. В залив Хриса.
– А-а.
Несмотря на весь окружающий шум, ее молчание ужасно его напрягло.
– Можно с тобой?
Его лицо вспыхнуло, капилляры налились кровью, это было очень необычно. Но он помнил, что должен ответить:
– О да!
А потом все просто сидели, думали, разговаривали, вспоминали. Попивали чай, что приготовила Майя. Та с довольным видом за всеми ухаживала. Много позже, уже глубокой ночью, когда почти все либо сидели развалившись на стульях, либо ссутулились над обогревателем, Сакс решил выйти в парк трейлеров, где они провели свои первые месяцы на Марсе. Просто посмотреть.
Надя была уже там – она лежала на одном из матрацев. Сакс стянул еще один со стены; да, это был его старый матрац. А затем там появилась Майя и, наконец, все остальные – они вытаскивали сюда друг друга. Им пришлось рассказать об этом месте испуганному Десмонду, которого посадили на матрац посередине. А сами сгрудились вокруг – одни на своих старых местах, другие, кто раньше спал в других трейлерах, заняли места тех, кого больше не было. Теперь они все с легкостью поместились в одном трейлере. И где-то посреди ночи они, разлегшись, медленно соскользнули в беспокойный сон. Все засыпали в своих ложах, и это тоже было одним из воспоминаний, сонных и теплых. Они всегда так себя чувствовали: приняв ванну с друзьями, утомленные ежедневной работой, такой увлекательной работой – строительством города и целого мира. Сон, память, сон, тело… Проникаясь этим моментом, они видели сны.
Они вышли из Флорентина ветреным безоблачным днем – Энн у штурвала и Сакс по правому крамболу изящного нового двухкорпусного судна, где проверял крепление якоря. От того так несло анаэробной грязью со дна, что Сакс, заинтересовавшись, высунулся через борт и попытался увидеть образцы этой грязи с помощью увеличительного стекла на своей наручной консоли – там находилось множество мертвых водорослей и прочих организмов, обитающих на дне. Он задумался, было ли это типично для всего дна Северного моря, только для залива Хриса, для Флорентина или вообще для мелководий…
– Сакс, вернись сюда, – сказала Энн. – Ты из нас единственный, кто знает, как управлять судном.
– Уже-уже.
Хотя на самом деле искин мог сам все сделать лишь по самой общей команде. Например, можно было сказать: «Плыви на Родос» – и больше ничего не делать целую неделю. Но он полюбил чувствовать румпель в своих руках. Поэтому он оставил грязь с якоря до следующего раза и прошел в широкую кабину, низко подвешенную между двумя узкими корпусами.
– Смотри, Да Винчи сейчас опустится за горизонт.
– Да, вот-вот.
Над водой оставались видны лишь внешние очертания края кратера, составлявшего собой остров Да Винчи, хотя они находились не более чем в двадцати километрах от их судна. Но так часто случалось на маленькой планете.
Плыли они очень быстро, скользя по воде, когда ветер поднимался выше пятидесяти километров в час. Корпусы имели под водой кили, которые выдвигались и принимали различные формы, что, вкупе со скользящими противовесами в распорках, не позволяло корпусу, находившемуся с наветренной стороны, оторваться от воды, а тому, что с подветренной, – не опускаться слишком глубоко. Так что даже при умеренном ветре и раскрытом парусе лодка скользила вперед, словно буер, лишь чуть-чуть медленнее самого ветра. Оглядываясь за корму, Сакс видел, что лишь малая часть поверхности корпуса соприкасалась с водой, и, казалось, только штурвал и кили не давали им совсем подняться в воздух. Он также проследил, как остров Да Винчи окончательно скрылся из виду за зазубренным горизонтом километрах в четырех от них. Затем взглянул на Энн: она вцепилась в борт, глядя на ярко-белые следы, тянувшиеся за ними по воде.
– Ты уже бывала на море? – спросил Сакс, имея в виду, отплывала ли она так далеко от земли, что ее не было видно.
– Нет.
– А-а.
Продвигаясь на север, они вышли из залива Хриса. Справа над водой показался остров Коперника, а за ним – остров Галилея. Затем оба вновь ушли за горизонт. Но возвышенности вдалеке были различимы, и сам горизонт имел вид не ровной голубой линии, а скорее непостоянного множества каких-то вершин, быстро сменяющих друг друга. С севера накатывали донные волны, почти прямо на них, и, если смотреть за борт, горизонт казался волнистой линией голубой воды под голубым же небом, ограничивавшей совсем небольшое пространство вокруг их судна, – видимо, по-земному далекое расстояние до горизонта так упрямо засело в мозгу, что при виде марсианского горизонта всегда казалось, что планета чересчур мала.
Судя по лицу Энн, это явно казалось ей чрезвычайно неприятным. Она зло смотрела на волны, одна за другой поднимавшие сначала нос, а затем корму их судна. Поперек донных волн накатывали другие, почти под прямым углом, гонимые западным ветром и собирающиеся еще более крупными и широкими. Физика волнового бассейна была здесь видна как на ладони, и это напомнило Саксу о физической лаборатории на втором этаже северо-восточного здания его школы, где возле маленького, полного чудес бассейна часы проносились как минуты. Донные волны возникали благодаря постоянному движению Северного моря на восток, и их мощь зависела от направленности местных ветров, которые либо подгоняли их, либо препятствовали им. Легкая гравитация создавала большие и широкие волны, быстро образующиеся при сильном ветре; если бы, например, в этот день ветер дул сильнее, то поперечные волны с запада быстро бы превзошли донные, идущие с севера, и быстро бы их подавили. Волны в Северном море были широко известны благодаря своим размерам и непостоянству, а также всяким неожиданностям, возникающим в результате искусственных изменений, хотя они при этом были достаточно медленными. Это были крупные, неповоротливо мигрирующие по планете холмы, напоминавшие те гигантские дюны Великой Северной равнины, что лежала глубоко под ними. Бывало, они становились по-настоящему крупными: сообщалось, что после того, как над морем проходили тайфуны, их высота достигала семидесяти метров.
Энн, которая выглядела немного напряженной, хватало и поперечных волн. Сакс не знал, что ей сказать. Он сомневался, что в данном случае подойдут его рассуждения о механике волн, хотя это, конечно, было довольно увлекательно и понравилось бы всякому, кто интересовался физикой. Как Энн. Но, пожалуй, не сейчас. Сейчас ей вполне было достаточно ощущения воды, ветра и неба. По-видимому, лучше всего ему просто помолчать.
На некоторых из поперечных волн стали появляться пенистые гребни, и Сакс тут же проверил на метеосистеме судна, с какой скоростью дул ветер. Та показывала тридцать два километра в час. Примерно при такой скорости вершины волны обычно начинали опрокидываться. В принципе, это возникало из-за обычного поверхностного натяжения, которое можно вполне было рассчитать… Да, из соответствующего уравнения гидродинамики следовало, что они должны начать разрушаться при тридцати пяти километрах в час и вот: гребни, поразительно белые на фоне темной воды – цвета прусской синей лазури, как предположил Сакс. Небо в этот день было почти голубым, с легким фиолетовым оттенком в зените и немного более светлым ближе к солнцу, а между солнцем и горизонтом – и с металлическим блеском.
– Ты что делаешь? – спросила Энн раздраженно.
Сакс объяснил, а она выслушала его в каменном молчании. Он не знал, что она об этом думала. Некоторая необъяснимость, которая всегда присутствовала в мире, его самого только успокаивала. Но Энн… впрочем, это могла быть всего лишь морская болезнь. Или что-то из ее прошлого, что не давало покоя, – даже спустя несколько недель после эксперимента в Андерхилле Сакс часто замечал, что его беспокоили какие-то воспоминания, сами собой всплывающие из их общей массы. Непроизвольная память. А в случае Энн это могло включать разного рода неприятные моменты – Мишель говорил, что над ней издевались в детстве. Саксу до сих пор было трудно в это поверить. На Земле мужчины плохо обращались с женщинами, но на Марсе такого не было. Не было? Наверняка Сакс не знал, но ему казалось, что не было. Ему хотелось верить, что они жили в справедливом и рациональном обществе, которое стало на Марсе одной из важнейших ценностей. Энн, может быть, знала больше о текущей действительности, но ему неудобно спрашивать ее об этом. Расспросы явно не привели бы ни к чему хорошему.
– Ты так притих, что аж страшно, – сказала она.
– Наслаждаюсь видом, – быстро отозвался он. Наверное, ему все-таки стоило рассказать о механике волн. Он объяснил ей, как устроены донные и поперечные волны и какие положительные и отрицательные интерферограммы могли возникать в результате их столкновения. А потом спросил:
– Ты много вспомнила о Земле после нашего эксперимента?
– Нет.
– А-а.
Вероятно, это было некое подавление воспоминаний, явно противоположное методу психотерапии, который порекомендовал бы Мишель. Но они же не были паровыми котлами. А некоторые вещи, без сомнения, лучше было и не вспоминать. Например, ему теперь нужно постараться снова забыть смерть Джона, но вспомнить что-нибудь из той жизни, когда он, Сакс, принимал более активное участие в общественной жизни – как в годы работы в «Биотике», когда жил в Берроузе. И сейчас в кабине напротив него сидела Контр-Энн или та третья женщина, о которой она упоминала, а сам он был – во всяком случае отчасти – Стивеном Линдхольмом. Они были незнакомцами – несмотря на свою удивительную встречу в Андерхилле. А может, и благодаря ей. «Привет! Приятно познакомиться».
Когда они выбрались из окружения фьордов и островов залива Хриса, Сакс повернул румпель, и лодка устремилась на северо-восток, наперекор ветру и гребням волн. Вскоре ветер оказался у них за спиной, и тогда парус превратился в нечто вроде спинакера с расширенными крыльями, а корпуса судна понеслись по пенистым гребням с огромной скоростью. Перед ними возникло восточное побережье залива – оно имело не столь захватывающий вид, как западное, но было во многих отношениях приятнее. Здания, башни, мосты – здесь проживало немало людей, что теперь вообще характерно для большинства берегов. А спустившись с Олимпа, можно было и вовсе испытать шок при виде городов.
Пройдя широкое устье фьорда Ареса, над горизонтом возник Сучжоу-Пойнт, а за ним острова Оксия – сначала один, потом второй. До того, как это место затопило водой, они назывались холмами Оксия и представляли собой ряд округлых возвышенностей, чья высота оказалась как раз подходящей, чтобы образовать архипелаг. Сакс направил судно в узкий проход между этими островами, каждый из которых выглядел низким и круглым коричневым бугром, на сорок-пятьдесят метров возвышающимся над водой. Бо́льшая их часть оставалась незаселенной – если, конечно, не считать коз. Но на более крупных островах, особенно тех, что были изогнуты и имели бухты, камнями с холмов выкладывали стены, которые делили склоны на поля и пастбища. Такие острова были орошаемы и потому зеленели фруктовыми садами или полями, где паслись белые овцы или карликовые коровы. На судовой карте эти острова обозначались как Кипини, Ваху, Вабаш, Наукан и Либертад – Энн, прочитав названия, фыркнула.
– Это названия кратеров в середине залива, они сейчас под водой.
– А-а.
Но острова все-таки смотрелись красиво. Строения в рыбацких деревнях, что располагались в бухтах, были побелены, с голубыми ставнями и дверьми – очередная эгейская модель. И действительно, на одном высоком обрыве стоял небольшой дорический храм, прямоугольной формы и величавого вида. В бухтах под ним плавали маленькие рыбацкие шлюпки, весельные лодки и плоскодонки. Минуя их, Сакс указал на высившуюся на холме ветряную мельницу, потом на пастбище для лам.
– А здесь, должно быть, очень мило живется.
Затем они заговорили об уроженцах, непринужденно и без какого-либо скрытого напряжения. О Зо, о диких и их чудно́м охотничье-собирательском образе жизни, о кочевниках-земледельцах, переходящих от участка к участку, будто трудовые мигранты, работавшие на фермах, о смешении всех этих явлений, о новых поселениях землян, появляющихся тут и там, о росте числа прибрежных городов. В середине залива они заметили один из новых кораблей-городов – плавучий остров с населением в несколько тысяч человек. Он был слишком велик, чтобы пройти через архипелаг Оксия, и, судя по всему, направлялся поперек залива либо в Нилокерас, либо к южным фьордам. Поскольку по всему Марсу территория становилась все более обитаемой и возможность ее заселения все жестче ограничивалась судом, все больше людей меняли место жительства на Северное море, для чего строили такие корабли, которые затем служили им постоянными домами.
– Давай туда наведаемся, – предложила Энн. – Можно?
– Не вижу, почему нет, – ответил Сакс, удивленный ее просьбой. – И уж точно мы сможем его нагнать.
Повернув на юго-запад в сторону корабля, он прибавил скорости и вовсю расправил парус, чтобы впечатлить мореходов. Менее чем через час они достигли широкого борта корабля, бывшего, по сути, закругленным обрывом в два километра шириной и пятидесяти метров в высоту. В доке над самой ватерлинией имелась секция, которая могла подниматься, как открытый лифт. Зайдя в док и привязав судно, они взобрались на эту огороженную секцию, и их подняли на палубу.
Ее ширина почти не уступала длине, а центральную часть занимала ферма, где росло множество небольших деревьев, из-за чего трудно было разглядеть, что находилось на другой стороне. Но кое-что они увидели и потому догадались, что по форме палуба представляла собой что-то вроде прямоугольной улицы или аркады, по обе стороны которой располагались здания высотой от двух до четырех этажей, причем на тех, что стояли вдоль периметра, возвышались мачты и ветряные мельницы, а те, что находились во внутреннем ряду, выходили к паркам и площадям, которые, в свою очередь, вели к садам и огородам в теплицах и просторному пресноводному бассейну. Плавучий город, чем-то напоминающий город-крепость в Тоскане эпохи Возрождения, только здесь все выглядело исключительно аккуратным и правильным.
На площади, выходящей к доку, их приветствовала небольшая группа местных жителей, которые, узнав, кем были их гости, пришли в восторг и настояли, чтобы те с ними отобедали. Часть из них устроила им экскурсию по периметру корабля «или на столько, сколько вы захотите обойти, потому что это может быть довольно большая прогулка».
Это был еще небольшой корабль-город, как им сказали. С населением в пять тысяч человек. Зато со времени своего основания он уже себя практически окупил.
– Бо́льшую часть своей еды мы сами и выращиваем, а остальную – ловим в море. Сейчас, правда, возникают споры с другими кораблями из-за перелова некоторых видов рыбы. Мы ловим долговечные поликультуры, выращиваем новые сорта кукурузы, подсолнечника, сои, морской сливы и прочих растений, и все это делают роботы, потому что это тяжелый труд. У нас, наконец, появилась технология, которая позволяет переложить подобную работу на них. Еще у нас здесь налажены различные домашние производства. Есть винные дома – видите, там виноградники, а вон там стоит оборудование, и есть перегонные аппараты, на которых делают бренди. Здесь уже работают вручную. Еще у нас производят полупроводники специального назначения, есть знаменитый веломагазин.
– Бо́льшую часть времени мы плаваем по Северному морю. Иногда бывают действительно сильные бури, но наш корабль настолько велик, что мы в это время просто стоим на якоре без особых трудностей. Большинство из нас прожило здесь все десять лет, с тех пор как корабль спустили на воду. Жить здесь одно удовольствие. Тут есть все, что нужно. Хотя выходить время от времени на берег – тоже очень здорово. Мы стоим в Нилокерасе каждую Ls=0°, когда там проходит весенний фестиваль. Продаем там свою продукцию, пополняем запасы и гуляем ночь напролет. А потом снова выходим в море.
– И не используем для себя ничего, кроме ветра, солнечного света и некоторого количества рыбы. Природоохранные суды нас любят и понимают, что мы минимально воздействуем на окружающую среду. Население региона Северного моря могло быть еще больше, если бы все оставалось на побережье. Сейчас-то по нему плавают сотни кораблей-городов.
– Тысячи. А прибрежные города, где есть верфи, и порты, куда мы заходим по делам, очень неплохо себя чувствуют.
– Так вы думаете, такая жизнь – это один из путей справиться с перенаселением Земли? – спросила Энн.
– Да, думаем. Один из лучших путей. Океан-то большой и может вместить еще больше таких кораблей.
– Если они не будут сильно налегать на рыбу.
Они пошли дальше, и Сакс заметил Энн:
– Вот тебе еще одна причина, по которой не нужно заострять кризис, который возникает из-за иммигрантов.
Энн не ответила. Она лишь смотрела вниз на сверкающую на солнце воду, а затем подняла взгляд на одну из пары дюжин мачт, на каждой из которых было по одному косому парусу. Город походил на айсберг с плоской вершиной, чью поверхность целиком занимала земля. Плавучий остров.
– Как же много теперь у нас всяких кочевников, – проговорил Сакс. – Кажется, только малая часть уроженцев селится на одном месте.
– Не то что мы.
– Согласен. Но мне интересно, означает ли это то, что они склонны к определенной «красноватости». Если ты понимаешь, что я имею в виду.
– Не понимаю.
Сакс попытался объяснить.
– Мне кажется, кочевники в целом склонны извлекать пользу из земли, на которую набредают. Они переходят с места на место из сезона в сезон, питаясь теми растениями, что находят. А морские кочевники – тем более, учитывая, что море невосприимчиво к большинству попыток людей его изменить.
– Не считая того, что они пытаются регулировать его уровень и содержание соли. Ты об этом слыхал?
– Да. Но полагаю, в этом они не добились особого успеха. Механизм образования солей по-прежнему слабо изучен.
– Но если у них получится, это убьет множество пресноводных видов.
– Да, зато те, что обитают в соленой воде, будут довольны.
Они пересекли центральную часть корабля, направившись к площади, что находилась над доком. Миновали длинные ряды виноградников, где лозы были обрезаны до Т-образной формы и достигали высоты пояса, а сплетенные горизонтальные их части тяжелели от гроздей цветов индиго и виридина. За виноградом начинался участок смешанных растений, напоминающий прерию, по которой тянулись узкие тропы.
В ресторане, выходящем на площадь, их угостили пастой с креветками. Повсюду слышались разговоры. Но затем кто-то выбежал из кухни, показывая на консоль: в новостях сообщили о беспорядках на космическом лифте. Войска ООН, которые собирали часть таможенной пошлины на Нью-Кларке, захватили всю станцию и выгнали с нее марсианскую полицию, обвинив ее в коррупции и провозгласив, что ООН теперь сама будет управлять верхним концом лифта. Совет Безопасности ООН заявил, что их местные офицеры превысили свои полномочия, но при этом не позвал марсиан обратно на провод.
– Вот тебе на! – воскликнул он. – Боюсь, Майя сильно рассердится.
Энн возмутилась:
– Как по мне, настроение Майи сейчас не самое важное.
Она выглядела потрясенной и впервые с того момента, как Сакс нашел ее в кальдере Олимпа, была всецело вовлечена в текущую ситуацию, прежняя отстраненность исчезла. Сакс больше удивлялся переменам, произошедшим с Энн, чем происшествию на станции космического лифта. Однако даже мореходы пришли в заметное волнение, хотя до этого они, подобно Энн, казались довольно далекими от всего, что происходило на суше. Сакс видел, что новость прервала все разговоры в ресторане и перенесла их все в одно пространство: переворот, кризис, угроза войны. В голосах звучало неверие, на лицах отражался гнев.
Те, кто сидел с Саксом и Энн за столом, смотрели на них, желая понять их реакцию.
– Вы должны что-то с этим сделать, – заметил один из их проводников.
– Почему это мы? – раздраженно спросила Энн. – Это вы должны что-то сделать, как я думаю. Это вам теперь надо действовать. А мы всего лишь пара старых иссеев.
Их спутники изумились и не знали, что на это отвечать. Один рассмеялся.
– Это не так. Но вы правы, мы будем следить и обсудим с другими кораблями-городами, как действовать. Свою часть мы выполним. Но я просто хотел сказать, что люди будут смотреть на вас, на вас обоих, следить за тем, что вы сделаете. Для нас это очевидно.
Энн ничего на это не ответила. Сакс вернулся к своей трапезе, интенсивно размышляя. И осознал, что ему хотелось поговорить с Майей.
Вечер тянулся дальше, солнце садилось. В оставшуюся часть ужина они старались вести себя, как обычно. Сакс сдерживал ухмылку: межпланетный кризис мог случиться, а мог и не случиться, но отужинать им следовало с должным размахом. А мореходы были не из тех, кто беспокоился о судьбе Солнечной системы в целом. Поэтому настроение стало улучшаться, и к десерту они уже веселились, все еще довольные тем, что к ним наведались великие Клейборн и Расселл. А потом, перед самым заходом солнца, они, извинившись, попрощались, и их проводили к их судну. На уровне моря волны в заливе Хриса показались им намного крупнее.
Сакс и Энн плыли молча, погруженные каждый в свои мысли. Сакс оглядывался на корабль-город, размышляя о таком способе существования. Вроде бы жить так здорово. Но все же… Он погнался за мыслью и, после некоторого бега с препятствиями, догнал и ухватился за нее – теперь у него больше не случалось провалов. Это приносило ему большое удовлетворение, пусть даже в данном случае нить рассуждений оказалась пронизана меланхолией. Следует ли ему когда-нибудь рассказать об этом Энн?
– Я кое о чем жалею, когда смотрю на этих мореходов, – начал он, – и на то, как они живут. Мне кажется, есть ирония судьбы в том, что мы… что мы стоим на пороге… вроде как золотой эпохи… которая наступит, только когда… – Ну вот, он сказал и почувствовал себя глупо. Собрался с духом и договорил: – Которая наступит, только когда вымрет наше поколение. Мы всю жизнь над этим работали, а теперь должны умереть, прежде чем это случится.
– Как Моисей за пределами Израиля.
– Да? Так он туда не попал? – Сакс покачал головой. – Ох уж эти старые истории… – Это было то еще «бросание вместе», как и сама наука по своей сути, как вспышки прозрения, которые случались во время экспериментов, когда все прояснялось и человек приходил к какому-то пониманию. – Хотя я могу себе представить, что он чувствовал. Это… приводит в уныние. Я бы хотел посмотреть, что случится потом. Иногда мне становится просто любопытно. Хочется узнать о том, что мне не суждено. О будущем после нас. Обо всем, что будет потом. Ты понимаешь, что я имею в виду?
Энн пристально смотрела на него.
– Все когда-нибудь умирают, – проговорила она наконец. – Лучше умереть, думая, что ты не застанешь золотой век, чем понимая, что рискнул будущим потомков и оставил их со всеми долгосрочными последствиями. Вот когда придет тоска. А так нам жаль только самих себя.
– Правда, – подтвердил он.
И это говорила сама Энн Клейборн! Сакс почувствовал, что его лицо покрылось румянцем. Реакция капилляров иногда могла быть такой приятной!
Вернувшись к архипелагу Оксия, они проплыли мимо островов. Они говорили о себе – теперь это было легко. Затем поужинали в кабине и ушли спать по каютам каждый в свой корпус судна. А когда наступило утро, а с материка дул прохладный душистый ветер, Сакс сказал:
– Мне по-прежнему интересно, могут ли еще появиться коричневые?
– И что в них будет от Красных?
– Ну, желание оставить все как есть. Желание сохранить землю нетронутой. Ареофания.
– Это же всегда было у Зеленых. Как по мне, это похоже на зеленое со слабой примесью красного. Цвет хаки.
– Да, пожалуй. Под этом подходит объединение Иришки и «Свободного Марса», да? Но есть же еще жженая умбра, охра, мареновый ализарин, индийский красный.
– Сомневаюсь, что среди индийцев есть Красные, – мрачно усмехнулась Энн.
Она смеялась очень редко, а когда шутила, то нередко язвительным тоном. Однажды вечером, когда он был в своей каюте, а она на носу своего корпуса (она занимала левый, а он жил в правом), он услышал, как она смеется, и подумал, что ее смех, должно быть, вызван видом Псевдофобоса (большинство людей называли его просто Фобосом), который быстро поднимался на западе, точно как в старину. Луны Марса вновь плыли в ночи – маленькие серые картофелины, едва отличимые друг от друга.
– Как думаешь, этот захват Кларка – это серьезно? – спросила Энн как-то ночью, когда они уже собирались разойтись по каютам.
– Трудно сказать. Иногда мне кажется, они просто пригрозили, потому что, если они серьезно, это было бы так… неразумно. Они должны знать, что Кларк очень уязвим, и его легко можно… убрать.
– Касэю и Дао убрать его оказалось не так уж легко.
– Нет, но… – Сакс не хотел говорить, что та их попытка получилась слишком бездарной, но боялся, что по его молчанию она поймет его оценку действий Касэя. – Мы в Да Винчи установили рентгеновско-лазерный комплекс в кальдере Арсии и скрыли его в северной стене, а если мы его включим, то он расплавит провод как раз в его ареосинхронной точке. И никакая защитная система не сможет от него спасти.
Энн пристально на него взглянула, он пожал плечами. Он не нес личной ответственности за то, что делали в Да Винчи, – хотя многим казалось, что было именно так.
– Но, если обрушить провод, – проговорила она, осуждающе покачав головой, – погибнет много людей.
Сакс вспомнил, как при первом падении провода выжил Питер – тогда он просто спрыгнул в открытый космос. И спасся случайно. Очевидно, Энн не так легко было списать со счета тех людей, кто неизбежно будет уничтожен.
– Да, это правда, – согласился он. – Это не лучший исход. Но он может наступить, и, думаю, земляне об этом знают.
– Значит, это может быть просто угрозой.
– Да. Если только они не собираются идти дальше.
К северу от архипелага Оксия они прошли по бухте Маклафлина, что огибала восточную часть затопленного кратера. На севере же находился Маурт-Пойнт, а за ним открывался фьорд Маурт, один из самых узких и длинных на планете. Чтобы пройти по нему, приходилось постоянно лавировать под коварным ветром, вихрем несущимся между крутыми извилистыми стенами. Но Сакс все равно вел лодку, просто потому что это был прекрасный фьорд, образовавшийся на дне узкого канала прорыва, который, однако, расширялся по мере их продвижения. А в глубь материка, покуда достигал взор и на многие километры дальше, тянулся каньон со скальным дном. Он надеялся показать Энн, что существование фьордов не обязательно означало затопление всех каналов прорыва – так, каньоны Арес и Касэй остались весьма длинными и над уровнем моря, и то же можно было сказать об Аль-Кахире и Маадиме. Но он промолчал, а Энн никак этого не прокомментировала.
Завершив маневры в Маурте, Сакс направил судно почти строго на запад. Для того чтобы выбраться из залива Хриса в Ацидалийский регион Северного моря, необходимо было обогнуть длинный рукав суши, который назывался Синайским полуостровом и выдавался в океан из западной части Аравийской Земли. Пролив, открывавшийся сразу за ним и соединявший залив Хриса с Северным морем, был пятисот километров шириной, но, не будь там этого Синайского полуострова, достигал бы полутора тысяч.
И они плыли на запад, навстречу ветру, день за днем, то беседуя, то молча. Не раз они возвращались к тому, какими могли бы быть эти коричневые.
– Может, объединение должно называться голубым, – предположила Энн однажды вечером, глядя на воду поверх борта. – Коричневый звучит не очень привлекательно и пахнет только компромиссом. А может быть, нам стоит подумать о чем-то совершенно новом?
– Может быть.
Ночью, после того, как они поужинали, некоторое время понаблюдали за звездами, качающимися на водной поверхности, и пожелали друг другу спокойной ночи, Сакс ушел в свою каюту в правом корпусе, а Энн – в левом. Искин медленно вел их в ночи, уклоняясь от редких айсбергов, которые потихоньку начинали появляться на этой широте, попав в залив из Северного моря. Путешествовать так было довольно приятно.
Однажды утром Сакс проснулся рано, потревоженный сильной качкой, от которой его ложе поднималось и опускалось так, что его спящему сознанию казалось, будто он движется вместе с гигантским маятником. Он оделся не без труда и поднялся на палубу, где Энн, стоя у вантов, крикнула:
– Кажется, донные волны и толчея сложились в положительную интерферограмму.
– Да неужели? – Он попытался подойти к ней, но лодка резко покачнулась, и ее отбросило на сиденье в кабине. – Ай!
Она рассмеялась. Он схватился за поручень и подтянулся к ней. Затем он тут же понял, что она имела в виду. Ветер дул сильный, километров шестьдесят пять в час, и минимальный такелаж судна подвывал громко и непрерывно. По всей голубой поверхности виднелись белые барашки, а звук ветра, что носился над неспокойным морем, был совсем не похож на тот, что свистел в горах: если там это был высокий пронзительный крик, то здесь, среди триллионов лопающихся пузырей, – насыщенный, плотный рев. Барашки виднелись тут и там, и огромные возвышения донных волн были покрыты пеной, которая слетала с гребней и перекатывалась у их подножий. Небо окрасилось в цвет грязно-мутной сырой умбры и имело весьма зловещий вид, а солнце висело тусклой старинной монетой, и все остальное выглядело темным, будто погруженным в тень, хотя никаких облаков не было. В воздухе летали частицы – пылевая буря. И волны теперь поднимались так, что судно по несколько долгих секунд восходило на одной, а потом столько же времени спускалось к подножию следующей. Вверх-вниз, в протяжном ритме.
Положительная интерферограмма, о которой говорила Энн, приводила к тому, что некоторые волны становились вдвое больше остальных. Та вода, что не пенилась, принимала цвет неба – тусклый и коричневатый, темный, несмотря на то что облаков по-прежнему не было видно – только это зловещего вида небо: не розовое, как когда-то, но скорее напоминающее пыльный воздух времен Великой бури. Затем барашки начали исчезать, а звуки ветра стали громче и переросли в невнятный гул: в этом месте был донный лед или более толстый упругий слой ледяных кристаллов, также известный как нилас. Но затем барашки вернулись – причем вдвое гуще прежнего.
Сакс забрался в кабину и проверил сводку погоды на искине. По каньону Касэя к заливу Хриса надвигался нисходящий ветер. Ревун, как сказали бы летатели в долине. Иксин должен был предупредить их об этом заранее. Но, подобно многим нисходящим бурям, она прошла за час и осталась сугубо местным феноменом. Однако выдалась достаточно мощной: судно качалось, как на русских горках, дребезжа под сильными порывами ветра, то поднимаясь, то опускаясь на огромных донных волнах. Волны, казалось, при таком ветре мельчали, но, пока лодку бросало то вверх, то вниз, Сакс заметил, что под пенящимися гребнями они были по-прежнему достаточно крупными. Парус прижался к мачте почти вплотную, как аэродинамический профиль. Сакс склонился поближе к искину, чтобы присмотреться повнимательнее, и оказалось, что уровень громкости в кабине был выставлен минимальный. Так что, возможно, он и пытался предупредить их о буре.
Над водой наблюдался шквал, и они быстро продвигались вперед. Горизонт к тому же находился всего в четырех километрах, а ветры на Марсе никогда особо не стихали за все годы утолщения атмосферы. Само судно сотрясалось под ногами, пробиваясь сквозь участки невидимого льда. Как оказалось, на подмерзшей за ночь поверхности появилася мелкобитый или блинчатый лед, который был с трудом различим на пенистых волнах. Изредка Сакс чувствовал, что они сталкивались с крупными глыбами, или, как называли их моряки, крупными несяками. Они попали сюда через пролив Хриса с северным течением, и теперь их влекло с подветренной стороны к берегу, огибающему южную часть Синайского полуострова.
Им пришлось затянуть кабину прозрачной заслонкой, которая разворачивалась от палубного настила до борта с другой стороны. Под водонепроницаемым покрытием мгновенно стало теплее, отчего они тут же немного успокоились. Чувствовалось, что набирал силу настоящий ревун, который пронесется чрезвычайно мощным порывом по каньону Касэй. На острове Санторини искин регистрировал ветер со скоростью, которая колебалась от 180 до 220 километров в час и не сильно падала, добираясь до залива. Здесь также дул очень сильный ветер – 160 километров в час у топа мачты, – который сбивал гребни с поверхности воды и расщеплял их в мелкие брызги. Судно в ответ на все это затворило все что можно: втянуло мачту, затянуло кабину, закрепило люки, а затем выпустило плавучий якорь – трубу, напоминающую ветровой конус, которая тянулась под водой против ветра, замедляя их снос в подветренную сторону и смягчая столкновения с мелкими айсбергами, что появлялись все чаще, собираясь у берега. Благодаря якорю лодка поплыла медленнее, чем куски льда, поэтому они застучали по обращенному к ветру корпусу, даже при том, что корпус с подветренной стороны бился об утолщающуюся ледяную массу. Оба корпуса большей частью находились под водой, и судно, по сути, превратилось в подводную лодку, достигая поверхности, но почти не выступая над ней. Прочность их материалов была способна выдержать любые удары, которые только могли нанести ревуны и льдины, – и даже удары, во много раз более мощные, чем те, что им грозили. Слабым местом, однако, были их тела: Сакс понял это сразу, когда его отбросило назад с такой силой, что он удержался лишь благодаря ремню безопасности, схватившись за румпель и сиденье. Судно поднималось с накатом волн и потом резко опускалось, врезаясь в глыбы льда, – а у Сакса, когда его снова и снова отшвыривало на сиденье, захватывало дух. Казалось, их могло закачать до смерти – и это, как он понял, было не самым приятным способом отойти в мир иной. Внутренние органы сжимались и повреждались из-за ремней, но если бы они себя освободили, то их бы с силой метало по кабине, и они бы ударились друг о друга или обо что-то острое и наверняка не отделались бы единственным переломом. Нет, положение было приемлемым. Возможно, захваты, которые он видел на своей кровати, были предпочтительнее, но снижение скорости, наступавшее при столкновениях с массами льда, получалось таким резким, что он сомневался, что в горизонтальном положении будет легче.
– Посмотрю, сможет ли искин привести нас в бухту Аригато, – крикнул он Энн в ухо. Она кивнула, дав понять, что услышала его. Он прокричал команду прямо в разъем искина, и тот, к счастью, понял – иначе пришлось бы ее печатать при такой неимоверной качке. В таких условиях невозможно было почувствовать работавший все это время двигатель лодки, но по легкому изменению угла их положения по отношению к донным волнам он сообразил, что тот прикладывал даже дополнительные усилия, тогда как искин пытался вести их на запад.
Крупный затопленный кратер под названием Аригато, находясь на южном берегу Синайского полуострова, образовывал круглую бухту. Вход в нее открывался примерно на шестьдесят градусов окружности кратера и выходил на юго-запад. Ветер и волны также шли с юго-запада, поэтому в устье бухты, хоть и неглубоком – ведь оно лежало в нижней части старого края кратера, – не могла не образоваться толчея, которую наверняка будет сложно преодолеть. Но в саму бухту донные волны не проникнут из-за тех же краев, а ветер и волны на поверхности окажутся существенно меньше – особенно за западным мысом бухты. Там можно переждать ревун, а потом продолжить путь. Теоретически это был превосходный план, хотя Сакса и беспокоили условия в устье бухты; но карты показывали, что глубина там составляет всего десять метров, что непременно исключает возможность возникновения там донных волн. С другой стороны, у лодки, которая в некотором роде стала подводной (погрузившись, однако, не более чем на два метра в глубину), не должно возникнуть серьезных трудностей с прибойными волнами. Искин, судя по всему, также счел его команду вполне выполнимой. И действительно, втянув свой плавучий якорь и используя всю мощь двигателей, судно направилось поперек ветра и волн в сторону бухты, которой даже не было видно: сквозь грязный воздух вообще было не разглядеть берега.
Ухватившись за поручни кабины, они ждали, пока лодка достигнет бухты. Ждали молча: говорить особо не о чем, к тому же общаться им мешал все возрастающий рев ветра. Руки и кисти Сакса устали держаться, но иного выхода не было – только покинуть кабину и пристегнуться к кровати, чего ему делать совсем не хотелось. Несмотря на стесненное положение и беспокойство насчет входа в бухту, зрелище того, как ветер распыляет водную поверхность, буквально завораживало.
Спустя непродолжительное время (хотя искин показывал, что прошло семьдесят две минуты) Сакс заметил сушу – темный гребень поверх барашков с подветренной от них стороны. Это означало, что они были близко, но затем она исчезла и появилась вновь, несколько западнее – это уже был вход в бухту Аригато. Румпель у его колена сместился, и он заметил, что лодка сменила направление. Тогда он впервые расслышал шум моторов в кормовой части обоих корпусов. Затем столкновения со льдом стали более ощутимыми, и им пришлось еще крепче ухватиться за поручни. Донные волны здесь становились выше, гребни их срывались, но масса каждой из них сохранялась и вздымалась вверх, натыкаясь на дно. И теперь он видел, как пена разливалась по кускам льда и крупным глыбам – прозрачным, голубым, зеленоватым, аквамариновым и пористым, щербатым, гладким. Перед ними также, должно быть, проплывало большое количество льда. Если устье бухты им загромождено, а волны все равно туда пробивались, то пройти в него будет по-настоящему тяжело. Он прокричал вопрос-другой искину, но ответы ему не понравились. Компьютер утверждал, что лодка выдержит любые удары, которые может получить в данной обстановке, но на то, чтобы преодолеть плотный лед, мощности двигателей не хватит. А лед быстро утолщался, и их, казалось, все явственнее окружали его глыбы, направляющиеся под ветром к берегу на протяжении всего залива, а скрежет и стук глыб теперь превосходил оглушительный шум самой бури. И действительно, ощущение складывалось такое, что в бухту не пробраться и надо уходить от берега, обратно к ветру и волнам. Не то чтобы Саксу хотелось туда, где они снова заметались бы по волнам, которые становились все больше и необузданнее, так что судно вполне могло опрокинуться, – но при такой неожиданной плотности прибрежного льда это уже выглядело меньшим из зол.
Энн заметно волновалась, изо всех сил держась за поручень. Саксу ее вид приносил некоторое удовлетворение: она явно не собиралась ослаблять руки и будто даже не думала об этом. В этот момент она наклонилась к нему, чтобы что-то крикнуть ему в ухо, и он повернул голову.
– Мы не можем здесь оставаться! – крикнула она. – Когда мы устанем, при ударе нас просто выбросит отсюда! Как кукол!
– Мы можем пристегнуться ремнями к кроватям, – прокричал в ответ Сакс.
Она с сомнением сдвинула брови. И действительно, те предохранительные ремни могли оказаться не лучше этих, что были в кабине. Он ни разу их не проверял и не был уверен, что ими получится как следует пристегнуться. Поразительно, какой громкий стоял шум – стенающий ветер, ревущая вода, щелкающий лед. Волны становились все больше, и каждый раз, как лодка поднималась, у них, казалось, на десять-двенадцать секунд замирали сердца. И когда они оказывались таким образом на вершине, то видели, как куски льда разлетались под напором волн, сталкиваясь со своими собратьями, а иногда – попадали в корпус их судна, на палубу и даже в тонкую заслонку кабины, причем с такой силой, что они словно ощущали эти удары на себе.
Сакс наклонился, чтобы крикнуть в ухо Энн:
– Кажется, это тот случай, когда пора воспользоваться функцией спасательной шлюпки!
– Спасательной шлюпки? – переспросила Энн.
Сакс кивнул.
– Эта лодка и есть спасательная шлюпка! – крикнул он. – Она может летать!
– Что ты имеешь в виду?
– Летать!
– Да ты шутишь!
– Нет! Она превращается в… аэростат. – Он наклонился еще и продолжил прямо ей в ухо: – Корпуса, киль и нижняя часть кабины сбрасывают балласт. Наполняются гелием из носовой части. Затем развертываются шары. Ребята в Да Винчи мне все рассказали, но сам я этого не видел! Я не думал, что мы станем этим пользоваться!
Также лодка могла трансформироваться в подводную, сказали они ему, весьма довольные собой и этими достижениями в универсальности судна. Но эта способность была сейчас неприменима из-за плотного льда возле берега. Сакс об этом не сожалел, хотя и не имел на то веской причины – просто мысль уйти под воду его не привлекала.
Энн немного отстранилась, чтобы посмотреть на него. Она была изумлена такой новостью.
– Так ты знаешь, как на ней летать? – спросила она.
– Нет!
По идее, об этом должен позаботиться искин. Им нужно только поднять судно в воздух. Для этого требовалось выяснить, как перейти в аварийный режим или найти нужный переключатель. Чтобы выразить эту мысль, он указал на приборную панель, а затем наклонился к ней, чтобы крикнуть на ухо. Она мотнула головой, сильно ударив его по носу и зубам, – он зажмурился от боли, и кровь хлынула из носа, как вода из крана. Они столкнулись, как две планетезимали, – он растянул губы в широкой улыбке, которая тут же отозвалась болью. Он стал облизываться, пробуя кровь на вкус.
– Я люблю тебя, – крикнул он.
Она не слышала.
– Как мы его запустим? – спросила Энн.
Он снова указал на приборную панель, рядом с искином, и аварийный щиток под защитной решеткой.
Раз уж они избрали спасение по воздуху, то это, как ни крути, представляло определенную опасность. Если они будут двигаться со скоростью ветра – а у самого судна было мало возможностей для сопротивления, – их просто унесет воздушным потоком. Но в момент отрыва, когда они будут почти неподвижны, ревун с силой потянет их за собой. Их, вероятно, начнет кренить так, что это сможет вывести из строя шары, из-за чего лодку отбросит назад, прямо на загроможденные льдом буруны, а то и на подветренный берег. Сакс видел, что Энн обдумывала то же самое. И все равно – что бы ни случилось, это было предпочтительнее, чем страдать от непрекращающихся ударов. Как бы то ни было, и то, и другое было лишь временным явлением.
Энн, посмотрев на него, нахмурилась: по-видимому, его лицо сейчас напоминало кровавое месиво.
– Стоит попробовать! – прокричала она.
Тогда Сакс убрал защитную решетку с аварийного щитка и, со значением посмотрев на Энн, – их глаза встретились, и ее взгляд также выражал что-то, чего он не мог распознать, но что показалось ему приятным, – нажал на переключатели. Оставалось надеяться, что и датчик изменения высоты, когда в нем возникнет необходимость, окажется исправным. И он мог лишь жалеть, что не успел провести тренировочные полеты.
Каждый раз, когда лодка поднималась на пенистой поверхности воды и оказывалась на вершине, наступал краткий момент невесомости – перед самым падением на ледяную подошву следующей волны. В один из таких моментов Сакс и щелкнул переключатели на щитке. Лодка тем не менее рухнула на́ воду, с привычным стуком об обломки льда, – а потом взмыла вверх, наклонившись в сторону заветренного корпуса, отчего они буквально повисли на своих ремнях. Шары, без сомнения, спутались, и следующая волна наверняка бы их опрокинула, но тут лодку поволокло надо льдом и пенистой водой, едва их касаясь, – Сакс и Энн уже висели вверх тормашками. Далее лодка какое-то время безумно кувыркалась, после чего, наконец, выпрямилась и стала качаться вперед-назад, как огромный маятник, потом из стороны в сторону. А потом все заново: заходила чуть ли не вверх дном, выпрямилась и закачалась опять. Вверх, вверх и вверх, бросаясь из стороны в сторону, но продолжая движение вперед. У Сакса высвободилось плечо, и он стукнулся им о плечо Энн. Румпель ударял его по колену, и он придержал его рукой. Затем раздался еще один удар – и он уже держался за Энн, изогнувшись на своем сиденье и вцепившись в нее. Теперь они напоминали сиамских близнецов – сидели, обняв друг друга за плечи, рискуя переломами костей при каждом новом ударе. В какое-то мгновение они посмотрели друг на друга, между их лицами оставалось всего несколько сантиметров, оба были в крови то ли от каких-то порезов, то ли от натекшей из его носа. Энн выглядела безучастной к происходящему. И тогда они взметнулись в небо.
У Сакса болела ключица – по ней Энн стукнула лбом или локтем. Но они летели, поднимаясь все выше и выше и не разрывая своих неловких объятий. И по мере того, как лодка набирала ход, приближаясь к скорости ветра, тряска существенно уменьшалась. Шары, по всей видимости, крепились с помощью снастей к топу мачты. И как только Сакс стал надеяться, что они полетят плавно, как на дирижабле, и даже ожидать этого, судно снова ужасно заметалось. Виной тому, несомненно, был восходящий поток воздуха. Они уже наверняка летели над сушей, и их вполне могло затянуть в грозовой фронт, как какой-нибудь шарик града. На Марсе грозовые фронты достигали десятка километров в высоту и часто сопровождались ревунами, дующими на юг, а шарики града могли носиться внутри них весьма долгое время. Иногда выпадали градины размером с пушечные ядра, которые уничтожали растения и даже убивали людей. И если сейчас их затянет слишком высоко, они могут погибнуть, как те ранние воздухоплаватели во Франции – это тогда же вроде бы летали на монгольфьерах? Сакс точно не помнил. Все выше и выше, продираясь сквозь ветер и красную мглу, сквозь которую мало что было видно…
БУМ! Он подскочил, но ремень впился ему в кожу, и Сакс осел обратно. Гроза! Рядом с ними прогремел гром, и в нем было гораздо больше 130 децибел. Энн приникла к нему, и он, неуклюже протянув руку, потянул ее за ухо, чтобы она обратилась к нему лицом.
– Эй! – вскричала она, но ее крик казался шепотом среди рева ветра.
– Прости, – ответил он, хотя не был уверен, что его расслышат.
Их снова завертело, но центробежная сила теперь была мала. Лодка стонала, а ветер толкал ее вверх. Затем они спикировали, и в ушах вспыхнула такая боль, что Сакс открыл рот и задвигал челюстью в разные стороны. После этого судно вновь начало подъем, и их мучительно подбросило. Он не знал, как высоко их могло поднять, но гибель в разреженном воздухе явно теперь была реальна. Хотя, может, техники из Да Винчи и догадались загерметизировать кабину. Значит, ему нужно было представить лодку как аэростат или, по крайней мере, понять, как работала система высотной регулировки. Хотя вряд ли сейчас можно оказать существенное сопротивление восходящим и нисходящим потокам воздуха. По заслонке кабины вдруг застучал град. На аварийном щитке располагались маленькие переключатели, и в момент, когда тряска ослабла, он сумел наклониться и прочитать то, что высвечивалось на находящемся там дисплее. Высота… это было не так просто. Он попробовал рассчитать, на сколько поднимется лодка, прежде чем благодаря собственному весу выйдет в горизонтальный полет. Это было трудно, так как он не знал ни точной массы судна, ни объема выпущенного гелия.
Затем их снова затрясло. Вверх, вниз, вверх, а потом опять вниз – несколько секунд подряд. Желудок Сакса уже находился у самого горла – по крайней мере, он так чувствовал. Ключица отдавала невыносимой болью. Из носа непрерывно шла кровь. И снова вверх. Он судорожно ловил ртом воздух. Снова задумался, на какой высоте они были и действительно ли поднимались еще выше, но сквозь заслонку ничего не было видно, только пыль и облака. Зато упасть в обморок ему, похоже, не грозило. Энн не двигалась, и ему хотелось еще раз дернуть ее за ухо, чтобы убедиться, что она в сознании, но он не мог пошевелить рукой. Поэтому он толкнул ее локтем. Она толкнулась в ответ: он подумал, что, если он толкнул ее с такой же силой, как она его, то в следующий раз это стоило сделать полегче. Он толкнул ее совсем легонько и ощутил на себе куда более щадящий ответ. Пожалуй, они могли бы воспользоваться азбукой Морзе, которую он выучил в детстве без особой на то необходимости, а теперь, со своей возрожденной памятью, мог вспомнить каждую ее точку и каждое тире. Но Энн вряд ли ее изучала, и теперь было не время для уроков.
Безумное движение продолжалось так долго, что он потерял счет времени. Может, час? Едва шум стих до того, что они снова смогли кричать друг другу, они этим и занялись, хотя обсуждать на самом деле было особо нечего.
– Мы попали в грозовой фронт!
– Да!
Затем она указала пальцем вниз. Внизу виднелись розовые пятна. Они начали быстро снижаться, и у него снова заболело в ушах. Их вытолкнуло из нижней части облака, как градину. Розовые, коричневые, ржавые, янтарные пятна. Ну да – поверхность планеты, и она выглядела так же, как всегда, если смотреть на нее с высоты. Снижение. Сейчас он вспомнил, что они с Энн впервые прибыли на Марс вместе, в одном посадочном модуле.
Лодка теперь мчалась под облаком, сквозь град и дождь, но из-за гелия они могли подняться в него обратно. Сакс щелкнул переключателем, который считал наиболее подходящим в данном случае, и лодка начала терять высоту. Пара маленьких переключателей, похоже, и отвечала за подъем и снижение. Регуляторы высоты. Он плавно перевел их оба в направление вниз.
Да, похоже, они снижались. Спустя какое-то время поверхность стала более различимой. Они увидели зазубренные хребты и останцы – судя по всему, это была Кидония, регион столовых гор на Аравийской Земле. Не лучшее место для посадки.
Но буря продолжала нести их вперед, и вскоре они оказались к востоку от Кидонии, над плоскими равнинами Аравии. Теперь им нужно было поскорее спускаться, прежде чем их унесет в Северное море, которое, вероятно, было столь же бурным и насыщенным льдами, что и залив Хриса. Внизу они видели мешанину полей и садов, оросительные каналы и извивающиеся ручьи, обсаженные рядами деревьев. Похоже, здесь выпадало много дождей, и по всей поверхности была вода – в каналах, прудах, небольших кратерах, на нижних участках полей. В деревеньках теснились фермерские домики, в самих полях виднелись только хозяйственные постройки – амбары, навесы для хранения техники. Это был приятный сельский район, и довольно ровный. К тому же здесь повсюду была вода. Они спускались, пусть и медленно. У Энн руки выглядели голубовато-белыми в тусклом послеполуденном свете, да и его руки казались бледноватыми.
Ощущая крайнюю усталость, он постарался собраться. Посадка сейчас была важнее всего. И он твердо надавил на регуляторы.
Снижение ускорилось. Сначала их несло над рядом деревьев, затем они резко оказались над просторным полем. Вдалеке оно было затоплено, и в углублениях стояла бурая дождевая вода. За полем начинался фруктовый сад, поэтому идеальным местом для посадки была как раз вода, но они слишком быстро двигались горизонтально и все еще находились в десяти-пятнадцати метрах над полем. Сакс надавил на регуляторы, сдвинув их до конца, и увидел, как корпуса наклонились, словно прыгающие в воду дельфины, и вся лодка вместе с ними. Затем земля оказалась прямо перед ними. Бурая вода, мощный всплеск, белые волны, взметнувшиеся по сторонам, – и они уже влачились по илистой воде, пока лодка не проскользила точно в ряд молодых деревьев, где и остановилась. Вдоль деревьев к ним уже бежала орава детей и какой-то мужчина, и у каждого из них рот был раскрыт идеально круглой буквой «о».
Сакс и Энн кое-как пришли в сидячее положение. Затем он убрал с кабины заслонку, и к ним хлынула бурая вода. В аравийской деревне стоял ветреный и пасмурный день. Вода, вливавшаяся в кабину, оказалось заметно теплой. Лицо Энн было влажным, а волосы топорщились жесткими пучками, будто ее ударило электрическим током. Она криво улыбнулась:
– Мягкая посадка.
Часть четырнадцатая Озеро Феникс
Прогремел выстрел, зазвенел звонок, контрапунктом запел хор.
Третья марсианская революция была такой сложной и ненасильственной, что в тот период ее трудно было вообще назвать революцией, скорее – сдвигом в затянувшемся споре, сменой течения, нарушением равновесия.
Захват лифта послужил зерном кризиса, который расцвел в полной мере спустя несколько недель после того, как на Марс спустились войска Земли.
В небе над небольшим заливом в районе Земли Темпе стали появляться люди. Они устремлялись на берег залива. Одни покачивались под парашютами, другие – оставляли за собой мерцающие следы бледного пламени. Это была целая новая колония – самовольное вторжение иммигрантов. Данная группа прибыла из Камбоджи, в других регионах по всей планете высаживались поселенцы с Филиппин, из Пакистана, Австралии, Японии, Венесуэлы, Нью-Йорка.
Марсиане не знали, как на это реагировать. Они жили в демилитаризованном обществе, даже не предполагая, что нечто подобное может случиться, и не были в состоянии себя защитить. Или им так казалось.
Побуждать их к действию снова пришлось Майе. Как когда-то делал Фрэнк, она пустила в ход свою наручную консоль, созваниваясь со всеми, кто состоял в коалиции открытого Марса, и со многими другими, стараясь «сдирижировать» основной ответ.
– Ну же, – сказала она Наде. – Еще разочек.
Так по городам и деревням разошлась молва, и люди стали выходить на улицы или садиться в поезда, направляющиеся в Мангалу.
На побережье Темпе камбоджийские поселенцы выбирались из своих модулей и шли в убежища, которые были сброшены вместе с ними, – точно как первая сотня двумя столетиями ранее. А с холмов спускались люди, которые носили меха и были вооружены луками и стрелами. У них были красные клыки, волосы стянуты на макушке.
– Слушайте, – сказали они поселенцам, собравшимся перед одним из убежищ, – позвольте нам вам помочь. Сложите автоматы. Мы покажем вам, куда вы попали. Вам не нужны эти убежища, они устарели. Тот холм на западе – это кратер Перепёлкина. Там уже растут яблочные и вишневые сады, и вы можете собрать там то, что вам нужно. И посмотрите, как устроены дисковые дома, – это лучшая планировка для этого побережья. Также вам понадобится гавань и несколько рыболовных лодок. Если вы разрешите нам пользоваться вашей бухтой, мы покажем вам, где растут трюфели. Да, дисковый дом, видите? Дом Саттельмейера. Жить на свежем воздухе очень приятно. Вы это сами увидите.
Все ветви марсианской власти собрались в зале заседаний в Мангале, чтобы найти выход из кризиса. Большинство из партии «Свободный Марс» в сенате, Исполнительный совет и Мировой природоохранный суд сошлись в том, что незаконное вторжение землян необходимо расценивать как акт агрессии, приравниваемый к развязыванию войны, и отвечать на него следует соответствующим образом. В сенате предлагали направить на Землю астероиды, которые можно было бы отвернуть только при условии, если иммигранты вернутся домой и лифт снова перейдет в совместное управление, а в противном случае удар будет сопоставим с мел-палеогеновым вымиранием. Присутствующие дипломаты из ООН указали, что это может стать палкой о двух концах.
В один из этих напряженных дней в дверь зала заседаний постучали, и вошла Майя Тойтовна.
– Мы хотим взять слово, – сказала она и подозвала группу, ожидавшую ее снаружи. Напоминая своим видом нетерпеливую пастушью собаку, она загнала их на трибуну: сначала Сакса и Энн, идущих рука об руку, затем Надю и Арта, Тарики и Нанао, Зейка и Назик, Михаила, Василия, Урсулу с Мариной и даже Койота. Старым иссеям аукнулось прошлое, и они вышли на трибуну высказать свое мнение. Майя указала на мониторы, которые показывали, что происходило снаружи здания. Их группа тянулась от трибуны через зал и коридоры неразрывной линией к центральной площади, выходящей к морю, где уже собралось около полумиллиона человек. Забиты людьми были и улицы города: там на экранах смотрели на происходящее в зале. А в бухте Чалмерса невиданным новым архипелагом стояла целая флотилия кораблей-городов, на мачтах которых развевались флаги и баннеры. И так в каждом марсианском городе: люди стояли на улицах и смотрели на экраны. Каждый мог видеть каждого.
Энн поднялась на подиум и тихо сказала, что в последние годы правительство Марса нарушило и закон, и дух человеческого сострадания тем, что запретило иммиграцию с Земли. Народ Марса этого не хотел. И им нужно новое правительство. Это был вотум недоверия. Новые вторжения землян также были неправомерны и неприемлемы, но их можно было понять: марсианское правительство преступило закон первым. И количество поселенцев, прибывших в результате этих вторжений, не превышало того, что было неправомерно запрещено нынешним правительством. Марс, продолжала Энн, должен быть открыт для иммиграции землян настолько, насколько это возможно, учитывая физические ограничения, и настолько, сколько продлится период популяционного всплеска. А он уже подходил к завершению. Теперь на них лежала обязанность перед потомками – прожить этот остаток лет в мире.
– Ничто из того, что обсуждается сейчас, не стоит войны. Мы через это прошли и знаем, о чем говорим.
Затем она обернулась через плечо к Саксу, и тот вышел к микрофону и встал рядом с ней.
– Марс необходимо защищать, – сказал он.
И объяснил, что биосфера еще молода, и ее вместимость имеет ограничения. Она не обладала такими материальными ресурсами, как земная, и бо́льшая часть незанятой территории и должна оставаться таковой. Землянам необходимо было это понять и не пытаться перенасытить местные системы – иначе Марс не принесет пользы вообще никому. На Земле же существовала очевидная проблема перенаселения, но Марс не мог служить единственным источником ее решения. В заключение своей речи он объявил:
– Отношения Земли и Марса необходимо пересмотреть.
И они приступили к их пересмотру. Попросили представителя ООН выйти и дать пояснения по поводу вторжений. Спорили, обсуждали, убеждали, кричали друг на друга. А на необжитых землях местные противостояли поселенцам, и некоторые, с обеих сторон, грозили перейти к насилию, другие же вступались и начинали говорить, задабривать, ругаться, пререкаться, договариваться, кричать друг на друга. При этом в любой момент, в любом из тысячи мест могло развязаться насилие: многие уже выходили из себя, но хладнокровие все же преобладало, и в большинстве случаев стычки заканчивались на уровне споров. Многие опасались, что это могло измениться, многие считали, что такого просто не могло быть, – но это происходило, и люди на улицах видели все сами. И позволяли этому происходить. Ведь переоценка ценностей рано или поздно должна была как-то выражаться – так почему бы ей не выразиться здесь и сейчас? На планете было очень мало оружия, и марсиане не могли так просто ударить человека по лицу или заколоть его вилами во время спора. И сейчас настало время перемен, сейчас вершилась история, они видели это своими глазами – на улицах, на заселенных склонах гор, на экранах. Лабильная история была у них в руках, и они воспользовались моментом, повернув ее в новое русло. Они пришли к этому убеждению сами. Новое правительство. Новый договор с Землей. Многоглавый мир. Переговоры могли растянуться на годы вперед. Как хор, поющий контрапунктом одну грандиозную фугу.
Рано или поздно этот провод нам аукнется, я всегда об этом говорил. Но вы не соглашались, вам он нравился. Вы жаловались только на то, что он работал слишком медленно. Говорили, что до самой Земли вы добирались быстрее, чем до Кларка. И да, это так и есть, хоть и кажется нелепым. Но это не то же самое, что говорить, что провод нам аукнется, признайте! Официант, эй, официант! Налей всем текилы и принеси немного долек лайма… Когда они спустились, мы как раз были в Гнезде. С внутренней камерой ничего нельзя было поделать, но Гнездо – крупное сооружение. И я не знаю, был ли у них план, который не сработал, или они вообще действовали без плана, но к приходу третьей кабины Гнездо было запечатано, и они оказались гордыми хозяевами провода длиной в 37 000 километров, ведущего в никуда. Какая это была глупость! Это было кошмаром, но эти хитрые лисы продолжали спускаться только по ночам, поэтому казались похожими на волков, только двигались намного быстрее. И хотели схватить прямо за горло. Настоящая чума бешеных лисиц, о, какой кошмар! Как будто мы опять оказались в 2128-м. Не знаю, правда это или нет, но они точно там были – земные полицейские в Шеффилде. И когда люди об этом услышали, то все вывалили на улицы, и там стало не продохнуть, прям совсем – я мал ростом, и меня иногда прижимало лицом к чьим-то спинам и женским грудям. Я услышал об этом от соседки всего через пять минут после того, как это случилось, а она – от друга, который жил возле Гнезда. Реакция людей на захват нижней части провода получилась быстрой и бурной. Штурмовики ООН не знали, что с нами делать. Одно подразделение попыталось занять площадь Хартц, но мы просто окружили солдат, навалились на них и начали выталкивать, создавая что-то наподобие вакуумной тяги. Этот взбесившийся демон с пеной из рта, готовый схватить меня за горло… это был чертов кошмар! Мы загнали их в предкрайний парк, и их треклятые корабли не могли сдвинуться ни на сантиметр, не задавив тысячи человек. Люди на улицах – это единственное, чего боятся все правительства. Ну, еще истечения срока полномочий. И прозрачных выборов! И убийств. И стать посмешищем, ха-ха-ха! А у нас между всеми городами и толпами на их улицах была налажена связь. Когда мы были в Лассвице, мы спустились в парк у реки и встали со свечами в руках, а камеры вели съемку с холма, и казалось, что они горят прямо в море – это так красиво смотрелось! А Сакс и Энн стояли рядом, и это было поразительно. Поразительно. Невероятно. Они, видимо, до смерти испугали ООН, когда говорили как будто друг за друга, – те, должно быть, подумали, что у нас появились устройства для обмена разумом и мы уже держим их наготове. И еще мне понравилось, что было потом – когда Питер потребовал, чтобы Красные выбрали себе нового лидера, и бросил вызов Иришке, чтобы та срочно провела голосование прямо на месте, по видеосвязи. Все эти партийные дела были, по сути, схватками тяжеловесов, один на один. Если бы Иришка отказалась, ее песня была бы спета, поэтому ей во что бы то ни стало необходимо было принимать вызов, – это было видно по ее лицу. Когда мы были в Сабиси, мы как раз узнали, что Красные проводят выборы, и, когда на них победил Питер, у нас сорвало крышу, в городе сразу же начались гуляния. И в Сензени-На. И в Нилокерасе. И в Адовых Вратах. И на станции Аргир – вы бы их видели. Хотя погодите, по результатам получилось всего шестьдесят против сорока, и на Аргире шум поднялся как раз из-за сторонников Иришки – их было слишком много, и они полезли в драку. Это же Иришка, если хотите знать, сохранила бассейн Аргир и каждый клочок сухой земли на этой планете, а Питер Клейборн – просто старый иссей, который ничего такого не сделал. Официант, официант! Всем по пиву, по бокалу светлого, bitte! Отдавать еду этим землянам не было смысла – они понятия не имели, что делали. А Ниргал еще каждому пожимал руки. И доктор спрашивает: «Откуда вы знаете, что у вас резкий спад?» Это чертов кошмар! То, что Энн была заодно с Саксом, выглядело странно – будто она ему продалась. Вообще-то нет, если вы заметили, что они вместе путешествуют и все такое… Вы все это время пробыли на Венере, или что? Или что. Коричневые, голубые – как это глупо. Нам стоило сделать что-то в этом роде давным-давно. Да ладно, чего так переживать, они люди прошлого, через десяток лет никого из них не останется. Не будь так уверен. Это ты бы поменьше радовался: ты не намного младше их, глупый человек. О, то была самая интересная неделя: мы спали в парках, и все были так веселы… Wertewandel – вот как это называют немцы. Да у них на что угодно найдется слово! То, что неизбежно должно случиться, – это называется эволюцией. Сейчас мы все – мутанты. Говори за себя, приятель. Закажи что-нибудь. Шесть лет! Отличная новость, я даже удивлен, что ты еще трезвый. Уже нет, ха-ха-ха, уже нет! Вот маленькие красные человечки носятся на красных муравьях. И что, они нам помогут? Ой, да они на краю обрыва – надеюсь, муравьи умеют летать? Неудивительно, что у меня тут столько этих муравьев бегает. Так вот, мужик говорит: «Знаете, доктор…» А тот такой: «Да, и?» Все, конец шутки, поняли? Он только говорит: «Послушайте, доктор…» – и умирает. Резкий спад, поняли? Так смешно… Ага, и правда смешно! Ладно, ладно, ха-ха, нечего из-за этого горячиться. Если тебе приходится угрожать людям, чтобы они смеялись над твоими шутками, значит, стоит задуматься, может, они не такие уж смешные, а? Иди на хрен. Очень умно́! Так вот, потом военные вроде как захотели вернуться к Гнезду. Они двинулись очень осторожно, в одну шеренгу вслед за маленьким отельным электрокаром, который сумели раздобыть, и мы все немного подвинулись и пропустили их, а они, проходя мимо, смотрели на нас с опаской. Потом люди стали пожимать им руки, прямо как Ниргал у ворот, и просить их остаться, но отпускать, если те не могли, целовать в щеки и навешивать столько гавайских венков, что те аж закрывали им обзор. Назад, в самое Гнездо. А почему нет, если себя во всей красе показали, когда угрожали из-за треклятого правительства предателей, требуя, чтобы мы сдались без боя? Этот шутник, похоже, не понимает принципов джиу-джитсу. Принципов чего? А? Слушай, ты кто такой, черт возьми? Я чужак в этом городе. Что? Что? Простите, мисс, не могли бы вы принести еще кавы? Так вот, мы все еще пытаемся увидеть что-то на микроскопическом уровне, но пока безуспешно. Не надо мне про Fassnacht, ненавижу Fassnacht, как по мне, это худший день в году, на Fassnacht убили Джона Буна. На Fassnacht бомбили Дрезден. Это зло никогда не будет прощено. Они плавали в заливе Хриса, и ревун подхватил их лодку и опустил аж над Кидонией. Такие вещи сближают людей. Я вас умоляю, кто этот парень? Тоже мне большое дело – такие аэростаты сдувает каждую неделю, ничего особенного в этом нет. Нас тоже застал врасплох тот самый ревун, но мы были в районе Санторини, то есть я хочу сказать, там штормило даже на десятиметровой глубине, и я не шучу. Искин лодки, в которой мы плыли, испугался и врезал нас в другую лодку, и я думал, все, конец, бах, вокруг темно, искин сошел с ума, испуганный до смерти, честное слово. Наверное, он просто сломался. Я и сам сломал ключицу. Десять цехинов, пожалуйста. Спасибо. Эти ревуны правда опасные. Однажды я так попался в Эхо, и нам пришлось пересидеть на задницах, да и то мы тогда еле выкарабкались. Помню, я держался за свои очки, чтобы их не сорвало. Машины подпрыгивали, как блошки в игре. Вся гавань опустела, не было ни единой лодки – будто какой-нибудь ребенок собрал все свои игрушки и бросил где-то в другой части комнаты. А я как-то поднимался на корабль-город «Вознесение», это было в Северном море, возле острова Королёва. О, это же там Уилл Форт занимается серфингом! Да, там, насколько я понимаю, самые высокие волны на Марсе, и в ту бурю они доходили до ста метров от гребня до подошвы, нет, я не шучу. Волны были намного выше, чем борта корабля, и при виде этих страшных черных масс он казался нам не больше какой-нибудь шлюпки. Мы словно сидели на самом обычном поплавке. Животные были в панике. И в довершение всех проблем нас несло прямо к южной части Королёва. Волны полностью разбивались о последний мыс, за которым начиналось открытое море. Поэтому каждый раз, когда мы поднимались вместе с волной, штурман «Вознесения» направлял корабль на юг, и тот немного смещался по ее передней стороне, прежде чем потерять гребень и съехать в очередную подошву. И с каждой последующей волной мы смещались быстрее и дальше, так как чем сильнее мы приближались к острову, тем круче и крупнее становились волны. Сам кончик мыса изгибался на восток, поэтому волны разбивались о его скалы и рифы слева направо. Когда «Вознесение» круто соскочило с последней волны, штурман повернул вправо, и корабль проехал по дну и вернулся на лицевую поверхность волны, двигаясь на скорости, которую мы никак не могли рассчитать. Как будто в полете. Да, мы оседлали стометровую волну на судне размером с целую деревню, прямо над самыми рифами. Секунду мы летели на разрушающейся волне. А потом опустились на ее плечо, где уже была приличная глубина и которая никогда не дробилась. Так мы и миновали остров. Так вот, доктор спрашивает: «Откуда вы знаете?» Откуда? Как красиво. Да, такое никогда не забудешь. Я собираюсь забрать все, что нажил, и уйти на покой, потому что теперь уже все не так, как раньше. Эти люди преступники. Я слышал, она улетела на звездолете. Ты что, сам ее видел? Тебе нужен переводчик получше, я вообще-то не говорил: «Ничего страшного, доктор, мне уже лучше». Что за чертова машина! Официант! Деревни ничем не отличаются от тех, что есть на Земле, только тут нет деления на касты. Если бы они захотели ввести такую систему, им пришлось бы многое держать в голове. Некоторые иссеи попытались, но нисеи ушли к диким. А насколько я слышал, маленькие красные человечки просто не вынесли нашего вздора и решили что-нибудь предпринять, раз у них теперь появились недавно прирученные красные муравьи, и они начали всю эту кампанию, чтобы потом прийти на помощь при вторжении землян. Можно подумать, они повели себя чересчур самонадеянно, но помните, что биомасса красных муравьев, если ее ровно распределить, покроет планету метровым слоем, и такой биомассы вполне хватило бы, чтобы выдворить нас с орбиты; они даже могли бы кататься на муравьях на Меркурии, ведь у каждого муравья есть целое племя маленьких человечков, которые передвигаются на нем в городах-паланкинах или еще как-то, так что они вовсе не самонадеянны. Их сила в количестве. Так что они умышленно заставили правительство вести себя так глупо, чтобы разжечь конфликт. Мне интересно, какое у этих дураков было оправдание, ведь нужно же как-то объяснить, почему люди, приезжая в Мангалу, сразу же превращаются в жадных продажных идиотов – для меня это загадка. Они спустились к нам. Почему все сводится к этим человечкам? Чтобы там ни случилось с Большим Человеком, я ненавижу этих маленьких красных человечков и все их слащавые сказки. А если вы достаточно глупы, чтобы рассказывать сказки, когда вокруг происходят вещи более интересные, то могли хотя бы рассказывать небылицы получше – как Титаны и Горгоны бросались спиральными галактиками, будто острыми бумерангами, – вжик, вжик, вжик! Эй, слышишь, парень, ты давай полегче. Официант, принеси этому балаболу чашечку кавы, хорошо? Ему нужно немного успокоиться. Возьми себя в руки, парень. Тише. Бросались новыми звездами взад-вперед! Бум! Бах! КА БУМ! Эй! Эй! Успокойся ты уже! Меня тошнит от этих маленьких человечков. Уберите от меня руки! Это жалкая пародия на правительство. Все возвращается к одному и тому же: паразиты просто сосут власть. Я говорил, надо оставить все куполам, без мирового правительства, тогда нечего было бы высасывать, меня что, послушали? Нет. А вы прямо им говорили? Да, я им говорил, я был там. С самим Ниргалом, говоришь? Мы с Ниргалом давно знакомы. Что же вы хотите сказать, уважаемый старик, может, вы Безбилетник? Ну да, это я. Значит, вы отец Ниргала, вы и должны быть с ним знакомы, как говорите. Ну да, только в Зиготе иногда все было немного по-другому. А я тебе скажу, эта стерва вешала тебе лапшу на уши всю жизнь, раз ты ей позволял. Да ладно, ты не Койот. Ну что я могу сказать? Меня немногие узнают. Да и откуда им меня узнавать? Да он это! Быть не может… Если ты отец Ниргала, то почему он такой высокий, а ты низкий? Я не низкий. Чего вы смеетесь? Мой рост пять футов пять дюймов[53]. Футов? Футов? О Господи, тут у нас человек, который измеряет свой рост в футах! В футах! Боже, да вы, должно быть, шутите! Пять футов? Футов? По вашему виду не скажешь, а сколько там вообще было в этом футе? Примерно треть метра. Это так все и мерили – примерно третью метра? Неудивительно, что на Земле все пошло наперекосяк. Слушай, а с чего вы взяли, что этот ваш драгоценный метр такой правильный? Это же просто какая-то там часть расстояния от Северного полюса Земли до ее экватора, которую Наполеон выбрал с бухты-барахты. Это просто металлическая рейка, которая хранится в Париже и чью длину определяет прихоть безумца! Не надо думать, что вы рациональнее, чем те, кто жил до вас. Ой, прошу, перестаньте, я сейчас умру со смеху. Вы не очень-то чтите своих стариков, и мне это нравится. Эй, налейте старому Койоту еще, что вы будете? Текилу, спасибо. И чашку кавы. Ого! Да этот парень знает толк в жизни. Точно: я знаю толк в жизни. И дикие это сообразили, только в этом деле не следует перегибать палку. Они мне подражают, но заходят слишком далеко. Не нужно ходить пешком – можно ездить. Не нужно охотиться – можно покупать еду. Спать каждую ночь на гелевой кровати и стараться, чтобы вместо двух одеял с тобой была парочка молоденьких уроженок. Ой, ой, ой! Ого! Старый развратник! О, уважаемый, это неприлично… Ну а мне годится. Я сплю, может, и не настолько хорошо, но во всяком случае я счастлив. Спасибо, вы не против? Да, спасибо. Хорошо. Что ж, за Марс!
Она проснулась в такой оглушительной тишине, что слышала биение собственного сердца. Она не помнила, где находилась. Но потом память вернулась. Они гостили у Нади и Арта, на берегу моря Эллады, чуть западнее Одессы. Тук, тук, тук. Рассвет, первый проблеск нового дня. Надя что-то строила снаружи. Вместе с Артом она жила на окраине их пляжной деревни в принадлежащем их кооперативу спутанном комплексе домов, павильонов, садов, тропинок. Сообщество из примерно сотни человек, тесно связанное с сотней таких же сообществ. Было очевидно, Надя постоянно улучшала местную инфраструктуру. Тук, тук, тук, тук, тук! Сейчас она строила платформу вокруг зиготской бамбуковой башни.
Из соседней комнаты слышалось чье-то дыхание. Дверь туда открыта. Она села. Окна были завешены, и она шумно их распахнула. Близился рассвет. Повсюду серость и только серость. Комната для гостей. В соседней комнате, куда вела эта дверь, на большой кровати лежал Сакс. Он был укрыт плотными одеялами.
Она замерзла. Встав, прошмыгнула в его комнату. Увидела его расслабленное лицо на широкой подушке. Старик. Она нырнула под одеяла и улеглась рядом с ним. От него веяло теплом. Он меньше нее ростом, маленький и пухлый. Она знала его досконально – еще со времен сауны и бассейна в Андерхилле, а потом по ваннам в Зиготе. Тук, тук, тук, тук, тук. Он шевельнулся, и она обняла его. Он, все еще крепко спящий, прижался к ней в ответ.
Во время эксперимента она была всецело сосредоточена на Марсе. Мишель как-то ей сказал: «Твоя задача – найти такой Марс, который сможет выдержать все». И вид все тех же холмов и впадин вокруг Андерхилла живо напомнил ей о ранних годах, когда за каждым горизонтом лежало что-то новое. Земля. Казалось, Земля все выдерживала. На Земле им не узнать, каково это, никогда. Легкость, близость горизонтов, где все кажется практически в пределах досягаемости, а потом – вдруг открывается широкий простор, когда в поле зрения врывается один из районов Большого Человека: огромные утесы, глубокие каньоны, вулканы размером с целые материки, безумные хаосы. Исполинская каллиграфия ареологического времени. Охватывающие всю планету дюны. Им этого не узнать, это совершенно невозможно представить.
Но она знала. И на протяжении всего эксперимента держала все это в уме, весь тот день, который по ощущениям длился лет десять. И ни мысли больше о Земле. Это была будто уловка, это требовало неимоверных усилий, как если бы ей сказали не думать о слоне. Но у нее получалось. В этом она, со своей целеустремленностью выдающегося отказника, была хороша, это было ее особой силой. Наверное. А потом Сакс подбежал к ней из-за горизонта, крича: «Помнишь Землю? Помнишь Землю?» Это было даже почти смешно.
Но то была Антарктика. Ее разум, такой находчивый и сосредоточенный, мгновенно подсказал: «Это же всего лишь Антарктика, кусочек Марса на Земле, перенесенный отсюда материк». Тот год, что они там прожили, должен был дать представление об их будущем. В Сухих долинах они, сами того не зная, очутились на Марсе. Так что она могла это помнить, и это воспоминание не было связано с Землей. Это был прото-Андерхилл. Ледяной Андерхилл. Другой лагерь, но те же люди, та же обстановка. С этими мыслями все действительно к ней вернулось, словно по велению какой-то анамнестической магии: те беседы с Саксом, как он ей нравился тем, что был столь же одинок в своей науке, что и она. Никто другой не понимал, насколько сильно можно углубиться в науку. И выйдя вместе на прогулку, они постоянно спорили. Ночь за ночью. О Марсе. О технической стороне вопроса и о философской. Согласия они не находили. Но они были вместе.
Хотя не совсем. Его буквально потрясло, когда она его коснулась. Бедняга. Так она подумала. И, видимо, ошиблась. И очень жаль – потому что, если бы она тогда поняла, если бы он понял, если бы они поняли, – возможно, вся история сложилась бы по-другому. А возможно, и нет. Но они не поняли друг друга. И вот они были здесь.
И за всю эту гонку за своим прошлым она ни разу не подумала о той части Земли, что лежала севернее, о той Земле, где была прежде. Вся планета сократилась для нее до одной только Антарктики. К тому же она думала в основном о Марсе, о красном Марсе. Теперь, согласно теории, анамнестическое лечение стимулировало память и побуждало сознание повторять ассоциативные комплексы узлов и сетей, связывающих воспоминания многих лет. Повторение усиливало их в физическом переплетении, то есть в рассеянном поле образов, созданных квантовой осцилляцией. Все, что вспоминалось, получало усиление, а что не вспоминалось, – очевидно, не получало. И что не получало – то продолжало становиться жертвой разрушения, ошибок, квантового коллапса, увядания. И забывалось.
Теперь она была новой Энн. Не Контр-Энн и даже не той призрачной третьей, которая так долго ее преследовала. Новая Энн. Наконец, полностью марсианская Энн. На каком-нибудь коричневом Марсе, на красном, зеленом, голубом – теперь все перемешалось. И если земная Энн все еще была там и теснилась в каком-нибудь потайном квантовом чулане, это тоже была жизнь. Ни один шрам не исчезал окончательно до того, как наступала полная смерть, а затем разложение. И так, наверное, и должно было быть. Никто не хотел терять слишком многого – иначе это была бы уже другая проблема. Приходилось соблюдать баланс. Здесь, сейчас, она была марсианской Энн, уже не иссеем, но престарелой местной, которая родилась на Земле. Марсианской Энн Клейборн, в это и единственное мгновение. Как хорошо было так лежать…
Сакс пошевелился в ее объятиях. Она посмотрела ему в лицо. Оно было другим, но по-прежнему принадлежало Саксу. Одна ее рука охватывала его плечи, а второй, холодной, она провела по его груди. Он проснулся, увидел, кто рядом с ним, и сонно улыбнулся. Он потянулся, лег набок и прижался лицом к ее плечу. Поцеловал ее в шею, слегка укусил. Они не отпускали друг друга, как тогда, на летящей лодке во время бури. Безумный у них выдался полет. А еще забавно было бы заняться любовью в небе. Хотя при таком ветре и неудобно. Может, в другой раз. Она задумалась: делали ли нынешние матрацы такими же, как раньше? Этот был твердым. А Сакс – не таким мягким, как выглядел. Они долго обнимались. И перешли к половому акту. Он был внутри нее и делал движения. Она схватилась за него и держала крепко-крепко.
Теперь он покрывал ее поцелуями, нежно покусывал, полностью скрывшись под одеялами. Забурившись вниз. Она чувствовала его всем телом. Чувствовала его зубы, время от времени, но чаще – как он проводил по ее коже кончиком языка, будто кот. Было приятно. При этом он то ли напевал, то ли бормотал. А ее грудь вибрировала, из нее словно вырывалось урчание.
– Рррр, рррр, рррр.
Умиротворяющий, чувственный звук. Ее переполняло блаженство. Вибрации, кошачий язык, легкие полизывания по всему телу. Она приподняла одеяло и посмотрела на него.
– И кому теперь стало лучше? – промурлыкал он. – А? – Поцеловал ее. – Или Б? – Поцеловал в другое место.
Она не сдержала смех.
– Сакс, заткнись и делай свое дело.
– А-а. Ладно.
Они завтракали с Надей, Артом и теми членами их семьи, кто оказались поблизости. Дочь Никки уехала в дикое путешествие по горам Геллеспонт вместе с мужем и тремя другими парами из их кооператива. Они отбыли накануне вечером с шумом возбужденного предвкушения, словно были детьми, и оставили свою дочь Франческу и детей своих друзей – Нанао, Буна и Тати. Франческе и Буну было пять лет, Нанао – три, Тати – два, и все они были в восторге от того, что остаются вместе, еще и с бабкой и дедом Франчески. В этот день они собирались отправиться на пляж. В большое приключение. За завтраком они продумывали, как все организовать. Сакс планировал остаться с Артом дома и помочь ему посадить несколько новых деревьев в оливковой роще, которую тот решил устроить за домом. Также Сакс ожидал приезда двух гостей, которых пригласил, – Ниргала и математика из Да Винчи, женщину по имени Бао. Энн видела, что ему не терпелось познакомить их друг с другом.
– Это эксперимент, – сообщил он ей по секрету, покрывшись румянцем, как ребенок.
Надя собиралась продолжить свою работу над платформой. Позднее она, вероятно, могла спуститься на пляж вместе с Артом, Саксом и гостями. А утро дети должны были провести под опекой тети Майи. Они пришли в такой восторг от этой перспективы, что не могли усидеть на месте – а вместо этого извивались и носились вокруг стола, как щенята.
Энн, судя по всему, также следовало пойти на пляж с Майей и детьми. Той могла пригодиться помощь. Все внимательно смотрели на нее.
– Вы с нами, тетя Энн?
Она кивнула. Оставалось добраться туда на трамвае.
И она отправилась с ними на пляж. Вместе с Франческой и Нанао Энн заняла первое сиденье рядом с водителем. И усадила к себе на колени Тати. Бун и Майя сели за ними. Майя ездила так каждый день – с дальней стороны деревни Нади и Арта, где у нее был собственный стоящий отдельно домик возле утесов, возвышавшихся над пляжами. Почти каждый день она ездила на работу в свой кооператив, а по вечерам часто занималась с театральной группой. Также она была завсегдатаем актерского кафе и, очевидно, самой привычной няней для этих малышей.
Сейчас она была занята безжалостной щекоточной борьбой с Буном: они энергично тискали друг друга и, без тени смущения, хихикали. Еще одно пополнение копилки эротических знаний Энн за этот день – что мог существовать такой чувственный контакт между пятилетним мальчиком и двухсоттридцатилетней женщиной, игра между двумя людьми, искушенными в удовольствиях тела. Другие дети сидели смирно, слегка смущенные сценой на заднем сиденье.
– Вы что, – спросила у них запыхавшаяся Майя, улучив момент, – языки проглотили?
Нанао ошарашенно посмотрел на Энн.
– Вы языки проглотили?
– Нет, – ответила Энн.
Майя и Бун покатились со смеху. Другие пассажиры трамвая посмотрели на них – кто с ухмылкой, кто сердито.
Франческе, видела Энн, достались Надины пестрые любопытные глаза. Но это и все, что было в ней от Нади, больше сходств она имела с Артом, хотя в целом не была похожа ни на кого из них. Красавица.
Они подъехали к пляжной остановке. Это была небольшая станция с навесом от дождя, торговой палаткой, столовой и велопарковкой. Отсюда тянулось несколько проселочных дорог в глубь материка и широкая тропа между травянистыми дюнами, спускающаяся на пляж. Они вышли из трамвая – Майя и Энн, нагруженные сумками с полотенцами и игрушками, и орава детей.
День был облачный и ветреный. Пляж оказался чуть ли не пустынным. Быстрые низкие волны налетали на берег под углом, разбиваясь на мелководье перед самой сушей. Море было темным, в тусклом лавандовом небе елочкой были выстроены жемчужно-серые облака. Майя бросила свои сумки и вместе с Буном побежала к воде. На востоке у береговой линии раскинулась Одесса. В облаках над ней проглядывала брешь, и белые стены города сияли желтизной на солнце. Чайки, превозмогая дующий с моря ветер, описывали круги в поисках еды. Над волнами парил пеликан, а над ним – человек в птичьем костюме. Увидев их, Энн вспомнила о Зо. Люди умирали такими молодыми – в тридцать, сорок, пятьдесят лет. А некоторые – и не дожив до двадцати, когда еще могут только догадываться о том, что потеряют. А ведь были и такие, кто погибал детьми, – их жизнь обрывалась, как у лягушек при первых морозах. И такое по-прежнему могло происходить. В любой момент можно было просто взлететь на воздух и найти свою смерть. Хотя это было и маловероятно. Теперь, нужно признать, все было по-другому, и, если не будет несчастных случаев, эти дети проживут долгую жизнь. Очень долгую. Таким теперь было положение вещей в этом мире.
Друзья Никки предупреждали, что их дочь, Тати, лучше не подпускать к песку, так как она имела склонность набирать его в рот. Поэтому Энн попробовала удержать ее на узкой тропинке между дюнами и пляжем, но она с визгом вырвалась и, подбежав к остальным, удовлетворенно села в своем подгузнике на песок.
– Ладно, – сказала Энн, сдаваясь и садясь рядом с ней. – Только не ешь его.
Майя помогала Нанао, Буну и Франческе рыть яму.
– Сейчас дойдем до водяного песка и начнем строить замок, – заявил Бун. Майя, поглощенная копанием, кивнула.
– Смотрите, – крикнула им Франческа, – я бегаю вокруг вас кругами!
Бун поднял на нее взгляд.
– Нет, – сказал он, – ты бегаешь овалами.
Он вернулся к обсуждению жизненного цикла песочных крабов, которое вел с Майей. Энн уже видела его раньше: год назад он едва говорил – только простые фразы, как Тати и Нанао, вроде «Рыбка!», «Мое!», – но теперь он стал таким рассудительным. То, как у детей развивалась речь, было поразительно. В этом возрасте они все были гениями, и взрослым требовались многие годы, чтобы, как в искусстве бонсай, вырастить из них тех, кем они становились в итоге. Кто на такое осмеливался, у кого поднималась рука исказить это природное дитя? Ни у кого – и все же это происходило. Этого не делал никто, и это делали все. Хотя Никки и ее друзья, радостно собиравшие вещи в свое путешествие по горам, казались Энн вполне себе похожими на детей. А им было около восьмидесяти лет. Так что, может, этого больше и не происходило. Положение вещей в этом мире теперь было и таким тоже.
Франческа перестала наворачивать свои круги-овалы и вырвала пластмассовую лопатку из руки Нанао. Тот возмущенно завыл. Франческа отвернулась и встала на цыпочки, будто стремясь показать свое безрассудство.
– Это моя лопатка, – сказал Нанао ей через плечо.
– А вот и нет!
Майя едва подняла глаза.
– Верни.
Франческа протанцевала от них прочь вместе с лопаткой.
– Не обращай на нее внимания, – приказала Майя Нанао. Тот завыл с еще бо́льшим негодованием, и его лицо сделалось пунцовым. Майя строго посмотрела на Франческу.
– Так ты хочешь мороженое или нет?
Та вернулась и бросила лопатку в руку Нанао. Бун и Майя, снова погрузившись в процесс копания, не подали и виду, что заметили капитуляцию Франчески.
– Энн, ты бы не могла сходить в палатку за мороженым?
– Конечно.
– Возьмешь Тати с собой?
– Нет! – возразила Тати.
– За мороженым, – сказала Майя.
Тати задумалась и тяжело поднялась на ножки.
Взявшись за руки, они с Энн вернулись к палатке на трамвайной остановке. Они взяли шесть мороженых, и пять из них Энн понесла в сумке, а шестое Тати, по своему настоянию, начала есть по дороге. Ей пока не очень хорошо удавалось делать несколько дел одновременно, поэтому шли они медленно. Растаявшее мороженое стекало по палочке, и Тати, не разбираясь, слизывала его и с кулака.
– Вкусно, – приговаривала она, – осень вкусно.
На станцию прибыл трамвай и, постояв некоторое время, поехал дальше. Еще через несколько минут по тропинке съехали трое на велосипедах – Сакс, а за ним Ниргал и местная уроженка. Ниргал притормозил перед Энн и заключил ее в объятия. Она не видела его много лет. Он постарел. Она крепко его обняла. Сама при этом улыбалась Саксу: ей хотелось обнять и его.
Они спустились к Майе с детьми. Майя встала, чтобы обняться с Ниргалом, а затем пожала руку Бао. Сакс, катаясь по лужайке за пляжем, вдруг отпустил руль и помахал друзьям. Бун, который все еще ездил со страховочными колесами, увидел его и изумленно закричал:
– Как вы так делаете?
Сакс схватился за руль, остановился и, нахмурившись, посмотрел на Буна. Тот неуклюже подошел к нему и, вытянув руки, набрел прямо на его велосипед.
– Что-то не так?
– Я пытаюсь идти, не используя мозжечок.
– Хорошая мысль, – одобрил Сакс.
– Я схожу еще за мороженым, – предложила Энн и, оставив в этот раз Тати, начала взбираться по тропе. Приятно было идти навстречу ветру.
Когда она возвращалась с полной сумкой мороженого, ветер вдруг охладел. Затем она внезапно почувствовала слабость и пошатнулась. Море блестело ярким пурпурным оттенком, и его свечение поднималось высоко над поверхностью. Ей стало очень холодно. «Вот черт, – подумала Энн. – Вот и оно. Резкий спад». Она читала о различных симптомах, о которых сообщали люди, сумевшие каким-то образом вернуться после этого к жизни. Сердце бешено билось в груди, будто ребенок, пытающийся вырваться из темного чулана. Тело стало хрупким, будто что-то высосало его содержание, сделав полым. Казалось, она могла рассыпаться в прах по щелчку пальца. Щелк! Чувствуя боль и изумление, она издала хрип и обхватила себя руками. Почувствовала боль в груди. Сделала шаг к скамье, стоявшей вдоль тропы, и согнулась с новым приступом боли. Щелк, щелк, щелк!
– Нет! – вскрикнула она и вцепилась в сумку с мороженым. Сердце нарушило свой ритм, вырывалось из груди. Бум, бум, бум, бум! «Нет, – повторила она, теперь не размыкая губ. – Рано еще!» То, несомненно, говорила новая Энн, но у нее было слишком мало времени, и она простонала снова: – Нет! – И затем она вся сосредоточилась на том, чтобы справиться с приступом.
«Сердце, ты должно биться!» Она сжала грудь так крепко, что пошатнулась. «Нет. Еще рано». Теперь ее пронизывал морозный ветер, словно она стала призраком. На ногах она держалась благодаря лишь волевым усилиям. Солнце светило ярко-ярко, косо бросая резкие лучи, проникающие сквозь ее грудную клетку. Прозрачность мира. Затем все запульсировало, как само сердце, и ветер тоже стал проходить сквозь нее. Она отчаянно старалась совладать с каждой бьющейся в судорогах мышцей. А затем время замерло. Все вокруг остановилось.
Она сделала короткий вдох. Приступ прошел. Ветер потихоньку теплел. Свечение моря рассеялось, оставив лишь гладкую голубую поверхность. Ее сердце забилось своим старым: тук, тук, тук. Тело снова наполнилось содержимым, боль отступила. Воздух стал соленым и сырым, совсем не холодным. В таком можно было даже вспотеть.
Она двинулась дальше по тропе. Как убедительно тело напомнило ей, что она еще была жива! И что будет жить. По крайней мере, какое-то время. Если не сейчас… Значит, не сейчас. И вот она была здесь. Она неуверенно шла вперед, делая шажок за шажком. Вроде бы с ней все было хорошо. Обошлось, только немного задело.
Тати заметила Энн и потопала к ней от песочного замка, явно нацеленная на сумку с мороженым. Но не рассчитала скорость и упала лицом вниз. А когда перевернулась и села, лицо ее оказалось в песке. Энн ожидала, что она заплачет, но та лишь слизнула его с верхней губы, словно знаток вин.
Энн подошла, чтобы ей помочь. Подняла на ножки, попыталась вытереть песок с лица, но та замотала головой, избегая помощи. Ну и ладно. Пусть съест немного песка, что от этого будет?
– Держи. Только много не бери. Нет, это Саксу, Ниргалу и Бао. Нет! Ой, смотри, чайки! Посмотри на чаек!
Тати посмотрела вверх, увидела чаек и попыталась проследить за ними взглядом, но потеряла равновесие и села на песок.
– О-ой! – сказала она. – Класиво! Класиво! Класиво, да?
Энн снова подняла ее. Взявшись за руки, они подошли к своим. Там зияла все расширяющаяся яма в песке, а рядом высился холм, увенчанный несколькими замками. Ниргал и Бао разговаривали у воды. Над ними парили чайки. Чуть дальше старая азиатка занималась серфовой ловлей. Море окрасилось в темно-синий, а бледно-лиловое небо прояснялось – облака уносило на восток. Дул ветер. Несколько пеликанов скользили в ряд над наступающей волной, и Тати остановила Энн, чтобы указать на них.
– Класиво, да?
Энн попыталась пойти дальше, но Тати отказалась сдвинуться с места и настойчиво подергала ее за руку.
– Класиво, да? Класиво, да? Класиво, да?
– Да.
Тати отпустила ее и потопала по песку, стараясь не упасть. Ее подгузник закачался из стороны в сторону, как утиный хвостик, а на уровне колен сзади замелькали ямочки.
«И все-таки она вертится!» – подумала Энн. И двинулась вслед за ребенком, смеясь над своей шуткой. Галилей мог отказаться от покаяния, лечь костьми за правду, но это было бы глупо. Лучше сказать, что требуется, и делать свое дело. Приступ напомнил ей о важном. О да, очень красиво! Она признала это, и ей позволили жить. Стучи дальше, сердце. А почему бы этого не признать? В этом мире люди не убивали друг друга, не страдали без крова и пищи, не боялись за своих детей. Вот каким стал мир. Песок скрипел под ногами. Она всмотрелась в него внимательнее: темные крупинки базальта вперемешку с мелкими частицами ракушек и разноцветной гальки – некоторые из них, несомненно, были брекчированными кусочками самого Элладского метеорита. Она подняла взгляд на холмы, чернеющие под солнцем к западу от моря. Во всем просматривалось происхождение тех или иных вещей. Волны быстро накатывали на берег и разбивались. Она шагнула по песку навстречу своим друзьям, против ветра, на Марсе, на Марсе, на Марсе, на Марсе, на Марсе…
Благодарности
В этот раз хочу сказать спасибо: Лу Аронике, Стюарту Эткинсону, Терри Байеру, Кеннету Бейли, Полу Бирчу, Майклу Карру, Бобу Эскерту, Питеру Фиттингу, Карен Фоулер, Патрику Мишелю Франсуа, Дженнифер Херши, Пэтси Иноуэ, Келвину Джонсону, Джейн Джонсон, Гвинет Джонс, Дэвиду Кейну и Риджу, Кристоферу МакКею, Бэт Мичем, Памеле Меллон, Лизе Ноуэлл, Лоури Пай, Биллу Парди, Джоэлу Расселлу, Полу Саттельмейеру, Марку Татару, Ральфу Вицинанце, Бронуэн Уанг и Вик Уэбб.
Особая благодарность Мартину Фоггу и, в очередной раз, Чарлзу Шеффилду.
От переводчика
Трилогия Кима Стэнли Робинсона долго шла к русскоязычному читателю и добралась до него в нужный момент – когда интерес к теме колонизации Марса вышел на очередной пик и информационный фон создает ощущение, что человечество вот-вот построит реальный «Арес» и некоторые из нас попытаются стать марсианами.
Но пока этого не случилось, и мы не знаем о Четвертой планете всего, чего хотелось бы. Переводчику пришлось столкнуться с трудностями, которые, вероятно, исчезнут лишь со временем. Например, с отсутствием фиксации многих марсианских топонимов на русском языке. А поскольку события романа охватывают географию Марса достаточно плотно, в книге упоминается немало таких объектов, которые встречаются в русскоязычных источниках редко или не встречаются вовсе. В таких случаях при переводе приходилось ориентироваться на заслуживающие доверия специализированные издания и на нормы орфографии иноязычных имен.
Другой проблемой, которая не могла остаться не замеченной русскоязычным читателем, – это невозможные имена женских русских персонажей. По большей части их было решено сохранить еще при переводе предыдущих романов трилогии. Некоторые исправления, однако, все же были внесены – там, где это оказалось возможным сделать, не искажая оригинальные имена слишком радикально. Так, например, Надин Чернышевски превратилась в привычную русскому уху Надежду Чернышевскую.
Устранен при переводе и ряд других мелких ошибок, которые, пожалуй, останутся на совести редакторов оригинального издания. Но едва ли на них стоит заострять внимание, учитывая неимоверный масштаб прочитанного вами тома. Все-таки главное здесь – то, что мы получили убедительную модель будущего человечества. Будущего, в котором Марс станет похожим на Землю и люди потянутся осваивать остальные объекты Солнечной системы. Ведь вполне может статься, что оно когда-нибудь действительно претворится в жизнь. Хоть в какой-нибудь степени.
Артем АгеевПримечания
1
По одной из легенд, король Дании, Англии и Норвегии Кнуд Великий (ок. 995–1035 гг.) верил в свою власть над морскими волнами. – Здесь и далее прим. пер.
(обратно)2
Искаженный вариант песенки «99 бутылок пива», популярной в США.
(обратно)3
Фундаментальная единица длины, равная примерно 1,6 ∙ 10–35 метров.
(обратно)4
До конца (греч.).
(обратно)5
Марсианин в четвертом поколении.
(обратно)6
Афина – древнегреческая богиня военной стратегии и мудрости.
(обратно)7
Мондрагонская кооперативная корпорация создана в Испании в 1956 г. Известна тем, что объединяет рабочие кооперативы, работники которых участвуют в управлении, делят между собой собственность корпорации и ее доходы.
(обратно)8
Эра геологической истории Марса, длившаяся в период 3,5–2,5 миллиарда лет назад.
(обратно)9
Мусо Сосэки (1275–1351) – японский монах-наставник, мастер садового искусства.
(обратно)10
В буддизме: промежуточное состояние души между смертью и перерождением.
(обратно)11
Альберт Шпеер (1905–1981) – личный архитектор Адольфа Гитлера.
(обратно)12
Понятие английского права, гарантирующее личную свободу (от лат. habeas corpus – букв. «ты должен иметь тело»).
(обратно)13
Галлюцинации, возникающие у психически здоровых людей при переходе от бодрствования к сну.
(обратно)14
Сокращение от англ. «Online Access to Research in the Environment» («Онлайн-доступ к исследованиям окружающей среды»).
(обратно)15
Один из наиболее известных и последний из сохранившихся клиперов, построенный в 1869 году и ставший кораблем-музеем в 1954-м.
(обратно)16
Острова Питкэрн – единственная заморская территория Великобритании в Тихом океане.
(обратно)17
Сам не знаю, чего (фр.).
(обратно)18
Сельский дом (фр.).
(обратно)19
Повседневная жизнь (фр.).
(обратно)20
Брайди Мерфи – ирландка, жившая в XIX веке, которая якобы разговаривала через Вирджинию Тай (1923–1995), находившуюся в состоянии гипноза. При этом Вирджиния говорила на неизвестном ей ирландском диалекте, подробно описывала особенности быта Ирландии того времени и проч.
(обратно)21
Единственный современный вид кистеперых рыб, одно из живых ископаемых. До открытия в XX веке считалась вымершей 65 миллионов лет назад.
(обратно)22
Стариков (фр.).
(обратно)23
Белая река (фр.).
(обратно)24
Марсель Пруст (1871–1922) – французский писатель-модернист.
(обратно)25
Район (фр.).
(обратно)26
Период в геологической истории Марса, начавшийся около трех миллиардов лет назад.
(обратно)27
Цитата из Евангелия от Матфея, в котором приводятся слова Иисуса, обращенные к Петру: «Поэтому Я говорю тебе: ты – Скала, и на этой скале Я возведу Мою Церковь, и даже силам преисподней ее не одолеть» (Мф 16:18). В стихе присутствует игра слов, основанная на том, что имя Пётр (Питер) в переводе с греческого означает «камень», «скала».
(обратно)28
Гесиод (VIII–VII вв. до н. э.) – первый исторически достоверный древнегреческий поэт, рапсод.
(обратно)29
Один из древнейших шумерских городов-государств.
(обратно)30
Божество плодородия, почитаемое коренными американскими народами.
(обратно)31
Европейская организация по ядерным исследованиям (от фр. Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire).
(обратно)32
Индейский народ группы пуэбло.
(обратно)33
Отсылка к роману Эдварда Моргана Форстера «Говардс-Энд».
(обратно)34
Традиционные индийские приправы из фруктов или овощей.
(обратно)35
«Swing Low, Sweet Chariot» – афроамериканский спиричуэлс, написанный в XIX веке.
(обратно)36
Постепенное ускорение, учащение, особенно в конце музыкального произведения.
(обратно)37
От фр. «Pourquoi Pas» – «Почему бы и нет».
(обратно)38
От нем. «Spasspolizei» – букв. «полиция развлечений».
(обратно)39
Строка из стихотворения поэта-романтика Джона Китса «Ода к греческой вазе». Перевод Василия Комаровского.
(обратно)40
Речь идет о Минойском извержении, произошедшем в середине второго тысячелетия до н. э.
(обратно)41
Упражнения Кегеля – методика тренировки интимных мышц женщины.
(обратно)42
Спутник Урана.
(обратно)43
Человек умелый (лат.).
(обратно)44
Зубастая вагина (лат.).
(обратно)45
Известное количество спутников Юпитера в 1996 году, когда был впервые опубликован роман. По состоянию на 2016 год их открыто уже 67.
(обратно)46
Было известно на момент первой публикации романа в 1996 году. К 2016-му открыто 27 спутников Урана.
(обратно)47
От фр. «jamais vu» – «никогда не виденное».
(обратно)48
От фр. «presque vu» – «почти увиденное».
(обратно)49
Перевод Вячеслава Иванова.
(обратно)50
Повседневная жизнь (фр.).
(обратно)51
Альберт Хоффман (1906–2008) – швейцарский химик, известный как первооткрыватель ЛСД.
(обратно)52
Организмы, обитающие в трещинах скал.
(обратно)53
165 сантиметров.
(обратно)



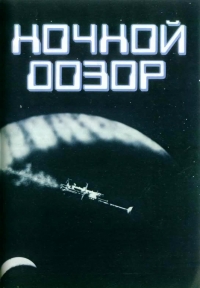
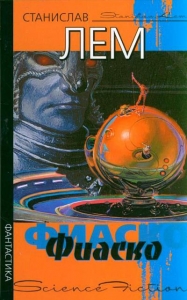


Комментарии к книге «Голубой Марс», Ким Стэнли Робинсон
Всего 0 комментариев