Мария Артемьева ТЕМНАЯ СТОРОНА РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ
СТРАХИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА
Чего мы боимся? Задумывались ли вы когда-нибудь об этом, дорогой читатель? Почему так манит людей все страшное, таинственное? Почему дети рассказывают друг другу о Черной Руке и Гробе на колесиках, а взрослые склонны интересоваться такими мистико-романтическими историями, как легенда о Белой Даме?
Детская страшилка и взрослая городская легенда — так ли уж принципиальна разница между ними? Думается — нет. Основные различия — в уровне изложения материала.
На самом деле и детские страшилки, и городские мифы, и занимательные байки, рассказываемые путешествующими у костра, — все это часть фольклора, творческого наследия, создаваемого здесь и сейчас нашими современниками.
Зачем их рассказывают?
Разумеется, главное предназначение такого творчества, как и всякого другого, — увлекать и развлекать. Но это не все. Само появление страшных историй на какую-либо тему есть выражение подсознательного беспокойства и страха человека, стремящегося осмыслить окружающий мир и тем самым сделать его более безопасным.
Таким образом, городские легенды — это олицетворение страхов современного человека. И наиболее простой и близкий путь, позволяющий изжить их.
Часто в таких историях содержится мораль, жизненная мудрость, позволяющая человеку упорядочить экстремальный опыт бытия.
«Не лезь ночью в заброшенный дом — это опасно». «Не бери в попутчики случайного человека — он может оказаться грабителем или убийцей». «Не пытайся одолеть гору, не имея сноровки».
Казалось бы, простые истины. Но они куда лучше усваиваются, если запрятаны на дне пугающего, переданного взахлеб рассказа об ужасе, который кому-то довелось пережить. Эмоции заставляют задуматься. Так же, как любая сказка, в которой ложь и намеки на правду перемешаны в равной пропорции.
Очень часто городская легенда является носительницей исторического опыта народа. Она может передавать слухи и впечатления о реальных событиях — и таких историй немало в этой книге, — а может, художественно переосмысляя опыт поколений, повествовать о более общей истине. Это тот случай, когда легенда превращается в миф и рассказывает не о самих событиях, а о том, какими они должны быть, потому что таково представление людей о них. Миф не историческая хроника, но он позволяет понять отношение к изложенным в ней фактам.
Вот любопытный пример: исследуя легенды разных городов России, можно обнаружить три вида сюжетов, которые повторяются и присутствуют практически в каждом регионе в виде некого обязательного канона.
Попробуйте угадать — какие?
Подсказка: первый сюжет связан с кладами. Второй — с любовницей губернатора или другого значительного лица. Третий — с подвалами НКВД…
Где бы вы ни жили в России, дорогой читатель, подобные сюжеты вам наверняка знакомы и вы сами можете рассказать ту или другую историю на эти темы. Если, конечно, когда-нибудь интересовались местными легендами.
А они есть везде. И не так важно, в маленьком или крупном городе вы проживаете, в столице или небольшом поселке где-то в глубинке.
История России — долгая, беспокойная и совершенно непредсказуемая. Бывало, на месте деревни здесь вырастал город, вместо бывшего города после набега и пожара оставались крохотные деревни. Или и то и другое заливало водой, и гладь искусственного моря хоронила под собой тайны прошлого, как это случилось, к примеру, с древней Мологой. А заброшенные города и поселки? Даже в относительно близкий нам по времени период немало их исчезло, ушло в небытие. Немало и возникло.
Общность некоторых сюжетов говорит о том, что Россия — страна с единым историческим пространством. Но это, разумеется, не означает, что все в ней единообразно. Есть масса оригинальных легенд, нигде больше не встречающихся. Иногда настолько странных, что они не просто пугают, а и всерьез озадачивают (как, к примеру, легенда, вдохновившая автора на рассказ «Тварь из колодца»).
Такие необычные сюжеты выдумать невозможно, потому что «это же просто не укладывается в голове»! И еще о них говорят: «Нет дыма без огня».
Не менее любопытны легенды, родившиеся из столкновения (а где-то и противостояния) современного человека и таинственных сил природы, не желающих исчезнуть под гнетом наступающей цивилизации.
Оказываясь посреди леса или у реки в незнакомых условиях, наш современник погружается в мир стихий — тот, который давным-давно покинули его предки. В этом мире многое кажется необъяснимым. Чтобы понять его правила игры, наши сородичи на заре времен выдумывали божков и духов. Нынешний горожанин создает новые образы, новые загадочные объекты непознанного. Рационализируя, он пытается постичь природу. Бурная история России, ее тайны, загадки и мятежная природа во всей мистической непостижимости — тема данной книги.
Итак, читатель, темная сторона снова ждет вас!
Открывайте книгу — будет интересно и страшно.
И страшно интересно — тоже.
ДОМОВЕНОК
Владимирская область
Археологи, ведущие раскопки, знают, как небезопасны тайны древних цивилизаций. Самодеятельные «черные копатели» с экзотическими ужасами обычно не сталкиваются — их поле деятельности, как правило, скромнее и кажется почти уютным, домашним: это заброшенные деревни, оставленные поселки, поля битвы, где покоятся не захороненными тела павших.
Но даже самая простая тайна, скрытая в земле, остается тайной. И она может отомстить любому, кто обойдется с ней бесцеремонно.
* * *
— Вот теперь считай что пришли, — сказал Павел Тимофеевич и простер узловатый палец, указывая на зеленый холм впереди, на вершине которого на фоне быстро бегущих облаков возвышались два курчавых раскидистых тополя. — Здесь.
Иван с Серегой переглянулись.
— В смысле? — недоумевая, спросил Серега. — Это и все?
Старик кивнул.
Несмотря на возраст и старческие немощи, ходок Павел Тимофеич был отменный и до места добрался раньше обоих парней. Правда, он шагал налегке. А ребята тащили рюкзаки с инструментами и аппаратуру.
— Я не понял. Тимофеич, че за разводки? — озираясь, спросил Сергей. Иван нахмурился.
— Деревня-то где?
— Здесь и есть. Здесь моя деревня, здесь, как говорится, мой дом родной… Малая Горка. Она самая. Вот.
Старик приблизился к деревьям и одобрительно похлопал ладонью по толстому, поросшему мхом стволу.
Кто-то прибил к тополю ржавую железяку — когда-то она была деталью огромного комбайна — и аккуратно вывел на ней белой масляной краской: «Деревня Малая Горка, родина Гусева Павла Тимофеевича. На этом месте стоял дом моего отца. 1908–1989».
Странное надгробие, подумал Серега и усмехнулся.
— Впервые вижу памятник дому, — сказал он Ивану так, чтобы старик не расслышал.
— Вообще-то я рассчитывал на большее. — Иван скинул рюкзак и принялся разминать затекшие плечи и шею. — Думал, тут еще дома остались, есть чего поверху поковырять.
— Дома! — фыркнул дед, снимая кепку и вытирая ею вспотевший лоб. — Дома еще сельсовет на дрова продал. Потом, что оставалось, в девяностые алкаши местные подчистили. Ничего тут теперь нет. Яблоня-дичок от палисадников, да сосна молодая вон там, ниже по улице, все позатянули. Ну, ладно, пойду я. Меня в Никольском мужики ждут. Обратную-то дорогу помните? Здесь вон, через лесок, потом поле бывшее, за оврагом через мост…
— Ничего, не заблудимся! Спасибо, Тимофеич.
— Да на здоровье. Пошел я.
Старик постоял еще с минуту, поглядел, как ребята разбирают инструменты, побурчал что-то и, наконец, ушел — ходко переставляя по грунтовухе скрюченные подагрой ноги.
— Ну что? Раз-два взяли? — сказал Иван, подмигнув Сереге. И включил миноискатель.
* * *
Добычу первого дня вряд ли можно было считать стоящей. И все же одна находка порадовала. Тем более что досталась почти без хлопот.
Ориентируясь на показания приборов, нащупали пустоты в земле, сняли лопатами верхний пласт почвы и, обнаружив прогнившие половые доски, подняли их, вскрыв капитальный подвал с каменной кладкой. Отыскав проход, спустились вниз и там, среди куч разнообразного заплесневелого мусора, откопали старинный сундук.
В длину чуть меньше метра, он был вырезан из темного крепкого дуба и обит со всех сторон фигурными железными полосками. Небольшой висячий замок держал крышку.
Очистив находку от земли, Иван сбил запоры резким ударом лопаты: с хрустом посыпалась ржавчина, и дужка замка переломилась пополам.
Серега отбросил крышку. Парни, стукнувшись головами, в нетерпении заглянули внутрь.
От укрытой в глубоком подполе старинной емкости они ожидали самых приятных сюрпризов: если не клада, золота-серебра, то хотя бы ценных вещей, припрятанных бережливыми хозяевами. Да хоть бы и стеклянный полуштоф с романовскими орлами[1] сгодился бы!
Но то, что обнаружилось в сундуке, потрясло своей неожиданностью: среди блеклых, порыжелых от времени остатков белого атласа с осыпающимся кружевом по краям лежали крохотные младенческие мощи. Высохшая, пергаментно-желтая кожа туго обтягивала маленький, с кулак величиной, вытянутый череп, местами обнажая два ряда крохотных зубов. Голова отпала от туловища, вероятно, из-за недавнего удара, сотрясшего сундук. Тоненькая ручка с проступившими наружу костями сжимала старинную погремушку, сплетенную из бересты.
— Ни хрена себе! — сказал Серега. — Не сюрприз, а прямо приз сюр какой-то.
Он вынул из кулачка трупа погремушку и встряхнул ее. Внутри плетеной коробочки нежно звякнул колокольчик. Серега засмеялся.
— Смотри-ка ты! Прикольно!
Иван его восторгов не разделил.
— Ребенок, — сказал он и поежился. — Жаль, хороший сундук.
— Почему жаль? — спросил Серега.
— Потому что это ведь… гроб. Клади обратно мальцу его игрушку.
— Шутишь? — возмутился Серега. — Какой гроб? Сундук. Смотри, какой классный!
— Слушай, это перебор. Я по кладбищам не мародерствовал и не собираюсь начинать…
— Ты еще скажи, что мертвецов никогда не грабил! Ага. Тут вся деревня мертвая. А для копателя вообще… Везде — погост! И нечего мерихлюндиями страдать.
Парни заспорили. Серегу никакие Ивановы доводы не впечатлили, а про этику и мораль он вообще говорить отказался.
— Иди ты, Ваня, знаешь куда?!
Спор распалил Сергея, и он уже из принципа не хотел уступить:
— Надоели эти левые терки, бро.
Рывком вскинув сундук повыше, Сергей перевернул его и вытряхнул все содержимое вниз, в черную подвальную яму. Иван вздрогнул, услыхав, как сухо защелкали рассыпающиеся детские косточки по каменному полу — словно шелуха от семечек. Сундук Серега оставил. И погремушку тоже.
— Вот так, — сказал он, очищая запачканные землей ладони. — Прах к праху. Ну что, пошли? А то уже солнце на закате.
Прикрыв раскоп досками и дерном, парни собрали инструменты. Найденную мелочевку — монеты, пробки, гвозди, детали запоров, петли, краник от самовара, погремушку и прочее такое — рассовали по пластиковым пакетам и сложили в сундук, а сам сундук Серега поставил на легкую складную тележку с колесиками, прочно закрепив груз двумя растяжками.
Вернувшись домой — в избу, которую они сняли для проживания в селе Никольском на время раскопок и поисков, — они почистили сундук щеткой и поставили в горнице.
— Красотень! — возгордился Серега, разглядывая находку. — Жаль, конечно, что фактически пустой был. Но сундучок и сам по себе хорош. Ты только глянь! Красавец. И пахнет большими деньгами. Я чую!
Серега радовался, вполне довольный собой.
Иван нахмурился. Деньгами? От сундука исходил сладковатый запах могилы. И еще этот звук… сухой треск, щелканье костей по камням. Он не мог забыть его.
Мрачное настроение, как предвестник будущих бед, навалилось на Ивана, наползло и бесцеремонно задавило его надежды приятно и с пользой провести летний отпуск. Почему-то в такое счастье больше не верилось.
* * *
Среди ночи Иван проснулся. Чернильная темнота заливала комнату, сквозь низкие окошки ни лучика света не проникало в избу. Деревня — не город. Единственный на всю кривую улочку фонарь выключали после двух часов ночи, исходя из той здравой мысли, что нормальные люди ночью спят. А ради других, ненормальных, электричество транжирить глупо, ни к чему.
И тишина здешняя — ни сигнализация нигде не завоет, ни телевизор у соседей не бормочет, ни подростки не ржут под окнами — мучила Ивана, вызывала у него, выросшего в городе, смутное беспокойство.
Открыв глаза, он прислушался: шуршание мышей в стенах, шорох в погребе или скрип рассохшейся деревяшки на чердаке — любая мелочь настораживала, распаляла воображение.
Вот где-то над головой доска вздохнула и опустилась. Что-то звякнуло. Тоненько, едва различимо. И снова. И еще раз. Дзынь-динь. Колольчик?
Серега спит на веранде, ему и горя мало. А в доме что-то стучит и позвякивает. Кто-то бродит босыми пятками по вздыбившейся горбом половой доске, скрипит и трясет колокольчиком. Но где? Не примерещилось ли? Звук может доноситься откуда угодно — с веранды, из сеней, с чердака. Не разобрать. А может, из подпола? Или из самой земли?
Обливаясь потом, Иван сел в постели. Надо бы проверить, посмотреть.
Короткий глухой стук за печкой, и сразу вслед за тем — звонкая россыпь нежного «дзынь-динь-динь» над головой. Все-таки, наверное, на чердаке.
Иван поднялся и, затаив дыхание, подкрался к дверям. Выглянул в сени — темно. Где-то за стеной — тихое бормотание. Что за напасть? Надо бы зажечь свет.
Высунувшись из приоткрытой двери в прохладные сени, Иван захлопал рукой по стене в поисках выключателя. Нашел, но свет, как назло, не загорелся. Наверное, подстанцию отключили. Или пробки выбило при скачке напряжения.
«На веранде у плиты были спички», — вспомнил Иван. Вытянул вперед руки и пошел, на ощупь отыскивая в темных сенях выход на веранду.
Теперь он слышал только собственное тяжелое дыхание и чувствовал, как дергается от напряжения кожа на затылке. Наверное, кто-то смотрит на него. Наблюдает…
Не выдержав, Иван рванул через коридор, не разбирая пути. По дороге что-то свистнуло рядом с его ухом и обожгло кожу, но Иван не остановился.
Грохнув дверью, выбежал на веранду, подскочил к плите, трясущейся рукой нашарил спички и зачиркал ими, ломая одну, другую… Спички отсырели и гореть не желали.
— Кой черт ты тут топчешься как слон… Ванька!
На веранде вспыхнул свет. Заспанный Серега стоял, поеживаясь со сна. Руку он держал на выключателе.
— Что такое?
Моргая и щурясь, Сергей смотрел на Ивана.
— Что это у тебя? На щеке. Кровь?!
Сонное выражение тут же испарилось с его лица.
— Где ты так порезался? — озадаченно спросил Сергей.
Иван провел рукой по щеке — и правда, кровь.
— Не знаю. Кто-то ходил по чердаку. Мне показалось…
Эти слова разбудили Серегу окончательно.
— Ходил? Да ты че?!
Пружинисто развернувшись, Сергей схватил со столика у плиты разделочный нож и кинулся к двери в дом.
Иван, прижимал руку к лицу — только теперь он почувствовал, как саднит оцарапанная кожа, — последовал за ним. В коридоре было темно. Сергей наткнулся ногой на что-то и зашипел от боли. Иван вспомнил:
— Тут свет не включается!
Сразу же после его слов вспыхнула яркая стоваттка под потолком, осветив коридор и лестницу на чердак. «Чертовщина», — подумал Иван.
— А это откуда?! — Серега с изумлением разглядывал предмет, на который налетел впотьмах.
В полу, в широкой некрашеной доске посреди сеней, торчал серп — старинный крестьянский инструмент ранней советской эпохи, с ржавым лезвием и потрескавшейся рукоятью.
Вонзенный острым концом в доску, он все еще дрожал, трясся, как взбесившийся хищник, угрызающий горло настигнутой жертвы.
Сергей нагнулся выдернуть серп. Это удалось не сразу: острый конец стального лезвия засел в дереве плотно. Вынув и осмотрев его, Серега задумался.
— Давай-ка обойдем дом, — предложил он.
Вдвоем парни осмотрели чердак, заглянули в подпол, осветили все темные углы мощным автомобильным фонарем. Нигде не обнаружилось ни единого следа вторжения. В доме, запертом на ночь, никого из посторонних быть не могло.
Сундук стоял там, где его оставили с вечера. Находки, инструменты, предметы экипировки копателей — ни одна вещь, судя по первому впечатлению, не пропала.
Убедившись в этом, Серега расслабился.
— Полтергейст, — ухмыляясь, сказал он. — Домовые шалят. Или эти… как их? Кикиморы. А че? Прикольно.
Он отыскал аптечку и помог Ивану обработать царапину. Потом спокойно отправился на веранду досыпать.
Иван тоже лег, но его волнение не прошло. Он прислушивался и вздрагивал от каждого шороха. Заснуть смог только под утро, когда окна уже прорисовались слабыми серыми квадратами на темном массиве стен, а воробьи поодиночке пробовали голоса, распеваясь перед утренним гвалтом.
Сквозь дрему Ивану все мерещился плач маленького ребенка, сопровождаемый звоном колокольчика.
«A-а, а-а», — заливался младенец, и кто-то шептал ему какие-то слова, чтобы успокоить. Этот тихий, полный тоски шепот и жалобный плач вконец расстроили Ивана.
У него даже голова разболелась. Виски ныли до тех пор, пока чья-то белая холодная рука не легла ему на лоб, и острые, колючие, как у котенка, зубы не коснулись его шеи… А тогда сразу все провалилось, исчезло, кануло в темноту. И полегчало.
* * *
Утром, прежде чем отправиться снова на раскоп, наведались в деревенский магазин — купить у тети Ани сыра, хлеба, бутылку воды и какую-то консервину помясистее, чтоб перекусить на месте без отрыва от производства.
По дороге увязался за ними лобастый кургузый пес Кузя — вертелся под ногами, выпрашивая хлеб. Серега скормил ему почти половину буханки, пока Иван не заметил и не отобрал. Кинул остатки хлеба в свой рюкзак и пошагал в гору по каменистой дороге, ни слова не говоря.
— Аллес, Кузьма! Иди у других проси.
Сергей рассмеялся и махнул псу рукой:
— Кыш, Кузька. Домой пошел!
Кузя, склонив голову набок, разглядывал Серегу. Потом развернулся и затрусил в обратную сторону к деревне, будто и впрямь понял сказанное.
— Вот же умная скотина, — развеселился Серега. — А зубищи-то — как у акулы.
Иван не откликнулся. Он шел вперед, мрачный и безразличный ко всему.
«Не выспался бро», — решил Серега. И вдруг заметил впереди знакомую фигуру.
— О, смотри-ка — никак Тимофеич чапает? Интересно, куда это он намылился?
В два счета догнав старика, Серега заговорил с ним как с приятелем:
— Куда это ты собрался, Тимофеич?
— Да паяльник у кума хочу забрать. Неделю прошу — все забывает принести, старый маразматик, — бодро отозвался Тимофеич, которому и самому было не меньше семидесяти. — А вы куда?
— Да все туда же! — скаля зубы, ответил Сергей. — На поиски сокровищ.
— А, сокровищ! — Старик усмехнулся. — Ну, может, до нефти там докопаетесь. Тогда я к вам в долю первый на очереди.
— Если отыщем — непременно! — засмеялся Серега, подкинув на плече рюкзак с инструментами.
— Слышьте, ребя, а я чего забыл сказать-то вам? — Тимофеич вдруг резко остановился. — Вы там в подпол федоровский-то не лазьте! Его лучше не трогать бы.
— Какой еще подпол? — насторожился Серега. И сделал знак Ивану, чтоб не вмешивался в разговор.
— Там, с левой стороны от тополей, чуток вниз, ну где сруб от сарая остался, — дом Федоровых. Его еще до войны развалили. Забыл я вам сказать… Над этим местом еще такая полянка зеленая. Федоровы когда-то лавку в селе держали. Богатые люди. Так что дом у них был на каменном фундаменте, с большим кирпичным подвалом. Не нашли вы его?
Сергей помотал головой:
— He-а. А что с этим подвалом не так?
— Да подвал-то крепкий, целехонек, я думаю, и теперь, — сказал дед, снова двигаясь в путь. — Когда советская власть пришла, колхозное начальство планировало на том фундаменте клуб построить, но деревенские наши отказались наотрез.
— Почему? — Серега поправил на спине рюкзак, подтянул ремешок на поясе и присоединился к деду, ступая рядом с ним.
Иван шел в некотором отдалении, погруженный в свои мысли, и хмурился.
— Перед Первой мировой, — обстоятельно рассказывал старик, — Федоров-старший вдовцом сделался с двумя детьми на руках. Жена его, Елизавета, долго чем-то болела, потом умерла. И вот пошли на мужика напасти одна за другой. Сперва амбар с сеном сгорел. Потом лавку залетные какие-то ограбили. Потом сын его в реке утонул. А вот дочь, Капитолина, перед самой войной вышла замуж за земского учителя. Учитель идейный попался — сам на фронт попросился. А его там убили через полгода. Капитолина как раз брюхатая ходила. Очень сильно она по мужу убивалась. Но сыночка родила здоровенького, хорошего. А тут революция, власть переменилась, и такая пошла чехарда — все кувырком. Лавку у Федорова отняли, сараи, склад, конюшню с лошадьми и подводой — все забрали, подчистую. Самого-то чудом в живых оставили.
Церковь в селе деревянная была — ее сожгли. Капитолина своего ребеночка не покрестила, не успела.
А потом и вовсе горе случилось: заспала она его, случайно во сне задавила дитенка. И вот что сильнее всего ее подкосило-то: что сын некрещеным погиб. У нас ведь как говорят: заспанных некрещеных сосунков нечистая сила себе забирает. Таких и не отпевают, и на православном кладбище не хоронят, за оградкой только.
Никак не могла Капитолина с этой обидой смириться: так рыдала, так плакала над сыном, что пришлось ребенка в заколоченном гробике к могиле нести. Опасалась родня, что мать ребенка не даст похоронить. Гроб из ее рук силком выдирали. Не простила этого Капитолина людям.
Перестала из дома выходить. Сидела все взаперти. Но не в горнице, а в подвале. От родного отца закроется и сидит там внизу, не ест, не пьет.
Отец ее жалел, горемыку, не теребил расспросами. Ждал, что баба опомнится. А потом захотел дознаться — зачем дочка в подвале сидит? Улучил момент, когда Капитолина из подвала все-таки вылезла, да и заглянул туда.
И ахнул.
Оказалось, обманула всех его дочура. Сыночка своего не похоронила, вытащила тельце из гроба, пустой ящик отправила в могилу. А мертвого сына в сундуке спрятала и поставила в подвале.
Вот и видит дед Федоров — лежит внучок его в сундуке, на подушечке, в кружевных пеленках. Вокруг свечи, ладанки, распятия понатыканы — ни дать ни взять алтарь или святые мощи.
Ужаснулся старик такому кощунству — и давай Капитолину стыдить, уговаривать, чтоб похоронила она сына по-человечески. Но как безумную уговоришь? Разозлилась на отца и вконец ополоумела.
Понял старик, что уговоры на дочку не действуют, — спустился сам в подвал и схватил тот сундук, чтоб наверх его вынести. А Капитолина — за серп — да по горлу его. Как сноп, родного отца срезала, кровью его умылась. Потом выволокла тело наружу. Откуда только силы взялись! Дом подожгла, а сама заперлась от людей со своим мертвым сыночком в подвале.
Наши деревенские пожар потушили, но в подвал никто не сунулся. Все равно после такого огня никто там выжить не мог.
Сруб после разобрали на дрова, федоровское имущество, какое еще целым оставалось, колхозники прихватизировали. Подвал от греха землей засыпали.
А спустя время поползли слухи — якобы младенец в том подвале каждую ночь плачет, по матушке, по отцу убивается. Прозвали его у нас Домовенком. И говорили — дескать, трогать Домовенка нельзя. Кто тронет — тому все несчастья и проклятия федоровские перейдут.
Так что из наших никто не лазил туда, и никто на том месте не строился. Хоть подвал там крепкий, каменный. Суеверия все это, конечно. Только никому не хотелось на себе проверять. Доказывать чего-то… Мало ли! А вдруг правда? Ну вот. Так что и вы лучше туда не суйтесь. От греха, как говорится.
На развилке старик оставил ребят: они пошли прямо, а Павел Тимофеич — в Белоглазово, к своему забывчивому куму.
* * *
Весь день Иван сосредоточенно размышлял о чем-то, не обращая внимания на Серегины шуточки и подколки, а вечером, когда вернулись домой, за ужином сказал:
— Надо отнести сундук обратно.
— С какой стати? — изумился Серега. — Ты что, из-за этих россказней Тимофеичевых, что ли? Смешной парень. Я уж и думать о них забыл!
— А что смешного-то?
— Вань, только горячку не пори, ладно? Я этот сундук уже Широкову сосватал. Утром звонил ему — он сказал, что за тридцатник тонн в любом случае его возьмет. А если в хорошем состоянии — обещал пятерку накинуть. Такие сундучки с оковкой и резьбой редко попадаются. Широков врать не станет. Так что, считай, одним мертвяковским сундуком мы свой отпуск уже оплатили.
— Нет, — сказал Иван. — Его надо вернуть. Извиниться надо.
— Ты что, из-за каких-то бабьих сказочек готов от тридцатки тонн отказаться? — удивился Серега. — Шутишь?
Он подошел ближе и заглянул Ивану в глаза. И сделалось ему слегка не по себе, когда увидел он темные, расширенные зрачки — словно чернильные лужи расплылись в глазах приятеля. И лицо у Ивана стало какое-то странное — застывшее, неживое, пожелтелое.
— Ванька, ты это брось. Брось, слышишь? — неуверенно протянул Серега.
Иван встал из-за стола, громыхнув стулом.
— Я спать пошел, — объявил он.
— Иди. Утром поговорим, — сказал Сергей.
Иван, не оглядываясь, ушел в избу. Сергей остался в растерянности: до сих пор в их небольшой компании он был лидером, принимающим решения, а Иван играл роль ведомого, покладистого, никогда ни в чем не возражающего. И вдруг такое.
Это даже не бунт на корабле — это просто полный слом системы. Ведь он даже спорить не пожелал: заявил свою позицию и никакие доводы во внимание не принял. Сергей бесился, чувствуя, как вслед за вполне понятным человеческим раздражением разгорается в нем типичная альфа-самцовая злость против Ивана — звериная, тупая, ничем не обусловленная. Тот, кто был всегда послушен, не должен поднимать голос. Никогда! С точки зрения вожака стаи…
На этой мысли Серегины мутные рассуждения споткнулись: он рассмеялся, почесал затылок. Поразмыслив, успокоился и решил тоже идти спать. Утро вечера мудренее.
* * *
Ночью над деревней прошумел короткий дождь, ветер прогнал облака, раздернул тучи, и вдруг выкатилась в широкое северное небо луна — нестерпимо белая, однобоко-пузатая, как беременная баба.
Она встала напротив Серегиной веранды, наполовину погруженная в океанскую глубину беззвездного неба, напротив черной полосы дальнего леса, словно в раздумьях: выбираться ль уже на берег или поплавать еще?
Молочное сияние изливалось с небес на каждую мелочь внизу, рельефно выделяя и прорисовывая даже самые крохотные детали.
Серега проснулся, зажмурил глаза от лунного света. Тоненькие ситцевые шторки на окнах задернуты. Но толку от них немного. Невозможно спать. Словно фонарь в глаза наставили.
В доме что-то стукнуло. Серега подумал, что Ванька, должно быть, тоже проснулся и не спит.
Если не можешь спать — ешь, вспомнил он армейскую поговорку. И только решил, что стоит, наверное, и вправду чайком побаловаться, пока эта идиотская луна не уберется, не погасит наконец свой прожектор…
Как вдруг мимо веранды, за полупрозрачными занавесочками, проплыла черная тень. Елы-палы! Кто-то двигался по двору, мимо крыльца и палисадника, под самыми окнами.
Серега подпрыгнул и босиком кинулся к занавеске. Отдернул… и увидел за окном Ивана.
Приятель улыбнулся, что-то беззвучно прошептал, уперев в Сергея замороженный взгляд, и пошел от дома к калитке. За собой он тянул тележку с сундуком.
— Хей, братишка, да ты еще и лунатик? — поразился Серега и побежал за приятелем. Должно быть, Иван выбрался из дома через дровяник. Вот что за стук он слышал недавно: дверь с задней стороны дома криво на петлях висит и всегда стучит, когда ее открывают.
Серега в три прыжка догнал напарника.
Иван шел босиком и в одних трусах.
Лунатик, точно, уверился Сергей.
Настигнув Ивана, он схватил его за руку, развернул к дому и повел. Иван послушно пошел, улыбаясь бессмысленной улыбкой и что-то бормоча себе под нос. Сергей напряг слух.
— Не плачь, Домовенок. Вот тебе твоя погремушечка. Сейчас мы будем дома… Мамка ждет, — услышал он и почувствовал, как ледяные мурашки поскакали наперегонки по его голой спине.
В темном коридоре сеней Иван вдруг очнулся.
— Не сюда, — сказал он. Голос его звучал ничуть не сонно.
— Сюда-сюда, — возразил Сергей, нащупывая дверь в избу.
— Нет! — повторил Иван и повернулся к выходу, дернув на себя тележку с сундуком. Серега не пустил.
— Вань, ну, ты прям, я не знаю. Прям Иван-дурак какой-то! — воскликнул он, вцепившись в рукоять тележки железной хваткой. Усталость как-то разом навалилась на него, а вместе с ней и раздражение. Лунатиков еще не хватало, думал Сергей, обшаривая ладонью стену.
Как назло, ручка двери куда-то подевалась. Зато отыскался выключатель — Серега надавил, и в коридоре вспыхнул свет.
— Вот так. А теперь пойдем баинь…
Рядом с левой щекой что-то промелькнуло — Сергей повернулся, чтобы посмотреть, но прямой удар в лоб оглушил его: оказывается, Иван ухитрился в темноте снять сундук с тележки, занес его над головой приятеля и им ударил.
В голове Сергея раздался грохот, как будто кто-то разбил рояль, а потом все звуки исчезли, изображение перед глазами расплылось, осталась только жгучая боль в языке — он прокусил его, когда падал.
— Стой, — прошептал он, не слыша самого себя и не понимая произносимых слов. — Стой, сука.
И захлебнулся кровью.
Иван приподнял Серегу за волосы, глянул в его быстро тускнеющие глаза и отпустил. Нагнулся, чтоб подобрать упавший сундук.
Мертвый Серега подержался на ногах секунду и рухнул, врезавшись лбом в стену. Весь костяк ветхой избы содрогнулся от удара. В этот момент Иван поднимался, задрав лицо и подняв плечи, отрывая от пола свою увесистую ношу.
Старый крестьянский серп, висевший на гвозде над его головой, сорвался и с размаху вонзился Ивану в глаз. Ржавое острие, пробив насквозь глазное яблоко, всего лишь на четверть сантиметра проникло в мягкие ткани мозга. Но и этого хватило.
Иван упал, держа сундук на руках, словно баюкая младенца, оберегая его от кровавой лужи, которая натекла с убитого Сереги.
Из Ивановой головы кровь брызнула тоненькой струйкой — на крышку сундука упало лишь несколько капель. Когда второе мертвое тело завалилось набок, в сундуке радостно звякнула детская погремушка — нежные колокольчики. Дзынь-динь-динь.
* * *
Смерть двоих городских переполошила всю деревню. Павел Тимофеич чувствовал себя особенно виноватым: когда среди вещей погибших нашелся сундучок, старик сразу догадался, откуда он появился у ребят.
Тимофеич упрашивал полицейских позволить ему похоронить сундучок где-то на освященной земле.
Но следователь был из района и, конечно, ни на какие поблажки не пошел. Сундучок со всем содержимым увезли в райцентр для экспертиз — все-таки орудие убийства…
Но там следы его затерялись: кто-то украл старинный предмет.
Не исключено, что когда-нибудь он всплывет на одном из интернет-аукционов, где анонимно торгуют антиквариатом. И Домовенок вновь поменяет и дом, и хозяев. Дзынь-динь!
ПОЛОВОДЬЕ МЕРТВЕЦОВ
Московская область, г. Воскресенск
Газель все замедляла ход в потоке машин и, наконец, резко встала. Взвизгнули тормозные колодки. Пассажиры микроавтобуса повалились вперед и друг на друга и загалдели.
Водитель — темный, горбоносый, с вальяжным пузцом представитель народов Кавказа — выругался и вылез из машины. Ромка Меркулов пробовал рассмотреть обстановку с того места в маршрутке, где сидел — рядом с водителем, но без толку. Тогда он подхватил свой рюкзак с рыболовными снастями и припасами и выбрался тоже — поглядеть, что там, на трассе, творится такое.
А творилось натуральное светопреставление.
Огромная фура, пытавшаяся, как видно, развернуться на узком пятачке, чтобы вылезти из битком забитой полосы в обратную сторону, навалилась передними колесами на рыхлую, пропитанную талым снегом непрочную обочину. Земля просела под тяжестью многотонного грузовика и сползла в кювет. Часть фуры осталась на дороге, перекрыв и закупорив движение и вперед, и назад, а кабина оказалась внизу.
На дороге суетились водители ближайших машин, обсуждая, можно ли вытянуть грузовик из кювета без помощи спецтехники.
Водитель фуры, успевший выпрыгнуть в снег из падающей кабины, теперь красный, потный, стоял тут же, молча выслушивая всевозможные определения в свой адрес. На критику он не реагировал и вообще пребывал в легкой эйфории от чудесного спасения — всем улыбался.
— Ишь ты, зубоскал! Черт свинячий. И без него в пробке торчали, а теперь и вовсе труба. Не выбересся, — пробормотал рядом с Ромкой какой-то седобородый дед в пестрой молодежной толстовке.
Разговаривая, он придерживал дверцу малолитражной «исудзу».
— Накрылась моя рыбалка медным тазом, — поделился с дедом Роман. — Блин!
Старик захлопнул свою приземистую машинку и поставил на сигнализацию.
— Рыбак? — Он покосился на Ромкину пуховую куртку, унты и рюкзак.
— Ага, — кивнул Ромка. И пожаловался: — Пропали «выхи». Из-за таких вот раздолбаев, как этот…
Дед неожиданно сменил тон, заступившись за водителя фуры, которого сам только что костерил.
— Все равно б ты тут застрял! — сказал он Ромке. — Не знаешь разве? Тут вон пробка, потому что впереди мост ледоходом накрыло. Там сейчас эмчээсники возятся, хотят заторы взрывать. Менты всех тормозили, разворачивали. Неспроста этот деятель в кювет улетел.
— Ледоход? — удивился Ромка. — А в прогнозе не было…
Дед наблюдал, как мужики, окружив фуру, старались подцепить ее кабину тросами и тянули в разные стороны, выбирая направление понадежнее. Спорили, не могли договориться и матерились на чем свет стоит.
Льдистые полупрозрачные глаза старика вспыхивали веселыми искорками при виде явно нелепой картины. Достав из кармана красно-белую пачку, старик щелчком выбил сигарету и протянул Ромке:
— На, будешь? «Сент-Жорж».
— Не. — Ромка помотал головой и поморщился. — Не курю.
— Это правильно, — задумчиво одобрил старик и, почиркав колесиком дешевой одноразовой зажигалки, прикурил. — Это хорошо. Здоровье надо беречь, — выпуская клуб вонючего дыма, сказал он. И протянул Ромке руку: — Александр Иванович. Рябков. Местный. Из Воскресенска.
— А я из Москвы. Рома. Меркулов.
Старик опять окинул взглядом Ромку, его экипировку и рюкзак — уже более придирчиво, но и на этот раз, судя по всему, остался доволен. Покивал, затягиваясь сигаретой.
— Так, а чего ж не бережете-то? — усмехнувшись, спросил Ромка.
— Чего?!
— Ну, это… здоровье.
— У меня здоровья на пятерых таких, как ты, хватит, — отрезал дед. — Другое поколение. Нам-то было чего расходовать. А вам только и остается, что беречь.
— Любопытная философия, — пробормотал Ромка. Подкинул плечом сползший рюкзак и двинулся в сторону моста — глянуть на ледоход. Раз уж выпало такое приключение — надо бы попялиться на природный катаклизм.
Дед пошел следом, пыхая сигаретой невозмутимо, словно какой-нибудь южноамериканский плантатор у себя в кофейно-табачной провинции.
— Это не философия, — сказал дед, вымешивая тяжеленными черными ботинками-милитари блестящую снежно-ледовую крупу по краю дороги. — Это жизнь. Вот ты, к слову сказать, рыбак, да?
— Ну?
— Вот скажи, какой у тебя самый фартовый улов был в здешних местах?
— В килограммах? — уточнил Ромка.
Дед презрительно задрал брови и сплюнул:
— В килограммах — в универсаме. Что ловил?
— Плотвёшку, окуней, щурят. Подлецов[2] в прошлый раз…
— А! — Дед махнул рукой. — Мелюзга. На здешних речушках — Северке, Нерке, Отре, чтоб ты знал, и язя, и судака, и налима с жерехом можно взять. Знаешь, как местные тут леща ловят? На донки. А для насадки фигурные макароны берут. Ну, такие… звездочки!
Ромка кивнул.
— Так вы тут ловили? — с интересом спросил он. — Я слышал, тут карп и сазан тоже попадаются.
— Бывает, — подтвердил дед. — Когда-то в Любиве с Медведкой и раки водились, вода много чище была и глубже.
Двигаясь вдоль трассы, они, наконец, вышли к высокому холму, где дорожная лента скатывалась вниз, и откуда с верхней точки открывался панорамный обзор: хорошо видны были мост, машины МЧС и полиции.
С десяток спасателей стояли, ходили и бегали возле ледяных торосов, загромоздивших берег. Серая ледяная шуга на реке перла поверх целых и ломаных льдин, шуршала, раздраженно шипела тысячью змей, выплевывая то тут, то там на поверхность черную воду.
— Река бесится. Силища! — сказал дед, разглядывая ледоход. — Но все-таки теперь тут не то, что раньше… Вот мой прадед… Он из крестьян был. Жил здесь, в селе Ачкасово. Сейчас это Воскресенский район, а до революции Коломенский уезд считался. И было там дворянское имение.
Дед снова закурил и, тыкая в воздух зажженной сигаретой, словно указкой, принялся рассказывать и показывать:
— Вон там… Не видишь? Эх, ты. И зрение у молодых тоже ни к черту… Ну, не суть. Господский дом много раз перестраивали, и усадьбу тоже — то разбирали, то снова возводили по новому проекту. Теперь-то там мало чего есть — часть дома да хозяйственные постройки — ледник, оранжерея. Но главное — Никольский храм, его на деньги одной из последних владелиц громоздили. А зачем — знаешь?
Была тому причина.
С самых старинных времен случается на Москва-реке такое диво в половодье: разольется вода, выпрет из берегов так, что все на своем пути посносит, а потом тащит мусором в Оку. Но вдруг, ниже по течению, недалеко от Ачкасова, остановится и огромной волной — назад! Вздыбится — и аж до самых Бронниц вспять бежит, народ пугает.
Прадед мой не раз это видывал, и все хотелось ему докопаться — с чего бы такие чудеса на нашей земле пошли?
Закончил он церковноприходскую школу и помогал при храме местному батюшке, а тот по дружбе позволял ему старые церковные архивы читать. Так мой предок и разузнал, что селом Ачкасовым владели когда-то дворяне с фамилией Норовы. Новгородского боярского рода, все как один буйные, своенравные, под стать фамилии. А может, и фамилия им такая неспроста была… Мужики про них говорили — Норовы с норовом. Чуть ли не все мужчины в их роду служили военными. А само село Ачкасово пожаловано было Григорию Михайловичу по прозванию Ширяй за подвиги на Ливонской войне.
Трое было сыновей у Ширяя, и все такие… не слабачки. У старшего кличка была войсковая — Гневаш. Ну, вот из-за буйного характера, наверное, и сгинули они все молодыми. Под Кесью погибли, теперь это город Венден в Латвии, знаешь? В XVI веке в этой Кеси резиденция магистров Ливонского ордена была.
Ну, не суть…
А после смерти сыновей и сам Ширяй на свете не задержался. Так вот село-то, ему пожалованное, брату его, Ивану Михайловичу Норову, досталось. Этого вояку в сражениях жестоко контузило, и вышел он в отставку секунд-майором. Страшный был человек и с головой сильно не в ладах.
Поместьем от его имени управлял какой-то немец, и, как водится, управлял с великой пользой для своего кармана, а для общества и людей — наоборот.
Терпели крестьяне его художества, пока сил хватало, ну, а как сделалось невтерпеж, решили все-таки хозяину пожаловаться. Дождались момента, когда приехал секунд-майор Норов навестить родные пенаты, ну и обступили деревенские мужички благодетеля своего, чтоб прошение ему подать. А благодетелю что-то торкнуло в голову — то ли вообразил он, что его враги на поле брани окружили, то ли по спеси своей дворянской не захотел слушать грязное мужичье. Накинулся он на собственных крестьян с саблей и погнал с боем в Москву-реку.
Да как начал их там рубать, беззащитных, безоружных, перепуганных, — аж вода кровавой пеной пошла. Вопли, стоны, плач стоит над селом — но безумный вояка не остановился, пока всех не посек в куски.
И унесла река изуродованные тела.
Вот с тех пор и возникло в здешних местах странное явление. Мертвые крестьяне поднимаются поперек течения и идут по воде назад — несут челобитную государю на обидчика и убийцу. Но как до своих могил дойдут — силы у них кончаются, и ложатся они на дно. До следующего года — терпят и ждут.
Прадед говорил: в иные весны сквозь струи воды можно было даже лица их рассмотреть — мрачные, худые. Увидишь, и до того безотрадно на сердце делается — кровь стынет в жилах. Вот, чтоб мертвых успокоить, и возводили последние землевладельцы храм в здешних местах. Но уж сколько лет все тут рушится и ветшает. Боязно, что…
Дед осекся. Напрасно прогоревшая сигарета обожгла ему пальцы, он засмолил новую.
Ромка зябко поежился. Продрог он, да и рассказ произвел траурное впечатление. Глянув в сторону реки, он вдруг заметил: возле ледяных заторов не осталось ни одного спасателя — все ушли за мост, укрылись в овраге.
— Они взрывать, что ли, бу…
Не успел договорить: раздался грохот. У Ромки заложило уши, дед от неожиданности присел, выронил сигарету.
— Вон, смотри, смотри! — крикнул он, указывая рукой.
Ледяные заторы, напиравшие на мост, наползавшие поверх опор на дорожное полотно, взлетели в воздух. Сверкая алмазными искрами, дождь осколков ушел вверх широким столбом. Река с гулом подвинулась вперед, но внезапный вал черной воды, освободившейся от ледяного плена, вскипев, рванул в обратную сторону. Плеснула волна поперек течения…
В изумлении вытаращив глаза, Ромка смотрел на реку: на тощие фигуры, в струях черной воды, скорбные лица и руки, вскинутые вверх в невыразимой тоске…
Но только моргнул — и пропало видение.
Волна улеглась. Взрывы расчистили русло.
Река пошла, оставив в покое мост. Покатила без остановки своим путем, все дальше от Москвы.
— Видал?! — вскрикнул дед. — Вот как оно сказывается-то…
— Вроде да, — сказал Ромка, переведя дыхание. И присел, чтобы поднять свалившийся в снег рюкзак.
— Вро-оо-оде? — протянул Александр Иванович. — Эх, вы, молодые. Ни глаз у вас нету, ни… А!
Он сердито сплюнул, полез в карман за новой сигаретой, но, так и не добравшись до пачки, махнул рукой.
Ромка пожал плечами, подобрал рюкзак и побрел обратно к трассе, чувствуя, что на рыбалку в здешние края его еще долго не потянет.
КУКЛА
Московская область, г. Фрязино, усадьба Гребнево
Я не заметил, как он появился рядом со мной — человек в черном драповом пальто. Я как раз прицеливался объективом, стараясь добиться более четкой картинки — хотелось сфотографировать развалины в необычном ракурсе: изящно изогнутые тонкие деревца и подтаявший, порыжелый ноздреватый снег в рамке кирпичей, закопченных после пожара. Там, где остов бывшего имения затенял дорожку к флигелю, все еще сохранялся снег этой зимы.
Человек двигался вдоль стены с внутренней стороны и бормотал про себя, опустив голову, как будто искал что-то. Мне послышалось — он говорил про куклу. «Чертова кукла» или что-то в этом роде.
Заметив меня, он спросил:
— Это вы для суда снимаете?
— Нет! — удивился я.
— Значит, вы из газеты?
Я рассмеялся.
— Послушайте, я обычный фотограф-любитель. Приехал по собственному хотению. По зову сердца, понимаете?
Он глянул на меня исподлобья.
— Так вас не судебная экспертиза направила?
— Никто меня не направлял. Говорю же вам! Просто люблю заброшенные здания фотографировать. Живописные места. Природа и все такое…
— А, — недоверчиво протянул он.
— А вы? — Во мне вдруг проснулось любопытство.
— Я? Я реставратор. Шалимов.
Мне стало еще интереснее, и я представился ему: «Виктор. Зайцев». Мы пожали друг другу руки, и я спросил, что он тут делает. Он буркнул себе под нос:
— Да я тут, собственно, так… Думал, может, найдется?
— Что найдется? — переспросил я.
— Кукла, — ответил Шалимов и замолчал.
Я ждал пояснения, рассматривая реставратора в упор. Он вздохнул и спросил:
— Вы знаете историю этого места?
— В самых общих чертах, — ответил я. — Дворец недавно восстановили, собирались открыть в нем музей. Но случился пожар, и все сгорело. А раньше тут, кажется, был санаторий. Причем до революции — тоже. А что?
Вместе с новым знакомым мы направились по дорожке, ведущей от главного дома к флигелю. На середине пути я остановился, чтобы сфотографировать панораму заброшенной усадьбы, обернулся и вздрогнул.
Дом укоризненно смотрел нам вслед черными провалами вместо окон; фасад с обвалившейся штукатуркой, из-под которой торчало «мясо» кирпичной кладки, напоминал скорбное лицо жертвы с ободранной, клочьями висящей кожей.
— Отсутствие жизни обезображивает. Чудовищно. Не находите? — заметил реставратор.
— Нахожу.
— Да, и есть определенное сходство. Когда мне в руки попала история баронессы, я это сразу заметил. Думаю, именно здесь он и написал свою историю про куклу…
— Он? Кто он?
— А я не сказал? — спросил Шалимов, моргая. — Грин. Литератор. Тот самый. Алые паруса, Ассоль, капитан Грей, помните? И кукла та самая.
С этим человеком нужно иметь большое терпение, подумал я. Но ведь явно какая-то тайна вертится у него на языке! И я твердо решил узнать ее.
— При чем же тут Грин?!
Думаю, реплика прозвучала сердито. Шалимов с удивлением уставился на меня, потом потряс головой, рассмеялся.
— Простите. Когда я здесь, у меня почему-то все мысли путаются. Если хотите, я расскажу.
— Хочу. Расскажите!
— Попробую. Вы знаете, что у Грина был брат?
Я покачал головой, и реставратор поторопился пояснить:
— Так вот. У Александра Гриневского, который вошел в литературу под именем Грин, была бурная молодость. Он рано оторвался от семьи, много скитался, не имея, по сути, профессии. В те годы Россия уже дышала революцией… Такая обстановка. Грин примкнул к партии эсеров и несколько лет провел на нелегальном положении. Его арестовывали, ссылали, он убегал, жил по фальшивым паспортам…
Шалимов посмотрел на меня, чтобы убедиться, что я слушаю внимательно. Я кивнул, и мы, не сговариваясь, направились снова к флигелю.
— У будущего писателя имелся троюродный брат, — рассказывал Шалимов. — Старше его на 20 лет, благополучный, во всех отношениях состоявшийся человек — Федор Александрович Гриневский. Врач, весьма популярный у московской публики. Лечил даже и знаменитостей — Савву Морозова, актера МХАТа Мейерхольда. В 1904 году на Поварской улице в Москве доктор Гриневский открыл санаторий для нервных больных, а в 1913 году выкупил имение Гребнево у его владельцев — купцов Кондрашовых, подремонтировал усадьбу и разместил тут загородный филиал своего санатория. И вплоть до 20 года вел здесь дела, после чего уехал на родину, в Польшу.
— Так. И о каком же сходстве вы говорили? Если между братьями, то тут больше разницы! — усмехнулся я.
— Погодите. Это не все! — Шалимов тряхнул головой. — Не имеется никаких документальных свидетельств, что братья когда-нибудь встречались и даже вообще были знакомы. Однако есть определенная логика в том, что этих подтверждений не существует. Я хочу сказать, что, если б даже братья и были тесно связаны друг с другом, им обоим было гораздо выгоднее это скрывать.
— Почему? — не понял я.
— Потому что одного из них связь с нелегалом, с политически неблагонадежным лицом, компрометировала перед властями. А второму, кто постоянно скрывался от полиции, было удобно использовать возможности первого ему в этом помогать! Вы только представьте: клиника для нервных больных. Частная. Пациенты обязаны иметь при себе паспорта? Нет, не обязаны! Всю ответственность за больных несет врач, и только он устанавливает режим их пребывания в клинике. Скажет доктор: к такому-то ужасно больному человеку никого не пускать — и не пустят. Хоть сам жандармский генерал по его душу явится! А если и прорвется, допустим, какой-то ретивый генерал к кому-то в палату — что он там увидит? Полуовощ в летаргической спячке? Ну и что с него взять?
Нет, что ни говорите, но частная клиника и сочувствующий доктор-заведующий — это практически шапка-невидимка для мятежника в бегах — настоящее сокровище. И признаваться кому-то в подобных счастливых связях — все равно, что выигрыш от лотереи в помойку бросить. Глупость!
— А если троюродный брат Грина вовсе не сочувствовал ему как эсеру? Может, доктор был законопослушным гражданином? — сказал я. Доводы Шалимова меня заинтриговали, но показались спорными.
— О! А я разве не сказал? — Реставратор взглянул на меня с удивлением. — Доктор Гриневский — поляк! Этим все сказано. Поляк и мятежник — в Российской империи это были практически слова-синонимы. Поляки? Основные заводилы в любой заварушке!
Более того — я убежден, что, если как следует покопаться, обнаружится, что и больницу доктор Гриневский открыл не только на собственные средства. Скорее всего — при участии революционных капиталов. Вспомните историю Саввы Морозова! Ведь это была распространенная практика в те времена: революционеры спонсировали легальные заведения, чтобы под их прикрытием проворачивать нелегальные дела. И удобно, и обоюдовыгодно.
— Но, как я понимаю, кроме ваших умозаключений, никаких доказательств нет! Вы сами признали.
— Документальных — нет. Но есть одно косвенное свидетельство. Художественное. Я имею в виду рассказ Грина «Серый автомобиль». Этот текст и чудом найденная в архиве история здешней больной, баронессы Р. — детали одной головоломки.
Баронесса лечилась у доктора на Поварской и здесь, в Гребнево, тоже. В 1919 году она скончалась от тифа в возрасте 24 лет. Я уверен, что Александр Грин видел баронессу и был с ней знаком. История ее жизни и помешательства так живо тронула его, что он описал это в своем рассказе. Сходство, знаете ли, невероятное!
— В чем именно? — не понял я.
— В кукле! — воскликнул Шалимов. Глаза и щеки у него полыхали, и этим он теперь отчасти походил на останки гребневской усадьбы: лицо приобрело кирпичный оттенок.
— Да! Все дело именно в кукле.
* * *
Куклу изготовили в Германии по заказу одного из немецких княжеских домов и доставили с нарочным, адресовав посылку Александре-Софии, урожденной баронессе фон Рённ.
Но первой коробку открыла ее мать. Потому что, когда подарок принесли в дом, сама баронесса, красная и сморщенная, лежала на пеленальном столике, окруженная патронажными сестрами, няньками и мамками. Ей было несколько часов от роду, и она вызывала восторг у всех, кто ее видел.
Вернее сказать, у всех, кроме ее матери — Екатерины Ивановны фон Рённ, юной супруги Александра Федоровича.
Барону было 35, когда он женился на выпускнице Смольного института, высокородной аристократичной красавице. Это был красивый союз, но супруга барона оказалась слишком хрупкого сложения. Первые роды едва не убили ее.
Может быть, поэтому, пока все охали и ахали над новорожденной девочкой, сама Катерина Ивановна, лежа в постели и едва дыша, не проявляла никакого интереса к дочери. В младенце она все еще видела угрозу собственной жизни, и ей не хотелось брать на руки это неприятное существо.
— Не сейчас. Не могу, — сказала она, когда девочку поднесли к ней, завернутую в пеленки, и она глянула на припухшие закрытые глаза, на мокрые редкие рыжие волосики на крохотной голове младенца. Катерине Ивановне примерещился кусок сырого мяса, глумливо упакованный в кружево. Баронесса с трудом удержалась от крика, увидав, как тонкие синюшные пальчики существа внезапно шевельнулись и ухватились за край пеленки. — Нет! Пожалуйста! — непроизвольно задрожав, воскликнула юная мамаша, отталкивая белый кулек, который нянька пыталась положить ей на руки.
— Дайте отдохнуть баронессе. Она слишком устала, — решил муж Катерины Ивановны.
Александр Федорович считал, что поступил эгоистично, ранним замужеством и материнством отняв у супруги юность. И поэтому проявлял снисходительность, потакая капризам жены.
— Оставьте ее, — велел барон.
Катерину Ивановну оставили в покое.
Материнский инстинкт просыпался в ней медленно, поднимаясь из глубины ее натуры, словно хищная рыба со дна заросшего тиной озера.
Новорожденную вскармливала веснушчатая Фекла, недалекая, но тихая и спокойная деревенская женщина, у которой недавно умер сынок.
Баронесса, поправляясь, навещала дочку в ее детской. Александра-София родилась слабенькой. Она плохо спала, после каждого кормления у нее случались колики и приступы шумного, истеричного плача. Врачи не позволили родителям окрестить ее, опасаясь, что дитя не выдержит суровой процедуры погружения в воду.
Юная Катерина Ивановна терялась, когда ребенок начинал плакать. Сама еще слишком слабая, она быстро утомлялась и возвращала девочку Фекле.
Часто, скучая в детской, Катерина Ивановна вместо дочери брала на руки куклу, присланную родственниками мужа.
Игрушка была необыкновенно хороша.
Ее изготовили на фарфоровой фабрике в единичном экземпляре по оригинальному эскизу. Кукла умела закрывать и открывать глаза и говорить тонким хрустальным голоском: «Мамочка, я люблю тебя!»
Родственники барона фон Рённ заплатили солидную сумму за этот подарок. Они потребовали, чтобы фабричный художник придал игрушечному лицу сходство с Катериной Ивановной — чтобы сделать приятное молодой матери, а также в надежде, что юная баронесса Александра-София со временем унаследует ее миловидные, идеальной симметричности черты.
Представлялось забавным и милым, что девочка, подрастая, будет играть с собственным подобием.
Екатерине Ивановне нравилось в этой кукле все: нежный голос, яркие голубые глаза, розовые щечки, губки, изогнутые в форме лука. Паричок с аккуратно завитыми кудряшками был изготовлен из настоящих женских волос пшеничного цвета — таких же густых и блестящих, как у самой баронессы.
Куклу в честь новорожденной назвали Алексой. Карточка с именем, украшенная вензелями и вырезными бумажными голубками, лежала в коробке.
Баронесса обращалась с куклой как с живой девочкой. Все знали, что в Катерине Ивановне сохранялось много ребяческого, и никто поначалу не обращал на это особого внимания. Пока не случилась одна неприятность.
* * *
Александре-Софии исполнилось семь месяцев. В этом возрасте у детей режутся первые зубки, и они ведут себя еще капризнее, чем обычно. Девочка много плакала по ночам и однажды своим ревом разбудила отца.
Обеспокоенный Александр Федорович накинул халат и пошел на шум.
У порога детской он остановился. Младенческий плач почти затих, вместо него из комнаты доносилась странная заунывная мелодия — Фекла пела ребенку песенку.
Александр Федорович прислушался, и волосы зашевелились на его голове.
Баю-бай, баю-бай, Поскорее помирай,—пела Фекла.
Ты помри поскорей, Мы схороним веселей. Со двора повезем Да святых запоем, Захороним, загребем Да с могилки уйдем…Барон ворвался в детскую как смерч.
Фекла, прикорнувшая на скамеечке рядом с детской кроваткой, вскинула голову. Она укачивала малышку, прижав ее к своей пухлой белой груди. Лицо у мамки было сонное и бессмысленное.
В холодном голубом свете, льющемся из-под шелкового абажура лампы, барону показалось, что голова его дочки как-то слишком запрокинулась, а щечки покрылись синюшными пятнами. Лицо куклы Алексы, стоящей на комоде поблизости, с ее розовыми фарфоровыми щечками, смотрелось куда более живым.
С криком ужаса Александр Федорович выхватил из рук Феклы ребенка, едва не уронив при этом.
— Вон! Пошла отсюда! Врача! Звонить сейчас же! — разъярившись, невразумительно требовал он.
Младенец завопил. Перепуганная Фекла заревела от страха. Весь дом пробудился от шума.
Первым примчался в детскую личный камердинер барона. Он вытолкал из комнаты ополоумевшую бабу и на всякий случай вызвал по телефону семейного доктора.
Но первым делом он поспешил успокоить барона — багровый апоплексический румянец уже разлился по щекам аристократа, и ничего хорошего для его здоровья это не сулило.
— Александр Федорович, ведь это природа, — уговаривал старик своего перепуганного хозяина. — Нельзя же так! У ребенка всего лишь зубки прорезаются, ничего страшного в том нет…
— Ты не был бы так спокоен, Прохор Петрович, если б слышал то, что довелось услышать мне!
Барон передал своему доверенному слуге слова чудовищной колыбельной, как они запомнились ему.
— Только вообрази — она уговаривала девочку умереть! Каково?!
Александр Федорович весь дрожал от пережитого потрясения.
Покачав головой, старик осторожно забрал из рук барона плачущую девочку, потетешкал ее, почмокал губами, попоил малышку водой. На руках спокойного и опытного человека ребенок мгновенно уснул, и его уложили в колыбель. Стоя над кроваткой, старик шепотом пояснил:
— Ах, ваша светлость! Это ведь народ. Простые, невежественные люди. Конечно, их дикие первобытные песни кажутся вам ужасными. Но я слыхал, что и в Европе существует такая нелепая традиция в деревнях: матери поют детям о смерти.
Когда в дом явился взбудораженный неожиданным ночным вызовом доктор, он, как ни странно, подтвердил слова камердинера:
— Совершенно верно. На самом деле все эти наговоры воспринимать следует в обратном смысле. Да-да-да!
И, глядя, как недоверчиво смотрит на него барон, доктор прибавил:
— В древности язычники считали новорожденных в некотором роде пограничными существами. Они — те, кто только что явились в мир из небытия, и законы нашего мира до определенного возраста над ними не властны!
В каждом младенце, по старинным крестьянским поверьям, помимо человеческой души, обитает еще и Тень. Что-то вроде невидимой пуповины, связывающей через ребенка мир мертвых и мир живых. Вот эту самую тень, некую загробную субстанцию, матери и уговаривают умереть особыми песнями. Прогоняют ее. Чтобы сам младенец жил. Чтобы он окончательно перешагнул рубеж и остался в нашем мире.
— Какие-то ужасы вы рассказываете!
Александр Федорович передернулся: холодная нервная судорога свела ему плечи.
— Да ничего особенно ужасного тут нет, — заметил доктор. — Просто остатки старых верований. Вы знаете, что мотивы и тексты колыбельных — это самая древняя поэзия на земле? Все это кажется нам теперь чужим и непонятным. Но… Однажды в Андалусии я сам слышал, как мать напевает первенцу, желая ему смерти. При этом лицо ее светилось любовью, как у святой мадонны: как всякая мать, она хотела своему ребенку только счастья и добра. Я уверен, что ваша туповатая крестьянская кормилица, которую вы прогнали…
— Фекла? — Барон, казалось, успокоился, взял себя в руки. — Возможно, вы правы. И даже трижды правы! Но я ни в коем случае больше не доверю единственное дитя этой невежественной деревенщине!
Доктор с бароном не спорил.
— Разумеется! — воскликнул он. — Да и необходимости нет. Катерина Ивановна уже давно здорова.
* * *
С этого дня они постоянно были вместе: маленькая Александра-София, ее мать, Катерина Ивановна, и любимица баронессы кукла Алекса.
Поначалу пришлось нелегко: первые недели Катерина Ивановна пребывала в угнетенном состоянии духа. Необходимость разделять свою жизнь со слабым беззащитным существом, полностью зависимым, не способным позаботиться о себе, тяготила с непривычки.
Даже помощь домочадцев не снимала душевного напряжения. Но материнство естественно, и в конце концов Катерина Ивановна, как и все женщины мира, стала постепенно привыкать к своей новой роли и даже находить в ней особенное, ни с чем не сравнимое удовольствие.
Ей нравилось, когда малышка, проснувшись, теплая и розовая со сна, улыбалась ей, — это было всегда неожиданно, как внезапный луч солнца посреди хмурого дня, а улыбка и взгляд ребенка становились все более осознанными. Александра-София училась узнавать маму и уже пыталась приветствовать ее на своем младенческом языке. Баронесса учила дочку говорить, и в этом ей помогала Алекса.
* * *
— Ма-ма. Скажи. Ма-ма. Ну?
Катерина Ивановна взяла в руки куклу и наклонила над кроваткой. Кукла произнесла: «Мамочка, я люблю тебя!»
Маленькая Александра-София, вытаращив круглые голубые глазенки, пустила слюни на подбородок и, встав в кроватке, замахала ручками.
Выражение лица у нее при этом сделалось таким серьезным и целеустремленным, что баронесса засмеялась. А девочка тем временем дотянулась и цапнула Алексу за волосы.
— Нет-нет, ты же порвешь, сломаешь! — испугалась Катерина Ивановна.
Но девочка зажала в кулачке одну из блестящих кудряшек и ни за что не хотела отпустить.
Баронессе пришлось разжимать кулачок дочери насильно. Александра-София при этом расплакалась, а паричок Алексы растрепался: часть волос вылезла и осталась на полу.
— Ай-ай-ай! Надеюсь, Алекса не обидится на тебя, — сказала баронесса и убрала куклу на полочку этажерки, туда, где стояла маленькая керосиновая лампа-ночник.
Все случилось в полночь.
Запах гари разбудил прислугу в нижнем этаже. Перепуганная девушка выглянула на лестницу: черные клубы дыма шли с верхней площадки…
Источник пожара обнаружился в детской. Вопли служанки подняли на ноги всех, кто был в доме.
Сообща бросились тушить огонь. Комнату залили водой, и, когда дым рассеялся, страшная картина предстала глазам обитателей дома.
Барон фон Рённ, растолкав слуг, застыл на пороге, не решаясь войти и преграждая путь своей супруге. Он издали разглядел обугленный остов детской кроватки и что-то красно-черное на дне, в обгорелом и все еще тлеющем детском ватном одеяльце, от которого вились синеватые струйки дыма…
— Доченька! — Истерически рыдая, Катерина Ивановна вцепилась в мужнину руку и, не сознавая себя, дергала и трясла ее. — Пустите же!
— Не надо, — прошептал барон и попытался задержать жену, но сил у него не хватило.
— Пустите, — сказала Катерина Ивановна и, оттолкнув мужа, кинулась к детской кроватке. К тому, что от нее осталось. Осколки разбитой керосиновой лампы и кукла на полу подсказали, что именно здесь произошло.
Алекса упала на пушистый ковер в двух шагах от колыбели и, благодаря этому, не пострадала совершенно. Ни единой трещинки не осталось на безмятежном фарфоровом лице. Оно даже не покрылось сажей.
Но горящая керосиновая лампа, которую, падая, она случайно зацепила и увлекла за собой вниз, угодила прямо в колыбель. Тяжелый медный резервуар керосинки ударил младенца по голове и, вероятно, оглушил. Поэтому девочка не кричала, не билась, а тихо сгорела заживо.
Такие факты установила потом полиция. Войдя в детскую, баронесса шагнула к кроватке дочери, но, наткнувшись на куклу, машинально подняла игрушку.
— Мамочка, я люблю тебя! — сказала Алекса, оказавшись на руках у Катерины Ивановны. Услышав этот голосок, такой знакомый и нежный, баронесса вздрогнула и… улыбнулась. Она прижала к груди уцелевшую в пожаре куклу, ласково поглядела в ее красивое фарфоровое личико и спокойно, как ни в чем не бывало, вышла из страшной комнаты, где еще дымился труп ее дочери.
С тех пор баронесса не расставалась с куклой.
Ни на швейцарском курорте, куда ее отправили вскоре по совету семейного врача. Ни в парижской лечебнице для душевнобольных, где больной разум и сломанную душу пытались лечить с помощью гальванических ванн.
Никакие курсы и методы результата не дали: Катерина Ивановна фон Рённ продолжала нянчить фарфоровую игрушку, считая ее своей настоящей дочерью. И эта всех пугающая привязанность с каждым днем только росла.
В клинике доктора Гриневского, в загородном гребневском филиале, баронесса провела несколько лет. Именно здесь будущий писатель Александр Грин познакомился с удивительно красивой душевнобольной дамой, которая чувствовала себя вполне счастливой, пребывая где-то в райской вечности с неживой «дочкой», единственной своей близкой подругой.
История баронессы и ее куклы произвела сильное и болезненное впечатление. Бурная фантазия писателя перемешала новые образы со старыми идеями, давно занимавшими его разум, и спустя много лет на свет появился рассказ «Серый автомобиль», повествующий о сумасшествии, об ожившей кукле, о пугающе живой Смерти и убивающей мертвой Жизни.
* * *
— «Берегитесь вещей! Они очень быстро и прочно порабощают нас». Это написал Александр Грин в 1925 году, — сказал Шалимов, обхватив рукой лоб, как будто у него внезапно заболела голова. Вероятнее всего, так оно и было, потому что гримаса, исказившая его доброе и беспомощное лицо, так и не сошла с него — вплоть до момента, пока мы с ним не расстались.
— Вы рассказали очень интересную историю, — сказал я, упаковывая в чехол фотоаппарат. Автобус, которым я собирался уехать обратно в город, вот-вот должен был подойти. Мы стояли в десяти шагах от остановки и уже пожали друг другу руки, прощаясь: Шалимов явно торопился уйти. Однако у меня еще были вопросы, ради разъяснения которых я готов был задержать его и задержаться сам.
— Так все-таки: о каком же сходстве вы говорили?
Шалимов поморщился, но остановился и ответил:
— Незадолго до открытия музея один из сотрудников, занимавшихся реставрацией, обнаружил в подвале, в небольшом тайнике среди печного фундамента, очень красивую старинную куклу. Она была в достаточно хорошем состоянии, и мы сразу решили, что включим ее в будущую экспозицию. Наши художницы-мастерицы обновили ее гардероб. Им всем нравилось работать с этой куклой, и женщины даже ссорились из-за нее. Никак не могли решить — кому именно она будет говорит своим писклявым голоском: «Мамочка, я люблю тебя!»
Я вскинул удивленные глаза на Шалимова. Реставратор кивнул.
— Да. Именно так. На восстановительные работы в усадьбе ухлопали много сил и средств. Надеялись создать настоящий историко-культурный центр в здешних местах. Собрали необычные музейные экспонаты, картины известных мастеров. Намечалась обширная программа: выставки, концерты…
И вдруг перед самым открытием — пожар. Огонь уничтожил все, только стены остались. Почему загорелось — так и не выяснили. Судебное разбирательство длится ни шатко ни валко уже несколько лет. Никто в нем особенно не заинтересован. Все только и делают, что пытаются спихнуть вину на другого — работники, организации…
— Да, но вы… Как вы…
Он улыбнулся:
— Уже после пожара местные детишки лазили на чердаке чьей-то заброшенной дачи и откопали там груду бумаг — медицинские архивы. Кто-то, видно, забрал их на растопку печи, когда санаторий в Гребнево закрыли. Большую часть старых документов сожгли, но кое-что осталось. Дети принесли их мне — так я заполучил в свои руки историю болезни баронессы фон Рённ. Из нее узнал о кукле. Там было ее описание. И рассказ врача.
Это интересно, знаете ли. Доктор писал о том, какие улучшения происходят постепенно с Катериной Ивановной под влиянием назначенных препаратов. Оказывается, у баронессы были просветления. Но как раз в тот момент, когда она уже согласилась, что фарфоровая кукла Алекса никак не может быть ее умершей дочерью Александрой-Софией… В клинике случился пожар. Он начался в комнате баронессы. Бедная женщина задохнулась от дыма. А кукла нисколько не пострадала. Она приветствовала удивленную сестру милосердия, нашедшую ее, словами: «Мамочка, я люблю тебя!» Доктор был при этом и, по собственному его признанию, содрогнулся. А мне все это кажется невероятно любопытным. Вот почему и пришла в голову мысль поискать… Почему нет?!
Я посмотрел в глаза Шалимову — странное выражение одержимости, промелькнувшее в них, смутило меня.
— Да, конечно, — сказал я. И вздохнул с облегчением, когда долгожданный автобус, наконец, подкатил к остановке.
ЖИВОПИСЕЦ ДЬЯВОЛА
Тамбовская область
Церковь я увидал еще с дороги: старинные руины торчали на холме, подобно мертвецу, восставшему из могилы. И шевелилась на месте обвалившегося внутрь купола зеленая поросль травы и молодых деревьев — будто вздыбленные волосы.
Прозябающие осколки, позабытые временем: остов из красного кирпича, зияющие черными провалами окна, перекошенные, незакрывающиеся, горбатые врата.
Алексей Иванович, привезший меня сюда, огляделся с довольным видом.
— Вот и на месте мы, — сказал он. Вытер пот с раскрасневшегося лица и повесил шлем на ручку мотоцикла. — Ладушки. А то ж я поначалу и найти-то не мог. Старухи в селе талдычат — за переправой, за мостками. Хожу-хожу: ни переправы на реке, ни мостков… Как заколдованная церквушка эта. Что за притча? Куда ни сунусь — всюду болото. Ну, теперь-то я дорогу знаю…
Я вылез из коляски древнего «Урала», покряхтел, попрыгал, расправляя затекшие ноги, и мы двинулись с моим провожатым к церкви сквозь гигантские заросли борщевика.
Было жарко и душно. Парило.
В вышине толкались толстыми боками кучевые облака, словно стадо бронтозавров, не поделивших водопой, — теснились и напирали, и единственный остававшийся между ними узкий синий лоскут неба все сужался. «Гроза будет», — подумал я. Поежился от холодного ветерка, лизнувшего взмокшую шею, и мы переступили порог разрушенного храма Преображения Господня.
* * *
Вряд ли когда-нибудь я оказался бы здесь, если б не попросил меня отец Александр.
Собираясь в двухнедельный отпуск в Рассказовский район, к дальней родне, я уже предвкушал, как сяду на берегу с удочкой, а хор лягушек начнет выводить затейливые рулады в прохладном вечернем воздухе и комары будут вести втору — тонко и высоко зудя. И я, разумеется, им похлопаю — мне не жалко.
Я буду вдыхать запахи летних цветов, доносящиеся с луга, а в руке у меня будет удочка. Легкая, старинная — отцовская. Из бамбука. Малейшая поклевка — и я почувствую рукой, как дрогнет удилище, напрягу кисть, поведу поплавок мягко, сдерживая нетерпение, потом резко — подсекаю и — вот она, серебристая плотвичка или красноперочка, пляшет, извивается на гальке у прозрачной, как бутылочное стекло, зеленой воды. Красота!
Узнав, куда я направляюсь, отец Александр попросил разведать, в каком состоянии пребывает храм в селе Бабино.
— Прихожане благочинным жалуются: погостов поблизости много, а храма ни одного. Ты погляди, Левушка, да расскажи, какие там, на месте, обстоятельства. Это тебе недалеко будет, на границе района, — сказал отец Александр и, часто моргая, уставился на меня близорукими глазами.
С отцом Александром сдружились мы давно: я работал по нескольким строительным подрядам для церкви, связанным с реставрацией. Но разыскивать какое-то село в непроезжей глухомани? Тратить драгоценные дни короткого летнего отпуска, жертвовать блаженным одиночеством и покоем?
Я пожал плечами и кивнул. С кем бы ни случалась какая беда — отец Александр легко принимал на себя самые страшные людские заботы, упираясь пуще других. А когда уже дело бывало сделано, совершенно искренне не ждал благодарности от людей, напрочь забывая о каком-то своем участии в их делах. Потому что перед ним всегда была полным-полна коробушка людских просьб, бед и хлопот — только успевай черпать да поворачиваться.
Уж кому-кому, но отцу Александру отказать я не посмел.
— Тебя там, Левушка, встретят. Сафронов Алексей Иванович, такой дачник местный, из пенсионеров. Я с ним созвонился — он тебя примет, — пообещал отец Александр.
— Хорошо, — сказал я.
* * *
Алексей Иванович Сафронов — тот самый, обещанный мне отцом Александром, «дачник» оказался мужиком хоть и в возрасте, но еще очень крепким, любопытным и болтливым. Глаза его, холодные, синие, смотрели на все вокруг с острым пронзительным прищуром, а голос был из тех, что сравнивают обычно с иерихонской трубой.
— Село называлось Бабино, потому что помещик тут был Бабин, — объяснял мне Алексей Иванович, пока мы ехали. Для этого ему приходилось орать против встречного ветра, заглушая рычание мотора. Но, судя по тому, с какой легкостью он это делал, его луженая глотка не особенно напрягалась. Я только боялся, как бы мой водитель не схватил ртом какого-нибудь жука или кузнечика, которого могло закинуть порывом ветра. Поперхнуться на полном ходу… Это стоило бы нам аварии. — Здесь где-то и могила была. Этого Бабина! — орал Алексей Иванович. — Местное старичье рассказывало такую историю: будто бы здешние крестьяне чем-то своему барину сильно потрафили. То ли жену с дочкой его спасли. Когда кони их коляску понесли — крестьяне остановили коней. То ли самого барина как-то выручили… Перед барыней шашни его прикрыли. Точно не помню! Но вот нашло на него такое умягчение сердца. Бывает. Собрал людей, спросил: мол, чего хотите? Водки или денег — просите, все дам! Ну и ладушки — попросили крестьяне у барина церковь. Да чтоб не хуже, чем у соседей! Зимнюю, каменную, с колоколенкой, с росписью внутри. Пришлось барину слово свое держать. Ладушки. Построил он церковь Преображения Господня, и с тех пор деревня Бабино стала по ревизским сказкам селом Преображенским числиться.
Алексей Иванович трещал без умолку всю дорогу. Притих, только когда мы вступили, наконец, под своды церковных развалин.
Как я и думал, внутри обнаружились горы строительного хлама: рассыпанные повсюду остатки кирпичей от просевшего купола, битое стекло, гнутые прутья железной арматуры. Вывороченные из оконных и дверных проемов косяки и деревянные рамы, растресканные и расщепленные, торчали опасным частоколом в правом приделе — кто-то, видно, сгреб их в угол, собирая, быть может, на дрова.
Пол, настеленный поверх здоровенных поперечных балок, местами сгнил и провалился.
— Как бы ноги тут не переломать, — заметил Алексей Иванович, благоразумно останавливаясь у входа. — А красота-то какая была, а?! Вот это ладушки.
— Действительно, — согласился я и двинулся осторожно вдоль стен, разглядывая красоту — сохранившиеся превосходные фрески. Снаружи штукатурный слой осыпался полностью, а внутри законсервировался, очевидно, за счет купола, рухнувшего только недавно и до последнего стойко защищавшего живопись от ветра, снега и дождя. — Красота, — подтвердил я.
Не знаю, кто расписывал этот храм, но это был, безусловно, мастер. Даже в таком виде — изрядно полинявшие, покрытые трещинами — цветные картины из жизни Христа и апостолов, помещенные в рамы из ярких растительных орнаментов, производили удивительное впечатление. Нарисованные на стенах фигуры казались схваченными в самый момент движения и закованными в бесконечность бессмертного существования.
Но в них оставалось дыхание жизни: Мария Магдалина, в отчаянии обхватившая руками израненные ступни мертвого Иисуса, снятого с креста, Дева Мария, поникшая головой над телом сына, безутешный ученик Христа Матфей, солдаты, делящие одежды убитого… И особенно ярко — главная тема: бездна неприступного света на горе Фавор, обличение Христа в Нового Адама, преображение Господне, спасение человечества. С каким изумлением взирают верные ученики, будущие апостолы церкви Христовой — Петр, Иаков и Иоанн — на пророков Моисея и Илию, сошедших с небес, чтобы поговорить с Иисусом. Какие живые, настоящие лица…
Да, художник, расписавший эти стены, был великим мастером. Но, чем больше вглядывался я в написанные им лики, чем больше восхищался их неподражаемым реализмом и жизненностью — тем гаже делалось у меня на душе. Ощущение какого-то подвоха, чего-то неприятного и недоброго со стороны рисованных библейских персонажей преследовало меня, как наваждение. Как будто они и вправду жили и двигались и только сыграли в «море волнуется раз» — за секунду до того, как мы здесь появились с Алексеем Ивановичем.
И вот стоят, затаив дыхание и не моргая, а отвернемся мы — фыркнут и рассмеются. Над нашей чувствительностью. Над нами.
Многовато в этих фигурах пафоса, пошлости какой-то театральной, напыщенности? Нет, я не мог и самому себе объяснить, что мне в них не нравилось.
И думать нормально не мог — голова сделалась внезапно тяжелая. Сердце сдавило. Перед глазами будто рой мушек завертелся. Духота нарастала, и в воздухе чувствовалось напряжение, обычное перед грозой.
Мне уже не хотелось разглядывать фрески. Лица святых пугали, и особенно почему-то — фигура преображенного Христа, облитая сиянием «неприступного света».
Куда ни повернись — я затылком ощущал присутствие чего-то или кого-то там, внутри, в глубине светящегося облака…
Тогда я нарочно подошел ближе. Всмотрелся в рисунок повнимательнее и вздрогнул: из стены на меня смотрел глаз. Черный, насмешливый, очень живой.
Я не сразу понял, что он нарисован. Тонкий красочный слой фрески в этом месте облупился — а под ним вскрылся другой, может быть, более старый.
Я отошел от стены, но глаз продолжал сверлить мне спину, и я чувствовал себя неуютно. Откуда этот глаз взялся? В композиции фрески он явно лишний. Вероятно, это остатки прежней росписи, которую просто замалевали, посчитав неудачной, сами художники? Хотел бы я знать — кто же был там изображен. Злобное выражение наталкивало на мысль об Иуде. А может, о царе Ироде? Или о самом… Темном падшем?
К этому моменту я почувствовал себя настолько некомфортно, что готов был бежать из развалин храма без оглядки. Виски ломило, словно мне шурупы кто-то вворачивал в голову.
— Ну как, пойдем, что ли? — Трубный голос моего провожатого слился с первым раскатом грома вдали. Я вздрогнул и обернулся, кинув сердитый взгляд на Алексея Ивановича. И что он все время кричит, глупый старик?! А «дачник», стоя снаружи у проломленной стены, таращился на меня простодушно и уговаривал:
— А то гроза застанет. Ладушки?
Ни с того ни с сего мне вдруг захотелось ударить его по щеке. Просто так. Зачем он смотрит на меня самодовольным павлином? И эти дурацкие «ладушки»! Что ему тут, детский сад? Он издевается, что ли? Бывают же такие люди нелепые, недотепистые — все у них невпопад…
Зарница, вспыхнув, полоснула светом по глазам — я отшатнулся. Спустя минуту раскат грома, сильнее первого, сотряс небо.
Действительно надо поторопиться, подумалось.
Едва отступил я от развалин церкви, в лицо пахнул ветер, и это отрезвило меня. Я даже удивился: раздражительность мне, вообще говоря, не свойственна. Чего ради я так разозлился на старика? Ведь он безобидный…
Мы пошли обратно к дороге, к оставленному на ней мотоциклу. Сверчки не пели больше. Все затаилось перед грозой — а она все не спешила, все медлила, стремясь потуже затянуть удавку духоты, мучая все живое сухостью, гнетущим ощущением нарастающей опасности.
Первые капли дождя упали на нас, только когда мы уже свернули с пыльной грунтовухи и затарахтели по бетонке в сторону поселка, где находилась дача Алексея Ивановича.
Автобус, которым я мог вернуться домой, ходит только раз в два дня, и, значит, я выберусь отсюда не раньше, чем послезавтра вечером.
* * *
— Ну вот, тут, я думаю, будет удобно, — сказал Алексей Иванович, отдергивая пеструю занавесочку над входом в крохотную комнатушку. Собственно, это была не комната, а просто угол избы с окошком рядом с русской печью, отделенный от остального пространства дома деревянной, не доходящей до потолка перегородкой. Помещалась за нею кровать, тумбочка с настольной лампой и полосатый тряпичный коврик на полу.
Но все было чистенько и уютно и для ночлега вполне подходило.
«Дача» Сафронова оказалась на самом деле старинной избой в наполовину опустевшей заброшенной деревне.
Грозовой фронт милостиво обошел ее стороной, а мы с моим провожатым даже и вымокнуть как следует не успели. Когда мы приехали, закатное солнце как раз зажгло красным оконные стекла, и дряхлый дом встретил нас при полном параде: румяный и сияющий.
Внутри избы пахло табаком, сухой травой сенников, нагретым за день деревом, и немного земельной сыростью тянуло из подпола.
Сразу вспомнилось детство — гостевание у моей деревенской бабушки под Рязанью и ее пироги. Я успокоился, размяк душой. Хотелось прилечь и уснуть.
Сафронов, проведя меня в дом, ушел, пообещав через полчасика вернуться с банкой парного молока к ужину.
В ожидании его я повалялся немного на застеленной выцветшим покрывалом кровати, но потом встал и пошел по дому в поисках какого-нибудь занятия, опасаясь, что, если позволю себе валяться дольше — усну, не дожидаясь хозяина с его ужином: неудобно так-то.
Заглянул в тумбочку — там валялись старые советские часы-кукушка в разобранном виде и обрывки высохшей изоленты.
Под кроватью аккуратными кирпичиками сложены были стопки журналов 60–80-х годов: «Наука и жизнь», «Октябрь», «Техника молодежи» и другие. Перевязанные бумажной бечевкой журналы лежали так плотно, что буквально замуровали все пространство под кроватью. Если бы у кровати подломились ножки — никто б и не заметил этого — она продолжила бы стоять, опираясь на библиографические сокровища.
Хотелось вытащить и полистать какой-нибудь из журналов, но от этой идеи я отказался — вряд ли получится вытянуть что-то из такой баррикады.
Зато в ближнем к окошку углу валялись отдельной кучкой какие-то пыльные альбомы с разлохмаченными страницами из серой оберточной бумаги.
Их я вытащил. Стряхнул наросты пыли со страниц и перелистал.
В альбоме были рисунки — эскизы карандашом, выполненные умело и профессионально. И какие-то записи — то шариковой ручкой, то чернилами.
Я бы не взялся ломать глаза, разбирая чужие заметки, но первый же рисунок в альбоме изображал ту самую церковь, которую мы сегодня ездили осматривать с Алексеем Ивановичем. Наверное, давно ее рисовали: купол храма изображен еще целым.
Под рисунком — ни даты, ни подписи. Я взглянул на обложку — в правом верхнем углу: «Н. Л. Ларионов. 1972–1975 гг.» — мелкими четкими буковками, с каллиграфической изысканностью.
Я забрался на кровать с ногами, устроился поудобнее и раскрыл альбом.
Первый лист помечен датой: 23 июля 1972 года. Под числом несколько набросков — деревенские пейзажи, вид на реку с какого-то холма и домик с тремя окошками по фасаду. Резные наличники прорисованы очень подробно, и это позволяет узнать дом — «дача» Сафронова, несомненно. Рядом — смешная карикатура: невообразимо худой человечек идет по пустой деревне с этюдником на плече и держит над головой меховой зонт, как у Робинзона Крузо. Подпись:
«Наконец-то у меня есть дача. Городской Робинзон. Н. Л. Л.».
За карикатурой три динамичные зарисовки животных: кошка, какой-то облезлый петух и смешная лохматая собака, с мечтательным видом сидящая на крыльце дома. Под собакой подпись: «Мой Пятница — Буська».
Потом снова церковь. Та самая. В различных ракурсах. И схематичная копия фрески с Христом и Девой Марией. Подпись: «Церквушка на реке Нару-Тамбов».
«Естество, еже во Адаме, Христос изменити хотя, на гору ныне восходит Фаворскую, обнажая учеником Божество… Потрясающий мастер! Хотел скопировать все, но так долго добирался, что устал, и голова разболелась. 2.02.1972».
Снова рисунок — портрет старухи, очень дряхлой и морщинистой, как проросшая картофелина, но, судя по умному проницательному взгляду, вполне себе в здравом уме и памяти. «Пелагея Матвеевна Смирнова, 85 лет!!! 1887 г. р. А ее сестра, умершая в 55 г., — 1870 года рожд., как Ленин. Просил позировать — говорит, лучше портрет Муськи нарисуй. Мол, кошка дряхлая, помрет скоро, а бабке жалко. Горюет, что молодой кошки нет, а новую заводить не станет, потому что живет одна. Помрет — кто ее накормит? Нарисовал Муську. Пелагея посмотрела, похвалила».
Еще фреска из церкви, но такой я, кажется, не видел. Не заметил? Или штукатурка там уже облетела?
Подпись: «9.08.1972. Преображается тварь ясно Твоим Преображением, Христе… Хочу скопировать все фрески, но работал мало — опять голова болела. И неспокойно. Все время кажется, кто-то смотрит. Нашел рядом надгробие какого-то Р. И. Бабина, „усопшега в 1884 году“. А погоста нет. Странно».
«Помогал укладывать поленницу Пелагее Матвеевне. Накормила борщом. Расспросил про церковь. Говорит: церковь Преображения, строил помещик Бабин. А заброшена, по рассказам ее сестры, Матрены, через 6 лет после постройки! Странная история».
Опять церковь и несколько набросков головы Спасителя, зачеркнутых. Запись:
«Грозы. Сижу дома. Церковь из головы не выходит — тянет туда, как магнитом».
«11.08.1972. Приходила бабка Пелагея, принесла какую-то древнюю конторскую книгу. По ее словам, от отца осталась, он был церковным старостой. Хотела, говорит, на растопку пустить, а потом подумала — вдруг для музея сгодится. Бабка почему-то решила, что я сотрудник музейный. Потому и в развалины хожу. Чудачка».
«Дожди. От скуки начал разбирать бабкин „талмуд“ — записи Матвея Смирнова, церковного старосты. Что-то вроде сельской хроники вперемешку с бухгалтерией прихода-расхода церковной кассы. Читать трудно — чернила выцвели, почерк ужасный, да еще яти-феты дореволюционные. Думал найти имя художника, расписавшего церковь. Это было бы любопытно».
«Переписал из бабкиной рукописи интересные куски: может, и правда кому пригодится.
…Просили барина — обещался.
Живописца прислал в субботу — не из наших мест человек, Афоней кличут. Виду дикого, волосат, угрюм, глаза нехорошо зыркают. Пришел якобы с Киева.
Батюшка Илларион обрадовался, говорит — там все наилучшие мастера по иконам. А что видом дик — это от воздержания, с лица не воду пить.
…Молчун этот Афонька. В еде не переборчив, спит мало, работает много, ни от чего не отказывается. Только просит — чтоб никого рядом не было. Говорит — не люблю, когда смотрят. А мы что? Мы сами по себе. Обещал к осени закончить росписи.
…Приезжал барин с младшей дочерью, смотреть новый храм. Остался доволен: такого-то высокого художества и в губернии не сыщешь. Заказал еще Афоньке икону святой Варвары для дочери. Афонька обещался. Работает он как заводной, без устали. Да еще нашим всем окрестным барыням иконки пишет. Бабам Афонька нравится. Несмотря что глаз у него блудливый. Кормят и поят его на славу. Да не в коня корм. Худющий!
…На самое Преображение церковь, наконец, освятили. Уж то-то радости было нашим! Барин со всем семейством службу отстоял, Афоньку золотом одарил сверх уговоренного и в казну церковную большое пожертвование сделал. Из соседних деревень народу набилось. Ахают, завидуют.
…Афонька теперь нарасхват, иконки пишет на всю губернию. Для губернаторши Николая-угодника писал.
…Третий месяц пошел, как церковь освятили, и все распрекрасно, но батюшка Илларион хмурен сделался. Народ в церковь поначалу валом валил, а теперь норовят в Протасовку в Георгиевский храм уйти. Венчания, сугубые ектения, на помин души — все к старому пропойце дьяку Кириллу.
…Жалко мне нашего попа. Расспросил народишко: что да что? На кой церковь свою у барина просили, чтоб теперь в чужой храм ходить?
У Митрохина вызнавал: морду воротит. А баба его говорит — смотрят, мол, как лихо, со стен. Страшно. Беда с этим народом! Дурной.
…У батюшки Иллариона беда: попадья слегла. Молодая, а ногу подвернула на клиросе, с лестницы сверзилась, теперь не встает. Стонет. Дети напуганные по лавкам сидят, батюшка Илларион извелся с ними.
…Дьяк наш, как назло, запил. Уж я его просил, уламывал — нет, ничего. Пьет беспробудно вот уж неделю. А начни его стыдить: плачет, трясется, глаза таращит. Страшно, говорит. Чего ему страшно? Поди разбери.
Правду сказать, и мне в новой церкви не по себе бывает. То ли блазнит, то ли смущает нечистый. Как службу закончит отец Илларион, свечницы начинают прибирать, смотрю за ними, а все кажется — стены двигаются. Или те, нарисованные? Господи, прости мне прегрешения мои! Проклятущий Афонька!»
В этом месте выписки из церковной хроники художник Ларионов проиллюстрировал рисунками. Вероятно, впечатлился рассказом: нарисовал церковь возле реки, погост и рядом — портрет «дикого проклятущего Афоньки» — угрюмого волосатого мужика с черным разбойничьим взором. Ларионов трижды обвел его портрет ручкой, очертил рамкой со сложным орнаментом из топоров и вил… А дальше снова пошли выписки из сельской хроники.
«Попадья с малыми детишками угорела. Отец Илларион всенощную служил, а с болезной женой Нюрку Кротову оставил, баба она тихая, но дурная на голову. Затопила поздно, а сама спать легла. Видать, в печи сажа загорелась. Все задохлись. Батюшка Илларион, как отпел своих, так почернел и ходит, головы не поднимая.
…В губернии скандал: подлая Афонькина работа вскрылась! Губернаторша, по слухам, последнее время все болела — мигренями мучилась. Вот старица-богомолка, что при ней живет, приметила, что у хозяйки голова всегда в светелке болит, там, где икона Николая-угодника, работы этого дикого Афоньки. Насмелилась бабка, в руки образ взяла — видит, кусочек мелкий отпал, она его колупнула, смахнуть хотела, а там под краской — морда престрашная! Она давай дальше ковырять. Так и докопалась: под Николаем-угодником свинячье черное рыло. Вот это Афонька! С губернаторшей обморок сделался. Сообразила — кому молилась, кого в уста целовала полгода кряду! Грозится Афоньку под суд. Ищут его, негодяя, чтобы спрос сделать — что за диверсию натворил? Со зла или по незнанию. Найти не могут. Сгинул, как не было.
…Дьячок утонул. Сразу после службы напился как свинья на берегу реки — возле моста его тело мужики выловили.
Отец Илларион службы служит, но через силу: то слова путает, то вдруг посреди ектеньи глаза вытаращит и замолкнет, будто язык у него отсох.
Просится в монахи уйти, на Белое озеро. Благочинный уговаривает батюшку подождать до весны. А я вижу, у человека душа не на месте. И к церкви у него прилежания нету.
…Нехорошие слухи по губернии идут. Все наши кумушки, что прежде друг перед другом выхвалялись, заказывая дикому Афоньке красные иконки, бросились вслед за губернаторшей образа колупать. Такое под святыми ликами находят, что и сказать совестно. Всех в смущение привел окаянный живописец!
Никто понять не может — что ж этот лихой человек, насмеялся, что ли, над всеми нами? Ведь прямо в души людям наплевал, окаянный.
Все теперь барина винят, а что барин? Он в свое московское подворье с семейством уехал. Ему-то что! Вот тебе и высокое искусство.
…Слух прошел: будто бы Афоньку в самой Твери в трактире зарезали. Похвалялся он там, что душу Сатане заложил за дар малевания. Какому-то горькому пропойце не понравились его радость и похвальба, он и бросился на злодея. Сцепились они, с ним и другие налетели — так, в общей свалке, кто-то и полоснул ножом поганого художника. Драчунов всех смели в участок, а дальше — непонятно. Кто говорит, что помер Афонька в тот же день, кровью истек. А кто говорит — нет. Не нашли, мол, его. Всех загребли, а когда в участке стали имена переписывать — обнаружили, что убег живописец дьявольский. Как песок сквозь пальцы, сатанинское отродье.
…Отец Илларион ушел от нас. Высох за год, как щепка. И трети от прежнего не осталось. И по глазам видно, что не жилец. Дай ему Бог, может, на Белоозере оживет.
Церковь пустая стоит. Благочинный обещает нового попа прислать, да пока нету желающих в наш приход.
…Такого половодья, как в этом году, старики не упомнят. Разошлась река. Даже церковь затопило. Десять дней вода стояла, потом схлынула. Стены отсырели, половина росписей потрескалась. Видать, сам Боженька свой храм спасает от нечистой работки Афоньки проклятущего.
Плохо дело. Фундамент после затопа осклиз. Что же делать-то?»
На этом записки церковного старосты и художника Ларионова закончились.
Я задумался и не заметил как задремал. Разбудил меня мой гостеприимный хозяин, вернувшийся, наконец, домой.
Сафронов торжественно водрузил на стол трехлитровую банку парного молока и пригласил ужинать. Увидев альбом у меня в руках, спросил, что это я читаю.
— Да вот, нашел под кроватью. Записки какого-то Ларионова. Кто он такой? В живописи, сразу видно, разбирается. Приятель ваш? Как с ним встретиться?
Сафронов вздохнул:
— Уже никак. Царство ему небесное!
— Да что вы?!
— Да. Гадюка укусила. О прошлом годе Николай все церквушку ту навещал. Ходил один, все чего-то рисовал, срисовывал, говорил — копии делает. Там его гадюка и цапнула. Он-то ее убил, хватил палкой по голове — и ладушки, и каюк ей. А у Николая сердце не выдержало — видать, злобная тварюга попалась, сильно ядовитая. Никто не ожидал, конечно. А он умер. И откуда только гадюка эта сволочная взялась?! Ума не приложу. У нас тут вообще-то змеи не водятся.
* * *
Я попросил у Сафронова разрешения взять с собой найденные альбомы, чтобы показать отцу Александру.
И вспомнил, что в прошлый раз не сфотографировал руины в нынешнем их состоянии.
Для очистки совести решил заехать перед отъездом, оплошность исправить.
Заодно задумал кощунство: отковырять слой краски там, где видел я глаз, да посмотреть, что изобразил там под святыми ликами дьявольский живописец Афонька.
Жгучее любопытство одолевало меня, когда я увидел снова полуразрушенные стены злосчастного храма.
Алексея Ивановича с его мотоциклом я оставил на дороге. А сам пошел в церковь, держа наготове фотокамеру.
Хотелось, наконец, разобраться в темных тайнах этого места.
Но ожидания мои не сбылись. Еще со стороны, подходя к развалинам, я заметил, что облик их несколько изменился. А войдя, увидал, что та самая часть стены, на которой изображен был Христос на горе Фавор и откуда в прошлое посещение пялился на меня злобный глаз, чужеродный для всей композиции, — часть эта обвалилась.
Наверно, случилось это после грозы. Я перевернул несколько упавших крупных кусков стены, но штукатурка разбилась так, что красочный слой разлетелся в мелкие чешуйки, и никакого цельного изображения не осталось — только невнятные разноцветные пятна.
Я сфотографировал надпись, которая располагалась под погибшей фреской:
«Днесь показал еси Твое Божество, Господи, избавляя нас от смертных ныне соуз».
Если действительно под ликом Христа в неприступном свете был намалеван враг рода человеческого, то фраза эта приобретала смысл весьма издевательский и даже зловещий.
Я вспомнил, как близко к стене стоял тогда перед грозой, разглядывая нарисованный глаз, и содрогнулся. Пожалуй, мне крупно повезло: если б стена рухнула, когда я был рядом с ней, — моей семье пришлось бы теперь плакать и хлопотать о похоронах.
А за спасение жизни должен я благодарить моего «дачника», Алексея Ивановича, — это ведь он увел меня тогда из храма.
Смущенный, я вышел из развалин церкви. Никакие умные мысли голову мою не посетили. Да если я и думал о чем, возвращаясь через заросшее бурьяном поле к дороге, так только о том, что жизнь человеческая, в сущности, очень хрупка, и слишком редко помним мы об этом.
ПРИЗРАК РАМОНСКОГО ЗАМКА
Воронежская область, г. Рамонь
Высокие узкие окна Рамонского замка — словно удивленные глаза под скобками седых бровей. Они смотрят с мрачным ошеломлением на погибающее величие въездных ворот имения; на искрошенный красный кирпич и одичавший в запустении парк. Строгие зубчатые башни, как и прежде, вытягиваются во фрунт: они сохранили воинский дух и все еще готовы беречь спокойствие своих благородных хозяев, но что-то смущает; что-то нерешительное в их облике… Готический замок посреди российского Черноземья? Какая нелепая, чудная затея!
Давно нет на свете хозяев, построивших его. А без них — нет и уверенности, зыбко существование самой крепости.
Красная революция, взвихрившая и унесшая половину России, и архитектурную аристократию разжаловала в чернорабочие: в ассиметричном особняке размещались поочередно то школа, то лазарет, то филиал технологического института, то заводская администрация, то Дом пионеров, то библиотека, то музыкальная школа.
Красу и спесь, уют и томную, мечтательную уединенность замка унизили, заставив служить. И как всякий, кто вынужден много трудиться не по своей воле, великолепный замок в Рамони скоро обессилел, зачах и одряхлел. А может быть, и озлобился.
Каждая предпринятая попытка реставрации почему-то проваливалась. Рабочие боялись аварийных стен: в опустелых комнатах что-то шепталось, перестукивалось, переговаривалось. Неизвестно откуда налетавшие сквозняки били заново вставленные стекла. Падали строительные леса. По ночам хлопали двери и скрипели лестницы.
А однажды в окно на втором этаже влетел голубь и на глазах у потрясенных строителей поплатился за дерзость: бедную птицу скорчила судорога. Неловко растопырив крылья, извернув шею, голубь задыхался, беззвучно раскрывая и закрывая клюв. Глаза птицы, полные боли и страха, казалось, молили о помощи. Кто-то из рабочих не выдержал: поднял голубя и вынес из замка. На зеленой траве, согретой теплым июльским солнцем, голубь ожил, расправил крылья и улетел.
— Что за чертовщина?
— Какое-то проклятое место, — переговаривались строители.
— Смотрите-ка! Что там такое? — воскликнул один, указывая на нижние окна замка. Черная тень скользнула мимо них и утекла в подвал.
— Что это?!
Люди стояли под ярким солнцем на лужайке, заросшей душистыми летними травами и цветами… И ледяные иголки страха царапали их сердца.
* * *
— Princess? Princess? — каждое утро допытывался маленький Илюша у своей английской няни. Но, поджимая узкие бледные губы, она всякий раз отвечала ему:
— No! Princess Eugenie is very ill.[3] Она не приедет.
О том, что герцогиня Евгения Максимилиановна, принцесса Ольденбургская, больна, шептались слуги. Илюша тосковал, слушая, как они обсуждают затянувшуюся немочь госпожи, конфуз новомодного лекаря, прибывшего из Швейцарии, и то, как все столичные доктора уже потеряли надежду облегчить страдания несчастной женщины.
Без хозяйки Рамонское имение будто осиротело. А слуги — садовник, горничные, повара и кухарки — как безнадзорные дети, постепенно обрастали дурными привычками. Заимев массу праздного времени, они собирались вечерами в комнате прислуги, пили чай, играли в карты и сплетничали.
Они говорили об ужасных вещах: о проклятии, о том, что кто-то хочет извести принцессу — племянницу государя, о черной магии, колдунах и колдуньях, к которым обращался за помощью ее отчаявшийся супруг, — да все напрасно.
Слушая эти разговоры, Илюша сердился и огорчался. Он и представить не мог, чтобы в мире нашелся кто-то, кто захотел бы навредить хозяйке Рамонского имения.
Евгения Максимилиановна такая красивая и добрая — все ее любят!
А Илюша больше всех. Мать мальчика умерла родами, отец, управляющий Рамони, сделался угрюм и нелюдим и больше не женился.
Принцесса Ольденбургская, навещая свои владения, вникала прилежно во все мелочи и обстоятельства, и это касалось не только предметов бездушных. Хозяйка Рамони была из тех удивительных людей, которые не могут быть счастливы, если несчастливы рядом с ними все остальные.
Приметив мальчика-сироту, принцесса взяла на себя заботу о нем. Она дарила Илюше книжки, сласти, игрушки, играла с ним. Волнуясь о его здоровье, привозила доктора, когда он болел.
Она, конечно, не заменила ему маму, но в глазах мальчика стояла неизмеримо выше всего земного и обыденного. Илюша называл Евгению Максимилиановну «принцессой», и она и была в его глазах настоящей принцессой из сказки — блистательной и прекрасной, бесконечно доброй и милой.
Все другие люди — даже самые хорошие — никогда такими быть не смогут. Они ведь просто люди.
Сердце Илюшино трепетало теперь в предчувствии беды.
— Принцесса ведь не умрет?
Отца расспросы сына утомляли. Он хмурился, отворачивался и уходил, ссылаясь на дела, которых и впрямь было много в поместье: и на сахарном заводе, и на конфетной фабрике, в полях и в оранжерее.
— Что будет, если принцесса умрет? — тревожась, спрашивал Илюша, заглядывая в рыхлое веснушчатое лицо няни. И ее мягкие коровьи глаза за круглыми очками беспомощно моргали, стараясь избежать пристального взгляда ребенка. Няня пожимала плечами, гладила Илюшу по голове и вздыхала. Что она могла сказать? «Что ж… Все под Богом ходим», — Илюша не однажды слыхал это от живущих в замке. Но ведь принцесса — не все!
И, вопреки безрадостной атмосфере в доме, Илюша продолжал ждать праздника — приезда из Петербурга своей обожаемой принцессы.
Утром, едва проснувшись, он выбегал из комнатки наверху и вставал возле перил верхнего пролета лестницы, заглядывая вниз в нетерпении — не щебечут ли девушки-горничные, расставляя по комнатам вазы для любимых свежих цветов госпожи? Не вносят ли слуги знакомые кофры хозяйки? Приехала?!
Но он ждал напрасно. Дни тянулись черной патокой, похожие один на другой.
Пока однажды поздним дождливым вечером притихший особняк не огласила звонкая электрическая трель. А когда она смолкла, в двери требовательно постучали.
— Что такое? — удивился подслеповатый мажордом, нацепляя и снова снимая очки. — Посмотри-ка, Степан! — велел старик крепышу лакею.
Степан выбежал в холл и отомкнул замок.
Вошла дама, одетая в черное. Лицо ее скрывала густая вуаль.
— Евгения Максимилиановна?!
Даму обступили слуги. Повисло изумленное молчание. Очень уж неожиданно и в непривычно поздний час приехала госпожа. И никто в замке не слыхал подъезжающего экипажа — видимо, из-за дождя.
— Прикажете чаю? — согнувшись в почтительном поклоне, спросил растерянный мажордом. — Или…
Принцесса не ответила.
Она стояла посреди холла, не двигаясь, словно забыла — куда пришла, зачем и откуда. И она была одна — не только без мужа, Александра Петровича, но вообще одна — без личной горничной, без секретаря и лакеев, без помощника-механика, который всегда сопровождал ее в поездках, когда она водила авто.
Но каким образом больная, едва не при смерти, женщина добралась одна из Петербурга в Рамонь? Да еще в непогоду. Обитатели поместья столпились вокруг внезапно прибывшей хозяйки, ожидая приказаний, но принцесса молчала.
Тоненькая и невесомая, стояла она посреди холла, и ее слегка пошатывало. Так показалось мажордому: он не надел очки, и в глазах старика, слезящихся от напряжения, все немного расплывалось. Ему хотелось рассмотреть лицо принцессы: что она? Сердита? Улыбается? А может быть, устала, грустна и плачет?
Но ответы на эти вопросы надежно скрывала густая вуаль.
Тягостную паузу нарушило появление Илюши. Няня мальчика, напуганная странным видом черной фигуры под вуалью, не хотела отпускать его, придерживала, обхватив за плечи обеими руками, но он вырвался — сбежал вниз по лестнице и бросился к своей любимой госпоже с криком:
— Принцесса! Принцесса! Наконец-то…
На детский Илюшин восторг и его радостное приветствие принцесса обычно отзывалась искренним смехом и объятиями.
Но теперь… Черная фигура даже не шевельнулась. А когда ребенок подбежал ближе — вздрогнула, и словно что-то переключилось в механизме: владелица Рамони шагнула вперед, равнодушно обогнула подбежавшего Илюшу и стала подниматься по лестнице. Она не взглянула на мальчика и не ответила на его улыбку.
Под ее ногой не скрипнула ни одна ступенька. Точно тень ночной птицы скользнула над кронами деревьев — принцесса беззвучно прошла по коридору и скрылась за дверями своих апартаментов.
Изумленные слуги смотрели ей вслед, не зная, что и подумать.
Наконец старик мажордом прервал неуместную паузу сердитым ворчанием:
— Чего рты пораззявили? Чай, не смотрины вам тут. А ну, марш!
Он и сам хотел бы понять, что происходит, но по должности вынужден был в первую очередь думать о соблюдении порядка.
Люди, смущенные и озадаченные, разошлись.
У бедного Илюши глаза налились слезами… Няня, заметив, что ее воспитанник чуть не рыдает от обиды, сказала:
— Принцесса больна. Теперь ты сам это видишь. Возвращайся к себе в комнату.
* * *
Обиженный Илюша долго не мог заснуть, и сон, в конце концов сморивший его, не был спокоен и крепок.
Около полуночи мальчик очнулся от стука, раздавшегося где-то в доме.
Лунный свет, косо падающий в окно, разливал серебристые лужи по дубовому паркету, по стенам и постели и слепил глаза холодным сиянием. Безобразные тени наводнили комнату. Даже знакомые предметы приобрели загадочный и таинственный вид. Чем больше Илюша смотрел на них — тем сильнее страх запускал в него коготки.
В конце концов Илюша не выдержал: выбрался из постели и побежал в комнату к отцу.
Темный пустой коридор показался ему пещерой, где обитает дракон. Торопясь, поджимая стынущие на холодном полу босые ноги, Илюша юркнул в приоткрытую дверь отцовской комнаты, чувствуя себя беззащитной зверушкой, спасающейся в норе от лая собак и топота невидимой охоты.
В спальне отца было темно, но сквозь щелочку от завернувшейся занавески в угол комнаты падал луч лунного света.
И в этом луче стояла черная фигура. Принцесса! В том же глухом темном одеянии и вуали на лице.
Илюша вскрикнул от неожиданности. Внезапный порыв ветра рванул оконную раму в коридоре, и стекло зазвенело. Илюша вздрогнул и оглянулся.
А когда повернулся обратно — принцессы в комнате уже не было.
Отец всхлипнул во сне. Илюша подбежал к нему, влез на постель и потеснее прижался к отцовскому плечу: от него несло жаром, как от раскаленной печи.
* * *
Утром выяснилось, что управляющий имением тяжело заболел. Няня, обнаружив Илюшу в комнате отца, отругала мальчика и отвела вниз, запретив появляться наверху.
Илюше не терпелось с кем-нибудь поговорить о том, что он видел ночью, но его никто не хотел слушать. Все были заняты и встревожены.
В замок вызвали доктора, и он, осмотрев больного, сказал, что тот в сильной лихорадке. Происхождение ее непонятно, следует наблюдать. А пока сбивать жар. Доктор дал больному порошки и остался у его постели с видом хмурым и озадаченным.
Принцесса не выходила из комнаты.
Слуги шептались, что госпожа ничего не ела и не пила со времени приезда, что она никому не позволяет беспокоить ее и не допускает слуг к себе в апартаменты.
Одной только Глаше, горничной хозяйки, позволено было ненадолго войти. И то лишь для того, чтобы завесить все зеркала в комнате черной тафтой — этого потребовала принцесса.
Илюша, потихоньку улизнув от няни, пробрался в коридор рядом с комнатой Евгении Максимилиановны. Постоял у ее двери, прислушиваясь, но ничего особенного не услышал — слабые шорохи внутри комнаты заглушало громкое тиканье напольных английских часов, стоящих в нише у лестницы.
А потом старик мажордом явился и прогнал Илюшу. Его отправили гулять в парк, чтобы он без дела не шатался по дому.
* * *
День выдался пасмурный. Трава в саду еще не высохла после вчерашнего дождя, повсюду было мокро, сыро и неуютно.
Сперва Илюшу немного развлекли толстые темно-розовые червяки-выползки. Они растягивались и утолщались снова, напоминая чем-то перевязанную свиную колбасу в немецкой лавке — только маленькую, для гномиков. Потом Илюшу заинтересовали цветные камешки, перекатывающиеся в ручейке возле дорожки. Воображая, что это самоцветы, Илюша выковыривал их из песка, промывал в мутной воде, отряхивал и складывал в карман твидовой курточки, пока не намокла подкладка.
Охотясь за камнями, Илюша не заметил, как спустился по течению ручья к выходу из парка.
У кованой ограды кто-то окликнул мальчика.
Илюша поднял глаза и увидел за калиткой старика в лохмотьях. «Попрошайка» — так называла подобных людей няня, строго наказывая держаться от них подальше.
А вот принцесса была к таким снисходительна. Если в кармане у нее находились монетки, она щедро раздавала их просящим. Особенно возле церкви, где они обычно целой толпой караулили ее приезд.
— Эй, мальчик! Ты ведь в замке живешь? — Старик, увидев Илюшу, обрадовался, как будто нарочно поджидал именно его. — Поди-ка сюда! Скажи, хозяйка, принцесса, дома ли?
— Тебе деньги нужны? — спросил Илюша у старика.
Тот усмехнулся:
— Ну а кому ж они не нужны?
Илюша сунул руку в карман, вытащил горсть камней — желтых и белых кварцев, коричневых и красных кремешков, галечных круглых окатышей с прожилками — и выбросил собранное богатство на дорожку. На самом донышке кармана лежал серебряный четвертак. Илюша вынул его и протянул сквозь решетку бродяге.
— На, возьми. А принцесса заболела, — сказал Илюша, шмыгая носом. Он вспомнил предыдущий день, и голос у него задрожал от подступающих слез: — Она… она…
Старик монетку не взял.
— Оставь себе, — сказал он. — Объясни-ка лучше, что с принцессой?
— Она теперь как… Как Снежная королева, — сказал Илюша, вспомнив сказку, которую читала ему недавно няня.
— Злая? — допытывался бродяга. — На себя не похожа?
Илюша взглянул на незнакомца: хотя лицо его казалось суровым, но глаза смотрели на мальчика с тревогой и сочувствием. Он чем-то походил на доктора. Может быть, поэтому Илюша и рассказал ему все. А может быть, потому, что никто из взрослых его слушать не захотел.
Так или иначе, но он рассказал незнакомцу о том, какой чужой сделалась вдруг принцесса, о пугающей всех черной вуали. И о странной внезапной болезни отца, которую врач не понимает, как вылечить.
Рассказывая обо всем этом, он вспомнил о маме. Няня говорит, что она теперь ангел на небе и ей там хорошо. Но Илюше-то без нее плохо! А вдруг и папа, и принцесса… покинут его? Тогда он останется один. Подумав так, Илюша заплакал.
— Ну-ну-ну! — сказал старик, нахмурившись. — Перестань-ка. Посмотри на меня. Я нарочно сегодня пришел, чтобы помочь твоей госпоже. Я ведь знаю, что с ней. И с твоим отцом.
Илюша удивленно заморгал, глядя на старика. А тот помолчал и добавил:
— Не думай плохо о своей госпоже… Не она это сейчас в замке, а ее призрак.
С трудом подбирая слова, он попытался объяснить ребенку то, что знал сам и что его беспокоило.
— Видишь ли… Принцессу пытались излечить от болезни, вызвав из вечности ее смертную тень. Такая у каждого человека есть. Болезнь прокрадывается в душу, и, чтобы изгнать ее, нужно разделить надвое эту субстанцию… Смертная тень — именно в ней таится все злое, все болезни и… — Старик умолк, качая головой. Потер лоб и продолжил сбивчивые объяснения: — Но вот что получилось: тот знахарь — колдун, который взялся за это… В общем, он ошибся… А теперь она меня не послушает! Да и никто! — поморщившись, воскликнул он и ударил рукой по прутьям решетки так, что железо зазвенело.
Илюша вздрогнул и отшатнулся. Незнакомец опомнился.
— Послушай-ка, — сказал он, придвигаясь ближе к Илье. — Ты можешь вызволить и отца, и госпожу. Надо как можно скорее сжечь колдовскую вуаль. Только надо поспешить, пока призрак не укрепился в нашем мире. Тень убивает других, чтобы самой становиться сильнее. Вот почему твой отец заболел. Понимаешь?
— Дедушка, ты колдун?
Илюша глянул в глаза старику — они искрились то ли от слез, то ли от гнева. Рука, которой бродяга вцепился в прутья решетки, подрагивала, перебирая пальцами воздух — будто это была не рука, а живое насекомое-многоножка, желающее оторваться и убежать, чтоб зажить собственной, отдельной от хозяина, жизнью.
Внезапно вверху захлопали крылья — с неба спустился черный ворон и сел старику на плечо. Беззвучно раскрыв клюв, уставился на Илюшу, зловеще поблескивая черными бусинками глаз.
— Ты ведь любишь отца и принцессу? — спросил старик, прищуриваясь.
Илюша кивнул. Сердце его дрожало и щекотало грудь, как мотылек, когда он пойманным бьется в кулаке, размазывая пыльцу и ломая крылья.
* * *
— Молчит?
— Молчит. Даже чаю не выпила!
Высокая кругленькая Глаша в аккуратном белом фартучке поверх полосатого ситцевого платья спускалась по лестнице, держа перед собою поднос с посудой. Она шла из апартаментов принцессы.
Тугие Глашины щеки подрагивали от досады, и возмущенно звякали белые чашки и блюдца с бисквитами, ударяясь друг о друга и о фарфоровый чайник на подносе. Другая горничная поджидала Глашу внизу, глядя на нее с сочувствием.
Илюша выбрался из своей комнаты, так чтобы его никто не заметил, пробежал по коридору на цыпочках и спрятался возле лестницы. Затаился. Он ужасно боялся. Больше всего — что не справится. Или что кто-нибудь нечаянно помешает ему.
Когда девушки ушли, и все кругом стихло, Илюша пробрался в другую часть дома и встал под дверью возле комнаты принцессы.
Ни стука внутри, ни шороха. А дверь не заперта — между двумя створками тоненький просвет.
Задержав дыхание, Илюша положил руку на холодную латунную ручку и нажал.
Дверь отворилась. Мальчик ступил на порог.
Внутри комнаты царил полумрак.
Высокие окна, наглухо закрытые ставнями и занавешенные бархатными портьерами, не пропускали внутрь даже тусклый вечерний свет. Черная тафта на зеркалах у камина и на туалетном трюмо принцессы показалась Илюше густой паутиной, сплетенной каким-то гигантским тарантулом. В энциклопедии Брокгауза и Ефрона Илюше приходилось читать о смертоносных ядовитых арахнидах.
Если б не огонек, пляшущий на дровах в камине, мрачную комнату принцессы можно было бы принять за подземную пещеру или кладбищенский склеп.
Трепеща, Илюша шагнул через порог.
Принцесса лежала на оттоманке, вытянувшись, прямая и черная. Издалека она походила на манекен. Вуаль дымным облаком лежала на ее лице.
Илюша, обмирая от собственной храбрости, кинулся вперед. Сорвал ненавистную черную вуаль с лица безжизненной куклы на оттоманке и прыгнул к двери.
Позади раздался злобный визг. Принцесса вскочила и бросилась за мальчиком.
Внезапный сквозняк захлопнул двери прямо перед носом Илюши. Он вскрикнул и еле успел увернуться от настигающей погони.
Подбежав к камину, мальчик швырнул в огонь колдовскую вуаль, а сам забился в щель между стенкой и резным зеркальным трюмо в углу.
Огонь вспыхнул, по комнате пролетел вздох — тоскливый и мучительный, что-то трескуче зашуршало — словно на паркет высыпали песок из мешка. Из камина вырвалось черное вонючее облако… Илюша вдохнул едкий запах, и — в глазах у него потемнело.
Будто в ночном кошмаре, он смотрел, не имея сил бежать, на облако дыма — как оно вытягивается, утончается и по-змеиному заползает в дымоход, душит теплый оранжевый лепесток пламени.
Огонь погас, и комната утонула во мраке. Илюша зажмурился, сжался в комочек…
И вдруг — с улицы донесся знакомый заливистый звук клаксона. Гудок и пофыркивание мотора развеяли дремоту печального замка.
Это придало сил Илюше: он поднялся и выбежал из комнаты. Пронесся по темному коридору вниз, по лестнице, мимо часов, в холл, где слуги уже обступили деловитую стройную автомобилистку в сером английском платье.
Она сняла шляпку и знакомо тряхнула головой, поправляя волосы. Когда горничная Глаша увидела лицо дамы, она побледнела и, не удержавшись, вскрикнула от изумления.
Женщина в английском костюме была Евгения Максимилиановна, хозяйка замка, принцесса Ольденбургская.
Но тогда кто же была та, другая? Которую всего полчаса назад Глаша оставила в апартаментах принцессы?
Ошарашенные слуги замерли в ужасе.
Один только Илюша не испугался. Подбежал и радостно уцепился за теплую, пахнущую бензином маленькую руку в лайковой перчатке.
— Принцесса, принцесса! — кричал он с таким восторгом, что принцесса засмеялась, глядя на него. Щуря близорукие добрые глаза, она обняла Илюшу и погладила его по взъерошенным волосам.
— Здравствуй, здравствуй, малыш! — сказала она, улыбаясь.
* * *
Несмотря на рано утраченное здоровье, великая княжна дома Романовых Евгения Максимилиановна, урожденная герцогиня Лейхтенбергская, по мужу — принцесса Ольденбургская — пережила и своего мужа, и почти всю свою родню. И даже собственную страну, разрушенную революцией 1917 года.
Евгения Максимилиановна скончалась далеко от родины, в Канаде, в эмиграции, в возрасте 85 лет. Никто не думал, что эта болезненная женщина сумеет прожить столь долгую жизнь.
Как ей это удалось? Никто не знает.
Один лишь Рамонский замок, когда-то построенный принцессой, оказался долговечнее своей хозяйки.
По слухам, в его ветшающих стенах до сих пор обитает колдовской двойник госпожи, ее смертная тень.
ГРОБОВЩИК
г. Астрахань
Весь день я зубрил, готовясь к зачету, так что к вечеру в гудящей голове рецептуры и всякие холиномиметики и холиноблокаторы спутались в какой-то липкий комок неразличимых и бессмысленных звуков. Я уже решил плюнуть на все и завалиться спать, чтобы хотя бы выспаться…
Но на полпути к дивану меня остановил телефонный звонок.
Я снял трубку и услышал взволнованный, задыхающийся голос Володьки Краснова.
— Ром, можно я сейчас забегу к тебе?
— А что случилось? Я уже ложиться думал…
Володька прервал мои возражения:
— Слушай, я все равно уже здесь. Звоню из автомата на углу. Так я зайду?
На самом деле он скорее утверждал, чем спрашивал.
— Ну хорошо. Раз так… Поднимайся. Четвертый этаж, квартира…
— Я помню! — снова перебил он меня и повесил трубку. Голос у него звенел. Если б я хуже знал Володьку, решил бы, пожалуй, что он… напуган.
Но мы проучились с этим человеком вместе четыре года в Медицинской академии, и ни разу за все это время я не заметил в нем не то что страха, но даже тени сомнения или неуверенности в себе.
В 1997 году Володька приехал учиться в город из области, из Черноярского района. Комната в общежитии, вечно шумная и проходная, его не устроила. Поэтому он подрабатывал вечерами грузчиком в магазине, помогал людям при переездах, чтобы иметь возможность оплачивать собственное отдельное жилье. Время от времени родители присылали ему деньги, но он стеснялся висеть на шее у стариков и всячески избегал этого.
Ему удалось отыскать дешевую квартирку в доме на улице Бабушкина. Бывший богатый особняк сразу после революции переделали под коммуналки.
Вот в одной из таких коммуналок мой приятель и снял себе жилье.
Вся квартирка представляла собой кухню, совмещенную с прихожей, и пенального типа комнатушку с унылым индустриальным пейзажем за окном.
Тем не менее Володька был счастлив: в общаге шум стоит иной раз такой, что собственных мыслей не услышишь. А здесь — убого и тесно, зато полное уединение.
Володька нравился мне своим трезвым мышлением и по-крестьянски здоровыми привычками. Он говорил, что всякие страсти — это зависимость, а он не желает ни у кого и тем более ни у чего быть в подчинении.
Я уважал его принципиальность и, поскольку из нас двоих он был старше, часто советовался с ним и привык считаться с его мнением. Мы подружились.
Он никогда не суетился и не волновался попусту.
Поэтому меня так удивил этот звонок.
Когда Володька явился, я впустил его в квартиру и тут же почувствовал, что с ним творится что-то неладное: на бледном лице лихорадочно горели красные сухие глаза с кровавыми прожилками в белках, а руки заметно подрагивали. Он был весь на взводе, как последний торчок. Или как зверь, которого преследует хищник.
— Послушай, — сказал он мне. И замолчал, нервно дрогнув подбородком.
— Слушаю, говори! — Я пытался подбодрить его.
Привел на кухню, усадил, поставил на огонь чайник и приготовился слушать.
— Мы с тобой уже давно знакомы, — сказал он и затрещал пальцами. — Худо-бедно, но все-таки четыре…
— Говори, что случилось! — Я уже и сам разволновался и начал торопить его. Но он не спешил.
— Ты знаешь: я не пью, наркотой не балуюсь. Вообще, в целом… человек тверезый.
— Знаю. Знаю, конечно. Так что ты натворил, тверезый человек?
Усмехнувшись, я отвел глаза — чтобы не видеть, как он дрожит. Чайник выбросил победную струю пара на плите, и я приподнялся, чтобы снять его и достать чашки, как вдруг Володька побледнел еще сильнее — буквально как простыня — ни с того ни с сего. Он схватил меня за руку и удержал на месте.
— Я ничего не натворил. Но… в моей квартире что-то… не так, — сказал он с натугой. Будто язык у него распух и, утратив гибкость, лежит мертвым валиком, не помещаясь во рту. — Не думай, что я сошел с ума. Пока нет, во всяком случае. Но потом… если это будет повторяться… Не исключен, наверное, и такой вариант.
Он нахмурился и озабоченно потер лоб.
Лицо у него в этот момент сделалось уже серым с прозеленью, а лоб покрылся испариной. Судя по его пришибленному виду — он что-то вспоминал сейчас. Что-то ужасное стояло у него перед глазами, не давая возможности отвлечься. Передохнуть.
— Скажи, видеть призраков — это как бы… Ну… К смерти считается? — пробормотал Володя, криво ухмыляясь.
Мне стало не по себе от его стеклянного взгляда.
— Не мели чепухи. Рассказывай! Что за манера?! — не выдержал я.
— Расскажу. Для того и пришел. Только договоримся сразу: я говорю правду. Все видел своими глазами. Не знаю, как это объяснить, но это было.
Он взъерошил пятерней волосы надо лбом. Пока он молчал, я налил ему чаю. Он посмотрел сквозь протянутую чашку как через стекло и сказал:
— Имей в виду — это не какие-то выдумки. Это факт.
Все было… сегодня. Я сидел у себя, учил эту чертову фармакологию. Вдруг — какой-то шорох. Я даже не понял где — рядом или на улице что-то? Глянул в окно — а уже стемнело. Надо же, думаю, ночь на дворе! Ложиться пора, а я еще и не поужинал. Вспомнил — и жрать захотелось, сил нет.
Встал, пошел в кухню. Достал из холодильника что у меня там было — макароны вчерашние… Думаю, разогрею сейчас, сыром посыплю сверху и наверну. Не успел до плиты дойти — накатило на меня что-то. Какой-то резкий холод, в глазах потемнело, я чуть кастрюлю с макаронами на пол не вывалил. Еле успел за стол схватиться, чтобы не упасть. Как будто пол из-под ног поплыл.
А ко всему еще и свет погас. И не так, как, бывает, лампочка перегорела или пробки выбило невзначай, — а так тихо-тихохонько… гаснет. Уходит. Как последний лучик за горизонт.
И холодно прям до чертиков — аж зубы у меня застучали. Стою, дрожу, а на стене напротив — там штукатурка какая-то древняя, лохматых годов, и вот она начинает вдруг темнеть, как будто ее намочили с другой стороны. Проступает отчетливое пятно и принимает очертания человеческой фигуры в полный рост. Такой вроде бы пустой внутри — контур один.
Лампочка под потолком окончательно погасла. Я стою во мраке и вижу: от стены летит белесый силуэт человека — тот самый, который я видел на штукатурке. Словно бы из тумана соткан, и каждая его деталь различима, вплоть до мизинцев на руках — четко и ясно. И летит эта фигура прямо на меня. Я, конечно, — бежать. Но только в моей конуре бегать особенно некуда, ты знаешь.
Я думал, у меня волосы поседеют, как у Хомы Брута, — вжался в дверной косяк возле комнаты… А призрак — мимо меня и утек в стену с другой стороны. Я набрался смелости — подошел и потрогал это место. Оно было такое горячее, что я ладонь обжег! Вот, смотри.
Володька вытянул правую руку, и я увидел, что верхние фаланги четырех пальцев у него красные, как будто их кто-то горячим утюгом прогладил.
Я поймал себя на том, что чешу в затылке, вытаращив глаза на Володьку и открыв рот. Вид у меня был, наверное, вполне идиотский. Одумавшись, я закрыл рот и опустил руку.
— Да-а-а. Даже не знаю, что тебе сказать. Призраков… вообще-то они не существуют… — запинаясь, проговорил я. Кажется, ничего обидного не сказал, но Володька вспылил:
— Послушай! Я, как и ты, материалист. Во всяком случае, был до сих пор. Мы с тобой оба будущие медики, четыре года учимся вместе. Так что не надо меня… лечить!
— Да я и не это… Я так только, вслух думаю, — промямлил я. — Просто…
— Ромка, я все понимаю! — вскрикнул Володя, прижав руки к груди. — Понимаю, как это звучит. Если б ты мне что-нибудь подобное рассказал — я б, наверное, тоже… Представляю, что ты обо мне думаешь!
— Да ничего такого я не думаю, — залепетал я. Но в искренность своих слов и сам не поверил. И потому замолчал.
Володька посмотрел на меня, ожидая продолжения, но, не услышав ничего, сказал с горечью:
— Попробуй просто поверить мне. А еще лучше вот что… Ты ведь местный? Можешь сказать, кто там жил, в этом доме, прежде?
— Во всем доме? Или в твоей квартире? — глупо переспросил я.
— Ну откуда мне знать! Было там… что-нибудь такое?
— Володь, я не знаю. Ничего не могу сказать, — признался я. Но спохватился: — Слушай, у меня тетка есть, двоюродная. Она старая, все про всех в городе знает. И к тому же в библиотеке работает. Могу ее расспросить. Хочешь?
— Отлично! Давай.
— Что, прямо сейчас? Двенадцать часов. Она небось спит давно. Ложится рано, а сон — как у пехоты на войне, пушками не поднимешь. Но завтра обязательно позвоню ей. Обещаю. Прямо с утра!
— Завтра так завтра, — сказал Володя. Вид у него сделался угрюмый и очень усталый. От его возбужденности не осталось и следа: он обмяк, обвис, как будто невидимые упыри высосали из него всю кровь.
— Ладно, договорились.
Он махнул рукой и встал.
— Да, конечно. Завтра. Я прям с утра… А на зачете увидимся.
Хотелось мне его как-то подбодрить, может, развеселить, но я растерялся.
Он попрощался и ушел, так и не выпив чаю.
Разумеется, на следующий день с самого утра я все на свете забыл. Никакой тетке звонить не стал, а, едва проснувшись, схватил ноги в руки и понесся на этот чертов зачет по фармакологии.
Все из моей головы улетучилось и кануло в никуда — причем вместе с половиной билетов, которые я зазубрил накануне.
Я проспал и примчался в аудиторию, когда половина группы уже получила оценки. Занял очередь за дрожащей как лист Машкой Лопуховой — отличницей. Она и в школе была золотой медалисткой, но почему-то больше всех тряслась на экзаменах, заливая свой ужас целыми пузырьками валерьянки. И, что интересно, неизменно получала пятерки, как будто валерьянка — это такой мозговой стимулятор.
На зачете мне повезло: попался подходящий билет. От радости я бойко отбарабанил все, что знал, и пустился в какие-то левые рассуждения уже не совсем по теме, пытаясь показать, какой я разносторонне образованный и культурный экземпляр студента…
Препод, соскучившись, остановил меня, вписав «хорошо» в мою зачетку.
Счастливый, я вышел из аудитории и тут-то вспомнил про свои обещания.
Поискал глазами Володьку — его не было. Я обрадовался, решив, что у меня есть время загладить промах.
Побежал в деканат, спросил у кураторши разрешения позвонить и тут же, схватив аппарат, укрылся вместе с ним за шкафом, в нише возле окна, и набрал номер тетки.
Она была дома и сразу взяла трубку.
— Теть Лид, скажи, кто раньше жил в доме на Бабушкина? — с ходу ошарашил я ее. — Ну, этот, бывший особняк. Из красного кирпича.
Тетка немедленно возмутилась моими манерами. Разворчалась: «Что это ты? Ни здрасьте, ни до свиданья?! Я что тебе, справочное бюро? Культура — это показатель цивилизованности. Имей в виду. Неужели ты настолько эгоист, что даже про мое здоровье не поинтересуешься хотя бы?»
— Здоровье? Теть Лид, у вас все в порядке со здоровьем! Я по голосу слышу. Я ж будущий медик! Диагност. Голос у вас бодрый, вполне такой…
— Да? Ну что ж… Приятно слышать, — неожиданно обрадовалась тетка. И деловито вернулась к вопросу: — Я поняла, про какой дом ты говоришь. Теперь там коммунальные квартиры, а раньше жил гробовщик. Он его и построил.
— Как это? Дом построил гробовщик?! — опешил я.
— Ну да! Особняк этот строил Заварин, лучший мастер-гробовщик в городе. Он занимал этот дом до революции. Наверху была квартира, где он жил со своей семьей, а внизу — мастерская, контора и магазин с выставленными в витрине образцами. По слухам, хороший был и мастер, и человек хороший, работал честно, никого не обижал. Весь город его знал и относился с уважением.
Ну, а советская власть в классовые враги его записала. Как домовладельца и вообще частника. Времена тогда были самые ненадежные: всех, кто хоть что-то имел, грабили и бандиты, и власти… И не всегда между ними разница ощущалась. Имущество экспроприировали и те и эти.
Пришли к гробовщику однажды ночью по его душу какие-то… Просил он этих незваных гостей не убивать его в собственном доме, где всей их семье жилось так счастливо.
Не послушали. Расстреляли во дворе возле мастерской жену и сына-подростка, а самого гробовщика прямо в доме прикончили. Вот такие есть сведения об этом здании.
— То есть… чисто теоретически. Абстрактно и отвлеченно. Гробовщик мог сделаться призраком, чтобы мстить живым за свою смерть?
— Ну, знаешь! Для будущего врача это чрезвычайно глупый вопрос. Но если чисто теоретически и абстрактно… Наверное, мог. Особенно если учесть его прижизненную профессию… Гробовщики, как правило, все мизантропы. Они и живые-то общаются с людьми если только смерть рядом. Верно?
— Верно! — завопил я. Не попрощавшись с теткой, бросил трубку на рычаги, выбежал из деканата и понесся к аудитории, где последние в очереди с нашего курса сдавали зачет и уже толпились отстающие с других курсов, чтобы сдать тому же преподу задолженные «хвосты».
— Володька не появлялся? — спросил я у своих однокурсников.
Каждый недоуменно пожал плечами в ответ.
— А он вообще-то приходил сегодня?! — спросил я у старосты курса, Таньки Хромченко. Как лицо, ответственное за успеваемость, она помечала у себя в блокнотике — кто из наших сдал зачет и на какую оценку. Она пробежала глазами список.
— Нет, Краснова не было. А что такое? Где он?
— Понятия не имею, — ответил я, схватил с подоконника свой рюкзак и рванул к выходу — решил навестить Володьку. Надо было убедиться, что с ним все в порядке.
На дорогу не ушло много времени.
Взбежав по старой лестнице с выщербленными ступенями на второй этаж, я увидел, что дверь Володькиной квартиры приоткрыта: она слегка подрагивала от сквозняка и постукивала о пороги. Этот равномерный деревянный стук что-то напомнил мне.
Я застыл перед входом в квартиру, чувствуя, как у меня на голове под меховой шапкой зашевелились волосы. Но все же преодолел себя — открыл дверь и заглянул в полутемную прихожую.
— Володя! Володька, ты здесь? — спросил я вполголоса, перешагнул порог и вошел.
Внутри у меня все сжалось. Каждую минуту я ждал неприятностей. Даже не знаю, каких именно.
Пасмурный зимний день наполнял квартирку тусклым светом, отчего предметы внутри сделались плохо различимы, плоски — словно какой-то полуослепший художник размазал их контуры, окрасив все одинаково серой, грязной акварелью.
Я вступил в пустую комнату: у окна на письменном столе горела настольная лампа, не погашенная, видимо, с вечера. На разворошенной кровати лежали комом смятые простыни. Учебники и тетради валялись на столе и подоконнике в полном беспорядке.
— Володя! — снова позвал я. Звук собственного голоса напугал меня — такой он был одинокий и жалкий. Тишина давила на уши.
В прихожей раздался шорох. Я выглянул из комнаты и увидел, что в крохотном перешейке от ванной до кухни трепещут от легкого сквозняка старые обои. По свисающим со стен лохмотьям пробегают волны дрожи: что-то вроде тремора конечностей у стариков.
Я завернул за угол, чтоб взглянуть на ту часть квартиры, которую Володька называл кухней. Там тоже было пусто. На столе стояли две чашки с недопитым кофе, сахарница. Прямо по клеенке кто-то рассыпал соль.
Кругом. А внутри круга начертил пальцем косой крест. Что за ерунда?
Рядом с обеденным столом висела большая выцветшая фотография. Ее прикрепили к стене, воткнув в штукатурку портняжную булавку для наметки — я видел такие в коробке для рукоделия у моей тетки.
На фотографии крупным планом — какой-то пацан, стриженный ежиком. Приглядевшись, я понял, что мне знакомо это серьезное выражение лица. Глаза мальчишки смотрели с прищуром прямо на меня — конечно, это Володька. Снимок, наверное, сделали, когда он заканчивал школу, поэтому я не сразу узнал своего приятеля.
Раньше я не видал у Володьки никаких фотографий, так что меня слегка удивило присутствие этого снимка.
— Володя! — гаркнул я. Я начал сердиться. Хотелось ударить эту липкую душную тишину, поглотившую квартиру. Сломать ее. Раскрошить.
Что-то зашуршало — я оглянулся. На противоположной стене возник темный силуэт. Прямо на голой штукатурке. Появился ли он только что, или я просто не заметил его раньше — не знаю. В квартире как-то резко и неожиданно похолодало. Сквозняк усилился. Обрывки обоев в прихожей затрепетали, зашелестели, словно кто-то принялся обсуждать свежие сплетни у меня за спиной.
Я вздрогнул, обернулся на шорох и вдруг краем глаза заметил: мальчик на фотографии улыбнулся.
Всего лишь мгновение назад, когда я рассматривал его, лицо на снимке было серьезным, а тут…
Холодея, не веря самому себе, я повернул голову: да, так и есть. Мне не померещилось: мальчик на фотографии весело оскалил зубы… Или — ощерил их? Как собака перед нападением…
Меня словно острым по сердцу полоснули — я больше не мог находиться в этой квартире. Не чуя ни рук, ни ног, я выбрался на лестницу, спотыкаясь, побежал вниз по ступенькам, из подъезда на улицу…
Долго шел, не понимая, куда иду и зачем, пока не повалил снег, заметая целые сугробы мне за шиворот и на непокрытую голову. Тогда я надел шапку и, уже отрезвленный ветром и морозом, поднял воротник пальто и отправился домой.
Никогда больше я не возвращался в дом гробовщика.
Володя на факультете так и не появился. Весной, когда снег начал таять, его тело обнаружили бомжи возле путей на железнодорожной станции. К этому времени труп претерпел уже значительные изменения, и только студенческий билет, лежавший в кармане мертвеца, помог опознать моего друга. Но установить, что произошло с Володей и почему он оказался там, рядом с рельсами, было уже невозможно.
Я никому никогда не рассказывал о том, что случилось, только записал эту историю в своем дневнике.
Почему? Ответ, мне кажется, очевиден.
Я пытался найти какое-нибудь логичное материалистическое объяснение появлению призрака в квартире Володи. Одно время увлекся современной гипотезой о квантовой неразделимости.
Она подразумевает, что элементарные частицы могут быть связаны друг с другом, даже если их связь в настоящий момент времени и пространства разорвана. Это означает, что все, что во Вселенной взаимодействует друг с другом, — связано навсегда. И значит, нет случайных смертей и рождений, нет убийц и их жертв, нет брошенных жен, забытых друзей — все, что есть, — существует в единстве. Просто мы не способны его разглядеть.
Эта гипотеза объясняет все: судьбу, существование души, появление и поведение призраков…
Но до тех пор пока эта гипотеза не получила широкого распространения, пока ее не преподают в школах и она не сделалась общим местом, как теория Дарвина… Я лучше промолчу.
Ведь любой, кому я решился бы раскрыть тайну увиденного в старом доме, воспринял бы мою откровенность вполне однозначно. Как будущий медик, я достаточно осведомлен о возможностях и недостатках психиатрии.
Попытайся я рассказать кому-то о случившемся всерьез — я не помог бы этим мертвому другу. Зато себе уж точно навредил бы.
Поэтому я сделал разумный и прагматичный выбор на этот счет: я всего лишь рассказываю иногда своим знакомым занимательную байку.
О том, что, если уж к человеку приходит Гробовщик — все, такому уже ничем не поможешь. И, в принципе, в этом ведь нет выдумки. Разве не так?
ВАНЬКИН ПЕРЕКРЕСТОК
Московская область
— Потому что это твои друзья, а не мои, — заявила Анжелка, уперев кулачки в бока.
Будто иголкой в больное место ткнула: у Лешки желваки на скулах заходили ходуном.
Но он промолчал. Сдержался. Стиснул зубы и шагал молча, взбешенно глядя перед собой.
Ну уж нет, решила Анжелка. Лучше ссора, чем такой холодный игнор. Она остановилась и безжалостно, резко заявила:
— И не надо со мной идти! Я, кажется, тебя не звала?!
В ответ на Лешкино замешательство припечатала:
— Не ходи за мной. У меня, может, встреча!
Она испытала мгновенный жгучий восторг от того, какой болью налились вдруг Лешкины глаза и каким беззащитным мальчиком-зайчиком сделался в одно мгновение этот мускулистый стриженый здоровяк. Победа! Полная победа.
Но уже в следующую секунду все рухнуло: скрипнув зубами, Лешка взгромоздился на свой обожаемый байк, рванул стартер… Рыча и взревывая, как раненый бык, мотоцикл, слившись с седоком в один черный силуэт, полетел по улице.
А Анжелка осталась. Одна. В темноте. Последний автобус ушел давным-давно. До дома еще полчаса пехом, и то — если коротким путем. А если по трассе, так и целый час идти.
И вокруг — ни души! Как назло.
«Это ж сколько времени мы с Лешкой тут отношения выясняли? А все разошлись давно», — вспомнила Анжелка и поморщилась: надо же, прямо затмение какое-то.
Еще немного — и она кинулась бы вслед за Лешкой с криком: «Подожди! Я передумала!»
Но если так сделать — тогда пиши пропало. С Лешкиным-то звериным тупым упрямством. Он ведь вконец обнаглеет, начнет командовать, помыкать ею, во всем навязывая свою волю.
«Малыш, подожди, пока я поговорю с мужиками. Котенок, не заводись. Зайка, не жужжи!» Парни просто обожают делать из своих подруг этаких плюшевых дурочек.
«А я терпеть этого не могу!» — насупившись, подумала Анжелка. Стоит уступить — и потом начнется… «Куколка», «детка»… Не вылезешь из этих «зайченышей», «крольчишек», «котят» и прочего безмозгло-мимимишного арсенала. Никакого уважения. И тем более — равноправия.
«Иди ты, Лешка», — пробормотала девушка.
Сердито сдула с лица белобрысую челку, топнула ногой и направилась по дороге, гулко цокая каблучками в ночной тишине.
Два часа ночи. Поселок спит. Ночной холод и сырость сменили ненадежное весеннее тепло. Модный короткий плащик на Анжелкиных плечах выполняет чисто декоративную роль и, конечно, по-настоящему не греет.
То ли дело — Лешкина кожаная куртка — теплая, просторная, размера XXL. Лешка всегда уступал свою куртку любимой девушке. Что ж… куртка отбыла вместе с Лешкой.
Чертовски холодно! Анжела невольно ускорила шаг, сбивая дыхание.
Половина фонарей вдоль улицы не горит. На растрескавшемся асфальте то и дело попадаются выбоины, забитые кирпичной крошкой и щебнем. Проваливаясь в трещины между камнями тонким высоким каблуком, как в ловушки, Анжелка рисковала вывихнуть где-нибудь ногу.
Налетел ветерок — и длинные космы берез, растущих вдоль улицы, ожили, затрепетали. Кроны их, клонясь друг к другу, зловеще перешептывались, будто замышляя что-то против одинокой путницы.
Железнодорожный переезд встретил Анжелу, злорадно подмигивая из темноты красным глазком. Трясясь от холода, девушка ступила на деревянные мостки через пути и побежала по ним, стуча каблуками сухо и дробно, пугаясь двойного отзвука, который давали подпрыгивающие, прогнувшиеся в нескольких местах доски.
Все время казалось: кто-то идет за ее спиной, совсем близко. Так, что звуки шагов преследователя почти сливаются с ее шагами. Вытянув руку, этот некто легко может поймать, дотянуться кончиками пальцев до затылка, шеи, волос. Вот-вот…
Миновав поднятый автоматический шлагбаум, Анжела перевела дыхание. Оказавшись снова на выщербленном дорожном полотне, она испытала облегчение — на кривом асфальте можно, конечно, вывихнуть ногу, но хотя бы звуки на нем не двоятся — не так жутко.
Главное теперь — идти быстрее. И не дрожать, а то ведь зубы так и стучат, того гляди — язык прикусишь…
Только миновав развилку за железнодорожным переездом, Анжела вдруг вспомнила, что неминуемо ждет ее впереди: окаянный Ванькин перекресток.
Она чуть не застонала вслух. Как можно было забыть? Ведь от этого места все жители поселка стараются держаться подальше. И не только ночью. Многие автомобилисты и днем его избегают. От греха, как говорится.
С тех пор как однажды какой-то пьяный ротозей сбил на этом месте пенсионерку насмерть — несчастья пошли одно за другим: то наезды на пешеходов, то машины столкнутся, и обязательно с жертвами… Катастрофа, а не перекресток. Нет его страшнее во всем городке.
А в тот год, когда обочина дороги украсилась и справа, и слева сразу двумя могильными крестами, уже и те, кто не склонен никакой мистике верить, — признали: дело и впрямь нечисто.
Проклятый перекресток прозвали «Ванькиным». Потому что похоронены здесь под крестами два Ивана — вернее, останки того немногого, что уцелело от обоих водителей при лобовом столкновении.
Причина той аварии так и осталась невыясненной: свидетелей мало, и рассказывали они все разное. Кто-то говорил, что водители были пьяны — вот и влетели на полной скорости друг в друга, не сумев разминуться на одной дороге. Другие утверждали, что на месте аварии, прямо перед машинами, видели какую-то старуху — мол, вылезла бабка под колеса в самый неподходящий момент.
Пытаясь ее объехать, водители и совершили роковую ошибку.
Но только на дороге-то никакой старухи не нашли, а свидетели, что упоминали о ней, доверия не особо заслуживали: один был всем известный алкаш и полубомж Веселкин, другой — пятидесятилетний мужик, недавно переживший инсульт, с кривым, на сторону, ртом и невнятной речью.
«Померещилось им», — посчитали в полиции и дело закрыли.
А могильные кресты двух Иванов встали по обе стороны перекрестка как знаки опасности, предвещая смерть каждому, кто ступал на эту дорогу.
Жители поселка шептались, что сбитая когда-то пенсионерка была на самом деле ведьмой. Ее призрак и мстит горожанам.
Вспомнив о призраке, Анжелка окончательно пала духом. Но делать нечего: половину пути она уже одолела. Не поворачивать же назад! Тем более что другой путь в четыре раза длиннее. Анжелка и без того утомилась: все ноги сбила, ковыляя по темноте на высоких каблуках. И к тому же замерзла.
Вот он, Ванькин перекресток, впереди. Вроде бы и не страшный он вовсе… Только два креста на обочине вытянули тени на дорогу — словно лапы чудовищ.
Девушка остановилась в нерешительности. Может, подождать? А вдруг повезет, и кто-то еще пойдет здесь?
Неподалеку, в рощице, пролегает тропинка — запоздавшие пассажиры электричек ходят по ней, когда летом приезжают на здешние дачи. Дачи отсюда близко.
Правда, летний сезон толком еще не начался…
Да и время давно за полночь. Уж какие тут дачники?
Анжела постояла, вглядываясь в темноту, отчего ей только жутче сделалось — будто она смотрела в темные глаза убийцы. Обернулась назад — вдруг все-таки найдется кто-то случайный в попутчики? Но на дороге никого не было. Только собака.
Крупный лохматый пес со вздыбленной на загривке шерстью появился бесшумно и словно бы ниоткуда. И теперь, расставив передние лапы, нюхал след метрах в двадцати от перепуганной Анжелки.
Почуяв ее взгляд, пес поднял голову.
Сердце Анжелки дрогнуло и затрепыхалось где-то в горле. Пес повернул голову вправо, потом влево, как делает человек, который хочет убедиться, что никто не помешает ему сделать то, что он хочет. Что свидетелей нет. Собачьи глаза сверкнули красным, и Анжела вдруг почувствовала, что не может вздохнуть: воздух весь куда-то пропал из груди.
«Собачка», — глупо подумала она. Не в силах говорить, она пыталась хотя бы мысленно задобрить зверя каким-то своим хорошим отношением. Животные, говорят, чувствуют эмоции…
«Это всего лишь собака», — подсказал разум, и Анжелка осторожно перевела дух. Медленно повернувшись спиной к псу, она сделала один деревянный шаг вперед. Медленно. Один. Еще один.
Ничего. Надо идти. Не показывая страха. В конце концов, собака ведь даже не рычала. Просто бездомное животное.
Походкой заржавевшего циркуля девушка добралась до середины перекрестка.
И здесь оглянулась. Лучше б она этого не делала!
Собака исчезла. На ее месте увидела Анжелка старуху — уродливую, с непомерно крупной, не по росту, головой. Вперив в девушку горящие глаза, бабка недобро ухмылялась и ковыляла, протягивая вперед руки.
Длинные костлявые пальцы шевелились, то ли кого-то подзывая, то ли что-то подтягивая к себе из ночного мрака, из пустоты.
Ничего за всю свою жизнь Анжелка ни разу так не пугалась, как этой старой карги. Внешность ее вызывала омерзение. Словно Анжелка увидела сотню-другую копошащихся на обнаженном теле могильных червей. Или пауков и тараканов, забирающихся в нос и рот спящему человеку. Или гнездо змей, обосновавшихся в детской песочнице.
Кровь бросилась в лицо девушке, негромкий стук в ушах превратился в удары молотом.
Она повернулась и хотела бежать. Но что-то случилось с ее ногами — они застыли, вросли в землю. Жесткий колдобистый асфальт исчез: вместо него под ногами появилась горячая пористая, липкая масса, похожая на жвачку, расплавленную солнечным зноем. Пытаясь бежать, Анжела только глубже увязала в этой субстанции, и жар все сильнее охватывал ее.
Если где-то и можно провалиться в преисподнюю — так это здесь, с ужасом догадалась Анжелка.
Старуха догоняла, переваливаясь с боку на бок, словно косолапая утка.
А у Анжелки на ногах — будто цепи навесили. Такое только в кошмарах бывает — бежишь, выбиваешься из сил, а пройденный путь ни на шаг не длиннее. Кричишь — изо рта ни звука. Немота и бессилие.
Оказавшись на пятачке между двумя крестами, Анжелка застыла…
Два Ивана. Два. А если? Непонятно почему, она вдруг вспомнила давнюю детскую примету — просить у судьбы подарков и загадывать желания, оказавшись между тезками.
«Два Ивана, помогите!» — обмирая, взмолилась мысленно.
Единственный на перекрестке фонарь мигнул и погас. Старушечьи глаза хищно блеснули красным и пропали во тьме…
Анжелка зажмурилась, ожидая, что когтистые лапы сейчас схватят, дотянутся до ее горла…
Но тут раздался вопль — словно разъяренный кот драл глотку в драке. Одновременно ветер рванул вдоль улицы с ураганной силой. Девушка пошатнулась и…
Она бы упала, если бы ее не поддержали.
* * *
Первое, что увидела Анжелка, открыв глаза, — черный собачий хвост, промелькнувший между деревьями. Собака метнулась и пропала в ночи.
На перекрестке вспыхнул свет — зажегся единственный в этом месте фонарь. Непонятно, что мешало ему загореться раньше.
— Эй, с тобой все в порядке? — Озабоченный голос Лешки проник в сознание. — Я вот решил все-таки проводить тебя. Нехорошо ведь…
Не дослушав, Анжелка бросилась на шею своему другу:
— Лешенька! Какой ты молодец. Не представляешь, как я рада! Хороший мой, прости…
Лешка хмыкнул. Двинул каменной челюстью, пожал плечами. Снял куртку и отдал Анжелке. Правду говорят, что у девчонок семь пятниц на неделе — ничего у них не поймешь.
— Ладно, зайченыш. Проехали. Куртку застегни! — скомандовал он.
Анжелка благодарно улыбнулась, вытерла слезы, задернула молнию на кожанке и устроилась на байке позади Лешки, обхватив его твердую, как доска, спину.
Обернувшись назад, беззвучно прошептала в сторону двух крестов: «Спасибо, два Ивана!»
Мотоцикл взревел и полетел по темной дороге.
Распластавшись на Лешкиной спине, как ласточка на карнизе, Анжелка радовалась, какая эта спина широкая и надежная. И как ни глупо, но в это мгновение девушка была совершенно счастлива.
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ
г. Липецк
В конце нашей улицы стоял двухэтажный особняк. Дом из багрового кирпича, с французскими окнами на первом этаже, с башенкой, полукруглым эркером и колоннами у входа. Все у нас называли его — Красный дом. Люди недоумевали: почему столь роскошное здание пустует? Многие думали, что дом старинный, и жалели, что подобную красоту разрушило время.
Но все было не так.
Еще недавно здесь собирались создать уютное семейное гнездо. Тот, кто строил этот дом, рассчитывал, покончив с делами, уйти на покой и поселиться в настоящем родовом поместье.
Требовался солидный капитал, чтобы обеспечить эту мечту. И будущий владелец Красного дома нашел деньги. Он купил завод, кормивший полмиллиона жителей города, и распродал его по частям. Люди остались без работы, без средств к существованию. Маленький город разорился и опустел.
Ничего удивительного, что владельца особняка многие возненавидели. К тому же про него было известно, что он не имел привычки вести дела честно и дурачил своих партнеров.
Поэтому никому не показалось странным, когда в один прекрасный день этот человек просто исчез.
С тех пор все работы по возведению дома мечты прекратились. Красавец-особняк осиротел и стоял пустым, целым и крепким многие годы, сохраняя верность хозяину.
Занимая высокий пост на холме, у излучины реки, на самом краю города, дом снисходительно поблескивал нетронутыми стеклами второго этажа, озирая убогие плебейские дачки, среди которых смотрелся величественным аристократом, лишь временно угодившим в стесненные обстоятельства.
Не знаю почему, но с самого детства я боялась бывать рядом с Красным домом.
Мама говорит, я плакала, когда меня водили мимо него в садик. Родителям пришлось отыскать другой путь, в обход и длиннее, по соседней улице, чтоб не пугать ребенка.
Сейчас я уже не помню, что именно так ужасало меня, отчего кидало в дрожь и слезы.
Но стены Красного дома вызывали самые неприятные чувства не только у меня. На закате или в алых лучах утренней зари они наливались зловещим кровавым багрянцем и каким-то немеркнущим кошмаром представали в глазах прохожих — как немые свидетели или соучастники преступления.
С годами мои страхи поумерились.
В тинейджерском возрасте даже девочки стремятся щеголять отчаянной храбростью. Однажды кто-то из мальчишек в нашей компании предложил пойти в Красный дом, чтобы полазить там, поискать какие-нибудь сокровища или просто потусить в таинственном подземелье его подвала. Мы пришли в восторг от этой затеи.
Мы — это вся наша дружная братия: я, Танька Острикова, Костя Божко, Сережка Разин из 5 «В», Лилька Волкова из 5 «Б» и Вадим Баранов из 5 «А». Мы жили в соседних домах, учились в одной школе и с детства гуляли в одном дворе. А Вадик Баранов… Он нравился мне.
* * *
— Айда в Красный дом полазить? — предложил Вадик, глядя, как Лилька Волкова раскачивается на брошенной через лужу тонкой доске.
Плюх! Плюх!
— Ииии!
Под небольшим Лилькиным весом деревяшка плашмя шлепает по воде, и мутные волны цвета кофе с молоком расходятся широкими кругами во все стороны. Лилька хихикает и радостно повизгивает. Светлые волосы, выбившиеся из-под желтой шерстяной шапочки, подскакивают вверх-вниз веселыми пружинками.
— Девки не пойдут, — вяло растягивая слова, говорит Сережка. — Сдрейфят.
— Там темно небось, — ежится Танька.
— Я ж говорю — сдрейфят, — ухмыляется Серега.
— Чего?! Сам ты сдрейфишь, трусло! — Лилька соскакивает с доски — ботинками на толстой подошве прямо в лужу, и кофейные брызги украшают Серегины джинсы.
— Э-э?! — возмущается Серега, но Лилька пропускает его вопли мимо ушей.
— У меня фонарик есть, — ободряет она оробевшую Танюху и, презрительно оттолкнув стоящего на ее пути Сережку, первой направляется в сторону Красного дома. — Айда!
Я вижу, каким восхищением вспыхивают глаза Вадика, и черная зависть кусает мне сердце. Мне страшно, но я не могу отстать от своей храброй подруги. Я бегу за ней, смеясь и толкая по пути медлительного Сережку.
— И я! Я с вами.
Вадим бросается вслед за Лилькой. Вшестером мы бежим наперегонки к известной нам лазейке в заборе. По пути Вадик ловит Лильку за косы, хватает ее за рукав синей куртки, она вырывается, отпихивает его.
Черные Вадиковы волосы растрепались, закрыли глаза. Лилька визжит, но лицо у нее довольное — она, как и я, понимает, что Вадик пристает к ней, потому что она ему нравится. И это понимают все в нашей компании.
Я спотыкаюсь — у меня развязался шнурок — и отстаю от ребят, с досадой гляжу на них издали. Вадим и Лилька визжат и возятся понарошку — делают вид, что дерутся. Танька и Сережка идут медленно, оглядываются на отставших.
В итоге к лазу в заборе первым прибегает маленький Костик Божко.
Смеется и, издав ликующий индейский клич, чтобы мы все позавидовали, — ныряет в черную пасть лаза. Жуткое предчувствие ударяет меня под дых.
— Стой! — кричу я. — Не надо!
Костик и не думает останавливаться — еще чего! Мой предостерегающий окрик он принимает за хитрость, попытку лишить его лавров первенства в этом забеге. Он не может допустить, чтобы кто-то украл его победу.
Зловещие кровавые стены горделиво возносятся над улицей: Красный дом торжествует.
Мы слышим из-за забора дикий, полный боли и ужаса вопль.
— Костик?! — Голоса Вадима и Лильки дрожат и разом сливаются в один. — Ты где?!
В ответ, холодея от страха, мы слышим жалкое поскуливание и подвывание: Костик провалился в какую-то дыру. И не может встать. Кажется, сломал ногу.
Минут пятнадцать мы четверо растаскиваем доски вокруг дыры и пытаемся достать нашего приятеля из скользкой глубокой ямы с глинистыми берегами, куда он так опрометчиво угодил.
В конце концов Лилька, встав на бетонную плиту, нависающую над ямой, и балансируя на самом ее кончике, дотягивается…
Вместе с Вадимом они вытаскивают его за шиворот. Вадим берет Костика на руки и несет домой.
Таньку мы послали вперед, чтобы она отыскала Костину маму, тетю Марину, и предупредила ее. Чтобы не напугать — так велела Лилька.
Слезы беззвучно лились по запачканному глиной лицу Костика, он морщился, кусал губы от боли, но хныкать не смел. Потому что рядом шла Лилька Волкова — она держала его за руку и глядела серьезными сочувствующими глазами. А когда Костика принесли, и его мама выскочила из дома, чтобы встретить сына, Лилька первая подошла к тете Марине и сказала:
— Только вы его не ругайте. Он нечаянно.
Она одна решилась на это. Она всегда была безбашенно храброй.
Домой они ушли вместе. Вадим и Лилька. Вдвоем.
На Лильку Волкову мы все смотрели с восхищением.
Даже я. Но я еще и завидовала ей. Тоскливо и мучительно сознавая, что рядом с Лилькой я есть и всегда буду оставаться только на вторых ролях.
Зависть — чувство разрушительное. Возможно, со временем оно привело бы к чему-то очень нехорошему. Но судьба избавила меня от дальнейших переживаний.
Когда мы перешли учиться в шестой класс, подруга моя исчезла.
Я видела ее в тот день: Лилька гуляла у дома со своим щенком.
Этого пса она подобрала на улице. Маленький, косолапый и кривоухий беспородный уродец с рыжими боками и смешным черным пятном вокруг правого глаза, похожим на фингал, крутился возле автобусной остановки, визгливо тявкал на проезжающие машины и путался под ногами прохожих.
Он приветливо вилял хвостом всякому, кто бросал на него взгляд. Грязный, ничем не примечательный щенок-бродяга. На наших улицах таких немало.
Люди отпихивали щенка ногами, чтоб не приставал и не мешал им.
Нам всем понравился этот бездомный щенок, но никто из нашей компании не привел бы его домой. Мы знали, что родители этого не одобрят. Так зачем же нарываться на скандал? Глупо и бессмысленно. Ссоры с предками всегда грозят неприятностями.
А вот Лилька думала иначе. Вернее — она думала о другом.
— Нельзя его здесь оставить. Он же глупенький, дурачок, под машину еще попадет, — сказала она, глядя, как подпрыгивает щенок, облаивая колеса грузовиков в опасной близости от шоссе. Лилька поймала щенка, взяла его на руки.
— Вот ты бестолочь, — сказала она, и он облизал ей лицо. — Фу! — засмеялась Лилька. — Придется сделать из тебя человека.
Она принесла собаку домой, спокойно выдержала бурю и ураган, поднятые ее матерью, тетей Аней. («Псины нам еще не хватало!» «Зачем ты его принесла? Скотину кормить, когда себя не прокормишь!» «Я с ним возиться не буду, сразу говорю!») А потом с полной ответственностью приступила к воспитанию достойного защитника дома из блохастого уличного попрошайки.
Она назвала его Степкой. Кормила, вычесывала колтуны из шерсти, гуляла с ним.
В тот последний раз, когда я видела ее, она была с ним.
Степка потом отыскался — прибежал спустя сутки домой перепуганный и голодный. А вот Лилька… Она не вернулась.
Розыски, звонки по больницам и моргам ничего не дали.
По городу поползли слухи — один другого ужаснее. О том, что Лилька убита, что это — дело рук маньяка и насильника. Родители боялись отпускать детей на улицу, провожали и встречали их из школы. В городе стало непривычно тревожно. Все злились и подозревали друг друга.
Следователи районной прокуратуры, допрашивая тетю Аню, доводили ее до слез, выпытывая — как часто она ссорилась с дочерью и не скрывает ли чего от милиции?
Почему-то они были уверены, что Лилька из дома убежала. Мать растила ее одна, отца в семье Волковых никогда не было. Семья считалась неблагополучной.
Тетя Аня поначалу плакала, впадая в отчаяние от того, что ей не верят, но потом…
Чем больше времени проходило, чем меньше оставалось шансов, что Лилька вернется живая и невредимая, — тем настойчивее ее мать убеждали, что дело не в маньяке, а в ней самой. В том, что она плохо знала свою дочь. Что на самом деле Лилька просто не выдержала этой унижающей, удушающей бедности, в которой ей приходилось существовать с такой нерадивой, мало зарабатывающей матерью.
Потому-то девочка и сбежала. Скрылась, никому ничего не сказав.
Может быть, теперь она живет где-то в другом городе, тайно от всех? Может, она подалась в бега, чтоб разыскать отца, которого никогда не знала и от которого в доме осталась лишь одна мутная черно-белая фотокарточка без подписи.
Как Лилька могла узнать, что это он, ее отец, — на полуслепой старой фотографии, если никто никогда не говорил ей об этом, — никто не задумывался. Люди как будто не хотели верить в то, что зло возможно. Что оно не зависит от их воли.
И они винили Лильку и ее мать в том, что это они обнажили правду о зле, выплеснули ее на поверхность.
Мне кажется, с того момента, когда тетю Аню убедили, что Лилька пропала по ее вине, мать Лилькина уже не могла адекватно воспринимать действительность.
Она чокнулась. И тогда ее оставили наконец в покое.
А Лилю не нашли.
* * *
Мы, ее друзья, продолжали жить дальше. Мы учились по-прежнему и все так же дружили.
Правда, наши детские отношения с годами изменились, ведь изменились и мы сами. Маленький Костик Божко так вытянулся к девятому классу, что сделался волейбольной звездой нашей школы; Сережка безнадежно втюрился в Таньку, она же увлеклась рисованием и больше не хотела тратить время на дискотеки и бессмысленные походы в кино, куда он постоянно звал ее.
Вадим, тяжелее других переживший Лилькино исчезновение, во втором полугодии десятого класса обратил, наконец, внимание на меня. И у нас с ним начались-таки те чудесные романтические отношения, о которых я давно мечтала.
Но все это было уже другое и по-другому. Я знала теперь, чего хочу, — и новая мечта была для меня дороже любых отношений с мальчиком.
Я собиралась лучше всех сдать экзамены и поскорее расстаться с нашим городом. Вырваться из его разрухи, тени и нищеты. Поступить в столичный университет. Окунуться в другую жизнь, яркую и полную новых соблазнов.
А Вадим — я знала, и он это знал — был обречен застрять в родной глуши навсегда. Звезд с неба он в школе не хватал и, конечно, не смог бы никуда поступить.
Лучшее, что может случиться с ним, — это если отец уговорит своего шефа, и тот возьмет Вадика работать на шиномонтаже. Тогда со временем он сделается механиком и будет зашибать достаточно денег, чтобы каждый вечер пить свежее пиво в баре на станции с мужиками или развлекаться с очередной подружкой у себя в гараже.
Я понимала это и не строила ненужных иллюзий.
Я уже придумала, как у нас с ним все будет.
На выпускном в школе я разрешу ему все — в первый и последний раз. Пусть это будет нашим по-настоящему романтическим, главным свиданием.
Чтобы он запомнил это на всю жизнь — бал, красавица в воздушном крепдешиновом платье и первые объятия первой любви… Счастливая светлая сказка. Я очень хорошо все придумала.
И только одну-единственную деталь упустила — первой любовью Вадима была не я, а пропавшая Лилька Волкова.
* * *
Помню, как ложилась спать в ночь перед выпускным. Последний раз полюбовалась на свое потрясающее роскошное платье, специально пошитое в ателье для знаменательного дня. Погладила его руками, нежно, как живое существо, и положила на спинку стула.
Я легла спать чуть раньше, чтобы утром успеть сбегать в парикмахерскую, сделать праздничную прическу. Я рассчитывала отправиться на выпускной бал во всеоружии и с великолепным настроением.
Мама зашла ко мне перед сном и, улыбаясь, пожелала спокойной ночи. Свет погас, я свернулась уютным калачиком под одеялом и закрыла глаза, рассчитывая на сладкие сны.
Но вышло иначе.
— Марина! — внезапно окликнули меня. Я вздрогнула и очнулась. — Иди за мной…
Окончание фразы я не расслышала, а голос показался знакомым. Я открыла глаза.
— Ну же! Маринка, скорей…
Странно. Я определенно знаю этот голос, но… Имя вертится на языке, а вспомнить не могу! Удивленная, я встала. Накинула халат, тапочки.
— Маринка! Да что ж ты копаешься? — сердито подгонял кто-то невидимый.
Я оделась и вышла туда, куда голос звал меня — на лестницу. Из подъезда — за дверь, на улицу. Мимо качающегося фонаря, киоска «Роспечати», старой школы и дальше, по переулку.
Голос, направлявший меня, звучал близко, совсем рядом. Я подчинялась ему, словно невидимка вел меня за руку.
А вот и знакомый забор, и лаз в заборе. Не смущаясь и не сомневаясь, протискиваюсь между выломанными досками и оказываюсь в душной и густой непроглядной темноте.
Но почему-то продолжаю хорошо все видеть. Передо мной — зловещие стены Красного дома. Окна на втором этаже поблескивают надменно, как пенсне какого-нибудь аристократичного злодея, зато нижние — ощеряются чернотой, сердитым оскалом беззубого грабителя.
— Марина!
Я поворачиваю голову и вижу в проеме между колоннами, там, где когда-то была входная дверь, тоненькую детскую фигурку.
Ее озаряют сзади слабые, дрожащие лучи света. Источник этих лучей мне непонятен — на свечу или фонарик не похоже, скорее, какое-то фосфорическое излучение, как от гнилушек на болоте. Оно идет из подвала дома.
— Марина, я здесь, — говорит голос, и я, наконец, понимаю, что это не сон, — я действительно вижу ее, Лильку.
— Ты что, не узнала меня? — Она улыбается и склоняет голову набок — такой характерный, узнаваемый жест. Никаких сомнений — это она.
Я безумно рада, что она жива, и хочу сказать ей об этом, но от изумления горло перехватывает спазм.
— Лилька… — задыхаясь, шепчу я. — Лилечка!
Она кивает, светлые волосы подпрыгивают пружинками, выбившись из-под желтой шапочки. Но тут слабые дрожащие лучи, льющиеся изнутри Красного дома, заслоняет чья-то громадная черная тень. Кто-то появляется за спиной у Лильки, протягивает к ней руки. Словно гигантский паук, накидывает сети мрака…
Я пытаюсь закричать, предупредить подругу, чтобы она увернулась и бежала ко мне, — но поздно: тень наползает на Лильку сзади, подминает под себя, глотает и утаскивает вниз, в подвал Красного дома-чудовища.
— Лиля! Лилька!
* * *
Наутро я проснулась в слезах.
А потом мама рассказала мне новости. Сосед вышел погулять с собакой, у него охотничья такса, страшно непоседливая и глупая.
Завидев возле Красного дома крысу, псина эта впала, по обыкновению, в буйный восторг, сорвалась с поводка и убежала от хозяина. Обойдя кругом здание в поисках собаки, сосед услышал, что такса воет и скулит где-то внизу. Алексей Павлович не решился соваться в Красный дом один — сходил и позвал на помощь приятеля, а тот, человек бывалый и опытный, захватил фонарь, веревки и на всякий случай ломик.
Таксу разыскали и вытащили: она провалилась в подвал. Чтобы вызволить собаку, мужчинам пришлось разбирать завалы внизу. Под грудой досок они наткнулись на тело: девочка-подросток в синей куртке, в желтой вязаной шапочке. И никаких признаков борьбы, насилия и вообще чужого присутствия. Вид ее был столь безмятежен, что в первые мгновения мужчины решили — девочка спит.
Но это, конечно, было не так.
Как и собака соседа, девочка случайно провалилась сквозь подгнившие доски первого этажа в подвал. Только упала неудачно: напоролась шеей на торчавшую снизу железную арматуру. Тело засыпало обломками досок — из-за этого ее и не нашли сразу.
Бедная Лилька. Она скончалась от потери крови.
Я хочу верить, что она не была в сознании в последние минуты своей жизни. Мне страшно представить такую смерть: в одиночку, в полной темноте, не имея ни сил, ни возможности позвать кого-то на помощь. Безнадежно ожидать конца, чувствуя, как постепенно угасает твоя жизнь. Нет, только не ты! Только не так…
Страшная находка взбудоражила и настроила против Красного дома весь город. Перед зданием администрации собрался стихийный митинг, и толпа потребовала, чтобы заброшенный бесхозный дом снесли. Незамедлительно.
Испуганные чиновники пошли навстречу жителям и, не откладывая дела в долгий ящик, нагнали с какой-то стройки нужной техники.
С помощью огромного экскаватора все еще крепкие стены из багрового кирпича расковыряли и обрушили, наконец.
Добровольцы, среди которых были и мы с Вадимом, и все мои одноклассники, растащили зловещие руины по кирпичику.
Когда фундамент расчистили — обнажился подвал, и тут выбрались, наконец, на свет божий мрачные тайны Красного дома: под одной из боковых лестниц, разбитых и брошенных внизу, покоились, замурованные в бетон, трупы четырех человек, а в котле для замешивания строительных растворов — тело самого хозяина.
Каким образом он туда угодил, и кто убил его — после стольких лет уже вряд ли узнают. Но, без сомнения, он умер, захлебнувшись в цементе.
Тот самый дом, который, по задумке владельца, должен был принести ему радость и счастье, сделался причиной его гибели. И не только его…
Не зря говорят: не построить счастья на чужом несчастье. Не стоило и пытаться.
* * *
Заброшенного дома на окраине нашего города давным-давно не существует. Но в моей памяти он жив. И продолжает, помимо моей воли, служить олицетворением зла.
Зло неистребимо, как неистребима людская жадность, подлость и безрассудство.
При всей моей ненависти, я не стараюсь забыть о Красном доме. Потому что хочу сохранить живые воспоминания о той, кого он погубил, — о моей подруге, Лиле Волковой.
Иногда, в плохие дни, когда я особенно недовольна собой, в голову лезут странные мысли. Мне начинает казаться, что в судьбе моей подруги каким-то образом виновата и я. Если б не мои зависть и ревность, может, все сложилось бы по-другому? Я думаю так и плачу. Впадаю в отчаяние, мучаюсь и не нахожу себе места. Но потом, в конце концов, устаю и засыпаю. И мне снится Красный дом. И Лилька Волкова на его пороге.
— Ну, я пошла? — говорит она мне, оглядываясь через плечо.
— Подожди, — отвечаю я. Беру ее за руку, и мы шагаем вперед вместе. И Красный дом рассыпается перед нами, как легкий пустой карточный домик.
ДВУЛИКАЯ
Московская область
Я не услышал грохота обвала. Порода внезапно осела, и с легким шуршанием часть тоннеля исчезла, будто ее стерли ластиком. Мгновение — и все погрузилось во тьму. Эта огромная, кем-то заранее вырытая могила, давно поджидавшая меня, улучила момент и сомкнулась.
Теперь ни пошевелиться, ни вздохнуть: засыпало. Камни давят грудь, теснят с боков; руки саднит — наверное, кожу содрало с ладоней. Одну ногу я не чувствую, а другая начинает ныть и покалывать — затекает, вывернута в неудобном положении.
Но хуже всего мысль о смерти, мерцающая в отупелом сознании, подобно фонарю с истощенной батарейкой. Как долго придется ждать конца, мучаясь от подступающего удушья? Никого нет рядом, все мертвы…
И вдруг в глаза бьет белый луч. На мгновение слепну. Камни с шорохом расступаются, и передо мной возникает чье-то лицо. Девушка. Длинные прямые волосы падают на лоб, закрывают щеки. Катя?
Становится светлее, детали проступают на черно-белой картинке четче и объемнее.
Нет, эта девушка мне не знакома. Лицо у нее круглое, скуластое. Нос слегка приплюснут. Из-под тяжелых азиатских век поблескивают мокрыми угольками раскосые глаза — совершенно черные, без зрачков.
Откашлявшись, я шепотом спрашиваю:
— Кто ты?
Во мне все бурлит от радости, я готов обнять свою спасительницу, но она смотрит на меня и молчит. Я не понимаю, что означает ее взгляд. Что-то есть в ее лице страшно чужое, никогда не виденное раньше ни в одном человеке. От ее застывшего взгляда меня бьет озноб.
* * *
— Эй, подъем! Солнце встало! — Катька смеется и светит мне в лицо фонариком. Я вскакиваю, весь мокрый. Футболка прилипла к спине. В прыгающем свете фонаря глянцевито поблескивают стены пещеры. В гроте напротив мигают теплые отсветы свечей и газовой горелки. Пахнет вкусным дымком — дежурные уже сварганили какой-то завтрак.
Катька тоже зажигает свечу и лепит огарок на выступ скалы.
— Разоспался, Андрюха. Вставай уже! — командует она. — Сегодня попробуем в соседнюю систему[4] пролезть.
Она копается в рюкзаке, вытаскивая и упаковывая нужные шмотки в транс,[5] а я выпутываюсь из спальника. Кости ломит, как будто и впрямь побывал под обвалом. Ничего себе — сон! Никогда раньше в пещерах мне не снились сны.
— А вот еще способ — если заблудишься, можно вызвать Двуликую…
Наш дорогой Петюня разглагольствует, сидя в большом гроте — «столовой». Он помешивает ложкой варево в котелке — судя по запаху, это гречка с тушенкой, и она уже пригорела — и рассказывает небылицы кому-то из новичков — наверняка Светке.
— Двуликая? А кто это? — испуганным шепотком спрашивает девушка. Из свежей партии чайниц Светка — самая хорошенькая. Поэтому Петюня и положил на нее глаз.
Игорь и Ваня заняты сборами. Петькины рассказы их не волнуют.
Я встаю, наконец. Какая-то подозрительная слабость одолевает меня, ноги как ватные. Нехотя поднимаюсь. Иду к водокапу,[6] чтоб слегка ополоснуть физиономию. По пути чмокаю Катьку в чумазую щеку. Катькины волосы пахнут дымом, и от этого знакомого запаха остро веет почти домашним уютом.
Я невольно прислушиваюсь к Петькиным вракам, хотя слышал все его байки уже не раз.
— Точно ничего не известно. Кто-то говорит, что зовут ее Эва, и она мать Белого…[7] Кто-то считает, что это девица, потерявшая в пещерах своего жениха. С тех пор ходит под землей. Ищет пару. Приглянется какой добрый молодец — она его сманивает…
— О-о! — хихикают Светка и Юлька.
Но Петюня не смеется.
— …и уводит подальше от остальных. Эва — она только наполовину человек, а наполовину камень. Повернется и — раз!.. Была девка, а стала старуха. Другое лицо. И кто увидит этот фокус — тот с ума сходит.
— Так значит, девушек она не трогает? — уточняет Светка. По голосу понятно, что такой расклад ее бы устроил. Но Петюня никому не даст расслабиться.
— Что значит — не трогает?! — возмущается Петька. — Просто к ним она сразу старухой является. Выйдет из стены и завалит камнями. Особенно если девушка красивая. Ревнует.
— Петька! Каша горит, снимай кан, — командует Игорь. — А ты, Светик, не слушай его. Он у нас дурак. Эва, наоборот, добрая. Ее вызывать надо, когда заблудишься, — трижды покричишь Эву, она явится и выведет. Но это если тебе совсем край пришел и если не пьяный. А если хоть чуток вдетый — рассердится и утащит в самый дальний тупик системы. Поэтому под землей пить нельзя. Общество трезвости, такие дела…
Светик заливисто смеется, но я слышу, как дрожит ее голос. Под землей в рассказы о нечистой силе легко верится, и потому не всякому они приятны. У новичков и без них поджилки трясутся. По себе помню.
— Эй, народ! Кушать подано. К столу, господа спелеолухи! — объявляет Игорь.
Меня вдруг пробивает озноб — точно как во сне. Катька замечает, что я вздрагиваю, и спрашивает:
— Андрюх, ты чего?
Я притягиваю ее к себе, обнимаю и шепотом на ухо говорю:
— Слушай, а может, не пойдем сегодня?
Катька глянула на меня так, будто я ее ударил.
— С чего вдруг? — разобиженным голосом протянула она. — Да я ж полгода только об этом думала. Если не сегодня… Когда вырвусь-то опять? С этой проклятой работой!
Катька таращится на меня с досадой и удивлением. Ее тонкие брови, всегда изогнутые домиком, сейчас вздыблены высоко над глазами, будто этому домику ураганом приподняло крышу. И голос дрожит:
— Чего это с тобой, Андрюш? А?
Да. А ведь именно я когда-то повел Катьку в первый раз в Подземлю. В Силикаты. Как она всего боялась поначалу! Визжала, набила себе шишек по темным тоннелям, то кланяясь не к месту, то разгибаясь в самые неподходящие моменты. А теперь — вот. Ну что мне ей, про дурацкие сны рассказывать? Сколько раз над чужими суевериями смеялся…
Тревожный Катькин взгляд обшаривает мое лицо. Наверху, на земле, глаза у моей подруги зеленоватые, холодного цвета, словно лед в горах или северное небо зимой на закате. Но здесь, внизу, при свете свечи, они кажутся почти черными из-за сильно расширенных зрачков. Я вытираю пятнышко сажи с Катькиной щеки и тянусь поцеловать. Катька смеется и в шутку отпихивает меня:
— Андрюха, имей совесть! Ждут нас.
После завтрака Игорь объявляет пятиминутную готовность. Наш руководитель самолично оглядывает нас — инвентарь и снаряжение, и мы, наконец, двигаемся на штурм недавно открытого лаза — возможно, за этим новым рукавом действительно есть проход в соседнюю систему.
* * *
Два часа возились, навешивая страховку над колодцем[8] после третьего грота. Прошли его почти спокойно, только Юлька умудрилась кроссовкой двинуть Петюне по голове. Впрочем, он сам виноват: каску зачем-то снял да еще страховать полез, когда его не просили. Хотел пощупать новеньких за хорошенькие задницы, а лучше повода, чем страховка, для этого не придумаешь.
Звонко Юля впечатала ему по кумполу — мы все смеялись, и Петюня сам тоже ржал как конь. Но, когда Игорь посветил на него фонариком, пытаясь рассмотреть место ушиба, я заметил, что Петюня побледнел.
— Как ты? — спросил его потихоньку.
— Нормуль. — Петька усмехнулся. — А что?
— Да так… В лице у тебя прозелень.
— Да я солнца неделю не видел. Вот и заплесневел малеха…
— Как сыр «Дор-Блю», — сказал Ванька.
Все заржали.
— Ну что, господа. Впереди — шкурник,[9]— бодро объявил Игорь. — Кто первым?
— Я! — выскочила Катька.
Игорь покачал головой:
— Извини, Катерина, луч света, понимаешь, в темном царстве. Ты у нас самая худая, а тут надо хорошо побуриться за всех. Ванька пойдет.
Согнувшись в три погибели, вылезли мы в коридор. На последней развилке шедший замыкающим Игорь положил спичку головкой к выходу. Ванька осветил фонариком лаз впереди, прикинул что да как и начал «бурение».
Он лез медленно, нащупывая рукой почву, выгребая назад мелкие острые камни из-под живота и осторожно пробуя устойчивость плит.
— Ну как там, Вань? — тихо спрашивает Игорь.
— Отлично. Небо в алмазах, — пыхтит Ванька.
Спустя пятнадцать минут он трижды мигает фонариком с той стороны лаза, как было уговорено: прошел.
Вслед за ним пробирается Катька.
— Ну, гостей принимаешь? — выкликает Игорь, прислонившись к темному провалу шкурника и приставив ладони ко рту. — Эй!
— Гостям мы завсегда рады, — глухо откликается Ванька.
Игорь дает отмашку и внимательно следит за тем, как новенькие в нашей компании Юлька и Светка, давясь смешками и хихикая, проходят шкурник. Девчонки худые и гибкие, им проще.
Потом Игорь смотрит на меня.
— Ну, я пошел? Трансы мне протолкнешь.
— Давай.
Он снимает куртку и, пыхтя, протискивается сквозь шкурник. Я проталкиваю ему один за другим три наших транса со снарягой, снедью и аптечкой. Часть барахла оставили на хранение в спальном гроте, так что груз не слишком тяжелый. Игорь принимает. После чего я тоже снимаю куртку, киваю Петюне и в одном комбезе ввинчиваюсь ногами вперед в уже отполированный телами моих товарищей лаз.
— Не забоишься тут один? — в шутку спрашиваю Петьку. Он презрительно хмыкает:
— Кого? Шубина?[10] Мы с ним водочки выпьем.
Ну и наглец же наш Петюня. Меня разбирает смех, но я сдерживаюсь, чтоб не расширить грудную клетку лишним воздухом. В шкурнике дышать надо коротко и неглубоко, как ящерица. Иначе можно застрять.
Зря я об этом подумал. Только выбрался из узкой щели — увидел всех наших, сидящих возле выхода с заинтересованными лицами, — послышался вопль Петюни из шкурника.
— Эй, народ! Я застрял.
Голос, заряженный нервозностью, звучал напряженно и зло. Совсем не похоже на обычные раздолбайские интонации нашего смешливого друга. Игорь подобрался ближе и заглянул в шкурник.
— Спокойнее, Петруша. Выдохни! — скомандовал он, подсвечивая фонариком лаз. Мы увидели красное лицо Петьки с вытаращенными глазами, лоснящиеся от пота щеки, распластанные на черном камне.
— Ничего не вижу. Фонарь убери! — завопил Петька.
— Вот умудрился-то… Говорю ж тебе — выдохни, — повторил Игорь. Он говорил с Петькой, как доктор с больным — размеренно и тихо. — Давай подыши. Мы тебя видим. Шатурские ходили здесь, «беловцы» ходили. И мы пройдем. Без паники.
Девочки зашептались и загалдели, перепуганные происшествием, но Ванька шикнул на них, и они замолчали. Катька схватила меня за руку и не отпускала. В наступившей тишине мы слушали, как пыхтит в проходе застрявший Петюня, стараясь успокоить дыхание. Паника автоматически заставляет организм провести гипервентиляцию легких. Человек неосознанно начинает дышать глубже и вместо требуемого уменьшения расширяет объем грудной клетки.
— Давай, Петька, ну! На счет три — выдыхай. Коротко и резко. Легче, легче.
Катька припала к моему плечу и, хихикнув, шепнула на ухо:
— Как будто при родах командует. Ему бы акушером быть!
Я укоризненно смотрю на Катьку, сжимаю ее руку. Это не эгоизм. Ей просто страшно. Когда под землей что-то случается внеплановое — это всегда нервирует.
— Все будет нормально! — говорю ей шепотом. И целую Катькин висок пересохшими губами.
Первую волну паники Игорь сбил, но застрявшему Петюне так и не удалось сдвинуться ни на сантиметр ближе. Еще немного — и он может заистерить всерьез.
— Гречки переел, паразит, — вполголоса говорит Ванька, чтобы никто не расслышал, кроме меня. Смеяться сейчас никому нельзя. Светка с Юлькой вцепились друг в друга. Катька побледнела. Я похлопал ее по плечу, чтобы подбодрить. У меня нет ни малейших сомнений, что Игорь скоро вытащит Петьку из шкурника. Вопрос упорства и терпения — не более того.
— Слушай, пока тут что, давай-ка я осмотрюсь? — говорю я Ивану. Мне показалось, что справа потянуло свознячком — может, в прошлый раз мы здесь тоннель не заметили? А вдруг и вправду нас ждет не тупик через пару-тройку километров, а настоящий проход во вторую систему. Да с другим выходом. Вот бы хорошо!
Ванька соглашается:
— Двигай.
Под бодрые разговоры о диетах и похудении в гостях у камня я отхожу в дальний угол низкого коридора — там мы видели углубление, возможно, это проход.
— Гляну и вернусь. Жди здесь!
Я жестко пресекаю Катькины попытки следовать за мной. Зажженная свеча, вытянув пламя, словно указательный палец, в сторону углубления, ясно демонстрирует: проход действительно есть. Я зажигаю налобный фонарь, кладу спичку головкой к выходу и лезу дальше.
* * *
Петюня не самый приятный человек в компании, он мне никогда особенно не нравился — рыхлый, ленивый… Но байки у него занятные. Он много терся в пещерах, высиживая целые сезоны под землей, и благодаря своей безудержной общительности многого понахватался от бывалых и опытных.
Он любил ошарашивать новичков, рассказывая им то, что сам только недавно от кого-то услышал. По большей части его подвешенный язык и создал ему репутацию опытного спелеолуха. Хотя на самом деле он, скорее, тусовщик.
Но его и вправду интересно было послушать.
Именно он рассказал нам однажды главную спелестологическую[11] легенду, которая некоторым настоящим проходчикам вроде Игоря буквально подарила мечту. Легенду про Четыре креста. Якобы Россия с четырех сторон света окружена древними рубежами обороны — подземными системами, в которых есть место для целых городов и крепостей. Там текут пресноводные реки, есть глубокие озера с чистой водой и многие километры подземных сооружений, которые использовались издавна как убежища для населения и как военные форты для защиты и нападения на врага. Вот эти системы и зовутся Четыре креста.
Созданы они самой природой, но и предки наши приложили руку. Под землей ведь не только прятались — там еще и добывали необходимые руды для изготовления оружейного железа, белый камень для строительства городов, как здесь, в Киселях. Во многих системах встречаются остатки старинной крепи. А еще — рукотворные пещеры и храмы. Отыскать все эти тайные строения и ходы, пройти по ним, составить первые карты — вот интересная задачка для серьезного подземлянина.
Рассказывал наш Петюня и совсем фантастические вещи — про светящиеся потолки глубоких пещер, про странных полупрозрачных зверей и гигантские фосфоресцирующие растения. Цветы диаметром в несколько метров, совершенно невесомые, словно из паутины сотканные, холодные, как тающий под солнцем лед. Может, глупо, но именно этими сказками разжигалось мое любопытство: а вдруг — правда?
А что, если и в самом деле забраться далеко-далеко под землю, куда еще никто не ходил, — и там увидеть все это и даже больше. Секреты, которые откроются только самым смелым. Самым чокнутым из нас.
Эти мысли носились в моей голове, как сквозняки носят катышки пыли в покинутом доме, пока я лез по новому проходу. Но, увидев впереди голубоватое свечение, я вздрогнул и будто очнулся.
Что это там? Подземные светляки? Светящиеся цветы-сталактиты? Или я все-таки нашел выход? Тот самый, который и вход. Он бы теперь весьма пригодился.
Я заглянул в узкий тоннель, из которого струился свет: за ним был небольшой грот — и в нем длинноволосая девушка с фонарем. Она стояла спиной ко мне… Катька? Может, я незаметно для себя сделал круг и вернулся к тому гроту, где оставил друзей?
Девушка обернулась, но я не успел разглядеть ее лица.
Со стены слева с шорохом поползли струйки песка… я инстинктивно бросился в сторону от осыпи.
И тут в коридоре позади грохнуло — меня накрыло горячей волной мелкого камня, пыли, земли. Захватила и потащила, шкрябая и обдирая кожу, гигантская мясорубка.
«Все? — подумал я. — Нет, не все!» — ответил сам себе и поплыл. Разгребая против потока. Извиваясь и выискивая свободное пространство, чтобы не вдавило в скалу. Я старался держаться середины коридора и направлял тело к выходу. Ноги и руки горят, пыль забивает горло и нос, глаза слезятся, я почти ослеп. А под конец случилась беда — лопнул ремешок каски, и ее сорвало с меня, как яичную скорлупу с вареного яйца. Стащило вместе с ушами и волосами. Как будто камни решили вывернуть меня наружу, выбить мягкое нутро, как выбивают ковры от пыли.
Я стал частью этого потока. Нет больше ни рук, ни ног. Ни прошлого, ни будущего. Тьма. Боль. Все остановилось. Только из глаз сочится густая соленая влага — я чувствую ее на языке. Вряд ли это слезы. Я засыпан. Обвал случился в тоннеле, где застрял Петька. Значит, все погибли. Значит, не жить и мне.
Мысль о смерти мерцает, как фонарь на севшей батарейке. Батарейка. Фонарь. Что-то капает. Свет. Глаза закрыты, но я чувствую воспаленными веками, на которых запеклась кровь, — сияние. Оно разрастается, оно жжется. С трудом разлепляю один глаз, другой…
Передо мной девушка. Она выступила прямо из каменной плиты — холодный, гладкий монолит отделился от стены тоннеля. Длинные антрацитовые волосы падают на лицо. Тяжелые азиатские веки, сияющие угольки глаз. Моя спасительница. Молча она протягивает мне руку, я хватаю твердую холодную ладонь и встаю, преодолевая боль. У нее крепкие пальцы. Мне знакомо ее лицо. Я где-то видел его раньше, но не помню где.
Она ждет, чтобы я шел за ней. Мне трудно дышать, я едва волоку ноги, но страшнее всего отпустить ее руку. Тогда я наверняка погибну.
— Эва? — Я зову, но она не откликается. — Эва!
* * *
— Нашли?!
— Нашли.
К группе спасателей подбегает худенькая чумазая девчонка с зелеными глазами. У нее разбита губа, на скуле синяк, а комбез изодран и висит клочьями. Ее товарищи — две девочки и трое парней — выглядят не лучше. Но они не бегают, не мучают никого вопросами. Они сидят, ошарашенные, оглушенные, потерянные. Фельдшер скорой делает им перевязки и уколы.
— Андрей?! — Губы девчонки трясутся, она то и дело вытирает слезы, размазывая по лицу грязь и кровь, которая сочится из царапин и ссадин.
— Наверное, — осторожно говорит один из спасателей, ражий детина со странным, наполовину обрезанным ухом.
И, расстегнув полиэтилен, показывает принесенное из завала тело: сухое, в черных пятнах запекшейся крови лицо, грудь со свисающими лохмотьями содранной кожи. Волосы на черепе торчат дыбом — совершенно белые.
— Это… нет! — говорит девчонка, и в голосе ее звучит отвращение. — Не Андрей.
— Да мы тоже сомневаемся. Этот… как будто лет двадцать в пещерах пролежал. Вон замылен уже, лоснится. Но его к выходу прибило. Подумали — вдруг ваш.
Девчушка закусила и без того кровоточащую губу, прижала ко рту кулаки. Замотала головой, не замечая, как слезы катятся из глаз.
— Вообще-то и так бывает: пласты в земле сдвинутся. Тогда и трупы кое-где наверх вылезают. Даже если сто лет прошло — а вот вытолкнет их вдруг. Так что, может, и правда не ваш. Но вы не волнуйтесь, девушка. Ищем. Найдем!
* * *
— Эва!
Рокочущее эхо гулко прокатывается по стенам и замирает в отдалении. Пугаясь человеческой речи, с шорохом бросаются из-под ног синие змейки и саламандры. Огромный полупрозрачный цветок под потолком пещеры, свисающий с тонкого длинного сталактита, затрепетал от моего дыхания. Вспыхнули алмазные искры на стенах. Это иней.
— Эва, куда мы идем? — спрашиваю я.
— Домой. Мы идем домой, — отвечает Эва.
И наконец, поворачивается ко мне. Лицо ее стало другим: как будто кто-то подменил негативом черно-белую пленку.
У Эвы теперь седые волосы цвета снега и почти черное морщинистое лицо. Древнее — такое древнее, что все человеческое в нем стерто, обезжизненно до состояния вечности. Лицо из камня. Покойное лицо самой смерти. Смерть улыбается мне, и я тону, растворяюсь в ее улыбке. Как хорошо, что я не один тут.
Спасибо, Эва.
АГАФЬЯ, ИЛИ СЕРДЦЕ ТАЙГИ
Новосибирская область
Есть в сибирских лесах за Уралом обширные пространства, закрытые для цивилизации. Заповедные кладовые дикой природы, в которых само время словно бы загустело от долгого хранения: оно не мелькает бездумно, не скачет вприпрыжку, как в далеких городах, где жизнь человека обставлена всевозможными удобствами.
Здесь время спит, застаиваясь, как дремотная черная вода в болотистом лесном озере, а иной раз вдруг потянется, поползет медленно и тягуче густым сиропом и втянет в свои липкие омуты тех неосторожных, кому выпадет судьба приблизиться к опасным берегам.
* * *
В августе 2002 года в поселок Крещенское явилась компания охотников и рыболовов из Новосибирска. Наслышанные о нехоженой тайге между безымянными притоками реки Шегарки, они намеревались взять там хорошую добычу.
Перед дорогой заглянули к местному жителю, Степану Ивановичу Кравцову, которого рекомендовали им еще в городе как бывалого и знающего округу охотника.
Вопросы решали, как водится, за столом, с водочкой и закусками — не из сельмага, конечно.
Хлопнув стопарик, старик Кравцов подтвердил, что действительно лесные угодья на притоках Шегарки богаты и зверьем, и рыбой, а единственный путь туда пролегает по такому мелководью, по которому не проходят моторные катера рыбнадзора и районного лесничества, так что и охота, и рыбалка в тамошней глухомани вполне свободные.
Поскребывая желтыми прокуренными ногтями бороду, Кравцов показал городским гостям на их карте особые места: возле Черного Мыса, у перекатов — где голавль берет, где линок, где хариус; где норка водится, где выдра…
— Но сейчас-то там зверя мало. Да и какой есть еще линьку не кончил. Я таких облезлых не стреляю. Рыбы тоже, почитай, что и нету — сезон на исходе, — скрипуче выжевывая слова, объяснял старик.
— А вот здесь? — показал на карте Игорь, один из охотников. Он обвел пальцем заветный район. — Слышал, там еще какое-то озеро есть.
Старик прищурился, поглядел на карту и завесил седыми бровями глаза. Усмехнулся:
— Да нет. Туда-то вам ни к чему.
— А что такое? — спросили старика.
— Добираться долго, — фальшиво улыбаясь, пояснил Кравцов. — А неровен час… И не выбересси.
Охотники переглянулись: эге! Темнит уважаемый Степан Иванович на ровном месте. Оно и понятно: кто ж лучшие-то свои места пришлым чужакам сдаст?
После чего навалились на старика с удвоенной энергией. На столе, словно сама собой, по щучьему велению, возникла вторая бутылка перцовки.
Повысив градус, дед разговорился:
— Лет пятнадцать назад дядька мой — а он, царствие ему небесное, уже лет десять как помер, — охотился там. И заплутал. Шел вроде по верным приметам, с тропы не сходил, а вот поди ж ты! Словно бы леший по кругу водит. Дядька мой не шибко суеверный был, но тут запереживал. Вспомнил, как ему отец рассказывал: мол, если почуешь, что нечистая тебя по лесу водит, сними с себя всю одежу, выверни швами наружу, карманы выпусти и обувку справа налево поменяй. Три раза прочти «Отче наш» или любую другую молитву, какую сумеешь. И в таком-то виде из леса выходи.
Дядька мой так и сделал. Перевернул на себе всю одежу, молитву протараторил, крестом обмахнулся и — вперед! Вышел на берег какого-то озера. Вода прозрачная, как стекло, — каждый камешек на дне виден. Шагнул он поближе, чтоб воды зачерпнуть в ладонь — умыться, напиться, — и вдруг видит: из воды баба на него смотрит. Из-за плеча выглядывает. Хотел он обернуться, посмотреть на нее, но тут ветер поднялся — скрутил, швырнул головой о камень — и дух вон. Очнулся на закате уже: ни леса, ни озера. Лежит возле дороги, где лесовозы ездят, на обочине.
— Интересно, — подал голос Олег. — А дядька ваш, случаем, не того?
И он выразительно щелкнул себя под скулой.
— Не кирной был, не? — уточнил он, глядя на Кравцова смеющимися глазами.
Старик Кравцов не обиделся.
— Нет, — буркнул. — Ничего такого не было. Дядька после, сколько ни ходил в тех местах, озера больше не отыскал. Наши деревенские смеялись над ним, тоже вот вроде вас. Но потом перестали. После одного случая.
В соседней области сбежали из колонии пятеро зэков. Думали в нашей глуши отсидеться. У нас ведь тут самое, можно сказать, сердце тайги.
Так они думали, да просчитались. Наскочили на проклятое место и, видно, пожалели не раз. Может, лучше было б им от людей терпеть, чем там, с нечистой силой… Из пятерых только один выжил. Нашли его рыбаки на берегу — валялся на камнях, покалеченный и слепой, и такое нес, что слушать невозможно.
Менты приехали, сразу мужика в наручники, в КПЗ. Допрашивали, хотели дознаться, куда подельников девал? Не сам ли всех их ухайдакал? Только ничего не добились. Впал тот мужик в помрачение, умом тронулся. Про озеро только заикнулся, что вроде как до озера они все вместе добрались. А вот, что с ними дальше приключилось — так никто и не узнал. Зэк помер в тюремной больничке. Все трясся перед смертью — боялся чего-то. С тех пор никто в те места не ходит, запретные они.
— Чепуха какая-то, — проворчал Олег потихоньку, чтобы старик не услышал.
Водка кончилась, темы для беседы исчерпались. Гости собрались и ушли к себе: назавтра предстояла им ранняя побудка.
Старик, взбудораженный, вышел проводить их и задержался во дворе, чтобы покурить на свежем воздухе.
Небо широким дырявым колоколом качалось над крыльцом Степановой избы. Звезды то сияли ярко и чисто, а то моргали, вызывая у старика беспокойство, как у собаки, которая никак не утопчет помягче местечка, прежде чем свернуться калачиком и сладко заснуть.
Старик примостил тощий зад на завалинке и засмолил вонючую сигаретку без фильтра, слушая, как звенят над ухом комары.
Неожиданно от забора отделилась чья-то тень.
Старик, завидев ее, дернулся и поперхнулся дымом. Прокашлявшись, спросил, вглядываясь слезящимися глазами во тьму:
— Багор? Ты, что ли?
— Не я. Совесть твоя, — засмеялась тень. И подошла ближе.
Это действительно был Багор — чернявый невысокий мужичок в обтерханном пиджаке и спортивных штанах — рецидивист, недавно освободившийся и устроенный на поселение в Крещенском. Спросил:
— Че им надо было?
— Че надо? Да то же, что и всем вам, — нервно ответил старик. — Все вы, пришлые, об своем интересе печетесь. Что вам тут, в тайге? Хапнуть кусок пожирнее да бежать. Думаете, если ухватили, так оно вам впрок пойдет? Схватил — и кум королю? А мы тут никому со своей правдой не интересны.
— Заткни фонтан. Не по делу разворчался. Говори, чего наплел городским лошкам? Может, жаловаться вздумал?
— Да что наплел? То же, что и всем, — побрехушки. Чтоб не перли на рожон.
— Не ко времени нам эти гости, старик. Две недели как мужики на скачок[12] ушли. Поди уже на месте. Пора и нам двигать. Только не хочется с этими городскими фраерами нос к носу в тайге столкнуться. Не знаешь, рация-то у них есть? Нам свидетели ни к чему.
— Насчет рации не знаю. А столкнемся вряд ли. Они по воде пойдут. Громыхать будут. А мы посуху, короткой тропой, тихохонько.
— Ладно. Но ты смотри, старик! Я ведь кому хочешь салазки загну,[13] ежли что не так. Завтра выходим. Смотри не вякни кому. Понял?
— Чего не понять.
Поглядев, как растворяется во тьме спина уходящего Багра, старик зло ткнул бычок в задубелую коричневую ладонь, раздавил и щелчком отправил в траву.
* * *
Лодку загружали в серой полутьме, когда еще не рассвело.
Трое мужиков — Олег, Кирилл и Максим — носили рюкзаки и прорезиненные мешки со снаряжением и провиантом, а тринадцатилетний Алешка, несовершеннолетний шурин Олега, вертелся под ногами, стараясь чем-нибудь помочь, но больше мешая.
Он впервые уговорил дядю Олега взять его с собой в тайгу, и на всю мужскую компанию смотрел снизу вверх. И мучился от этого. Ему хотелось побыстрее сделаться своим среди этих крутых мужиков.
Путешествие началось глупым пустяком: утопили уключину одной из лодок. Посеяли возле самого берега и только напрасно взбаламутили илистое дно, пытаясь ее разыскать.
Солнце уже поднялось, разгораясь красным шаром за белесым занавесом тумана. Бодряще холодный воздух с запахом хвои всех привел в такое восторженное расположение духа, что за другой уключиной решили не возвращаться.
Да и примета плохая.
Загрузившись, оттолкнулись от берега и налегли на весла. Лодка двинулась туго, словно неповоротливый вол по пашне. Но, когда выгребли на стремнину, река подхватила и, слегка покачивая, понесла илимку[14] вдоль деревни.
На воде дышал туман, то подступая к берегу, то сползая вниз, на камни. Белесые клочья его смазывали детали ландшафта, сочились простудой и холодной росой, тускло отсвечивая на востоке красным.
Тихо было вокруг, как в церкви.
* * *
Первая ночевка в тайге показалась Алешке ужасной. Напрягала глухая тишина в лесу, то и дело внезапно прерываемая или уханьем совы, или зловещим скрипом пустого рассохшегося ствола, а то и внезапным выстрелом сломанного сучка — значит, какой-то ночной зверь вышел на охоту и бродит вокруг палатки. Брезентовая стенка тонкая и, если лежишь в темноте, прислушиваясь к ночным звукам в глубине леса, легкий временный дом вовсе не кажется надежной защитой. Ну и комары, конечно…
Днем Максим подстрелил утку. И тут же Кирилл накинулся на него за это с упреками.
— Нам еще три часа по жаре шлепать, а ты свою убоину сейчас в лодку кинешь, чтоб мы кровищу нюхали? Я этот запах не переношу. Зачем было до привала стрелять? Торопишься куда, Чингачгук?
Утка еще трепыхалась, еще била крылом по воде, пытаясь уплыть, скрыться с того места, где ее догнала пуля. Словно ей невыносимо было слушать споры охотников о целесообразности ее смерти.
Кирилл настаивал, и Максим, подобрав с воды подбитую утку, выкинул ее на берег. Тушка шлепнулась в песок, голова птицы мотнулась и глухо стукнула о случайный камень.
Пока лодка отплывала, Алеша, замерев, смотрел в иссиня-черные глаза птицы — как они подергиваются, затягиваются белесой пленкой и постепенно стекленеют. Мальчишка впервые наблюдал, как кто-то умирает, и от этого зрелища его кинуло в дрожь.
Когда, наконец, он оторвал взгляд от мертвой утки и перевел его выше, на темную, ощерившуюся пасть леса на берегу, на частокол деревьев, ему показалось, что между стволами, в тени, качнулись ветки. Кто-то следил за лодкой с берега и скрылся, выпустив отведенные в стороны еловые лапы. Алеша присмотрелся внимательнее, но так ничего и не разглядел.
«Показалось», — решил он и промолчал. А чего говорить-то? Подумают еще — трус, мерещится со страху всякое. На смех подымут. Нет уж, обойдется.
В конце дня на всех навалилась усталость. Поставив лагерь, поужинали и легли быстро. Алеша слышал, как первым засвистел носом Кирилл, за ним запустил рулады Олег. А как храпит Максим, Алеша не услышал, потому что его самого сон сморил скорее.
Но заснул он не крепко: что-то внутри все время оставалось в полном сознании. Как будто в тайге возродился в нем дикий первобытный предок, который не желал оставлять Алешу расслабленным, в беззащитном положении, и он-то бодрствовал, пребывая постоянно рядом и настороже.
Едва что-то завозилось возле палатки, Алеша дернулся и нащупал в изголовье фонарик, специально приткнутый там с вечера под рюкзаком.
Положив палец на кнопку фонарика, мальчишка замер в темноте, прислушиваясь, стараясь разобрать, откуда доносится шорох — снаружи, из лесу?
А что, если в палатку забралось какое-то животное? Мышь или змея.
Или что-то… похуже?
Включится сейчас фонарик, и прямо перед глазами — рожа. Окровавленная. Рот открыт, зенки пустые вылуплены. Или нет — выткнуты. В глазницах черно. И кровь капает на пуховый спальник. Запуганный собственной фантазией, Алешка лежал, тараща глаза в темноту, и не решался зажечь свет.
Справа от него громко сопел Олег, слева Максим, ближе к левой стенке — наверное, Кирилл?
«А вдруг не они?» — скользнула мысль, и Алешку прошиб пот.
Ну да. В темноте же ни черта не видно. Мало ли кто лежит тут рядом, в палатке? Может, остывающие трупы? Или просто чужие люди. Которые только притворяются спящими.
Руки у Алешки вспотели, в глазах защипало. И вдруг что-то шмыгнуло рядом с его ногой.
Алешка заорал и пополз куда-то, отбрыкиваясь.
Существо вцепилось в его ногу. Сдавило лодыжку мертвой хваткой и, безжалостно царапаясь когтями, пыталось схватить за другую.
Алешка рвался, визжал и колотился изо всех сил.
Днище палатки лопнуло и расползлось, черным горбом поднялась земля. Она сыпалась и проваливалась, и Алешка уходил в нее все глубже — в черную жирную почву, в сплетения корней, к червям. В могилу.
А кто-то стоял сверху и смотрел, как он бьется. Какая-то женщина.
Задохнувшись, Алешка в ужасе распахнул глаза. Ночи не было.
Утреннее солнце золотило крышу палатки. Через поднятый полог внутрь заглядывал Олег, с озабоченным видом рассматривая малолетнего шурина.
— Алексей! Ты чего разорался-то? Случаем не лунатик? — усмехнувшись, сказал он. — Давай поднимайся мигом. Ребята уже на реке.
Алешка выпростал ноги из спальника, в котором основательно запутался, воюя с кошмарами. И тут открылось, что на ноге у него четыре свежие ссадины.
— Где это ты так до крови ободрался? — удивился Олег. — Или комара раздавил?
Алешка пожал плечами. Царапины саднили кожу.
* * *
— Эй, что за хрень? — Крик Багра разорвал тишину леса так внезапно, что старик Кравцов вздрогнул. — Что там за хрень, говорю?! — визгливо, по-девчачьи, голосил недавний зэк, тыча правой рукой в воздух.
Обычно они шли другим порядком: старик впереди, указывая дорогу, а Багор с наплечным мешком позади.
Но такое положение Багру не нравилось. Раздражало мотаться за чужой спиной — слишком похоже на недавнее хождение строем в колонии. А он торопился забыть обо всем, что связано с зоной. Поэтому вылез вперед и радовался свободе.
Теперь он бы предпочел, чтобы старик Кравцов первым наткнулся на странное зрелище. Нервы некстати сдали. Багор опасался теперь за свой авторитет.
Хотя, возможно, тут у любого поджилки бы затряслись: в черном провале между двумя елями возникло красное лицо. Кровавая маска без глаз. Вместо глаз — сучья сухие воткнуты.
Преодолевая дрожь в коленках, Багор подошел поближе и нервно захихикал, блестя фиксой. Красное лицо оказалось нарисованным на ободранном, без коры, кусочке ствола лиственницы. Сучки были обрубками старых, оструганных веток самого дерева.
Соседние деревья тоже разрисованы какими-то знаками.
Багор перевел дыхание.
— Это что за хрень? — спросил он Кравцова. Старик подошел глянуть.
— Откуда я знаю? — ответил он, хмурясь и оглядываясь по сторонам.
— Ты мне сказочки не мастырь — я тебе не городской лошок, — сказал Багор и вытащил из кармана нож-выкидушку.
Если смотреть с тропы, возникала полная иллюзия, что чье-то окровавленное лицо с сучками в глазницах висит прямо в воздухе, в черной тени между стволами.
— Может, это местные ваши тут шаманили? Чукчи, — сказал Багор.
— Манси, — поправил старик.
— Манси, ханси — один хрен, — огрызнулся зэк. — Ты меня понял. Ведь это они?
— Откуда мне знать? — сказал старик, обводя глазами место. — Мало ли что тут по лесу шастает? Может, они.
Это неопределенное «они» Багру страшно не понравилось. Больно зловеще звучало посреди глухой тайги.
Багор потыкал ножом, поковырял «лицо» на дереве. Усмехнулся — ничего себе, хитрая обманка.
— Лучше не трогай, — предупредил Кравцов.
Багор оглянулся. Старик тревожно крутил головой, стоя в двух шагах от тропы.
А за его спиной, в глубине леса, стояла какая-то девка. Багор не успел разглядеть ее лица — заметив, что он ее видит, она отвернулась и по-змеиному скользнула за ближайшую ель.
— Эй! Ты куда? — крикнул Багор и сбросил с плеч мешок. — Девка какая-то, — пояснил он старику. Ощерился по-звериному и кинулся вдогон. — Стой, все равно поймаю!
— Ты что?! Не надо!
Кравцов хотел удержать, но зэк отмахнулся. Бросился вперед, ломая сухие сосновые ветки, по мягкому мху, сквозь бурелом. В руке он по-прежнему сжимал нож-выкидушку, который не успел спрятать.
Узкая девичья спина мелькала среди деревьев. Уголок платка на голове женщины развевался и трепетал, белым языком поддразнивая преследователя.
* * *
Кирилл выбросил вперед руку со спиннингом и отпустил катушку — свистнув, леска пошла; блесна, кувыркаясь, влетела в воду. Теперь назад. Вращая ручку катушки, Кирилл смотал леску. Ничего. Снова отпустил катушку — еще заброс. Опять пусто.
Внезапно он почувствовал на себе чей-то взгляд и обернулся.
Высоченные таежные ели застыли по обоим берегам реки черными безмолвными стражами, уперев в высокое блеклое летнее небо заостренные пики верхушек. И никого больше. Только шуршание гальки под ногами да убаюкивающий слабый плеск воды нарушали тишину.
И все же Кирилл ощущал постороннее присутствие. Удивительно, как на природе обостряются у человека инстинкты. В условиях цивилизации они могут спать и никогда не проснуться, но стоит забраться в такую вот дикую глушь, где охотник и сам легко может сделаться объектом охоты…
«Наверное, Макс решил пошутить», — подумал Кирилл и двинулся вдоль берега, время от времени закидывая блесну в стремнину. Но с каждым шагом неуверенность нарастала, превращаясь во вполне определенное беспокойство, а вскоре и в напряженное, пристальное внимание, зоркость преследуемого: кто-то двигался рядом с Кириллом. Кто-то шел, глядя на него из-за деревьев. Но кто? Сегодня днем, когда маленький отряд достиг переката, деревянную илимку разгрузили и, вытянув полностью на берег, укрыли в зарослях багульника. Впереди была низкая спокойная вода, и там предполагалось идти на веслах двумя резиновыми двойками.
Для начала решили пообедать — ухой отметить новый этап путешествия. Олег с Алешкой остались готовить кострище, а Макс с Кириллом вызвались наловить рыбы и отошли берегом примерно с километр от стоянки.
И вот…
В лесу хрустнула ветка.
— Кончай дурить, Макс! — крикнул Кирилл. Боковым зрением он заметил движение слева от себя. Еловая лапа шелохнулась, будто кто-то только что отпустил ее. — Эгей, приятель, я тебя засек! — засмеялся Кирилл. Он смотал леску, застопорил катушку и, подняв спиннинг вверх, прислонив его к плечу, направился в сторону от реки. На близкой опушке рос большой куст дикой смородины. Кирилл остановился рядом с ним, вглядываясь в темное чрево леса, отщипывая и кидая в рот одну за другой мелкие глянцевитые ягоды.
— Ма-а-а-акс! — гаркнул Кирилл на весь лес.
Ягоды, кисло-сладкие, чуть терпкие на вкус, отдавали таким духмяным ароматом, что Кирилл даже глаза закрыл от удовольствия.
А когда открыл — увидел между деревьями тень. Там прятался человек. В этот момент Макс отозвался, наконец. Но только голос его донесся издалека, от реки:
— Ау! Кирилл, ты где там?
Кирилл уронил спиннинг и пригнулся. Человек в лесу сделал шаг и опять застыл. Кирилл выглянул из-за куста: справа он увидел спину женщины, одетой в синий старинный сарафан. Женщина уходила, не оглядываясь, бесшумно. Белый головной платок мелькал между деревьями.
— Эй! — Бросив спиннинг, Кирилл пошел за незнакомкой. В нем вдруг разгорелось любопытство — захотелось догнать, схватить за руку, увидеть лицо. Он почему-то верил, что это красивая девушка. Но стоило ему шагнуть под полог темного елового леса, и он по колено провалился в моховую подушку. Нога подвернулась, он упал, едва не выстегнув себе глаз колючей веткой.
— Кирилл, ты где?!
На берег вышел Максим и остановился, разыскивая глазами Кирилла. На плече у него висело двуствольное охотничье ружье, в руках он держал спиннинг и сачок, а на ремне — подсумок с пойманной рыбой и снастями.
Кирилл, стоя на коленях, обвел глазами лес: женщины нигде не было. Она исчезла, как бесплотный дух или видение. По верхушкам сосен прошумел ветер, и снова на тайгу пала тишина — цельная, клейкая, ничем не нарушаемая, кроме дыхания и голосов двух пришлых из города.
— Что-то потерял? — спросил Максим. Он, наконец, увидел приятеля и, улыбаясь, подошел к нему. — Или, может, нашел?
Кирилл стряхнул нескольких деловитых муравьев, которые уже отправились обследовать новооткрытые континенты его рук и штанов, и встал.
— Здесь кто-то был. Девка какая-то, — сказал он. — Где-то тут прячется. Но я ее видел.
Максим задрал брови вверх, неопределенно хмыкнул.
— Странная какая-то девица, — сказал Кирилл. Он поднял свой спиннинг и сделал несколько шагов в ту сторону, где, как ему показалось, он видел девушку.
— А это что такое? Смотри-ка!
Максим подошел. Кирилл разглядывал серый ствол давно погибшего дерева: на высохшей коре лиственницы кто-то вырезал узор из последовательно расположенных полос, крестов и кругов. При этом светлую древесину в узоре закрасили чем-то багровым.
— Ягодный сок? — предположил Максим. — Или краска.
— Или кровь, — сказал Кирилл и огляделся. — Надо бы найти эту деваху, потолковать с ней. Не видел, куда она могла побежать? Как думаешь?
Максим пожал плечами.
— А мне показалось — туда.
Кирилл махнул рукой в сторону огромной черной ели, обвешанной серебристым лишайником.
— Там, кажется, лощинка. Может, там спряталась? — шепнул Кирилл. И, дернув подбородком, показал приятелю — туда идем.
Идти, проваливаясь в серо-зеленые подушки мха, было неудобно.
Мох сочился сыростью, продавленные ногами ямки немедленно заливало черной болотной водой. Внизу, под мягким моховым покрывалом, скрывался бурелом — рыхлые, полусъеденные гнилью пни, позеленевшие стволы и колючий лесной мусор в виде сопревших ломких ветвей, шишек, иголок.
Спотыкаясь на всем этом разнообразии падали, городские забирались все глубже в лес.
Сквозь густой малинник они продрались на тихую поляну, расположенную в низине. Мелкие кусты черники и глянцевитые розетки брусники с выложенными на них низками крепеньких винно-красных лакированных ягод окружали ее.
А слева выпинающимся горбом застыл громадный замшелый валун. Максим взобрался на него и увидел, что этот гигантский камень — скала, выходящая тонким концом на обрыв над высоким берегом озера.
У широкой части камня, в основании, чернело брошенное кем-то костровище, указывая, что совсем недавно кто-то останавливался здесь, разводил огонь.
Но кто?
Интересно было бы узнать.
Кирилл подошел, сел на корточки и потрогал пальцем золу:
— Теплая. Недавно костер жгли.
Максим вдруг с интересом прищурился, потыкал носком сапога не до конца прогоревшие головни и, раскидав в стороны остывшие угли, выбросил из золы какой-то темный кусок…
Это оказался слегка подкопченный, запачканный сажей обрубок человеческой кисти — пять пальцев, покрытых синими перстнями-наколками, на ладони вертикальный красный шрам — от большого пальца до запястья. Обрубок оканчивался черными лохмотьями кожи в пятнах бурой свернувшейся крови.
— Ах ты ж… ядрена мать, — сдавленным голосом сказал Кирилл. Ему стало трудно дышать.
Максим скинул с плеча ружье и, перехватив поудобнее, инстинктивно выставил перед собой.
— Стой-ка. Слышишь?
Кирилл повернулся вправо. Максим сжался, направил ружье в глубину леса. Оттуда надвигался шум. Он шел по верхам, качая верхушки вековых елей; шел низом — в виде шороха и странной дрожи, будто под моховыми подушками завозились и закряхтели какие-то неизвестные живые существа, и шел серединой — сырым сквозняком, нарастающим гулом, потрескиванием хвороста в буреломе.
Похолодев, мужчины глядели друг на друга, ожидая реакции, — если кто-то один дрогнул бы — тут же дрогнул бы и другой, сиганул прочь от страшного места, не разбирая дороги.
Глаза у обоих округлились и налились кровью, сердца колотились, сбивая дыхание. Оба были как взведенный курок, как заряженная пуля в стволе.
И тут шум, наконец, настиг их. Накрыл с головой. По лицам пробежала тугая горячая волна, и оба увидели возникшего, словно ниоткуда, человека.
Чернявый, невысокий, он бежал впереди этой странной волны, лес гнал его, гнал прямо на них. Он несся, выпучив глаза и широко раскрыв рот. Но без крика. Кричать он не мог. Но и рот закрыть тоже не мог — в нем распоркой торчал разветвленный сучок. Острый конец сучка проходил насквозь и выглядывал снизу, ниже подбородка; другой — уходил в щеку.
Так, с проткнутой щекой, с залитыми кровью лицом и шеей, человек добежал до полянки, не сбавляя скорости, взобрался на валун и прыгнул вниз.
Кирилл метнулся вслед за ним и поглядел: примерно четырьмя метрами ниже под скалой, на каменистом берегу, странно разбросав руки и ноги, человек лежал в багровой луже. Мертвый.
— Разбился, — обернувшись к Максиму, сказал Кирилл. — Зачем он…
Поднявшийся ветер мотнул ветви деревьев, поднял в воздух старые коричневые иголки и какую-то сухую труху с деревьев.
Кирилл помотал головой, глаза его вдруг вспыхнули хищным огнем. Он кинулся в лес с криком:
— Это она! Эй! Я тебя вижу.
Выражение лица у него сделалось при этом какое-то безумное. Максим стоял и слушал, как Кирилл ломится сквозь бурелом, как он кричит. Потом крик захлебнулся, прервавшись внезапным тонким всхлипом. И все стихло.
— Кирилл, — позвал Максим, глядя в чащу.
Тишина.
— Кирилл! — заорал Максим громче, и его затрясло от ужаса. Он всегда боялся остаться в тайге один. — Кирилл!
Палец правой руки автоматически лег на курок. Вдавил его.
Слева что-то шелохнулось — Максим перехватил ружье и, не раздумывая, выстрелил.
Из широких еловых лап на поляну вывалился Кирилл. Его грудь в районе сердца разворотило выстрелом.
— Кирилл?!
— Ха-аа… Ааа-аа…
Последний хрип вышел изо рта умирающего вместе с кровавой пеной. Труп рухнул под ноги Максиму. Наступила тишина.
Мертвое тело, еле слышно хлюпнув, ушло вниз, наполовину погрузившись в моховую подушку. Лес приготовился поглотить его, обхватив со всех сторон мокрыми мохнатыми щупальцами растительности.
Тайга замерла в молчании. Она выжидала, предвкушая…
И не ошиблась.
В полутора километрах от ягодной поляны Олег и Алешка услышали гром выстрела. А потом и второй.
* * *
Когда ребята так и не вернулись к обеду с обещанным уловом, Олег, не выказывая особого волнения по этому поводу, переиграл меню. Приготовил на костре макароны с сублимированным мясом, и они перекусили. А потом Олег решил, что надо пройтись вдоль берега, поискать пропавших рыбаков.
— Припозднились мужики. Может, вместо рыбы золото нашли да моют сидят? — пошутил Олег.
Укрыв брезентом оставленные в лодке пожитки, они наскоро собрались, переправились по камням на другой берег реки и побрели вверх по течению — в ту сторону, куда ушли рыбачить Максим с Кириллом.
Река казалась пустынной. На зов, крики и ауканье никто не отозвался.
Олег велел Алешке быть начеку и смотреть в оба. К сожалению, каменистый берег, только кое-где засыпанный песком, давал мало надежды разыскать чьи-то следы.
Но все же в одном месте они заметили отпечатки сапог большого размера, ведущие в сторону леса, от реки.
— А вон Кириллова удочка! — Глазастый Алешка заметил рукоятку спиннинга, валявшуюся возле куста дикой черной смородины.
Увидев спиннинг, Олег удивился. Подошел, глянул. Спиннинг был точно Кирилла. Черный, японский, с обмотанной изолентой рукояткой.
Олег сложил руки рупором и крикнул в глубину леса:
— Кирилл! Макс!
Позвал еще раз, и еще — в один голос с Алешкой.
Потом сделал знак рукой, и оба они замерли, прислушиваясь.
— Там что-то шевелится, — сказал Алешка.
— Где? Я ничего не слышу.
— Там, подальше.
И тут вдалеке грянул выстрел. Как будто небо разорвалось. Гром прокатился по тайге. С верхушек ближайших елей посыпался мусор — старая кора и выгоревшие рыжие прошлогодние иголки.
Олег встревожился: собираясь на эту рыбалку, мужики взяли с собой ружье по уговору — не столько для охоты, сколько на всякий случай. Как страховку от непредвиденных ситуаций и нечаянных встреч с дикими зверями. Охотиться на реке они не собирались. Если не вынудят…
Грохнул еще один выстрел. У Алешки заложило уши.
— Так, — сказал Олег, доставая нож, — это в той стороне.
Он показал рукой и добавил, озабоченно сдвинув брови:
— Идешь за мной. След в след. Постарайся не отставать, но и не обгоняй. Все понял?
Алешка побледнел и кивнул. Белобрысая косая челка свалилась ему на глаза, и волосы тут же прилипли к вспотевшему лбу.
— Идем, — скомандовал Олег и побежал в ту сторону, откуда донесся выстрел.
Алешка побежал за ним, прыгая по моховым кочкам и стараясь попадать в черные ямки Олеговых следов.
Завалы из дряхлых сухих елей, буреломы сильно затрудняли движение. Оба запыхались, а Алешка почти выбился из сил, когда они наткнулись на яркую полянку с пучками осоки по краям и были вынуждены остановиться, потому что Олег, шагнув еще раз, провалился по колено в черную жижу.
Ряска на поверхности разошлась, и веселенькая, мультяшно яркого цвета полянка открылась во всей своей мерзости: болото. Вонючее и гиблое.
Увидав, как рухнул дядя Олег, Алешка заорал. Он был уверен, что Олег сейчас захлебнется в трясине, уйдет в гнилую жижу прямо у него на глазах.
— Заткнись, балбес! — приказал Олег и принялся выкарабкиваться потихоньку на твердый бережок, ухватившись за куст голубики, весьма кстати подвернувшийся под руки.
Алешка выпучил глаза, сжал побелевшие губы и с ужасом смотрел. Он даже вздохнуть боялся, торчал как пень — ни жив ни мертв. И перевел дух, только когда Олег, шипя и отряхиваясь, вылез из топи и, опершись на Алешкино плечо, принялся выливать воду из сапог.
— Черт, угораздило, — ворчал он. — Ладно, по пути высохнет.
Отжав мокрое и обувшись снова, он повертел головой по сторонам.
— Так… Мы откуда пришли? Оттуда?
— Вроде, — поддакнул Алешка, пожимая плечами. С его точки зрения, все стороны в лесу были одинаковы: всюду елки. Куда ни пойди — главное, чтобы от болота подальше.
— Ага. А выстрелы были, значит, там. Надо левее взять от реки.
Однако, взяв левее, они никого и ничего не обнаружили.
После часа поисков решили вернуться обратно, к реке.
Спустя еще час осознали, что и это невозможно. Пути назад нет: они заблудились.
Они не переставали звать товарищей, надеясь, что те откликнутся, но в тайге стояла злая, мертвая тишина.
Солнце уже катилось к закату, и между деревьев повисла сумеречная мгла. В посвежевшем воздухе конденсировался пар: туман сгущался. Сырость заставляла дрожать от озноба, выстукивать зубами покаянную дробь.
«И на кой я сюда поперся, — вертелось в Алешкиной голове. — Крутым стать хотел, дурак. В кино б сейчас с Ленкой сходил. Или с пацанами по Сети в танчики. Футбол тоже, „Реал“ — „Манчестер Юнайтед“…»
Но он помалкивал, стараясь только держаться как можно ближе к дяде Олегу, не отставать ни на шаг.
Ноги гудели и подгибались. Хотелось отыскать где-нибудь сухую кочку, упасть на нее и заснуть. Хорошо бы еще попить или поесть горячего. Согреться. Но это — потом. Сначала — упасть.
— Устал? — сказал Олег. Алешка не ответил. — Я тоже. Смертельно.
— Может, нас лешак водит? — предположил Алешка. — Может, надо, как тот старик рассказывал, всю одежду перевернуть…
Олег улыбнулся.
— Ладно. Ты не боись, родич! Если сейчас к берегу не выйдем, тогда… Постой-ка!
Олег остановился и засопел, принюхиваясь.
— Чуешь? — спросил он. Алешка пожал плечами. Он испугался, подумав, что Олег, может быть, спятил. — Костер! Дымом пахнет.
Поводив носом, как собака, в разные стороны, Олег выбрал направление и пошел, ориентируясь на едва заметный просвет между деревьями.
Забыв про усталость, они рванули вперед и спустя десять минут выскочили из чащобы. Перед ними лежал каменистый берег озера. Из-за сгустившихся сумерек вода в нем казалась черной, как нефтяное пятно.
У замшелого валуна рядом с озером металось и чадило пламя небольшого костра, и горбилась чья-то тень.
Как только шаги пришедших зашуршали по мокрой гальке, тот, кто сидел у костра, обернулся.
— А, это вы? Я ведь предупреждал — не ходите.
Алешка узнал голос старика Кравцова. От воды тянуло холодом, и, наверное, поэтому его вдруг затрясло, словно в лихорадке.
* * *
Старик наклонился и что-то бросил в костер. Повалил дым.
Алешка, которому не терпелось погреться у огня, закашлялся и отвернулся, отгоняя руками клубы дыма. Зашел с другой стороны и сел на корточки, протянув руки поближе к пламени.
— А что это вы тут палите? — спросил он у старика.
Кравцов поднял голову.
— Да так. Мусор, — ответил он. Олег подошел ближе и увидел, что старик бросает в огонь обрывки окровавленной одежды: спортивные штаны и брезентовую куртку.
Чтобы лучше горело, дед шевелил и переворачивал тряпки в костре длинной кривой сосновой веткой, похожей на куриную лапу.
— Наши друзья… Не встречали вы их тут случаем? — спросил Олег. В горле у него разом пересохло и запершило — то ли от дыма, то ли от нехорошего предчувствия.
— Нет, — равнодушно сказал старик.
— А может, вы убили их? — спросил Олег.
И только тут заметил, что под рукой у старика стоит, прислоненная к бедру прикладом вверх, двустволка. Олег похолодел.
«Заряжена или нет?» — подумал он и встал напротив старика, загородив собой Алешку.
Кравцов поднял голову: его взгляд, отсутствующий и сонный, медленно вскарабкался вверх, к лицу Олега, мазнул по глазам и нырнул обратно вниз — смотреть на огонь.
— Если тут кого и убили, то не я, конечно. Агафья. Ее проклятие.
— Ты, наверное, с ума сошел, старик, — тихо сказал Олег. Он боялся пошевелиться, чтобы не открыть пацана, который замер с перепугу и съежился за его спиной.
Кравцов ухмыльнулся.
— Я? А по мне — так весь мир сплошь сумасшедшие. Вот ты скажи — чего вам всем надо в этих ваших городах? Денег? Богатства? Срамоты всякой ищете себе на погибель. Ядом питаетесь. Хватаете его и жрете в три горла, будто свиньи. Души у вас отравлены. И мозги.
Примеряясь, как бы перехватить у старика его ружье, Олег подвинулся на полшага влево. И произнес, стараясь отвлечь внимание:
— Расскажи лучше про Агафью. Кто она такая?
— Чистая была душа. Здесь ее могила.
Старик похлопал рукой по замшелому валуну, о который опирался спиною.
При мерцающем свете пламени Олег разглядел на валуне какие-то надписи и крест, выбитый прямо в камне.
— Она жила здесь, — помолчав, сказал старик. — Как убежала когда-то от людей — с тех пор только здесь, на Потайном озере, и жила. Если уж сюда и добирался кто, так только такие, у кого большая беда. А она-то всех принимала, кто приходил за помощью. Лечила травами. А то и просто словом. Добрая она была, Агафья.
— Ты ее любил?
— Ее все любили. А я замуж звал. Но она не пошла. Не могу, говорит, с вами, с людьми. Здесь, говорит, я у тайги в самом сердце: здесь мне хорошо. А у людей сердца маленькие, не поместишься. И жестокие. Так и осталась здесь.
— А потом?
— Все знали нашу Агафью. Шли к ней даже из дальних мест. На Потайное озеро, к знахарке. Детей много к ней приводили. Иному ребятенку никакие врачи помочь не могли — а она их спасала. Выхаживала, как своих. Детишки и жили у ней. По двое, по трое. Которые поправлялись — помогали ей по хозяйству. Пока родители за ними не придут… Когда Агафьюшка состарилась, очень она своим помощникам радовалась. Без них ей уж трудно было справляться. Она хотела кого-нибудь из них обучить своим секретам. Чтоб было кому лечить людей после ее смерти. Подыскивала ребятенка поспособнее. А потом…
— Что? Что потом?
— В последний год у нее две девчоночки жили. Я их помню — рыжие, тонконогие, 12 лет. Сестры. У обеих глаза как вода, и все щебечут. И парнишка-восьмилетка. Тихий такой. Дружные, хорошие ребятки были…
— Были? — переспросил Олег. — А что случилось с ними?
У старика мелко затряслись губы, он сжался и закрыл лицо рукой.
— Они… их… Те, беглые… Всех! Хуже диких зверей!
Старик заплакал, обхватив руками голову.
Олега скрутило от жалости, но он помнил, что на нем лежит ответственность за Алешку. Он шагнул вперед, протянул руку к стволу ружья. И наткнулся на пустоту.
Старик успел перехватить двустволку.
— С тех пор Агафья никого здесь видеть не хочет. Понимаешь?
Старик поднялся, вскинул ружье и положил палец на курок.
Олег оглянулся — Алешка стоял у костра, глядя на Кравцова широко распахнутыми от ужаса глазами.
— Зачерствело сердце тайги. Не принимает людей. Особенно чужих, — сказал Кравцов.
Олег понял, что медлить больше нельзя, и бросился на старика, стараясь всем весом отжать вниз руку, держащую ружье.
— Пусти! — разозлился Кравцов.
— Брось, — пыхтел Олег, наваливаясь на противника. Алешка завопил что-то невразумительное и кинулся было на подмогу. Олег оттолкнул его.
— Назад!
— Пусти, — ярился старик, выкручивая руки своему более молодому противнику.
И вдруг — горячая воздушная волна ударила по лицам дерущихся. Костер полыхнул, и яркий огненный вихрь искрами ушел в темное беззвездное небо — огонь задуло мощным порывом ветра, от которого согнулись вершины вековых елей вокруг озера. Тайга загудела.
— Началось, — сказал старик. — Бегите!
Он оттолкнул Олега, отобрал у него ружье.
— Ну?!
Олег стоял, глядя на старика. Алешка подбежал, схватил его за руку. На глазах у него были слезы.
— Поздно, — сказал Кравцов. Голос у него стал хриплым, язык еле ворочался во рту. — Она здесь. Не оглядывайтесь. Закройте глаза.
Алешка почувствовал ледяное дыхание позади себя, крепче вцепился в горячую руку дяди Олега и зажмурился. Олег смотрел на Кравцова, в его расширенные до черноты зрачки: выстрелит или нет? В любом случае, игра проиграна.
Притянув к себе дрожащего Алешку, он обхватил его, прижал к себе, спрятав, укрыв, как мог, руками его голову и зажмурился.
Ожидал выстрела. Но тут что-то коснулось его плеча — и будто насквозь промерз он, застыл, не в силах пошевелиться.
— Нет, Агафья! — услышал он голос старика Кравцова. — Не трогай этих. Они не по своей воле. Заблудились люди. Мальчишку пожалей! Агафья…
Прогремел выстрел. Громовое эхо прокатилось по тайге. Заорали и разлетелись, хлопая крыльями, стаи перепуганных уток с озера. Порыв ветра, подобный ударной волне, опрокинул Олега и Алешку, потащил по мокрому берегу и швырнул о замшелый могильный камень. От удара оба потеряли сознание.
* * *
Когда очнулись и открыли глаза, в небе уже разгоралась заря. Они лежали на берегу реки, в том месте, где была их последняя стоянка и где в кустах багульника они, уходя, спрятали лодку.
Старик Кравцов исчез.
Спустя три дня, когда Олег с Алешкой выбрались вверх по реке к поселку, они не нашли его и там.
После некоторые бывалые люди говорили Олегу, что все странные и ужасные приключения, которые они с Алешкой пережили в тайге, вероятнее всего, объяснялись одной крайне неприятной в своей банальности причиной, а именно: остановившись неподалеку от зарослей багульника, они надышались испарениями этого необыкновенно пахучего растения, издавна называемого в народе — «болотная одурь».
Все части багульника ядовиты, а при сильной концентрации или длительном воздействии его дурманящий аромат способен вызывать не только головную боль, но и галлюцинации.
Олег не спорил с этой версией. Но и не соглашался. Никакие версии не могли объяснить, что случилось со стариком Кравцовым, с его друзьями — Кириллом и Максимом. Судьбы их так и остались неизвестными.
Как и судьбы многих других, кому довелось однажды заглянуть в самое сердце тайги.
КРАСНАЯ ДВОЙКА
Место не установлено
Когда предстоит выход на маршрут, весь альплагерь заводится беспокойным броуновским движением: ребята получают на складе и подгоняют снарягу, начальник учебной части с инструкторами сверяют карты и схемы, обговаривая детали на рабочих планерках и совещаниях. Все бегают, суетятся. Альплагерь становится похож на разворошенный муравейник.
И только один не принимает участия во всеобщем оживлении: сторож Рустам.
Его никто не называл в лагере иначе, чем по имени. Рустам не обижался, хотя уже в 1986 году возрастом был постарше и начлагеря, и начспаса[15] вместе взятых.
Выдубленная горными ветрами и солнцем коричневая кожа натягивалась на Рустамовом теле туго, нигде не обвисая, не собираясь в складки, и лицо старика издали выглядело почти молодым. Однако вблизи глаза выдавали его — темные, как вода ледникового озера осенью, и веяло от них таким холодом, что сразу понимал любой, даже самый наивный новичок: нет в здешних горах ничего такого, чего не повидал бы уже этими глазами сторож Рустам.
Он давно жил при лагере и помнил фамилии всех начальников и всех начспасов, сменявшихся на своих постах с самого года основания базы.
Рустам из тех одиночек, у которых страсть к горам побеждала и переламывала все равнинное, все человеческое: ни семья, ни работа, ни жена, ни дети, ни дом — ничего внизу, из нормального мира, ими не ценилось, ничего им не требовалось. Горы заменяли всё.
Угодив однажды на восхождении в снежную лавину, Рустам с трудом выжил, лишившись ступни и нескольких пальцев на руках. Но страсть к горам держалась в нем куда надежнее конечностей, так что даже потеря периферийных частей тела не подточила ее, не разрушила.
Занимая в лагере должность на полставки и крохотную конурку в инструкторском корпусе, практически на птичьих правах, Рустам был в лагере такой же константой, что и окружающие базу снежные пятитысячники.[16]
* * *
Новички бессмысленно роились на поляне перед столовой, ожидая разрешения начлагеря на выход. Они шумели и веселились, рассказывали анекдоты, подкалывали друг друга и в шутку боролись.
Не обращая на «мелюзгу» внимания, Рустам сидел на крыльце инструкторского корпуса и, прищурившись, наблюдал, как курится снежный дымок над главной вершиной горного хребта.
То, что он разглядел там, ему не понравилось.
Он окликнул пробегающего мимо начспаса вопросом:
— Сергей! Ты подписал выход для четверочников?[17]
— Да, — удивился начспас. — А что?
Он остановился и подошел к Рустаму.
— Отмени. Погода ненадежная, — сказал Рустам и, вытянув коричневый палец, указал на самую высокую вершину хребта.
— Видишь, «флаг» змеится.
Ветер, постоянно сметающий снег с верхушки горы, заметно для острых Рустамовых глаз струился, перекручивая снежные потоки, заплетая вправо и влево отдельные вихри, мотая их из стороны в сторону, словно пьяный, не уверенный в выборе направления.
— Буран будет, — заключил Рустам.
Начспас глянул вверх, куда указывал старик.
Человек молодой и свежий, современной городской формации, он больше привык полагаться на приборы, чем на свое, далеко не орлиное, зрение.
— Из центра дали погоду, — мягко, не желая обидеть Рустама, возразил Сергей. — Я проверил сводку: погода отличная. Затишье. На целых три дня.
Пожав плечами, добавил:
— Да и идут-то они всего лишь четверку «б». Ребята боевые, крепкие. Сбегают на вершину по-быстрому. Только туда и обратно — и все! У них даже девиц в группе нет. Мальчишник!
И он заулыбался.
— Отмени выход, — сказал Рустам. На дубленом лице инвалида даже тени ответной улыбки не мелькнуло. — Иначе дело плохо кончится.
Начспас задрал брови. Поглядел еще раз на сторожа, на дальнюю гору.
Снежный флаг стоял над вершиной, как ему виделось, надежно и прочно, воткнутый в белые гребни, словно дымовая труба в крышу.
«И где он там разглядел, что флаг змеится? — подумал начспас и пожал плечами. — Нравится старику командовать, всех нас желторотиками выставлять — вот и чудит!» — решил он.
И, сжав в карманах твердые кулаки, размеренным голосом объяснил:
— Погоду дали на три дня. Если ребята сейчас не пойдут — до конца сезона разряды не закроют.
— Погода ненадежная.
— Когда у нас была надежная погода, Рустам? — вежливо засмеялся начспас, но голос его неприятно задребезжал. Сергей не любил, когда на него давили. Да и кто это любит?
Рустам вскочил. Цепляясь за перила, взобрался на верхнюю ступеньку крыльца, вровень с верзилой начспасом.
Сцепившись взглядами, они стояли теперь друг напротив друга. Участники[18] видели их с поляны у столовой, и даже с такого расстояния всем показалось, что у обоих мужчин загривки вздыблены, словно у раздраженных мартовских котов.
— Я нутром чую — не надо выпускать ребят! — сказал Рустам, нахмурившись.
— Они пойдут всего лишь четверку. И я предупрежу Бондаренко, чтобы не рвал жилы…
— Не надо их выпускать.
— Рустам, ты извини. Но у меня такое ощущение, что ты ревнуешь. Сам засиделся внизу…
Рустам вскинул редкие брови. Лицо его искривилось, и он захохотал. Начспас даже вздрогнул от неожиданности.
— Ладно, Сергей, — сказал Рустам, возвращаясь опять на ступеньку ниже и спокойно усаживаясь. — Может, ты и прав. Что я, действительно, каркаю? Как баба…
Начспас пожал плечами.
— Так что… выпускаю ребят.
— Я понял.
Начспас отошел. Направился к ребятам на поляну, издалека показывая инструкторам большой палец.
— Погода как раз для красной двойки.[19] Но, может, пронесет? — прошептал Рустам. Уверенности в его голосе не было.
Участники встретили начспаса и его решение о выходе радостными возгласами.
* * *
Когда на горы спустился холодный туман, начальник лагеря почувствовал легкую досаду: все-таки сводки подвели.
Когда пронзительный ветер спустился с горы в долину ниже снеговой линии и в воздухе замельтешили белые мухи, все, кто остался в лагере, едко усмехаясь, шутили между собой: «Альпинизм — это способ перезимовать лето».
Две группы, ушедшие на маршрут, достигли перевала и, разбив временный лагерь, сообщили, что встали на ночевку, укрывшись от поднимающейся бури. Группа красноярских студентов вернулась в лагерь, а четверочники из Самары, которые направлялись на восхождение, не вышли на связь.
На следующий день буря улеглась. Новички спокойно отработали на леднике. Группа второразрядников из Киева пришла с перевала. Четверочники-самарцы так и не объявились.
По расчетам начспаса, они могли подняться выше зоны досягаемости связи. Кроме того, у них мог сломаться передатчик.
Однако к вечеру четвертого дня, когда контрольный срок истек, стало понятно: с группой неладно. Надо выходить на поиски. Лагерь подняли по тревоге.
Начспас Сергей старательно избегал смотреть в сторону Рустама, хотя сам сторож вовсе не пытался торжествовать, доказывая кому-то свою правоту. Он хотел, чтобы ребят нашли живыми.
Гору взяли в осаду сразу несколько поисковых групп. Две из них направились по линии прохождения маршрута — вверх и вниз. Может быть, ребята заблудились и спустились по руслу реки, чтобы выйти к жилью в долине? Была такая вероятность.
Но в три часа дня поисковый отряд, шедший траверзом[20] в районе маршрута, наткнулся на тело одного из потерянных самарцев, Кости Малышева. Тело парня было уже холодным и звонким как лед; руки-ноги перекручены, искорежены; голова разбита.
В нескольких метрах от первого обнаружили тела еще двоих. Веревки лопнули от рывка при падении с высоты, но по остаткам снаряжения было видно, что ребята шли в обвязке, пристегнутыми друг к другу — в полном соответствии с инструкцией.
К пяти вечера группа, поднявшаяся по маршруту самарцев, отыскала в сугробе у снеговой линии четвертого участника — сильно помороженного, в шоке и без сознания. Но этот четвертый, Анатолий Лапин, был жив.
Тут же на месте приняли все необходимые меры, чтобы согреть выжившего и привести его в чувство. Несмотря ни на что, Лапин оставался в глубоком обмороке.
Его спустили к базе на носилках и срочно, на лагерном грузовичке, отвезли вниз, в поселок. Группа врачей вылетела из города вертолетом, чтобы забрать пострадавшего.
* * *
Так случилось, что в те самые двадцать минут, когда почти все, кто был в машине с носилками, выбежали на площадку встречать вертолет, — Лапин пришел в себя.
В этот момент с ним рядом оставались только местная девушка-медичка из поселка и сторож Рустам, который, как и все, принимал участие в поисках. Он-то и подал идею спасателям подняться вверх по горе, за линию ледника.
Увидав, как вдруг ожили и затрепетали веки помороженного Лапина, Рустам схватил парня за плечо и грубо потряс.
Лапин открыл темные от боли измученные глаза.
— Не трогайте его! — возмутилась медичка.
Но Рустам не обратил на нее никакого внимания. Он глядел на Лапина тяжелым пронзительным взглядом.
— Толя, ты что-нибудь помнишь? Что с вами было? Что случилось с группой?
Мутный взгляд Лапина с трудом сфокусировался на лице сторожа-инвалида. Но он услышал, понял вопрос и, слегка наклонив голову, дал знать, что хочет ответить. Парню было трудно говорить, при дыхании ему не хватало воздуха.
— Мы поздно вышли на гору, — зашептал Лапин. — Пролезли один жандарм,[21] потом второй. Поднялась метель. Ветер. Снег. Ничего не видно. Шли часа три, скал все нет. Поняли, что заблудились. Пытались сменить направление. Не помогло. Колька с Димой выбились из сил. Думали искать ночлег. И вдруг — свет впереди. Фонарик. Малышев говорит: наверное, это красноярцы. Они раньше нас на маршрут вышли. Догоним? Только подумали об этом… луч к нам побежал. Подошли двое, говорят: что, заблудились? Идите за нами. Пристегивайтесь. А лиц не видно, снег бурлит — каша в котле… Малышев, Сазонов, Бондаренко — пристегнулись. А у меня до этого карабин погнулся, я сам шел. Хотел другой карабин перестегнуть… не успел. Держался за ребятами, боялся отстать, из виду упустить. Вышли на гребень. Ветер по глазам стегает… Малышев вдруг встал. Говорит: погодите! Кажется, это снежный мост.
А те двое тянут вперед. Кричат: чего встали? Торопиться надо!
Давай-давай, кричат, веселее. ВСЕ ТАМ БУДЕМ.
Я услышал, обалдел. Думаю: не может быть, чтоб из наших кто-то. Наши не могут такое… Встал. Сазонова за штормовку схватил. Поздно: ребята на снежный мост зашли. И он рухнул. Ребята тоже. Я слышал, как они кричали… Далеко. А те двое… не упали. Как стояли впереди — так и стоят. Спиной ко мне. Потом обернулись…
Лицо Лапина исказила дикая гримаса. Глаза заметались и закатились под лоб, блестящий от пота.
— Толя, Толя! — Рустам затормошил пострадавшего. — Что дальше было?
Он почему-то тоже задыхался теперь.
Девушка-медичка в отчаянии смотрела, переводя глаза с одного на другого, не в силах понять, что происходит.
В лицах обоих проступило нечто очень сходное, как будто оба эти человека, старый и молодой, заразились одной болезнью, заставляющей их физически страдать и мучиться. Общие симптомы — лихорадочно горящие глаза, волнение, искажающее черты, страх на грани безумия. Как будто эти двое смотрели один и тот же кошмар.
— Ты видел их?!
Рустам схватил с носилок Толину замотанную бинтами руку и потряс ее. Толя поднял глаза, остановив взгляд на коричневом лице Рустама. Слабо усмехнулся:
— Нет, — тихо сказал он. — Как их увидишь? Там же… тьма. Под капюшонами… Ни глаз, ни лиц. Красные анораки на белом снегу. А внутри — ничего. Кости высохшие… Они столкнули меня, — дрогнувшим голосом заключил Толя Лапин и потерял сознание.
Вспотевший Рустам, тяжело дыша, выпустил Толину руку. Она стукнулась о носилки и бессильно повисла. Рустам поднял ее и уложил на грудь Толе. И выбрался из машины.
Вертолет приземлился. Медики с помощью бугая начспаса загрузили носилки с покалеченным Лапиным внутрь, и махина взмыла в воздух.
За жизнь Толи медики боролись долго, но безуспешно. Спустя неделю весь лагерь узнал, что Лапин скончался, не приходя в сознание.
* * *
Рустам жил при лагере еще долго. Вместе со старой базой сторож пережил упадок, разруху и войны девяностых, дождался мира, робкого возрождения альпинизма в начале нового века и прихода свежих веяний в его любимом виде спорта.
Он повидал еще много разных инструкторов, выпускающих, начальников смены и лагеря.
И он оставался сторожем.
Всем новичкам в горах он рассказывал свою суровую байку о таинственных то ли мертвецах, то ли призраках, которые неминуемо настигают и наказывают гибелью всякого, кто дерзнет выйти на маршрут в непогоду. Когда горы сердятся…
«Они не прощают ошибок, — говорил он. — Красная двойка к смерти пристегнет любого, даже самого шустрого, если он не проявляет уважения».
Случалось, находились среди молодежи самоуверенные наглецы, кто позволял себе усомниться в его рассказах. Тогда Рустам вынимал из старого потертого ксивника на шее два засаленных лоскута красной болоньи и демонстрировал упрямцам со словами:
— Вот, смотри. Этот клочок я вынул из руки Лапина, когда нашел его в снегу под местом падения самарцев. А этот — мой трофей. Получил его когда-то взамен собственных пальцев… Не зарывайся, сынок. Разве ты знаешь о горах что-то, чего не знаю я?
ПОСЛЕДНИЙ ЭДЕЛЬВЕЙС
Кавказ
Эдельвейс — крохотный невзрачный цветок с шестью игольчатыми снежно-белыми лепестками и легким запахом горечи. В нем нет ничего особенного, он обитает повсюду в Европе. Но только очень высоко, в горах, среди скал, обдуваемых всеми ветрами.
И в этом вся тайна диких эдельвейсов — их не бывает внизу, где все ясно, как на ладони.
* * *
Летом 1976 года группа советских студентов, участников альплагеря «Цей», готовилась к двухдневному походу на перевал Кальпер.
Такой поход закрывал необходимый спортивный минимум для получения звания «Альпинист СССР» и потому считался главным событием сезона для новичков.
Из лагеря вышли в пять утра.
Небо золотилось от солнца, которое встало, но так и не показалось из-за облачной мглы. Только круглая макушка Монаха, вопреки всем законам тяготения, парила над облаками, облитая светом.
Это смотрелось фантастично и пугающе: как будто кусок земли нечаянно оторвался и уплыл в небо.
Двенадцать человек — участники-новички и двое инструкторов — шли горной тропой, след в след. Ноги скользили по мокрой от росы траве, и каждый судорожно цеплялся за ледоруб, чтобы успеть вгрызться в мокрую землю железом, если нога вдруг потеряет опору. Потому что не успеешь зацепиться — улетишь по мягкой травке-муравке так, что костей не собрать.
Выше начались скалы. Горные козы, коричневые и невысокие, перепрыгивали по камням с легкостью и грацией кошек — участники издали следили за ними завистливыми взглядами. Вот бы тоже так!
Тяжелые горные вибрамы[22] с каждым шагом наливались свинцом. Лямки рюкзаков натирали плечи. Солнце, по-прежнему невидимое из-за туч, все высушило вокруг и немилосердно пекло головы. Горячий воздух обжигал легкие.
В полдень поднялись к леднику. Круглые лобастые наплывы вздымались зелеными волнами и лезли вверх, до снеговой линии. Из узких трещин многометровой глубины несло арктическим холодом, как из гигантской морозилки. Тонкий слой воды покрывал блестящей пленкой всю поверхность ледника, делая ее скользкой и смертельно опасной.
Инструкторы остановили группу. Велели всем надеть на обувь «кошки» и лично проверили у каждого, как затянуты ремни.
В «кошках», вонзающих железные зубья в лед, как в твердое масло, ходить стало легко.
На леднике провели учебное занятие, отрабатывая технику вертикального хождения. Все прошло без эксцессов, разве что Рита Дорошенко умудрилась споткнуться и едва не упорхнула в расселину между двумя торчащими у края «бараньими лбами». К счастью, инструктор Песков успел поймать ее за край куртки.
— Даром что старик, а быстрей всех среагировал, — шепнул Игорь Мятлин, один из самых зеленых новичков — вообще первый раз в горах — своему напарнику, Андрису Зориньшу.
— Вот здесь не болит? А здесь? — Наклонившись, Песков ощупал Ритину лодыжку.
— Кажется, вывихнула, — закусив губу и сморщившись, ответила Рита. Глаза у нее уже были на мокром месте.
— Ничего, обойдется, — решил Песков. — Давайте вниз все. Пора лагерь ставить. Помогите ей!
Он махнул группе: двое ребят подошли и, взяв Риту под руки, аккуратно повели или, скорее, понесли по тропе к месту, выбранному для стоянки.
Однако сам инструктор Песков не пошел вниз вместе со всеми. Он для чего-то вернулся наверх, к тому месту, где Рита упала. Присел, провел рукой по льду, что-то разглядывая там.
— Эй! Петрович! Чего застрял?! — свистнув, крикнул ему снизу второй альпинструктор группы, Серега Горохов. Несмотря на почти двойную разницу в возрасте, они звали друг друга на «ты» и по имени: горы устанавливают свои законы равенства.
— Да я так, ничего, — откликнулся Песков. Но морщины, набежавшие на его лоб, ясно свидетельствовали, что он чем-то удивлен и озадачен. Спускаясь по тропе к лагерю, он вертел головой по сторонам и бурчал что-то про себя.
* * *
Инструктор Песков, которого почти все звали Петровичем, невысокий жилистый человечек, пропеченный на солнце до коричневой корочки, многим в лагере казался загадкой.
Никто не знал, сколько ему лет. На вид можно было дать сорок… или все шестьдесят.
Глубокие рельефные морщины разрезали сухое лицо. Широкая лысина выступала блестящим куполом, окруженная веночком редких седых прядей. Выцветшие белесые глазки моргали подслеповато, глядя на мир сквозь суженные щелочки век, словно через прицел.
Но шестидесятилетний старик не мог делать того, что делал Песков!
В первые же дни общелагерных занятий по скалолазанию он надолго отравил существование молодым спортсменам, поселив в их душах что-то вроде комплекса неполноценности. Хотя он, разумеется, не ставил себе такой задачи — просто не подумал о возможных последствиях…
Посреди лагеря, на просторной поляне, окруженной со всех сторон соснами, торчал, упираясь в небо, громадный обломок скалы. Инструктора провесили на нем несколько маршрутов для новичков — вбили крюки и спустили вниз страховочные веревки.
Ребятам выдали «беседки», объяснили про три точки опоры, про то, что рывок веревки при падении с маршрута ломает ребра или разрезает живот. Самых сильных парней в группах поставили на страховку.
А потом велели новичкам: «Лезьте!»
И они полезли. Поджимая от волнения пальцы в кедах, пыхтя и ломая ногти…
Игорь Мятлин из звена Пескова сорвался почти сразу, в двух метрах от земли, и повис на страховке, плотно удержанный вверху могучей лапой Андриса Зориньша. Закрыв глаза, Игорь шумно дышал, стараясь прийти в себя, и никак не мог справиться с дрожью в руках, чтобы снова выйти на маршрут.
Нескладная тетеха Рита Дорошенко — раз уж надо лезть, полезла и она — постаралась выполнить задание наиболее безопасным для себя способом: она еще снизу углядела на маршруте неширокую трещину. Выбрав этот простой, но эффективный путь, карабкалась, нащупывая зацепки кончиками пальцев, подтягиваясь и опираясь мысочками на полочки в скале — словно танцовщица на пуантах.
Дело оказалось непростым, Рита запыхалась и утомилась.
Ее страховщик — Костя из Архангельска — держал страховку[23] так плотно, что Рита все время чувствовала, как ее, словно гигантским магнитом, тянет к концу маршрута — да так, что кости хрустят. Пришлось даже сделать передышку и попросить напарника чуток ослабить натяжение страховки.
Рядом с Ритой, по второму маршруту, шустро продвигалась другая девушка из той же группы — Лидочка Козина, жена Димы Козина («шерочка с машерочкой», прозвали в лагере эту студенческую чету — уж очень они были похожи друг на друга, оба спокойные, одного небольшого роста и размера, почти как брат и сестра).
Игорь Мятлин все еще болтался на страховке, весь красный от стыда. Срыв серьезно напугал его, и он никак не мог взять себя в руки.
И в этот самый момент мимо Риты, Мятлина и Лидочки проскочили чьи-то ноги.
— Эй, молодежь, чего зажурылись?! А ну, поспешай! — съерничал «старичок» Песков, пробегая мимо пыхтящих студентов к вершине скалы, — взбежал словно по лестнице. Без беседки, обвязки, страховки. В трениках и резиновых тапочках. Подшучивая и пересмеиваясь с другими инструкторами.
Страховщик Игоря Андрис Зориньш от удивления едва не выпустил веревку.
— А старикашка-то — ас, — прошептал Андрис.
Игорь, наконец, сдался — спрыгнул вниз и, треща пальцами, поглядел на вершину скалы: Песков уже стоял там и, размахивая руками, что-то оживленно втолковывал кому-то из коллег.
— Говорят, он в здешних горах воевал, — сказал Андрис Игорю. — Любопытный дядечка, верно?
Игорь кивнул, поджав губы. Он чувствовал себя опозоренным.
* * *
Для вечернего чая девочки собрали жестких глянцевитых листьев рододендрона. Их несколько видов росло возле леса, небольшим курчавым завитком, приткнувшимся на зеленом склоне горы. Вровень с низкорослыми сосенками, гнутыми, изуродованными ветрами, цвел роскошный кустарниковый рододендрон — желтым, пышным, душистым облаком он обнимал полянку, а местами вытягивался и выше деревьев.
Голова кружилась от аромата цветов, а рододендроновый чай отдавал смолистой терпкостью, как самый крепкий цейлонский. Ничто так не снимает усталость в горах, как обжигающая чашка этого чая, выпитая на свежем воздухе.
Все расслабились и разомлели. Кроме Пескова. Тот все был недоволен чем-то, сидел хмурый и задумчивый у костра.
— Тихо здесь как, — оглядываясь по сторонам, вздохнула Рита. — Даже страшно. В городе всегда что-то шумит, а тут… Интересно, а звери дикие тут водятся?
Она передернула плечами и придвинулась поближе к костру.
— Самые дикие здесь мы, — рассмеялся Андрис. — Не бойся, Рита!
— Да я и не боюсь. Просто тишина эта… как-то давит. И потом — ведь у нас ни у кого нет оружия.
— А ледоруб?! — напомнил Игорь. И засмеялся тоже.
Песков, услышав этот разговор, откликнулся:
— Нет здесь никаких зверей. Не было, во всяком случае… А тишина — это хорошо. Тишина — наш главный сторож. Чуть что… Ладно, все это глупости. Лучше натяните тенты над палатками — ночью наверняка будет дождь.
* * *
Он оказался прав. Дождевая туча уже сползла с вершины Кальпера. Какое-то время ребята сидели в ней, погруженные в холодную капельную морось, как сидит заварочный чайник внутри ватной бабы, и отсыревали — холодными носами, пупырчатой кожей, продрогшими костями. Ни единого сухого клочка нигде, ни малейшей возможности избежать мокреди.
Такая погода — не разобрать: туман или дождь? Всюду одно и то же: вода. Хлюпает, капает, льется.
Прилипчивая сырость, которую ничем не остановить. Она сочится и смешивается со всем, что попадется. Забираясь слякотными ледяными лапами в спальные мешки, заползая в волосы, проникала, казалось, даже в мозги спящих, порождая самые дикие сны.
Рита проснулась в темноте от холода. Ее спальник лежал с краю и намок от стекающей со склона дождевой воды. Ныла вывихнутая стопа, Рита продрогла.
Андрис с Игорем похрапывали, завернувшись с головой в спальники. Лидочка тонко свистела носом, уткнувшись мужу в плечо. Рита поворочалась, выбивая зубами дробь. Она старалась найти какое-то более удобное положение, чтобы заснуть, но это ей не удалось.
Трясясь от холода и чувствуя, как немеют пальцы ног, она слушала стук дождя по брезентовой крыше палатки. И вдруг в единообразную гамму падающих капель втиснулся другой звук — шорох камней и что-то, похожее на ворчание.
Кто-то или что-то двигалось к лагерю со стороны леса.
Зверь? Волк? Медведь? Рита замерла, затаила дыхание.
«Никаких тут зверей не водится, — убеждала она саму себя. — Просто кто-то из инструкторов проснулся, вышел и ходит там…» Инструкторы спали во второй, маленькой двухместной, палатке.
С какой стати кому-то из них бродить под дождем?
Существо, топтавшееся снаружи, вело себя странно: то приближалось, то удалялось, расхаживало по лагерю, гремело алюминиевой посудой, забытой ребятами возле кострища… Зачем? Неужели все-таки зверь?
Умирая от страха, Рита подтянулась ближе ко входу, приподняла брезентовый полог и выглянула наружу.
Она только успела заметить тень на снежном пятне перевала вдали, как в следующий миг что-то вломилось в палатку, придавив ей горло, зажав рот.
— Тихо! Не ори. Сейчас отпущу, но только не визжи как резаная. Поняла?
В ушах зашумело, глаза защипало от внезапных слез, но все-таки Рита почувствовала облегчение: она узнала того, кто шептал эти слова, одновременно зажимая ей рот и голову, чтоб она не могла пошевелиться.
Рита только недоумевала — для чего все это понадобилось Петровичу?
Напугавшись, она с энтузиазмом кивала, понимая, что все равно не смогла бы теперь закричать — от страха у нее пропал голос.
Петрович перевел дыхание и, слегка отодвинувшись, выпустил голову Риты из жесткого захвата.
— Никто из вас наружу не выходил? — спросил Петрович. Он говорил тихо, но в голосе его звякал металл.
Рита лишь головой помотала в ответ: никто.
— Хорошо. Фонарик есть?
Рита снова помотала головой, но тут же вспомнила — сунула руку в карман рюкзака, лежавшего в изголовье, пошарила там и вытащила холодную жестяную трубку электрического фонарика.
Песков взял его и, перевернув стеклом вниз, нажал кнопку, проверяя — горит ли. Желтое пятно света уткнулось в спальник: фонарик горел.
— Отлично. А то в моем батарейки сели. Теперь тихо сиди.
— Там кто-то ходит, да? — Наконец у Риты прорезался голос. Петрович яростным жестом прижал палец к губам и высунул голову из палатки.
Рита замерла.
Снаружи шумел дождь. Сквозь его перестук явственно доносилось… сердитое ворчание. Зверь, крупный хищник!
Рита почувствовала, как сердце ее прыгает где-то в горле. И вдруг с ужасом поняла, что отдельные звуки в этом зверином рыке она узнает…
— Дас ист нихт гут… нихт гут.[24]
— Кто там? Кто это? — схватив за руку Петровича, прошептала Рита. Она догадывалась, но все еще не могла поверить.
Песков дернулся, будто его током шибануло, обернулся.
— Призрак, — сказал он, и пальцы у Риты похолодели от выражения, с которым он выговорил эти слова. — Призрак… Я надеюсь.
А тот, снаружи, все бубнил, расхаживая тяжелой медвежьей поступью по лагерю, и бормотал:
— Дас ист нихт гут.
«Нет, правда. Это же он по-немецки!» — все-таки признала Рита. Она учила этот язык в школе и в институте. Когда хоть это разъяснилось, ей стало проще воспринимать смысл сказанного чужаком.
— Niemand ist wach. Man muss die Posten kontrollieren.
«Никто не караулит. Надо проверить посты», — мысленно перевела Рита. Значит, там, в темноте — немец.
Говорит чисто, без акцента.
Но откуда он взялся? И что делает в горах среди ночи один? И почему так испугался Петрович? От неожиданной мучительной головоломки Риту даже слегка затошнило.
Она вздрогнула, когда Песков рядом с ней вдруг дернулся и громко выкрикнул по-немецки:
— Stopp oder ich schieße! Wer da im Lager?[25]
Снаружи все стихло. А потом раздался звук торопливых шагов: незнакомец двинулся на голос.
— Ich bin es, Leutnant Friedrich von Waltz… Ich kontrolliere die Posten. Mit wem spreche ich?
«Это я, обер-лейтенант Фридрих фон Вальц. Проверяю посты. Я должен сдать смену. С кем я говорю?» — поняла Рита.
Песков оглянулся, кивнул Рите и вылез из палатки навстречу незнакомцу.
— Kapitan Dittzer. Jetzt ist meine Schicht. Sie konnen frei sein, Leutnant. Es ist alles in Ordnung,[26] — светя фонариком перед собой, сказал он.
Высокая фигура немца сутулилась совсем близко от входа в палатку.
В слабом свете электрического фонарика Рита увидела лихорадочно блестящие глаза, изможденное рыжее лицо, густо заросшее волосами. В руках незнакомца что-то поблескивало. «Нож!» — ахнула про себя Рита.
Но мужчины общались спокойно, почти доброжелательно. Песков говорил без акцента и, видимо, не вызывал подозрений у собеседника.
— Sind Sie sicher?
— Absolut.
— In Ordnung. Dann kann ich schlafen gehen?
— Ja, Sie sind frei. Gehen Sie, Leutnant.
— Na, endlich, endlich…[27]
Немец вздохнул. Рыжее лицо его распустилось в счастливой улыбке. Он убрал нож в чехол на поясе, снял с кудлатой головы пилотку и вытер ею мокрое от дождя лицо.
Постоял, покачиваясь и улыбаясь, потом развернулся и двинулся вверх по тропе в сторону перевала.
Петрович, напряженный и злой, шепнул Рите:
— Разбуди всех, спускайтесь вниз, на базу. Прямо сейчас.
— А вы?! — Рита вцепилась в рукав инструктора.
— Я за ним. Расскажи Горохову, как все было. И чтоб не вздумали меня искать! Никто из вас, желторотых… Вы не представляете, что это такое — натренированные рефлексы убийцы, горного стрелка… Передай им — я сам. Поняла?
Когда Рита кивнула, Песков скользнул в темноту вслед за удаляющимся чужаком, двигаясь по-звериному ловко и бесшумно.
* * *
Услышав дикий рассказ Риты, все взбудоражились. Быстро собрались и в наступающем сером свете утра вернулись в лагерь. Начальник, как и следовало ожидать, прямых указаний Пескова слушать не стал: вызвал наверх подмогу в виде местной милиции. Участковый из ближайшего поселка поделился сведениями: оказывается, окрестные жители уже не раз жаловались, что на их пастбищах пропадают овцы, а во дворах — мелкая домашняя живность. На все эти пропажи до сих пор не обращали внимания, списывая на диких зверей.
— Но ведь дикий зверь не станет воровать веревки, одежду и хлеб, — усмехаясь, сказал милиционер. — Мы уже начали кой-кого подозревать…
— Откуда он тут взялся?! — недоумевал начальник лагеря. Он был больше всех рассержен появлением опасного чужака: все спортивные графики полетели к чертям из-за возникшей проблемы.
— Люди говорят, он контуженый. Умом тронулся. Для него война до сих пор не кончилась, — сказал участковый.
— Для Петровича, значит, тоже.
Старший лейтенант Песков, уволенный в запас из войск 3-го горнострелкового корпуса, потратил двое суток, чтобы выследить место, где прятался фашистский недобиток.
Укромную пещеру обложили со всех сторон вооруженные милиционеры и местные охотники.
Лейтенанту фон Вальцу предложили сдаться, объяснив по-немецки, что война окончилась 30 лет назад, и нет никаких причин солдату бывшего вермахта прятаться среди пустых и холодных скал.
Но немец не смог или не захотел принять правду. Разъярившись, он выскочил из своего укрытия и бросился с ножом на того, кто оказался ближе к нему, — молоденького парня-пастуха с отцовской берданкой в руках.
Убийцу остановила пуля, с близкого расстояния развалившая немцу черепную коробку.
Но стрелял не пастух — мальчишка растерялся и не успел даже поднять свое оружие. Стрелял инструктор Песков из наградного пистолета.
Когда немец упал, залитый кровью, все присутствовавшие замерли, охваченные сложной мешаниной чувств, среди которых были и ужас, и жалость, и отвращение. Никто не решался подойти к трупу.
Кроме Петровича. Хмурый, с потемневшим недовольным лицом, он приблизился к мертвому телу и с горечью произнес:
— Зря вы сюда пришли.
Подняв пилотку, свалившуюся с головы обер-лейтенанта, он встряхнул ее, разгладил руками вышитый значок с левой стороны: белый шестилепестковый игольчатый цветок с золотистыми тычинками.
— Эдельвейс. Ну, этот последний.
* * *
С тех пор историю последнего эдельвейса рассказывают всем горным туристам и альпинистам на Кавказе. Особенно впечатляет, если услышать ее приходится ночью, когда к шепоту и перестуку дождя по крыше палатки примешиваются еще какие-нибудь звуки — незнакомые, ни на что не похожие, чужие.
В горах таких много.
ЖИВАЯ
г. Новосибирск
Она говорит, мы всегда будем вместе. Приходит, садится на постель, берет меня за руку… А руки у нее ледяные. Наклоняется так, что длинные волосы щекочут мне лицо. И рассказывает, как она меня любит. И про то, что теперь мы связаны. Она обожает повторять: «Ты же видишь, я живая? Ведь ты чувствуешь это?»
Я не понимаю ее.
Она гладит меня по лицу шершавыми ладонями и целует в губы. От нее сильно пахнет землей. Прелыми листьями и землей. Такой тяжелый душный запах…
* * *
Доктор Бурцев поставил диктофон на паузу. Пациент, молодой парень, сидевший на стуле для посетителей, сжался. Он сутулился, как будто желал сделаться менее заметным.
Внезапный порыв ветра распахнул форточку — она дернулась и стукнула о раму. Пациент вздрогнул и поднял затравленный взгляд на доктора.
Сергей Николаевич приподнялся, закрыл окно.
— Ничего страшного. Погода немножко разбушевалась, — сказал он, усаживаясь обратно в кресло. Доктор Бурцев всегда говорил мягко, с профессиональным спокойствием.
— Ну, как вы, Андрей, передохнули? Тогда продолжим.
Доктор снял диктофон с паузы, включил запись и попросил:
— Расскажите, пожалуйста, с чего все это началось?
* * *
Вечером 23 августа, около 4 часов, к воротам кладбища подогнали технику: бульдозер и трактор. С грохотом машины проехали по широкой главной аллее в самый дальний конец, где особенно бросалась в глаза неухоженность старого погоста.
Высокая, по грудь, сухая трава укрывала в своих диких зарослях заброшенные могилы: холмики с покосившимися крестами и облезлые, местами поваленные ржавые оградки.
Четверо хмурых рабочих под началом сердитого бригадира — жилистого дядьки с багровым гипертоническим лицом — проследовали сюда в сопровождении сторожа, чертыхаясь и матюкаясь по пути: шиповник, когда-то посаженный на чьей-то могиле, разросся, вылез на асфальтовые дорожки и царапался, цепляясь за одежду колючками.
— Все. Отсюда начнем, — сказал бригадир.
— А решетку что ж, переносить будете? — робко спросил сторож.
Бригадир заглянул в бумаги, сверился с техзаданием.
— Не знаю. Про решетку мне ничего не говорили, не моя печаль. Своих дел по горло.
Махнул рабочим:
— Ну, чего встали? Приступай. Сегодня надо и начать, и кончить.
Подчиненные его замялись, перетаптываясь на месте. Один из бригады, самый старый, проворчал:
— Не по-людски. Тут же кладбище вон… Как же так, Иваныч?
Бригадир обернулся.
— Кладбище? Ну и что, что кладбище! Вся земля под ногами у тебя — кладбище. Да и не хоронят здесь давно. Сам не чуешь, что ли? Вон как тут все заросло. Скажи им!
Бригадир ткнул толстым пальцем в сторожа. Тот опешил. А бригадир, не дожидаясь поддержки или подтверждения, заговорил, прижимая к груди пухлую руку:
— Мужики, я все понимаю. Тут бы вам, конечно, бухнуть, прежде чем соваться. Но тянуть нельзя. Дело такое. Прознает кто из местных — хлопот не оберемся. Пойдут еще всякие активисты под бульдозер с плакатами кидаться, как бойцы под танк в 41-м! Администрацию-то ведь жалобами уже завалили. У мэра вон две секретарши и у обеих нервный тик от этого объекта. Нам бы побыстрей дельце провернуть, от греха подальше…
— А чего хоть строить-то здесь собираются? — робко встрял в разговор сторож.
— Казино с роялем! Твое какое дело? — вызверился бригадир. И снова обратился к подчиненным: — Ну, чего стоите-то, вашу дивизию?! Если за сегодня все сделаем, заплатят еще и по сверхурочным. Договорились-то аж в три цены!
И только после, когда рабочие, ворча и переругиваясь, надели рукавицы и разобрали привезенные трактором кирки и лопаты, — бригадир повернулся к сторожу и все-таки соизволил пробормотать:
— Чего-чего? Больницу новую. Для всего города дело нужное.
— Ну да, — кивнул сторож. — Оно и удобно. Рядом будет: и лечить, и хоронить. Мементо мори, так сказать.
Бригадир покосился на синюшную испитую физиономию кладбищенского философа, но промолчал. Сплюнул и отошел в сторону — покрикивать на рабочих, приступивших уже к делу.
* * *
Бульдозер зарокотал, развернулся и, ударив железным ковшом по ближайшей гранитной плите, упал вниз, вгрызся в землю, разрывая траву. Густо сплетенные белые корни из вывороченного дерна полезли наружу; коричневые плети шиповника, с повисшими на ветках багровыми каплями плодов, лопаясь, волоклись вслед за железом. Сыпалась черная земля, стучали, валясь друг на друга, ржавые оградки, дряхлые облезлые бордюры и гранитные плиты.
Рабочие, подгоняемые сердитым начальником, принялись собирать и закидывать в тележку трактора на глазах превращающиеся в мусор элементы могильного декора: выцветшие и заплесневевшие пластиковые венки, надгробия, урны и цветочницы. Все это следовало вывезти за территорию будущей строительной площадки.
— Давай ниже, ниже копай! — махая руками, проорал бригадир молодому парню, сидевшему на водительском месте в бульдозере. — Ниже! Под фундамент расчистку делаем.
Парень кивнул и опустил ковш машины, загребая теперь не только верхний, но и нижний слой могильной земли. Из раскопа вывалился первый гроб — расколотый и полусгнивший. Желтые кости с истлевшими на них тряпками посыпались в сырую землю.
Молодой бульдозерист вопросительно глянул на бригадира: тот одобрительно кивнул и показал рукой — все нормально, разравнивай.
Кости оставили гнить в земле; еще крепкие обломки дубового гроба закинули в трактор и вывезли вместе с другим хламом за ограду кладбища. Все, что могло гореть, сложили в огромную кучу. Ближе к ночи подожгли. Едкий дым от горящего крашеного дерева и пластика венков распространился по району; жирный пепел оседал на земле и на рабочих, делая их похожими на чертей в аду.
Дело двигалось быстро и споро. Двое ворошили мусор в костре, стараясь ускорить процесс горения, трое загружали тележку трактора, разгребая остатки могил.
Под конец, когда большая часть работ была уже выполнена, в самом дальнем углу кладбищенского участка бульдозер вывернул из земли гроб, оказавшийся совершенно целым.
Однако под нажимом ковша крышка с него соскочила, и вопли рабочих заглушили даже звук мотора бульдозера: всем им одинаково померещилось, будто труп шевельнулся и сел в гробу.
В следующую секунду тело выпало из гроба головой вниз в разрытую яму. Длинные каштановые волосы разметались по плечам, бледные руки упали в черную землю.
Рабочие переглянулись. Парень-бульдозерист заглушил двигатель и выпрыгнул из водительской кабины с побледневшим от ужаса лицом и трясущимися губами.
— Что это, а?! Она живая, что ли? Поднимите же вы ее! — просил бульдозерист, глядя на всех по очереди испуганными глазами.
Сторож спустился к яме, в которую вместе с крышкой от гроба свалился труп, и, скользя по влажной земле, осторожно приблизился к телу. Рабочие сгрудились вокруг.
— А ну-ка, посмотрим, — сказал сторож. Быстро перевернул покойницу. И отпрянул в сторону.
На лице молодой женщины не было ни единого следа тления.
Она казалась просто спящей. Тонкие черные брови, густые ресницы, розовые щеки и яркий алый рот с надменно выпяченной вперед нижней губой.
— Красивая, — прошептал кто-то из рабочих и нервно хихикнул.
Сторож с озадаченным лицом рассматривал крышку гроба: крепкая, почти целая, хотя белую атласную обивку кто-то изорвал в клочья с внутренней стороны. На деревянной основе, оголившейся под материей, виднелись многочисленные борозды и царапины. Следы ногтей.
— А ее, кажись, живую закопали, — бесцветным голосом произнес сторож.
Все невольно отшатнулись. Молодой парень-бульдозерист задрожал.
— Это сколько ж времени-то прошло, а она все свеженькая? А?
Суетливо выбравшись из ямы, сторож отряхнул ладони и попросил закурить. Ошеломленные рабочие молча стояли вокруг.
Один бригадир дернулся, вытащил из кармана сигаретную пачку и, потея и тряся щеками, протянул одну сигарету сторожу, а другую закурил сам.
После нескольких затяжек сторож спросил:
— Так и чего с ней делать-то?
Рабочие переглянулись. Солнце уже скрылось за горизонтом, по кладбищу разливалась темнота, и возиться, задерживаясь дольше, никому не хотелось. Решение было очевидно и просто, но от него каждому было почему-то не по себе.
За всех ответил бригадир.
Пнув крупный ком земли в вырытую только что яму и сопроводив его плевком и бычком от сигареты, сердито высказался:
— А, чтоб тебе… Чего-чего?! Закапывать. В реанимацию ей поздно.
Бульдозериста передернуло, но он подчинился начальственному окрику. Вернулся в кабину, выжал рычаг на себя и поднял ковш машины, чтобы заровнять вздыбленный бугор земли. В это мгновение за спиной его кто-то вздохнул — грустно и протяжно. И гадкий сквознячок скользнул тонкой змейкой за шиворот рубашки — будто чьи-то холодные ладони погладили.
* * *
— Год уж прошел. А она… Она все время со мной. Как стемнеет — является. От той бригады я один в живых остался. Может, еще сторож, с кладбища который? Про него не знаю. А Иваныч, бригадир наш, он быстро… Он прям на следующий день… скопытился. Жена его в контору позвонила, говорит: сердечный приступ у Иваныча случился. Ночью. Расспрашивала — что такое у нас приключилось накануне. Потому что бригадир ей перед смертью все про какую-то живую покойницу твердил. «Живая она, живая».
Но мы, конечно, никому ничего объяснять не стали. Сказали — мол, бредил человек, что с него взять.
Поначалу-то мы и друг другу ни в чем не сознавались. По трезвянке кто в такое поверит?
Поначалу мы еще держались. С месяц, наверное.
А потом Николай запил. Позвал меня и напрямую уже спросил: ну что, видишь ты ее? Я такие глаза сделал, говорю: кого?! А у самого руки трясутся.
Николай говорит: сам знаешь. Я, говорит, ее каждую ночь вижу — сидит, смотрит из угла, голову набок свесит и смотрит. А среди ночи, бывает, от холода проснусь — она рядом лежит, улыбается. И грозится: ну что, мол, с тобой сделать-то?
Николай долго не продержался: так, не просыхая, на пьяную голову, и сиганул в окно с шестого этажа. Ноги и спину себе отбил, в больнице умер. А я и не знаю даже, сам ли. — Андрей хихикнул, хотя лицо у него оставалось испуганным. Вздрогнув, он продолжил рассказывать: — Валька через десять дней после смерти Николая повесился. Прямо в общежитии у себя. А Степан Родионович убежал к родственникам в соседний город. Только не помогло ему это: сразу, как приехал туда, под машину попал.
И она… Ну, она-то! Говорит: не сам. Хвастается, стерва. Радуется.
Договорив, пациент шумно сглотнул и, замолчав, уныло поглядел в окно.
За окном лил дождь, и ветер, подбрасывая опавшие листья, мотал их по воздуху и лепил на крыши домов, машины и окна.
Доктор Бурцев выключил диктофон.
— Хорошо, Андрей. Идите теперь к себе в палату, примите лекарство, чтобы хорошенько выспаться. А завтра продолжим.
— Сергей Николаевич! А вы правда думаете, что я… Что вы сможете мне помочь?
Глаза пациента покраснели. С отчаянием уставился Андрей в лицо доктору. Но Сергей Николаевич не впервые видел такие глаза и ничего экстраординарного не усмотрел.
— Ну конечно, Андрей! Вы можете нисколько в этом не сомневаться. Идите.
Ободряюще улыбаясь, Бурцев проводил пациента до двери. У порога задержался, похлопал себя по карманам халата, проверяя — не оставил ли на столе ключи от отделения? Покинув кабинет, длинным стеклянным коридором вышел к лестнице, спустился вниз, к служебному вестибюлю, где находилась неофициальная курилка для врачей.
На нижних этажах непогода за стенами больничного корпуса ощущалась сильнее — стекла дрожали в рамах под порывами ветра, по коридорам гуляли холодные сквозняки.
В курилке Сергей Николаевич встретил приятеля — психиатра соседнего отделения, Землянского.
Разговорились о том о сем.
Между делом Бурцев поведал о случае нового пациента. Землянский выслушал с интересом, хмыкнул и сказал:
— Надо же! Ровно то же самое я слышал вчера на дне рождения тестя от людей, вообще-то говоря, совершенно здоровых — от Азизы Наргизовны и Алексея Львовича. Они как раз в той новой больнице работают. Которую на месте кладбища построили. В хирургии. Говорят — сестрички с санитарками у них там постоянно жалуются, что какая-то чертовщина творится. То шепот, то плач в пустых операционных. И больные тоже боятся — якобы призрачная женщина там ходит у них по палатам, руки на плечи кладет, а больные потом умирают. Слухи ходят, будто на том кладбище сто лет назад какой-то генерал свою любовницу живьем похоронил — за то, что изменила ему с молоденьким гусаром. Да, вот так. А что ты будешь делать с людьми? Суеверия неистребимы.
— Как все дурные привычки, — сказал Бурцев, пожав плечами.
Врачи ухмыльнулись, синхронно затушили сигареты и, выбросив бычки, разошлись.
* * *
Сергей Николаевич — хороший доктор. Он добрый. Вот отдельный бокс мне выделил. Не хотел, чтобы я попал в компанию к здешним отморозкам. Тут их полно: зэки, слабоумные. И такие слюнявые, которых «овощами» зовут.
Да, Бурцев добрый. Но лучше б он к «овощам» меня определил. Может, если б не один я тут был…
Как только я вошел, она выступила из тени за дверью и положила холоднющие свои руки мне на плечи.
— Вот мы снова вместе, — сказала.
Душно и мерзко завоняло могильной землей — как всегда, когда она рядом.
— Ты же видишь — я живая.
Она шепчет, дыша мне сзади на шею холодом.
— Ты один у меня остался. Но уж теперь-то я не уйду. Не покину тебя! Мы всегда будем вместе. Не бойся. Я все устрою. Верь мне. Я живая…
Я ее слушаю и не могу пошевелиться, как будто в лед меня заковало. А она руку протянула, просунула под рубашку и дальше, глубже — под кожу, под ребра. Схватила сердце и, глядя мне в глаза, улыбнулась и сжала. Оно у нее в руке лопнуло, как гнилое яблоко. Черная кровь растеклась по полу.
— Видишь? Теперь мы всегда будем вместе. Я же обещала! — сказала она и засмеялась. — Без сердца тебе даже лучше. Легче, правда?
Я кивнул и оглянулся по сторонам. Оказывается, они все были здесь, рядом со мной. А я и не знал! Николай и Валя, Иваныч и Степан. И еще много-много каких-то людей — я их раньше не видел. Бледные, растерянные, стоят вокруг и смотрят на нее, а она улыбается, хлопает в ладоши и все повторяет:
— Я живая! Живая. Теперь навсегда живая.
* * *
Доктор Бурцев удивился, когда утром ему сообщили о смерти поступившего накануне пациента, 25-летнего Андрея Назарова. Парень скончался от внезапной остановки дыхания.
Это было неприятно. Но, разумеется, никакой здравомыслящий человек не стал бы обвинять в этой смерти психиатра Бурцева. Сергей Николаевич чувствовал, что совесть его в данном случае чиста, поэтому происшествие довольно скоро выветрилось из его памяти.
Врачи не любят вспоминать о мертвецах. У них хватает хлопот с живыми.
ТВАРЬ ИЗ КОЛОДЦА
г. Смоленск
Уже стемнело, когда следователь Владислав Паншин и его молодой стажер Юрий Мирошников вышли из дверей поселкового отделения милиции. В сумерках при свете фонаря поблескивали схваченные ночным морозцем прелые мокрые листья на обочине дороги. Хрусткой белой ледяной глазурью украсились черные еще час назад лужи.
— Похолодало, — сказал Юра Мирошников, зябко передергивая плечами. Паншин не ответил — он уставился в скопление мрака под ветвями раскидистой ветлы справа от дороги. Красные искорки вспыхивали и гасли в тени под деревом, будто чьи-то злобные глаза пялились оттуда на мужчин.
— Караулит, — вполголоса сказал Паншин и полез в карман за сигаретами.
— Кто? — не понял Мирошников.
Паншин не ответил. Красные огоньки под ветлой рассыпались и погасли. Из темноты выступила к свету высокая сутулая фигура.
— Здрасьте, гражданин начальник. Новости есть? — хриплым голосом поинтересовался мужчина.
Паншин обреченно вздохнул и сказал, закуривая:
— Нет, Коржев. Извини. Если б что было…
Расстегнув короткое драповое пальто, следователь как бы невзначай сунул руку за пазуху, одновременно делая шаг вперед, чтобы в случае чего успеть прикрыть ничего не понимающего новичка-стажера.
Но это не понадобилось: потоптавшись, странный человек сплюнул и ушел. Следователь перевел дух и, вынув руку из-за пазухи, застегнул пальто.
— Не понял, — сказал новичок, изумленно задирая брови.
— Давняя история, — проворчал следователь, хлопая себя по карманам в поисках сигарет. — Четыре года прошло, а мужик все не уймется. Хотя понять его можно — отец, что ни говори…
* * *
Ранним утром во вторник, 10 июня 2003 года, двое пацанов-школьников: Артем Балашов, 8 лет, и Костя Коржев, 9 лет — играли на лысом пятачке за гаражами садово-дачного товарищества неподалеку от поселка Нижняя Дубровка. Гоняли футбольный мяч, отрабатывали «чеканку», время от времени били в импровизированные ворота — между перекладинами давно сломанных качелей.
За ними следила, сидя на старой карусели, Настя Волошина, 8 лет. Мальчишки ее в игру не принимали, но Настена не уходила.
Заняться все равно было нечем: школьные каникулы начались, подружки разъехались, а на даче у тетки, где Настя гостила, развлечений никаких — скучища.
— Давай бей! — крикнул Артем, встав на «ворота». Костик ударил, но промазал. Настя захихикала.
Мальчишки сердито покосились на нее; Костик погрозил кулаком и полез доставать мяч из зарослей лопуха.
Но мяча там не оказалось.
Глядя, с каким растерянным видом Костик разгребает ногой бурьян, Артем удивился и подбежал, чтобы помочь приятелю.
Вдвоем они утоптали целую поляну, но мяч так и не отыскался. А потом Костик споткнулся о какую-то деревяшку.
— Блин! Это че такое-то?!
За кустами полыни и лопуха скрывались остатки бревенчатого сруба — почти вросшие в землю. Их прикрывали обломки подгнивших досок. Внизу под ними чернела дыра.
Костик заглянул в провал.
— Там, кажется, вода, — высовываясь из-за Костикова плеча, сказал Артем. Аукнул в бездну — отозвалось холодное множественное эхо. — Или грязь?
— Там, кажется, наш мяч, — сказал Костик. — Блин! Вот непруха-то.
— Надо достать. А то меня мать заругает, — нахмурился Артем.
— Да? И как мы туда полезем? — спросил Костик.
— Я могу веревку принести! — предложила Настя. Ей надоело гадать издалека, над чем там задумались мальчишки, и она прибежала поглядеть из-за их спин.
Ребята уставились на девчонку.
— Какую еще веревку? — спросили в один голос.
— Трос автомобильный, он прочный! — пообещала Настя.
Мальчишки переглянулись. Артем заглянул в яму — мяч плавал на поверхности воды и, как ему показалось, не так уж и глубоко.
— Тащи! — велел он Насте. — Только побыстрее.
— Ага! — Настя кивнула и метнулась по переулку к дому. — Я быстро!
Мальчишки убрали обломки досок и уставились вниз, разглядывая колодец.
— Стенки вроде бетонные?
— Может, только сверху. А внизу — кто его знает. Похоже на камень — неровные.
— Вряд ли там много воды, да? — сказал Артем. — Наверно, пересох колодец, вот и закрыли его. Вода вон какая черная, небось одна грязь осталась.
Костик с сомнением глянул вниз.
— А может, ну его? Может, лучше не соваться?
— Ты-то чего дрейфишь — не тебе ж! — рассердился Артем.
— Да Левчик у гаражей недавно рассказывал пацанам… Про блуждающий колодец. Типа открывается он где попало и, как черная дыра — все жрет. А потом исчезает. И все, что в него попало, — тоже пропадает, как не было.
Артем хмыкнул, криво ухмыльнулся.
— И ты че, веришь в эту байду?
Костик пожал плечами.
— Да нет, конечно. Но…
— Эй, я принесла! Вот!
Запыхавшаяся от бега Настя протянула ребятам буксировочный трос.
Вопрос лезть или не лезть был окончательно закрыт: не хватало еще перед девчонкой позориться.
Трос надежно привязали к железной опоре ближайшего забора, а конец спустили в колодец. Падая, он звучно шлепнул по воде, и поверхность грязевой лужи разошлась блестящими жирными черными кругами.
— Один, два, три… Пуск?! — скомандовал сам себе Артем и, вцепившись в трос, начал спускаться.
Костик и Настя опасливо следили сверху. Костик придерживал трос — так, на всякий случай.
— Ну, что там? Ты как? — поминутно спрашивали оба.
Артем, пыхтя и постукивая зубами, отвечал:
— Нормально. Нормально. Холодно тут. Холодрыга!
Колодец оказался и в самом деле неглубоким — всего-то метра два — два с половиной. Спустившись, Артем повис на тросе, обхватив его ногами, и попытался схватить мяч. Но мяч, мокрый и скользкий, крутился на черной поверхности воды и не давался в руки.
— Зараза! — в сердцах выругался Артем. Он устал висеть, держась за трос, и решил попробовать ногой — глубоко ли?
Пошлепал по воде кроссовком — наткнулся на что-то твердое. Осторожно поставил ногу, уперся. Встал.
— Ну, что там?! — в очередной раз завопил над головой Костик.
— Все нормально! — откликнулся Артем. — Только холодно. Дует…
И вдруг сообразил, что в глухом колодце никаких сквозняков быть не может. Он оглянулся:
— Эй, да тут ход! — крикнул он, уставясь в темноту. Что-то шуршит справа, или показалось?
— Чего-чего? — не понял Костик.
— Ход! Или тоннель? — ответил Артем и подошел поближе к темному провалу с правой стороны — оттуда веяло теплым воздухом. И пахло чем-то знакомым. Чем-то вроде машинного масла и горячего железа.
* * *
— Темыч, ты где?! Я тебя не вижу! — Костик надрывался, глядя сверху в провал колодца. Артем исчез. Мяч, брошенный им, по-прежнему крутился в черной воде, а хозяин этого мяча пропал, растворился в темноте. Проглоченный проклятым колодцем. Прошло минут пятнадцать.
— Артееееем! Артемка! Тёмыч! — Костик успел всерьез напугаться и струхнуть, когда его друг, наконец, откликнулся:
— Кончай орать. Лезь лучше сюда. Здесь круто! Поиграем.
Голос Артема звучал глуховато и как будто издалека. Наверное, он зашел в тот самый тоннель, о котором говорил.
— Хорошо, сейчас! — крикнул обрадованный Костик.
Артем не отозвался, но было слышно, как он шумно возится где-то внизу, невидимый.
Костик уцепился за трос: он был не так ловок, как Артем, послабее его, а комплекцией, напротив — солиднее.
— Подожди, — сказала Настя. Она вдруг побледнела. — А ты уверен, что…
— Ну что «что»? — раздраженно переспросил Костя. — Чего тебе?
— Да нет, ничего, — ответила Настя и зябко передернула плечами.
— Ну и отстань. Не говори под руку. Видишь ведь… — сердито ворчал Костик. Он не успел опуститься и на треть глубины, как руки его соскользнули, не удержали веса. Он сорвался и улетел вниз. — Блиииииииин! — Отчаянный вопль, троекратно усиленный эхом, ударил Настене по ушам.
Девчонка отпрянула от края колодца.
— Блин! — крикнул Костик со дна и захныкал, уставясь на свои ободранные о трос ладони. — Блин, как я теперь…
И вдруг замолчал на полуслове.
Настя заглянула в колодец: Костика внизу не было. И Артема не было.
На черной глянцевитой поверхности лужи на дне одиноко вертелся потрепанный белый футбольный мяч.
— Спускайся вниз, поиграем! — прошипел кто-то из темной сырой глубины и тяжело заворочался, сотрясая стены колодца.
Настя взвизгнула и побежала в поселок звать на помощь взрослых. Ноги у нее подгибались на бегу от страха.
* * *
— А через два часа к этому колодцу подъехал я с дежурной бригадой, — сплевывая себе под ноги, сказал Паншин. — Весь дачный поселок к тому моменту уже стоял на ушах: мальчишки пропали, отец Коржева в колодец слазил и еле выбрался оттуда живым. Его сразу в больничку отправили. Потом, когда я всех свидетелей допрашивал, он долго мялся, но все-таки сказал, что там, в колодце, кто-то напал на него. Он даже не успел разобрать — зверь это был или человек. Фонарик разбился, а это существо набросилось в темноте, и Коржев якобы еле от него вырвался.
Он показал мне тогда синяк на руке — оно его за руку схватило, след остался. Судя по форме отметин, существо это шестипалое. И ко всему прочему, Коржев утверждал, что глаза у этого Не-Пойми-Чего светились в темноте как фосфор — такие круглые, зеленые…
Ну не знаю. Голову он там, в колодце, конечно, здорово разбил.
Я потом вместе с фотографом спускался туда — ничего особенного мы не нашли. Только остатки какого-то подземного строения. В стене колодца обнаружилась боковая ниша, справа два вентиля торчат. Мы их покрутили — открылся ход. Два метра вперед мы по нему продвинулись — и уперлись в глухую ровную стену. Все. Ничего и никого больше в той дыре не было. Я на всякий случай попросил фотографа сделать несколько снимков со вспышкой. Борисыч сделал. Только фоток я от него так и не дождался: поначалу он что-то все тянул, то одним, то другим отговаривался. А потом пришел и сказал, что, мол, пленку нечаянно засветил. Трясся, что я его ругать буду. Ну, а мне что, больше всех надо, что ли? У меня и без этой неразберихи дел хватает. После Борисыч от нас уволился. Я его и не видел больше, этого фотографа, и про фотки те не вспоминал.
Но этот мужик, Коржев… Он уж который год нервы мне треплет: что да что? Что да как? Как расследование движется и движется ли?
А что я ему отвечу?!
У меня ведь это дело почти сразу забрали прокуроры. Понаехали какие-то люди, вроде даже военные были, лазили там, все вынюхивали. Коржев и к ним тоже приставал: хотел добиться — куда тело его сына пропало и кто в этом деле виноват. Ничего не добился. А вскоре посадили его. Вроде за какую-то ерунду — за дебош по пьянке. Там, на зоне, еще добавили, и он уже плотно засел. Недавно вот опять откинулся, на учете стоит как рецидивист. С головой у него плохо, не знаешь, чего от него и ждать. Хотя последнее время он вроде потише вести себя стал, поскромнее. И все-таки раз в месяц аккуратно является нервы мне потрепать. Крайний я ему оказался.
Пару лет назад в город к нам много немцев приезжало. Ты ж знаешь, они тут кладбище свое открыли неподалеку.
Пока там разные двусторонние комиссии — наши и германские — работали, утрясали формальности, я с одним из этих немцев поближе сошелся. Он, оказывается, в Союзе учился, наблатыкался по-русски неплохо.
Так вот этот самый немец — выпили мы с ним, и он мне рассказал по секрету, что, оказывается, во время войны гитлеровцы у нас тут чуть ли не целый город подземный вырыли. Строили, по слухам, бункер для самого фюрера Адольфа — «Беренхалле», то есть — Медвежья берлога.
Глубже, чем метро в Москве. Все у них там было — и узел связи для всего восточного фронта, и две электростанции, склады, столовые, госпитали, квартиры для офицеров, солдатские казармы. Строили туннели к Днепру, выход к полевому аэродрому, к железной дороге и к Московско-Минскому шоссе.
Только представь! И такое это было сверхсекретное строительство, что всех, кто был причастен к работам, потом расстреливали, чтоб никакие слухи не просочились. И наших военнопленных, и поляков, и даже самих немецких солдат нижнего звена, кто в этом участвовал, в расход пускали.
Часть всех этих делишек после войны и в перестройку в Германии рассекретили, но не все. Основные материалы остались закрыты. И тут — немец мне говорил — даже не в политике дело.
Штука в том, что какие-то там, помимо прочего, еще шибко таинственные научные лаборатории находились. Нацисты работали над созданием биологического оружия. И там, под землей, у них была сложная, многоуровневая система ходов и коммуникаций с механическими замками, которые открывались и закрывались по хитрой схеме так, чтоб ходы не пересекались между собой.
Немец тот говорил мне, что, мол, имелась у них карта здешних мест, на которой все подземелье было обрисовано. Он ее однажды видел и примерно помнил, что и где искать надо. Но надеялся снова эту карту раздобыть. Не вышло. Тот, кто ему обещал достать ее, погиб в автокатастрофе.
А после тех немцев появились у нас какие-то военные и залили колодец наглухо бетоном — дескать, городские власти их об этом попросили. Хотя вообще-то у наших городских властей не в привычке за строительно-ремонтными работами в войска обращаться. Из всего, о чем рассказывал мой немецкий приятель, на поверхности отыскали только восемь бетонных компрессорных станций для вентиляции воздуха.
Экспертов здесь всяких уйма побывала. Толку, правда, ноль. До сих пор одно их заключение наизусть помню: «Лесная дорожка от Витебского шоссе приводит к бетонному кубу неясного предназначения. Помимо этого, в Красном Бору обнаружено несколько немецких построек: бетонированные укрытия — щели, водопровод с водоразборной колонкой, канализационная система. Обнаруженные коммуникации, глубина их залегания, протяженность и направление свидетельствуют о том, что в данном районе наличие крупных подземных сооружений маловероятно».
Эва как: «Маловероятно!» И весь сказ.
Того следователя, который у меня дело взял, спустя год застрелил наркодилер при задержании. Дело нам из прокуратуры обратно скинули. А на что оно мне теперь? Ни колодца того уже нет, ни карты немецкой, ни свидетелей почти не осталось… Кроме контуженого зэка Коржева.
Следователь Паншин докурил, бросил бычок себе под ноги. И, глядя, как он догорает, сказал:
— Вот так, стажер. А люди продолжают пропадать. Слухи не прекращаются о блуждающем колодце, о подземных тварях… А кто знает, что там за всем этим кроется? Может, и впрямь где-то в заброшенном подземелье какие-то потайные ходы открываются… Только я не Господь Бог. И не мать Тереза. — Разведя руками и понизив голос, признался следователь. — Кому охота эти тайны ворошить? Все, кто за них брался, — на том свете уже. И не своей смертью умерли. В такие дела, вроде этого, соваться — все равно, что в тот колодец блуждающий лезть — хрен его знает, на какую пакость нарвешься.
Так что правды я Коржеву не скажу. Буду брехать напропалую, как все эти годы брехал: мол, следствие ведется, удачно продвигается и все такое. А то еще полезет он сдуру сам… А зачем, какой смысл?
Сына все равно не вернет. Только сам сгинет.
Тухлое это дело, стажер. Понимаешь меня?
Стажер Юра отвел глаза, пожал плечами, кивнул. Следователь угрюмо хмыкнул и растоптал каблуком потухающий под ногами сигаретный бычок.
— То-то.
ЧУНЬКА, СТЕПНАЯ ВЕДЬМА
Астраханская область, г. Астрахань, п. Волжское
Лето. Беззаботные дни, залитые солнцем. Друзья и подружки, восторг от самого себя и беспричинная детская радость, которая уже никогда не вернется.
Память хранит воспоминания о веселом летнем лагере, словно моментальные снимки, вклеенные в огромный фотоальбом.
Но есть среди них такие, которые хочется вырвать, скомкать, сжечь. Уничтожить. Но увы — это невозможно.
* * *
Со стороны можно решить: дети играют.
Они несутся по дорожкам летнего лагеря оживленной стайкой, что-то выкрикивая на ходу, с разгоряченными, радостными лицами.
Только самый искушенный наблюдатель, заметив, кто бежит впереди всех в этой ватаге ребятни, сделал бы правильный вывод. Не играют они, а гонят чужака. Защищают, зверята, территорию охоты и правила стаи. И зубами блестят не от радости.
— Чунька!
— Чунька-колода! — выкрикивала ребятня, подгоняя жертву.
Особенно исступленно действовала самая мелкая в их группе — светленькая, дистрофичного склада шестилетка. Вместо обоих передних резцов у нее во рту зияли два влажных провала, две темные пещерки в обрамлении остреньких, как у котенка, клыков. Детская рожица и взрослая ярость — она напоминала взбесившуюся фею Динь-Динь.
— Катька, зараза, стой! Куда? — кричала ей высокая тонконогая блондинка с надменным лицом — 13-летняя старшая сестра ее, Маша Зварова. — Стой, я сказала!
Но тощая малютка не слушала. Она с упоением неслась впереди всех, высоко вскидывая расцарапанные голенастые коленки, выкрикивая звонким осиным голоском, словно и впрямь жало всаживая в жертву:
— Чунька! Чунька-колода! Трусы обоссала!
Катька задыхалась от восторга, и ее маленькое злое сердечко трепетало в груди, словно крылья воробушка на ветру.
* * *
Это была ужасная ошибка — пытаться им понравиться. Собственную природу не одолеть. «Выше головы не прыгнешь», — твердила ей когда-то бабушка.
Ведь ясно же: они слишком разные — она и эти дети.
Она надеялась, что, если подстраиваться под все их глупости, смеяться, как они, говорить привычными для них словами, совершать те же ошибки — они снизойдут и примут ее в свой круг. Прибиться к кому-то, изображать что-то, чем не являешься, — единственный дар, доставшийся ей от предков.
Но, оказывается, использовать его можно только с одной целью. И никак иначе.
* * *
Придерживая на голове тюрбан из мокрого полотенца, Маша Зварова открыла дверь девчоночьей палаты 3-го отряда. Все были еще на купании, и она никого не встретила в коридоре пустого корпуса.
Поэтому, увидав у своей кровати в углу чью-то сгорбленную фигуру, вздрогнула и отшатнулась. На мгновение ей представилось, что там сидит гигантский, раздутый от крови клещ и, противно перебирая лапками, старается закопаться поглубже в тень, присосаться к ней, спрятаться в чреве мрака. Ахнув, Маша выпустила ручку, и дверь стукнула, закрываясь. Существо испуганно дернулось, выпало из темноты, скукожилось, и… все сразу встало на свои места.
— Ты?! Что ты тут делаешь? — воскликнула Маша, непроизвольно морща носик. Еще неизвестно, кого приятнее было б тут застать — настоящего гигантского клеща или ЭТУ, мелькнула у Маши мысль.
На корточках перед ее кроватью сидела Надя Солдатова. Она повернула голову, смахнула с лица белесые сосульки волос и уставилась на Машу стеклянными глазами.
«До чего ж противно пробор у нее отсвечивает розовым! Как у дешевой китайской куклы. Или у поросенка», — подумала Маша. Голубоватые прожилки на висках Нади Солдатовой то вздувались, то опадали, то мелко подрагивали, и это казалось отвратительным. Но еще хуже чувствовать на лице этот беспокойный, вечно ищущий, липкий взгляд.
Надя была сирота из детского дома. В летний лагерь отдыха она попала случайно, по милости какой-то благотворительной программы депутата из области.
Уже одним этим Надя сильно отличалась от остальных детей в отряде.
— Что ты тут делаешь? — раскручивая и снимая с головы полотенце, спросила Маша.
Надя раскрыла ладонь и, вытянув ее перед собой, показала комочек ваты с прилипшим пластырем телесного цвета.
— Вот. Нашла тут.
На грязноватой ватке темнело бурое пятно — запекшаяся кровь.
«Антон! Ногу на футболе вчера поранил. В медпункте ему пластырь налепили. А вечером он к нам в окно лазил и, наверное, нечаянно содрал», — догадалась Маша.
Ее раздражало тупое внимание, с каким Надя Солдатова разглядывала окровавленную ватку. И чего высматривает, брезгливо поморщилась Маша.
— Нашла — так выбрось! — велела она Наде. — Что расселась тут?! Напугала меня.
Надя взглянула на Машу исподлобья.
— А я для приворота возьму. Тут ведь кровь. У меня бабушка ведьма была. Всему меня научила. Я знаю, тебе Антон нравится. Хочешь, сделаю приворот на крови — и станет этот Антон бегать за тобой, как собачонка? А? Хочешь? — налепливая слово на слово, будто куличики из мокрого песка, пролепетала Надя. Голос у нее был слишком детский для ее возраста. Всякому, кто с ней разговаривал, казалось, будто она нарочно сюсюкает, поддразнивая собеседника.
— Приворот?! — воскликнула Маша. — Что это за чушь? Я в привороты не верю!
— А! — сказала Надя и склонила голову набок так низко, что правое ухо почти коснулось плеча. — Ну, тогда я себе его заберу.
— Что заберешь?
— Антона, — не моргнув глазом, ответила Надя.
— У тебя что, крыша поехала?
— А то чего он за тобой бегать будет? — как бы рассуждая сама с собой, сказала Надя. — Пусть за мной бегает. Правильно? Раз он тебе не нужен, — повертев в пальцах окровавленную ватку, добавила она. — Или нужен? А? Ты только попроси.
— Дура! — сказала Маша. Внутри у нее все кипело, но она еще старалась сохранять спокойствие. Задерживала дыхание, как опытный пловец, чтобы не нырнуть, не захлебнуться в солено-горькой волне ненависти. — Никакая ты не ведьма. Просто дура.
— Да? — сказала Надя. — А я столько про всех всего знаю. Вот, например, кое-кто Антону глазки строил… А потом с Максом… в раздевалке…
— Так ты еще и шпионишь?!
Маша покраснела, уперла руки в бока — и себя поддержать, и занять как-то эти руки, а то они уже сильно зачесались…
— Только попробуй про меня сплетни распускать!
Надя отвернулась со скучающим видом.
— Я тебя предупреждаю. Смотри! Если что, я тебе…
Не удержавшись, Маша шагнула вперед.
Вскинув голову, Надя бросила на соперницу один жгучий взгляд — и сделала такое испуганное и жалкое, плачущее лицо, что Маша тут же отступила, шарахнулась назад, к двери.
Новоявленная «ведьма» вскочила, зажав свою находку в кулаке, улыбнулась и вприпрыжку, как маленькая, поскакала на улицу.
Маша осталась одна. Щеки у нее горели от злости и стыда. До сих пор ей ни разу не приходилось так остро чувствовать свое бессилие. И из-за кого? Из-за ЭТОЙ?!
— Гадина. Ведьма! — пробормотала Маша.
Вспомнив, как уверенно Надя говорила о привороте, Маша содрогнулась. «Привороты? Ведьмы? Чушь! Бред. Ерунда это все!» — сердилась она.
Но что-то шевельнулось в ее душе темное и малопонятное, бесформенное, словно червяк, засыпанный землей.
* * *
Какими же смешными они выглядели, когда, собравшись вместе после отбоя, пытались запугать друг друга своими детскими байками! Жаль, она не сразу догадалась, зачем они это делают. А ведь все было шито белыми нитками, выставлено грубо и напоказ, как прыщи на сальной физиономии. Она-то считала их чистыми, не способными на притворство. Но, оказывается, люди такие же обманщики, как и она сама. Только их вранье прячется куда глубже, чем ее.
* * *
Узнав случайно, что вожатых вечером вызывают на большое совещание к начальнику лагеря, компания из третьего отряда договорилась собраться в незапертой душевой, чтобы рассказывать страшилки. К ним прибилась и Катька-заноза, сестра Маши. Она всегда вертелась рядом со старшими и при всякой возможности сбегала из своего отряда к сестре.
Устроились прямо на сухом кафельном полу, рассевшись кружком вокруг зажженной свечи в стеклянной банке. От крохотного, пляшущего по лицам огонька тьма в углах выглядела и гуще, и мрачнее. Черные тени состарили лица и, казалось, не 12-, а 120-летние собрались тут в круг, чтобы поворожить.
Первым вызвался Сашок — мелкий курносый крепыш с быстрыми мышиными глазками. Свою историю он наверняка где-то вычитал, потому что не мялся и не сбивался, рассказывая хрипловатым театральным шепотом:
— Раз в году, в самую середину лета, из Сальских степей начинает дуть суховей. Старики говорят: это черти преисподнюю проветривают, поэтому воздух паленым воняет. Такой ветер называется «чамра», «рваная шапка». Ветер-убийца. Он настолько горячий, что люди от него задыхаются, сознание теряют, а то и умирают, кто послабей.
Но в високосный год, когда этот ветер больше всего смертей наметает, случается чудо: в самую жаркую ночь, ровно в двенадцать, все вдруг стихнет, и при полном безветрии на башнях Астраханского кремля поворачиваются флюгера — сами по себе. Скрип-скрип-скрип… И на кого они укажут своими стрелочками, того в этот год… ЧЕРТИ УНЕСУТ!!!
Выкрикнув последнюю фразу, Сашок схватил Жанку Семенкову, сидящую рядом с ним, за коленку — она заорала от неожиданности, переполошив всех: Катька взвизгнула, вскрикнули, не удержавшись, Маша, Талгат, Вадим и Оля Пономарева. Даже Антон дернулся, но тут же заругался на Сашка злым баском:
— Придурок! Хочешь, чтоб весь лагерь сюда сбежался? Дебил! Чтоб тебя самого черти унесли!
— А что я-то? — пожимая плечами, забубнил Сашок.
Антон показал ему кулак, чтоб тот заткнулся, и прикрикнул на остальных:
— А ну ша всем!
Посмеиваясь и поругивая шепотом Сашка, все постепенно угомонились — только сердитое Катькино сопение нарушало тишину.
— Мне один парень рассказывал, Жаныш его зовут — он в этом году не приехал, а так вообще каждый год на первую смену в лагере торчит, — понизив голос, заговорил Талгат. — В общем, ему пацаны сказали, что в абрикосовом саду, который у нас за территорией, живет ведьма. В норе, под землей. Прислуживают ей карлики — маленькие, кривоногие и такие волосатые, что их от собаки в темноте не отличишь. Если им попадешься — или со страху помрешь, или голову отгрызут, у них зубы как у крыс.
Кто-то фыркнул и обидно засмеялся. Талгат лицемерно вздохнул, опустив глаза.
— Да-да! Вот Жаныш тоже посмеялся. А потом его приятель уговорил пойти и проверить это дело. И, короче, в тихий час они выбрались за территорию, пока вожатые спали. Ну и пошли. Хотели заодно абрикосов набрать. Шли, шли… Пришли в сад, идут, смотрят, где абрикосов погуще. И вдруг попалась им нора в земле. Они подошли, заглянули… А там кто-то внизу топором машет. Мелкий, горбатый. Услышал их, обернулся… И зарычал, как собака!
— Так, может, то и была собака? — спросил Вадик.
— С топором-то?! — воскликнул Талгат и покрутил пальцем у виска. — Короче, они как увидели это — ноги в руки и тикать, только пятки сверкают. С тех пор никто из пацанов туда не ходит. Поганое место.
— Вай-вай-вай! — передразнил Талгата Антон, и все засмеялись. И Маша тоже. Антон как бы невзначай положил руку ей на плечо, и она не оттолкнула его и не отодвинулась.
— Э-э! Тихо всем! — напомнил Сашок. — Давай, Вадик, твой черед.
— А я че? Я ниче такого не знаю. Слышал, где-то здесь есть змеиная горка — там одни змеи сидят на лысом месте, на солнышке греются. Ни птицы, ни ящерицы, ни собаки туда не суются, — прошептал Вадик.
— Так, а какой идиот туда сунется, раз там одни змеи? — заметил Антон. — Фигня! Давай, кто следующий?
— Мне двоюродный брат рассказывал, — сказала Оля Пономарева, отпихнув в очередной раз руку Талгата, которую тот все приноравливался положить ей на плечо, — что в его деревне жила лет десять назад бабка. Все ужасно ее боялись. А когда она померла, обрадовались, потому что считали, что она ведьма.
Только рано радовались. Родственники бабкин дом продали одной молодой семье. Прожили они там примерно с год — у них ребенок умер. Муж запил и как-то по пьяному делу жену зарезал. Его посадили. Дом опять продали. Въехала новая семья — пять человек.
Но тоже они все умерли, один за другим. Дети от болезни какой-то, у отца их сердце не выдержало. А мать последней с горя повесилась. Собрались тогда люди со всего этого села и решили дом ведьмин разобрать, чтоб никто там больше не жил.
Пригнали трактор, сломали стены, а как пол подняли, оказалось, что дом стоял на четырех детских гробах — по гробу на каждый угол.
Катька пискнула и полезла к сестре на руки, отпихивая от Маши Антона. У Маши, однако, были другие планы, и она Катьку на коленки к себе не пустила.
— Эй, отвали! Сиди где сидела.
Катька разозлилась, отползла в сторону и забилась в угол — страдать, кидая сердитые обиженные взгляды на сестру.
А из мрака раздался голос:
— Когда еще мама жива была…
Все вздрогнули. Они и не подозревали о присутствии еще одного, незваного участника сборища — Нади Солдатовой: оказалось, она тоже была здесь, сидела тихо в самом дальнем углу, куда не заглядывало пламя свечи. Она заговорила, ничуть не смущаясь:
— Мама рассказывала мне когда-то… А ей — ее мама. Это давно было, еще до войны. В здешних краях засуха случилась, все голодали. Особенно деревенские, которые победнее, с большими семьями. Хлеба на селе не стало. Старики поумирали. Кто мог, уходили в город на заработки. Чтоб хоть там перебиться, чем можно. Одни мамки с детьми дома оставались. На огородах работать некому, скотину пасти некому. С детьми маленькими тоже некому сидеть. И тогда явилась откуда-то из степи пришлая девочка — на вид обычная, только одежонка рваная, старая. И чумазая очень. Ее из-за этого и прозвали Чунькой.
Сказала Чунька людям в селе, что она сирота, одна на всем свете осталась. Родители у нее умерли, идти ей некуда. Ну, они пожалели ее — взяли в няньки, с чужими детьми сидеть. За работу кормили.
Поначалу все вроде хорошо было. Но только голодно. Никогда эта Чунька у людей досыта не ела — своим отдавали последнее, а ей уж — что придется.
И вот во всех домах, где она в няньках бывала, стали детки пропадать. Говорили сначала, что какая-то старуха-людоедка по дворам шастает, выслеживает, где детишки маленькие есть, и крадет их потом по ночам. Некоторых мамаш заподозрили, что они сами своих младенцев зарезали, чтоб себя и старших детей прокормить.
Но был там в деревне один парень… Пошел он как-то ночью к своей подружке и случайно заметил, что Чунька младенца из хаты выносит. Она думала, никто ее не видит, а он за ней следил как раз. Чунька перекинулась свиньей-веприцей, встала над дитем, ручку надкусила и давай кровь пить.
Парень увидел это — заорал, всю деревню на ноги поднял. А Чунька младенца схватила и бежать. Деревенские за ней кинулись в степь, но догнать не смогли — Чуньки и след простыл. Наткнулись только на какую-то старую трухлявую колоду, а возле нее окровавленные пеленки. И больше ничего.
Так и вернулись несолоно хлебавши по домам. А Чунька-колода встала себе, отряхнулась и дальше по степи побежала. Она ведь не простая ведьма, а оборотень. Когда возле дома ночью что-то шуршит — это Чунька землю носом роет. Ее так просто не увидишь…
— Мааашаааа! — Из угла, где сидела Катька, донеслось тихое подвывание. Никто не откликнулся, не шевельнулся. Все сидели, замерев, прижавшись друг к другу, вслушиваясь в тихий говор Нади Солдатовой. Несговорчивая Оля сама придвинулась ближе к Талгату и повисла у него на плече, схватив за руку.
— А как эту Чуньку можно увидеть? — спросил Сашок.
— Обычному человеку — никак, — ответила Надя. — Вы все целыми днями можете мимо по двору ходить и хоть спотыкаться об нее. А она будет себе лежать на самом видном месте — и никто даже не подумает, что какой-нибудь березовый чурбачок, который под окошком месяц валяется, — веприца-оборотень. Зато ночью она встанет, прокрадется в дом и… Ам!
Тишину взорвал визг и дикое, истеричное рыдание. Свеча потухла. Все вскочили и заметались в темноте, не понимая, кто где и что происходит. Антон быстрее других оказался возле выключателя и, наплевав на конспирацию, зажег свет.
С перепуганными лицами, щурясь после мрака, смотрели они друг на друга: что случилось? А потом Маша увидела: ее маленькая сестренка, зареванная и вся белая, вжалась в стену душевой и, закатив глаза от страху, сползает вниз — вот-вот свалится на пол.
Маша подбежала к ней, схватила за руку. На хилой Катькиной лапке белел большой полукруглый след от укуса человеческих зубов. Розовые шорты, которые были на девочке, потемнели: Катька обмочилась со страху.
А Надя Солдатова стояла рядом и улыбалась своей обычной заторможенной улыбкой.
— Дура! Сука! — выкрикнула Маша. — Это же ты?!..
— Да я пошутила, вы чего? — удивилась Надя.
Дело могло окончиться крупной разборкой, но в коридоре хлопнула входная дверь — вожатые вернулись с совещания у директора.
— Валим! — крикнул Сашок, и все разбежались по палатам.
* * *
— Вот дура! Это ж надо — быть такой дурой! — повторяла Оля Пономарева, пока они вместе с Машей собирали посуду со столов. День выдался тяжелым — третий отряд дежурил по пищеблоку. — И чему их там только учат, в этих детдомах?!
— Учат тому же, чему и нас. Только не воспитывают нормально, — сухо заметила Маша.
— Слушай, надо этой «Чуньке-колоде» отомстить. Как ты думаешь? — спросила Оля, плечом отодвинув с лица мокрую прядь волос. Маша не успела ответить.
— Эй, девчонки! — Хитрая мордочка Талгата высунулась из кухонной подсобки: — Идите, че покажу!
— Чего еще? — возмутилась Оля. — Слушай, Маш, по-моему, мы тут одни вкалываем! А мальчишки вообще балду пинают!
Но любопытство взяло свое.
Когда они увидели то, что лежало на разделочном столике за занавеской в кухне, план действий сложился у них сам собой.
* * *
Тихий час уже начался, а девочки третьего отряда все еще не лежали в своих кроватях.
— Это почему вы тут у меня гуляете? — возмутилась вожатая Флюра Михайловна, увидав девчонок, столпившихся у дверей второй палаты. — Тихий час для всех!
— Мы сейчас, сейчас идем, — загалдели девчонки, продолжая торчать перед дверью.
— Не сейчас, а сейчас же! — скомандовала Флюра и протянула руку к двери.
— Да мы идем уже, идем! — Оля Пономарева попыталась втиснуться и помешать вожатой, но Флюра отодвинула Олю и распахнула дверь палаты:
— А ну-ка, бегом все по койкам!
И сама вошла первая. И оцепенела. А потом раздался дикий вопль, который услышали на другом конце лагеря санитарки в медчасти и, обеспокоенные, переглянулись: показалось или правда?
— Что?! Что это такое?! — Флюра, вытаращив глаза, тыкала указательным пальцем в сторону одной из кроватей.
Там, привалившись спиной к стене, сидело существо с головой свиньи. Кто-то укутал его по горло в белую мантию из простыни, концы которой свисали до самого пола. Тупая ухмылка на морде, окровавленная пасть, провалившиеся пустые глазницы и жирные зеленые мухи, с наслаждением лобызающие бледно-розовую мертвую кожу, — эта картина любого могла напугать, застав врасплох.
Пережив первое мгновение ужаса, Флюра замолчала и с омерзением оглядела отвратительную фигуру. К простыне кто-то прикрепил записку из обычного тетрадочного листка в клеточку: «Чунька-колода!» — было написано там.
Вожатая сорвала простыню, и вся пугающая конструкция развалилась: свиная голова плюхнулась на пол, свернутые тючком матрас и подушка упали и развернулись. К плавающему в комнате сладковатому запаху мяса и крови добавился резкий запах мочи: кто-то щедро вылил немалое ее количество прямо в постель.
К дверям девчоночьей палаты на Флюрины вопли сбежался весь третий отряд. Молча, в изумлении, смотрели ребята на голову мертвой свиньи и окровавленные перепачканные простыни. Многие морщились и зажимали носы и рты.
— Что это все такое? — спросила Флюра, оглянувшись на своих подопечных.
— Это кровать Нади Солдатовой, — невинно округлив глазки, сказала Оля Пономарева.
Флюра спросила с нажимом:
— Кто?!
Никто не ответил. Вожатая стянула губы куриной гузкой и пригрозила:
— Имейте в виду, я приму меры! Сейчас же тут все убрать!
Растолкав тех, кто стоял в проходе, она выскочила из палаты с оскорбленным видом. Маша подошла к Наде Солдатовой, тупо глядящей перед собой, и пихнула ее в плечо:
— Ну, че встала-то, Чунька-колода? — сказала она. — Убирай давай свое дерьмо!
— Давай убирай! — повторила Оля.
Надя шагнула вперед и оглянулась. Среди взглядов, направленных на нее, были шокированные, изумленные, брезгливые, торжествующие, испуганные — но ни одного сочувствующего. Поэтому все разнообразие детских глаз слилось для нее в нечто неопределенно общее, напоминающее фасетчатые глаза насекомых, а выражаемые ими различные эмоции сложились в один, очень простой результат. Она ощутила его как удар.
— Чунька-колода, — услышала она, но не поняла, кто это сказал.
— Чунька-колода. Чунька-колода. Чунька…
Кто-то в толпе детей повторял эти слова, а остальные подхватывали. Тихий хор голосов превратился в гудение, а потом все пространство вокруг заколебалось, сделалось неуютным, настойчиво злым, с каждой минутой наливаясь силой и упругостью, выдавливая Надю из существующей реальности.
— Чунька-колода! — выкрикнул кто-то из мальчишек.
И Надя Солдатова не выдержала — подскочила к распахнутому окну, перемахнула через подоконник, спрыгнула вниз и побежала.
— Беги-беги! Чунька-колода! И не смей возвращаться. Бойкот ей! — вслед убегающей Наде крикнул Талгат. — Правильно?
— Правильно, — кивнула Оля Пономарева.
Всю вину за происшествие свалили на Надю Солдатову. Когда вожатая вернулась, ей объяснили, что странная детдомовская девочка с самого первого дня вела себя как-то… ненормально. Послушные дети убрали палату и тем самым заслужили снисходительное прощение.
А после полдника занялись объявленным бойкотом по-взрослому.
Они отыскивали Надю, где бы та ни пряталась от них, кричали, вспугивали, бросались в нее камнями, заставляя бежать и снова прятаться.
К компании из третьего отряда присоединились ребята из других отрядов и даже малышня — они бегали за Надей, сменяя друг друга, гоняли ее ватагой по всему лагерю, не давая покоя.
Голову мертвой свиньи вернули на кухню — повар собирался готовить из нее холодец на завтра.
* * *
И бабушка, и мама говорили: держись подальше от людей, ты ведь не представляешь, во что они могут превращать друг друга. Люди многое портят, побереги себя. А я не верила. Так всегда: пока не прочувствуешь на собственной шкуре… Но я хотя бы сдалась не сразу.
* * *
На закате группа бойкотирующих раскололась: большинство, утомившись бегать, ушли. Остались только самые упертые, и главная среди них — пигалица Катька.
Тощая малютка была счастлива отплатить большой девочке за издевку, за пережитый позор и вообще за все. За то, что старшие — старше и сильнее.
Маша пыталась, но не смогла остановить сестру и в конце концов махнула рукой, решив: сама угомонится. Устанет же она когда-нибудь? Все устают.
Но в девять вечера, когда третий отряд, закончив дежурство, вернулся в корпус, к Маше подошла вожатая малышей и спросила, улыбаясь:
— Ну и где же наша Катюшка?
Маша пожала плечами. Улыбка вожатой сделалась искусственной, как будто кончики ее губ кто-то смазал клеем.
— Видишь ли, Маша, мы все-таки несем ответственность за твою сестру. Не стоит…
— Она весь вечер по лагерю бегала. Я думала, она уже давно спит! — сказала Маша.
Улыбка вожатой размякла и сползла с лица.
— Кати с самого ужина в отряде не было. Мы думали, она с тобой.
Маша с тревогой оглянулась по сторонам.
— Кто-нибудь видел Катьку? А… ЭТУ? Чуньку? Кто последний ее видел? — спросила она.
Третий отряд затих. Ребята смотрели друг на друга, пожимали плечами и отводили глаза.
— Никто, — ответил Антон.
— Никто не видел, — упавшим голосом повторила Маша.
* * *
Взрослые организовали поиски, подключив к делу два старших отряда, всех вожатых и весь персонал. Маша так рыдала, что ее хотели оставить в медчасти, но не уговорили. Она тоже пошла на поиски. Антон держал ее за руку.
Вооружившись фонариками, обыскали всю территорию лагеря, разбив на участки, методично просмотрели каждый уголок: глухую аллейку за пищеблоком, домики персонала, старую танцплощадку, стадион, место построений, открытый бассейн, туалеты, корпуса, веранды, библиотеку и клуб. Никаких следов. Обе девочки — и Катя, и Надя — словно сквозь землю провалились.
Посовещавшись, взрослые решили продолжить поиски за территорией. Начальник лагеря ушел звонить в город, вызывать милицию.
Остальные, выйдя за ворота и растянувшись цепью на длину вытянутой друг от друга руки, побрели в степь.
Тонкий лунный серпик, запрокинутый рожками вверх, уже взошел, почти прозрачный на светло-зеленой полоске неба у горизонта, и становился ярче, взбираясь все выше в глубокую синеву зенита. Пахло выгоревшей на солнце полынью. Слабый ветерок еле шевелил сухую, уже перестоявшую, траву.
Цикады примолкли, только мелкие злые мошки-кровососы вились вокруг, с тонким писком и остервенением набрасываясь на потные человеческие тела.
Люди шли, бессмысленно втыкая лучи фонариков в глухую стену мрака, надвигающуюся на них из степи. Чем дальше отходили от лагеря — тем темнее и безбрежнее разливалось море тьмы. Степь враждебно молчала в ответ на вторжение людей.
И вдруг кто-то из бредущих в шеренге споткнулся и, громко выругавшись, уронил фонарик. Его соседи подошли помочь товарищу — и сразу крики умножились. К месту происшествия сбежались все.
Маша и Антон оказались в ряду первых. Никто не догадался их остановить, потому что никто не понял сразу, что там лежит, на истоптанной, примятой траве.
В лучах фонариков мелькали черные лужи и пятна — это была кровь. Разбросанные, раздавленные, втоптанные в пыль куски — это были части человеческого тела. Опознать по ним внешность было бы невозможно, потому что такие фрагменты у всякого находятся только внутри, но в самой середине месива валялся ярко-розовый детский сандалик — один из тех, что с утра были надеты на Катьку.
А чуть подальше над останками детского трупа топталось и чавкало существо, увидеть которое второй раз не довелось, по счастью, никому из свидетелей трагедии.
Напуганным людям оно показалось огромным.
Черная волосатая морда напоминала рыло свиньи. Из раззявленной, в пене, пасти выступали далеко вперед загнутые кверху окровавленные клыки. Существо взбивало землю крепкими острыми, как у вепря, копытами. Но руки у монстра были человеческие. Более того — детские. Они висели по бокам могучего туловища и слабо шевелились, обирая пальчиками с языка пучки светлых Катькиных волос.
Чудовище отплевывалось, разбрызгивая по сторонам пену из раскрытой пасти.
При виде людей существо с неудовольствием проблеяло тонким детским голоском: «А, нашли?»
Повернулось и, быстро топоча, со скоростью, невероятной для такого массивного тела, унеслось и сгинуло во мраке.
* * *
Все документы, с которыми Надя Солдатова приехала будто бы из детского дома, оказались фальшивыми. Это обстоятельство бросало ненужную тень на благотворительную деятельность персоны, облеченной властью, и отчасти поэтому исчезновение этой девочки не расследовали по-настоящему. Дело замяли.
Смерть Кати Зваровой отнесли к категории несчастных случаев на природе, связанных с дикими животными.
С какими именно — никто не уточнял.
Маша, ее сестра, долго лечилась в психиатрической клинике и больше двух лет проходила реабилитацию.
Те, кого эта трагедия коснулась наиболее близко, не желали вспоминать о ней и не старались дотошно восстановить детали, справедливо полагая, что некоторые вещи надежнее оставлять в темноте, чтобы не подвергать опасности свой разум.
ГРИБНАЯ ПОЛЯНА
Новгородская область
В 2006-м случился в деревне грибной год. Дело хорошее. Только, отправляясь в лес за добычей, не стоит кое-какие приметы и правила забывать. Лесные хозяева… кто бы они ни были, беспорядка не терпят.
* * *
Все соседи Пашки Зимина и его супруги — рыхлой, астматичной и всегда бледной до зелени почтарки Алены — таскали из лесу грибы — и корзинами, и ведрами.
Павел на соседскую добычу не заглядывался — чинил свой вечно ломающийся старый «москвич», косил траву для коз на зиму, вечерами ходил на рыбалку. А вот Алена завистливыми глазами провожала каждый красноголовик, белый, подберезовик. Будто соседи не из лесу, а из собственных Алениных закромов таскали.
— Паш, сходил бы тоже в лес! — зудела она мужу. — Вон, Ленка-медичка вчера с сыном три ведра привезли с Матрешкиного бора. Всю лавку соленьями заставили, накрутили на две зимы. И печка у них сушеными белыми увешана, видала я.
— Не переживай, — отнекивался Павел. — У меня в здешних лесах своя заначка. Такую грибную поляну знаю, заветную — никто, кроме меня, не отыщет.
Но все-таки, чтобы жену успокоить, собрался на другой день в лес.
* * *
Из дому Павел вышел, когда солнце уже красными каймами облака украсило, выстилая себе дорожку на небо. Низины за деревней залил туман, синеватый, словно жиденькое молоко. Зимин шел по дороге, не таясь, вовсю стуча сапогами, но звуки шагов таяли, растворялись во влажном воздухе.
Мертвая тишина стояла вокруг — будто какие-то великаны обернули ватой всю деревню.
За околицей свернул грибник к бору, по просеке вдоль ЛЭП направился к мосту через ручей.
Среди деревьев туман лазал темными, сизыми клочьями: то приступит ближе, то утянется в глубину, как многоглавая змея в гнездо.
Шел Павел и рассуждал сам с собой: интересно же знать, откуда в нынешний год столько грибов повылезло? Ведь сушь все лето стоит. Из-за жары даже и река обмелела.
Может быть, туманы грибницу поят? Сырости в них много. Вот и прут грибы из этих сизых туманов…
Слева от дороги оглушительно треснула ветка. Оглянулся Зимин — никого. Туман. В его влажной мути любое дерево призраком кажется. Скорей бы уж солнце встало, думает Павел, а то не заплутать бы в таком киселе.
Спустился он по овражку вниз, перешел ручей, потом поднялся на взгорочек, через бывшее колхозное поле свернул на развилку — а там уж недалеко и заветный лесок с грибной поляной.
И вдруг по левую руку зашуршала листва. Шагает кто-то по лесу совсем рядом с тропинкой.
Досада взяла Павла: вот ведь дотошный народ! Сейчас догонит, поздоровается, расспрашивать начнет, навяжется в попутчики, а на что оно надо? Заветную грибную поляну показывать и секретами делиться Павел не намеревался вовсе.
Вот и поступил Зимин не по-людски: нагнулся, будто из сапога камень вытряхивает, сделал вид, что не видит и не слышит незнакомца.
Человек подошел, поздоровался, что-то буркнул — Зимин не отозвался, даже головы не поднял. Искоса глянув, приметил только, что на прохожем что-то темное и лохматое, вроде длинной меховой жилетки, надето.
Неприветливо обошелся Павел с незнакомцем. Тот хмыкнул и прошел себе стороной.
Павел послушал, как замирают вдалеке его шаги.
И, убедившись, что остался в лесу один, побежал дальше по известной ему тропинке.
Шагал как заведенный, будто ноги сами его несли. Даже странно. Но добрался без приключений. И как вышел на место — обо всем на свете позабыл. Грибов на заветной поляне оказалось видимо-невидимо: белые грузди, рыжики, волнушки. Успевай нагибаться и шляпки срезать! Только Павел один круг грибов нарежет, разогнется — а в шаге от него еще один круг, хоть и не вставай.
Под конец и вовсе Зимин на коленках ползать начал, как младенец, чтоб сил не тратить. Лазил так два часа и полную десятилитровую корзину грибов нарезал, а они все не кончаются. Да какие отборные еще грибы! Ровно игрушечка — крепенькие, упругие, ни одного червячка. Опомнился, когда корзину в руки взял и от земли оторвал — пудовая. Донести бы теперь до дому все это богатство.
* * *
День выдался хмурый. К полудню дождик начал накрапывать. Выбрался Павел на знакомую тропу и домой отправился. Идет медленно, корзина тяжелая правую руку оттягивает.
Вот, наконец, и развилка, вот поле бывшее колхозное, взгорочек, за ним овражек, в котором ручей всегда шумит…
Подходит Павел ближе к овражку, а ручья не слышно. Спустился вниз — глядит: и вправду, нету никакого ручья!
Овражек тот же, какой и был, ельником поросший, буреломом заваленный, а ручья на дне его никакого нету.
«Неужели промахнулся?» — думает Зимин.
Мог бы, наверно, и промахнуться: молодые елки все на одно лицо. Случайно глаза подвели — вот и завернул в какой-то другой овражек. Хотя и чудно — ведь здешние места Зимину лучше всех известны.
Выкарабкался Павел из оврага со своей ношей — глядит: а поле колхозное пропало. На его месте березовая рощица. Не могло ж поле так зарасти, пока Павел за грибами ходил?!
Идет Зимин вдоль лесочка, пытается сообразить, куда его занесло. А корзина на локте руку давит, да еще раскачивается — синяки натерла.
Вокруг тишина, только дождь по листьям шуршит, и березы стволами скрипят. Жутко: совсем чужой лес. Понял Павел, что заблудился.
Решил вернуться обратно на знакомую грибную поляну, чтобы оттуда по новой дорогу домой искать.
Прошел краем наискосок, вернулся к овражку, а там вместо молодых елок и бурелома — зеленая ряска на дне и черная вода: болото.
Что за наваждение? Единственное болото в здешних местах — за пятнадцать километров отсюда. То ли с ума схожу, думает Зимин, то ли нечисть голову морочит.
И вдруг аукнул кто-то неподалеку.
— Эй! Я здесь! — отозвался Зимин. Обрадовался и рванул на голос. Не разобрал еще — женский или мужской.
«Ну, кто бы ни был — главное, человек. Вместе и дорогу найдем!» — соображает Павел. И руки болят, и ноги гудят, запыхался с тяжелой корзиной, но торопится, лезет через буераки, чтобы человека в лесу не упустить, не потерять.
— Люди! Эй! Ау! — зовет Павел изо всех сил.
В ответ слышит какое-то бормотание — слов не разобрать, но вроде бы все ближе оно и ближе.
А уже похолодало. Солнце последним красным гребешком дальний ельник по макушкам поглаживает. Со всех ямочек, заимочек прелью, гнилью и сыростью потянуло.
Вышел Павел на какую-то поляну, еловые ветки раздвинул и видит — черная тень горбится между деревьями. Подошел ближе — а это гриб. Огромный, вполовину человеческого роста. А все тот же голос бормочет:
— Срезай, чего стоишь?
Вздрогнул Павел, оглянулся по сторонам — никого.
А голос не унимается:
— Что стоишь, дуралей? Режь скорее! Пока другие не подошли.
И ворчит, словно птица клекочет.
Замер Павел. Стоит и таращится в сумрак, а руки будто сами по себе — корзину поставили, и в карман — за ножом.
— Режь, режь! Торопись! А то отнимут!
Кто отнимет, что отнимет и на что такой огромный гриб человеку с полной корзиной груздей и рыжиков — ничего не понимает Павел. Туман в голове, в ногах слабость. Качнулся вперед и ножом по грибу чиркнул. Свалилась грибная шляпка — размером с добрый таз — а из ножки гриба кровь хлестнула, прямо Павлу по глазам.
— Зверь ты, душегуб! — хрипит голос. — Что натворил?
— Я не хотел! — взвизгнул Павел. Отшатнулся, бросился в сторону, а ему дорогу заступают. Какой-то черноволосый мужик в меховой темной безрукавке — бледный, синюшный, с перерезанным горлом, стоит перед ним, улыбается.
— Грибочки-то свои забыл? Поди, забери!
И указывает Павлу на его корзину забытую. Валяется она на боку, и грибы из нее повысыпались.
Кинулся Павел — а там и не грибы вовсе, а уши человеческие! Розовые, окровавленные, большие и маленькие.
— Ох и грибочков ты набрал, Павлуша! Отменные грибочки! Ни у кого таких нет! — Разинул мужик черную пасть и хохочет, заливается. А у самого во рту вместо языка еловая ветка торчит.
Развернулся Павел и побежал, не глядя — куда кривая вывезет.
По пригоркам скакал, как одуревший козел, где-то в крапиву свалился, где-то по пояс в воду влез — не помнил, как выбрался потом на твердое место. И снова — бежать, бежать!
Сердце колотится, кровь в висках стучит, но остановиться Павел не смеет: все кажется — догонят его, вот-вот схватят. Запыхался, уже и ноги его не держат — но идет и идет. Страшно!
Плутал, себя не помня, по лесу несколько часов.
Пока наконец резкий свет из темноты не ударил его по глазам и не ослепил.
Тогда встал Павел как вкопанный. И услышал, как засвистели тормоза.
Оказалось: блуждая неизвестно где по чащобам, выбежал он прямо на шоссе возле деревни. Счастье еще, что водитель на стареньких «жигулях» не быстро ехал — успел затормозить. Обозленный, выскочил из машины — с кулаками на Зимина набросился. Но, приглядевшись, бить не стал.
Уж больно безмятежно улыбался ему Зимин, стоя на дороге в свете фар — грязный, вымокший, а глаза бессмысленные и радостные, как у младенца. Тому, кто его чуть не раздавил, обрадовался, как родному!
Увидал шофер, в каком человек странном состоянии, — поворчал, плюнул и уехал себе.
А Павел Зимин домой вернулся — усталый, перепуганный, с трясущимися руками. Жена Алена встретила его вся в слезах.
— Куда ж ты делся?! Где пропадал?!
Павел даже и не знал, что жене на такой вопрос ответить. Кто его знает? Он и половины того, что с ним было, не запомнил.
Только одно на всю оставшуюся жизнь уразумел: встретив в лесу другого человека — не груби! Тем более — из жадности.
Потому что это, может быть, и не человек вовсе, а дух лесной — Леший.
ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ
Костромская область
Больше четырех часов шоссе упрямым конвейером бежало под колеса Женькиного автомобиля. Глаза у Женьки слипались. Мучила неодолимая зевота и желание ненадолго прикорнуть на руле. Хрипло и монотонно пел на высокой ноте гудрон: «Усни, усни, усни…» Но дорога тянулась и тянулась перед глазами серой шершавой лентой. Словно какой-то великан тащил ее из-под машины.
«Хватит! Ну хватит же!» — взывала Женька.
«Ну еще метр… километр… Возьмите еще!» — предлагал великан и все разматывал и разматывал…
«Нет. Режьте!» — приказала Женька.
Великан пожал плечами и, взмахнув ножницами, отрезал. Что-то черное стрельнуло перед глазами.
Женька очнулась: взвизгнула, ударила по тормозам. Машину вынесло на обочину, и там они остановились — Женька, выдернутая из сна, словно рыба из воды и старенький желтый «Опель-Астра» с залитыми свечами. Обоих трясло.
«Отлично! Набралась опыта», — подумала девушка, откинувшись в кресле и сердито глядя перед собой. Стоило ли вообще такую поездку затевать? Россия-матушка ведь. Не Черногория с Нидерландами.
У Женьки и ее друзей имелась давняя мечта — совершить автомобильное путешествие по зарубежью. Чтоб не галопом по Европам, а совсем наоборот — с чувством, с толком. С остановками, где захочется. Где понравится. Единственное, что мешало этой мечте осуществиться, — отсутствие в компании водителя с опытом дальних поездок.
Только по этой причине и решилась она не садиться в поезд, а катить на своей старенькой «Астре», которую издавна прозвала Цыпочкой — за невеликий размер и веселенький желтый цвет кузова.
Если б еще знать заранее, что из этой затеи выйдет!
Сердце трепыхнулось от дурного предчувствия, когда она повернула ключ зажигания. Повернула и… Ничего. Еще раз — и опять ничего. Машина даже не чихнула.
«Ну, Цыпа, миленькая, не подводи!» — взмолилась Женька, постучала по черному пластику рулевой колонки на удачу и повернула ключ в третий раз.
Не помогло. Замок зажигания пошуршал чем-то для приличия, но характерного щелчка не выдал.
Напрасно взбешенная Женька терзала стартер — двигатель молчал. Цыпа с чисто арийским хладнокровием игнорировала Женькины призывы, мольбы и причитания. Ругань ее тоже не проняла.
Вот так. Не хотелось тебе, Женечка, ехать поездом? Пожалуйста — иди теперь пешком.
Женька горько рассмеялась.
Нет, в самом деле… Как теперь быть-то? — подумала Женька и огляделась.
Колеистая трасса шла сквозь море хвойного леса. Вперед — до самого горизонта и позади — столько же: две совершенно одинаковые части дороги лежали, словно бы отражаясь друг в друге.
Глухомань. Настоящий медвежий угол. Здесь нет придорожных кафе, нет заправок, нет автомастерских. Все эти прелести цивилизации далеко. Населенных пунктов тоже ни одного. А сотовая связь?
Женька покопалась в своей дурацкой сумке — огромных размеров кожаный баул а-ля Мэри Поппинс, захламленный и увесистый, вмещающий, как предполагалось, Спасательный-Набор-На-Все-Случаи-Жизни, — и отыскала шнурок от мобильника. Кончик его держался на плаву, высовываясь из-под груды косметики, смятых салфеток, конфетных оберток, чеков, записных книжек, ручек, платков и еще какой-то чепухи. Говорят, альпинистов под обвалами тоже находят по таким вот шнуркам. Шнурки входят в обязательный комплект снаряжения.
Женька вытянула мобильный, повернула экраном к себе… и убедилась, что трубка разряжена.
Ах ты, кукуся-мумуся, растяпа бестолковая! Руки-ноги тебе повыдергать. На здешних колдобинах машину, наверное, так трясло, что телефон в сумке включился… Может быть, он даже звонил куда-то сам по себе последние несколько часов.
Надо было выложить мобильник на сиденье, балда! А теперь — что ж… Прощай, технический прогресс. Женька чуть не взвыла. Все одно к одному!
На помощь мимопроезжающих автолюбителей рассчитывать не стоило. Из того транспорта, что попался ей по дороге, Женька вспомнила только груженный сосновыми бревнами трактор-лесовоз, который она обогнала около часа тому назад. Судя по тому, как неторопливо он трюхал, его водитель вовсе не собирался тянуть лямку ночью. Уже наверняка свернул куда-нибудь и отдыхает дома. А больше никого здесь не было. И нет. И вряд ли будет.
Обессилев от размышлений, Женька уронила голову на руль. Клаксон тут же истерически взвыл прямо в ухо.
Пришлось сесть ровно, чтоб не давить на сигнал. А впрочем… Почему бы и нет? Может, кто-нибудь услышит отдаленный вопль гибнущего собрата по разуму.
Женька сыграла злобный отрывистый SOS на клаксоне, разорвав торжественно-соборную тишину леса. Три длинных, два коротких и снова три длинных.
Или нет — два коротких, три длинных… Или? А, неважно. Какой-нибудь из вариантов правильный.
Но только к чему сажать аккумулятор? Спохватившись, она бросила гудеть и попыталась думать. Хотя что тут думать? Все уже давно выдумано.
Неохота, но придется брать ноги в руки, выбираться из теплой, насиженной машины и на своих двоих, пешкодралом, переться неизвестно куда, неизвестно сколько — в поисках помощи и людей. Какого-нибудь жилья хотя бы. Пристанища на ночь.
Женька вздрогнула и огляделась. Черные ели, обступившие дорогу, действовали на нервы.
Это были очень древние ели, пережившие многих людей, целые поколения. Укутанные бледными клочьями лишая, они стояли мертвой стеной, словно призраки умерших от проказы. Ни звука не доносилось со стороны этого леса. Хоть бы птички какие почирикали, что ли?
И тут Женька заметила на обочине движение — будто тень ближайшего куста выползла на дорогу. Но это была не тень, а живое существо. Кошка.
Она сидела в зарослях папоротника, выставив наружу умную треугольную мордочку, вытаращив круглые желтые глаза. Обыкновенная полосатая типичная домашняя Мурка или Барсик.
— Кис-кис-кис! — позвала Женька автоматически. — Не ты ли мне под колеса бросилась, красавица? А откуда ты тут взялась?
И тут же, сообразив кое-что, развила бурную деятельность: отцепила съемную панель магнитолы, выхватила ключи из замка зажигания, судорожно покидала все в свою объемистую сумку и вместе с ней выскочила из заглохшей машины.
Если здесь домашняя кошка — значит, где-то рядом есть дом. Логично? А то!
Подумав так, Женька подошла ближе. Кошка настороженно, не мигая, следила за приближающимся человеком.
Но не убежала.
— Киса хорошая. Киса умная. Ты же не кусаешься?
Женя протянула руку, чтобы погладить маленькую серо-коричневую голову между широко расставленных треугольных ушей, но кошка зашипела и кинулась в сторону.
— Черт, недотрога какая. Стой!
Кошка остановилась и замерла, глядя на Женю. Словно и впрямь услышала и поняла.
Женька начала втолковывать ей:
— Слушай, ты ведь наверняка у людей живешь? У какой-нибудь бабушки, у которой пенсия крошечная, да? Держит она тебя впроголодь, кормит кое-как. Вот ты и бегаешь по лесу, охотишься. Но живешь-то ты в доме! Вот и отведи меня туда. Отведи к людям. Есть тут какая-нибудь, не знаю… Деревня? У меня машина сломалась. А?
Кошка мигнула. Отвернулась, мягко переступила лапами и тихонько двинулась по дороге.
— Что, идем домой? Ты ведешь меня к дому?
Прижав к груди сумку, Женька зашагала вслед за кошкой.
Зверюга уверенно трусила вперед, задрав недлинный пушистый хвост. Упругие мускулы перекатывались под бархатистой шерсткой.
Женя старалась выдерживать дистанцию, чтобы не смутить пугливое животное. Но и отставать нельзя. Ситуация — глупее не придумаешь. Но что еще делать-то?
Солнце катилось к закату. В лесу быстро темнело. Женька оглянулась. Сгущающиеся сумерки подбирались к дверцам маленькой желтой машины, оставленной на дороге.
Покинутая Цыпа выглядела сиротливо и одиноко.
* * *
Через пятьсот метров кошка свернула влево. Там оказался съезд, незначительное ответвление от трассы. Странно, но, проезжая здесь, Женька не заметила его.
А он был. На покосившихся заржавленных стойках висел дорожный указатель. Название населенного пункта угадывалось в еле читаемой надписи под осыпавшейся краской: Нехорошево. 3 км. Или — восемь?
Асфальт обрывался и уходил в лес малонаезженной грунтовкой. По обеим сторонам ее высились коричневые стожки муравьиных куч. Черные лужи разлеглись по колеям в окружении низкой осоки и хвоща.
«Вот так дорога, — подумала Женька. — И не езжена, и не хожена».
— Эй, а ты уверена, что нам сюда? — окликнула она свою четвероногую проводницу.
Кошка оглянулась, на мгновение замерла с оскорбленным видом. «Что за вопросы?!»
И вновь побежала вперед, деловито подергивая хвостом.
Вздохнув, Женя вступила вслед за нею под полог незнакомой чащобы. Там было уже почти темно. Резко пахнуло грибной сыростью. Писклявый стон донесся откуда-то из глубины леса. Женьке показалось сперва, что это в ушах у нее звенит. Но после первого же укола ахнула — комары! Она и забыла, как оживляются кровососы с наступлением ночи.
Кошка бежала по середине лесной дороги, грациозно помахивая хвостиком. Насекомые не досаждали ей — они не могли пробиться сквозь густой мех.
Женька приняла на себя все атаки комариных орд, привлеченных двумя теплокровными телами. Торопливо шагая позади, она то и дело звучно лупила себя по щекам, по шее, по ушам, с размаху шлепала под коленками. Сдувая комаров с носа и губ, бешено отмахивалась сумкой, но большей частью — беспомощно чертыхалась. Впрочем, и это было небезопасно: несколько предприимчивых мошек влетели ей в рот, после чего Женька стиснула зубы и только мычала ругательства про себя, стараясь не раскрываться врагу.
Лес делался все гуще, деревья все выше, и темнота сбивалась на пути все более плотным комом.
Сколько же они прошли уже?
Ноги Женькины гудят от усталости. Черный рой кровососущей мошкары клубится перед глазами, не позволяя расслабиться ни на минуту.
— Когда мы уже придем?! — жалобно вскрикнула Женька, обращаясь к кошке.
И вдруг слева от тропы что-то щелкнуло. Женя вздрогнула и замерла.
Затаив дыхание, она раздвинула ветви молоденьких елок, растущих вдоль обочины, и посмотрела, откуда доносится звук.
Что это за колья выступают из-под земли? Картинка, представшая Жениным глазам, казалась смутно знакомой, но ни во что осмысленное не складывалась. И только спустя минуту она поняла — могилы!
Последние двадцать минут они шли по кладбищу. Прямо в лесу с обеих сторон дороги торчали оградки и кресты.
Вон там, в канаве, засыпанный прошлогодней хвоей, валяется безвкусный пластиковый венок с полинявшими розами. Рядом — еще один, с грубо выделанными желтыми лилиями и ромашками с перекрученными, искореженными от солнца и дождя лепестками.
Но больше всего Женьку почему-то беспокоили пустые невысокие холмики, укрытые мягкими подушками мха и прелых коричневых иголок — неухоженные могилы заброшенного упокоища, из года в год теряющие атрибуты вечной загробной памяти.
«А куда я вообще иду? — Сомнения спутали Женькины мысли. — Какая-то кошка… Что я вообще тут делаю?»
Она попятилась, намереваясь вернуться на дорогу. И что за дура такая? Разве не проще было подождать на трассе? Рано или поздно проедет же там какой-нибудь дальнобойщик… Надо было иметь терпение — только и всего, досадовала на саму себя Женька.
Но тут под ногами у нее хлюпнуло. Женя опустила взгляд и увидела, как из продавленной моховой подушки сочится и подступает к нарядным городским туфлям вонючая болотная жижа… Охнув, Женька отступила назад, но жижа потянулась за ее ногой, словно живая.
Чудовище. Сгусток тьмы и могильного мрака.
В глубине кладбища что-то шумно вздохнуло и двинулось. Женьке представились влажные пузыри, как они лопаются на черной лакированной поверхности болота. Особого такого болота-монстра. Оно живое.
Все болота как болота — лежат себе и поджидают жертву, а это — ходит по лесу и собирает все, что попадется. Все, что сможет зачерпнуть в свою склизкую смердящую пасть.
Женька задохнулась от ужаса. Запаниковала и пустилась бежать, не разбирая дороги. Где эта чертова кошка?!
Она чуть не наступила на нее, неожиданно вывалившись из тугих еловых лап обратно на пыльную грунтовуху.
Кошка сидела и ждала ее на опушке.
Последние лучи уходящего солнца расстреливали из-за плотных фиолетовых туч маленькую черную зубчатую оградку между небом и полем, высоко на холме.
С великим облегчением в душе Женька догадалась, что это, судя по всему, и есть деревня Нехорошево.
— Недалеко уже дом-то, а? — сказала Женька. Кошка благосклонно мурлыкнула.
Передохнув немного, они двинулись вперед.
Приволакивая от усталости ноги, Женька медленно взбиралась на холм, но деревня, черные силуэты которой она разглядела издали, не приблизилась, казалось, ни на шаг. Разливающийся повсюду после захода солнца мрак поглощал и скрадывал детали.
Когда Женя с кошкой поднялись на холм, деревня снова пропала, укрылась невидимкой в ночной темноте. Словно ее и не было — просто горячий, нагретый за день воздух породил этот печальный мираж.
Дрожа и облизывая пересохшие губы, Женька двигалась, загребая ногами теплую пыль и мелкие камешки на пути.
Кошка, шурша травой, бежала рядом с дорогой.
Женька смотрела вперед, на деревню.
Ее смущало, что не видно ни одного огонька. В сельской местности люди рано ложатся спать, но ведь не настолько же! Может быть, это заброшенная деревня? Очень уж тихо вокруг.
Ни бормотания телевизора, ни бренчания подростковой гитары, ни девичьих смешков, ни плача детей. Словно она все еще идет по кладбищу…
А что, если так и есть? Темнота — хоть глаз выколи, ничего не видно. Женька содрогнулась, зябко передернула плечами.
И тут, наконец, увидела свет — шумный и яркий, трепещущий на ветру, радостно пуляющий в небо праздничные фейерверки искр.
Большой костер.
Он возник среди тьмы так внезапно, что она даже ойкнула от неожиданности.
Наверное, обзор загораживал угол ближайшей избы. И только когда дорога сделала поворот, Женькиным испуганным глазам открылась вся необыкновенная картина. Она напомнила ей иллюстрации из учебника по истории: верования древних славян. Язычники.
Буйное красное пламя огромного костра окружали черные силуэты людей, собравшихся вокруг. Услыхав Женькин вскрик, они обернулись. Там были и мужчины, и женщины. Каждый что-то держал в руке — косу, вилы, топор или просто палку. Лиц не разглядеть. Но Женька чувствовала, что все смотрят на нее в упор. И молчат.
А потом кто-то из них сказал:
— Она пришла.
Резко развернулся, взмахнул вилами…
Женька завизжала и шарахнулась, зажмурив глаза. Но мужчина, оттолкнув Женьку рукой так, что она упала, ударил мимо — что-то влажно и противно чавкнуло совсем рядом.
Распахнув глаза, она увидела, что кошка корчится на земле: вилы одним зубцом пронзили зверю горло. Кровь упругой струей брызжет на траву вокруг, на Женькину грудь, а кошка беззвучно открывает и закрывает пасть, пристукивая острыми маленькими клыками, дрожа челюстью.
Словно все еще надеется освободиться от железа, пригвоздившего ее к земле. Или безмолвно проклинает своего убийцу.
— Это точно она? — спросил кто-то.
Обалдевшая Женька подняла глаза: седовласый мужчина, оттолкнувший ее и убивший кошку, стоял рядом и глядел на мучения издыхающего зверя, кусая губы.
— Да, — хрипло сказал он. И, помолчав, добавил: — На всякий случай проверим.
И впервые глянул в глаза Женьке — долгим и тягучим взглядом. Женьку от него словно приморозило.
И она не заметила, как к ней подошли сзади и крепко скрутили руки.
— Вниз ее, — сказал седой и отвернулся.
— Подождите! — крикнула Женька. — Вы что?! У меня машина сломалась… Я тут случайно! Я…
Ее больно толкнули в спину и повели куда-то в темноту. Женька пыталась сопротивляться, но каждая попытка обходилась дорого: неизвестно, что за люди схватили ее, но было понятно, что церемониться они не любят.
— Это похищение? Имейте в виду — меня уже ищут. Вам с рук не сойдет! — грозилась Женька, спотыкаясь и жалобно всхлипывая. — Я полицию вызову!
— А то как же, — ответили ей. Что-то громко скрипнуло впереди. Новый тычок в спину — и она полетела во мрак, в какую-то глубокую яму. Упав, больно стукнулась головой, а потом…
А потом ничего не было.
* * *
Очнулась она от громкого стука.
Почувствовала свет, но не сумела сразу открыть глаза.
И запаниковала: показалось, что кто-то зашил ей веки.
Женька заплакала и завыла от ужаса. Как ни странно, это помогло. Слезы растворили запекшуюся корку на глазах. Падая накануне, Женька рассекла кожу над бровями, и веки склеились от натекшей крови.
Проревевшись и протерев глаза, она разглядела, что сидит в каком-то тесном темном помещении с очень низким потолком, прямо на земле. Рядом валяется сумка. А впереди виднеется деревянная лесенка, которая ведет к квадратному отверстию в потолке. Оно открыто, и оттуда льется тусклый дневной свет.
Схватив сумку, Женька кинулась к лестнице. Преодолев пять невысоких ступенек, вытянула шею и приподнялась, выглядывая. Вдруг наверху ее уже поджидают те люди, что похитили ее? Что там вообще?
Наверху была комната — стены с отставшими по углам обоями, кривоногий стол, кухонный шкаф с небольшим количеством разнокалиберной посуды и какой-то длинный деревянный ящик, перегораживающий собой половину помещения. Все выглядело запущенным и убогим, и пахло кисловатой гнильцой и плесенью, как в жилище у бомжей.
Слева — коричневая дверь, справа — черное жерло большой русской печи. Увидев ее, Женька поняла, что она, скорее всего, все в той же деревне, куда привела ее кошка.
Вспомнив об участи четвероногой провожатой, девушка собралась с силами и кинулась к двери. Но та оказалась заперта.
Женька заметалась в поисках другого выхода. В комнате было два окна. Узковаты, но, раз уж дверь на замке, придется рискнуть.
Женька кинулась к окнам, но споткнулась о деревянный ящик, неизвестно для чего поставленный посреди комнаты. От удара крышка на нем сдвинулась и упала.
Внутри лежала уродливая голая старуха с разорванным горлом. Женька закусила кулак и чуть не задохнулась от ужаса, увидав застывшие стеклянные глаза, которыми покойница пялилась в потолок.
— Это… Неправильно. Вы не закрыли ей глаза, — прошептала Женька, пятясь в сторону от ящика, который оказался гробом. Почему никто не закрыл глаза этой мертвой старухе? Почему она лежит голая, перепачканная в крови? Кто убил ее?
Целая лавина ужасных мыслей хлынула в голову Женьке. Тошнота подкатила к горлу, в глазах потемнело. Ощутив внезапную слабость в ногах, девушка была вынуждена схватиться руками за подоконник. Только б не потерять сознание. Не утратить контроля над собой. Чтобы не упасть тут. Рядом с мертвой и ее гробом. Не хватало еще очутиться в таком же положении и виде…
И тут она почувствовала на себе чей-то взгляд. Повернула голову и увидела сквозь мутное, давно не мытое стекло небритое сизое лицо какого-то мужчины.
Он что-то мычал и колотил костяшками пальцев по деревянной раме, подзывая Женьку. Она наклонилась, пытаясь разобрать, что он ей говорит, но в ушах у нее зашумело, перед глазами стеной поднялась темнота, и — Женька ничего не смогла с ней поделать — темнота подхватила ее, сдавила руки и ноги и понесла куда-то.
Последнее, что услышала Женька, — стук двери и тяжелые шаги того, кто вошел в комнату.
* * *
Второе пробуждение состоялось на пять часов позже первого. Почувствовав, как затекло плечо, Женька попыталась выпрямиться, но сильно стукнулась обо что-то лбом.
Зашипела от боли, подняла голову и открыла глаза.
Оказывается, она спала за рулем собственной машины. Любимая сумка-выручайка, со Всем-Необходимым-На-Все-Случаи-Жизни, валялась на сиденье рядом. Ключ торчал в зажигании.
— Вот это номер, — сказала сама себе Женька и огляделась. Она не очень хорошо помнила место, где бросила заглохшую Цыпу, — и лес, и дорога на многие километры выглядят здесь одинаково. Никаких особых примет не имеется. И все-таки ей показалось, что место было другое. — Приснилось мне все, что ли? — пробормотала Женька и для проверки повернула ключ зажигания в замке. На приборной доске мигнул значок разряженного аккумулятора, но сразу погас: Цыпа завелась. Заурчал мотор.
— Не может быть. Я ведь не спала! Я же все помню. Кошка… Деревня Нехорошево… Люди у костра… Седой мерзавец с вилами… Старуха в гробу…
Наклонив чуть-чуть зеркало водительского обзора, Женька взглянула на свое отражение. Тревожный взгляд, в обоих глазах — красные лопнувшие сосуды. Крови на лице нет, но на лбу — сильная рваная ссадина, уже подживающая.
— Значит, все-таки не приснилось, — решила Женька.
Как ни странно, эта мысль ее обрадовала. Инстинкт подсказывал: лучше принять теперь самую горькую и страшную реальность, чем поверить утешающей выдумке. А потом, спустя годы, сделаться из-за нее пациенткой психушки.
— Некрасивая правда лучше, чем прекрасная ложь, — сказала Женька сама себе. — Итак, в какую сторону едем?
Разговоры с безмолвной Цыпой всегда утешали ее. Мотор бодро и позитивно пофыркивал, работая исправно. Женька выжала сцепление и прибавила газу. Цыпа тронулась с места ровно, без рывков, и покатила вперед по той же дороге.
* * *
Сомнения насчет точности своих воспоминаний Женьке удалось развеять только там, куда она ехала, — в доме у своей двоюродной тетки. Оказалось, вся здешняя родня уже стоит на ушах из-за этой ее поездки: Женькина мама позвонила из Москвы и предупредила, что дочка выехала на машине. Ее ждали вчера вечером, а она приехала только сегодня.
«Где пропадала целый день?» — в ответ на этот вопрос Женька, смущаясь и сбиваясь, поведала свою невразумительную историю. Она ведь не была уверена, что все это случилось с ней на самом деле.
Ее слушали, распахнув глаза и рты.
А потом двоюродный брат, здоровенный плечистый бугай по имени Гриша, который работал водителем на скорой помощи и которого она помнила по детским играм как незлого, но не богатого мозгами мальчишку, рассказал, что две недели назад он и сам побывал в Нехорошеве.
Помимо него и врача скорой, там же побывала и вся районная милиция. В крохотной, позабытой и позаброшенной деревне посреди глухого леса обнаружилось страшное, невиданное зло: некая сумасшедшая старуха убила одного за другим восьмерых обитателей Нехорошева.
Это были последние жители деревни: семья из пяти человек (отец, мать и трое детей), пожилой сосед со взрослой дочерью, женщиной средних лет. И какая-то безобидная старуха-вековуха, уже почти не выходящая из своего дома.
Сумасшедшая зарубила их топором и трупы зарыла у себя в подполе. Но самое поразительное: когда ее уличили в преступлении, она скрылась от правосудия.
— Так ее и не нашли. Хитрая бестия. В лес убежала прятаться. А у нас тут и волки водятся, между прочим. Видать, их она не боится? — пожимая плечами, удивлялся Гриша. И добавил раздумчиво: — И на кой она это сделала? Но этих ненормальных кто разберет. Люди трепали, что она ведьма. Приехала неизвестно откуда и всех изводила своими пакостями. И колдовством. Внешность менять умела — в кошку обращалась. А у кошки, известное дело, — девять жизней. Вот и попробуй совладай с такой паскудой.
Женька глянула на невозмутимое лицо двоюродного брата — и ее проняла дрожь.
— Девять жизней? Действительно, бестия, — прошептала Женька. Только теперь ей пришло в голову, что, благодаря какому-то фантастическому везению, она, судя по всему, избежала ужасной участи.
Неизвестно, кто были те люди, которых она повидала ночью в Нехорошеве, но кошка… Эта зверюга не случайно появилась на ее пути. И не просто так она вела Женьку в мертвую деревню.
Наверное, рассчитывала выдать ее за себя, но этот обман не удался. На девятой жертве кончилось ведьмино везение.
ХОЗЯИН
г. Калязин, г. Коломна, г. Ростов-на-Дону, г. Калининград, г. Невьянск
Сырой августовский день медленно наливался хмуростью, пока, наконец, к шести часам не разразился неожиданной грозой и ливнем. Мы уже не искали трофеев — за время блуждания по окрестным лесам ни разу не повезло нам услышать даже шороха крыльев; видать, рябчики, как птицы вполне осторожные, в отличие от нас, заранее почуяли приближение ненастья и попрятались в захламленных хворостом оврагах под ельником.
Пара крохотных вальдшнепов, которых удалось подстрелить мне и Даниле Павлову, никак не могли оправдать наших вчетвером многочасовых блужданий в тот день. А под конец и вовсе угораздило: вместо того чтобы выйти к главной базе охотхозяйства, мы забрели на окраину болота и, пытаясь обойти его, заблудились.
И, как назло, оказались вне зоны досягаемости: ни один телефон не ловил, и GPS-навигатор, потеряв спутник, так и не смог отыскать его снова. Наверное, из-за сырости иностранная техника отказала.
Дождь хлестал как из ведра, ноги оскальзывались на мокром мху, утопая в напитанной влагой почве, и вдобавок ко всему в лесу стремительно темнело.
Мы вымокли и устали. Но в этот отчаянный момент Серега заметил посреди чащи избу. На ее пороге стоял человек, одетый во что-то темное, высокий и худой. Когда мы подошли, он обернулся и окинул нас строгим взглядом. Мы поздоровались, представились и объяснили ситуацию.
Он кивнул и сказал, что звать его Илья Иванович, а окрестные леса под его присмотром — лесник он. Оглядев наши вымокшие насквозь куртки и штормовки, пригласил переждать непогоду у него.
— Жена поехала к дочке в Талдом. Так что место есть. Да я б вас и отвез. Но по такому дождю даже моя «буханка» не проедет, — сказал он, указывая на унылую морду заржавленного УАЗа, торчавшую из-под навеса рядом с домом. — Ночуйте. А утром поглядим, как оно там сложится…
Мы вошли, стуча зубами от холода. К счастью, в избе было тепло, печку протопили совсем недавно.
Рассказав леснику, каким лихим ветром занесло нас в подвластные ему угодья, отчитались мы и по части добычи.
— Слезы, — прокомментировал Илья Иванович, глядя на жалкие тушки подстреленных нами птиц. — Незадача.
— От дичи покрупнее убегаем, — пошутил Вадим.
Илья Иванович серьезно кивнул, а мы сложили зачехленные и разряженные ружья под вешалкой у входа.
Мокрую одежду повесили у печки и сели за стол вечерять простецким хозяйским угощением — печеной картошкой с маслом и зеленым луком.
Серега достал свою фляжку с перцовкой. Хозяин не отказался выпить за знакомство, так что застолье получилось душевным.
Ливень шумел по крыше, громыхали вдали раскаты грома, а мы сидели за столом в опрятной теплой избе, вдыхая уютные запахи золы, смолистого дерева, сухих трав и грибов (пучки и низки их свисали над окнами и у печи) и трепались о том о сем.
— Вам повезло, — сказал хозяин. — В начале лета в этом лесу пятеро приезжих сгинули. Туристы. Две недели искали их по лесу, а когда нашли — там уже одни кости обглоданные остались. У нас ведь тут и волков много. Опознали бедолаг по клочьям одежды. И на кой черт их в нашу глухомань понесло? Никому не сказались, полезли…
— Может, клад искали? — предположил Вадим.
Илья Иванович насторожился:
— Какой еще клад?
Вадим махнул стопарик и, вытерев рукой рот, пояснил сдавленным голосом:
— Ну как же? Здешние-то легенды? Даже я слышал. Жуткое дело!
— Что ты слышал? — заинтересовался Серега.
Вадим удивился:
— Чего, правда, что ль, я один в курсе?
Хозяин глянул на него в упор и промолчал.
Вадик пожал плечами:
— Ладно. Значит, дело было так… Стоял тут когда-то, с незапамятных времен, город Коснятин или Скнятин. Это греческое «Константин», только переиначено на русский манер. Так себе городишко, мелочь: небольшая крепость с гарнизоном и на реке Жабне — православный монастырь.
Жили, как говорится, монахи и горожане себе, не тужили. И вдруг — пошел слух, что готовят степняки набег на русские земли. Дозорные из крепости монахов предупредили: так, мол, и так. Решили старцы, что святыни и сокровища монастырские надо от врага укрыть. На какой-то дальней болотной заимке вырыли глубокий погреб и снесли туда все ценное. Сторожить, значит, оставили крепкого старичка-иеромонаха, а другие все в монастырь вернулись, родные стены защищать.
Старик в полном одиночестве прожил на болоте где-то с месяц — все ждал, что придут за ним, возвращать назад в церкву спрятанное. Но так никого и не дождался. И пошел назад сам.
Явился, значит. А там и крепость, и слобода сожжены, монастырь разорен, в живых — никого. Земля от крови черная, и видно, что людей перед смертью мучили — выпытывали, где сокровища.
Увидев, что сотворили душегубы, монах-хранитель умом тронулся. Собрал останки своих братьев и снес в тот же тайный погреб, где лежал клад. Крышку погреба завалил землей и улегся сверху — то ли уснул, то ли помер. Но с тех самых пор, если кто чужой подбирается к монастырскому кладу — встает его дух из могилы и отгоняет непрошеных гостей. Калечит, руки-ноги ломает своим посохом. И вот, значит, от встречи с ним люди и умирали, и с ума схо…
Вадим не успел договорить — раскат грома заглушил его слова, и внезапная темнота затопила комнату.
— Подстанцию вырубили, — сказал невидимый во мраке Илья Иванович. — Здесь это часто: пожаров боятся.
Мы услышали, как хлопнула дверь: хозяин вышел в сени и вскоре вернулся оттуда с зажженной керосиновой лампой в руках.
В ее тусклом свете лица моих приятелей выглядели тревожно и угрюмо. Блеск молний то и дело озарял избу молочно-белым сиянием, расчерчивая углы резкими черными тенями.
Некоторое время мы сидели, прислушивались, как ливень остервенело лупит по ветхой кровле.
Вскоре дождь поутих, и мы снова вернулись к занимательной теме.
— Интересную ты историю рассказал, Вадик, — признал Сергей, потирая подбородок. — Но подобной чепухи где только не услышишь. Это ж врут почем зря!
— А почему же обязательно врут? — не согласился Вадим. — Вот Шлиман,[28] скажем… Тоже, как говорится, все думали, что врут. А он…
— Ой, ты мне Шлиманом не тычь! — Серегу хлебом не корми — дай поспорить. Если кто-то с ним не соглашается, он заводится с пол-оборота. — Шлиман — это, может, единственный такой случай на миллион! А у нас в любом городке, даже самом забубенном, непременно своя «страшно правдивая история» имеется про какие-нибудь клады. Причем все они, как правило, заколдованы, прокляты или что еще там… Чушь, короче. Бродячий сюжет.
— Ну, прям уж и в каждом! — усомнился Вадим. — Давай расскажи-ка, сколько ты знаешь таких городов и таких историй?
— Да пожалуйста.
Затеяв спор, Серега ожил и приободрился. Как всегда. Уступать он не любил. Подумав с минуту, азартно выкрикнул, вскидывая руку жестом завзятого политикана:
— Пожалуйста — Коломна!
— Что Коломна? — спросил Вадим. — Ты по делу давай! Не в города ж мы тут, как говорится, играем.
Мы с Данилой захихикали.
Серега вскочил и с ужимками забегал по избе, подражая гиду:
— Так, господа! Смотрите. Подмосковная Коломна. Известный всей стране древний красный кремль расположен у слияния рек Москвы и Коломенки. В Смутные времена город был захвачен и разграблен войсками атамана Заруцкого и его любовницы — польской авантюристки Марины Мнишек. При отступлении их на Астрахань, соответственно… Добра эти казаки-разбойники награбили много, а погоня шла по пятам. Чтоб облегчить себе бегство, решили краденое с собой не тащить, а, соответственно, спрятать. По слухам, остановились у Старцевского брода. Это возле села Богородского. Вырыли там яму поглубже, свалили в нее содержимое нескольких обозов и, прикрыв сверху коваными воротами, снятыми, соответственно, с Пятницкой башни, засыпали все землей. И запечатали клад страшным воровским проклятием! Всякий, кто приблизится к заколдованному месту, пугается до икоты и, соответственно, драпает оттудова со всех ног.
Потом, когда Заруцкого поймали, самого его казнили. А Марину с сыном заточили в башне Коломенского кремля. Там они, соответственно, и умерли.
Однако жадная ведьминская душа Маринки и после смерти не обрела покоя. Летает она сорокой над башней, кричит и мечется: пытается вспомнить, где запрятала сокровища. По ночам в башне часто видят свет — бродят там всякие темные личности, клад ищут.
Окончив рассказ, Серега замер посреди избы, выжидая нашей реакции. Мы с Данилой похлопали, а Вадим сказал:
— Ну и почему ты считаешь, что это все вранье? Смута ведь исторический факт. Так почему бы и не пуркуа па, как говорится?
Сергей выпучил глаза, готовясь дать отпор по всем фронтам, но Данила опередил его:
— Стоп! Погодите. Я тут тоже кое-что вспомнил… У меня родственники на Урале живут, я у них там бывал, в Невьянске. Слыхали про такой город? Там на одной площади старая башня с курантами — ее еще Демидовы строили. Этим деятелям когда-то и весь Невьянск принадлежал, и чуть ли не весь Урал. Они от царя Петра получили права на рудные месторождения, а под Невьянском отыскались богатые залежи серебра. И вот эти куркули разбогатели до того, что даже собственную монету серебряную стали чеканить — точно такую, как и государственный монетный двор. В одном только отличие: в демидовских деньгах серебра больше было, чем в казенных. Царица как разузнала об их фальшивке — послала в Невьянск людей с проверкой. Демидовы осознали, что за наглость придется головой отвечать, ну и решили: концы в воду. В прямом смысле. Приказали разобрать мельничные плотины и затопили подвалы в башне вместе со всеми работниками, которые там трудились, демидовскую монету чеканили.
Теперь, говорят, по ночам в той башне голоса слышны — утопленники плачут, умоляют спасти…
— И при чем тут клад? — спросил Вадим.
— Так под затопленной башней-то и серебро все осталось! Такие дела, — сказал Данила.
— Ничего себе история.
Это сказал Илья Иванович, о котором мы все как-то позабыли. Я оглянулся: хозяин наш стоял возле печи, сложив на груди руки. Лицо его, словно напитавшись сумраком и тенями, казалось зловещим — в особенности из-за очень темных глаз, в которых теперь не видно было зрачка. Странное лицо. Что-то есть в нем аскетическое, суровое…
И тут в разговор вступил Данила.
— Да это что! — сказал он, нарушив общее молчание. — Я и почище знаю. Про золотого коня Чингисхана. Слыхали?
— Нет, — ответил я. Вадим выкрутил прогоревший фитилек керосинки, и огонек внутри лампы, получив новую пищу, подрос и засиял веселее.
— Давай вываливай свою байку, — махнув рукой, велел Даниле Серега.
— Это излюбленная басня всех ростовских кладоискателей. Будто бы Чингисхан из сокровищ, награбленных его войском в Азии, велел изготовить золотого коня. Слуги выполнили приказ хана, но русские казаки выкрали статую у ордынцев и увезли на Дон.
Орда послала вдогон отряд. Большая часть казаков погибла, отбиваясь от ногайцев, но золотой конь пропал. Некоторые ростовские историки считают, что его спрятали в подземельях Кобяковского городища, которое, по слухам, соединено подземными ходами с Таганрогом.
Будто бы на Дону, на Зеленом острове, некая языческая жрица спрятала казаков с их добычей у себя в капище. Ордынцы окружили гору и перебили всех, до кого сумели добраться.
Но в подземелье так и не вошли: у входа в пещеру стояли воины и рубили головы всем, кто совался внутрь, — до тех пор, пока в пещере не сделалось скользко от крови, а головы врагов не завалили вход. После чего случился обвал, и засыпало всех — и живых, и мертвых. И с той поры никто не знает, где спрятаны сокровища Чингисхана.
Ростовчане говорят, что в 60-х где-то в районе той горы рыли трубопровод для города и кое-кто надеялся разыскать золотишко, но не нашли ничего: клад проклят, и охраняют его души сотен погибших из-за него воинов.
— Ну тут я не знаю, — сказал Вадим, почесав затылок. — Все это, как говорится, выглядит вполне исторически вероятным… Но ведь в то-то время еще и города никакого не было — одна степь! Получается, клад в твоей легенде есть. А вот город — не факт.
Данила пожал плечами. Серега хмыкнул. А я сказал:
— Придираешься, Вадик. Но вообще-то я с тобой согласен: тоже думаю, что клады — никакой не бродячий сюжет. Под каждой историей… В общем, нет дымя без огня.
У Сереги заблестели глаза, и он уже хотел наброситься с возражениями, но я остановил его:
— Погоди спорить. История, которую я хочу рассказать, самая, можно так выразиться, из всех достоверная. Уж об этом-то кладе вы все наверняка слышали. Я имею в виду Янтарную комнату, которую нацисты во время Второй мировой вывезли из Летнего дворца в Царском. Искали ее потом повсюду, но так и не нашли. Некоторые утверждали, что она погибла при бомбежках и обстрелах — янтарь же великолепно горит… Другие думают, что «комнату» утопили. Янтарные панели и все предметы обстановки, которые там были, фашисты упаковали в ящики и пытались вывезти в Германию на корабле «Вильгельм Густлофф». Это тот самый «Вильгельм», который наши затопили на Балтике. Комнату так давно и безуспешно ищут, что уже мало найдется чудаков, которые все еще надеются ее отыскать.
Однако есть такие. В прошлом году я ездил в Калининград — он же бывший прусский город Кёнигсберг, где в военные годы обитал главный немецкий управитель над восточными землями — гауляйтер Отто фон Ляш. И там же хранилась Янтарная комната — это было последнее место, где ее пребывание официально зафиксировали документы.
В Калининграде я познакомился с одним мужиком: во время войны он был мелкий пацан, а сейчас уже старый и больной дядька. Оказалось — он многие годы обивал пороги администраций разного уровня, упрашивая, чтобы власти провели тщательные розыски в бывшем бункере генерала фон Ляша.
Сам генерал после войны угодил в плен к полякам и там помер. После него не осталось ни архивов, ни живых свидетелей, кто мог бы что-то рассказать о его пребывании в восточной ставке.
Кроме вот этого самого мужика. Которого, надо сказать, никто всерьез не воспринимал. Он всем рассказывал, что видел, как в здании коменданта открывалась потайная стена, и там вроде бы был подземный ход. Когда немецкие войска отступали, солдаты выносили оттуда из подвалов какие-то тяжелые массивные ящики, но погрузить все на отходящие грузовики не успели.
Что там было спрятано, в этом тайном подземелье? Мальчишку, который случайно все это увидел, никто тогда не послушал. Во-первых, при наступлении наших войск не до того было. Во-вторых — не поверили в силу возраста. В третьих — как раз в той комнате, где, по его утверждениям, открывалась какая-то потайная хитрая стена, стороны подписывали капитуляцию города, и, прежде чем туда вошли высокие властные лица, это помещение в бункере — комнату номер 10 — очень тщательно обследовали саперы. Не нашли ничего подозрительного. От парня отмахнулись, да он и сам потом об этом деле забыл. А на пенсии вспомнил. И начал ходить, беспокоить больших начальников… Но те про него решили: двинулся мужичок. Заняться нечем старому дурню.
И вдруг при проведении очередных ремонтных работ в бывшем бункере фон Ляша рабочие обнаруживают пустоты за одной из стен в той самой комнате номер 10! Что там точно — никто пока не знает. Здание аварийное, многое было разрушено и переделано, так что попасть в тайные нацистские подвалы еще никому не удалось.
Но я сам видел, как туда на место приезжали несколько типов из ФСБ — чтобы присутствовать при вскрытии «стеночки с секретом». Так что будьте уверены — теперь там поищут понастойчивее. И, может быть, что и найдут.
Вот такая история.
— Хорошая история, — сказал Вадим. — Но это ведь не легенда. Так что…
Серега возмутился:
— Ну, знаешь! На тебя не угодишь.
Он хотел еще что-то добавить, поспорить о чем-нибудь, но Данила, уснувший, кажется, на стуле во время нашего разговора, вдруг очнулся и спросил:
— Слушайте, а где же… Хозяин-то наш куда подевался?
Мы принялись озираться и с удивлением обнаружили, что и правда — Ильи Ивановича в комнате нет. Ушел куда-то, ничего не сказавши нам.
Между тем гроза прекратилась, незаметно перейдя в типично осенний, занудно моросящий дождь.
Стемнело и похолодало, и мы даже предположить не могли — что же это понадобилось человеку в мокром лесу ночью? Даже если этот человек — лесник.
Так называемые «удобства» находились рядом, за стенкой, в холодных сенях. Может, ушел покормить животных? Но мы даже собачьей конуры возле избушки лесника не видели. Что, вообще говоря, наверное, странно.
— Ну мало ли? Проверить пошел — не покрали ль злые волки его ржавый УАЗик. Или еще там чего. Дела хозяйские! — махнул рукой Вадим и длинно, протяжно зевнул. — Засиделись мы, мужики. Пора и на боковую.
И первым подал пример, завалившись спать на диванчике. Мы с Серегой устроились на полатях, а Данила прикорнул на огромном сундуке, покрытом матрасом. Очень скоро избу огласил дружный богатырский храп моих друзей. Я заснул последним и сквозь сон слышал, как хлопнула входная дверь. «Илья Иванович вернулся», — отметил я про себя и провалился в черноту, в глубокий крепкий сон без сновидений.
* * *
Проснулся я от ужасного вопля — и спросонья так перепугался, что сверзился с печи.
Приземлившись на холодный пол пятой точкой, я увидел Вадима: он сидел на диване, встрепанный, бледный, с вытаращенными глазами. Серега и Данила стояли над ним, встревоженные и ошарашенные не меньше моего.
— Кошмар приснился, — хриплым голосом объяснил Вадим и, зажмурившись, потряс головой. — Фу, мерзость какая! Какой-то черный старик. Высотой с елку. И птицы. Много мертвых ворон. Он их палкой сшибал. И говорил со мной на каком-то чужом языке… Угрожал.
— Если он не по-русски говорил, как ты понял, что он угрожает? — рассудительно поинтересовался Серега, глядя в серый квадрат окна. На часах было около восьми, солнце давно поднялось, хотя рассвет оказался столь мрачным, что скорее походил на вечерние сумерки.
Вадим огрызнулся:
— Чего непонятного? Если на тебя кто палкой замахнется… Дубиной.
Он встал, схватил высохшую рубаху и принялся торопливо, неловко напяливать ее на себя. Потом нагнулся, чтоб надеть сапоги, и я заметил, что руки у него трясутся.
К тому же он как-то упустил из виду, что, прежде чем обуваться, неплохо было б для начала натянуть штаны и носки.
— Давайте уже линять отсюда, мужики. Что-то не по себе мне тут. И лесник этот странный…
Спать уже никому не хотелось. Слушая ворчание Вадима, мы тоже начали одеваться.
Хозяин куда-то пропал опять. Мы перекусили остатками своих припасов, собрали вещи и оружие — все было на месте — и вышли на крыльцо.
Вчерашний дождь сменился густым молочным туманом. Черный вымокший лес казался населенным болезненно худыми привидениями. Отойдя от дома не больше чем на десять шагов, мы обнаружили дорогу. Странно, что умудрились не заметить ее вчера.
Собственно, это была не совсем дорога, а наезженная лесная просека, грунтовуха с двумя глубокими колеями и затянутыми пожелтелым бурьяном обочинами. Русского человека таким не напугаешь, разве что автолюбителя, да и то не всякого. Дорога выглядела бы вполне обыденно и привычно, если б не одно ужасное обстоятельство: всю ее, сколько хватало глаз, усеивали мертвые или умирающие птицы — в основном галки и вороны.
— Это что еще за хиромантия?! — Вадим при виде необычного и жуткого зрелища застыл столбом. Лицо у него сделалось белее мела.
Мы тоже остановились, пораженные. У меня защекотало под ложечкой от дурного предчувствия. Больше всего не нравилась тишина. Замороженная, нереальная тишина леса с тысячью мертвых птиц. Некоторые из них еще шевелились, мучительно разевая клювы, корчились, пытаясь махать крыльями. Но звуков не было — туманная, липкая мокрая взвесь глушила всё.
— Как мы… Как можно идти… здесь?! — с отвращением спросил Данила. Левый глаз у него задергался в нервном тике. — Прямо по ним, что ли?! Я не могу…
И тут мы увидели, как на покинутый нами дом наползает тень — где-то над верхушками деревьев двигалось что-то крупное. Что-то настолько большое, что оно загораживало от нас солнце, слабым бледным кружком проступающее на сером небе за облаками. Послышался хруст. Тяжелый, сырой хруст веток в лесу. Земля задрожала, каждый ощутил неприятную вибрацию в ногах.
— Быстрее! — закричал Серега. — К дому. Там машина!
Мы вспомнили про УАЗик, стоявший под навесом, и кинулись назад. Я с ужасом подумал, что ведь лесник вполне может таскать ключи от зажигания у себя на поясе или в кармане.
Но, к счастью, мое предположение не подтвердилось. УАЗ смирно стоял под навесом, как и накануне, с открытой дверью, а ключи торчали в замке зажигания. Мой друг, видимо, лучше меня понимал деревенских жителей.
Мы вскочили в кабину, Серега — на водительское место. Двигатель завелся с полпинка, и УАЗ вывернул на проклятую дорогу, закиданную птичьими трупами.
— Еще ни на одной охоте… Никогда, — нервно подрагивая челюстью, бормотал Вадим, когда мы понеслись, давя колесами птичьи тушки. Они лопались, разбрызгивая кровавое содержимое. Звук при этом получался омерзительный — какое-то скользкое, хлюпающее похрустывание.
— Быстрее, быстрее, — повторял Данила.
Придерживая рукой дергающийся глаз, он следил через боковое окно за тем, что делается позади.
В машине было только два сидячих места, и ни одно из них мне не досталось. Я сел прямо на пол и схватился за ножки сидений, потому что автомобиль подбрасывало на всех кочках, и я мог запросто улететь куда-нибудь вместе с ружьем и рюкзаком.
— Ну что там? А?! — спрашивал Серега, выворачивая голову назад.
— Ничего не вижу! — отвечал Данила. — Ты давай лучше езжай. Езжай быстрее!
Нащупывая, за что бы покрепче ухватиться, я угодил рукой во что-то мокрое, теплое и липкое. Поднял ладонь к лицу: она была в крови. Я пригляделся: под сиденьем лежало что-то массивное, укрытое мешками. В следующее мгновение УАЗ подкинуло на кочке, мешок сполз и обнажил окровавленную человеческую руку — она вывалилась на резиновый коврик и чуть ли не мне на колени.
— Труп! Здесь труп! — заорал я. — Серега, останови!
— С ума сошел?! — заорал, в свою очередь, Данила. — Гони, Серега! Скорее давай!
В изумлении я оглянулся и тут увидел такое, что потрясло меня куда сильнее, нежели расчлененный покойник, укрытый мешком, под сиденьем УАЗа.
Я бы хотел стереть из памяти эту картину, но, к моему глубокому сожалению, вряд ли когда-нибудь это удастся.
Недавно я навестил Данилу в той лечебнице, где он провел последние полгода, и его врач сказал, что мой друг, как и я, все еще слишком отчетливо помнит представшую нашим глазам картину. И «это, увы, мешает в целом процессу выздоровления, — сказал доктор. — Ему бы больше повезло, если бы память у него была похуже».
Что касается Сереги, то, в отличие от нас троих, он ничего не видел, сидя за рулем, а, когда мы ему рассказали, не поверил. Или, возможно, поверил, но не захотел признаться. Такое тоже случается.
Что думает обо всем этом Вадик, я не знаю. Он уехал, сменил место жительства и перестал общаться с прежними друзьями.
А что до меня, то я не мистик и не суевер, но что видел — то видел. И тут меня ничем не свернешь и не заставишь соврать.
А видел я следующее: тот самый якобы лесник, наш гостеприимный Илья Иванович, черный, как обгорелое на пожаре бревно, и огромный, выше самых высоких елей в лесу, разъяренный и страшный, бежал за нами, пытаясь дотянуться и смахнуть с дороги громадной деревянной клюкой, такой же черной и обгорелой, как и он сам. И летели вокруг перья от мертвых птиц, по которым он бежал.
Если это означает, что мы побывали в гостях у того самого духа, хозяина клада, охранявшего на болоте старинное сокровище, — что ж, так тому и быть. Труп в салоне УАЗа остался неопознанным.
Когда мы рассказывали в полиции о леснике, приютившем нас ночью, нас едва не подняли на смех: никаких лесников и лесных сторожек в указанном нами месте нет. И никогда не было.
После случившегося нас на удивление быстро оставили в покое. Может быть, причиной тому было чудовищное состояние Данилы, а может, и что-то другое, о чем следователи не сказали. В конце концов, среди местных жителей почти каждый с детства пребывал в убеждении, что в здешних лесах не без чертовщины. В том числе и представители власти.
Так что хотя бы в этом отношении нам все-таки повезло.
АВГУСТ
Тверская область
Август — самый благодатный месяц лета.
В августе многие городские наведываются в деревню. Там есть чем порадовать высохшую душу человека, зажатого прессом площадей, пыльных улиц, прожаренных мостовых и тротуаров, отравленного гарью автомобильных пробок.
В августе у людей просыпается первобытный инстинкт собирателей, и они устремляются в лес за поспевающими дикими ягодами — малиной, смородиной; за рыжими лисичками, которые россыпями веснушек выскакивают на прогретых солнцем опушках.
Отправляясь на рыбалку, люди часто сбиваются в стаи, словно древняя племенная память охотников за мамонтами подсказывает им: так проще достичь успеха. С вечера они ставят сети и ночь напролет безудержно празднуют встречу с природой, а большую часть дня после спят.
Рыба же, бьющаяся в путах, к полудню дохнет. И когда настанет время доставать улов — кажется, все озеро провоняет от вздутых тушек окуней и плотвы, плавающих кверху пузом в теплой воде, с распущенными кишками — расклеванных своими собратьями и обсиженных мухами.
Таков август. Время созревания и урожая.
В августе в деревню возвращаются даже те, кто сумел когда-то вырваться из ее сетей в город.
* * *
Эдик Козлов явился в деревню именно в августе. Свалился нежданно-негаданно на голову родителям.
Последние лет пять он и звонил-то им не часто и вдруг — с бухты-барахты, не предупредив — приехал на недавно купленном новеньком внедорожнике. Можно представить, какой прилив чувств вызвало его появление.
Мало кто из его земляков добился в жизни столь очевидного успеха. Правду сказать — ни один.
Если не считать сынка председателя колхоза, ушедшего когда-то по партийной линии в руководители областного центра. Но то было еще до перестройки. А после — только Эдик.
Рисуясь перед бывшими корешами, он, однако, не сильно зазнавался: честно и без уверток купил ящик водки, закуски и щедро проставился за встречу, устроив дружеские посиделки в доме родителей.
Сидя за столом с граненым стаканом в руках и размахивая соленым огурчиком, нацепленным на вилку, Эдик говорил своим оставленным в деревне однокашникам об инвестициях, налогообложении, об оптимизации налогов и диверсификации бизнеса… Вещал.
А они — Генка Курочкин, Сашка Королев по прозвищу Король, Виталик Гришин, Леша Жбанкин — слушали, соловея от водки, и чаще наливали, делая вид, что им, безусловно, знакомы все эти странные слова. Да в общем-то, оно и так: ведь они их слышали в телевизоре.
Мать с отцом, с горящими глазами и лицами, смотрели в рот Эдику, не смея ни пошевельнуться лишний раз от восторга и благоговения, ни отвлечься от созерцания пресветлого образа — сына городского, сына умного, сына богатого.
Первые деньги Эдик Козлов сделал когда-то на торговле рыбой. Браконьерствовал на местных озерах, ловил сетями и продавал на районном торжке. Потом свалил в город, где сумел зацепиться, удачно женившись на разведенке с ребенком и квартирой, окончил какие-то бизнес-курсы… После чего, по словам Эдика, и началось нынешнее его особенное процветание.
— А чего женку-то не привез? Поглядеть бы, — подала робкий голос мать Эдика.
— Она работает, — отмахнулся он. — Да и чего ей тут?
— Оно конечно, — пробормотала старуха. И все, кто сидел за столом, закивали: разумеется. Какой, правда, городской бабе в деревне интерес?
Корешам Эдиковым хвастаться было нечем. Особенно Королю — две недели назад он попал под следствие как подозреваемый в краже из промтоварного ларька.
— Эх, братишки! — Щеки Эдиковы лоснились, и сам он весь сиял, поднимая новый стакан за встречу с друзьями юности. — Да как же я рад-то всех вас видеть!
По правде говоря, Эдик даже не подозревал, сколько счастья доставит ему встреча с родиной.
Видеть односельчан и бывших друзей такими пришибленными его успехами оказалось не сравнимым ни с чем удовольствием, натуральным блаженством. Даже всемирная слава и признание ни капли не прибавили бы к этому необыкновенному чувству. Ведь, пытаясь добиться успеха и завоевать мир — не этого ли торжества над собственным прошлым жаждут люди? Торжества над самими собой — над теми собой, прежними, которые пребывали еще в слабости и забвении.
— А знаете что, братва? Чего мне сейчас больше всего хочется? — спросил Эдик, сверкая глазами.
— Ну? — хмыкнул Жбанкин.
За болтовней и тостами настал уже вечер. Эдикова старенькая мамаша потихоньку выбралась из-за стола и пошла собирать грязные тарелки, чтоб вымыть посуду на кухне.
— А сгоняем-ка по старой памяти на рыбалку! А, братва? — подмигнул приятелям раскрасневшийся Эдуард. — Загудим, как раньше, на всю ночь?
Лешка и Генка пожали плечами, Виталик поддержал идею:
— Точняк, мужики! Айдате.
И Сашка Король — ему теперь лишь бы не трезветь — с жаром согласился:
— Айда! Сети Генкины возьмем, у него новые есть. На запруду. Айда?
Мать Эдика поворчала что-то, пытаясь их остановить, но это было все равно, что воду решетом черпать: бес-по-лез-но.
Собрались за пятнадцать минут. Лодку, резиновую парку, захватили в сарае у Короля. Без задержек и проволочек погрузились в Эдиков внедорожник и спустя полчаса метаний по кочкам, по ночной дороге при свете звезд и противотуманных прожекторов, были уже на озере, у дальней запруды, на холодном глинистом берегу, где перешептывался камыш и распевали хором лягушки.
* * *
Сети поставили с правой стороны запруды. Пока Генка с Эдиком, шлепая веслами, крутились на воде, расставляя слеги и разматывая нейлоновую китайскую сетку вдоль берега, Лешка, Виталик и Сашка Король набрали хвороста и запалили веселый костерок возле старой кривой ветлы, метрах в трех от ее толстых, изогнутых корней, выпирающих из-под земли, словно древний чешуйчатый змей.
Пламя затрещало, пожирая сухие ветки и рассыпая искры. Его мягкий оранжевый свет очертил уютный круг посреди темноты, проявив камыши, сочную зеленую мураву, глянцевитую, пахнущую тиной жижу под хлипкими мостками и длинные, словно русалочьи волосы, курчавые ветви ветлы, отделяющие густой завесой стоянку рыбаков от воды и холм с козловским джипом наверху, где начиналась грунтовая дорога на село.
Лешка и Сашка уселись вокруг костра на поваленных бревнах.
— Эй, вы скоро там? — крикнул Сашка Король.
— Уже! — неожиданно близко откликнулись с озера Генка с Эдиком. Послышался смех, всплески весел, и пухлый синий нос резиновой лодки высунулся из-за камышей, как морда любопытного дельфина. Ткнулся неуклюже в опору мостков, так что вся шаткая конструкция затряслась.
Виталик, отмахиваясь от пикирующих кровососов-камикадзе, ловко пробежал вперед, помог зачалить лодку и выскочил на берег, освобождая мостки, чтобы вылезти рыбакам.
Сильно огрузневший от удачливой городской жизни Козлов, пьяно хихикая, с трудом выбрался из лодки, а сходя на берег, все-таки оступился и влетел в черную, кишащую пиявками лужу.
— Сухой? — спросил из-за его спины Генка.
— Какой там! — отозвался, смеясь, Козлов. — Ладно, где наша не пропадала! Сейчас все мокрые будем.
И пошел, хлюпая промоченными кроссовками, к импровизированному «столу» на расстеленной поверх широкого чурбачка газетке.
Посмеиваясь и галдя, мужики разлили водку и расселись вокруг костра.
— Зелени подкинь для дыма, — посоветовал Генка Королю. — А то комарье лютует.
— Сам с усам, — проворчал Король и подбросил на угли ветку с листьями, сорвав ее с дерева. — Ну что, вздрогнули? — сказал он и призывно поднял стакан. — За все хорошее!
Мужики чокнулись, крякнули и опрокинули. Виталик передернулся, закашлялся — водка не в то горло пошла. Король, визгливо посмеиваясь, постучал товарища по лопаткам.
— Эх, хорошо! Оттягавает, — сказал Эдик Козлов, поглаживая себя по могутной груди, и с хрустом закусил огурцом.
— Приятного аппетита, — сказал кто-то негромко со стороны ветлы. — Вечеряете?
— О, Валёк! Ты, что ль?
— Валёк, подваливай к нам!
— Сорока? Иди сюда! — обрадовались и загомонили мужики.
Эдик и Сашка Король подвинулись, освобождая место Вальку Сорокину по прозвищу Сорока. Все они хорошо знали его — Валёк жил в соседней деревне, а учился когда-то в той же школе, что и пятёрка бывших одноклассников.
— Валёк, давненько тебя не видали! Как ты? — пьяно икнув, спросил Сашка Король. — Иди, налью.
И он забренчал посудой, пытаясь налить Сорокину стакан из ополовиненной уже бутылки. Это была пятая поллитровка за этот вечер, и руки у Короля подрагивали, а стакан отчетливо двоился, искристо сияя, перед глазами.
— Да не, не надо. Не буду я, — застенчиво отнекивался Валёк. Он так и не вышел из-под ветлы, только лицо его, бледное, с прилипшими ко лбу мокрыми черными волосами, выступало из тени. Всполохи огня озаряли слабую улыбку. — Я только глянуть — как вы тут…
— А мы вот сети по старой памяти поставили. Эдька к нам нагрянул, гуляем, — пояснил Генка, хлопая по спине сильно закосевшего от выпивки Козлова.
— Эдик, да… Эдик, — повторил Валёк. — Как у тебя сложилось-то в городе? Хорошо?
— А то! — воскликнул, блестя щеками, Козлов. — Все пучком! Все в полном поряде!
Он попытался изобразить пальцами «о'кей», но значок сложился, скорее, в кривую фигу — Козлов уже здорово навеселе был, и руки его действовали как бы по отдельности, озадачивая иной раз и его самого.
— А ты что, тоже сети поставил? — спросил Виталик, глядя на Валька. — В каком месте? У коряги небось?
— Да не, я все там же, где всегда. Застрял, — засмеялся Валёк.
— Ну давай к нам. Чего как не родной стоишь? Иди, выпьем! — махая руками, приглашал Козлов.
— Да не, не могу. Ждут меня, пойду я, — сказал Валёк.
Поговорили еще о погоде, о том, что давление упало, а значит, к утру наверняка сети будут полные. Под конец Валёк, застенчиво улыбаясь, пожелал мужикам удачи и скрылся в темноте.
Какое-то время рыбаки слушали, как он шуршит, пробираясь тропинкой через камыши наверх к холму, на дорогу.
Сашке Королю захотелось курить — он забрал у Козлова его пижонские «Мальборо», но пачка оказалась пустой.
— Ах ты, черт! — выругался Король. — Пойти, что ль, у Валька стрельнуть?
И он бросился за уходящим приятелем вдогонку.
Козлов с Виталиком постелили у костра спальники, рассчитывая завалиться дрыхнуть. Генка смотался к мосткам — проверить лодку, не увидел бы ее кто с воды. Потом сел, подкинул в огонь полешко…
И тут к затухающему костру вернулся Сашка Король. Вид у него был ошарашенный, чтоб не сказать убитый.
— Ну как? Есть курево? — сонным голосом спросил Виталик.
Король молча помотал головой.
— А что так? Не догнал? — Курочкин приподнялся на локте, глядя укоризненно на Короля. — Эх, блин!
— Да вы придурки! Зенки позаливали! — завопил вдруг Сашка Король, бледнея и даже зеленея на глазах у приятелей. — Так и не поняли, кто к нам приходил?!
Искры взметнулись от костра и улетели в черное бездонное небо. С озера пахнуло сыростью — и словно чья-то ледяная рука коснулась разгоряченных водкою лиц.
— Это ж Валёк. Сорока. Ну?! — добивался чего-то непонятного Король. Он явно протрезвел после прогулки по ночному берегу озера.
— Валёк, — повторил Генка. И вдруг вытаращил глаза — до него тоже дошло. — Он же утонул давно!
В ужасе они с Королем смотрели друг на друга, а потом все, не сговариваясь, уставились на Эдика Козлова.
Пять лет назад, вот так же в августе, Козлов поставил сети в заливчике, тайком от всех в деревне, чтоб рыбнадзору не донесли о его браконьерском промысле. Валёк, ничего не зная об этом, пошел купаться в том самом месте и наскочил на сеть.
Плавал он с детства плохо, да и вообще был слабак. Поэтому, запутавшись, выбраться не смог и захлебнулся в пяти метрах от берега.
— Как же мы сразу-то не поняли? — удивлялся Сашка Король. — Наваждение какое-то.
Козлов шумно глотнул — кадык его дернулся, нижняя челюсть задрожала:
— Вал…ик? Ка…ак?!
Лешка, хлопнув себя по коленке, неожиданно закрыл лицо руками и заплакал. Ему сделалось и страшно, и жалко погибшего приятеля, о котором так давно никто из них не вспоминал. Совестясь этих пьяных слез, он тем не менее не в силах был их остановить и только смахивал пальцем влагу, размазывая по щекам грязь.
Рыбалка не задалась. Настроение у всех резко испортилось. Спустя полчаса над озером стал накрапывать дождик.
Эдик Козлов, испугавшись, что по размокшей глине его джип не выберется с холма, сел за руль и, несмотря на то что был сильно под мухой, все-таки сумел вывести свою внедорожную громадину из грязи обратно на дорогу.
— Ну что, мужики, кто со мной? — предложил он приятелям. К нему вернулась его обычная хмурость, и улыбаться он перестал. — Я в обратку, до дому.
Лешка и Генка пожали плечами и сели в машину.
Виталик подумал и забрался на место рядом с водителем.
Сашка Король поглядел на них, махнул рукой: ладно, мол, поезжайте.
— За сетями присмотрю, — объяснил он, заворачиваясь с головой в брезентовую плащ-палатку. — Утром увидимся.
Но утром Эдика Козлова в деревне уже никто не видел. Он умотал в город, едва занялась заря, сразу после того, как развез по домам бывших корешей. Даже с матерью и отцом не попрощался.
Это больше походило на бегство — да это оно и было.
Только не помогло оно ему.
Спустя полгода Эдикова жена написала его родителям, что Козлов утонул на одном из островов Таиланда: поехал провести семейный отпуск с супругой и пасынком в чудесное место — райский уголок, тихий спокойный залив, окруженный коралловыми рифами. Море там теплое и спокойное и очень мелкое — с километр можно брести и погрузиться разве что по пояс.
Но Козлов утонул. Захлебнулся ночью в этом спокойном соленом блюдце, отражающем звездное небо. Пьян был, или сердце подвело — так и не выяснили. В райском уголке это не имело ни для кого значения.
А в родной деревне Эдика о его гибели говорили долго.
Сашка Король утверждал, что Эдикова смерть от воды была предрешена и даже прописана, как лекарство доктором, — в тот самый момент, когда Эдиковы воровские сети сгубили безобидного Валька Сороку, а душегуб Эдик, вместо того чтобы ответить за содеянное, смылся от всех заморочек по-тихому в город, строить личное счастье. Не повинился и не покаялся.
Потому-то Валёк Сорока и приходил на берег — напомнить Козлову про его забытые августовские сети с «уловом».
КОРАБЛИК
Ленинградская область
Море — необычная стихия. От него никогда не знаешь чего ждать. В старину у матросов было поверье, что огромные синие просторы, полные ветров и бурь, невиданных чудовищ, громадных волн и пугающих миражей — все это скопище чудес не просто масса соленой воды, а что-то вроде… чистилища для неприкаянных душ.
С точки зрения древних космогонистов в этом есть определенная логика. Если рай находится на небе, ад — под землей, то где же и поместить эту всемирную прачечную, где грязное отмывается добела, где познают цену настоящему, отбрасывая все фальшивое и приукрашенное?
Неудивительно, что странные истории и слухи не переводятся у моряков. Одна из таких историй — про мертвого капитана, бороздящего Балтику на небольшом ржавом суденышке. Всякий раз, когда оно появляется, у берега непременно стоит сильный туман, никто не видит его и не слышит. Но капитан — призрак это, демон или злой дух, неизвестно, — видит и слышит все. И его появление не бывает случайным…
* * *
Последние двадцать минут жизни Игорь с удовольствием вырезал бы. Если смотреть на свое существование как на кино, то пару эпизодов получасом ранее не помешало бы переснять.
Например, тот момент, когда он признался Вике, что не пошел на собеседование в крутую компанию, которой рулит ее знакомый. Игорю предлагали там должность супер-пупер-мега-босса, а он наплевал. И да — ее радостные слова о беременности, которые его совсем не обрадовали… Если говорить о чувствах, то единственное, что он ощутил: ловушка захлопнулась. Пути назад нет. А вперед ему совсем не хочется.
«Тебя ничего не волнует! Ты не думаешь о нашем будущем!» Ты, ты, ты…
Как объяснить любимой девушке, что просто не хочешь становиться мудаком под началом еще больших мудаков? Тем более что она-то уверена: именно в этом состоит ее прекрасное будущее… А ребенок? Ах да, еще и ребенок! К чему он тут?!
— Ты могла бы сделать аборт?
— Что?!
Вика что-то говорила ему, ярко-багровое пятно ее рта двигалось вверх-вниз, но ветер отбрасывал звуки в сторону Финского залива, скрадывал слова. Каштановая грива Викиных волос металась то вправо, то влево, посекундно меняя галсы, и от этого сама Вика выглядела злобной древнегреческой фурией.
— Ты даже не слушаешь меня! — возмутилась Вика. Ее губы судорожно сомкнулись.
Он вдруг представил, как этот рот будет выглядеть в старости — узкий, обнесенный морщинами, словно забором…
— У тебя нос покраснел, — сказал Игорь, вытаскивая из кармана сигареты. — Иди в машину.
— Игорь! — Глаза у Вики округлились, выражение лица сделалось остервенелое. — Ты нарочно, да? Нарочно издеваешься?!
— Вика. Ты замерзла. Устала. Иди в машину, — повторил Игорь, торопливо натягивая на себя маску сильного и заботливого, КАК-ЗА-КАМЕННОЙ-СТЕНОЙ, парня. Всем женщинам это нравится. Но таскать этот дурацкий прикид на себе постоянно? Увольте! Все равно что ходить на работу в рыцарских доспехах — и нелепо, и тяжело.
Надо было ему думать раньше. Но… О боже! Разбираться в запутанных отношениях, стоя на мокром песке осеннего пляжа, на ветру, — это самая дурацкая идея, которая только могла прийти кому-либо в голову!
Торопясь, пока Вика не ляпнула что-то, способное по-настоящему взбесить его, Игорь добавил, стараясь придать хоть немного тепла дребезжащему от злости голосу:
— Подожди меня в машине, девочка. Я покурю и приду. Дай мне пять минут, ладно? Я просто… Мне надо немножко побыть одному. Я люблю тебя.
На самом деле он ничего не чувствовал к ней сейчас. Он вообще ничего не чувствовал, кроме усталости. Как будто упал в выгребную яму и потерял последние силы, пытаясь выбраться. Ну почему эта Вика такая прилипчивая зануда?!
— Игорь. Я не девочка. В том-то все и дело, — вздохнула Вика. Глаза у нее сделались такими серьезными и печальными, что он чуть не бросился к ней, чтобы обнять, защитить. Из жалости.
Но минутный порыв прошел. Вика запахнула полы куртки и побрела к припаркованной на площадке возле кафе белой «ауди». Игорь торопливо закурил, наконец, и двинулся вдоль берега.
Влажный вязкий песок проваливался, скользил под ногами, забивался в ботинки, но все равно это было хорошо: идти рядом с набегающими волнами, вдыхать свежий соленый воздух, видеть серое низкое небо до самого горизонта и не слышать ничего, кроме моря и птиц. Блаженство.
Он расслабился — впервые за весь этот утомительный день. Мысли, отпущенные на волю, улетели вперед, словно блесна на свободной катушке спиннинга. Как хочется, чтобы вернулась прежняя легкость. Что стоит ему взять и сбежать? Бросить все. Уйти в море. Исчезнуть. Хорошо…
Он стоял и курил на берегу. Ветер сам относил в сторону горячие искры — не приходилось даже стряхивать пепел.
Выкурив две сигареты подряд, он стоял и глядел на море, забыв обо всем, словно бы впал в транс.
А потом до его ушей долетел стук мотора. Тогда Игорь опомнился. Сколько же он простоял здесь?
Он с удивлением огляделся. Вокруг заметно стемнело. Ветер стих. С моря на берег двигался туман.
Игорь взглянул на часы. Жаль, он не заметил, во сколько они расстались с Викой. Где она, кстати? Он велел ей ждать в машине…
У него появилось странное ощущение, что все происходящее — происходит во сне.
И чувство это еще усилилось, когда из густой белесой дымки бесшумно выступил прямо перед ним нос какого-то судна.
Небольшой моторный бот подошел и закачался на волне рядом с пирсом.
Игорь ожидал, что кто-то выйдет из надстройки и попытается зачалить суденышко. Но никто не вышел.
На редкость запущенный вид у кораблика — палуба заросла грязью. Краска на бортах облупилась, железо проржавело местами до дыр. Кто, интересно, плавает на таком корыте?!
И есть ли там хоть одна живая душа? Игорь усмехнулся нелепости собственной мысли: ведь кто-то привел это судно к берегу, значит, и люди там есть.
Игорь стоял рядом, рассматривая кораблик, довольно близко. И потому расслышал, когда за тонкой стенкой палубной надстройки кто-то вздохнул. Тонко и жалобно. Или это был стон?
— Эй! Что там такое? — забеспокоился Игорь. — ЭЙ!
Новый стон, еще более жалобный. Тяжкий и безнадежный.
— Эй! Может, помощь нужна?!
Море совершенно успокоилось, волна бежала едва заметной рябью, и палуба суденышка покачивалась тихо, словно дыша.
Неожиданно для самого себя Игорь вдруг решился — ухватился за фальшборт и шагнул на палубу.
От легкого толчка судно качнулось и отступило от берега: черная полоса воды, разделяющая пирс и палубу, раздвинулась.
— Эй, на судне! Есть кто?
Игорь хотел спрыгнуть, но полоса холодной воды стала так широка, что он бы уже не смог одним прыжком вернуться на берег.
В сомнении Игорь замешкался, стоя возле борта. И вдруг на пустой корме ожил и затарахтел двигатель. Настоящая тревога охватила Игоря. Бросившись в сторону звука, он закричал:
— Эй, стоп! Подождите! Эй, вы!
Ржавое суденышко медленно, но с каждой секундой ускоряя ход, двинулось в сторону открытого моря. В густом тумане никто с берега не услышал и не увидел его.
* * *
Вика ждала Игоря, сидя в машине. Хорошо, что он оставил ключи зажигания в замке, — девушка завела двигатель и включила печку. Иначе замерзла бы. Над заливом уже сгустились сумерки, и Вика сперва рассердилась, а потом испугалась. Куда он, в конце концов, мог подеваться?
Ну не ее же беременность так напугала его, что…
В сумке запикал мобильник: пришла смс-ка от Игоря. «Вика, не жди меня. Ушел с попутными. Постараюсь достичь горизонта».
— Что за?!.. Ах ты, сволочь!
Нелепые выходки — это еще можно понять. Но бросить ее сейчас одну, вот так! Уму непостижимо!
Пожалуй, даже для Игоря — это слишком.
Вику затрясло. Она почувствовала, что случившееся — последняя капля. Жирная точка в их отношениях. Огромная чернильная клякса. Не смываемая ничем, кроме…
Вика злилась, но даже представить не могла, насколько она близка к истине в своих фантазиях.
* * *
Тело Игоря обнаружили спустя полгода, в марте. Оно вмерзло в лед, и на него по чистой случайности наткнулись рыбаки — любители подледного лова.
Странные слухи о призрачном кораблике, управляемом мертвым капитаном, который похищает людей, чтобы поживиться их заблудшими душами, вряд ли могут служить серьезным объяснением его загадочной смерти.
Даже если никаких иных версий у следствия не имеется — в этакие сказки никто не поверит.
Ведь правда же?
ГОЛОСА НАД ВОДОЙ
г. Молога
В позапрошлый год лето выдалось такое жаркое, что родители решили: жестоко держать бедных детишек (то есть нас с Маринкой) в городе. Отец созвонился с родственниками, и нас быстренько спровадили на два оставшихся месяца каникул к двоюродной бабке, сестре моего давно умершего деда, Тамаре Алексеевне, в село Легково Ярославской области, под Рыбинском.
Бабка Тамара работала когда-то учительницей в школе. Видать, поэтому вся ее родня, уверовав в педагогические таланты старушки, сплавляла ей на летние каникулы своих чад. И угрызениями совести никто не мучился.
Считалось, что дети помогают старенькой бабушке по хозяйству.
На самом деле бабушка отлично справлялась сама. В свои восемьдесят пять она оказалась на редкость шустрой старушенцией: крепенькая, худенькая, с лицом коричневым от загара, словно подгоревший пирожок. Кстати, это была единственная ее беда: привычка делать сразу пять дел одновременно постоянно губила ее пироги. Увесистые, туго набитые начинкой, они были на редкость вкусными, но нижнюю корочку приходилось отскабливать ножом от угольков — пироги у бабки Тамары всегда чуток подгорали. Но никто в доме на это, разумеется, никогда не жаловался.
Мы с Маринкой думали, что будем безумно скучать в деревенской глуши — без компа и Интернета, без «танчиков» и «одноклассников». Но оказалось, что деревенская жизнь оффлайн тоже может быть приятно веселой и разнообразной.
Это было первое, в чем мы ошиблись: образ запущенного и печального дома одинокой несчастной бабушки, в котором нам придется проводить тягучие летние часы, заполненные мучительным бездельем или, наоборот — абсурдно утомительными в своей нескончаемости деревенскими заботами типа пропалывания какой-нибудь морковки. Приехав, мы обнаружили, что печальный домик набит детворой всех возрастов — нашими родственниками — троюродными и двоюродными братьями, сестрами, тетями и дядями. Какое-то время мы всё пытались установить точное родство между всеми нами, но потом оставили эту затею, потому что в любом случае выходило нелепо и бессмысленно. Это просто не укладывалось в голове: десятилетний сопляк Ромка приходился мне и Маринке почему-то дядей, а нашей двоюродной сестрой была тридцатидвухлетняя Наталья, которая помогала бабе Тамаре приглядывать за малышней.
Мы быстро освоились в бабушкином доме; никто нас особо работой не запрягал, и мы целыми днями то в футбол гоняли, то в вышибалы, то в бадминтон, то в казаки-разбойники, то в прятки. Но чаще всего просто купались и загорали на берегу водохранилища — от деревни оно располагалось недалеко.
И вот странное дело: местность там вокруг пустынная, никого ни разу мы не встретили у воды — ни приезжих рыбаков, ни местных жителей. Тропинка к берегу от села одна, так что, если б кто пошел по ней — мы бы с этим человеком непременно увиделись бы.
Но никого не было. Ни разу.
А вот голоса мы слышали постоянно. Издалека — то песни, то девичий смех, то вроде кто-то кого-то зовет, как матери детей на обед кличут. Особенно хорошо их было слышно вечером. Когда после заката наступает затишье: ни ветерок не дует, ни сверчки не стрекочут — далеко-далеко звуки разносятся по воде.
Мы все гадали: что это за люди? Где они?
Глеб, мой троюродный братан, утверждал, что это наверняка какие-то дачники повадились голышом купаться — и вот как-то хитро прячутся от всех. Он все мечтал застукать их, подсмотреть за теми девчонками, что так звонко хохочут.
— Да они, может, вообще на том берегу? — фыркали Светка с Маринкой, подсмеиваясь над Глебом. — Что ты, поплывешь за ними, что ли?!
— А может, и поплыву? — выпендривался Глеб.
— Ага. Десять раз. Там и берега-то не видно!
Противоположного берега нам и вправду было не видно. И даже Глеб понимал: до смеющихся девчонок ему не добраться. Но все равно хорохорился.
Пока однажды как-то вечером бабушка не услыхала наши разговоры. Она подошла к скамейке у ворот, где мы сидели своей теплой компанией и спорили без умолку. Маринка насмехалась над Глебом и придумала свою версию, почему мы никогда тех смеющихся девчонок не видим. Она сказала:
— А может, это русалки вас, дураков, дразнят? Зайдете вы в воду — а там лицо из-под воды. И руки. Утащат вас к себе на дно. Своими холодными лягушачьими лапами.
Она так это описывала, что нам как-то слегка не по себе стало. Но Глеб, конечно, не сдался и виду не подал.
— Откуда, — говорит, — в водохранилище русалки?
А Маринка — она любит всякую чепуху выдумывать:
— А у них там город! Вот под водой. Да!
И тут как раз подошла бабушка. Мы не заметили, как она приблизилась к нам в сумерках, и потому вздрогнули, когда она сказала:
— Точно. Там, где вы купаетесь, — там город. Я в нем родилась.
Мы обалдели. А бабушка села на скамеечку рядом с нами, руки сложила на коленях и тихеньким голоском рассказала свою историю.
— Город назывался Молога. Старинный был русский город, большой. Соборы в нем были, церкви, школы, больница, монастырь, сады, набережные, кинематограф даже… Рынок и кладбища. И дома. Много домов. Улицы мощеные и тротуары. А в 37-м году объявила советская власть, что здешнее водохранилище требуется расширить для электрической станции. Людей приказали выселить. Стон и плач до небес поднялись. Никто переезжать не хотел — ну как так? Родную землю бросать? Предки столетиями тут обживались.
И ведь ладно еще — избу на новое место перенести, невелика беда. Или там пожитки перетащить — много ли того добра было у народа? Но ведь могилы матери и отца не выроешь, косточки родные с собой не унесешь! Вот и плакали, и молились, и прощались. На кладбище вой стоял, бабы рыдали.
В город тогда войска нагнали, солдаты взрывали все высокие здания, чтобы они потом судоходству не помешали. Собор тоже. Заложили динамит, рванули — а он на воздух взлетел… и обратно целехонек приземлился. Так уж древние мастера церкви строили — прочно и на века. С третьего раза только удалось верхушку колокольни свалить, а потом и по кирпичику все разметали.
Опустела Молога. Но уехали не все. Нашлись среди наших упрямцы, что не захотели уезжать. Как ни уламывали их, как ни заставляли власти и родня. Сказали: топите город вместе с нами, а мы отсюда ни на шаг. Больше двухсот человек их было — верующие, в основном. Чтоб самим с перепугу не выплыть, приковались цепями к железным крестам на кладбище возле бывшего собора. И, когда в город хлынула вода, они — так говорили те, кто с берега на это смотрел, — псалмы пели. И смеялись. Как будто видение им какое-то открылось в последний миг. Но это уж тайна. Никто не знает, что они видели и чему радовались.
А теперь, если случается сильно теплое лето и море Рыбинское мелеет от жары, поднимается моя родная Молога с глубины на поверхность — на белый свет, на солнышко взглянуть. Тогда и мы можем кой с кем из прошлого перевидеться. Походить по неглубоким старым мостовым. Послушать, как летают над водой голоса мертвых. Вспомнить…
* * *
После того вечера мы больше никого не искали на берегу.
ГОСТЬ В ДОМЕ
г. Муром
Городок наш Муром хоть небольшой, но известен на Руси еще с языческих времен, а после Крещения и не единожды в летописях упоминается.
С самого начала славился он своими мастерами и торжищами, а когда при Батые сгорел Муром дотла, то было на пожарище место пустое, но недолго. Через полвека присоединили его московские князья к своим владениям, и стал город Муром крепче прежнего.
Из наших же мест и богатырь святой, о котором вся Русь наслышана и песни пела, — Илья Муромец, тот, который Идолище поганое и Соловья-разбойника, по преданию, одолел. Петр с Февронией, знаменитые чудотворцы, тоже отсюда.
И есть у города Мурома тайна, которую по сей день никто не разгадал. Говорится о ней смутно в летописях: мол, горел Муром не раз и не два на своем веку и выгорал дотла; злейшие, мол, были пожары.
А вот почему и откуда они у нас брались — о том только бабки по углам шепчутся да разные фантазеры, вроде старинного писателя Ермолая-Еразма, сказки рассказывают. Но то — сказки.
А есть истории, которые, можно сказать, совсем недавно и прямо на глазах у старожилов муромских случились.
* * *
Весной 1943 года Люба Ефимова получила похоронку на своего мужа, Александра Тимофеевича Ефимова, 1919 года рождения.
В те дни похоронки в село приходили нередко; многие бабы получили из рук почтарки Зинаиды серые конвертики. Эти бумажные семена всюду всходили одинаково: бедой и слезами, унынием и сердечной болью.
Но жизнь продолжала ход: словно большой ребенок, она ничего не желала понимать — каждодневно теребила женщин, требуя неустанных забот, труда и усилий.
Усталость не принимала в расчет и взваливала на них все больше. Многие бабы, поплакав, втягивались в свое беличье колесо, включались в общую суету и бег. И боль, и страх от утраты засыхали на их душах, как струпья на ранах, и незаметно по пути где-то отваливались. Дети, родители-старики, общие труды и время излечивали.
Но с Любкой вышло иначе.
Во-первых, у нее не было детей. С мужем своим, Александром, расписалась Любка всего за пару месяцев до начала войны, и завести ребеночка они не успели. Во-вторых, осиротела она задолго до свадьбы, и жила теперь одна в старой родительской избе.
Получив похоронку, Любка словно закаменела: ничего никому не сказала, ушла в дом, зарылась головой в белую пену подзоров и перин на супружеской постели и лежала пластом два дня, не вставая.
На третий день Любкина свекруха, Татьяна Ефимова, явилась, держа на руках младшего сыночка, двухлетнего Сережку, и постучала кулаком в окно, чтоб вызвать невестку на разговор.
У Татьяны сыновей было пятеро. Сашка, на которого Любке похоронка пришла, был средний. Старшие его оба брата и муж Татьяны, Тимофей Иванович, все на фронте воевали, а на руках оставались Сережка и близнецы-подростки, Маша и Миша. Татьяне недосуг было слезы лить: узнав о смерти сына, баба только перекрестилась, кинулась на колени под образа, помолилась Казанской Божьей Матери, а слезу смахнув, зубы покрепче сжала да за хозяйство и работу вновь принялась.
— Любка! Любка, выходи! — кричала, стуча в окно красным натруженным кулаком, свекруха. Белобрысый чумазый Сережка вертелся на руках у матери, извивался червяком, стараясь сползти вниз.
Любка не ответила и не вышла.
Татьяна подхватила Сережку, с досадой стукнула еще раз, так что пересохшая на солнце краска с наличника посыпалась, и ушла — пора было корову доить, из стада домой гнать. Не до Любки.
Подружки еще пытались расшевелить горемыку-Любку. Но без толку: женщина и в поле выходила с каменным, неживым лицом, работала как машина, ни с кем не разговаривая. Сталкиваясь с людьми на одной дорожке, молчала, постно глядела в землю и на глазах таяла свечой.
«Убивается девка, — шептались бабы в деревне. — Если так пойдет, приберет ее мертвый Санька, за собой утянет. А что ты сделаешь?»
* * *
Первые дни июня выдались богатыми на грозы. Как-то раз в субботу младшие дети Ефимовы — тринадцатилетняя Машка и ее брат-близнец Мишка — заигрались, прыгая на сеновале возле Любкиного дома.
Весь день вокруг холма, на котором стоит деревня, ходила кругами тяжелая лиловая туча. Ходила и ворчала, порыкивая, как пес, в сторонке.
Но к вечеру, разозлившись уже нешуточно, ударила молнией в колокольню Троицкого храма и пустилась хлестать землю и реку тугими струями дождя, стервенея до бешеной пены.
Все, кто оставался к тому времени на улице, убежали под крышу.
Забившись, как два воробья, от ливня под навес, Машка и Мишка поджимали босые ноги, прячась от холодных секущих брызг, вздрагивая всякий раз, когда в небе грохотали раскаты.
И вдруг увидали они такое, что не знали, что и подумать: длинный оранжевый сполох пал откуда-то с лиловых небес на Любкину избу, закрутил лохматым хвостом, поегозил над крышей, рассыпая искры, и, ввинтившись в кирпичную дымовую трубу, утек в дом огненной змейкой.
— Ой, — прошептала Машка. — Что это такое, Мишань?
— Что-что… Шаровая молния, — сказал Мишка. — Бежим, глянем!
И он припустил сквозь серую стену дождя к дому Любки. Машка кинулась за братом.
Вбежав на крыльцо, ребята заколотили в двери:
— Люба! Любанька, открой! Любаша!
Любка не откликалась.
Тогда Мишка выскочил снова под дождь, вспрыгнул на завалинку, обнимающую весь дом по обхвату, и пошел по узким досочкам, заглядывая в окошки сквозь прозрачные кисейные занавесочки.
Дойдя до окна залы, Мишка приставил ладонь козырьком ко лбу, вглядываясь сквозь стекло.
Он увидел Любку, сидевшую в зале, а напротив нее, за столом, — какого-то военного в зеленой гимнастерке. И лицо знакомое…
— Санька?! — От радости Мишка чуть не свалился с завалинки. Но опомнился: Санька же погиб!
Мурашки защекотали Мишкину спину, и он внимательнее вгляделся в мужскую фигуру за окном.
Была в ней какая-то несуразность, нелепость… А в чем именно — сразу и не поймешь.
— Ну что? — закрываясь рукой от дождя, допытывалась Машка, теребя Мишку за штанину. — Что там?
Брат пожал плечами, помотал головой.
И наконец сообразил, что такого странного в Любкином госте. Скатерка в комнате на столе свешивала бахрому вниз не более чем не ладонь. А вот ног военного из-под нее что-то не видать!
Значит, мужик тот, что сидит во главе стола на месте убитого Сашки, похожий на него и лицом, и фигурой, — безногий. Но только откуда он тут взялся? Не мог невидимкой мимо брата и сестры проскользнуть!
Что за чудеса?
И тут Любка повернула голову и заметила Мишкину тень в окне. Подбежала, распахнула раму, едва не засветив мальчишке по лбу.
— Шурин никак? Чего выглядываешь?
Любкины голубые глаза светились спокойной радостью. Как будто ничего плохого с ней отродясь на свете не случалось. И не было никакой похоронки…
Мишка вытянул шею, чтоб посмотреть на человека в Любкиной избе, — и язык у него отнялся: никого не было за столом в зале. Моргнул Мишка, а тот безногий военный — раз, и пропал.
У Мишки от удивления глаза сделались как пятаки.
— Ты чего молчишь-то, Мишаня? — засмеялась Любка.
Теперь и Машка заметила: что-то странное происходит. Ведь Любка веселой с начала войны не была. С того самого дня, как ее мужа, а их брата, Сашку, мобилизовали.
— Ну ты что, в молчанку играешь, что ли?
Мишка кое-как превозмог оторопь и, заикаясь, ответил:
— Да не, мы так… Идем, Машка, домой. Вымокли тут…
Спрыгнул вниз, схватил сестру за руку.
— Бежим, — скомандовал тихо, и они побежали с Машкой по улице.
По пути ошарашенный мальчишка думал, как сказать матери про то, что видел. Что это за безногий военный, и куда испарился он так быстро? Да еще и шаровая молния, которая в трубу ушла?
Сплошь небывальщина какая-то. Чертовщина!
* * *
«Мертвый. Мертвый», — стучало у Любки в голове, когда она, приоткрыв рот, пыталась дышать и все глядела сквозь слезы в спину уходящей почтарки.
С Любкиного лица так и не сошла улыбка, с которой она встретила Зинаиду, надеясь на весточку с фронта от любимого мужа.
«Мертвый», — подхватили ее мысль какие-то молоточки в голове — словно там размещалась крохотная кузенка. Причем мехом в ней служило Любкино сердце, полыхающее горьким огнем. И оно же было наковальней, по которой стучали, отзванивая во всю голову, в виски и уши, десятки железных молотков. «Мертвый. Мертвый».
Теперь Любка не думала о том, как ей жить и что делать дальше. Никакого «дальше» в ее понимании и не было — осталось одно прошлое, сияющее, застывшее ледяной глыбой поперек всего, словно затор на реке, — такая теперь у нее жизнь.
Молотки в голове трудились над глыбой льда, чтоб как-то обтесать ее поудобнее, может, даже расщепить на кусочки, поуменьшить и обойти — мертвый Саша, мертвый, ничего не поделаешь. Но глыба не поддавалась. Сверкала, слепила глаза, холодила грудь Любке, стараясь каждый сосудик, каждую каплю живой крови внутри поглотить, присвоить себе, чтобы тоже замерла, остановилась и засияла вечным ледяным покоем. «Мертвый!»
Страшное слово отдавалось всякий раз жгучей болью. Так же, как и родное имя: «Саша».
Пока однажды не пришел он, мертвый, к ней сам. Ночью встал под окном и поманил рукой: мол, торопись, открывай! На дворе гроза, ливень, молнии сверкают — а он стоит, и вода с него ручьем течет.
— Сашенька!
Любка заметалась, не помня себя.
Но потом, когда Сашины знакомые руки прижали ее голову крепко к его плечу, горячие губы отыскали ее рот и жадно, неистово, поцеловали…
— Сашенька…
Ей даже стыдно было наутро: все-таки война. Бабы в холодных вдовьих постелях плачут. Дети без отцов. Старики мучаются.
А она?..
Но внутри все клокотало от счастья, выпирало безудержно на поверхность, как весенняя духовитая жирная земля приподнимается бледными ростками травы вверх, вверх и прочь. С дороги, все тяжелое, грязное, лишнее! Счастье прорастало из Любки — из веселых глаз, из лукавой улыбки, из порывистой, быстрой походки, и скрывать его становилось все труднее.
Изредка, правда, находили на Любку сомнения.
— Саша, откуда же ты взялся? Ведь мне похоронку на тебя прислали! Отчего матери не покажешься? — робко спрашивала она мужа, когда откидывались они оба в жаркой перине, отдыхая друг от друга, но все же не разнимая рук. Саша задумчиво смотрел на Любку, гладил по голове, пропуская струи пшеничных кос сквозь пальцы. И отвечал:
— Любонька, Любаша… Ты ведь меня ждала, звала меня. Ты, а не мать. А теперь что, не рада, что ли? Люби меня, Любка! Вот он я, перед тобой, как есть. Не спрашивай.
И накидывался на жену с поцелуями. И опять забывала Любка обо всем…
* * *
Что в доме у Любки бывает какой-то мужик, Татьяне Ефимовой, свекрухе, соседка донесла. Первый раз Татьяна не поверила, отмахнулась: враки! В деревне свои мужики все наперечет, а чужим откуда взяться? Померещилось деревенской сплетнице. Но когда и другие бабы начали шептаться про гостя в Любкином доме, про огненных змеев над крышей у нее по ночам… Задумалась Татьяна. Спросила совета у старой бабушки-знахарки, и та ей честно сказала: если гостя ночного не отвадить — сгинет Любка.
— А что ж делать-то, а? — огорчилась Татьяна.
— Поговори с невесткой, — велела бабушка. — А я тебя научу.
* * *
Напросилась Татьяна к Любке для разговору.
Любка Татьяну встретила в сенях, но дальше порога не пустила. Смотрела исподлобья, дичилась и нет-нет — на часы поглядывала, будто ждала чего-то. Или кого-то.
Татьяна покачала головой, глядя на Любку. В лице ее светилось сочувствие, но взгляд был суров.
— А ты, наверное, думаешь, не видит никто, не знает, а?
— Что… не видит?
— Ой, Любаша, — сказала Татьяна. — Ты передо мной-то не ломайся! Лучше скажи честно, как есть, — ходит он к тебе?
— Кто он? — вспыхнула Любка.
— Сашка, кто же, — понизив голос, спросила Татьяна. Слезы навернулись ей на глаза, а сердце сдавило.
Любаша стояла перед ней, привалившись к косяку, и не решалась двери в дом перед свекрухой распахнуть.
Но и Татьяна не могла себя пересилить: если б даже Любка и позвала ее зайти внутрь чистенькой светелки — не пошла бы она. Ей все казалось, что несет из Любкиной избы серой, адским смрадом.
— Не знаю, слыхала ли ты, Любаша, какие в наших местах странные вещи случались, — сказала Татьяна напрямую. — Про летуна…
Любаня подняла глаза на свекровь, усмехнулась.
— Что это вы, сказочкой меня порадовать пришли? Мне в детстве бабуля про такое говорила. Она жития любила читать. Про князя Петра и его жену Февронию, про их врага-летуна, огненного змея-оборотня.
— Грех тебе, Любаня! — качая головой, сказала Татьяна. И добавила: — Ты смерти Сашиной испугалась. Но есть вещи и похуже смерти. Подумай!
Любка подняла голову. В глазах ее плавала голубая дымка, пустая и холодная.
— Да ты ж на себя не похожа! — испугалась свекровь. — Сгубит он тебя, дурочка.
Жалкая кривая ухмылка была ответом. Нет, не желала Любанина душа возвращаться к родным берегам из каких-то своих дальних волшебных странствий.
— Ладно. — Татьяна вздохнула. — Думай как знаешь. Вот, это я тебе принесла. Деда моего солдатский образок. Когда-то отдал его моему отцу, а отец — мне. Говорил — со святым Ильей сам черт не страшен. Спрячь образок в доме, пусть просто у тебя будет. Может, убережет, вразумит в трудную минуту.
На Любкином лице — все та же улыбка играет, пустая и бессмысленная, как лёт желтого листка поздней осенью, — куда б ни полетел он, везде ему гибель.
Но крохотную иконку святого Ильи Муромского, вложенную Татьяной прямо в руку ей, взяла Любка.
* * *
Ночью поднялся ветер. Окна дрожали в старых рамах, и тоскливо завывало в печной трубе. Любка лежала одна на холодной постели, не смыкала глаз, — ждала.
— Люба! Любаша! — послышалось из темноты. — Что ты сделала?
— Саша? — вскинулась Любка. — Где ты?
— Войти не могу, — отозвался раздраженный мужской голос. — Что ты сделала?
В стену избы что-то глухо стукнуло снаружи, стекла затряслись, зазвенели.
— Если ждешь меня по-прежнему — позови! — потребовал голос.
Любка послушно села на кровати, откинула одеяло. Спустив на пол босые ноги, почувствовала, как холодным сквозняком задувает между щелями в полу. Саша все мечтал старый пол новыми досками перестелить, но ведь то еще до войны было. А нынешнему Саше ничего не надо, кроме нее одной, — ни дома, ни детишек. Ничего.
Что-то вязко повернулось в глубине Любкиной души, словно рыба плеснула в омуте — и зыбь побежала, исказила зеркальную тихую гладь. Забеспокоилась Любка, засвербело что-то в ее сердце.
— Любаша, голубка! — взывал мужской голос.
Ежась от холода, Любка подошла к окошку, откинула занавеску. Вот же он, Саша. Стоит, рукой машет.
Улыбнулась Любка, обрадовалась.
— Открывай, женщина, открывай, — торопит ее гость ночной. А из глаз его — красные искры летят.
— Саша? — переспросила Любка, задрав брови. Жалобно прозвучал ее слабый голос.
— Открывай! — прорычал тот, снаружи. Ветер вторил ему, заглушая слова.
Любка распахнула окно: ветер ворвался в дом, взвились и забились занавески. Ничего не видать. Где же Саша?
Сжавшись, глядела Любка в темноту сухими отчаянными глазами и ждала, ждала… Но только красные сполохи крутились, рассыпая искры, в ночной темноте, и невнятное бормотание слышалось в порывах ветра:
— Не могу, не могу войти. Что ты сделала?
Все слабее и глуше звучал родной голос. Ветер метался по избе, обнимал ледяными руками Любкины плечи, трепал ее волосы. Но Любка не замечала: перегнувшись через подоконник, она звала мужа:
— Саша! Сашенька!
Сорвалась со стены фотография в рамке: счастливые молодые Саша и Люба в день свадьбы. У Любы бровки домиком, коса надо лбом калачиком, у Саши лицо строгое, а глаза улыбаются. Крепкие сильные руки на плечах молодой жены.
— Саша!
Ветер рванул и захлопнул, наконец, окно. В жерле печи что-то зашипело, едко запахло дымом. Любка обернулась — вот же он, Саша, прямо перед ней стоит. Нет, не стоит. Висит в воздухе. И лицо его — не лицо, а огонь.
— Звала? Иди ко мне, — усмехнулся Саша и, высунув раздвоенный горящий язык, лизнул кисейную занавеску за спиной Любки. Посыпались искры, занавеска заполыхала. Саша засмеялся, закрутился волчком, и услышала Любка треск пламени: огненный вихрь выскочил из печи, закружил по комнате.
— Саша, — прошептала Любка. Рухнула на колени и закрыла глаза.
* * *
Когда на следующий день Татьяна пришла проведать невестку, она увидела, что Любка лежит мертвая на постели. Окна и двери во всем доме закрыты, и все вещи на местах. Лицо у покойницы кроткое, доброе — как обычно. Только стеклянные глаза смотрят с наивным удивлением. В правой руке зажат образок со святым Илией, а в левой, положенной на груди, фотография любимого мужа.
Следователь, приехавший из города, объяснил Татьяне, что, судя по всем признакам, смерть Любы Ефимовой не была насильственной. Просто в печной трубе загорелась сажа — вот и задохнулась женщина во сне. Обгорелую занавеску следователь во внимание не принял, а Татьяна, по понятным причинам, спорить с милицией не собиралась.
Слезы жгли ей глаза, и в груди что-то больно кололось. Татьяна поохала, повздыхала, но все же стерпела.
Оно и понятно: война. Все терпят, и она сумеет.
ПАЛИСАДНИК
г. Тутаев
Старуху за глаза звали все Постылихой: настоящее имя словно выветрилось, стерлось от времени.
Дом ее — теремок в кружевах с палисадником, заросшим сиренью, — стоял на левобережной стороне Тутаева, романовской части бывшего Романова-Борисоглебска, недалеко от пристани.
Все, кто шел от реки, проходили мимо ее дома и в любое время года, дня и ночи заставали старуху на своем посту, тенью притаившейся в палисаднике возле калитки.
— Не подскажете, как на Архангельскую улицу пройти?
— Который час?
— Рыжую собачку не видели?
— А где тут поблизости сберкасса?
Столько разных вопросов задавали бабке прохожие! Ни один не спрашивал — для чего она тут стоит, утруждает старые ноги. Зачем мокнет под дождем или страдает от палящего солнца? Никого это не волновало.
Да и те случайные вопросы и просьбы, которых удостаивалась старуха, были мимолетны, подобны дыханию ветра или шелесту листвы. Пока старуха собиралась с силами — размыкала пересохшие губы, шамкала ввалившимся ртом, извлекая из горла скрипучий, слабый, едва слышный звук, — прохожие уже понимали, что толку от разговора не будет, улыбались (если они были вежливы) или сразу поворачивались и уходили (если не очень). Последнее случалось чаще.
И глаза Постылихи, серые, как талый снег в конце зимы, слезились от горя, когда она видела спину очередного уходящего собеседника.
Она очень хотела быть полезной и нужной — людям это необходимо, чтобы чувствовать себя живыми, — но физическое состояние не позволяло. Старые мощи уже как будто приспосабливались к переходу за край жизни.
Однако душа застряла, зацепившись по случайности — отстала. И все в бабке было таким — замедленным, отставшим.
Запустив процесс говорения, бедная старуха не могла остановиться. Как старинная игрушка с заведенной пружиной — открыв рот и даже видя, что собеседник ушел, она продолжала вещать. Из давно погасших глаз сочились тягучие слезы, а она говорила, говорила…
Всегда одно и то же, впрочем: жаловалась на то, как постыла ей жизнь.
Все умерли, кто был дорог ей, все, ради кого она когда-то существовала. Она пережила не только семью, детей и родственников, но даже из ее современников никого не осталось уже.
И теперь она ждала, когда и ей позволят наконец уйти. Простодушно мигая подслеповатыми слезящимися глазами, вглядывалась в мир. И пыталась поведать о своем ожидании всем. Будто надеялась, что кто-то из прохожих когда-нибудь смилуется, добровольно примет на себя обязанности вестника и приведет к ней ту, кого она так давно и тщетно звала: Смерть.
— Забыла она обо мне, что ли? Жизнь-то постылая, деточки, — шамкала бабка.
Ребятишки из соседних домов смеялись, слушая ее безумные речи, обращенные неизвестно к кому.
У старухи не было сил сердиться на детей.
Тревожным взглядом она обшаривала улицу и печально умолкала — в конце концов, когда «завод» кончался.
* * *
Тутаев — город небольшой. Никто не ожидает в нем криминальных страстей подобно тем, какие кипят в обеих столицах.
Какие здесь беды? Молодая шантрапа, драки по пьяни, воровство, незаконная порубка, мошенники… Мелочь!
Поэтому, когда случились одно за другим три жестоких убийства молодых женщин, весь город всполошился. В нескольких районах на окраинах жители организовали добровольные патрули. Милиция настороженнее стала относиться к приезжим и к местным из числа бывших рецидивистов. Да и сами граждане и гражданки сделались поосмотрительнее в вопросах безопасности.
Благодаря принятым мерам убийца дважды едва не попался на горячем, но все же ему удавалось всякий раз ускользнуть, сбежать.
Он был хитрый и ловкий душегуб. Но даже самые хитрые совершают ошибки.
* * *
Это случилось вечером в пятницу, 12 ноября.
22-летняя Надя Шорохова возвращалась с правого берега Волги от подруги. Задержалась, переписывая лекции для зачетов, и вместо восьмичасового парома пришлось ехать десятичасовым.
Про маньяка Надя была в курсе, но, как большая часть молодежи, побаиваясь, в глубине души не верила, что плохое может случиться именно с ней. Опасность по-настоящему всегда грозит другим — не тебе.
Поэтому, услыхав чьи-то шаги за спиной, Надя не слишком встревожилась.
Направляясь домой обычным путем, она свернула на темную улочку, в стороне от большой дороги. Здесь еще слышны были голоса людей, сошедших с того же парома и так же, как и Надя, возвращающихся домой.
В переулке, куда свернула девушка, фонари горели не все, но и сам переулочек не был ни широк, ни длинен, и Надя считала, что сумеет быстро проскочить его. А там уже и до своей улицы и дома рукой подать.
— Девушка! Простите, пожалуйста, — окликнул ее кто-то сзади. — Вы местная?
Надя вздрогнула и обернулась: в пятне света от фонаря неподалеку стоял молодой человек. Симпатичный, светловолосый, в легкой, не по погоде, светлой курточке и темных джинсах. Застенчиво улыбаясь, он смотрел на Надю, чуть склонив голову. В руке мял какой-то предмет — то ли свернутую газету, то ли небольшую спортивную шапку. Окинув взглядом худощавую фигуру парня, Надя решила, что такой тип вряд ли может быть ей опасен: в плечах узковат, да и ростом Надя, пожалуй, повыше его будет.
— Что? — не слишком вежливо спросила она, благоразумно застывая на безопасном расстоянии от чужака, рядом с калиткой какого-то частного дома. Парень стеснительно хохотнул.
— Девушка, вы только не бойтесь. Если вы местная… Знаете, я хоть и приезжий, но слышал, что тут у вас творится. Вы, пожалуйста, не бойтесь! — торопливо объяснял молодой человек все с той же застенчивой усмешкой на лице.
— А никто никого не боится! — строго заявила Надя, хотя сердце у нее в этот момент невпопад екнуло, ударило лишний разок.
Парень засмеялся.
— Да, конечно. Я так, на всякий случай… Понимаете, какая штука. Я в вашем городе недавно, из района приехал, к родственникам. К тетке двоюродной. А она приболела, ну и послали меня в аптеку. Просили побыстрее. Как идти — объяснили, а я, лопух, забыл. Уже и спрашивал тут кого-то… Но вы сами видите, прохожих-то не больно много. Брожу тут кругами и никак не найду. Плутаю небось в трех соснах. Может, вы меня проводите? Вы же наверняка знаете, где тут эта проклятая дежурная аптека. А?
Первым побуждением Нади было отказаться. Максимум: в двух словах объяснить парню, что аптека здесь только одна, с зеленым крестом под вывеской двухэтажного небольшого торгового центра, и топать до нее еще минут двадцать. Недолго, если знать куда. Два поворота направо, потом через перекресток прямо…
Она взглянула на молодого человека. Худющий. Не качок какой-нибудь. И глаза такие хорошие. Улыбается. Вспомнилось Наде, как в прошлом году зимой сама она бежала в ту же самую аптеку, по гололеду. У матери давление подскочило, да еще, как назло, и лекарство в доме закончилось. И как тогда Надя загремела на одном из этих поворотов — растянулась, шипя на всю улицу от боли. Боялась, что ногу вывихнула. Но боялась, конечно, не за ногу свою, а за то, что бежать теперь быстро не сможет, а мать в ожидании еще больше разволнуется. Ей с ее давлением только и волноваться.
И неожиданно для самой себя…
— Ладно, — ворчливо согласилась Надя. — Пойдемте. Провожу вас.
— Да?! — Парень, казалось, своему счастью не поверил. Чуть не подскочил от радости. — Вот и отлично! Давайте познакомимся.
Он для чего-то оглянулся назад: переулочек был по-прежнему пуст и темен. Пассажиры, сошедшие с парома, давно разошлись, покинули набережную.
— Меня Миша зовут, — сказал парень и подошел ближе. — Где вы тут? Я в темноте плохо вижу.
Надя вспомнила, что при его появлении она вжалась в тень, спряталась под нависающим над оградой кустом сирени. Засмеялась и выступила вперед, к свету.
— А меня… Надя, — хотела она сказать, но не успела. Миша, худенький улыбчивый паренек, едва увидев девушку, бросился вперед и схватил ее за горло обеими руками. Руки у него оказались цепкие и жесткие, как стальная проволока.
— Ахххаррр…
Надежда попыталась закричать, оттолкнуть, но в глазах завертелись черные круги, и даже жалкий писк не протискивался наружу сквозь сдавленное горло. Надя махала, инстинктивно лупила руками воздух, молотила изо всех сил, но даже до лица мерзавца дотянуться не могла.
Теперь она видела его глаза совсем близко — сливочные, цвета вареной сгущенки. Выражение их не было добрым или злым, оно было сосредоточенным. Как будто человек просто выполнял свою работу. Вдумчиво и добросовестно. И решительно — видно было, что не отступит. Странный липкий взгляд, приклеившись, не отпускал — тяготил, словно затаскивая ее, обессилевшую, в глубокую темную нору… В могилу.
Все это прометнулось в голове у Нади за какие-то доли секунды — и все: сознание начало мерцать и гаснуть, точно тот убогий фонарь, что освещал улицу.
Задыхаясь, девушка слышала громкий хрип со зловещим тонким присвистом, но понимание уже начало отставать от слуха — мысли приходили с задержкой. Она не сразу догадалась, что это она сама хрипит — это свои собственные последние вздохи ловит ватными руками.
Убийца понял это гораздо раньше. И улыбнулся. Может ли быть на свете что-то страшнее этой улыбки?
Может.
За мгновение до того, как Надя потеряла сознание и свалилась тяжелым кулем прямо в жидкую осеннюю грязь на крохотной темной улочке, — ее убийца поднял полные торжества глаза и вдруг увидел напротив себя какое-то существо.
Белое лицо, провалившийся нос, черные впадины глазниц и обнаженные до красных десен острые зубы — настоящее чудовище. И оно ухмылялось — жуткий оскал искажал и без того уродливые черты.
— Хрррабрецц, — сказало существо. — Хвалю.
Маньяк отшатнулся и выпустил горло почти задушенной девушки. Лишь доли секунды не хватило ему, чтобы покончить с ней.
В начале переулка показалась большая компания каких-то очень веселых — или, скорее, навеселе — людей. Но все же они были достаточно трезвы, чтобы заметить, что возле дома с палисадником творится неладное. Они увидели тощего парня, вцепившегося в горло девушки, — красноречивая поза, ничего хорошего не сулящая жертве.
Кто-то из прохожих закричал. Убийца дрогнул и метнулся в тень, убегая.
— Куда? Где он? Где?!
Первый подбежавший из компании бросился поднимать еле живую Надю, остальные, рассвирепев, кинулись за убийцей. Но они упустили бы его и на этот раз, потому что никто не успел заметить — в какую сторону побежал негодяй после того, как его скрыла тень.
— Куда он делся?! — кричали, кидаясь бестолково из стороны в сторону, мужчины.
И тут от калитки отделилась тень — черная фигура Постылихи. Она качнулась вперед, и худая, слабая рука указала направление:
— Там, — сказала старуха, недвусмысленно улыбаясь.
— Спасибо, бабушка, — убегая в нужную сторону, крикнул на ходу кто-то из мужиков.
Безмятежная улыбка на лице старухи стала еще шире.
Маньяка поймали.
Город и родственники жертв ликовали.
А когда на следующий день к Постылихе пришли, чтобы поблагодарить ее и заодно снять свидетельские показания, выяснилось, что старуха мертва.
У калитки прислоненным стоит ее труп, и, как впоследствии с удивлением объяснил патологоанатом, жизни в этом теле не было уже более двух суток.
Смерть все-таки явилась к старухе.
И, может быть, за столь долгое и преданное ожидание бессердечная безносая Дама наградила Постылиху крошечной привилегией: позволила ненадолго вернуться, чтобы в самый ответственный момент все-таки сделать то, чего несчастной женщине хотелось больше всего, — ответить напоследок на важный вопрос и по-настоящему пригодиться людям.
Чтобы было кому вспомнить ее добром — ее, никому не нужную, всеми забытую старуху, пережившую всех, кого она любила.
БАНЬКА
Владимирская область
Мой старый школьный друг Илюха Егоров просто обожал русскую баню. Он любил ее вдумчиво: соблюдал эстетику процесса, изучал традиции, интересовался мифологией. Столько он всего про баню знал! Докопался даже до славянских легенд о происхождении человека.
— Ты понимаешь, какая вещь, Толян! — говорил он мне. — Оказывается, неспроста в банях гадали в старину. Для славян баня являлась местом сакральным. По народным поверьям, языческие божки создали человека из банных обмылков, очесов и ветошек. Отсюда, следовательно, и россказни про нечистую силу в банях, про всяких банных и чертей!
Однако, собирая все эти байки, Илюха всерьез никогда к ним не относился — посмеивался над банными суевериями. До поры до времени.
* * *
Как-то раз один приятель попросил нас с Илюхой отогнать машину в его деревню. Сам он намеревался на несколько месяцев уехать за границу работать по контракту, и, как обычно, перед отъездом накопилась у него масса всяких срочных дел, так что с машиной обернуться никак он не успевал. А оставлять тачку в городе под окном считал рискованным: и колеса снимут, и стекла побьют — жалко.
— Не откажите, мужики! — сказал он нам. — Смотаетесь на выходные, поставите мою «ласточку» в гараж, а сами отдохнете заодно. А, мужики? На озере рыбалка классная. И, кстати, баня у меня там отличная на участке. Ты ж это любишь, Илюх?
Он нас уламывал, а мы не особенно и сопротивлялись: что там, Владимирская область? Четыреста километров — не Магадан.
Согласились мы с Ильей. Затарились пивом, взяли удочки и снеди всякой на пару дней. Илюха заранее радовался — предвкушал, как мы шашлычков пожарим, в бане попаримся, а после в озере сполоснемся и пивка попьем.
Выехали на двух машинах: Илюхиной и приятеля, которую и надо было в гараже запереть на время отсутствия хозяина.
Вечером в пятницу вся трасса оказалась забита чуть не до границы области. Измучились мы с Илюхой за рулем — вместо четырех часов ехали больше семи. В деревню прибыли в сумерках, приятелево имение в потемках едва разыскали. Намаялись так, что уже и к шашлыкам охота прошла.
Но раз было решено — не отступать же. Не по-мужски!
Пока машины разгружали, ставили в гараж «ласточку», осваивались в доме и обустраивали мангал — времени еще утекло. Тьма кромешная, комары налетели.
Я остался на полянке перед домом шашлыки жарить, а Илюха пошел с баней разбираться: воду в котел заливать, дрова колоть.
Из-за забора на нас неодобрительно поглядывал древний дедок — его огород по-соседски примыкал к «фазенде» нашего приятеля. Старик топтался то на крыльце своего дома, высматривая — что мы там, на полянке, делаем, то выходил на огород и прохаживался по нему одиноким орлом…
Увидав, как Илюха носит дрова к бане, чтобы затопить, старик поджал губы и проворчал:
— Додумались. На ночь глядя… Не боитесь после полуночи с чертями париться?!
Посмеялись мы с Илюхой на его воркотню и занялись каждый своим делом.
Около полуночи шашлыки у меня были уже готовы. Я окликнул Илюху, чтоб он шел есть, но он то ли не услышал, то ли опять за дровами в сарай ушел.
Поел я без него, бутылочку светлого высосал. Посидел на крылечке, отмахиваясь от комаров. На небо луна выкатилась, огромная — весь двор словно молоком залило. Каждую травиночку видно. Хорошо!
Только холод стал донимать — все-таки у нас не тропики, ночи зябкие.
Посмотрел на часы — мать честная! Полночь давно. Ну, думаю, как бы там ни было, а за столько времени уже три бани истопить можно. А Илюха все не шел.
Ну, раз гора не идет к Магомету, решил я… Собрался сам и по тропиночке к бане направился.
Прихожу — дверь в предбанник нараспашку, Илюхи нет. А баня натоплена жарко. Может, напарился мой дружбан до полного угару да к озеру побежал, охолонуться? Ну так сам вернется скоро. Не стал я его дожидаться — разделся и на полок залез. Согрелся. Сижу, блаженствую. Веничек дубовый запарил, на каменку из ковшичка плеснул — хорошо. Пар душистый клубами всю баню заполонил.
Вдруг слышу — дверь заскрипела, и Илюхин голос:
— Что, никак паришься без меня?
— А ты как думал? — отвечаю. — Меня не позвал. Первый пар себе одному загрести думал?
— Да я и не парился еще, — Илюха говорит. — Сейчас вот поддам жару…
И плесканул на каменку. Да так, что я еле утерпел — дышать стало нечем, и не видно ни зги. Чую — Илюха под боком толкается, на полок лезет.
Сидим, потеем. Илюха говорит:
— Давай веничком тебя попарю.
Дал я ему веник, повернулся спиной. Илюха веником машет — сперва легонько по спине охаживал, а потом как пошел хлобыстать — у меня глаза на лоб полезли.
— Эй, — кричу, — ты что-то разошелся! Что я тебе, Терминатор, что ли?!
Глянул вниз — а под полком, где воздух похолоднее и пара нету, яснее ясного видно: у дружка моего Илюхи не ноги, а… копыта. Перестукивает он ими, переминаясь на одном месте, и, слышу, приговаривает с усмешкой:
— Терпи-терпи. То ли еще будет… в аду!
Не помню, как я из бани вылетел — успел только полотенце в предбаннике схватить. Очнулся где-то на тропинке, на полдороге между домом и озером. Тихо кругом, в небе луна, звезды светят.
И прямо передо мной — Илюха. С полотенцем на плече от озера идет.
— Где ж ты ходишь-то, — говорит, — Толян? Везде тебя искал.
А у меня челюсть трясется и руки-ноги дрожат. В какую это историю я угодил? Не пойму в чем дело: вот он, Илюха, друг-приятель мой старинный, давний, стоит передо мной. Такой же вроде, как и всегда: глаза карие, нос картошкой, волосы темные, встрепанные. На щеке родинка с левой стороны. Смотрит на меня, как будто я с луны упал.
— Ты, — говорит, — чего такой?
— Какой — такой? — спрашиваю. А у самого челюсть мелко подрагивает, и зубы пляшут, друг на друга не попадают.
— Да странный какой-то. — Илюха плечами пожал. — В баню-то пойдем? А то ведь простынет, весь жар уйдет. Даром, что ли, топил, возился?
Что мне было ему сказать? На смех подымет. Скажет — перепил крепкого бочкового. Белочку словил. Насмешек после долго не оберешься.
А сам думаю: может, это я заснул в той бане нечаянно? Или правда померещилось? Мало ли как оно бывает. Но признаваться Илюхе, что трушу с ним в баню пойти, — ну, это совсем не дело. Ладно, думаю, была не была, где наша не пропадала!
— Идем, — говорю, — скорее.
Пришли мы с Илюхой в баню. Я дверь в парную открыл, посмотрел — ничего и никого. Даже веник мой на полке сухой лежит!
Разделись мы, зашли в парную, дверь закрыли. Я на полок не полез, внизу, на скамеечке устроился. А Илюха радуется — простыню расстелил, улегся на полке повыше.
— Поддай-ка, — просит, — на каменку.
Я в ковшичек воды набрал — поплескал, как он просит. Окутало нас жаром и паром, словно в теплую перину завернули. Сидим, пот с меня ручьями течет. Намылился я, мочалкой обтерся. И тут Илья веник мне в руки сует и просит — похлещи!
Ну, я его похлестал. А он:
— Слабовато что-то. Ты посильней давай!
Я посильней дал. А Илюха смеется:
— Да ты зря качался, что ли? Сильней надо!
Я со всей дури как пошел махать — аж руку чуть себе не вывихнул, а он все одно и то же твердит:
— Сильней давай! Чего силы жалеешь?!
Запыхался я, стою в поту, в мыле.
— Дай мне, — говорю, — хоть передохнуть, водичкой освежиться.
— На том свете, — Илюха отвечает, — передохнешь.
И голос такой чудной.
Я глянул — а у него пониже спины что-то черное извивается. Мать честная! Хвост.
Не выдержал я — заорал и сбежал опять из проклятой бани. Все побросал там — одежду, полотенце. В чем мать родила бегу к дому. У крыльца там свет горит.
А из дверей — Илюха. Увидел меня — обрадовался, руками замахал. Морда, правда, обиженная:
— Ты куда, — говорит, — Толян, подевался-то?
Пихнул я его с крылечка в кусты, шмыгнул в дом, дверь запер и забаррикадировался там. От греха подальше.
Слышу — Илюха ругается на чем свет стоит, на грядку упал, в земле извозился.
— Ты что, — кричит мне, — ошалел?!
А я притаился и не отвечаю. Не знаю я, чего мне ему сказать.
Стучался Илья, колотился в дом, но я так ему и не уступил: не открыл двери. Спать, конечно, нормально все равно не смог — какой тут, к едрене-бабушке, сон?!
Так и просидел до утра в кресле, завернувшись в одеяло и клацая зубами от ужаса.
А Илюха покричал-постучал да плюнул. Ушел куда-то.
Утром выяснилось — в машине спал, с включенным двигателем, чтоб не замерзнуть.
Тоже, конечно, не выспался толком.
Ох и злющий же у нас на другой день разговор был!
Встретились на крыльце, как на Эльбе.
Рассказал я ему — была не была — обо всей чертовщине, которая со мной в бане ночью творилась. Илюха поначалу смотрел на меня сердито и с подозрением, а потом вздохнул и признался:
— Я бы, — говорит, — конечно, никогда в такие идиотские байки не поверил бы. Если б сам на своей шкуре вчера не испробовал.
И он рассказал, как все было с его точки зрения.
Затопив баню, он какое-то время сидел возле печки, подбрасывал дрова, следил за температурой воды. Когда вода уже нагрелась, подумал, что, может, стоит еще дровишек заготовить, а то неизвестно, как эта печка жар держит, может, придется ее подтапливать, а дров-то уже нет.
Притворил он дверь в баню и пошел в сарай. Но поленья все показались ему толстоваты, поэтому он взял топор и начал колоть их на полешки потоньше.
Заготовил сколько-то, взял в охапку и пошел обратно через поляну, чтобы заодно и меня позвать, сказать, что баня уже готова.
Рассчитывал меня возле мангала застать.
— Но там никого не было, — тараща на меня круглые коровьи глаза, пояснял Илюха. — Я сразу подумал, что ты, меня не дождавшись, в баню пошел. Подхожу к дверям — а там заперто. И слышно, что внутри кто-то возится, хохочет, заливается. Я удивился: кроме тебя-то, Толян, никого в бане не может быть.
Только с чего ж ты ржешь там как конь? Дотянулся я на цыпочках и в окошко заглянул. А там все в пару, в дыму… И девка какая-то! Поворачивается ко мне лицом, глазами зыркает и рукой машет — зовет. Мол, давай сюда, ко мне иди.
Я там чуть не свалился вместе с дровами. Ничего себе, думаю, дает Толян! На час его одного с шашлыками оставил, а он уже девицу где-то подцепил. Да еще какую шалаву бесстыжую!
Ушел обратно в сарай, сижу — жду. Пока сидел один — засомневался. Откуда ж это Толька мог бабу подцепить среди ночи в маленькой деревне? Здесь же все с петухами ложатся, и вообще кругом одно старичье.
Подозрительно мне это показалось. Вернулся я к бане — а там дверь нараспашку. Захожу потихоньку внутрь — никого. И что странно: веники, ковшик, шайки — все внутри сухое, будто никого и не было. Стою, соображаю — вдруг дверь как хлопнет! И по крыше — дробно, россыпью застучало, будто десять мужиков там чечетку бьют.
Грохот стоит — оглохнуть можно! У меня аж сердце екнуло: ну, думаю, нашлись шутники. Сейчас крышу проломят — чего мы хозяину-то говорить будем?
Выскочил из бани, себя не помня, смотрю — никого нет. Ни на крыше, ни рядом, ни кругом. Луна же! Отлично все до самого горизонта видать.
Тут уж я всерьез за себя испугался. Решил, что это у меня галлюцинации.
Пошел опять тебя разыскивать — нигде тебя нет, ни в доме, ни на полянке. И вдруг слышу — на озере кто-то разговаривает. Может, думаю, и правда Толька кого-то встретил, купаться пошли? Вышел на берег — никого.
Я опять к бане. Захожу — слышу, кто-то моется, шайкой стучит. Я кричу:
— Толька, это ты?
И слышу в ответ:
— Да, заходи! Куда пропал? Весь пар-то первый себе заберу, — хихикает там кто-то.
Я дверцу в парную открыл, заглядываю осторожненько — а на полке девка грудастая лежит, веником банным обмахивается, как веером. И рыбий хвост у нее вместо ног свешивается!
Я как это увидел — оторопел. Хотел уйти, а конечности меня не слушаются. Как будто прирос к полу. Затмение нашло. В глазах черно. Что после было — толком и не скажу, не помню.
Знаю только, что возле дома очнулся — увидел тебя, обрадовался, замаячил тебе рукой-то… А ты, ни слова не говоря, как пнул меня с дорожки в крапиву!
Я там обстрекался весь да на вскопанную грядку улетел, перевозился в земле. За такую подлянку убить тебя готов был. Одно меня смутило: уж больно морда у тебя, Толян, какая-то перепуганная была. Глаза как блюдца — аж косые от страха. Никогда я тебя таким не видел! Засомневался.
* * *
Поговорили мы так с Илюхой, посовещались. Что за странные напасти с этой баней? Сколько бывали мы здесь раньше с нашим приятелем — ничего такого не приключалось прежде ни с нами, и ни с кем.
Получается, дедок-сосед правду сказал: после полуночи из бани чистым не выйдешь. В эту пору там только чертям раздолье.
Мы с Илюхой это на собственной шкуре испытали, а если кому охота — пусть на своей испытает. Только я не советую — кто его знает, чем кончится затея? В бане человек гол, слаб и беззащитен, как лист на ветру.
ТИХИЙ УГОЛ
Тамбовская область
В сентябре 2005 года я возненавидел человечество. Такое может случиться со всяким, если черная полоса жизни затягивается слишком надолго.
Если бы в то время кто-нибудь сдавал внаем домишко где-то на Северном полюсе, я б ухватился за эту возможность и, не раздумывая, отправился в одиночную зимовку. Мне казалось, только немедленное бегство от всех и вся могло бы спасти меня от приступа мизантропии и накопления ненужного яда в организме.
Поэтому я обратился к рекламным объявлениям, и вскоре глаз зацепился за интригующее название «Тихий угол».
Пансионат «Тихий угол», расположенный в сосновом бору на берегу реки Цна в полутыще километров от Москвы и в тридцати километрах от Тамбова, предлагал «уютные номера по европейским стандартам», трехразовое питание, баню, тренажерный и кинозал, а также рыбалку, конные прогулки и т. д. и т. п.
Одним словом — все удовольствия на природе, с комфортом и недорого.
Но главное — это было достаточно далеко от того места и тех людей, от которых я хотел убежать.
Тут же набрал я номер, указанный в объявлении. После пятого или шестого гудка трубку сняли, и приятный мужской голос сообщил, что свободные номера в наличии имеются, и, ежели я пожелаю, можно прямо сегодня заселиться в любой из них.
— А много ли у вас сейчас народу?
— Если честно — практически пусто. Не сезон, — словно бы извиняясь, сказал молодой человек.
— Годится, — обрадовался я. — Еду.
Мой собеседник задал еще пару вопросов, занес данные в компьютер и сообщил, что бронь оформлена на мое имя — на Сорокина Дмитрия Сергеевича, менеджера по развитию, место постоянной регистрации — Москва.
— Как ехать думаете, Дмитрий Сергеевич? Поездом?
— На машине.
— С навигатором?
— Без.
— Можно распечатать карту проезда с нашего сайта. Желаю удачно добраться! Ждем вас.
* * *
К счастью, в сентябре в наших широтах темнеет еще не слишком рано. Я прикинул расстояние и маршрут и выехал в середине дня, рассчитывая добраться до места засветло.
По пути останавливался только, чтоб дозаправить свою прожорливую малышку CRV.
Спустя пять часов благополучно миновал Тамбов и уже предвкушал, что еще минут тридцать — и смогу выпить и закусить в баре гостиницы, а потом, приняв горячий душ, растянуться на свежих, может быть, даже хрустящих от крахмала, чистых простынях в своем номере и хорошенько вздремнуть.
Все мои чудесные планы спутала синяя «семерка». С головой погрузившись в меланхолию, я не заметил, как на дороге появился другой автомобиль. Он возник будто из воздуха прямо перед моим носом.
Возможно, за рулем там сидели отмороженные на всю голову ребятишки — из тех, что промышляют банальными автоподставами. Задний бампер «семерки» я увидел лишь в самый последний момент, когда затормозить уже не было возможности. Машинам грозило столкновение — более чем вероятное.
Я и подумать не успел — руки сами отреагировали: вцепились в руль, инстинктивно закрутили его влево. Машина выскочила на обочину. На этой дороге областного значения она выглядела очень неухоженной. Мусор, щебенка…
И огромные ямы. Влетев в одну из них на полном ходу, я ощутил, как подпрыгнула машина. А потом раздался грохот — рвануло переднее колесо.
Заскочив в яму, оно деформировалось и буквально взорвалось под брюхом автомобиля. Повезло еще, что коренастый городской джип, на совесть сработанный японцами, проявил самурайскую стойкость и не перевернулся. В таких условиях все было возможно.
Я остановил машину, трясущимися руками заглушил двигатель и какое-то время просто сидел, приходя в себя.
Бесшабашная «семерка», из-за которой я чуть не влип в серьезную аварию, унеслась за поворот, моргая фарами. Трасса опустела.
Дорогу со всех сторон обступал густой смешанный лес. Солнце, клонящееся к закату, насквозь протыкало спицами лучей кроны больших деревьев, пачкая листву кровавыми пятнами.
Я вылез из автомобиля, походил вокруг, разминая затекшие конечности, стараясь успокоиться и снять мандраж.
Легкий осенний ветерок игриво поворошил мне волосы, а затем предательски скользнул под рубашку, и я продрог от его холодных и сырых объятий.
Это напомнило мне, что ночь приближается, и, хотя осень выдалась в этом году относительно теплая, оставаться под открытым небом не стоит.
Я вернулся в машину, щелкнул кнопкой, открывая багажник, и, уже подняв крышку его, сообразил, что запаски у меня нет. Прежнюю я недавно отдал приятелю, а новую так и не завел. Столичные дороги балуют водителей. Вот я и забыл. Проявил беспечность и безответственность.
И это еще не все, холодея, вспомнил я.
Перед поездкой я вставил в телефон новую симку. Нарочно, чтоб никто не звонил и не доставал меня там, где я буду. А в ее телефонной книге значился только один номер — пансионата. Но и он оказался сейчас «вне зоны доступа».
Что ж… Можно не сомневаться: обязанность водителя иметь в машине запаску запомнится мне отныне и крепко, и надолго.
Чертыхнувшись, я огляделся по сторонам. Никого и ничего.
Я достаточно далеко отъехал от города, чтобы уже не ждать милостей от цивилизации в виде автосервиса.
Если и рассчитывать на кого, так только на случайно проезжающих мимо автолюбителей. Но мне и в этом отношении не повезло: вечер воскресенья. Вряд ли какой-нибудь Чип или Дейл поспешит мне сейчас на помощь.
Тяжело вздохнув, я вернулся в машину, взял с заднего сиденья свою куртку, сумку с деньгами и документами, вынул ключи из замка зажигания и запер машину на сигналку.
Впереди маячил сквозь ветви деревьев большой дорожный указатель — поворот на какое-то село. Насколько я помню карту, которую видел на сайте пансионата, именно от этого указателя я должен был свернуть на второстепенную дорогу. К сожалению, карту я не распечатывал — положился на свою память.
Почему-то теперь у меня не было уверенности, что это тот самый проселок. И спросить не у кого.
Но ведь все равно пансионат недалеко отсюда.
И если уж в этот «Тихий угол» наведываются автотуристы, то где-нибудь поблизости должен быть автосервис.
Захламленный гараж какого-нибудь Иваныча или Петровича — местного Левши, который уж наверное сумеет вызволить меня из нелепой беды посредством золотых рук, смекалки и забористого волшебного русского слова.
Ведь без таких Иванычей ни одно село не обходится. Во всяком случае, мне хотелось в это верить. (Кажется, как раз в этот момент моя мизантропия дала трещину — маленькую, но ощутимую.)
Я надел куртку, закинул сумку на плечо и пошел, ориентируясь на указатель. Если верить ему, до ближайшего села пешедралить предстояло немало — километров пять.
За неширокой лесополосой лежало огромное сжатое поле пшеницы. Издалека его желто-коричневое пятно напоминало вытертый плюш мягкой игрушки, но вблизи пучки срезанной соломы оказались жесткими и колкими. Я отказался от идеи сократить путь через него и зашагал по пыльной бетонке, которая, петляя, убегала куда-то за холмы, упираясь в лиловую полосу леса и низко нависшие над ним сизые тучи.
За холмами виднелась серая крыша какого-то строения, и я обрадовался, решив, что поселок с гаражом, который я искал, вероятно, ближе, чем мне показалось вначале.
Но, поднявшись на пригорок, я убедился, что первоначальный расчет, увы, был верен: с дороги виднелась гигантская крыша какого-то хозяйственного строения, вероятно, заброшенного коровника. Домов рядом с ним не было ни одного.
С беспокойством отметив, что небо наливается мраком так быстро, словно кто-то сверху поливает его чернилами, я отправился дальше. Черная асфальтовая дорога ответвлялась влево, огибая зачем-то очередной клин лесополосы и возвращаясь обратно уже позади него: сквозь редкие ряды молодых березок я разглядел, как по другую сторону какой-то старый грузовичок, натужно ревя, преодолевает дорожные колдобины.
«Пожалуй, успею его перехватить, если срежу прямо здесь, через этот хилый лесочек», — решил я и, сойдя с дороги, шагнул в траву.
Это было ошибкой, и я убедился в этом довольно скоро. Сразу за первым рядом деревьев я наткнулся на бурелом из упавших или срезанных веток, огромной беспорядочной кучей наброшенных посреди лесополосы. Я попытался обойти препятствие, радуясь, что могу ориентироваться на грохот мотора грузовичка.
Но, пока я обходил завалы, грохот стих, а я неожиданно оказался в довольно густом лесу.
Молодые и старые ели окружили меня, как будто выражая недовольство незваным гостем, без спросу забравшимся в их владения. В сырых ямках, заполненных палой листвой, чернела вода. Опасаясь промочить ноги, я петлял среди деревьев и ям, и в конце концов набрел на настоящее болото, затянутое ряской в зарослях осоки. Что-то удержало меня сделать еще шажок по яркой и ровной зеленой полянке: я отошел в сторону, задев ногой черную вонючую жижу, — и вовремя. Под ногой громко чавкнуло — еще немного — и болото затянуло бы меня в свое влажное ненасытное чрево. Выбираясь с гибельного места, я едва не оставил там свои кроссовки.
Только тогда я признал, наконец, что дело плохо, и забеспокоился всерьез. В лесочке, показавшемся мне обманчиво редким, стемнело, а я все еще не нашел выхода. Стремясь выбраться обратно к дороге, я сделал несколько неверных попыток и окончательно заблудился.
В наступившем сумраке я слышал только собственное возбужденное дыхание, треск веток от моих шагов и отвратительное чавканье сырой земли под ногами.
Какая глупость, ругал я себя. Разве это возможно — в здравом уме и трезвой памяти вот так утратить направление, отойдя всего-то с пару километров от асфальтовой дороги?! Давненько же я не бывал на природе. Я просто забыл, что это такое.
Я продрог и устал, но не имел в настоящий момент никаких желаний, кроме одного: оказаться, наконец, поближе к людям. Не хочу сказать, что успел соскучиться по ним, но человеческое общество означает прежде всего возможность наличия еды, воды, теплой постели и крыши над головой.
В ответ на отчаянные мысленные призывы я услышал только завывание собаки где-то вдали.
Не имея других идей, я повернулся и стал пробираться в ту же сторону, осторожно отводя от лица острые ветви, хищно нацеленные из мрака прямо мне в глаза. Даже не знаю, с чего я вообразил, что воет именно собака, а не волк.
Скорее всего, это была малодушная привычка горожанина, постоянно пребывающего в ласковых, убаюкивающих объятиях комфорта, — не думать о страшном, беспечно рассчитывая на безопасность по умолчанию.
Как бы то ни было, вой, жалобный и протяжный, вскоре стих, но взамен между ветвями елей я различил крохотный желтый огонек. Я пошел к нему и на этот раз угадал верно: через пятьсот метров окаянный лесок все-таки закончился.
Едва не выхлестнув себе напоследок глаз каким-то гибким, некстати подвернувшимся молодым деревцем, я выбрался из чащобы на открытое пространство и увидел слева грозно нависающую тень с иззубренными краями. Чертыхнувшись, я отшатнулся в сторону, но потом догадался, что никакой опасности нет: тень эта — всего лишь развалины какого-то высокого здания. В ночи силуэт его выглядел зловеще, но и только.
Справа, метрах в трехстах, теплилось окошко жилого дома. Сквозь пришторенные занавески я увидел чью-то сгорбленную фигуру, прилипшую к подоконнику.
Кто-то смотрел в мою сторону, пытаясь различить во мгле источник шума.
Никогда не думал, что сумею так обрадоваться при виде дряхлой деревенской избы с неизвестными обитателями.
Дрожа от пронизывающего холода, я постучался в двери одинокого дома.
— Кто? — откликнулся слабый старческий голос.
— Э-э-э, — я вдруг растерялся, не зная, что ответить на этот простой вопрос. Обычно, чтобы успокоить хозяев дома, говорят: «Свои», — но в данном случае это было бы явным обманом. А представляться по всей форме, как на светском рауте или на собеседовании в фирме, в подобных условиях было бы неестественно.
— Эй, ты там? — не услышав моего ответа, полюбопытствовал голос.
— Я тут, — пробормотал я.
— Ась? — не расслышали с той стороны. — Чего пришел-то? Чего надо?
Я пожал плечами. Надо-то мне было много чего: поесть, попить, поспать. Запасное колесо надо.
— Откройте дверь, пожалуйста! Холодно тут, — невпопад ответил я.
За дверью, наверное, удивились. Последовала пауза, потом стукнула щеколда, и дверь, скрипнув, приоткрылась сантиметра на три. Тусклый свет, горящий в сенях, осветил крыльцо. Я заметил, что мои джинсы и руки изгвазданы в земле — не знаю, когда и где я умудрился так замараться.
А вот лица хозяина мне по-прежнему не было видно. Он стоял спиной к свету, укрываясь за притолокой.
Сбиваясь и перескакивая с пятого на десятое, я попытался объяснить ситуацию: ехал, подрезали, пробил колесо, заблудился. Впервые за всю жизнь мне приходилось выступать в роли просителя, из тех, которым так «пить хочется, что аж переночевать негде». И это, конечно, удручало.
Я пытался примерить на себя обстоятельства, в которых оказался хозяин… Или хозяйка? Ни черта в этой темноте не разберешь, а голос из щели в двери шел какой-то неопределенный в смысле гендерной принадлежности. Просто по-стариковски тихий, дребезжащий голос.
Пустил бы я сам переночевать в дом неизвестно кого — чумазого лошка с улицы, припершегося без спроса среди ночи? В городе, в своей квартире я бы однозначно ответил — нет. Но теперь, проскитавшись несколько часов по сырому осеннему лесу ночью, уставший, замерзший и голодный… Остается надеяться, что в этом деревенском доме живут люди поумнее и помилосерднее меня — мизантропа, эгоиста и горожанина.
— Заходи давай. Здесь переночуешь, — сказал хозяин избы, открывая дверь шире и впуская меня в сени.
Бинго! В этой деревне еще не забыли, что такое настоящий гуманизм.
— Заходи, а то избу выстудишь! И правда, холодно нынче, — велел хозяин. Мне даже показалось, что в голосе его звякнули довольные нотки, как будто моя просьба его не только не напрягла, но обрадовала.
Я счистил грязь с кроссовок, поскребя ими о порог и вошел.
И обнаружил, что все это время общался все-таки с хозяйкой. Дряхлое, сгорбленное существо принадлежало, скорее, к женскому роду, хотя надеты на ней были какие-то теплые лыжные штаны с начесом и клетчатая мужская рубаха. Но голову она повязала платком — цветастым, ситцевым. Серый пуховый лежал у бабки на плечах.
Если б я не испытывал к этой старой женщине острого чувства благодарности за то, что она пустила меня в дом, я б, наверное, испугался. Внешностью она, говоря по правде, мало отличалась от какой-нибудь киношной Бабы-яги: толстый нос крючком, беззубый и почти безгубый провалившийся рот, брови седыми клочьями над бесцветными подслеповатыми глазами и печально обвисшие пустые мешочки щек, испещренные морщинами, как измятая оберточная бумага.
Да и дом, запущенный и грязноватый, мог послужить неплохой декорацией для фильмов ужасов. При виде гнилых углов, затянутых паутиной, и ржавых вил, лопат и косы, стоящих за дверью, мне стало не по себе.
— А чёй-то один ты сегодня? — поинтересовалась бабка. Наверное, все-таки спутала меня с кем-то старая. Да есть ли смысл лезть с объяснениями? Похоже, она не только подслеповата, но и на ухо туга.
— Чего встал-то, как не родной? Проходи! — сказала бабка и открыла передо мной обитую рваной узорчатой клеенкой дверь в теплую половину избы.
Я вошел — стукнувшись лбом о низкую притолоку так, что в голове загудело. Зашипев от боли, принялся растирать ушиб, а бабка спокойно прокомментировала из-за моей спины:
— Кланяться надо, в дом заходя.
Вошла, пригнувшись, и перекрестилась на потемневшие лики икон в углу. Я пожал плечами и поклонился тем же иконам — на всякий случай.
— Ну что? Вечерять будешь? — спросила бабка. — Хлебушек есть и молоко.
Откуда-то из-за печи она достала открытый пакет «Домика в деревне» и поставила на стол рядом с граненым стаканом мутного зеленоватого стекла. «Привет от цивилизации», — подумал я, внутренне содрогаясь. Но за стол сел и угощение принял — не отказываться же.
* * *
Старуха отвела мне для сна угол за печкой, отгороженный фанерными стенами от основного помещения. В этом закутке стояла старинная деревянная кровать с матрасом и множеством подушек. И, хотя постель оказалась сыровата, а от одеяла попахивало псиной, я так устал, что заснул почти сразу, как только принял горизонтальное положение. Закрыв глаза, сквозь дрему слушал напевное бормотание бабки перед иконами и чуял легкий запах горящих свечей.
«Надеюсь, она не подпалит дом», — подумал я, медленно погружаясь в тяжелый, мертвый сон без сновидений.
«Господи, прости, Господи, помилуй, Господи, избави от лукавого… Упокой, Господи, души рабы Твоей грешной, Елизаветы, и раба Твоего грешного, Леонтия, царство небесное…» — шептала бабка за тонкой перегородкой и еще зачем-то скребла и царапала ногтями по фанерному листу.
А может быть, это и не она была? Может быть, что-то еще находилось в доме, о чем я не знал?
Понятия не имею. Я заснул.
Проснулся я от грохота. Вскочил, не разбирая спросонья, где нахожусь и что происходит. Выглянул в комнату — свечи перед иконами уже оплыли, и один крохотный огонек плясал в лужице воска, того гляди — захлебнется. Бабки в комнате не оказалось.
А стучали за стенкой, с улицы.
Пошатываясь и зевая, я подошел к низенькому оконцу, взглянуть, что там творится.
И обалдел.
Напротив дома в ночи стояла толпа — целая процессия с факелами. Мужчины и женщины. Все молодые или среднего возраста, ни одного старика, подростка, ребенка. И все одеты как-то чудно. В темноте особых подробностей было не разобрать, но мысль о массовке для кинофильма в стиле советского ретро посетила меня, наверное, неспроста.
Все эти люди смотрели на мое окно. Бескровные, угрюмые лица, озаренные пламенем, выражали надежду и одновременно — отчаяние и тоску. Чего они хотели, чего ждали?
Шестеро мужчин, переминаясь, держали на плечах открытый гроб. Женщины вытирали слезы концами платков, наброшенных на плечи и головы. Высокий плечистый дядька в круглых очочках топтался на крыльце у входа, а парень лет двадцати, коренастый и кудрявый, стучал в двери дома.
— Открывай, Лизавета! Открывай, обществу надоть!
«Куда ж это подевалась моя бабка? — задумался я. — Лизавета? Ну да. Она ведь назвалась Елизаветой Ивановной?»
Хозяйка как сквозь землю провалилась. А в дверь стучали так требовательно и громко, что я испугался — не развалится ли ветхая избенка от такого напора.
Пора разобраться с этими ночными визитерами. В конце концов, должен же я чем-то отблагодарить приютившую меня несчастную старуху? Наверное, она перепугалась и прячется где-нибудь в темном углу, дрожа от страха.
— Елизавета Ивановна! Не бойтесь. Я сам с ними поговорю. Они сейчас уйдут! — громко сказал я, надеясь, что старуха меня услышит. Оделся и выскочил в коридор, захватив свечу.
Памятуя, как давеча бабка зажигала в сенях электричество, я попытался нащупать выключатель, но не нашел. Дверь сотрясла новая серия ударов.
— Лизавета, Лизавета! — призывал требовательный мужской голос.
Я подошел к двери, осмотрел щеколду и засов. С удовлетворением отметил, что они вполне надежны. Уверенным и громким голосом произнес:
— Елизаветы Ивановны дома нет! — И уставился в закрытую дубовую дверь. Вряд ли они попытаются сломать ее, мелькнула беспокойная мысль. А если и захотят — вряд ли сумеют, успокоил я сам себя.
И повторил громче, чтобы услышали:
— Нету дома бабки!
— Батюшка Леонтий, отвори! Помилосердствуй! Без попа не можем хоронить. Прости ты нас. Отвори!
— Нет здесь никаких попов! — крикнул я, удивленный. Опять меня с кем-то спутали? Что-то во всем здешнем кавардаке странное творится.
— Церковь открыта стоит, ждет тебя, батюшка Леонтий! — жалобным фальцетом сказали из-за двери. — Прости ты нас, окаянных. Не можем без попа хоронить…
— Да какой я вам батюшка?! Что вы все, с ума посходили? Русским же языком сказано: нету здесь никаких попов. И хозяйки, Елизаветы Ивановны, нету!
Я уже ничего не понимал и начал сердиться всерьез. Что это они, шутят так, что ли, всей деревней? «Церковь открыта стоит…» Какая церковь? Те развалины, которые я видел, уже и церковью не назовешь — одни стены.
Белены эти люди объелись или водки где-то нажрались — в любом случае, это не мое дело.
— Не стучите больше — все равно не открою! Имейте совесть, — сказал я твердым, насколько мог, голосом и направился длинным коридором обратно в горницу. Помню, что коснулся прохладного металла — рука моя легла на ручку двери… И вдруг услышал совсем рядом с собой:
— Прости ты нас, батюшка. Без попа земля не принимает.
Обернулся — а они все за моей спиной толпятся: мужчины, женщины. Как они вошли?! Ведь я дверей не открывал. Дверь, как была, так и стояла запертая. А эти, с факелами, в сенях… Бледные лица, горящие глаза.
— Прости нас, прости.
И кланяются. И покойник в гробу тут же. Сел, руки протянул:
— Прости!
Черный рот мертвого кривится, расползается и рвется по уголкам губ:
— Прости. Прости.
Кинулся я от них в горницу, про низкий косяк забыл и влетел в него лбом с разбегу — только искры из глаз и в ушах звон.
Через порог упал рыбкой, перевернулся на спину… Последнее, что увидел, — толпу в дверях и мертвеца, вцепившегося в деревянные борта гроба лунными костлявыми руками. Потом завертелось все и провалилось куда-то в пропасть, к чертям.
* * *
Очнулся я утром, на той самой кровати, на которую ложился вечером. В тусклое грязное оконце пробивался неяркий осенний рассвет, на рассохшейся старой раме серебрилась и дрожала крохотная паутинка. Я смотрел, как она трепещет от дуновения сквозняка, через какую-то щель пробиравшегося в дом, и вспоминал, где нахожусь и что случилось вчера.
Единственное, что я помнил отчетливо и в чем не сомневался ни минуты, — это была подрезавшая меня «семерка», из-за которой я пробил колесо. Все остальное казалось маловероятным, смутным и ненастоящим.
Голова, между прочим, болела адски.
Если б не это, я бы, конечно, решил, что все, произошедшее в этом доме вечером — особенно покойник, севший в гробу, и люди, проходящие сквозь запертые двери, — выдумка. Но голова болела как раз в том самом месте, где я вчера расшиб ее о притолоку. Осторожно пощупав лоб, я убедился, что с правой стороны от линии волос у меня обширная, болезненно пульсирующая припухлость. Рядом с постелью валялась свеча — оплывший восковой огрызок.
Может, странная бабка, Елизавета Ивановна, чем-то опоила меня вчера? Какими-нибудь эксклюзивными, экологически чистыми мухоморами прямо с грядки?
Подумав так, я поспешно проверил свои вещи — одежду, куртку и сумку с деньгами и документами. Все оказалось на месте, ничего не пропало. И на том спасибо, сказал я сам себе. Оделся и вышел в горницу, рассчитывая поблагодарить хозяйку за приют и поскорее покинуть это чудное место, полное чертовщины и наваждений.
Однако я никого не нашел: изба стояла пустая. Ни малейших следов хозяйки.
Мало того: если вчера, осматриваясь в доме, я отметил, что строение это захламленное и дряхлое, то сегодня, при белом свете дня, оно показалось мне и вовсе нежилым!
Закопченные, во многих местах побитые окна, почернелые стены, выглядывающие из-под обвисших обоев. Повсюду пыль и плесень в сырых углах под потолком.
И холод — в этом доме очень давно не топили. Воздух был просто ледяным, я видел пар от моего дыхания. Как же я спал в таком холоде?! Кисловатый дух затхлости, который ощутил я еще вчера, усилился. От всего этого мне сделалось не по себе.
Для очистки совести я обошел дом, заглянул во все углы и закоулки, соблюдая предельную осторожность, — вчерашней бабки нигде не оказалось.
Тогда я вынул из кошелька 300 рублей и положил на середину стола, придавив купюры зеленым стаканом, из которого вчера пил молоко. Если старуха вернется — она эти деньги найдет. Если она вообще существует…
Содрогнувшись, я вышел на крыльцо.
Одинокая изба, в которой мне довелось провести эту ночь, стояла почти что посреди леса.
Закопченные полуразрушенные стены старой церкви виднелись сквозь молодые сосенки справа, слева простиралось по-осеннему рыжее поле сухой переросшей некошеной травы, тут и там засоренное тонкими хлыстами молодых осин. Среди бурьяна, блестящего от росы, — несколько домиков.
Они осели и сгорбились трухлявыми крышами, нахохлились, словно коты, подобравшие под себя лапы и спящие на согретой солнышком лужайке с бессмысленно безмятежным видом.
Вся история мертвой деревни предстала передо мной как на ладони. Люди забросили свои дома, и на нехоженых дорогах и улочках начал прорастать молодой лес.
Лес подбирался к спящим людским жилищам и втягивал их в себя. Столько лет жители деревни питались лесными богатствами, и теперь лес медленно восстанавливал справедливость, питаясь людским добром, поглощая нажитое ими имущество.
Развалины старой церкви он тоже силился проглотить, но камень есть камень: труднее подольститься, сложнее втереться в доверие.
А потом какой-то случайный пожар — может быть, от удара молнии — и трухлявые сухие бревна загорелись. Огонь перекинулся от одной избы на другую, на церковь. Уцелел лишь один из домов — тот, в котором я ночевал.
Наверное, потому, что был укрыт каменным строением, зданием церкви. Может быть, это и вправду был дом священника?
А может, все было совсем не так, как мне представилось.
Интересно, есть ли на земле кто-нибудь, кто мог бы рассказать мне историю этой погибшей деревни?
Впрочем, я даже не знаю, как она называется.
Да и что мне до нее, в конце концов?
Я примерно помнил направление, откуда пришел, и теперь шагал в обратную сторону, по пути рассуждая про себя о невозможности того, что случилось ночью, и о собственном душевном здоровье (или нездоровье?).
Спустя час мне повезло: я выбрался, наконец, на трассу.
Первый же автолюбитель, которого я остановил, согласился подкинуть меня до моей машины, брошенной неподалеку от указателя поворота на поселок Хомутляй. Водитель сказал, что это единственное поблизости ответвление от федеральной дороги.
Я поведал водителю (его звали Володя) свою историю о подрезавшей «семерке» и моих ночных приключениях. О тех деталях, в которых сам я не был уверен, умолчал.
Володя посочувствовал мне. И охотно поделился информацией о гараже местного автомобильного гуру, мастера Сергеича.
— Он, если хочешь, это колесо тебе отбортует, на камеру посадит — легко на нем до Москвы доедешь. Давай сейчас возьмем твое колесо, я тебя сразу к нему отвезу! — предложил Володя.
Он даже помог мне снять пробитое колесо. Потом мы вместе поехали к Сергеичу, и тот, с шутками и прибаутками, как-то между делом, болтая с Володей, за полчаса все сделал. Денег Сергеич взял с меня совсем не много, а Володя, привезший меня обратно к машине, и вовсе ничего за помощь не запросил.
«Да пустяки! Все ж мы люди-человеки. Когда-нибудь и ты мне поможешь. Если нагряну к тебе в Москву», — на прощание Володя хитро подмигнул мне и уехал на своей старенькой, дребезжащей «Ниве».
А я завел свою японскую малышку и спустя полчаса все-таки закончил путь, отыскав среди живописных тамбовских пейзажей пансионат «Тихий угол».
Пока молодой курносый портье искал мою бронь, изучая данные моего паспорта и сверяя их с записями у себя в компьютере, я решил немножко расспросить его.
— Скажи-ка, а много ли тут деревень поблизости? — спросил я.
— Да ни одной, — усмехнулся парень. — Будьте спокойны, тут у нас и вправду тихий угол. Глушь! Тут даже персонал нанять негде было — все городские.
— Да ну? Что, даже горничные? Даже посудомойки?
— Нет, ну из поселка еще есть люди. Так то ж поселок. Там магазины, клуб…
— Ну да. А все-таки на карте какая-то деревня была. Там еще развалины старой церкви… Не знаешь, что это за деревня?
— Может, Горелая? Только там никаких развалин нету. Деревушка совсем небольшая.
— Странно. А мне говорили — церковь каменная. Развалины…
Портье поднял голову и, заметив мой разочарованный вид, подумал и сказал:
— Вообще-то я тоже слышал про развалины. Только никогда не видел их. У нас ходят слухи, что эту самую деревню Горелое основали переселенцы. С какого-то старого места сюда пришли. Было где-то у них село и там церквушка каменная, батюшка местный в ней служил. Но в 30-е годы, при советской власти, когда с религией сильно боролись, эти деревенские своего попа расстреляли вместе с попадьей. Сами. Он им запретил церковь грабить, стыдил, активистов ругал. Ну и нашелся там у них какой-то отморозок — и попа с попадьей расстреляли, и церковь в отместку подожгли.
Но от горящей церкви и вся деревня загорелась. Так что люди там больше жить не могли. Отстраиваться по новой почему-то не стали. Кто уцелел, ушли на другое место. А новую деревню для памяти Горелой назвали. Если честно, у нас многие думают, что неспроста они все оттуда ушли. Мутная какая-то история там приключилась. Никто правды не рассказал. Но уже и не расскажет, конечно.
— М-да, интересно, — сказал я.
— Да чего тут интересного! — ухмыльнулся портье. — Вот вечером у нас дискотека будет — вот то да. Приходите. — Он вернул мне паспорт и передал ключ от номера.
В «Тихом углу» я пробыл не меньше недели. Отдохнул, сил набрался. К людям подобрел. Живые, они все-таки поприятнее мертвых, что ни говори.
Я не однажды пытался после отыскать ту заброшенную деревню с призраками и развалинами горелой церкви. Но больше мне это ни разу не удалось. Возможно, это капризы моей полосатой, как зебра, судьбы. А может быть, у призраков тоже случаются приступы мизантропии. И они попросту не желают встречаться с людьми.
МЕДВЕДЬ
Смоленская область
Поначалу никакого страха мы не испытывали — ни я, ни товарищи мои. Страх появился потом.
Он нарастал постепенно, подспудно. Когда мы поняли, что всему случившемуся нет рационального объяснения. Когда стало ясно, что мы перешли какую-то зыбкую грань, которую переходить не стоило. Когда осознали, что надеяться на время бессмысленно: не уляжется ничего, не забудется, не утрясется.
Наоборот. С каждым годом тревога наша будет усиливаться.
Встречаясь, мы предпочитаем не говорить о том, что нам довелось увидеть. Мы всегда соблюдаем этот молчаливый уговор, потому что… Мы знаем — почему.
* * *
Осенью 2007 года мы с двумя товарищами и коллегами по работе, Виктором Харитоновым и Леней Бортником, выбрались поохотиться в места, о которых нам рассказал кто-то из приятелей. Дескать, от Москвы недалеко, а леса там глухие и дичь практически непуганая. Вокруг полно пустующих деревенских домов, и местное население только радо гостям, поскольку возможностей заработать там немного. Крестьяне живут, в основном, натуральным хозяйством, и продукты у них дешевы.
Поверив таким рекомендациям, мы оформили двухнедельные отпуска и прибыли в деревеньку на окраине Смоленской области, вблизи белорусской границы и крохотных, не отмеченных на карте притоков реки Угры.
Ржавый «пазик» — эти мастодонты, оказывается, все еще ползают по здешним дорогам — высадил нас под дождем у развилки. Водитель сказал, что обычно он подвозит пассажиров к самой деревне, но теперь… «Сами видите! Развезло. Сяду здесь на брюхо — кто вытаскивать станет?»
Он махнул нам, двери «пазика» закрылись, и маленький горбатый автобус, фырча мотором и шумно подгазовывая, уехал. А мы, взвалив на плечи рюкзаки и снаряжение, потопали по глинистым скользким берегам луж, вольготно раскинувшимся на дороге, к поселку. Мокрые опавшие листья, желтые и коричневые, сбитые в кучи, усеивали обочины.
Поселок выглядел уныло. Десяток угрюмых черных изб за покосившимися заборами и ни единой живой души на улицах. Ни собак, ни кошек, никакой живности. Даже в окна никто не выглянул, чтобы посмотреть, что за люди явились на ночь глядя в деревню.
Нам пришлось долго стучать в двери и окна «дома возле колодца, пятый, если считать от дороги» (именно так нам описали дом тети Даши, в котором мы предполагали найти ночлег, благодаря хлопотам приятеля и договоренности его с хозяйкой).
Наконец нам открыли. Мы ожидали увидеть какую-нибудь дряхлую старушенцию, но нам отворила дверь девушка, почти девчонка на вид — светленькая и тоненькая, как былинка в поле. Симпатичная. Я бы назвал ее даже красивой, если б не глаза. Таких испуганных, лихорадочно бегающих глаз у красивых женщин не бывает.
Вежливо поздоровавшись, Леонид спросил хозяйку.
— Я хозяйка, — прошептала девчонка, обшаривая наши лица взглядом. Леонид закашлялся.
— А нам сказали — дом тети Даши…
— Да. Это моя мама. Она умерла, — быстро сказала девушка, зябко передернув плечами.
— Простите. Мы не знали, — забормотал Леня, отступая на шаг. Мы с Виктором тоже буркнули что-то сочувственное и поглядели друг на друга: вот это номер!
— Когда же это случилось? Ведь мы звонили четыре дня назад.
— Позавчера.
— Простите, девушка, как вас зовут?
— Маша.
— Мария, вы нас извините, пожалуйста. Но мы договаривались с вашей мамой…
В другой ситуации Леня, скорее всего, не решился бы проявлять настойчивость. Но деваться нам было, по правде говоря, некуда. Автобус, которым мы приехали, шел последним по расписанию — общественный транспорт в здешней глуши нечасто случается. И если мы не найдем ночлега…
Девушка подумала, рассматривая нас в упор, покрутила тоненький хвостик недлинной косы и сказала:
— Да, я знаю. Ну раз так получилось… Проходите, пожалуйста. Я пущу вас во флигель. Только вы не шумите. У меня ребенок спит.
На мой взгляд, она сама была еще вполне ребенок, но, может быть, я ошибался в отношении ее возраста. Под вешалкой в прихожей я заметил детские сапожки. Судя по их размеру, ребенок у Марии был не грудничок — наверное, лет пяти-шести.
Девушка провела нас по коридору, разделяющему теплую и холодную половины избы, через заднее крыльцо к пристройке. Это был маленький сруб в два окна — небольшая комната, разделенная посередине русской печкой.
— Мама топила здесь, так что вы не замерзнете, — без улыбки сказала Мария. — Располагайтесь. Два места на полатях и вот тут диванчик.
Она отдернула занавеску справа и показала нам колченогий продавленный диван, застеленный сверху каким-то истертым ковриком.
— Белье и одеяла я сейчас принесу, а если хотите поужинать — есть горячая картошка и грибы.
— Были б вам очень признательны. — Виктор весь расцвел при упоминании о еде.
— Вы же на уток охотиться будете? — для чего-то уточнила Мария.
— На уток, — кивнул Леня.
— Больше… ни на кого?
— Да вы не волнуйтесь, Мария, мы не браконьеры! — уверил девушку Леня.
— Хорошо.
Она кивнула и уже повернулась, чтобы уйти, но я задержал ее вопросом:
— А есть кто-нибудь из местных охотников, кто подсказал бы нам… С кем тут можно поговорить?
Она посмотрела на меня исподлобья и нехотя ответила:
— У нас одни женщины тут. Еще с войны… Никого мужиков нет. Семьдесят лет прошло, а ничего не изменилось.
Повернулась и вышла, аккуратно притворив дверь. Мы изумленно молчали, глядя ей вслед.
— Интересно, — прервал паузу Виктор. — Если с войны… одни бабы, откуда ж у нее ребенок? Откуда она сама?..
Леня скинул на пол рюкзак, потянулся, распрямляя плечи.
— А ты подумай. Может, дотумкаешь, — сказал он и подмигнул мне. Виктор высоко поднял брови и ухмыльнулся.
* * *
Утром мы вышли в лес. Стоял густой туман. Поднявшееся на заре солнце пронизывало его золотистыми лучами, и сырая пелена его скоро сползла вниз, в овраги. Воздух был чист, свеж, и роса, покрывающая желтые перезрелые травы, казалась хрустальной. Мы отправились на озеро, ориентируясь по мелкомасштабной карте и рассказам своего приятеля.
Утки сидели на перламутровой глади озера совершенно спокойно, и нам сразу удалось подстрелить парочку. Потом Виктор бил вставших на крыло уток влет, но дробь из его плохо пристрелянного ружья летела не кучно, и больше в тот день ничего добыть нам не удалось.
Проголодавшись, уже за полдень мы вернулись в поселок. На единственной улочке по-прежнему никого не было, и только пухлый мальчуган лет пяти играл, бросая мячик в стену сарая, недалеко от колодца. Мы догадались, что это и есть сын Марии.
— Привет! А мама твоя где? — спросили мы, подходя к избе.
— Мама на ого-оде, — ответил мальчишка. Он нисколько не дичился нас и горящими от любопытства звериными глазенками разглядывал наши ружья.
— А мы вот ей дичи принесли! — сказал Виктор. — Как тебя зовут?
— Ки-юша, — почесывая ушибленную мячом коленку, ответил пацан.
— Кирюша, значит, ага. Утку тушеную любишь, Кирюша? Вот. Вечером будем утку трескать. — И Леня выложил на траву нашу не слишком богатую на тот день добычу: серую уточку и цветастого крупного селезня. — Смотри, какие красивые!
— Угу, — сказал парнишка. Присел на корточки и с восхищением развернул крыло селезня — изумрудные и синие перья блеснули на солнце. — А вы в сто-ожку пойдете?
— Чего-чего? Что-то не понял я тебя, брат. Какую старушку? — засмеялся Леня.
Кирюша перевел на него бархатные карие глаза.
— Не ста-ушку, а сто-ожку! Все охотники ходят в сто-ожку. Они там охотятся!
— Сторожку, — догадался я. — Чтобы охотиться там, верно?
Про охотничью сторожку за озером мне и приятель рассказывал.
— Нечего там делать, в этой сторожке. Она развалилась давно!
Мы и не заметили, как Мария приблизилась к нам. Она вышла из-за угла избы, отряхивая руки, измазанные в земле.
— А, Мария! Прекрасно выглядите сегодня.
Она действительно выглядела прекрасно: тонкие светлые волосы в солнечном свете казались серебряными, нежный розовый румянец проступил на бледных щеках. Но дежурные Ленины комплименты настолько не подходили к ее скромной естественной красоте, что и сам любезный кавалер выглядел из-за них глупо. По крайней мере, в этом были уверены мы с Виктором.
Мария согласилась ощипать и приготовить нам уток, и мы прекрасно поужинали в теплой дружеской обстановке, почти по-семейному.
Одно меня беспокоило: мы так никого и не увидели в поселке, кроме Марии и ее сына. Что было, конечно, странно.
Но еще более странными были сны, которые приснились мне на полатях печи, где мы по жребию устроились спать с Виктором.
Мне пригрезилось, что среди ночи дверь в избу отворилась, и в комнату вошел медведь. От него густо запахло зверем, мокрой шерстью и лесом. Тяжело ступая, он прошел на середину избы, встал на задние лапы, положил их на плечи Марии и, высунув язык, лизнул ее в щеку, как муж, который целует жену, вернувшись с работы.
— Ш-ш-ш! Они могут проснуться, — шепнула ему Мария.
Медведь обернулся и, увидев, что я лежу с открытыми глазами, зарычал.
* * *
На другой день охота не задалась. Для начала мы все трое проспали ранний подъем. Видно, кошмары мучили в эту ночь не одного меня. Из дома мы вышли не в пять, как рассчитывали, а в восемь часов. Зато повидали, наконец, и других обитателей угрюмой деревни. Все это были, действительно, женщины — старые, и молодые, и средних лет. Красивые и не очень, стройные и в теле. Но одно несомненное сходство между ними имелось: испуганные глаза, угрюмые и недоверчивые лица.
Пока мы шли по главной и единственной улочке, они провожали нас затравленными взглядами, стоя возле дверей продуктовой лавчонки. Женщины выстроились там в очередь, чтобы купить хлеб, который должны были подвезти с районной хлебопекарни именно сегодня.
Мы чувствовали себя неуютно под прицелом стольких глаз.
На озере уток мы не нашли. Вообще лес показался пустым. Живность успела попрятаться, пока мы без толку бродили по берегу, шурша камышами.
— А может, правда, сходить к той сторожке, о которой пацаненок говорил? — предложил Виктор, когда мы достигли околицы села. — Неспроста ж ее там рубили и ставили. Может, там места какие особенные? Заяц, например, водится или глухари?
Мы с Леней переглянулись и пожали плечами: в сторожку так в сторожку! Вернувшись уже знакомой дорогой до развилки, повернули не к озеру, а в овраг.
За оврагом начиналось поле, заросшее густо молодыми осинами.
Сторожка была где-то за ним. Мы решили обойти осиновую рощицу справа, но уперлись в непролазные кучи валежника. Тогда мы повернули назад и попытались миновать лесочек по левому краю, но там хлюпало болото, и мы не рискнули соваться в жирную, переполненную после дождей трясину.
— Да что мы крутимся тут? — возмутился Леня. — Вон же эта сторожка, я ее прямо отсюда вижу!
И он указал рукой на действительно маячившие сквозь листву и ветки молодых деревьев черные, обугленные стены заброшенной сторожки.
— И по-моему, там кто-то есть. Слышите? Ходит, бурчит? — навострив уши, сказал Леня.
Мы с Виктором прислушались.
— Это ветер листьями шуршит. Тебе почудилось.
Мы шагнули в лесок и двинулись сквозь ряды деревьев, под их шепот и шелест, разгребая ногами жухлую осеннюю траву. В лесочке пахло грибами и плесенью. Продираясь сквозь чащобу, мы довольно быстро потеряли направление.
Проплутав бездарно и бессмысленно почти час, мы вымотались, проголодались и смертельно возненавидели эту проклятую охотничью сторожку, которую нам так и не довелось отыскать.
Когда мы наконец-то выбрались на опушку, оказалось, что очутились мы в точности в том самом месте, откуда и входили в этот лес. Оно и хорошо, конечно, иначе мы бы совсем потерялись. Но, очутившись снова на той же тропинке, мы долго собственным глазам не верили: как так? Неужто опять здесь?
Но разбираться в этой загадке никому из нас уже не хотелось. Обсудив наскоро необычную ситуацию, решили поскорее отправиться домой.
К деревне подходили уже в сумерках.
И тут Виктор остановил нас.
Вскинув руку испуганным жестом, он прошипел:
— Стойте! Смотрите туда! Трава… Видите?
Мы с Леней замерли, вытаращив глаза. И тоже увидели: высокая трава у забора одной из крайних изб зашевелилась, и какая-то черная тень двинулась оттуда прямо на дорогу.
Темная горбатая спина, отрывистые неуклюжие движения…
— Медведь, — прошептал Леня.
Мы видели его вполне отчетливо. Зверь, потряхивая холкой и негромко фырча, бежал, загребая широкими лапами высохшую за день пыль, направляясь в поселок.
А ведь там одни женщины. Мария. Ее сынишка…
Мысль у всех нас троих сработала одинаково. Виктор вынул из кармана патроны и дрожащими руками принялся заряжать ружье.
— Давайте! Идем за ним. Надо ему помешать. Дойдет до колодца, дальше пустырь… Там и возьмем его сразу в три ствола. Хотя бы отпугнем, — приказал он нам. Мы с Леней молча согласились.
Медведь бежал уверенно, не оглядываясь. Он даже не нюхал воздух, как это обычно делают животные, оказываясь в незнакомом месте. Он шел напролом, без всякой опаски, чувствуя себя как дома рядом с человеческим жильем.
Мы боялись, чтобы он не свернул куда-нибудь по пути. Но он и не собирался. Он шел прямо… Прямо к избе Марии.
Когда мы это сообразили — Виктор поднял руку и вполголоса скомандовал нам:
— На счет «три»! Раз… Два… Т…
Он не успел выстрелить — Мария схватила его сзади за локоть и рванула ствол ружья вверх. Я слышал, как щелкнула осечка.
— Не надо! Вы что?! Вы же обещали!
Мы с Леней опустили ружья. Мария стояла перед нами растрепанная, с горящим от гнева лицом, и глаза ее сияли зло и отчаянно.
— Не троньте! И ты их не тронь!
К кому она обращалась? Я глянул — и обомлел. Как и оба моих товарища: в сером сумеречном свете на глухой стене сарая прорисовывался черный силуэт… человека. Это в него мы собирались стрелять только что?
В течение нескольких секунд мы видели его тень совершенно отчетливо. Потом зашуршал бурьян, и мы услышали, как зверь убегает сквозь заросли высохшей полыни и пижмы.
— Господи, спаси и помилуй, — пробормотал Леня, который до сих пор среди верующих себя не числил. Мария заплакала.
* * *
— Первый раз он появился здесь зимой сорок второго. В соседнем селе стояла расквартированная немецкая дивизия, а у нас этих фашистов в общем-то и не было. Но они приходили. Дважды. Первый раз, чтобы расстрелять всех, кто к советской власти имел отношение. Тогда они конюха-инвалида убили — он партийным числился. Второй раз явились на мотоциклах четверо, и продукты, какие у наших женщин еще оставались, хотели отобрать. Забирали все подчистую, не смотрели, что с детишками бабы. А как им после жить? Это ж голодная смерть! Тетя Нина Скворцова не захотела им своих коз отдать — они ее избили. Вошли в избу, все вверх дном перевернули, нашли самогон. Устроили себе праздник. Нину и дочку ее, Алену, заставили прислуживать, а сами напились, как черти. Пошли песни горланить… Аленка красивая была, они ей велели раздеться и так, голышом, перед ними плясать. Она, конечно, отказалась. Отбивалась от них, как могла. Мать за Аленку вступилась, так немцы обоих из автомата постреляли, весь двор кровью залили… И хотели уже в другой дом идти, продолжать свою гулянку… Тут он и вышел прямо на них. Явился из лесу — бока ободранные, худой. Сразу понятно — шатун. В берлогу не залег. Сам не спит и другим покою не даст. Немцы даже за оружие схватиться не успели — всех четверых разодрал медведь в клочья. Бабка моя у забора стояла и видела, как он уходил, — идет, а за ним кишки окровавленные волочатся чьи-то, к лапе прилипли. Морда от крови лоснится.
Бабка прям обмерла, думала — теперь и ей конец. Но нет. Ничего он ей не сделал. В тот раз…
То, что он не медведь, а оборотень, это только потом узнали… Когда у наших деревенских баб стали дети странные рождаться. Такие… со звериными повадками. Моя мама говорила, что он не виноват. Не по своей воле таким стал. Был же и он когда-то человеком. Молодым лейтенантиком после училища попал на фронт в самые первые дни войны. Полк его осенью сорок первого угодил в окружение, и он единственный из всей их команды выжил. Немцы гнали их, расстреливали с воздуха. Все побежали в лес. И он тоже. А там провалился в медвежью берлогу, и что-то случилось с ним… Только он не помнит ничего. Память отшибло. Знает только, что в берлоге той он был не один.
Ну вот так оно и получилось. Все время, пока война шла, Шатун нашу деревню от чужих оберегал. В старую охотничью сторожку бабы ему еду носили, прикармливали. Зимой-то и зверью в лесах голодно, а Шатун вроде и не совсем зверь.
Места у нас глухие, в стороне от дорог. Как только появлялся где незнакомец — приходил зверь и разбирался с ним прежде всех деревенских. Бывало и страшно. Если кто ему в чем не угодит… Наказывал и своих.
Но за всю войну ни один фашист до нашей деревни не добрался больше. А уже после войны… Пытались женщины от медведя избавиться. Но не смогли. По доброй воле он не уходил. Надеялись, что мужики с фронта домой вернутся, справятся. Но вернулись всего двое — Трофим Кудрявцев без ноги и Антип Захаров контуженый. И того, и другого медведь заломал. Чтоб и мысли не было ни у кого из-под его власти выйти.
Так и жили мы много лет. Некому стало со зверем воевать. А зачем? Мы же все тут одна семья. — Мария горько усмехнулась и вытерла лицо рукой, словно бы смахивая с него заботы и обиду.
— Знаете, почему деревня такая пустая? Все, кто у нас рождается, рано или поздно уходят к нему в лес. В здешних лесах много наших… Живем тут и не знаем, когда кровь оборотня в нас проснется. Только одно знаем наверняка: что проснется. И тогда мы уйдем в лес и уже обратно не вернемся…
Так и мать моя ушла. И мы с Кирюшкой когда-нибудь уйдем… Наверное, нам плохо с людьми. Я ведь что хотела? Надеялась — может, найдется человек… Заберет нас отсюда.
Она подняла голову и, выдавив жалкую, кривоватую улыбку, посмотрела на нас мокрыми от слез глазами. Тоска глядела оттуда — по-звериному бессмысленная тоска.
Я вздрогнул. Друзья мои замерли в неловком молчании. Вряд ли существует на земле кто-то или что-то, способное изменить судьбу этой женщины.
* * *
В ту ночь мы просидели за разговорами до первых петухов. А наутро решили, что не станем дожидаться конца отпуска. Собрались и покинули деревню.
Никогда в жизни не чувствовал я себя столь паршиво — трусом и предателем.
Перед уходом выгреб из карманов всю наличность, сколько было, и оставил все деньги Марии. Для Кирюшки. А вдруг ему все-таки повезет, и он вырастет нормальным человеком? Может, хотя бы он не сделается зверем?
Надежды на это немного. Но она есть.
Сколько времени уже прошло… Все эти годы я старался забыть о тех, кого оставил в той глухой деревне под Смоленском. Марию забыть, Кирюшку. И мои друзья тоже старались.
Но, судя по тому, как они смотрят на меня иногда, у них тоже ни черта не вышло. Мне кажется, скоро настанет день — и мы все трое захотим вернуться. Увидеть снова своими глазами тот лес и тех странных людей. Почему-то я уверен, что этот день придет. Наверняка.
Примечания
1
Старинная стеклотара для водки, очень ценится коллекционерами (здесь и далее прим. авт.).
(обратно)2
То есть подлещиков.
(обратно)3
Нет! Принцесса Евгения тяжело больна (англ.).
(обратно)4
Подземные пустоты, пещеры или тоннели, соединенные проходами.
(обратно)5
Транспортировочный мешок, сшитый из прочной, обычно прорезиненной ткани.
(обратно)6
По стенам подземных пещер часто сочится вода в небольших количествах — такие места называют водокапами.
(обратно)7
О Белом спелеологе можно прочитать в книге автора «Темная сторона Петербурга», рассказ «Под землей».
(обратно)8
Узкий вертикальный тоннель.
(обратно)9
Очень узкий лаз, проходя который, непременно обдерешь кожу.
(обратно)10
Еще один персонаж спелеологической мифологии — проходчик-горняк Шубин. Призрак.
(обратно)11
В отличие от спелеологии, спелестология изучает искусственные подземные пустоты и строения.
(обратно)12
Жаргонное выражение, означает побег.
(обратно)13
Неприкрытая угроза на языке воров.
(обратно)14
Длинные узкие лодки в Сибири.
(обратно)15
Начальник спасательной команды.
(обратно)16
Горы высотой 5000 м выше уровня моря.
(обратно)17
То есть альпинистов, намеревающихся идти маршрут 4-й категории сложности.
(обратно)18
Традиционное название «отдыхающих» в альплагерях.
(обратно)19
Двойка — минимальная группа альпинистов, работающая на маршруте в связке.
(обратно)20
Идти траверзом или траверсом — означает идти боковым маршрутом вдоль гребня горы, а не вверх-вниз, поднимаясь или опускаясь на гору.
(обратно)21
Скальный выступ на горе.
(обратно)22
Горные ботинки.
(обратно)23
То есть страховочную веревку.
(обратно)24
Нехорошо, нехорошо (нем.).
(обратно)25
Стой, стрелять буду! Кто там ходит по лагерю? (нем.)
(обратно)26
Я капитан Дитцер. Теперь моя смена. Вы можете быть свободны, обер-лейтенант. Все в порядке (нем.).
(обратно)27
— Вы уверены?
— Абсолютно.
— Хорошо. Значит, я могу пойти спать?
— Да, вы свободны. Идите, лейтенант.
— Наконец-то, наконец-то… (нем.)
(обратно)28
Генрих Шлиман, еще в детстве поверивший, что события, описанные в «Илиаде» Гомером, происходили на самом деле, организовал несколько археологических экспедиций с целью отыскать Трою. И нашел ее. Легендарное золото «царя Прима» экспонируется в Пушкинском музее в Москве.
(обратно)




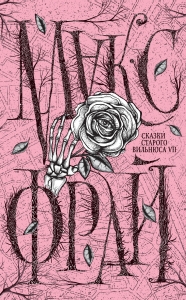



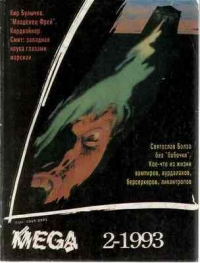
Комментарии к книге «Темная сторона российской провинции», Мария Геннадьевна Артемьева
Всего 0 комментариев