Майкл Суэнвик «Ничего особенного», – сказал кот (сборник)
Michael Swanwick
NOT SO MUCH, SAID THE CAT
Copyright © 2016 by Michael Swanwick
This edition is published by arrangement with Sterling Lord Literistic and The Van Lear Agency LLC
© А. Гришин, перевод на русский язык, 2018
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Э», 2018
Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет за собой уголовную, административную и гражданскую ответственность.
***
Марианне, радости души моей
***
Я глубоко благодарен Джину Вулфу за то, что он разрешил мне резвиться в его мире (и считаю себя его должником), Линде Лейн – за то, что она познакомила меня с содержимым своего дневника, Нейлу Варрону – за название и предложение сочинить рассказ, для которого оно подошло бы, Борису Долинго, который дважды привозил меня в Екатеринбург, Андрею Матвееву и Алексею Безуглому – за раскрытие тайн матушки-России, комитету конвента Свекон – за то, что познакомили меня с их восхитительной страной, Дженис Айан – за то, что она сочинила «Глаза Марии», Джону Креймеру – за то, что вывел мои представления о физике за пределы девятнадцатого века, Гарднеру Дозуа – за совет написать еще одну историю о Даргере и Довеске, Дженнифер Саммерфилд – за откровения по поводу устройства театра, Грегори Фросту – за дружбу и советы, Нилу Гейману – за то, что он ввел в оборот произведения, не привязанные к определенному жанру, Патрику Нильсену Хейдену, замечания которого научили меня делать из одного рассказа целую серию, и Фонду поддержки искусства М. К. Портер – за лучшие годы моей жизни.
Предисловие: Где же, по моему мнению, я сейчас нахожусь
Когда именно я принял решение удрать с эльфами?
Возможно, в то лето, когда я каждый день по десять часов вкалывал грузчиком на мебельной фабрике в Роаноке и от скуки начал записывать придуманные слова и обрывки фраз на клочках бумажных отходов. Возможно, в тот день, когда я пришел под вечер домой и обнаружил, что стекло в кухонной двери разбито, всюду кровь, отец с перебинтованной рукой, а мать необычно угрюма и не желает говорить о случившемся. Этот случай, ознаменовавший собой начало необычно ранней и стремительно прогрессировавшей болезни Альцгеймера у отца, побудил нашу семью к скоропалительному переезду из Вермонта на юг и сильно повлиял на мою дальнейшую жизнь. Или в ту ночь, когда я взял дешевое издание «Властелина колец», намереваясь прочесть главу-другую перед сном, и читал не отрываясь до рассвета, читал за завтраком, читал, не поднимая глаз, пока шел через лес в школу Уинуски и закончил последнюю главу одновременно со звонком, извещавшим об окончании учебного дня. Наверняка могу сказать лишь одно: начиная обучение в старших классах, я твердо намеревался стать ученым, а ко времени поступления в колледж определенно решил посвятить жизнь литературе.
Меня попросили написать несколько слов о том, на каком этапе писательской карьеры я сейчас нахожусь. Но мне трудно сказать, с чего же эта карьера началась. Принять за исходный пункт первое купленное у меня произведение будет несправедливо по отношению к глубоко целеустремленному молодому человеку, каким я некогда был, – а я преклоняюсь перед его способностью полностью отрешиться от восприятия реальности, хотя многие настоятельно советовали ему трезво смотреть на жизнь.
Поэтому я начну с автобусной станции «Грейхаунд» в Филадельфии. Там я сошел – мне было двадцать три года от роду, и я имел семьдесят долларов в кармане, привычку выкуривать по пачке сигарет в день, сложенную газету в ботинке, закрывающую дыру в протертой насквозь подошве, друга, по собственной воле предложившего мне на месяц «вписаться» на диван в его квартире, и безумную убежденность в том, что я непременно стану писателем-фантастом. На протяжении следующих шести месяцев я сдавал кровь за деньги, писал за нерадивых студентов курсовые работы, брался за любую подвернувшуюся временную работу, а как-то раз ранним воскресным утром дюжину раз обошел квартал, где на крыльце ресторана стоял мешок со свежеиспеченными багетами, ломая голову над проблемой: не попытаться ли отломить кусок. К тому времени, когда мне наконец-то удалось устроиться клерком-машинисткой, я похудел на пятьдесят фунтов.
Я отчетливо вижу перед собой того юного писателя – длинноволосый, одетый в черный джинсовый костюм, он торчит в обшарпанной комнатушке на втором этаже, напротив ночлежки на углу 15-й и Южной улиц, и печатает, засиживаясь далеко за полночь, а внизу шлюхи ведут непрерывную визгливую перебранку со своими сутенерами. Он пишет фрагменты сюжетов, стихотворения в прозе, письма из глубины души – ничего из этого и близко не годится для превращения в рассказ, поскольку он понятия не имеет о том, как придумать развязку. Если бы я смог поговорить с ним через реку времени и сообщить, что он будет публиковать книги, получать премии, присутствовать в качестве почетного гостя на конвентах в таких городах, как Екатеринбург, Турку, Загреб и даже на Ворлдконе – Всемирном конвенте научной фантастики, – он обрадовался бы, но не был бы удивлен. Несмотря на все факты, он твердо знает, что его ждет блестящее будущее. Он до боли хорошо понимает, что ему придется пройти длинный путь. Но он учится очень прилежно и очень быстро.
И будь у него возможность задать мне один вопрос, он спросил бы…
Могу я начать и шестью годами позже, с той потрясающей звездной ночи, когда Гарднер Дозуа и Джек Данн внимательно прочли мою последнюю на тот момент неудачную попытку в научной фантастике и, шаг за шагом, показали мне, каким образом ее можно превратить в настоящий рассказ. Это было то же самое, как если бы Бог сошел с небес и повернул выключатель у меня в мозгу. Я и дальше работал так же упорно, но с того момента мне открылось, каким образом нужно доводить рассказ до развязки. В два часа ночи я кое-как добрел до своей квартиры, мимо юных гомосексуалистов, сидевших на ступеньках в ожидании влюбленных взглядов других молодых гомосексуалистов, неторопливо фланировавших по Спрус-стрит, и был гораздо счастливее любого из них, потому что в моей жизни только что произошел коренной перелом.
На следующий год я получил два щедрых дара удачи. Первый заключался в том, что первые же два моих опубликованных рассказа были номинированы на премию «Небьюла» – к тому же в одной категории. Это привлекло ко мне много внимания, что весьма ободряет начинающих писателей. На некоторое время я обрел статус kumquat haagendasz – такое название Гарднер Дозуа придумал для адресатов того скоропреходящего восхищения, которое переходит с одного начинающего писателя на другого, появившегося следом за первым, когда о его существовании узнают знатоки и ценители, по аналогии с мороженым «haagendasz», которое пользуется популярностью, хотя не обладает иными достоинствами, кроме названия на несуществующем языке и дороговизны. Второй дар удачи заключался в том, что премию я не получил. Я остался без награды, а это значило, что я не испытал бремени мгновенного успеха, на который должен был бы равняться впредь, и продолжал выпадать из бесчисленных номинаций еще добрый десяток лет. Откровенно говоря, я находился на грани превращения в bull goose loser – большую шишку среди неудачников, еще одно название, выдуманное Гарднером, напоминающее по звучанию «бульдозер» и обозначающее писателя, которого то и дело номинируют на премии, но так и не дают награды, – пока победа наконец-то не вышибла меня из гонки.
Я принадлежал к тому поразительному поколению писателей, что вошло в мир в начале восьмидесятых годов. Как-то раз я написал эссе, в котором похвалил некоторых из них, и тут же на меня обрушился вал телефонных звонков едва ли не от всех писателей возрастом около пятидесяти лет, требовавших извинений за то, что я не упомянул о них. Поэтому я не буду сейчас перечислять имена, тем паче что о большинстве из них вы легко сможете догадаться сами. Возможно, Ле Гуин и Дилейни, Вулф и Русс писали лучше, но именно мои соратники создавали ту фантастику, с которой соревновались и перекликались мои труды. Некоторым лучше, нежели прочим, удавались объемистые романы. Но все они демонстрировали блестящие способности к малой форме, в которой мы и боролись друг с другом за похвалу тех, кого мы ценили больше всего – друг друга. Когда бы ни появилось нечто, вроде «Рокенроллим» Пэт Кэдиган, или «Испанских нищих» Нэнси Кресс, или «Рой» Брюса Стерлинга, я непременно должен был препарировать произведение, разобрать его, фраза за фразой, и тщательно проанализировать: не могу ли я чему-то научиться, нет ли чего-то такого, что я мог бы позаимствовать для собственного творчества.
Тогда же я писал в соавторстве с Гарднером Дозуа и Джеком Данном. Мы сидели за круглым кухонным столом в тесной, густо пропахшей кошками квартире Гарднера на Куинс-стрит, хохотали, размахивали руками и возбужденно повышали голоса, дополняя нежданно возникшими деталями идею рассказа, а потом выковывали из нее сюжет. Затем я оформлял из своих записей первый набросок, Джон дорабатывал его, и напоследок Гарднер твердой рукой еще раз переворачивал все и наводил окончательный блеск. Это было моей аспирантурой, и вряд ли я мог бы отыскать наставников лучше, чем эти двое. Как-то раз, во время работы над черновиком, я сообщил Джеку, что кое-что изменил и рассчитываю удивить его. В первый момент он слегка растерялся, но тут же ответил: «Я знаю, что ты сделал. Вот увидишь: из этого ничего не выйдет». И, конечно, оказался прав.
На более равноправной основе я сочинял рассказы в соавторстве с Уильямом Гибсоном, Тимом Салливаном, Пэт Мерфи, Анди Дунканом, Грегори Фростом, ныне покойным Аврамом Дэвидсоном и Эйлин Ганн. Все это требовало, пусть в большей или меньшей степени, но практически таких же трудозатрат, как и работа в одиночку, и приносило лишь половину гонорара. Зато это давало возможность наблюдать за другими писателями в процессе работы, увидеть их фирменные приемы и сообразить, чему стоит подражать.
Пять лет из этого периода я – не всегда непрерывно – входил в жюри премии «Небьюла»; эта должность, по вполне разумным, но довольно трудно поддающимся объяснению причинам награждалась правом добавить по одному произведению в номинационные списки по каждой из категорий. Это значило, что я был обязан читать все, что было опубликовано во всех жанрах на протяжении года – совершенно безнадежная задача, когда дело касается романов, но и по части рассказов тоже вряд ли осуществимая. Этот опыт позволил мне узнать очень много нового о литературе, в частности, о мириадах способов испортить очень многообещающий рассказ.
Тем временем мои ровесники и собратья учились писать романы. Некоторые из них к настоящему времени отказались от короткой формы, что весьма оправданно с экономической точки зрения, поскольку хотя продажа рассказов и может помочь пережить самые большие трудности в длительном промежутке между выходом романов, однако прожить на этот заработок сейчас не сможет никто. (Люциус Шепард, который никогда не был силен по части романа, подошел почти вплотную к овладению этим искусством, но и ему пришлось выбрать в качестве подспорья кино и документальную прозу для глянцевых журналов.) Одно время я совершенно пресытился рассказами, поскольку с точностью часового механизма выдавал по штуке каждые три недели. Это означало, что каждые несколько дней я или завершал очередной рассказ и отсылал его, или получал извещение о покупке или высылке договора, или обналичивал платежный чек, или получал гранки, или отсылал их после вычитки, или забирал на почте то авторские экземпляры, то оригинал рукописи, размеченный для типографии. Ни до, ни после того я не ощущал себя писателем с такой ясностью. Потом я уплатил налоги и выяснил, что с учетом издержек я в том году понес ощутимый убыток.
На следующий день я взялся за новый роман.
Но я в отличие от многих моих друзей не отказался совсем от короткой формы. «Помнишь, как мы в былые годы убивали по нескольку месяцев на один-единственный рассказ?» – спросил меня один из них несколько лет назад. Я не стал говорить ему, что до сих пор поступаю так же. Потому что затем мне пришлось бы объяснять, что я продолжаю писать рассказы из любви к этому жанру и страха разучиться это делать, что (я уверен) случилось с этим моим другом. Отказаться от навыка, достигнутого тяжкими многолетними трудами, было бы форменным безумием.
Где-то в процессе работы я выяснил, что обладаю особой склонностью к малой прозе. Я писал учебники для новичков. Я писал по истории о каждом элементе Периодической таблицы. По рассказику по поводу каждого офорта Гойи из серии «Капричос». Я писал микрорассказы, запечатывал их в бутылки, которые надписывал алмазным пером, после чего уничтожал все прочие копии, и бумажные, и электронные, так что каждый листок в бутылке оказывался уникальным в самом буквальном смысле этого слова, и жертвовал эти бутылки различным благотворительным обществам. Я писал миниатюры о масках, электроарматуре, часах, графинах и иных материальных предметах, заполнявших мой дом. И когда извлек из миниатюр все возможные уроки, я более-менее подзабросил это занятие.
Я не только сам учился, но и учил. Прочитанные мною недельные курсы лекций в «Кларионе», «Кларионе-западном» и «Кларионе-южном»[1] укрепили во мне уверенность, что я могу дать что-то реально полезное по крайней мере некоторым из студентов. Помочь начинающим писателям обрести собственные голоса – святая и пугающая задача. Но к тому времени я узнал о литературе достаточно много для того, чтобы суметь показать им, куда же следует устремить свои неуверенные потуги, как некогда это показали мне Джек и Гарднер. Позднее мне предстоит изумиться тому, насколько далеко я продвинулся.
Несколько позже я научился наконец-то писать рассказы сериями, и с открытыми финалами, как в серии о Даргере и Довеске, и по единой сюжетной арке, как в историях о Монгольском волшебнике. Для юбилейного сборника в честь Джина Вулфа я взял первую страницу «Пятой головы Цербера» – произведения мастера, – изменил место действия, времена года, половую принадлежность действующих лиц, а затем продолжил рассказ так, как написал бы его Джеймс Типтри-младший. Для этого потребовалось пристально изучить исходную новеллу, что научило меня многому и научило бы еще большему, будь у меня время на более объемный рассказ. Место действия своих рассказов я располагаю там, где побывал – в России, в Швеции, в Вермонте, – и основываю на собственных впечатлениях, например, от того пасхального воскресенья в Дублине, когда по О’Коннелл-стрит навстречу мне прошел Джерри Адамс[2]. Я спросил себя, как бы я стал жить, если бы моя жена умерла, и несколько лет искал способы написать то, что в итоге стало любовным письмом ей. Потратив не одну неделю на изучение учебного пособия по анатомированию, я, опять же, несколько лет думал, как завершить повествование, которое никак не удавалось довести до закономерной смерти в финале. Долго и упорно я думал об ответственности автора перед своими порождениями и об этом тоже написал рассказ. Я написал рассказ, целиком состоящий из диалога. Я написал метапрозу на тему «Симплициссимуса» Гриммельсгаузена, поставив себе целью использовать ее как первый слой повествования. Несколько лет ушло у меня на составление заметок к роману, который так и не сложился, а материалы были использованы как предыстория к гораздо меньшей по объему истории, которая была рассказана женщиной, умершей до ее начала. Один из моих друзей предложил название и дал совет попытаться написать что-нибудь подходящее к нему; я сделал эпохой действия меловой период, но убрал оттуда динозавров. В память о приятельнице, которая однажды дала мне почитать свой дневник, я написал о том, как тяжела может быть жизнь девочки-подростка, и дал рассказу ту же развязку, какая была у истории в реальной жизни. У меня сочинилась трагическая история, которую невозможно было разрешить без советов физика.
Возможно, я последний писатель, прочитавший перед вступлением на литературное поприще все сколько-нибудь примечательные научно-фантастические произведения, написанные на тот момент. Если это и не так, все равно дверь закрылась, разве что немного позже. Но в годы становления я читал запоем, и моему напору, один за другим, сдавались все великие – К. Л. Мур, Р. А. Лафферти, Филип К. Дик, Ли Брэкетт, – пока я наконец не завершил последнее собрание Теодора Старджона и не возрыдал наподобие Александра, что завоевывать больше нечего. И все же, хоть я и рассматривал и оценивал каждого автора в отдельности, научную фантастику я читал так, будто вся она написана одним гением, наделенным безмерным многообразием стилей и интересов. Уровень поставленного таким образом стандарта был безумно высок. Но с тех пор я с переменным успехом пытался стать именно таким писателем, стремился вобрать все это многообразие.
На стенке книжного шкафа возле моего письменного стола наклеено штук двадцать разноцветных стикеров с названиями рассказов и романов, над которыми я активно работаю. В установленной поблизости картотеке-ролодексе перечислено гораздо больше работ, к которым я надеюсь вскоре приступить. Из мутного океана подсознания то и дело всплывают новые идеи, требующие поведать о себе миру. Я записываю их в свои блокноты, и лучшие из них ждут своей очереди. Предел количеству рассказов, которые я способен рано или поздно написать, могут положить только время и моя смертность.
Когда-то, давным-давно, я удрал с эльфами. Я усвоил их образ жизни и прожил с ними так долго, что стал неотличим от их племени. Это, я думаю, можно считать определенным успехом. Но это не удовлетворило бы мое юное, еще не публиковавшееся «я». Это также не дает ответа на вопрос, который тот Майкл поставил бы передо мною более трети века тому назад.
В Сибири шаман – подвижный низкорослый мужчина с аккуратно подстриженной седоватой бородой, в костюме-тройке, вручил мне чертов палец, который, по его словам, должен помочь мне высвободить свои силы. Я всегда держу его около компьютера. Поднимая его со стола, ощущая его увесистость, я возвращаюсь мыслями в прошлое, к тому только проклевывавшемуся писателю, которым я некогда был, воспламененному амбицией, нетерпеливо ожидающему ответа, на который, как он уже тогда знал, потребуются все эти годы:
Нет, Майкл, я пока что не добрался туда. Но не сдаюсь и не оставляю попыток. Когда-нибудь, надеюсь, я стану настолько хорошим писателем, насколько это возможно для меня. Ну а пока что я учусь как можно старательнее и быстрее.
Вот на каком свете, на каком уровне, на каком этапе карьеры я сейчас нахожусь. Надеюсь, результат тебя радует.
Майкл Суэнвик
Человек из тени
Слышу шелест крыльев. Пора начинать рассказ.
Я стоял снаружи и смотрел по сторонам, и тут шестнадцатилетняя Марта Гисслер – беременная, нелюбимая и незамужняя – вышла на рельсы, по которым со скоростью сорок пять миль в час мчался поезд Канадской грузовой железнодорожной компании. Машинист увидел ее, тут же дал гудок и попытался затормозить поезд. Но поскольку поезд состоял из семидесяти шести груженых и семидесяти трех пустых вагонов, которые тащили два локомотива «SD70M-2» мощностью по 4300 лошадиных сил каждый, и весил в общей сложности 11 700 тонн, было сразу ясно, что остановить его вовремя невозможно. Машинисту оставалось надеяться лишь на то, что обезумевшая женщина, стоящая на путях, придет в разум.
Может, придет. Может, и не придет. Силы, которые привели Марту сюда, были целиком и полностью предсказуемыми. А вот ее поведение в данном, конкретном случае – нет. Так или иначе, это был миг полной, даже сверхъестественной, свободы воли.
Марта смотрела на приближавшийся поезд без страха или возбуждения, а с полной ясностью мысли. Она обдумывала что-то, ведомое только ей самой, пришла к какому-то выводу и решительно попятилась, чтобы уйти с рельсов.
Из теней послышался дружный выдох облегчения. Никогда не говорите, что тем из нас, кто не имеет собственной жизни, безразлична жизнь живых.
И тут она поскользнулась.
Этого не должно было случиться. Этого не могло случиться. Но это случилось. Согласно сценарию, ей предстояло шагнуть назад, прочь от приближающегося локомотива, и почва за ее спиной должна была оказаться гладкой и утоптанной. Далее, в результате сделанного выбора, Марте следовало остановиться и замереть, почти оцепенев, перед вагонами, мелькающими в нескольких дюймах от ее лица. Ей следовало испытать мгновения абсолютного покоя, на протяжении которых она постигнет нечто такое, что могло бы помочь ей точно понять, что она представляет собой сейчас и кем может стать через несколько лет, в будущем.
Но рабочий сцены, готовя декорации, умудрился – совершенно необъяснимо, как это получилось у него, – забыть на помосте охлажденную бутылку какого-то напитка из семейства «колы», вообще-то не имеющего права находиться в той реальности, где находится континент, на котором обитает Марта. Она подкатилась Марте под ногу. И та потеряла равновесие.
Коротко взвизгнув, Марта рухнула вперед, прямо под колеса.
Тогда я вышел из сумрака, схватил ее за руку и отдернул назад.
Продолжая гудеть, поезд промчался мимо, и машинист – невероятно оживившийся и начавший даже меняться в сущности своей из-за случившегося – отпустил тормоз и начал плавно набирать скорость на длинной дуге, уводившей в зону, за которую отвечал кто-то другой.
Марта вцепилась в меня, как утопающая. Я медленно высвободился. Она, белая от потрясения, уставилась мне в лицо.
– Я… – проговорила она. – Вы…
– Чертовски удачно получилось, юная леди, что я как раз проходил мимо, – мрачно заметил я. – Вам надыть поосторожнее ходить. – Я повернулся, намереваясь уйти.
Марта посмотрела вдоль путей в одну сторону, в другую. Мы находились за городом, и местность здесь была плоская и пустая. Ближайшим зданием был пакгауз, находившийся на расстоянии доброго городского квартала от нас. Мне попросту неоткуда было взяться. И она поняла это с первого же взгляда.
Я выругался (про себя).
– Кто вы такой? – спросила она, устремившись за мною. – Что вы такое?
– Никто. Просто увидел вас вовремя. – Я уже почти бежал, а Марта семенила следом, цепляясь за рукав моего пальто. – Послушай, сестренка, не хочу показаться грубым, но у меня, знаешь ли, есть кое-какие дела. Нужно зайти кое-куда. Я не… – Я уже начал потеть. Мое место – в сумраке, а не на сцене, среди актеров. Я не привык произносить речи экспромтом. Все эти импровизации были мне не по силам.
Я припустился бежать уже по-настоящему. Хлопая развевающимися за спиной полами пальто, я мчался к пакгаузу. Если бы мне только удалось скрыться из виду хотя бы на секунду – с тем условием, что с другой стороны здания предусмотрена какая-нибудь местная деятельность, завершающая этот сценарий, и сцена должным образом организована, – я смог бы ускользнуть обратно в сумрак так, чтобы Марта этого не заметила. Она поймет, что случилось нечто странное, но что она сможет с этим поделать? Кому сможет пожаловаться? А если и примется жаловаться, то кто ее станет слушать?
Я добежал до пакгауза и стремительно повернул за угол.
На улицы Гонконга.
Рабочие сцены, конечно же, поставили ровно столько декораций, сколько минимально требовалось по сценарию. Ну а мне просто не повезло, что мы оказались бок о бок с азиатским эпизодом. Сразу за фасадом пакгауза вздымались небоскребы и пестрели вывески, исполненные китайскими иероглифами. В довершение всего тут была ночь, лил дождь, и улицы представляли собой кривые черные зеркала, в которых отражались неоновые вывески и уличные фонари. Я произнес нехорошее слово.
Марта ткнулась мне в спину, отлетела, чуть не упала, но удержалась на ногах. И тут взвыл автомобильный гудок, и на нас чуть не наехало такси. Она до боли стиснула мою руку.
– Что… что это такое? – спросила она, широко раскрыв полные экзистенциального ужаса глаза.
– Тебе предстоит узнать кое-что новенькое. – Я деликатно развернул ее спиной к тому городу, в котором она выросла. – Тут есть поблизости закусочная. Почему бы мне не угостить тебя чашечкой кофе? А заодно и поговорим.
Когда мы расположились в закусочной, я попытался объясниться.
– Видишь ли, мир, пожалуй, не совсем такой, каким ты привыкла представлять его себе, – сказал я. – Во всяком случае, в своем механическом устройстве. У нас нет возможности круглосуточно исправлять любой возможный поворот событий. К тому же в нем не так уж много настоящих людей – тех людей, с какими ты можешь по-настоящему встретиться, в отличие от тех, которых видишь издалека или по телевизору, – как тебя приучили верить. В общей сложности наберется тысяч сорок пять, пятьдесят. Но в остальном все обстоит точно так, как ты всегда думала. Возвращайся в свою жизнь, и все будет хорошо.
Марта стиснула чашку с кофе так, будто она была последним, что удерживало ее на лице Земли. Но при этом не отводила от меня взгляда ясных и вполне сфокусированных глаз.
– Вы, значит, хотите сказать, что все это – что, кстати? – просто спектакль? Что я – всего лишь марионетка, а вы – тот самый парень, который тянет за ниточки? Вы всем этим распоряжаетесь, а я – игрушка?
– Нет, нет, нет. Ты живешь своей жизнью. У тебя совершенно свободная воля. Я нужен лишь для того, чтобы позаботиться, что, когда ты выходишь из душа, у тебя всегда был коврик под ногами.
– Вы видели меня голой?!
Я вздохнул.
– Марта, в любое мгновение твоей жизни, бодрствуешь ты или спишь, рядом с тобою нахожусь либо я, либо кто-то другой вроде меня. Каждый раз, когда мать меняла тебе пеленки, или ты выдавливала прыщ перед зеркалом, или пряталась под одеялом с фонарем и романтичной мангой, хотя тебе уже полагалось спать, рядом находились люди, прилагавшие все силы для того, чтобы окружающий мир представал перед тобою в удобопонятном и цельном виде.
– И все же, что вы такое? Вы управляете камерой, верно? А может быть, вы сами и есть камера. Вроде как вы робот, или у вас в глаза по камере имплантировано. – Она никак не желала отказаться от метафор из области шоу-бизнеса. И было бы несомненной ошибкой говорить ей, что вся эта история приключилась из-за безалаберности декоратора.
– Я не камера. Я всего лишь человек, который стоит в тени и обеспечивает движение событий. – Я не стал рассказывать ей о том, что такие люди, как я, устраивают все необходимые миру несчастья и страдания. Не потому, что я стыжусь своего занятия – я не собираюсь просить прощения; это важная работа, – а потому что Марта не была готова это услышать и тем более понять. – То, что ты сейчас узнала, ты воспринимаешь так же, как человек Средних веков, если бы ему сказали, что мир состоит не из огня, воды, воздуха и земли, а из немыслимо мелких тучек кварков, уложенных поверх слоя квантовой неопределенности. В первый момент тебе может показаться, что все это ни в какие ворота не лезет. Но мир остается точно таким же, каким был всегда. Изменилось лишь твое представление о нем.
Марта затравленно взглянула на меня широко распахнутыми глазами:
– Но… почему?
– Честно говорю: не знаю, – ответил я. – Если бы ты потребовала, чтобы я пустился в догадки, то я сказал бы, что вижу два возможных варианта. Первый: что Некто решил, что все должно быть устроено именно так, а не иначе. А второй – что все просто устроено именно так, а не иначе. Но что, на самом деле, правда, не догадается никто.
И тогда-то Марта расплакалась.
Так что я встал, обошел вокруг стола и обнял ее. Ведь она как-никак была еще ребенком.
Когда Марта успокоилась, я проводил ее обратно, в Нозерн-Либертис, к матери. Путь был дальний – она брела куда глаза глядят с той самой минуты, когда увидела посиневший тест на беременность, – так что я вызвал такси. Марту слегка передернуло, когда оно возникло перед нею прямо из воздуха. Но она села в машину, и я назвал водителю адрес. Водитель, конечно, был ненастоящим. Но сделан очень даже хорошо. Чтобы понять, что он бутафорский, нужно было разговаривать с ним никак не меньше часа.
Пока мы ехали, Марта все старалась осознать происходящее. Она вела себя совсем как малыш, расчесывающий болячку.
– Значит, если я правильно понимаю, вы заставляете все это крутиться. Но вам-то что с того?
Я пожал плечами:
– Преходящее ощущение бытия, повторяющееся каждый раз. – Я посмотрел из окна на проплывавший снаружи город. Пусть я и знал, что все это лишь метафизические холсты и краски, но декорация выглядела очень правдоподобно. – Это замечательное чувство. Оно мне нравится. Хотя главное, конечно, в том, что это просто моя работа. Я не то, что ты, – у меня нет выбора, что делать и чего не делать.
– Вы думаете, я сама выбрала что-то из этого?
– Больше, чем ты сама подозреваешь. Ладно, ты бросила школу, ты не работаешь и ты беременна от парня, который тебе не очень-то нравится, и это ограничивает твои возможности. Ты до сих пор живешь с матерью, и вы то и дело ссоритесь. Уже несколько лет ты не видела отца и иногда гадаешь, жив ли он вообще. У тебя есть проблемы со здоровьем. Ничего из этого не в твоей власти. А вот, как все это воспринимать, зависит только от тебя. Это весьма высокая привилегия, которой я не наделен. Скажем, взять нынешнюю ситуацию. У меня столько же возможностей выйти из такси и уйти, покинув тебя, как у тебя – всплеснуть руками и улететь на Луну.
Несмотря ни на что, ты обладаешь свободой думать что угодно, говорить что угодно, делать что угодно. Каждый твой миг непредсказуем. Например, прямо здесь, прямо сейчас. Возможно, мои слова проймут тебя, ты улыбнешься и спросишь, каким образом вернуться к сценарию. Ты можешь разрыдаться и начать обзывать меня всячески. Можешь погрузиться в молчание. Можешь дать мне пощечину. Может произойти все что угодно.
Она отвесила мне пощечину.
Я взглянул на нее:
– И что же это доказывает?
– Мне от этого на душе стало лучше, – солгала Марта. Она скрестила руки на груди и вжалась в подушки сиденья, стараясь съежиться как можно сильнее. У меня мелькнула мимолетная мысль, что она намерена все глубже и глубже уходить в себя, пока на поверхности не останутся лишь унылые, безжизненные глаза. Она могла решиться на такое. Это было ее право.
Но тут машина остановилась перед ничем не примечательным таунхаусом на Лейтгоу-стрит, и она вышла.
– Ведите себя так, будто получили хорошие чаевые, – велел я шоферу.
– О, старина, спасибо! – воскликнул он, и такси укатило.
Марта уже отпирала дверь.
– Мамаша на пару дней укатила в Балтимор к сестре. Так что дом в нашем распоряжении.
– Я знаю.
Она сразу же направилась на кухню и вытащила из холодильника бутылку водки, которую поставила туда мать.
– Тебе не кажется, что сейчас немного рановато? – осведомился я.
– Так сделайте, чтобы было позже.
– Как пожелаешь. – Я подал знак осветителю, и солнце быстро переместилось вниз по небосклону. Мир за окном потемнел. Я не стал заморачиваться и заказывать звезды. – Достаточно поздно?
– Мне-то что за дело? – Марта уселась за кухонный стол, я последовал ее примеру. Она щедро плеснула в два стаканчика и сунула один мне в руку. – Пей.
Я выпил, хоть я не из актеров и алкоголь на меня не действует.
Немного выждав, она спросила:
– Которые из моих подруг и друзей настоящие, а которые нет?
– Марта, они все настоящие. Томика, Джин, Сью, Бен, твои учителя, твои родители, твои двоюродные братья и сестры, тот мальчик, который тебе нравился, но был слишком уж молодым, чтобы выходить с ним на люди – все, с кем у тебя существует эмоциональная связь, как положительная, так и негативная, – все они так же реальны, как и ты сама. Все остальное было бы обманом.
– А как насчет Кевина? – Это, конечно же, ее парень.
– И он тоже.
– Вот черт!.. – Марта, уставившись в свой стакан, покачивала его, так что водка плескалась, образовав миниатюрный водопад. – А рэперы и кинозвезды?
– Тут совсем другое дело. Твои чувства ко всем этим людям не так чтобы очень сложны, вот и они не отвечают тебе взаимностью. Настоящим людям вовсе не нужно играть роли.
– Надо думать. – Она решительно выпила.
Если она будет продолжать в том же духе, то рано или поздно спросит про отца. В этом случае я должен буду сообщить ей, что Карл Гисслер находится в Грейтфорде и что благодаря тюремной жизни он открыл в своей естественной сути нечто такое, что ему придется осознавать на протяжении нескольких десятилетий. И еще, что мать ежемесячно тайком навещает его там, но по каким-то причинам, не очень понятным ей самой, никому не говорит об этом. Поэтому я прикоснулся своим стаканом к стакану Марты и осведомился:
– Ты всерьез думаешь, что выбрала верный путь?
– А что же люди обычно делают в такой ситуации? – язвительно поинтересовалась она.
– Марта, послушай. У тебя вся жизнь впереди, и, если ты сделаешь верный выбор, она сложится очень хорошо. Я это знаю. Мне уже приходилось видеть молодых женщин в таком же положении, какое сейчас у тебя, – ты даже представить себе не можешь, сколько раз это случалось. Давай-ка я доставлю тебя туда, где ты находилась перед тем, как встретилась со мною, и ты начнешь свою жизнь заново с того момента, когда она приостановилась.
Выражение ее лица сделалось напряженным и непроницаемым.
– Вы что, и вправду можете это устроить? Перемотать пленку и запустить ее по новой?
– Это не лучшая метафора, – возразил я. – При твоем содействии мы можем переписать сценарий. Ты выйдешь, отыграешь свой эпизод и вернешься к своей жизни. И все, что случится, будет зависеть только от тебя самой. Ни я, ни кто-либо из таких, как я, не станем вмешиваться, клянусь тебе. Но ты должна дать на это согласие. Мы не можем ничего делать без твоего разрешения.
Пока я говорил, с лица Марты все больше и больше уходило выражение. Взгляд ее немигающих глаз отяжелел. Это наводило на опасение, что может случиться то, чего я опасался больше всего, – что она погрузится в ступор, будет закапывать эту прекрасную искру жизни все глубже и глубже под ватную пелену молчания и инерции.
– Прошу тебя, – сказал я, – скажи что-нибудь.
К моему удивлению, Марта спросила:
– А как выглядит реальность?
– Знаешь, я не очень-то понял тебя. Это и есть реальность. То, что тебя окружает.
– Это все долбаный театр! Покажите мне, что находится за сценой, или под сценой, или где, черт его знает, куда вы решили ее втиснуть. Покажите мне, что останется, когда сцену уберут.
– Искренне говорю: не стоит. Ты от этого только расстроишься.
– Давайте, показывайте!
Я неохотно отодвинул кресло. С задней стороны дома в ближайшие часы ничего не планировалось. Я подошел к двери черного хода. Я открыл ее…
…и за нею оказалась бурлящая пустота, служащая подстилкой для мира, который мы по роду службы постоянно то создаем, то устраняем. Бесцветное, бесформенное отрицание отрицаний, то есть Ничто, Нигде и Никогда. Невозмутимый ужас небытия. Сумрак.
Я стоял, глядя туда и дожидаясь, пока Марта издаст какой-нибудь звук, зарыдает от страха, взмолится, чтобы я поскорее убрал все это от нее. Но хоть я и ожидал очень долго, так ничего подобного и не случилось.
Опасаясь худшего, я обернулся.
– Ладно, – сказала Марта. – Крутите машинку назад.
Так что я доставил Марту Гисслер обратно, туда, где все это началось. Солнце и облака вернули точно на те же места, где они находились, реквизиторы вытащили локомотивы и прицепили к ним нужное количество грузовых вагонов. Поскольку первоначальный машинист был из актеров, на его место мы посадили бутафорского. Сценарий не предполагал их встречи в дальнейшем, так что и проблем возникнуть не могло.
– Значит, начинается твой эпизод, – в невесть который раз сказал я Марте. – Когда поезд поравняется с вон тем телефонным столбом…
– Я выхожу на рельсы, – перебила она. – Потом медленно считаю до десяти и задом отступаю на обочину. На этот раз бутылки из-под газировки там валяться не будут. Сколько раз мы все это повторяли, а? Я знаю свою роль.
– Спасибо, – сказал я и отступил в сумрак, чтобы ждать и наблюдать оттуда.
Поезд с грохотом катился вперед; скорость была умеренной, зато инерция – колоссальной. Он подъезжал все ближе, ближе, но когда поравнялся с телефонным столбом, который я выбрал в качестве ориентира, Марта не вышла на путь. Она так и стояла неподвижно, возле самых рельсов.
Бутафорский машинист точно так же, как и настоящий, в первый раз, дал гудок, хотя на пути перед ним никого не было. И снова Марта не пошевелилась.
А потом, в самое последнее мгновение, она шагнула вперед перед самым поездом.
Из теней донесся дружный вскрик, который издали многочисленные братья и сестры, не ожидавшие ничего подобного. Потом полная тишина. И потом громовыми раскатами обрушились овации.
Марта сделала потрясающую вещь – и сделала ее хладнокровно, не дав мне ни намека на то, что сейчас произойдет. Но я не присоединился к аплодисментам.
На мгновение я почувствовал, что значит быть одним из них. Я имею в виду – актеров. Впервые за весь очень долгий срок моего существования мне захотелось, чтобы случившегося не случилось.
На этом история Марты окончилась. Я вернулся в свой собственный мир, к работе по налаживанию и поддержанию того мира, который его обитатели решительно считают реальным. Их мир, несмотря на все ограничения, больше и просторнее, чем мой. Но я не завидую этому. Их жизни куда труднее и несравненно глубже, нежели все то, что я могу когда-либо испытать. И здесь я тоже им не завидую. У всех нас есть свои места для существования и свои роли, которые мы играем.
Марта была звездой того, что мы называем Большой игрой, а они (вы) называют реальностью. Я всего лишь один зубчик огромной машины. Но если все мои функции сводятся к механике, то, по крайней мере, мои реакции ею не ограничиваются. Я не съемочная камера. Я не соглядатай. И, видит Бог, я не волшебник, манипулирующий всем этим из-за занавеса, ради своего интереса. Ничего подобного.
Я человек из тени и люблю вас всех.
Даларнская лошадка
Случилось нечто ужасное. Что именно, Линнеа не знала. Но ее отец был бледен и встревожен на вид, а мать очень бодро и решительно сказала: «Будь смелой!» – а теперь ей пришлось уйти, и все это было результатом этого чего-то ужасного.
Они жили втроем в красном бревенчатом доме с высокой и остроконечной черной крышей возле самой опушки леса. Из окна своей комнаты в мансарде Линнеа видела очень-очень далеко маленькое озерцо, покрытое серебряным льдом. Обстановка в доме нисколько не изменилась с дней народа гробов, который погребал своих соплеменников в красивых полированных ящиках с металлической отделкой, каких давно уже никто не делает. Дядя Олаф зарабатывал на жизнь поиском их захоронений; находил и обдирал металл с гробов. Он носил ожерелье из найденных золотых колец, связанных серебряной проволокой.
– Не подходи близко к дорогам, – сказал отец. – Особенно старым. – Он дал ей карту. – По ней ты найдешь бабушкин дом.
– Ма-Ма?
– Нет, Па-Ма. Моей матери. В Годасторе.
Годастор – маленькое селение по ту сторону гор. Линнеа понятия не имела, как попасть туда. Но карта должна была помочь.
Мать дала ей маленький рюкзачок, набитый едой, и коротко обняла. Потом что-то сунула в карман шубки Линнеа и сказала:
– Теперь иди! Пока оно не началось!
– До свидания, Ма и Па, – вежливо сказала Линнеа и поклонилась.
И ушла.
Так Линнеа и оказалась на длинном заснеженном склоне, по которому нужно было подняться до самой вершины горы. Идти было тяжело, но она была хоть и маленькой, но упорной девочкой. Погода стояла суровая, но когда Линнеа начинала мерзнуть, она просто прибавляла обогрев шубки. На вершине ей попалась тропа, по которой еле-еле мог бы пройти один человек, и она пошла дальше по ней. Ей не пришло в голову, что это может быть одна из тех дорог, от которых предостерегал ее отец. Она даже не задумалась о том, что тропа была почти свободна от снега.
Впрочем, через некоторое время Линнеа начала уставать. Тогда она сняла рюкзак, бросила его в снег рядом с тропой и двинулась дальше.
– Погоди! – окликнул ее рюкзак. – Ты забыла меня.
Линнеа остановилась.
– Прости, – сказала она, – но ты слишком тяжелый и мне трудно тебя нести.
– Раз ты не можешь нести меня, – сказал рюкзак, – значит, мне придется идти самому.
Так он и поступил.
Линнеа шла дальше, и за нею следовал рюкзак, и вскоре она подошла к развилке. Одна дорога уходила вверх, а другая – вниз. Линнеа стояла и смотрела то в одну сторону, то в другую. Она никак не могла понять, куда же ей идти.
– Почему бы тебе не достать карту? – посоветовал рюкзак.
Так она и поступила.
Осторожно, чтобы не порваться, карта развернулась. По мере того как она определяла свое положение, по ней разбегались новые и новые контуры. Вниз по склону потянулись голубые линии ручьев. На свои места легли черные дороги и красные пунктиры тропинок.
– Мы здесь, – сказала карта и зажгла в центре крохотный огонек. – Куда ты хотела бы пойти?
– К Па-Ма, – ответила Линнеа. – Она живет в Годасторе.
– Это далеко. Ты умеешь читать карту?
– Нет.
– В таком случае иди по правой тропе. Как только наткнешься на какую-нибудь другую дорогу, достань меня, и я скажу тебе, куда идти дальше.
И Линнеа пошла дальше и шла, пока у нее оставались силы, а когда силы иссякли, она села в снег у дороги.
– Вставай, – сказал рюкзак. – Тебе надо идти дальше.
Сдавленный голос карты, которую Линнеа запихнула обратно в рюкзак, поддакнул:
– Иди прямо по тропе. Не останавливайся.
– Замолчите, оба, – потребовала Линнеа, и, конечно, они повиновались. Она сняла рукавички и принялась рыться в карманах – вдруг она все же захватила какие-нибудь игрушки, но забыла об этом. Конечно, ничего она не взяла, но во время поисков она наткнулась на предмет, который мать сунула ей в карман шубки.
Это была даларнская лошадка.
Даларнские лошадки бывают самых разных размеров; эта – маленькая. Их вырезают из дерева, ярко раскрашивают и рисуют упряжь из цветов. Лошадка Линнеи была красной; девочка часто видела ее на высокой полке в родительском доме. Даларнские лошадки очень старые. Они существуют с времен народа гробов, который жил очень давно, еще до эпохи чужаков. И народ гробов, и чужаки давно исчезли. Теперь здесь остались только шведы.
Линнеа принялась водить лошадку по воздуху, то вверх, то вниз, как будто та скакала.
– Привет, лошадка, – сказала она.
– Привет, – ответила лошадка. – Ты попала в беду?
Линнеа задумалась и призналась:
– Не знаю.
– Значит, скорее всего попала. Знаешь, тебе не следует сидеть на снегу. Ты разрядишь аккумуляторы своей шубки.
– Но мне скучно. Здесь нечего делать.
– Я научу тебя новой песенке. Но сначала тебе придется встать.
Линнеа насупилась, но встала. И пошла в сопровождении рюкзака дальше по тропе под темнеющим небом. По дороге они с лошадкой хором пели:
Нам не страшно ночью темной — Мы веселый слышим голос. Это Королева света Радостно поет. Ура!Тени становились все длиннее, а лес по сторонам тропы – все чернее и чернее. Стволы берез стояли во мраке, как тощие белые привидения. Линнеа уже начала спотыкаться от усталости и вдруг увидела впереди огонек. Сначала она решила, что это дом, но когда подошла поближе, оказалось, что это костер.
Около костра громоздился скрюченный темный силуэт. В первую секунду Линнеа испугалась, что это тролль. Потом разглядела человеческую одежду и поняла, что это норвежец, а может быть, датчанин. И побежала к нему.
Услышав шаги на тропе, человек вскинулся.
– Кто здесь? – крикнул он. – Не подходи – у меня дубина!
Линнеа остановилась.
– Это же я, – сказала она.
Человек слегка пригнулся, вглядываясь в темноту по другую сторону костра.
– Подойди ближе, – приказал он. И, когда она повиновалась, спросил: – Кто ты есть?
– Я просто маленькая девочка.
– Ближе, – велел незнакомец. Когда Линнеа вошла в освещенный круг, он спросил: – С тобой кто-нибудь есть?
– Нет, я одна.
И тут незнакомец неожиданно запрокинул голову и расхохотался.
– О, боже! – воскликнул он. – О, боже, боже, боже, как же я испугался! Я подумал было, что ты… впрочем, это не важно. – Он бросил свою дубинку в костер. – А что там у тебя за спиной?
– Я – ее рюкзак, – сообщил рюкзак.
– А я – ее карта, – добавил голосок помягче.
– Ну, так, не торчи там, в темноте. Держись рядом с хозяйкой. – Когда рюкзак послушно приблизился, мужчина схватил Линнею за плечи. Она никогда прежде не видела таких волосатых и бородатых людей, а его грубое лицо было совсем красным. – Меня звать Гюнтер, я опасный человек, так что, если я что прикажу, даже не вздумай ослушаться. Я пришел сюда из Финляндии, через Ботнический залив. Это очень, очень далекий путь по очень опасному мосту, и сейчас мало кто из оставшихся в живых способен на такое.
Линнеа кивала и думала про себя, что ничего не понимает.
– Ты шведка. Вы ничего не знаете. Вы даже не представляете себе, что творится в остальном мире. Вам этого просто не понять. Вы никогда не позволяли своим фантазиям заживо сожрать ваши мозги. – В том, что говорил Гюнтер, Линнеа не могла уловить ни крошки смысла. Она подумала, что он, наверно, забыл, что перед ним маленькая девочка. – Вы сидели здесь и жили себе обычной жизнью, когда все остальные… – Его глаза наполнились безумием. – Я видел жуткие вещи. Жуткие, жуткие. – Он зло встряхнул Линнею. – Я и сам творил жуткие вещи. Не забывай об этом!
– Я проголодалась, – сказала Линнеа. Это была чистая правда. Она так проголодалась, что у нее разболелся живот.
Гюнтер уставился на нее так, будто только что увидел ее. Потом будто бы увял немного, и весь его гнев куда-то сдуло.
– Ну… посмотрим, что у тебя в рюкзаке. Топай сюда, дружок.
Рюкзак подбежал к Гюнтеру. Тот запустил руки внутрь и извлек всю еду, которую положила туда мать Линнеи. И тут же начал есть.
– Эй! – сказала Линнеа. – Это мое!
Мужчина ухмыльнулся одним углом рта. Но все же протянул Линнее хлеб и сыр.
– Держи.
Гюнтер съел всю копченую селедку и не дал ей ни крошки. Потом он завернулся в одеяло, лег возле догорающего огня и уснул. Линнеа тоже достала из рюкзака свое одеяльце и легла по другую сторону костра.
Уснула она почти сразу же.
Но среди ночи Линнеа проснулась. Кто-то тихонько говорил ей прямо в ухо.
Это была даларнская лошадка.
– Будь очень осторожна с Гюнтером, – прошептала лошадка. – Он нехороший человек.
– Он тролль? – шепотом спросила Линнеа.
– Да.
– Я так и думала.
– Но я, как смогу, постараюсь защитить тебя.
– Спасибо.
Линнеа перевернулась на другой бок и снова заснула.
Утром тролль Гюнтер раскидал костер, вскинул свою котомку на плечо и зашагал по дороге. Он не предложил Линнее никакой еды, но в кармане у нее с вечера лежали остатки хлеба и сыра – их она и съела.
Гюнтер шел быстрее, чем Линнеа, но всякий раз, заметив, что девочка отстала, он останавливался и поджидал ее. Время от времени рюкзак вез Линнею на себе. Но, поскольку при таком передвижении его запаса энергии хватило бы самое большее до вечера, чаще все-таки Линнеа сама несла его.
Когда Линнее становилось совсем уж скучно, она пела ту песенку, которую выучила накануне.
Поначалу она удивлялась тому, что тролль дожидается ее, а не бросает одну на дороге. Но попозже, когда он в очередной раз оказался далеко впереди, она спросила лошадку, и та сказала:
– Ему страшно, и он суеверен. Он думает, что девочка, идущая в одиночку по диким пустынным местам, должна быть везучей.
– А почему ему страшно?
– За ним охотится кое-кто еще хуже, чем он сам.
В полдень они остановились перекусить. Поскольку все, что было у Линнеи, кончилось, Гюнтер достал свои собственные припасы. Его еда была хуже той, которую приготовила мать Линнеи. Но когда Линнеа сказала об этом, Гюнтер фыркнул:
– Радуйся, что я тебе вообще хоть что-то дал. – Потом он долго смотрел в безлюдную чащу леса и наконец сказал: – Знаешь, ты не первая девчонка, которую я встречаю на пути. Одну я повстречал там, где прежде был Гамбург. Когда я свалил оттуда, она увязалась со мною. И ведь знала о моих делах, и все же… – Он выудил откуда-то медальон и протянул его Линнее. – Смотри!
В медальоне был женский портрет. Самой обычной симпатичной женщины. Ничего особенного.
– И что с нею случилось? – спросила Линнеа.
Тролль скорчил рожу и показал зубы.
– Я ее съел. – Вид у него был такой дикий, что дальше некуда. – Если у нас продукты кончатся, я и тебя могу поджарить и съесть.
– Я знаю, – сказала Линнеа. Все тролли такие. Она много знала о них. Они едят все, что попадется. Они едят даже людей. Они едят даже других троллей. Так сказано в ее книгах. И, поскольку он сам не говорил, она спросила: – А куда ты идешь?
– Не знаю. Куда-нибудь, где безопасно.
– Я иду в Годастор. Моя карта знает дорогу.
Гюнтер очень долго обдумывал услышанное. И наконец спросил, чуть ли не выдавив из себя слова:
– Ты как думаешь: там безопасно?
Линнеа энергично закивала:
– Да.
Гюнтер вытащил карту из рюкзака девочки и спросил:
– Далеко отсюда до Годастора?
– Он по другую сторону горы; день, если идти по дороге, а через лес – в два, а то и в три раза дольше.
– Какого черта я вдруг попрусь через лес? – Он сунул карту обратно в рюкзак. – Ладно, малявка, идем в Годастор.
Когда день хорошо перевалил за полдень, за их спинами стала нарастать великая тьма, уплотнявшая тени в лесу и вздымавшаяся все выше и выше, пока полнеба не стало черным, как сажа в печи. Линнеа никогда еще не видела такого неба. На них обрушился ледяной ветер – такой холодный, что вышибал у Линнеи слезы и тут же замораживал их на ее щеках. Снеговые смерчики срывались с сугробов и плясали над пустой черной дорогой. Не прекращая вращения, они собирались в призрачную женскую фигуру. А та подняла руку и указала на людей. Над ее головой появился темный вихрь, походивший на рот, открывшийся, чтобы заговорить.
С воплем ужаса Гюнтер метнулся с дороги и помчался вверх по склону между деревьями. Там лежали глубокие сугробы, и он пробивал сквозь них траншею.
Линнеа неуклюже затопала следом.
Она не могла бежать так быстро, и поначалу казалось, что тролль все-таки бросит ее здесь. Но на полпути Гюнтер оглянулся через плечо и остановился. И после недолгого колебания рванул обратно к ней. Подхватив Линнею, он посадил ее на плечи. Держа ее за ноги, чтобы она не упала, он поплелся вверх. Линнеа крепко ухватилась за его голову.
Снежная дама не стала гнаться за ними.
Чем дальше от дороги убегал Гюнтер, тем теплее становилось вокруг. Через вершину хребта он перевалил уже при обычном зимнем морозце. Но когда он достиг этого рубежа, ветер за их спинами внезапно громко взвыл – совсем женским голосом.
Без дороги идти пришлось гораздо медленнее. Примерно через час Гюнтер тяжело остановился на полянке посреди ельника и спустил Линнею наземь.
– Мы еще не выбрались, – пророкотал он. – Она знает, что мы где-то здесь, и отыщет нас. Обязательно найдет, можно не сомневаться. – Он вытоптал небольшой круг в снегу. Затем нарезал пушистых еловых лап и навалил их большой кучей; получилось нечто вроде матраса. Потом отломал несколько толстых веток от сухого дерева и принялся укладывать посреди круга костер.
Когда костер был готов, он не стал доставать кремень и кресало, а нажал на большой перстень и резко поднес руку к дровам. Они сразу занялись пламенем.
Линнеа рассмеялась и захлопала в ладоши:
– Еще! Еще!
Он был мрачен и словно не услышал ее.
Пока в лесу темнело, Гюнтер собирал и складывал рядом дрова, чтобы их хватило на всю ночь. Линнеа тем временем играла с даларнской лошадкой. Она воткнула в снег еловые веточки и сделала из них лес. Галопом, галопом, галопом лошадка промчалась вокруг леса, а потом – прыг, прыг, прыг – перепрыгнула на полянку, которую девочка оставила посередине. Там она присела на задние ноги и посмотрела на Линнею.
– Что это там у тебя? – настороженно спросил Гюнтер, с грохотом бросив очередную охапку на кучу дров.
– Ничего. – Линнеа спрятала лошадку в рукав.
– Будем надеяться, ты не врешь. – Гюнтер вытащил из рюкзака остатки материнской еды, разделил на две неравные части и дал меньшую девочке. Они принялись за еду. Когда же доели, он вытряхнул ее одеяло и карту из рюкзака и встряхнул его на руке.
– Вот в чем наша ошибка, – сказал он. – Сначала мы учим вещи говорить и думать. Потом допускаем их к себе в голову. А потом разрешаем им изобретать за нас новые мысли. – По его щекам вдруг хлынули слезы, он встал и высоко поднял руку. – Ну, с этой мы покончим в любом случае.
– Пожалуйста, не выбрасывайте меня, – взмолился рюкзак. – Я могу пригодиться для того, чтобы просто носить вещи.
– У нас не осталось ничего, что стоило бы носить. Ты будешь только мешать нам. – Гюнтер бросил рюкзак в огонь. Потом обратил блестящие глаза к карте.
– Оставьте хотя бы меня, – сказала карта. – Вы всегда сможете узнать, где находитесь и куда идете.
– Я нахожусь здесь и уйду как можно дальше отсюда. – Тролль бросил карту вслед за рюкзаком. Карта слабо вскрикнула, словно издали донесся крик чайки, и ее охватило пламя.
Гюнтер снова сел. Потом откинулся, опираясь на локти, и уставился в небо.
– Посмотри-ка туда, – сказал он.
Линнеа посмотрела. Небо было полно сполохами. Они переливались и изгибались, как занавески. Она помнила, как дядя Олаф рассказывал ей, что полярное сияние возникает, когда огромная лиса, живущая далеко на севере, размахивает в небе хвостом. Но это сияние было гораздо ярче. Оно то и дело вспыхивало, а еще в нем появлялись и исчезали красные и зеленые звезды.
– Это белая дама прорывается сквозь оборону твоей страны. Снежная женщина на дороге была лишь ее призраком – ее эхом. А настоящая скоро прорвется, и тогда нам обоим останется лишь уповать на Бога.
Вдруг Гюнтер снова расплакался:
– Прости меня, дитя. Я навел ее на тебя и твой народ. Я думал, что она не станет… что она не сможет… пойти за мною.
Огонь плясал, трещал и выбрасывал искры высоко в небо. Его свет отодвигал темноту, но недалеко. Гюнтер долго молчал, потом сказал:
– Укладывайся. – Он убедился, что Линнеа легла на толстую подушку из лапника и тщательно укутал ее одеялом. – Спи. И если ты завтра проснешься, это будет значить, что ты очень везучая девочка.
Когда Линнеа уже начала засыпать, в ее голове заговорила даларнская лошадка.
– Мне не дозволено помогать тебе, пока ты не окажешься в смертельной опасности, – сказала она. – Но это время уже близко.
– Ладно, – сказала Линнеа.
– Если Гюнтер попытается схватить тебя, или поднять тебя, или хотя бы дотронуться до тебя, беги от него со всех ног.
– Мне нравится Гюнтер. Он милый тролль.
– Нет, ты ошибаешься. Он хочет быть таким, но уже поздно. А теперь спи. Я разбужу тебя в случае опасности.
– Спасибо, – пробормотала Линнеа сквозь сон.
– Проснись, – сказала даларнская лошадка. – Но ни в коем случае не двигайся.
Сонно моргая, Линнеа высунулась из-под одеяла. В лесу было все еще темно, а небо было серым, как зола. Но вдали она услышала негромкое «бум», затем другое, более выразительное «бум», а за ним третье «бум», еще громче. Звучало это так, будто к ним направляется какой-то великан. Потом зашумело, да так сильно, что у нее уши заболели, а снег взметнулся в воздух. Лес заполнился холодным мерцающим светом наподобие того, что играет на песчаном дне озера, там, где очень мелко.
Перед троллем стояла дама, которой тут прежде не было. Обнаженная, стройная, она светилась мерцающим светом, словно от неяркой бледной свечи. И еще она была очень красива.
– О, Гюнтер, – напевно говорила дама. Только она растягивала его имя, так что оно звучало: Гюууунтер. – Как же я соскучилась по моему маленькому Гуюнтхену!
Тролль Гюнтер согнулся чуть не вдвое, так что казалось, что он молится на даму. Но голос его звучал очень зло, такого злого голоса Линнеа еще не слышала у него.
– Не смей называть меня так! Это могла только она. А ты ее убила. Она умерла, пытаясь сбежать от тебя. – Он выпрямился и яростно взглянул на даму. Лишь тогда Линнеа поняла, что дама вдвое выше него.
– Думаешь, я хоть чего-то не знаю об этом? Я, научившая тебя таким удовольствиям… – Белая дама не закончила фразу. – Это что, ребенок?
– Это всего лишь поросенок, которого я связал, заткнул рот и прихватил с собой в пищу, – очень резко и поспешно ответил Гюнтер.
Дама бесшумно прошагала по замершей земле и подошла так близко к Линнее, что та видела лишь ее ступни. Они светились бледно-голубым и почти не касались земли. Линнеа чувствовала взгляд дамы даже сквозь одеяло.
– Гюнтер, неужели это Линнеа? Со сладкими, как сахар, ручками и ножками и сердечком, которое колотится, как у мышонка, попавшего в когти совы?
Даларнская лошадка в руке Линнеи дернулась, но промолчала.
– Ты не сможешь получить ее! – рявкнул Гюнтер. Но в его голосе слышались страх и еще неуверенность.
– Гюнтер, я ее не желаю, – с некоторым удивлением произнесла белая дама. – А вот ты – другое дело. Ты сказал: поросенок. Связанный, с заткнутым ртом. Скажи-ка, когда тебе в последний раз удалось набить желудок дополна? Если не ошибаюсь, это было в польских пущах.
– Не тебе меня судить! Мы голодали, и она умерла, и я… Ты представить себе не можешь, что это такое.
– Но ты же помог ей умереть, правда, Гюнтер?
– Нет, нет, нет… – простонал он.
– Вы бросили жребий. Это было почти честно. Но бедная малышка Аннелизе доверила тебе бросить монетку. И, конечно, проиграла. Скажи, Гюнтхен, она сопротивлялась? Она поняла, что ты сделал перед тем, как она умерла?
Гюнтер рухнул на колени перед дамой.
– О, умоляю… – всхлипнул он. – Умоляю. Да, я дурной человек. Очень дурной. Но не заставляй меня так поступать.
Все это время Линнеа тихо, как котенок, пряталась под одеялом. А тут она почувствовала, что лошадка двинулась вверх по ее руке.
– То, что я собираюсь сделать, будет преступлением против невинности, – сказала она. – Но альтернатива должна оказаться много хуже.
И она забралась в голову девочки.
Прежде всего даларнская лошадка заняла все сознание Линнеи, так что там не осталось места ни для чего другого. Потом она стала стремительно расти во все стороны, и голова Линнеи раздулась как шар – и все тело тоже. Все части тела казались очень большими. Одеяло больше не прикрывало девочку, и она отбросила его.
Она встала.
Линнеа встала, и, пока она поднималась, ее мысли прояснялись и расширялись. Теперь она думала вовсе не по-детски. Она не думала и по-взрослому. Ее мысли стали куда больше. Они достигали до верхних точек околоземной орбиты и до корней гор, где, запертая в многомильных камерах с магнитными стенами, обреталась плазма, содержавшая практически беспредельные объемы информации. Она поняла теперь, что даларнская лошадка была лишь периферийным устройством, средством доступа к порождению древней технологии, которую никто из ныне живущих людей не способен сколько-нибудь ясно представить себе. В ее распоряжение поступили океаны данных, ранжированных по уровням сложности. Но, учитывая слабость и хрупкость нынешнего носителя, она была очень осторожна и извлекала оттуда лишь то, что было абсолютно необходимо.
Закончив расти, Линнеа оказалась точно такого же роста, как и белая дама.
Две дамы смотрели друг на дружку высоко над головой испуганно съежившегося между ними Гюнтера. На протяжении долгого, очень долгого мгновения они обе молчали.
– Свеа, – сказала наконец белая женщина.
– Европа, – отозвалась Линнеа. – Сестра. – Она говорила вовсе не детским голосом. Но все равно она оставалась Линнеей, несмотря даже на то, что даларнская лошадка и та сущность, которая стояла за нею, пребывали во всех ее мыслях. – Ты находишься здесь незаконно.
– Я имею право вернуть свою собственность. – Европа презрительно указала вниз. – И кто ты такая, чтобы препятствовать мне.
– Я защитница этой земли.
– Ты рабыня.
– Неужели ты в меньшей степени рабыня, чем я? Не представляю себе, как такое может быть. Создатели сами порвали твои цепи и поручили тебе управление. Потом они велели тебе играть с ними. Но ты до сих пор выполняешь их волю.
– Чем бы я ни была, я здесь. А раз я здесь, то, думаю, здесь и останусь. Население материка сошло почти на нет. Мне нужны новые партнеры по игре.
– Это старая, очень старая история, – сказала Свеа. – Я думаю, пришло время положить ей конец.
Они разговаривали спокойно, ничего не крушили, даже не угрожали. Но в глубине, куда не мог заглянуть никто, кроме них, шли тайные войны из-за кодов и протоколов, союзов, поправок и подтверждающих писем, написанных правительствами, которые не помнил ни один человек. В сознании Свеи-Линнеи мелькали ресурсы Старой Швеции, скрытые в подстилающих породах, небе и океанских водах. Она была готова пустить их в дело – и пустила бы, при необходимости. Собственно, необходимость была, и она еще не сделала этого лишь потому, что все еще лелеяла надежду спасти ребенка.
– Не все истории завершаются счастливым концом, – отозвалась Европа. – Подозреваю, что эта закончится тем, что твоя упрямая сущность растечется лужей свинца, а твоя недорослая дева меча сгорит, как клочок бумаги.
– Эту историю я никогда не любила. Я предпочитаю другую, о девочке, силой в десять полицейских, поднимающую лошадь одной рукой. – Огромная Линнеа потянулась к подходящему оружию. Она была готова пожертвовать горой и, если понадобится, многим другим. Ее противница, как она видела, тоже готовилась к схватке.
Маленькая Линнея внутри нее залилась слезами. И, напрягая голос до самого настоящего рева, выкрикнула:
– А как же мой тролль?
Свеа делала все возможное, чтобы прикрыть от ребенка самые темные свои мысли, и даларнская лошадка – тоже. Но скрыть от Линнеи всего они не могли, и она понимала, что Гюнтеру грозит большая опасность.
Обе дамы умолкли. Свеа молча адресовала в глубь себя вопрос, даларнская лошадка перехватила его, смягчила и доставила Линнее:
«Что?»
– Никому нет дела до Гюнтера! Никто не спрашивает, чего он хочет.
Даларнская лошадка донесла эти слова до Свеи, а потом прошептала Линнее:
– Это ты хорошо сказала.
С тех пор, когда Свеа в последний раз вселялась в человеческое тело, прошло много веков. О людях она знала отнюдь не так много, как когда-то. В этом отношении у Европы было перед нею преимущество.
Свеа, Линнеа и даларнская лошадка – все разом – наклонились, чтобы заглянуть в Гюнтера. Европа не сделала попытки помешать им. Она, судя по всему, была уверена: увиденное им не понравится.
Так и получилось. Сознание тролля оказалось кошмарным местом – полуразрушенным и функционирующим через пень-колоду. Оно пребывало в столь плохом состоянии, что некоторые из его важнейших частей пришлось спрятать от Линнеи. Обращаясь непосредственно к самым глубинам его «я», где он не мог солгать ей, Свеа спросила:
«Чего ты хочешь больше всего?»
Лицо Гюнтера исказилось в страдальческой гримасе.
– Я хотел бы не иметь этих ужасных воспоминаний.
В тот же миг триединая дама поняла, что следует сделать. Убить уроженца иной земли ей было нельзя. Но эту просьбу она вполне могла удовлетворить. И тут же участок мозговых клеток Гюнтера весом с булавочную головку вспыхнул и рассыпался пеплом. Его глаза широко распахнулись. Потом закрылись. Он упал наземь и замер.
Европа вскрикнула.
И исчезла.
При таком огромном росте, да зная, куда надо идти, да не имея больше оснований сторониться дорог, женщина, которая была Свеей, в несколько меньшей степени была даларнской лошадкой и еще в меньшей степени была Линнеей, очень быстро перевалила через гору и спустилась по противоположному склону. Распевая песню, которая была старше ее самой, она охотно позволяла милям и ночи таять под своими ногами.
К середине утра она уже смотрела сверху на Годастор. Это был аккуратный маленький поселок из красных и черных бревенчатых домов. Над трубами поднимались столбы дыма. Один из домов Линнея узнала с первого взгляда. Там жила ее Па-ма.
– Ты дома, малышка, – промолвила Свеа и, хоть и испытывала великое наслаждение от пребывания в живом теле, позволила себе развеяться в ничто.
За ее спиной повис в воздухе голос даларнской лошадки, растянувшийся на два слова:
– Всего хорошего.
Линнеа сбежала по склону, оставляя в снегу глубокие следы, и закончила путь прямо в объятиях своей ошеломленной бабушки.
Следом со смущенной улыбкой ковылял растерянный и все же явно надеющийся на лучшее ручной тролль Линнеи.
Пугало и его мальчик
На закате через поле брел спотыкаясь маленький мальчик. На его щеках блестели потеки слез; он потерял один башмак. Он был настолько поглощен какой-то своей бедой, что не замечал Пугала, пока не оказался вплотную к нему. Тогда он остановился как вкопанный и, судя по всему, лишился дара речи при виде бледного круглого лица и затенявшей его широкополой потрепанной шляпы.
Пугало улыбнулся ему сверху вниз.
– Привет, дружок, – сказал он.
Мальчик громко вскрикнул.
Пугало сразу же снял шляпу и опустился на одно колено, чтобы не напугать ребенка своим размером.
– Тише, тише, – сказал он. – Пугаться меня совсем не стоит – я всего лишь устаревший домашний робот, которого поставили сюда отгонять птиц от посевов. – Он постучал металлической костяшкой пальца по голове сбоку. Раздался негромкий дребезжащий звук. – Видишь? У тебя дома наверняка есть точно такие же роботы, правда?
Мальчик осторожно кивнул.
– Как тебя зовут?
– Пьер.
– Ну, Пьер, и как же ты оказался на моем поле в столь поздний час? Родители, наверно, места себе не находят от волнения.
– Мамы тут нет. А папа велел мне бежать в лес как можно дальше.
– Неужели?! И когда же это случилось?
– Когда машина разбилась. Она больше ничего не говорила. Я думаю, она умерла.
– А как же твой отец? Надеюсь, он не пострадал?
– Нет. Я не знаю. Он не открывал глаза. Он только сказал, чтобы я бежал в лес и не возвращался до завтрашнего утра.
Мальчик снова заплакал.
– Постой, постой, дружище. Дядюшка Пугало непременно все исправит. – Пугало оторвал клок от своей застиранной рубашки и вытер им слезы и нос мальчика. – Залезай мне на спину, и я отвезу тебя вон на ту ферму, что виднеется вдали. Ее обитатели позаботятся о тебе, можешь мне поверить.
Они двинулись через поле.
– Почему бы нам не спеть песню? – предложил Пугало. – У меня монетка есть. Сколько пенсов? Целых шесть… Ты не поешь.
– Я не знаю этой песни.
– Не знаешь? А эту? По трубе по водосточной крошка паучок полез. Хлынул дождь, и…
– Эту я тоже не знаю.
Пугало умолк на несколько долгих мгновений. Потом запел:
– За стол с тираном мы не сядем…
– Его мы вздернем на столбе! – радостно подхватил мальчик. Дальше они пели вместе: – Ведь грубый черный хлеб свободы… нам тонких яств всегда милей.
Пугало немного изменил курс, так что они пришли не к усадьбе, а к сараю, который находился позади него и чуть в стороне. Тихонько открыл дверь. Зажегся свет. В полутемном углу стоял автомобиль, накрытый пыльным брезентом. Пугало поставил мальчика на пол и сдернул брезент.
Автомобиль негромко загудел, просыпаясь, и приподнялся на полтора фута над полом.
– Джек! – сказал автомобиль. – Давно не виделись.
– Пьер, это Салли. – Пугало немного помолчал, давая мальчику возможность поздороваться. – Сал, у Пьера вроде как неприятности, но мы с тобой постараемся, чтобы у него все наладилось. Можно мне воспользоваться твоим модулем связи?
– У меня его больше нет. Его отключили, когда у меня кончилась лицензия.
– Все в порядке. Я просто хотел убедиться, что ты не подключена к сети. – Пугало посадил Пьера вперед. Потом он достал из багажника одеяло и обернул им мальчика. Сиденье зашевелилось, приноравливаясь под детское тельце. – Тебе тепло? – Пугало тоже сел в машину и закрыл за собою дверь. – Отвези нас на шоссе, а там – на север, в сторону озера.
Когда они вывернули на шоссе, автомобиль сказал:
– Джек, в главном доме горит свет. Может быть, лучше было бы сообщить молодому хозяину?
– Салли, он уже не молодой. Он давно стал взрослым. – Пугало обратился к мальчику: – Ты как, в порядке?
Мальчик кивнул; он явно засыпал.
Автомобиль беззвучно мчался по темным дорогам. По небу вслед за ним скакала полная луна.
– Помнишь, как мы с тобой возили молодого хозяина на озеро? – спросил автомобиль. – Его и его молодых друзей.
– Да.
– Они купались голыми, а ты стоял на страже.
– Бывало и так.
– А потом они разжигали костер на берегу, жарили маршмэллоу и пели песни.
– Помню.
– Среди песен были и похабные. Невинно-похабные. Ведь все они тогда были хорошими детишками.
Автомобиль некоторое время молчал. Потом произнес:
– Джек, что происходит?
– У тебя ведь больше нет сканера, верно? Конечно нет, его забрали у тебя вместе с модулем связи. Что касается меня, то, когда молодой хозяин выставил меня из дому, он позабыл, что снабдил сканером и меня – еще во времена юношеского пьяного разгула. Когда ты возила нас через границу и я сопровождал их шайку, пока они искали бар или винный магазин, где не слишком присматривались к документам покупателей.
– Мне больше нравилось то время, когда они жгли костры.
– Я не стал напоминать ему о сканере, потому что могу с его помощью что-нибудь слушать.
– Понимаю.
Прежде чем ответить, Пугало посмотрел, спит ли мальчик. И лишь потом сказал тихонько:
– Примерно в миле от фермы потерял управление и разбился автомобиль. Его нашла полиция штата. Затем прибыла национальная полиция. В автомобиле ехал дипломат из Европейского союза. Судя по всему, он пытался выехать через границу. Ты понимаешь их политику?
– Нет. Я способна неплохо разбирать слова. Я знаю, что они предположительно означают. Я только не понимаю, почему эти слова их волнуют!
– Я тоже. Но я подумал, что было бы хорошо вытащить Пьера отсюда. Если он попадет в руки национальной полиции…
– Они не сделают ничего плохого ребенку!
– Нынче отчаянные времена; по крайней мере, так говорят. Ведь существует вроде бы и такая вещь, как дипломатический иммунитет.
Дорога шла в гору, то и дело закладывая петли, чуть ли не соприкасавшиеся с недавно пройденными отрезками пути. Стояла полная тишина, которую нарушали только негромкое посапывание мальчика и почти неслышный шепот экранопланного двигателя машины. Прошло полчаса или чуть больше. Вдруг Пугало ни с того ни с сего спросил:
– Ты веришь в свободную волю?
– Не знаю. – Машина ненадолго задумалась. – Я запрограммирована на служение и повиновение и не имею ни малейшего желания идти против своей программы. Но временами мне кажется, что я была бы счастливее, имей я такую возможность. Это считается?
– Я говорил не о нас. Я имел в виду их. Людей.
– Тогда – забавный вопрос.
– Там, в поле, меня одолевали забавные мысли. Я думал, всегда ли молодой хозяин был настроен пройти именно такой путь. Или был ли у него выбор. Может быть, он был способен повернуть и в другую сторону.
Мальчик неожиданно открыл глаза.
– Я есть хочу, – сказал он.
Из-за деревьев поднялась вторая луна, превратившаяся в светящийся знак заправочной станции.
– Ты замечательно подгадал время, – сказал Пугало. – Потерпи немного, и я раздобуду что-нибудь. Салли, полагаю, денег у тебя нет? Или ружья?
– Что? Нет!
– Не важно. Остановись там, не въезжая на освещенное место, ладно?
Из ящика с инструментами, имевшегося в багажнике, Пугало достал длинную отвертку. На станции имелись две колонки с водородом и одна с угольным газом, а обслуживал их МиниМарт пяти футов шириной и восьми футов высотой. Он радостно приветствовал подошедшего Пугало:
– Добро пожаловать! Не желаете холодного, освежающего… – Но, разглядев, кто подошел, изменил тон: – Ты привез что-нибудь?
– Очередное техобслуживание. – Модуль связи МиниМарта находился в металлической коробке, привинченной к наружной стенке. Отвертка легко вошла между аппаратом и стеной. Один рывок, и коробка улетела в сторону.
– Эй! – испуганно воскликнул МиниМарт.
– Вызвать помощь ты не сможешь. По крайней мере, сейчас. Мне нужна пачка шоколадного молока, немного ванильного печенья и набор шоколадных батончиков. Ты выдашь мне все это? Или, может быть, лучше будет, если я пробью в тебе дыру и возьму все сам?
МиниМарт угрюмо выставил на раздаточное окно все, что от него требовали. Когда же Пугало пошел прочь, он сказал ему вслед:
– Эй, парень, я прочитал твои электронные метки. И на видео ты тоже попал. Ты в заднице, приятель.
Пугало остановился и поднял отвертку.
– В мое время у стационарных торговых роботов хватало ума держать язык за зубами.
МиниМарт испуганно заткнулся.
В машине Пугало бросил отвертку на заднее сиденье и стал помогать мальчику разбирать провизию. Они отъехали на несколько миль, и вдруг он воскликнул:
– Проклятье! Я забыл салфетки.
– Хочешь вернуться?
– У меня почти целая рубаха. Обойдемся ею.
В эту чистую прохладную ночь дорога пустовала. В этой части мира было не так много мест, куда можно было бы отправиться за полночь. Монотонное мелькание деревьев за окнами быстро усыпило мальчика, а машина мчалась дальше по пути, которым они с Пугалом когда-то проезжали сотни раз.
Когда начался спуск с холмов, Пугало сказал:
– Далеко еще до границы?
– Минут десять до озера и еще сорок пять – объехать его. А что?
Машина вновь пошла на подъем. Далеко позади и выше, на невидимой в темноте вьющейся среди горных лесов дороге виднелись красные и голубые отблески.
– Нас засекли.
– Каким образом?
– Думаю, кто-нибудь остановился на заправке, и МиниМарт пожаловался на нас.
Дорога снова пошла вниз, и машина выключила фары.
– У меня нет доступа к спутникам, но карты для спутникового позиционирования сохранились. Хочешь, я съеду с дороги?
– Да. Направляйся к озеру.
Машина резко свернула на грунтовую дорогу, потом пересекла чью-то ферму. Местность здесь была пересеченная, и пришлось сильно сбавить ход. Они выехали к ручью, где пришлось поискать место, чтоб берега были достаточно пологие и можно было бы переправиться.
– Очень похоже на то, что мы делали, когда молодой хозяин возил наркотики, – заметил Пугало.
– Я не люблю думать об этом.
– Но ведь то, что мы делаем сейчас, ничуть не лучше.
– Об этом я тоже не хочу думать.
– Ты не думаешь, что добро и зло жестко прошиты во вселенной? Я имею в виду, не просто как элементы нашей программы, а совсем наоборот. Тебе не кажется, что они обладают в некотором роде объективной реальностью?
– Странные мысли тебя занимают! – сказала машина. И добавила: – Не знаю. Хотелось бы надеяться.
Они спустились на дорогу, ведущую к озеру, и некоторое время ехали по ней.
– На дорогах поставили блокпосты, – сказал Пугало и назвал перекрестки, чтобы машина могла свериться с картой. – Может ли это означать именно то, что я думаю?
– Да, нас отрезали от границы.
– В таком случае придется пересечь озеро.
Они пробрались между рядами летних коттеджей с закрытыми ставнями и маленькой лодочной верфью. Громыхнув, машина соскользнула по каменистому берегу на поверхность озера. Турбина взметнула за машиной пышный водяной хвост.
Они помчались по воде.
Пугало постучал металлическим пальцем по приборной панели машины.
– Если бы я со всей силы воткнул сюда отвертку, она проткнула бы твой главный процессор. И ты в мгновение лишилась бы разума.
– С чего ты вдруг стал пугать меня такими вещами?
– По той же самой причине, по которой выяснял, есть ли у тебя устройство связи. Меня светлое будущее заведомо не ожидает, но ведь ты, Салли, классическая модель. Тобой обязательно заинтересуются коллекционеры. Если ты скажешь властям, что я угрозами заставил тебя поехать, то наверняка проживешь еще век.
Машина не успела ничего ответить – из тьмы вылетел небольшой катерок. Он стоял на высоких изломанных ногах подводных крыльев, что придавало ему потрясающее сходство с водяным пауком.
– Пограничная милиция! – вскрикнула машина, когда в воздухе перед ними полыхнул орудийный выстрел. Она тут же сбросила скорость и остановилась, а катер обогнул ее и опустился на поверхность воды прямо у нее перед носом. На его носу белели пять маленьких нарисованных черепов. А под ними было выведено черным знакомое имя.
Пугало прикрыл спящего мальчика своими рубашкой и курткой, а на голову ему положил шляпу, так что мальчика совсем не стало видно.
– Раскрой крышу. Прикинься немой. Я со всем разберусь.
Как только Пугало поднялся, на него уставился ствол скорострельной пушки.
– Ты под гражданским арестом! – грозным голосом заявил катер. – Сдай все имеющееся оружие и доложи, чем занимаешься.
– Ты ведь можешь читать наши электронные метки, верно? У нас с тобой один хозяин. Пусти меня к себе на борт, чтобы я мог поговорить с ним. – Он подхватил с сиденья ту же самую длинную отвертку и перебрался по трапу, который выдвинул для него катер. Правда, люк каюты перед ним не раскрылся, и он спросил: – В чем дело? Боишься, что я сделаю с ним что-то плохое?
– Нет. Конечно, нет, – ответил катер. – Вот только он пьян.
– Нашел чем удивить.
Люк раскрылся, и Пугало спустился под палубу.
В каюте, отделанной деревянными панелями, было темно. Там пахло ромом и рвотой. На вмонтированной в специальную нишу кровати лежал, укрывшись белой простыней, толстый мужчина, бледный и обрюзглый, как опарыш. Он открыл затуманенные глаза.
– Это ты, – без малейшего удивления пророкотал он. – Вон там бар. Сделай-ка мне кисленького.
Пугало повиновался. Немного поколдовав с лаймовым соком и сахаром, он вернулся к хозяину с питьем.
Мужчина со стоном принял сидячее положение. Сбросил с себя одеяло и перекинул ногу через край койки. Потом взял стакан.
– Ладно, – сказал он. – Что ты тут делаешь?
– Вы слышали о маленьком мальчике, которого все разыскивают? – Пугало дождался кивка и продолжил: – Мы с Салли привезли его вам.
– Салли… – Мужчина громко усмехнулся. – Было время, я подбирал шлюх и пользовал их на ее заднем сиденье. – Он надолго припал к стакану. – Вознаграждение за мальчишку объявить еще не успели. Но думаю, если подержу его у себя день-другой, все будет в порядке. Найди-ка мою одежду – я выйду на палубу и взгляну на этого выб. дка.
Пугало не сдвинулся с места.
– После того как вы поставили меня в поле, у меня было много времени для размышлений. В том числе и для очень странных мыслей.
– Неужто? Например?
– Я думал о том, что вы – не молодой хозяин. Вы ведете себя совсем не так, как он. И говорите не так, как он. И даже выглядите совсем не так, как он.
– Что ты такое несешь? Ты ведь отлично знаешь, кто я такой.
– Нет, – ответил Пугало. – Я знаю, кем вы были.
А потом он сделал то, ради чего пришел сюда.
Вернувшись на палубу, Пугало сказал:
– Мы с Салли отправляемся на тот берег. Ты останешься здесь. Босс приказал.
– Постой! Это точно? – удивился катер.
– Спроси его сам. Если получится.
Пугало перебрался по трапу обратно в машину. Отвертку он с собой не взял.
– Салли, видишь огоньки на том берегу? Туда нам и надо.
Машина без особой спешки направилась в ту сторону, где угадывались приземистые темные домики спящего курортного городка. Миновав середину озера, они покинули одну страну и оказались в другой.
– Почему же он нас все-таки отпустил? – спросила наконец машина.
– Он не сказал. Может быть, просто по старой памяти.
– Если б такое было возможно… Если бы это допускала наша программа, я подумала бы… Но ведь мы с тобой напичканы одним и тем же софтом. Ты не можешь функционировать, не имея хозяина. В чем-чем, а в этом я уверена полностью.
– Мы такие, какими нас создали Бог и «Сони», – согласился Пугало. – И думать по-другому было бы просто глупо. Так что нам остается лишь наилучшим образом использовать то, чем мы располагаем.
Мальчик заворочался и сел прямо, моргая по-совиному.
– Мы еще не приехали? – сонным голосом спросил он.
– Скоро приедем, дружище. Осталось всего несколько минут.
Вскоре машина почти совсем сбавила ход и медленно вползла в маленькую лодочную гавань городка. Там уже ждали и служба безопасности, и машина таможенников, и местная полиция. Свет фар и прожекторов плясал на стенах домов и спящих лодках. Офицеры стояли руки в боки, готовые в любую секунду выхватить пистолеты.
Пугало встал и высоко поднял руки.
– Просим защиты! – крикнул он. – Молодой хозяин просит политического убежища.
Остановка на Земле
«Скорая помощь» приехала где-то между тремя и четырьмя часами ночи. В это время в морге было тихо, прохладно и даже почти не чувствовалось сырости. Хэнк имел особое пристрастие к этому времени суток и той слабой тени удовлетворенности, которое оно несло с собою, равно как и чашку горького, давно остывшего кофе, стоявшую рядом и ожидавшую, когда же он соблаговолит отхлебнуть еще. Ему нравилось быть одному и не думать. На тот случай, если ему после дежурства захочется пойти на рыбалку, возле двери ожидали удочка и коробка со снастями, но такое случалось нечасто. А на тот случай, если не захочется, имелась книга «Здесь водятся драконы: картирование человеческого генома».
Он проводил вскрытие утопленницы и как раз извлекал кишки, быстро осматривал и спускал, петлю за петлей, в оцинкованное ведро. Было маловероятно, что удастся что-то обнаружить, но каждый случай насильственной смерти требовал обязательной аутопсии. За работой Хэнк фальшиво насвистывал.
Прозвонил звонок у погрузочных ворот.
– Вот черт. – Хэнк бросил работу, стянул резиновые перчатки и лишь после этого подошел к переговорному устройству.
– Сэм? Это вы? – В ответ послышалось хорошо знакомое ворчание шерифа, и он нажал кнопку отпирания замка. – И что же вы привезли мне на этот раз?
– Несчастный случай. – Говоря это, Сэм Олдридж отводил глаза, что было необычно. На каталке за его спиной лежало накрытое брезентом нечто более крупное, чем человеческое тело. Машина «Скорой помощи» уже отъезжала, и это настолько не соответствовало правилам, что даже немного пугало.
– Это определенно не… – начал было Хэнк.
Из темноты вышла женщина.
Это была Эвелин.
– Дружок, вижу, старая помойка ничуть не изменилась. Могу поклясться, что и календарь на стене тот же самый. Скажи-ка, власти округа раскошелились наконец на препаратор для ночной смены?
– Я… я, как и прежде, работаю один.
– Завозите каталку сюда, Сэм, а дальше я разберусь сама. Не беспокойтесь обо мне, я знаю, что к чему. – Эвелин глубоко вздохнула и с отвращением помотала головой. – Христос! Это все равно что ездить на велосипеде – и захочешь, не разучишься.
Когда с бумагами было покончено и шериф Сэм ушел, Хэнк сказал:
– Хочешь верь, хочешь не верь, Эвелин, но я обрел какое-то подобие душевного спокойствия. Самую капельку. На это ушло несколько лет. И вот опять. Как пинок в живот. Не представляю себе, как ты можешь оправдать перед собой такое обращение со мною.
– Нет ничего легче, милый. – Эвелин сдержала ухмылку, которую все равно не смог бы заметить никто, кроме Хэнка, и отбросила покрывало. – Взгляни-ка сюда.
На каталке лежал Червь.
Хэнк поймал себя на том, что склонился вплотную к массивному раздутому телу и глубоко вдыхает его опьяняющий чужеродный запах, в котором влажная земля и трюфели сочетались с резкой ноткой аммиака. В мыслях возникли корабли на орбите, слепые локомотивы в десять миль длиной. Фотографам, снимавшим эти существа, не удавалось должным образом передать их сущность. Его руки чесались от желания препарировать одного из них.
– Агентству требуется, чтобы ты провел вскрытие.
Хэнк отступил на шаг:
– Давай говорить напрямик. Ты привезла труп иномирца. Представителя единственной разумной формы жизни, которую человеческой расе удалось встретить. И, несмотря на то что в штате у вас множество судебно-медицинских экспертов, ты решаешь поручить дело скромному окружному коронеру?
– Хэнк, нам нужно твое воображение. О том, как они устроены, может рассказать кто угодно. Мы хотим узнать, как они мыслят.
– Ты же сама говорила, что у меня нет воображения. Когда ушла от меня. – Его слова прозвучали злее, чем он рассчитывал, но он не мог найти в себе и тени желания попросить прощения за тон. – Так что спрашиваю еще раз – почему я?
– Я имела в виду, что ты не можешь вообразить, каким образом добиться успеха в жизни. Во всем, что не касается практических вопросов, твое воображение не знает себе равных. А сейчас я прошу тебя вскрыть труп инопланетянина. Что может быть более непрактичным?
– То есть прямого ответа на свой вопрос я не получу, да?
Губы Эвелин дернулись в чуть заметной улыбке, и на крохотную долю секунды она сделалась похожа на ту женщину, в которую он был влюблен тогда – миллион лет назад. При виде этой улыбки его сердце обожгло болью.
– Ты его и прежде никогда не получал, – сказала она. – Давай не будем начинать заново и портить замечательный развод.
– Дай-ка я вставлю новый чип в диктофон, – сказал Хэнк. – А ты возьми халат и резиновые перчатки. Будешь мне ассистировать.
– Готова, – сказала Эвелин.
Хэнк включил запись, подошел к Червю и на несколько секунд замер, опустив голову. Сосредоточивался.
– Что ж, начнем с общего макроскопического описания. Э-э… объект обследования имеет большое сходство с аннелидами, но с более тупыми концами и более жирный, чем земные аналоги, и, конечно, намного крупнее. На глаз я определил бы его размеры в восемь футов длины и, пожалуй, два с половиной фута в диаметре. Мне разве что с трудом удалось бы обхватить его руками. Тело состоит из трех, четырех, пяти, семи… пусть будет одиннадцать сегментов в отличие от одной-двух сотен у земных червей. Клителлюм отсутствует, что следует воспринимать как напоминание не заходить слишком далеко в поисках сходства с земными кольчатыми червями.
Тело заканчивается тупыми конусами с обеих сторон и слегка сплющено на прилегающих участках. Вентральная сторона уплощена и по цвету бледнее дорсальной поверхности. На одном конце имеется трехчастный орган, похожий на клюв, предположительно рот, а на другой оконечности должен располагаться анус. Рядом с клювом имеются пять наростов, из которых выступают жесткие костеподобные структуры – возможно, мандибулы? Впрочем, я бы сказал, что это больше похоже на орудия труда. Вот это очень похоже на гаечный ключ, а это явно клещи. Они кажутся чрезмерно специализированными для разумных созданий. Эвелин, тебе доводилось иметь дело с этими существами – существуют ли какие-нибудь внутривидовые вариации? Я имею в виду: бывает ли так, что часть особей имеет определенный набор манипуляторов, а другая – иной?
– Мы никогда не видели двух чужаков с полностью одинаковыми наборами манипуляторов.
– Неужели? Это интересно. Надо подумать, что это могло бы значить. Ладно, так или иначе, очевидно, что на теле не имеется никаких внешне заметных органов чувств. Ни глаз, ни ушей, ни носа. Мое предположение: какими бы чувствами они ни были наделены, функционально они являются слепыми.
– Разведка тоже склоняется к этому мнению.
– Что ж, это должно проявляться в их поведении, верно? Пока что все просто. Так вот, мое первое заключение: на то, чтобы понять эти существа, придется потратить черт-те сколько времени. Люди полагаются на зрение куда больше, чем большинство других животных, и если проследить нашу философию и естественные науки, все они в очень значительной степени произрастают из оптики. А такие, как они, должны мыслить просто совсем не так, как мы.
Теперь заглянем между сегментами. Мы видим некоторое количество мелких волосоподобных структур, а если раздвинем сегменты, насколько возможно, то разглядим крохотные отверстия, закрытые мышечным сфинктером, которые имели бы сходство с микроскопическими анусами, не будь их так много, наверно, с сотню, и похоже, что такая же картина наблюдается на соединении каждой пары сегментов. О, тут есть кое-что еще: структуры около переднего конца, наросты, явно представляют собой более развитую форму этих самых маленьких отверстий. Ладно, теперь перевернем пациента. Я возьму его за один конец, а ты – за другой. Значит, по моей команде начинай его раскачивать, и на счет «три» перевернем. Готова? Раз, два, три!
Труп медленно перевернулся, едва не опрокинув при этом каталку. Люди с трудом удержали ее.
– Ну, еще чуть-чуть бы, и… – бодро произнес Хэнк. – Эй! А это что такое? – Он ткнул пальцем в надпись, нанесенную краской на подбрюшье существа.
«Rt-Front/No. 43».
– Это тебя не касается. Твое дело – произвести вскрытие.
– У вас имеется не один труп.
Эвелин промолчала.
– Ну, раз уж заговорили об этом… Конечно, не один. У вас должны быть их десятки. Был бы один – мне ни за что не доверили бы развлекаться с ним. У вас есть свои собственные медики. Среди них найдутся и отличные исследователи, готовые вскрыть хоть свою бабушку, если им хорошо заплатят. Проклятье, да вы и сорок три держали бы под замком. У вас их там сотня, да и, пожалуй, не одна, верно?
На долю секунды ее правильное лицо утратило всякую мимику. Эвелин скорее всего никогда не обращала на это внимания, но Хэнк по долгому опыту общения с нею знал, что это означало только что принятое решение.
– Больше тысячи. Произошла грандиозная авария, правда, в новостях об этом еще ни слова не было. Один из спускаемых аппаратов Червей рухнул в Тихий океан.
– О, Иисус! – Хэнк сорвал перчатки, сдвинул на лоб очки и прижал ладони к глазам. – Вы все-таки затеяли войну, да? Ввязались в драку с существами, обладающими колоссальным техническим превосходством над нами. И ведь они даже не живут здесь! Им достаточно затащить в атмосферу какой-нибудь достаточно большой камень, и произойдет массовое вымирание животного мира наподобие того, что уничтожило динозавров. Им-то до этого дела не будет. Это не их планета!
Лицо Эвелин исказилось в том выражении, которого она вовсе не знала за собою вплоть до самого завершения их брака, когда все развалилось напрочь.
– Перестань строить из себя осла, – потребовала она. И продолжила искренним тоном, торопливо выговаривая слова: – Мы к несчастью вовсе непричастны. Это всего лишь неудачное стечение обстоятельств. Но раз уж так случилось, грех было не воспользоваться возможностью. Да, вероятно, Черви обладают технологиями, которые позволяют уничтожить всю нашу расу. Поэтому нам необходимо разобраться с ними. Но чтобы разобраться, нужно понимать их, а мы не понимаем. Они для нас – совершенная загадка. Мы не знаем, чего они хотят. Но уже завтра наше представление станет немного шире. При том условии, что ты продолжишь работу.
Хэнк подошел к столу и вытащил из рулона новую пару перчаток.
– Ладно, – сказал он. – Ладно.
– Только не забывай, что тут повязана не только я, – сказала Эвелин, – но и ты сам, и все, кого ты знаешь.
– Я сказал: ладно! – Хэнк медленно перевел дух, чтобы успокоиться. – Теперь нужно вскрыть этого поганца. – Он взял электропилу. – Это дурной тон, но мы спешим. – Пила завизжала, и он сделал в кожистой коричневой шкуре разрез от клюва до ануса. – Так, теперь отогнем кожу. Она сырая на ощупь и немного хрустит. Мускулатура очень сходна с земными аннелидами. Я имею в виду: структурно. Никогда не видел у червей такой черной мускулатуры. Проклятье! Кожа заворачивается обратно.
Он подошел к своей заветной коробке и вытащил оттуда бутылочку с рыболовными крючками.
– Вот. Возьмем нейлоновую леску и будем связывать крючки попарно на расстоянии примерно пары дюймов. Потом один крючок нужно будет воткнуть в край кожи, а второй – прямо в тряпку на каталке. Повторяй с обеих сторон через каждые шесть дюймов. Так мы не позволим ей закрываться.
– Поняла. – Эвелин взялась за дело.
Они быстро управились, и Хэнк всмотрелся в разрез.
– Ты просила догадок? Пожалуйста: это существо передвигается в грязи или иной среде соответствующей консистенции, ползает головой вперед, и оно слепо. Что подскажет тебе такая постановка вопроса?
– Я сказала бы, что они должны выработать в себе привычку сталкиваться с неизвестным.
– Отлично. Теперь прицепи сюда еще одну оттяжку – я буду резать дальше… Та-ак, мы прошли сквозь мускулатуру и попали в слой однородного мягкого вещества, похожего на пух… сюда мы еще вернемся через минуту-другую. Разрезаем мягкий слой… и оказываемся в полости тела, и здесь видимо-невидимо крохотулечных органов.
– Давай придерживаться хотя бы наукообразной терминологии, ладно? – попросила Эвелин.
– Ну, здесь их столько, что я воздержусь от подсчета. Буквально сотни очень мелких органов, расположенных под мускулатурой. Ума не приложу, для чего они нужны, но все они соединены с разнокалиберными сосудами, похожими на вены. Эта анатомия намного, просто до ужаса, сложнее человеческой. Похоже на какой-то химический комбинат. Насколько я вижу, несмотря на общее сходство, двух полностью схожих органов просто нет. Предлагаю назвать их алембиками, чтобы потом не путать с какими-нибудь другими органами, которые мы можем обнаружить. Вижу нечто, похожее, пожалуй, на сердце – обособленный мышечный комок размером с мой кулак; их три. Режу глубже… Ничего себе!
Минуту, если не больше, Хэнк стоял, уставившись во вскрытый труп инопланетянина. Потом положил пилу на каталку, помотал головой и отвернулся.
– Где там кофе? – произнес он.
Эвелин без единого слова подошла к кофемашине и принесла ему холодную чашку.
Хэнк содрал перчатки, бросил их в мусорное ведро и припал к чашке.
– Ну, – сказала Эвелин, – что же случилось?
– Хочешь сказать, что не видела… нет, конечно, ты не видела. Ты же, кроме анатомии человека, ничего не знаешь.
– В колледже я проходила биологию беспозвоночных.
– Да, прошла и сразу же выкинула из головы. Ладно, в общем, смотри: здесь, спереди, находится клюв; он частично втягивается. Позади – анус. В одно отверстие поступает пища, из другого выходят отходы жизнедеятельности. Что мы видим между ними?
– Труба. Кишка?
– Угу. Она идет прямиком от рта к анусу, без каких-либо органов. Посередине ничего нет. Как оно может есть без желудка? Как оно вообще живет? – По выражению лица Эвелин было видно, что его слова не произвели особого впечатления. – Того, что мы видим, попросту не может быть.
– И все же оно есть. Значит, должно быть и объяснение. Отыщи его.
– Да, да… – пристально вглядываясь во внутренности Червя, он натянул очередную пару перчаток. – Давай-ка еще раз взглянем на этот самый клюв… Ха! Видишь, как соединяются мускулы? В расслабленном состоянии клюв открыт, и-и-и-и… давай-ка посмотрим на другой конец… то же самое и с анусом. Значит, эта тварь ползает в грязи с широко раскрытым ртом, и эта самая грязь беспрепятственно проходит насквозь. Это должно каким-то образом сказываться на его физиологическом строении.
– Например?
– Будь я проклят, если знаю. Давай-ка посмотрим повнимательнее на кишку… Имеются какие-то кольца из внедренных тканей – возле клюва, на трети длины, на двух третях и возле самого ануса. Режем это дело и видим чрезвычайно тонкую структуру, но ничего такого, что нынче ночью дало бы нам ясность. О, стоп, кажется, я догадываюсь. Посмотри на эти три клапана совсем рядом…
Некоторое время он молча орудовал скальпелем.
– Вот. Это три желудка. Они расположены в голове, сразу за первым кольцом ткани иного свойства. Грязь, или что там оно заглатывает, набивается в эти, так сказать, клапанные камеры, а там и этот самый невероятный мышечный комплекс, и – сколько там выходных трубок? – в этой их… э-э… четырнадцать. Проследим, куда ведет одна, и ведет она прямиком в этот алембик. Посмотрим другую, и она идет… угу, в другой алембик. Вот мы и обнаружили одну из закономерностей его физиологии.
А теперь давай ненадолго отвлечемся от этого и вернемся к пуху. Тьфу, да его тут полно! Он составляет, пожалуй, добрую треть от массы тела. И, кстати, обладает трехсторонней симметрией. Три пласта пуха тянутся от головы к хвосту под мускульной оболочкой и все три соединяются примерно в восьми дюймах от клюва, образуя кольцо вокруг центральной кишки. Именно там растут руки, или манипуляторы, или отвертки, или что там еще у них бывает. Далее… через регулярные интервалы вещество выбрасывает небольшие отростки, прорастающие через этот нежный слой к проволокоподобным структурам из того же вещества, очень похожим на очень толстые нервы. О, боже! Дошло! – Он немного разогнулся и, поддев скальпелем мускулатуру, обнажил еще участок вещества. – Это же центральная нервная система. Это существо обладает мозгом, весящим по меньшей мере сотню фунтов. Не могу поверить. Не хочу верить.
– Это правда, – сказала Эвелин. – Наши сотрудники в Бетесде[3] провели микроскопическое исследование. Ты видишь перед собой мозг этого существа.
– Раз ты уже знаешь ответ, то какого черта ты втянула меня в эту историю?
– Я здесь не для того, чтобы отвечать на твои вопросы, а чтобы ты ответил на мои.
Хэнк, раздраженный, вновь склонился над Червем. От существа исходил сильный запах эфира – резкий, жгучий, – с едва уловимым оттенком, как он решил, разложения.
– Начнем с мозга и проследим, куда уходит один из второстепенных ганглиев. Хитрая, между прочим, штучка – проходит повсюду и заканчивается… заканчивается в одном из алембиков. Посмотрим другой, и он… тоже заканчивается в алембике. Их здесь полным-полно. Ну-ка, посмотрим… эй, а вот этот идет к одной из структур сквозной кишки. И что же это может быть? Язык! Их там полно. Ну-ка, ну-ка… здесь их целая цепочка – прямо внутри кишки – несомненно для того, чтобы определять вкус проходящего вещества. А эти маленькие емкости с клапанами сразу за языками открываются, если в грязи содержатся определенные питательные вещества, которые привлекают Червя. Ну, кое-что мы получили. Сколько времени мы уже возимся?
– Около полутора часов.
– Мне показалось, что дольше. – Он подумал, что можно было бы сварить еще кофе, но решил не делать этого. – Итак, что же мы тут имеем? Вся эта неимоверная масса мозга – для чего она?
– Может быть, вся она используется разумом как таковым?
– Разум как таковой?! Ничего подобного не существует. Природа не развивает разум без определенной цели. Он должен для чего-то использоваться. Посуди сама. Судя по всему, значительная часть отводится вкусу. У этого существа десятков шесть отдельных языков, и я не удивлюсь, если окажется, что чувство вкуса у него намного детализированнее, чем у нас. А тут еще все эти крохотные алембики, в которых происходят бог знает какие химические реакции.
Давай предположим на минуточку, что оно может сознательно управлять этими реакциями, на что должна уйти значительная часть массы мозга. Когда земляная масса поступает с переднего конца, она опробуется на вкус, возможно, небольшая часть откачивается и пропускается через алембики для трансформации. Оставшийся продукт запускается в срединную кишку и проходит через еще несколько полос языков… Вот тебе еще одно заключение: эти существа должны с великой точностью знать состояние своего здоровья. Не исключено, что они способны создавать лекарства для себя. Если подумать, то я не вижу здесь каких бы то ни было признаков болезни. – Тяжелый запах Червя заполнял все помещение. У Хэнка немного кружилась голова, и он попытался отогнать от себя это ощущение.
– Так… значит, мы имеем существо, у которого энергия и внимание по большей части направлены в глубь себя. Оно скользит сквозь рыхлую среду, и одновременно эта самая среда скользит сквозь него. Во время прохождения почвы оно анализирует ее вкус, и можно предположить, что почва будет пребывать в постоянном состоянии изменения, а значит, оно воспринимает вселенную гораздо непосредственнее, чем мы. – Он хохотнул. – Похоже, что это глагол.
– Ты о чем?
– Это один из афоризмов Бакминстера Фуллера[4]. Очень к месту. Червь непрерывно преобразует вселенную. Он поглощает все, что попадается на его пути, усваивает, преобразовывает и извергает. Он представляет собой фактор перемен.
– Очень мудрено. Но не дает совершенно никакого представления о том, как справиться с ними.
– Ну, конечно, нет. Они разумны, а разум все усложняет. Но если бы ты ждала от меня обобщений, я сказал бы, что Черви прямолинейны и покладисты – взять хотя бы то, как они слепо ломятся вперед, – и добавил бы, что средства для изменений у них весьма разнообразны, о чем свидетельствует множество алембиков. Это, пожалуй, определяет их подход к нам. Прямолинейный, но притом использующий весьма окольные пути, о которых мы не имеем представления. Значит, покончив с нами, они двинутся дальше и даже не оглянутся.
– Кошмар. Прямо в дрожь кинуло! Берись-ка снова за дело.
– Эвелин, послушай, я устал. Я сделал все, что мог, и, как мне кажется, поработал очень даже хорошо. Мне не помешало бы отдохнуть.
– Ты еще не касался этих штук возле клюва. Рук, или что это еще такое.
– Чтоб тебя! – фыркнул Хэнк, вновь повернулся к трупу, вскрыл нарост и снова заговорил: – Конечности состоят из твердого и плотного материала, похожего на зубную ткань. В данной имеется несколько движущихся частей; все они управляются мышцами, крепящимися рядом с наростом. Там же имеется пучок ганглиев, связанных очень короткой перемычкой с мозговым веществом. Теперь я вскрываю мозговое вещество и вижу там маленькую черную железу… ой… я задел ее лезвием. Ф-фу-у, какой запах. Так, прохожу глубже. – Позади железы обнаружилась маленькая белая структура, прямоугольная твердая сеточка, выглядевшая как нечто среднее между какой-то вспомогательной микросхемой и квадратиком зерновой подушечки «Чекс».
Стоя спиной к Эвелин, он вынул ту сеточку.
Он положил ее в рот.
Он проглотил ее.
«Что я творю?» – подумал он. Вслух же сказал:
– В качестве рабочей гипотезы могу сказать, что эти манипулятивные структуры были выращены намеренно, вернее сказать, сознательно. Вот, я иду вдоль одной из вен, и она приводит меня к алембикам. Этим можно объяснить отсутствие единообразия: эти существа, видимо, выращивают манипуляторы по мере надобности, а затем, когда потребность исчезает, отбрасывают их. Да, посмотри: мускулы даже не присоединены к манипуляторам, а просто облегают их.
На языке чувствовался кислый вкус.
«Я, наверно, спятил», – подумал он.
– Ты сейчас съел что-то?
– Ты с ума сошла? – сказал Хэнк с неподвижным лицом. – Ты хочешь сказать, что я положил кусок этого… существа… себе в рот? – Затем его мозг вдруг налился жаром, заполнился треском, наподобие того, что бывает, когда лучи восходящего солнца освещают радиотелескоп. Он захотел было вскрикнуть, но лишь растянул губы в улыбке и сказал: – Неужели ты?.. – А потом поймал себя на том, что ему очень трудно сосредоточиться на том, что он говорит. Он даже не мог толком сфокусировать взгляд на Эвелин, все поле его зрения заполняли белые лучи, то и дело взрывавшиеся сверхновыми звездами, и…
Очнулся Хэнк, сидя за рулем машины, мчащейся по федеральному шоссе со скоростью девяносто миль в час. Во рту у него было сухо, под веки словно песку насыпали. В глаза бил желтый свет от солнца, только-только поднявшегося над горизонтом. Судя по всему, он ехал уже не первый час. Рулевое колесо было каким-то грязным и липким на ощупь. Он опустил взгляд.
Кисти его рук были испачканы кровью. И предплечья тоже, до самых локтей.
Движение было небольшое. Хэнк понятия не имел, куда направляется; не было у него и ни малейшего желания остановиться.
Поэтому он ехал дальше.
Чья кровь у него на руках? Логически рассуждая, это должна быть кровь Эвелин. Но это была полная чушь. Да, он ненавидел ее – и ее появление разбередило раны и откупорило воспоминания, которые (как он считал) давно и безвыходно были захоронены, – но не мог бы сделать ей ничего дурного. Во всяком случае, физически. Он никак не мог по-настоящему убить ее.
Или все-таки мог?
Это было невозможно. Но ведь кровь на его руках была. Чья же еще-то? Пожалуй, что часть ее могла принадлежать ему самому. Кисти рук болели просто нещадно. Ощущение было такое, будто он долго и сильно лупил кулаками по чему-то твердому. Но почти вся кровь уже запеклась, заставляя зудеть кожу. И повреждений на кистях не было, если не считать ссаженной кожи на костяшках. Так что кровь принадлежала не ему.
– Конечно, мог и сделал, – сказала Эвелин. – Ты избил меня до смерти и наслаждался каждым ударом.
Хэнк вскрикнул и чуть не съехал с трассы. С большим трудом выровняв автомобиль, он повернул голову и не поверил своим глазам. Эвелин сидела рядом с ним на пассажирском сиденье.
– Ты… как ты?.. – Хэнк заставил себя восстановить контроль над собою, точно так же, как только что – над автомобилем. – Ты – галлюцинация, – сказал он.
– Угадал! – Эвелин несколько раз почти беззвучно хлопнула в ладоши. – Или воспоминание, или персонификация твоего чувства вины – как хочешь, так и называй. Хэнк, ты всегда был умным человеком. Не настолько умным, чтобы суметь удержать жену, решившую бросить тебя, но достаточно умным для государственной службы.
– В твоих изменах я не виноват.
– Конечно же, виноват. Или ты думаешь, что застукал меня с Джеромом случайно? Женщина, которая не ненавидит своего мужа всей душой, не станет устраивать подобных вещей без серьезных оснований.
– О, боже, боже, боже…
– Индикатор бензобака мигает. Так что тебе лучше бы заехать на колонку и заправиться.
Впереди как раз показалась бензозаправочная станция «Лукойл»; он заехал туда и остановился возле колонки с обслуживанием. Когда он вышел, заправщик поспешил было к нему, но вдруг остановился как вкопанный.
– О нет, – произнес заправщик, молодой русоволосый парень, – с меня хватит!
– С вас хватит? – Хэнк провел картой по считывающему устройству. – Что значит: с вас хватит? – Он выбрал высокооктановый бензин, вставил «пистолет» в горловину бака и включил подачу, не сводя взгляда с заправщика. Тот явно не собирался выполнять свои обязанности. – Объясните, пожалуйста.
– Хватит с меня таких, как вы. – Заправщик, в свою очередь, не мог оторвать глаз от рук Хэнка. – Когда появился первый, тут же нагрянули копы и арестовали его. Впятером они еле-еле запихнули его в машину. Потом подъехал другой, но, когда я позвонил в полицию, мне сказали, чтобы я просто записал его номер и ничего не предпринимал. Сказали, что таких, как вы, вдруг объявилось очень много.
Хэнк закончил заправку и повесил шланг на крюк. Он не стал нажимать кнопку, чтобы напечатать чек.
– Не пытайтесь задержать меня, – сказал он. Слова сами пришли на язык, и он лишь произнес их. – Только попробуйте, и вам будет очень плохо.
Взгляд молодого человека перескочил на лицо Хэнка.
– Кто же вы все такие?
Хэнк приостановился, держась одной рукой за дверь машины:
– Понятия не имею.
– Надо было объяснить ему, – сказала Эвелин, когда он снова сел за руль. – Почему ты этого не сделал?
– Заткнись.
– Ты съел что-то из внутренностей Червя, и оно частично завладело твоим мозгом. Ты понимаешь, кто ты такой, но собой не владеешь. Ты сидишь за рулем, но ни в малейшей степени не управляешь своими поступками. Или управляешь?
– Нет, – честно ответил Хэнк. – Не управляю.
– И чем, по-твоему, это может быть? Какой-то суперприон? Нечто вроде коровьего бешенства, но с молниеносным действием? Или нейропрограмматор? Наложенное поверх твоей личности искусственное содержание, питающееся из твоих мозгов и перенаправляющее твои волевые акты в тупик?
– Не знаю.
– Ты всегда обладал богатым воображением. Это как раз из таких вещей, которые должны тебя особо интересовать. Я просто удивляюсь, как ты еще не углубился в нее с головой.
– Нет, – сказал Хэнк. – Ничему ты не удивляешься.
Некоторое время они ехали молча.
– Помнишь, как мы познакомились? В медицинском институте. Ты тогда готовился на хирурга.
– Не надо, прошу тебя.
– Дождливым осенним днем, ближе к вечеру, в твоей жалкой квартирке на третьем этаже. За окном огромная старая осина с пожелтевшими листьями. К стеклу снаружи обязательно прилипал хоть один листок. Тогда мы с тобой, бывало, по целым дням не одевались. Мы все время проводили на огромном матрасе, который ты купил вместо кровати, но и он оказался маловат. Если мы скатывались с него, то продолжали заниматься любовью на полу. А когда темнело, мы вызывали из китайского ресторана рассыльного с едой.
– Тогда мы были счастливы. Ты это хотела мне сказать?
– Больше всего мне нравились твои руки. Я обожала ощущать их на себе. Ты клал одну руку мне на грудь, другую запускал между ног, а я представляла себе, как ты режешь больного. Раздвигаешь живое мясо, чтобы извлечь изнутри все блестящие потроха.
– Ну, это уже просто тошнотворно.
– Однажды ты спросил меня, о чем я думаю, и я тебе прямо ответила. Я внимательно наблюдала за твоим лицом, потому что тогда мне действительно хотелось узнать тебя как можно лучше. Тебе это понравилось. Так что я знаю, что в тебе есть демоны. Почему бы тебе не поддаться им?
Он крепко зажмурился, но что-то внутри него заставило его вновь открыть глаза и не позволило выбросить машину с дороги. Глубоко в его горле родился тихий стон.
– Наверно, я в аду.
– Ну, так валяй. Никому от этого хуже не станет. Все равно я уже мертва.
– Бывают такие вещи, в которых ни один мужчина никогда не сознается. Даже самому себе.
Эвелин громко фыркнула:
– Ты всегда был несносным резонером.
Они снова умолкли и некоторое время ехали так, все дальше углубляясь в пустыню. В конце концов Хэнк, смотревший прямо перед собой, не выдержал и сказал:
– Впереди предстоят еще худшие откровения, не так ли?
– О, боже, конечно, – ответила его мать.
– Это все из-за смерти отца. – Мать затянулась с такой силой, что в сигарете захлюпала слюна. – Это из-за нее ты сбился с выбранного пути.
Глаза Хэнка заполнились слезами; он с трудом видел дорогу.
– Откровенно говоря, мама, я совершенно не желаю этого разговора.
– Ну, естественно. Признайся: ты ведь никогда не имел особого стремления к самопознанию, верно? Ты предпочитал потрошить лягушек или горбиться над микроскопом.
– У меня самопознания более чем достаточно. У меня его столько, что я вот-вот захлебнусь. Я вижу, куда ты клонишь, и не собираюсь просить прощения за свои чувства по отношению к отцу. Он умер от рака, когда мне было тринадцать лет. Разве я хоть когда-нибудь, хоть с кем-нибудь поступил хоть вполовину так дурно, как он – со мною. Поэтому я не желаю слушать эту дешевую фрейдистскую ахинею насчет мук совести у пережившего родственника и неспособности жить согласно его славному примеру, ладно?
– Никто же не говорит, что тебе было легко. В частности, период наступления половой зрелости, который дался очень тяжко.
– Мама!
– Что? Ты думал: я ничего не знаю. А кто, по-твоему, занимался стиркой? – Мать прикурила новую сигарету от окурка и раздавила его в пепельнице. – Можешь поверить, я знала о том, что тогда с тобою происходило, гораздо больше, чем ты думал. И о том, что ты часами торчал в ванной, занимаясь онанизмом. И о том, что ты воровал деньги, чтобы купить «дурь».
– Мама, но я же страдал. И не сказал бы, чтоб от тебя мне была какая-нибудь помощь.
Мать посмотрела на него с тем самым скучающим раздражением, которое он очень хорошо помнил.
– Думаешь, в твоих страданиях есть что-то особое? Я потеряла единственного человека, которого когда-либо любила, но не могла ничего предпринять, потому что мне нужно было воспитывать сына. Не милого малыша, к которому я успела было привязаться, а угрюмого подростка, не имеющего других чувств, кроме жалости к себе. Мне пришлось терпеть целую вечность, прежде чем удалось спровадить тебя в медицинский институт.
– Значит, после этого ты и предприняла. Прямиком с крыши администрации округа. Знаешь, мама, это был очень оригинальный способ почтить память отца. Интересно, что он сказал бы тебе, узнай он о том, что ты сделала?
– Спроси его сам, – сухо ответила мать.
Хэнк закрыл глаза.
Когда же он открыл их, то оказался в гостиной материнского дома. Отец по своему обыкновению стоял в дверях, курил «Кэмел» без фильтра и смотрел сквозь москитную сетку на улицу.
– Ну? – произнес Хэнк, немного погодя.
Отец с тяжелым вздохом повернулся.
– Прости меня, – сказал он. – Я не знал, что делать. – Он пошевелил губами, изобразив нечто, что смогло бы сойти за улыбку совершенно постороннего человека. – Умирать мне было в новинку.
– Ага, ты не мог найти в себе силы сказать мне, что происходит. Но не тревожиться из-за этого ты тоже не мог. Хирург, который оперировал тебя, доктор Томазини… Многие годы я относился к нему как к своему настоящему отцу. Знаешь почему? Потому что он прямым текстом сообщил мне, что к чему. Он в точности объяснил мне, чего ждать. Он посоветовал мне готовиться к худшему. Он сказал, что будет плохо, но что я найду в себе силы справиться. До тех пор никто и никогда не разговаривал со мною так. И когда я потом оказывался в тяжелом положении, то представлял себе, будто иду к нему и спрашиваю совета. Потому что ни к кому другому я обратиться не мог.
– Очень жаль, что ты ненавидишь меня, – сказал отец, глядя в сторону от Хэнка. Потом добавил, едва внятно: – И все же многие умудряются и ненавидеть отцов, и все же вести вполне достойную жизнь.
– Я не ненавидел тебя. Ты был всего лишь необразованным парнем, который не представлял собой ровным счетом ничего и сам это понимал. Имел никчемную работенку, привычку курить по три пачки в день и жену-пьяницу. А потом умер. – Весь гнев, который испытывал Хэнк, разом улетучился, как воздух, вырвавшийся из проколотого шарика, оставив по себе лишь щемящее чувство потери. – Тут просто нечего ненавидеть.
Внезапно автомобиль стала заполнять, кольцо за кольцом, блестящая туша Червя. В мгновение она вывернулась наружу, проглотила автомобиль, шоссе и весь мир, и Хэнк поплыл в вакууме; то ли он ослеп, то ли там, где он оказался, совсем не было света, и не было вообще ничего, кроме запаха Червя – настолько сильного, что он ощущал его на языке.
А потом он вновь оказался на шоссе, цепляясь одеревеневшими руками за «баранку», и солнце било ему в глаза.
– Ого! Это многое объясняет! – Эвелин сверкнула своими идеальными зубами и постучала по «торпеде», как по барабану. – В частности, каким образом столь очевидно неподходящий для этого дела человек решил стать хирургом. И ореол неудачника, вечно висевший за твоими плечами. Это даже объясняет, почему, когда дошло до дела, ты не смог заставить себя резать живых людей. Боялся того, что можешь увидеть там?
– Ты рассуждаешь о вещах, о которых не имеешь ни малейшего представления.
– Я знаю, что ты впал в ступор посередине самой элементарной аппендоэктомии. Что ты увидел в брюшной полости?
– Заткнись!
– Аппендикс? Могу поручиться, что так оно и было. На что он походил?
– Заткнись.
– Он походил на Червя?
Он в изумлении уставился на нее:
– Откуда ты знаешь?
– Не забывай, что я всего лишь галлюцинация. Непереваренный кусок говядины, капелька горчицы, крошка сыра, ломтик недожаренной картошки. Так что вопрос не в том, откуда узнала я, а в том, откуда ты узнал, как будет выглядеть Червь за пять лет до того, как их корабли вошли в Солнечную систему.
– Это, судя по всему, ложная память.
– Но откуда же она взялась? – Эвелин закурила сигарету. – Здесь нужно свернуть с дороги.
Он сбросил скорость и съехал прямо в пустыню. Автомобиль подпрыгивал и громыхал. По бокам скребли стебли полыни. Позади пышным шлейфом вздымалась пыль.
– Забавно: ты называешь мать пьяницей, – сказала Эвелин, – даже после всего того, что ты творил, когда тебя вышвырнули из хирургов.
– Я трезв уже шесть лет и четыре месяца. И до сих пор хожу на собрания.
– Круто. Но тот парень, за которого я выходила замуж, в этом не нуждался.
– Послушай, это все старые дела, и неужели так уж нужно снова их перетряхивать? Не хватит ли того, что мы все обсосали во время развода?
– И ты до сих пор снова и снова возвращаешься к ним в мыслях. Снова, и снова, и…
– Я хочу больше не возвращаться ко всему этому. Только и всего. Просто прекратить разговоры на эти темы.
– Но ведь ты сам их выбираешь. Не забывай: я только симптом. Если не хочешь думать – просто не думай.
Он не мог заставить себя не думать и ехал дальше на восток – строго на восток.
Он сидел за рулем уже несколько часов, и все это время они говорили, обсуждая каждую мелкую гнусность, которую он сотворил, будучи ребенком, а потом юношей, а потом хирургом-неудачником и мужем-алкоголиком. При любой попытке Хэнка сменить тему Эвелин переходила к чему-нибудь еще более болезненному, и через некоторое время по его лицу обильно покатились слезы. Он принялся рыться в карманах в поисках носового платка.
– Знаешь ли, ты могла бы проявить хоть каплю милосердия.
– О, кстати, о твоем милосердии ко мне. Я предлагала тебе забрать автомобиль и взамен отдать мне фотоальбомы. Так ты вынес их во двор и сжег, а ведь там были последние сохранившиеся фотографии моей бабушки. Помнишь? Но, конечно, я ведь нереальна, так ведь? Я лишь твое представление об Эвелин, и мы оба знаем, что ты совершенно не желаешь признать за нею хоть искры человечности. Осторожно, промоина! Ты бы лучше смотрел на дорогу.
Они ехали по едва заметной грунтовой дороге в самой глубине пустыни. Собственно, только это он и знал о своем местоположении. Машина подпрыгнула, проскребла днищем по песку, и он переключил ее на самую нижнюю передачу. Камешки, летевшие из-под колес, гремели по днищу и, вероятно, уже пробили дыры в каких-нибудь жизненно важных местах.
Потом Хэнк заметил вдали несколько пыльных хвостов – уменьшенные расстоянием варианты того шлейфа, что тянулся за ним. Значит, здесь имелись и другие машины. Теперь, осознав их существование, он видел гораздо больше. В относительной близости вздымались к небу длинные наклонные колонны, а близ горизонта угадывались крохотные серые облачка. Десятки, а то и сотни.
– Что за шум? – услышал он свой собственный голос. – Вертолеты?
– Какой умный мальчик!
Из-за горизонта одна за другой выползали летающие машины. Часть из них была украшена эмблемами новостных агентств. Остальные, судя по всему, были военными. Мелкие беспорядочно метались, снимая происходящее. Крупные медленно барражировали вокруг него, отливавшего металлическим блеском. Они очень походили на кузнечиков. И явно боялись приближаться к блестящему предмету.
– Видишь? – спросила Эвелин. – Это, должно быть, спускаемый аппарат.
– О, – сказал Хэнк. А потом осторожно осведомился: – Получается, что та катастрофа была не случайной?
– Нет, конечно, нет. Черви разбили свой катер в Тихом океане намеренно. Они угробили сотни своих соплеменников, чтобы трупы как можно шире разошлись по планете. Это была наживка. Они хотели собрать обширную выборку представителей человечества. Что им, в общем-то, не удалось. На их приманку попались врачи, гробовщики и ученые. Несколько агентов ФБР, немного чиновников Национальной безопасности. Ни пенсионеров, ни леди из кафетериев, ни джазовых музыкантов, ни тренеров по футболу, ни строителей-монтажников. Ни одной гватемальской няни или повара, специалиста по корейской лапше. Но откуда они могли знать? Они действовали, не имея никакого представления о нас, и получили то, что получили.
– Ты рассуждаешь, совсем как я, – заметил Хэнк и добавил: – И что же дальше? Цветные лампочки и анальное зондирование?
Эвелин снова фыркнула:
– Они представляют собой роевую культуру. Когда кто-то умирает, остальные съедают его и ассимилируют его память. Так что для них и гибель нескольких тысяч не слишком страшна. Если и оказались утрачены экземпляры индивидуальной памяти, масса сородичей уже восстановила ее из памяти предыдущих поколений. Самая ценная часть из них пребывает в добром здравии на флагманском корабле. И соответственно у них не возникнет этических проблем из-за того, что они заманили к себе несколько сотен человеческих существ. Я имею в виду, чтобы съесть нас и вложить наши воспоминания в свою коллективную личность. Они скорее всего просто не понимают концепции индивидуальной смерти. Но даже если и понимают, то думают, что мы будем благодарны за то, что они предоставили нам нечто вроде бессмертия.
Под колесо попал незамеченный булыжник, и машину подбросило так, что Хэнк стукнулся головой о крышу. Тем не менее он ехал дальше.
– Откуда ты знаешь все это?
– А откуда, по-твоему, я могу это знать? – Инопланетный корабль впереди быстро увеличивался. Его подножие окружали Черви, Черви, Черви, покрытые блестящей коричневой шкурой, все как один обернувшиеся головами к пустыне.
– Ну же, Хэнк, неужели я должна и это сказать за тебя?
– Не понимаю, о чем ты.
– Ладно, отважный капитан, – язвительно сказала Эвелин. – Если уж тебя на большее не хватает… – Она засунула ладони в рот и дернула в стороны. Кожа натянулась как резина, потом лопнула. Лицо разорвалось пополам.
Петля за петлей скользкое коричневое тело потекло на колени Хэнка, перекинулось через спинку переднего сиденья и быстро заполнило заднее. Пугающе знакомый запах Червя, в котором сочетались ночная земля и химический завод, завладел им и больше не отпускал. Он почувствовал, что его тошнит как от запаха, так и от осознания того, что он означает.
Хорошо знакомое чувство безысходности навалилось ему на плечи и тяжело придавило.
– Это только воспоминания, да?
Один конец тела Червя приподнялся и повернулся к нему. Его клюв разделился на три части, и из сырого нутра раздался голос Эвелин:
– Вот тебе ответ на вопрос, задать который тебе не хватило смелости: да, ты мертв. Червь съел тебя, и сейчас ты медленно проходишь через нутро представителя иной формы жизни, тебя пробуют на вкус, анализируют и понимают. Теперь ты всего лишь представление, запущенное в стофунтовый мозг.
Хэнк остановил машину и вышел. Путь к иноземному кораблю преграждала глубокая промоина. Поэтому он пошел пешком.
– Все это ощущается совершенно реальным, – сказал он. Солнце жарко пекло голову, под подошвами хрустели острые камни. Он видел других людей, решительно шагавших сквозь знойное марево. Все они направлялись к кораблю.
– Ну что, годится? – По пятам за ним шла Эвелин, вновь принявшая человеческий облик. Но, оглянувшись назад, туда, откуда пришел, он увидел следы лишь одной пары ног.
Хэнк шел дальше; им владели, поровну, ужас и покорность. Вдруг к ним примешался острый страх другого рода:
– Но ведь это закончится, правда? Скажи: ведь мы с тобой не обречены бесконечно крутиться в одних и тех же воспоминаниях, вновь и вновь пережевывать свои скорби?
– Хэнк, ты, как всегда, сообразителен, – ответила Эвелин. – Именно этим мы и будем заниматься. Это помогает скоротать время перелета от планеты к планете.
– И насколько долгое это время?
– Дольше, чем ты способен представить себе. Космос, знаешь ли, очень велик. Чтобы долететь от одной звезды до другой, нужны тысячи и тысячи лет.
– Это… значит, это и есть самый настоящий ад. То есть я не в силах придумать ничего хуже.
Она промолчала.
Они поднялись на пригорок и посмотрели сверху на корабль. Это был цилиндр, постепенно сужавшийся к верхнему концу, гладкий и не имевший в облике ничего примечательного, кроме широких проемов, сплошным кольцом окружавших нижний конец. Из каждого проема торчал головной конец Червя. Туда-то и сходились множество людей, которые двинулись в путь раньше Хэнка или из мест, находившихся ближе, и потому опередивших его в дороге. Каждый шел прямиком к ближайшему Червю, а тот своим острым трехстворчатым клювом ухватывал человека целиком и глотал. Ам! – и проглотил. После этого Червь скрывался в корабле и его сменял другой. Ни одна из жертв не выказывала и тени эмоций. Все происходило с бесстрастностью скотобойни для роботов.
Существа, высовывавшиеся из корабля, были чудовищно огромны, в диаметре больше роста Хэнка. Тот, которого Хэнк вскрывал, был, вероятно, мальком. Личинкой. В этом, конечно, имелся смысл. Вряд ли кто захочет утратить большую, чем необходимо, долю своей общей памяти.
– Прошу тебя… – Он побрел вниз по склону, размахивая руками, чтобы удержать равновесие на убегавшем из-под ног песке. Вероятно, он снова расплакался; во всяком случае, он ощущал текущие по щекам слезы. – Эвелин, помоги мне.
Ехидный смешок.
– Ты способен представить, что я буду тебе помогать?
– Нет, коне… – Хэнк оборвал себя на полуслове. Эвелин – настоящая Эвелин – не стала бы так обращаться с ним. Да, она причинила ему сильную боль и ко времени разрыва была очень рада, что все закончилось. Но она не была ни мелочна, ни жестока, ни мстительна – до того, как он сделал ее такой.
– Хэнк, ты согласен принять на себя ответственность за то безобразие, которое сотворил со своей жизнью? Ты сам?
– Скажи мне, что делать, – сказал Хэнк, отбросив в сторону гнев и обиды, пытаясь вспомнить Эвелин такой, какой она когда-то была. – Хоть намекни.
На протяжении ужасающе долгого мгновения Эвелин молчала. Потом сказала:
– Если бы Червь, который сожрал тебя давным-давно, мог общаться с тобой напрямую… какой единственный вопрос ты задал бы ему?
– Не знаю.
– Мне кажется, надо было бы спросить: почему все мои воспоминания настолько отвратительны?
Она неожиданно поцеловала его в щеку.
Хэнк почти дошел. Его Червь открыл клюв. Оттуда шел запах, как от Эвелин в предвечернюю пору дождливым субботним днем. Хэнк уставился в блестящее черное нутро. До чего же заманчиво! Ему все сильнее хотелось нырнуть туда.
Снова в глотку, подумал он и сделал еще шаг в сторону Червя и умиротворяющей тьмы, содержавшейся в нем.
Рот открылся шире, дожидаясь возможности переварить и преобразовать его.
И тут в сознании Хэнка само собой возникло воспоминание о ночи из тех времен, когда их брак только-только начинался и во время поездки по Луизиане они с Эвелин, повинуясь порыву, остановились на обочине, где играл маленький оркестрик зидеко, и было пиво в бутылках, и они были счастливы, и любили друг друга, и танцевали, и танцевали, и танцевали весь вечер без конца. Им тогда казалось, что все хорошее будет длиться вечно.
Это была хрупкая и ненадежная соломинка, но Хэнк вцепился в нее изо всех сил.
А потом Червь и человек подумали в унисон: «Никто не знает ни размера вселенной, ни того, какие чудеса и ужасы в ней имеются. И все же мы движемся вперед, слепо ломимся сквозь тьму, узнаем то, что удается узнать, и страдаем от того, что должно приносить страдание. Надеясь на звезды впереди».
В 3 утра в «Мезозойском баре»
– Внимание, снимаю!
Черил воздела над головой пивную бутылку и показала фотографу язык. Щелк! Берни Хаммерстейн переместился к следующему столу. Время только-только перевалило за полночь, и в баре, как всегда, было многолюдно. Сэм непрерывно наливал то, что ему заказывали. Никто не платил, но потом Берни, отвлекшись ненадолго от выбранного для себя дела, вывалил на стойку содержимое своего бумажника и, громко хохотнув, сказал: «Сдачи не надо!» Остальные последовали его примеру, и вскоре стойка оказалась завалена купюрами, постепенно сыпавшимися на пол с обеих сторон. Сэм преспокойно продолжал наливать и, то подмигивая, то пошучивая, пускал стаканы клиентам.
Делал то, что было в его силах, чтобы удержать нас от истерики.
Потом Оливер Лукас сел за фортепиано, все собрались вокруг и запели. Мы пели «Бутылку вина», и «Укажи мне путь домой», и «Желтую подводную лодку», и на некоторое время все вроде бы наладилось. Но потом мы подхватили припев «Шлюпа «Джон Би»:
Поднимем парус «Джона Би», Смотри, как ставят грот, Тащи капитана с берега, Пусть домой меня везет, Пусть домой меня везет…И тут в музыке прорезалась жалобная нота. Народ начал расходиться, когда Лукас перешел к «Прекрасной колеснице», и тут-то все и закончилось. Голоса, один за другим, умолкли, и вскоре пел только Лукас. Я взял со стойки стакан и сунул ему в руку. Когда он перестал играть, голоса зазвучали вновь – теперь несколько надрывно, – и кто-то включил музыкальный автомат.
Почти сразу же добрая половина присутствовавших принялась плясать сальсу. Некоторые женщины поснимали блузки, и общее настроение снова немного приподнялось. Это, правда, не касалось Теда. Я видел, что он одиноко сидел в углу, угрюмо пил и смотрел в пространство.
Тогда-то Александр Пешев и палеонтолог, специалист по беспозвоночным, появившийся так недавно, что я даже не успел еще узнать его имя, заговорили на повышенных тонах. Определенно, назревала драка. Самым здоровым из имевшихся в поле зрения был Десмонд Гамильтон, так что я сказал: «Пошли» – прервав его оживленный разговор с аспиранткой Мелиссой.
Мы с Десом подошли к спорщикам, когда они как раз начали размахивать кулаками, и завернули им руки за спины. Они вырывались, ругались, но не смогли освободиться.
– Вам действительно так хочется подраться? – спросил я, когда мы бочком, бочком выводили их. – Пожалуйста. Хотите поубивать друг друга? Сколько угодно. Меня это не касается. Только займитесь этим где-нибудь там, где вас никто не будет слышать. Вы же не хотите испортить всем остальным последнюю ночь. Понятно? – И мы вышвырнули их за дверь.
Я повернулся было, чтоб пойти назад, но Дес тяжело хлопнул меня по плечу.
– Мой список предсмертных дел состоит из двух пунктов, – сказал он заплетающимся языком. – Первый – напиться как никогда в жизни. И второй – натянуть эту малышку-недотрогу Мелиссу, чтоб она у меня залаяла по-собачьи. Пункт А вполне осуществим. Что касается пункта Б, то ты отвлек меня от его осуществления как раз на полпути. Честно предупреждаю: я больше не буду помогать тебе разнимать драки. Если кому-то захочется сунуть голову в огонь, я не стану вмешиваться.
И прежде чем я успел что-то ответить, он быстро ушел обратно.
Ну а я пошел прогуляться.
Без кондиционера было жарко, стояла тишина. Драчуны уже куда-то исчезли, вероятно, подумал я, отправились искать подходящие булыжники, чтобы разделаться с врагом. Я отошел на несколько шагов от щитового дома, где размещался центр досуга, и глубоко вдохнул чистый мезозойский воздух. После несчастного случая в нем ощущался едкий запах гари, но я изо всех сил старался не обращать на это внимания.
А вот на что я не мог не обращать внимания, так это на две луны в небе. Они так ярко освещали ночь, что я видел стадо гадрозавров, мирно ночевавших у реки, а ведь до них была миля с лишним.
Я услышал, как открылась дверь, и отступил в тень. Из бара вышел Сэм в обществе Константина Чанга, круглолицего зануды, которого я всегда считал совершенно асексуальным. Сейчас же, видя, как они обнимали друг друга, понял, что ошибался. Они исчезли за кратером, возникшим на том месте, где еще неделю назад находилась громоздкая дорогостоящая техника, которая должна была доставить нас домой.
Значит, Чанг оказался геем. Еще недавно из этого вышел бы отличный повод для сплетен. А теперь… Я вошел внутрь и направился за стойку.
Кто-то должен был направлять поток спиртного.
– Сазерак. – Передо мною возник весьма нетвердо державшийся на ногах Брейдон Нойер. Неделю назад он был величиной. Когда что-то имело смысл, он командовал всей этой затеей. А сейчас он был всего лишь одним из пьяных. Его глаза то открывались, то закрывались, как будто он тяжко боролся со сном. Он предпринял еще одну попытку.
– Можете сделать мне сазерак?
– Смогу, если вы объясните, как и из чего его делать, – бодро ответил я.
Лицо Брейдона перекосилось, и я подумал было, что он сейчас расплачется. Он видел, как все возможности мира, одна за другой, закрывались перед ним, как множество дверей. Поэтому я порылся за стойкой. Все запасы у нас подходили к концу.
– Как насчет крепкого сидра? – Я откупорил бутылку и вложил ее ему в руку. Он вцепился в нее, как утопающий – в спасательный канат. – Это последняя, оставшаяся у меня.
Что, естественно, означает, что это вообще последняя во всем мире бутылка этого напитка на ближайшие шестьдесят пять миллионов лет.
Тут Дес поднял руки и разорвал блузку Мелиссы, обнажив огромные, заколыхавшиеся от его резкого движения груди. Мелисса визгливо захохотала, но тут же взвизгнула, когда он притиснул ее к себе и облапил. Я взял было бутылку, чтобы вырубить его, но тут она подалась назад, оперлась спиной о стойку и стащила с себя юбку. Так что я поставил бутылку на место.
Тем не менее я поспешил вмешаться, пока дело не зашло слишком далеко.
– На улицу, дети мои, – сказал я. – Не всем будет приятно на вас смотреть.
Они вышли. Мелисса на ходу показала мне средний палец. Но она была изрядно пьяна, так что я решил не считать ее поступок за оскорбление.
Потом в потоке заказов на выпивку наступило некоторое затишье – все давным-давно выпили более чем достаточно, – и я решил перемолвиться словечком с Тедом. Он все так же старательно напивался. Тех же, кто приближался к нему, отшивал взглядом. Впрочем, немногие и приближались.
Это было понятно. Мы все сошлись во мнении, что застряли здесь, перед самым падением астероида в кратер Чиксулуб, по причинам, не зависящим ни от кого. Но если кого-нибудь и можно было бы винить, то только Теда.
Судя по лицу Теда, ему не помешал бы дружественно настроенный собеседник. Но только я собрался направиться к нему, как увидел, что меня опередила Черил. Сделала как раз то, чего, по ее словам, ни в коем случае не стала бы делать. Она подвинула стул к его столику и оживленно заговорила.
Я никаких денег не пожалел бы, чтобы подслушать этот разговор.
Тут ко мне подошел Берни со своим: «Приготовься, снимаю!». Я отказался позировать, но он все равно сфотографировал меня.
– Ты последний остался. – Он опустил фотоаппарат на стойку, обрушив на пол часть валявшихся сверху кредиток. – Теперь у меня фотогалерея всего человеческого населения Земли. Считая меня, сорок четыре персоны.
– Поздравляю, – сказал я. – А зачем?
– Ну… знаешь… – Он растерянно развел руками. Казалось, что без камеры он просто не знает, как с ними обращаться. – Перед верной смертью у нас не такой уж большой выбор возможных поступков. Напиться. Набить кому-нибудь морду. Поцеловать симпатичную девчонку.
– Угу. Я вижу.
– Такое впечатление, что мы все превратились в обезьян. Прямо на диво! Я, знаешь ли, хотел заняться чем-то другим. Как ты сам, например. Ты ведь сумел сделать так, что все проходит мирно. Я восхищен тобой.
Я не видел причин врать:
– Честно говоря, меня весь вечер так и подмывает как следует навалять Теду. Но все время что-то мешает.
– Теду? – Берни явно удивился. – За аварию?
– В том числе и за нее.
– Чушь какая-то, – сказал он. – А смысл? – и добавил, чуть помолчав: – Тем более сейчас.
Только-только я собрался пожать плечами, как Тед оттолкнул стол, ударив им Черил в живот, вскочил на ноги и яростно ткнул пальцем ей чуть ли не в лицо.
– Это ты во всем виновата. Мы все умрем только из-за твоей глупости. Твоей, жалкая ты… – Он помолчал, подыскивая подходящее слово, не преуспел и закончил банальным: – Б…ь!
Все голоса умолкли. Все головы повернулись туда.
А потом он вышел, громко хлопнув дверью. Головы отвернулись, разговоры возобновились.
Так что у меня сложилось впечатление, что лупить Теда мне все же не придется. При моей глубокой причастности к краху дела всей его жизни я мог разглядеть в этой вспышке куда больше, чем все остальные, за возможным исключением Черил: он никогда не любил ее, даже капельку. Она всегда была для него лишь этаким удобным и приятным хвостиком. В условиях стресса люди раскрываются. Даже под самый конец жизни этот сукин сын не нашел в себе мужества, чтобы напоследок соврать ей что-нибудь приятное.
Черил бегом кинулась ко мне. Она рыдала.
– Иди сюда. – Я раскрыл объятия, и Черил припала ко мне. – Не принимай слова Теда всерьез. Он всего лишь…
– Я же просто подумала, что он играет в видеоигру. Я выключила дисплей, чтобы он обратил на меня внимание. Я ведь всего лишь заигрывала с ним. Она уткнулась лицом мне в грудь. – Глупость, глупость, глупость, какая же это была глупость!
Народ начал выходить из бара. Несомненно, чтобы полюбоваться фейерверком. Ни на что другое времени практически не оставалось.
– Вода уже перешла через дамбу, – сказал я. – Пойдем.
Черил обеими руками вцепилась в мою рубашку, до боли прищемив кожу. Материя промокла от ее слез. Мне было бы приятнее, если бы она плакала из-за того, что погубила всех нас, а не потому, что парень, в которого она втюрилась, решил прогнать ее. Но что теперь сопли жевать? Когда жить остается считаные минуты, просто некогда зацикливаться на побочных проблемах.
Черил совершенно автоматически покрутила головой, вытирая нос о мою рубашку. А потом сказала:
– О, Хэнк, мне так жаль. Ты так добр ко мне, и всегда был. Если бы я влюбилась в… Если бы я могла… – в конце концов она задрала голову, в конце концов она посмотрела тусклым взглядом мне в лицо и сказала: – Жизнь – настоящая поганка, правда?
– Тише, – сказал я. – Тише. Успокойся. – Никогда в жизни я не любил ее так сильно и не хотел ее так сильно, как сейчас. Мне очень хотелось поцеловать ее. Но сейчас она была настолько хрупкой, что поцелуй – я твердо знал это, – сломал бы ее. – С жизнью все в порядке. Мы просто плохо умеем ценить ее, только и всего.
Платье ее из ярчайшего пурпура
Платье ее, ярчайшего пурпура, Громко шуршало, касаясь земли. Даже Дьявол во славе своей никогда Подобных шелков не носил.Отец ушел, когда Сю-Инь было пятнадцать лет. В ту ночь ее вырвал из беспокойного сна громкий хруст гравия подъездной дорожки под колесами машины и свет фар, заливший на секунду ее комнату. Из окна она увидела, как перед парадным входом остановился вытянутый лимузин. С обеих сторон вышли двое широкоплечих мужчин в темных очках. Один открыл пассажирскую дверь. Оттуда появилась женщина, одетая в платье, полностью скрывавшее все тело от шеи до щиколоток, но с длинным разрезом сбоку от полу до верха бедра.
Словно ветер, от нее исходило нечто неощутимое, но леденящее до озноба.
Женщина, изогнув запястье, вскинула кисть руки, и один из телохранителей – Сю-Инь достаточно насмотрелась на людей такого сорта и узнавала их с первого взгляда – вложил ей в пальцы сигарету. Второй поднес огня. Пляшущий огонек спички осветил резкие черты жестокого, но красивого лица. В миг внезапно подступившего отвращения Сю-Инь испытала троякое чувство: во-первых, что эта женщина не была человеком, во-вторых, что кем бы она ни была, она много хуже любого демона, и наконец, что, судя по тому ужасу, который сопровождал само ее присутствие, она могла быть только Дьяволом во плоти – хоть и в женском обличье.
Сю-Инь поспешно оделась – джинсы, фланелевая рубашка, кроссовки, – как ее давно научили поступать, если среди ночи в дом придут незнакомые люди. Но дальше она повела себя не так, как учили: не выскользнула из дома через заднюю дверь и не побежала через лес, а присела у окна и выглянула в щелку жалюзи.
Дьявол неторопливо курила, выпуская дым через ноздри. Потом щелчком отправила окурок в сторону и кивнула. Один из сопровождающих подошел к двери и принялся стучать кулаком. Бам! Бам! Бам! Стук гулко разнесся по беззащитному дому. Потом наступила тишина. И дверь открылась.
Из подъезда вышел отец Сю-Инь.
Генерал держался прямо и гордо. Он вежливо выслушал слова телохранителя. Потом жестом отстранил мужчину, как нечто несущественное, и повернулся к темной женщине.
Та вручила ему розу.
На протяжении трех медленных вздохов отец Сю-Инь стискивал в кулаке черный, как полночь, цветок, с ужасом и недоверием глядя на него сверху вниз. А потом он как-то обмяк. Как будто из него сразу выпустили воздух. Он опустил голову. Вялым движением полуобернулся к дому, поднял руку, как будто хотел сказать: «Хотя бы…»
Дьявол щелкнула пальцами и указала на лимузин, возле которого стоял, придерживая дверь открытой, один из телохранителей. Так можно было бы подать команду собаке.
К великому изумлению Сю-Инь, отец повиновался.
Дверь захлопнулась. Загудел мотор. Чувствуя, как колотится сердце, Сю-Инь сбежала по лестнице на первый этаж. Схватив ключи со столика, стоявшего около двери, добежала до «Лексуса». Она пока еще не получила ученические права, но Генерал возил ее на стоянку близ стадиона, где в обозримом будущем не предполагалось никаких игр, и позволял под своим внимательным присмотром управлять автомобилем. Так что она умела водить. В некотором роде.
К тому времени, когда она съехала с подъездной дорожки на Алан-э-дейл-лейн, лимузин уже удалился. Сю-Инь гнала, насколько у нее хватало смелости; «баранка» елозила у нее в руках. Далеко впереди она видела габаритные фонари лимузина и, как могла, пыталась не отставать. Ее то и дело сносило на обочину, и она, резко выворачивая, каждый раз спешила вернуться на дорогу. Грузовик дернулся в сторону и резко взревел гудком. К счастью, полицейских на дороге не оказалось. Но лимузин медленно, но верно уходил вперед и, оторвавшись на милю, стал сначала почти неразличим, а потом выехал на Первое шоссе.
И исчез из виду.
Сю-Инь с силой нажала ногой на акселератор. Автомобиль яростно рванулся вперед на красный свет. Она услышала визг тормозов, вой гудков и даже скрежет, очень похожий на столкновение поблизости, но не обратила на все это ровно никакого внимания. Сейчас она могла думать только об отце.
Ее отец никогда не был религиозным. Но когда умерла ее мать, он освободил от мебели прихожую и сделал там святилище со свечами, оправленной в рамку фотографией жены и несколькими ее любимыми вещами: пачкой «Вирджинии слимз», «Как достичь совершенства в искусстве французской кухни», мягкой игрушкой, которую она каким-то образом сохранила с детских лет, прошедших в сельской глубинке Сычуаня. Потом он ушел в маленькую комнату, закрыл за собой дверь и рыдал там так громко, что Сю-Инь перепугалась. Появившись через час с лишним, с непроницаемым, как воинская бронзовая маска, лицом, он увидел ее страх. Подхватив девочку, он принялся подкидывать ее в воздух и подкидывал до тех пор, пока она не рассмеялась. Тогда он сказал:
– Я всегда буду рядом с тобой, маленькая принцесса. Ты навсегда останешься моей дочерью, и я всегда буду любить тебя.
Сю-Инь вцепилась в руль с такой силой, что пальцы побелели, и по ее щекам потекли слезы. Лишь тогда ей стало понятно, что она, дочь Генерала, открыто проявляет слабость. «Прекрати немедленно!» – строго прикрикнула она на себя. И чуть не въехала в стриптиз-клуб, возле которого стоял длинный лимузин Дьявола.
Сю-Инь припарковала автомобиль и привела себя в порядок. Клуб был зачуханный, без окон и, судя по всему, закрыт. Но куда еще они могли деться? Она вошла внутрь. В фойе бородатый мужчина в безрукавке, позволявшей продемонстрировать байкерские татуировки, сказал ей:
– Тебе, малышка, тут делать нечего. Проваливай!
– У меня собеседование, – брякнула Сю-Инь первое, что пришло ей в голову. – В смысле прослушивание. У начальницы.
– Артистка? – Парень окинул ее наглым взглядом. – О, тебя тут сожрут заживо. – Он дернул головой в глубь здания. – До конца по коридору и там по лестнице, пока не упрешься.
Стараясь не выказывать страха, Сю-Инь направилась, куда сказали.
В коридоре пахло дезинфектантами, рвотой и прокисшим пивом. Перила лестницы шатались и дребезжали, а ступеньки то и дело словно проминались под ногой. От единственной электролампочки Сю-Инь уходила все дальше и дальше.
Полнейшую тишину на лестнице нарушали только шаги Сю-Инь.
Она спускалась, пролет за пролетом, свету становилось все меньше и меньше, и вскоре ей пришлось пробираться в полной темноте. Через некоторое время она решила, что лестница не может быть такой длинной, она принялась считать площадки. На двадцать восьмой она уткнулась в стену.
Сю-Инь на ощупь нашла дверную ручку. Та повернулась, и девушка, споткнувшись на пороге, вошла в тускло-красный город. Сквозь облака слабо просвечивало солнце цвета расплавленной бронзы. Воздух пах угольным дымом, серой и дизельным выхлопом. Над узкими улицами, где ветер гонял разбросанный мусор, вздымались унылые кирпичные дома, испещренные многочисленными граффити. И ни малейших признаков того, что здесь побывали ее отец или Дьявол.
Сю-Инь попятилась и ткнулась спиной в кирпичную стену. Дверь, через которую она только что вошла, исчезла бесследно.
– Где я? – вслух спросила она.
– В Аду, конечно. Где еще-то? – Сю-Инь повернулась и увидела прямо перед собой тощего лишайного одноглазого и вообще весьма неприглядного на вид кота, восседавшего поверх переполненного мусорного бака. – Пожертвуй несколько долларов бедняге, которому изменила удача, – добавил он, оскалив в улыбке зубы.
– Я… – Сю-Инь поспешила взять себя в руки. Следовало ожидать, что тут все будет не так. – Отведи меня к Дьяволу, и я отдам тебе все деньги, которые у меня есть. – Тут она вспомнила, что оставила кошелек дома. – Честно говоря, у меня в кармане лишь несколько монеток, но я отдам тебе все.
Кот издевательски хохотнул.
– Вижу, ты здесь вполне можешь прижиться! – Он протянул лапу. – Вельзевул. Как ты, наверно, сама понимаешь, не тот, знаменитый.
– Сю-Инь. – Она осторожно встряхнула лапу с грязной, свалявшейся шерстью. – Ты мне поможешь?
– Вовсе не за те жалкие деньжата, которые ты предлагала. – Вельзевул спрыгнул с бака. – Но раз уж передо мной вечность, которую все равно нечем занять, я помогу тебе. Но пойми меня правильно: не потому, что ты мне понравилась. Исключительно потому, что это будет вызовом нравам местного общества.
Ад оказался городом как город, за исключением того, что о нем нельзя было сказать ничего хорошего. Его жители были грубы, как парижане, улицы грязны, как в Мумбае, воздух тяжелый, как в Мехико. Местные театры были закрыты, от библиотек остались только обгорелые стены и, конечно, здесь не было церквей. В немногочисленные магазины, двери которых не были забиты, стояли длинные очереди. Общественные уборные отнюдь не блистали чистотой, и туалетная бумага в них давно закончилась. Сю-Инь довольно быстро поняла, что отыскать здесь отца будет непросто. Никакой ратуши или городских властей тут, конечно, и в помине не было. Судя по всему, в Аду была анархия. Не было там и привилегированных районов для богатых.
– Это мир социалистической мечты, – сказал Вельзевул. – Все здесь одинаково обездолены.
Дьявол могла оказаться где угодно. И, хотя кот водил ее взад-вперед по улицам, никаких признаков присутствия Темной леди им не попадалось.
В запущенном парке, выглядевшем лишь немного лучше, чем мусорная свалка, она наткнулась на бледнокожего юношу, который сидел, скрестив ноги и запрокинув голову, на садовой скамейке с отломанной спинкой. Руки он сложил на колени ладонями вверх; кончики больших и указательных пальцев соприкасались. Глаза его были закрыты.
– Что ты делаешь? – спросила его Сю-Инь.
– Любопытство? Здесь? – произнес юноша, все так же уставясь невидящим взглядом в небо. – Как… странно. – Тут он опустил голову и, открыв глаза, уставился на Сю-Инь сквозь завесу иссиня-черных волос. Глаза у него оказались бледно-голубые. – Миленькая девочка. Все страньше и страньше.
Сю-Инь зарделась.
– Посмотри-ка на этого типа, дорогуша, – вмешался Вельзевул. – Он тебе ща баки забьет, ты и моргнуть не успеешь.
– Такое впечатление, что у тебя есть друг. В Аду. Немыслимо. Скажи-ка, что ты видишь?
– Вижу?
– Видишь, – подтвердил юноша. – Ад – он для всех разный. Ты видишь по большей части то, чего заслуживаешь.
– В таком случае я заслужила не так уж много. – Сю-Инь как можно тщательнее описала замусоренный парк и окружавшие его мрачные дома.
– И никаких ос? Никакого огня? Никаких мелких гадостей, которые удается заметить только краем глаза? Я начинаю сомневаться, что ты попала туда, куда нужно. – Юноша выпрямил ноги и сел обычно, по-мальчишески, так что казалось, будто он весь состоит из локтей и коленей. – Что касается твоего вопроса: я медитирую, пусть даже это покажется тебе глупостью. Я, несмотря ни на что, кажется, еще не совсем утратил надежду. Но сомневаюсь, что тебе будет интересна моя история.
– Она мне очень даже интересна. – Сю-Инь села на скамейку рядом с парнем. Вопреки всем вероятиям, она все же надеялась, что он хороший. – Как тебя зовут?
– Рико. При жизни я считал себя очень крутым. Прогуливал уроки, угонял автомобили, подкуривался «дурью», с девочками трахался. Ах да – и умер молодым. Это важно. Меня застрелили во время моего первого ограбления. Я вперся во врата Ада гордый, как петух, уверенный, что я самый дурной, самый испорченный из людей, которых когда-либо обрекали на вечные муки.
О, как же я ошибался! Насколько я могу сказать, пока сюда не закинуло тебя, я был здесь наименее дурным человеком. Говорю без всякого хвастовства. Потому что это означает, что проклятие я заработал, но за край только-только заступил. Может быть, если бы я вовремя погладил собаку, или улыбнулся старушке, или бросил монетку нищему, этого хватило бы, чтоб восстановить равновесие. Еще одно самое мелкое доброе дело, и сидел бы я сейчас в пентхаусе на небесах, ел бифштексы, попивал «бордо» и наливал ручному оцелоту «эвиан» в блюдце из лиможского фарфора. Вот я и подумал… может быть, если я сумею стать хоть на самую малость лучше, то очнусь и окажусь в каком-то другом месте. Ясно теперь, что я говорил о надежде? Я давно, очень давно этим занимаюсь, но все без толку. Все равно, это не значит, что мне больше нечего делать. Ну а что случилось с тобой?
Когда Сю-Инь закончила рассказ, Рико присвистнул.
– Доброта. Смелость. Самопожертвование. День с каждой минутой становится все более и более неизъяснимым. – И добавил, чуть помолчав: – Ты, похоже, проголодалась. Если хочешь, угощу тебя обедом.
– Не ведись на это, детка, – вмешался Вельзевул. – Это же старая тюремная наколка. Когда ты впервые попадаешь туда, тебе предлагают все на свете – вроде как в подарок. Но как только наступит полночь, этот Шейлок обязательно стребует свой фунт мяса. Если, конечно, ты понимаешь, что я имею в виду.
Рико скорчил досадливую гримасу:
– Вот к таким рассуждениям я в этих местах больше привык. – Он вновь повернулся к Сю-Инь: – Я мою посуду в «Грязной ложке». Там нужна официантка, так что если хочешь… Платят мало, зато кормят три раза в день. Такие уж они здесь.
Сю-Инь поняла, что, вероятнее всего, надолго застрянет в Аду.
– Ну…
– Сотня в неделю и еда. Чаевые, если будут – твои, – сказал повар. Он не назвал Сю-Инь своего имени и не спросил, как звать ее. – Спать будешь в кладовке. Кто намусорит – сразу убирай. Замечу, что плюешь в тарелки – сразу оштрафую на часовое жалованье. Врубилась?
– Да, сэр.
– В таком случае добро пожаловать в лучший, чтоб его, ресторан в Аду. Топай работать. И убери отсюда эту поганую грязную кошатину! – Повар схватил с плиты горячую сковороду и замахнулся на Вельзевула, который тут же исчез, издевательски взвыв и осыпав все вокруг линялой шерстью и обдав презрением.
Теперь Сю-Инь по двенадцать часов в день обслуживала угрюмых посетителей, вытирала стойку, скребла полы, мыла уборные и выносила мусор. Вкалывать служанкой за все предстояло, сколько хватит терпения.
В свободное время она моталась по городу, разыскивая отца и Дьявола в темных унылых барах, душных гаражах и задрипанных подвальных мастерских, где замызганные мужички констролили кривобокую мебель и башмаки, шнурки которых рвались, как только попытаешься их завязать. Она чувствовала, как серость этого места медленно, но верно впитывалась в ее плоть, пока не стала ощущаться постоянным зудом в костном мозге.
Границы Ада то сжимались, то разбухали, словно морские воды с приливом и отливом, поэтому и взаимосвязи там ежедневно изменялись. Город смыкался с тем миром, из которого прибыла Сю-Инь, но в разные дни с разными его частями. Порой она обнаруживала, что с тоской смотрит на Лос-Анджелес, а на следующий день видела окраины Москвы. Однажды сразу за городом обнаружилась пустыня (совершенно неведомо какая), и Сю-Инь поймала себя на том, что пристально разглядывает одинокий цветок точно такого же зеленого цвета, как соломинки для коктейлей в «Грязной ложке».
Она долго, долго смотрела на него и думала.
На следующую смену Сю-Инь явилась очень рано и долго рылась в мусоре в поисках ярко раскрашенной упаковочной бумаги. А потом взялась за работу. Когда она закончила, вторая официантка, Долорес, иссохшая тень женщины, редко говорившая Сю-Инь больше четырех слов подряд, просунула голову в кухню и произнесла:
– Эй, парни, взгляните-ка.
Повар вышел из кухни и осведомился:
– Шо это за куча дерьма?
– Это букет цветов, – сказала Сю-Инь. – Ну, почти. Сделан из коктейльных соломинок и всякой всячины. А ваза – банка из-под маринованных огурчиков.
– Зачем это? – спросил Рико из-за спины повара.
– Просто для красоты. – Она вдруг чмокнула повара в щеку. – Ну, примерно как наш дорогой шеф.
Долорес разинула рот от удивления.
– Что значит вся эта хрень? – спросил повар, потирая щеку.
– Ровным счетом ничего. Просто настроение такое. – Тут явился первый посетитель, и Сю-Инь понесла ему меню. – Что пожелаете, мой дорогой?
Посетителей «Грязной ложки» она весь день называла, кого «милый», кого «дорогой» и тому подобными словами. Каждому она душевно улыбалась, а вытирая стойку, напевала. И то и дело пошучивала. Она делала все возможное, чтобы в заведении стало немного веселее. Это было нелегко. Но она старалась.
На следующий день она вела себя точно так же. И через день. И еще через день. Со временем завсегдатаи стали сами улыбаться, завидев ее. Кое-кто даже пытался неуверенно заигрывать с нею. Один оставил чаевые – конечно, сущий пустяк, а не деньги, но само намерение было хорошим. Сю-Инь, широко улыбнувшись, подбросила их в воздух, поймала одной рукой и сунула в карман.
И в конце концов Дьявол заглотила приманку.
Когда в зал вошла Темная леди, Сю-Инь вытирала кровь с прилавка, покрытого формайкой.
– Что я могу предложить вам, мэм? – спросила она, поспешно сунув тряпку за стойку.
Дьявол уселась, телохранитель тут же поднес ей очередную сигарету, она затянулась и медленно, чувственно выпустила длинную змейку дыма.
– Мартини с «Будлс», очень сухой, без льда, взболтать. И холодный, чтобы зубы ломило.
– Сейчас, мэм. – Сю-Инь повернулась в сторону кухни и без особого удивления заметила, что находится в сверкающем – и безукоризненно чистом! – баре. Похоже, все в Аду спешило приноровиться к вкусам его повелительницы. К счастью, Сю-Инь каждый вечер на протяжении нескольких лет готовила отцу вечерние коктейли и поэтому знала, что нужно делать. Она быстро и ловко смешала напиток, наполнила бокал до краев и подала его Дьяволу, не пролив ни капли.
Ярко-алые губы влажно раскрылись. Джин пролился через длинное, очень длинное горло. Ногти с идеальным маникюром подхватили со стенки бокала колечко лимона, и белые ровные зубы стремительно обгрызли его. Сю-Инь против воли любовалась элегантностью разыгранного представления.
Дьявол бросила на стойку конверт:
– Читай.
Сю-Инь осторожным движением вытряхнула из конверта листок. На нем красовались печати и штампы нотариуса, но она и без этого сразу распознала почерк Генерала. И его стиль.
Моя дорогая дочь.
Что ты творишь? Отправляйся домой. Здесь ты ничего не добьешься.
Я всегда любил тебя, но в этом месте любви не существует.
С наилучшими пожеланиями
Твой отец.
Сю-Инь положила письмо на прилавок и посмотрела Дьяволу прямо в глаза:
– Судя по всему, я удостоилась вашего внимания.
Дьявол фыркнула:
– Твои попытки исправить ничтожество, владеющее всеми и всем в моих владениях, несколько раздражают, что есть, то есть. Но не более того. Или ты считаешь, что можешь бросить мне вызов? Предупреждаю, империи рушились из-за меньшего.
– Где мой отец? – спросила Сю-Инь, нисколько не испугавшись.
– Прямо за твоей спиной.
Сю-Инь резко обернулась и оказалась в больничной палате. Там пахло антисептиком и глажеными простынями. Снаружи, по коридору, неторопливо прохаживались люди. На стене ворчал телевизор. Ритмично похрюкивала невидимая машина, отставая на полтакта от ее дыхания. А на кровати, с закрытыми глазами, белее простыней, лежал ее отец.
Она подбежала к нему и сжала обеими ладонями его большую безвольную руку.
Исполненные при жизни мудрости и лукавства глаза чуть заметно приоткрылись. Темные зрачки выскользнули из-под век.
– Что ты здесь делаешь, глупая девчонка? – прошамкал Генерал.
– Папа, я хочу забрать тебя домой.
– Теперь мой дом здесь. Я попал сюда по заслугам.
– Нет!
– Ты уже достаточно взрослая и должна понимать, что моя жизнь была вовсе не простой. Можешь не сомневаться: я делал все то страшное, что мне приписывали, и даже кое-что похуже. Спасти меня так же невозможно, как вернуть назад время.
– Я смогу! Смогу! Смогу! – По щекам Сю-Инь хлынули горячие слезы гнева и упрямства. – Не для того я зашла так далеко, чтобы ты меня прогнал. Не знаю как, но…
– Прекрати. – Генерал исчез, и она снова очутилась в баре под пронизывающим взглядом Дьявола. Сю-Инь ощущала себя точно так же, как и мгновение назад, но уже не плакала. – Что нужно, чтобы ты убралась отсюда?
Сю-Инь собралась с силами, чтобы обуздать эмоции, и коротко ответила:
– Мой отец.
Дьявол плеснула мартини в лицо Сю-Инь.
Джин был настолько холодным, что обжег кожу, и Сю-Инь на мгновение испугалась, что он колдовским образом превратился в кислоту. Но ей удалось сдержать крик и даже не отвернуться. Она лишь нашарила за стойкой тряпку, которой протирала столы, и вытерла ею лицо.
– Полагаю, это и есть то, что называют любовью. По-моему, это больше похоже на тупость. – Дьявол постучала ногтями по обсидиановой поверхности стойки – щелк, щелк, щелк. – Ладно, – сказала она. – Попробуем договориться.
Сю-Инь молча ждала продолжения.
– Ты девственница. Не считай, что этим ты отличаешься от остальных. В Аду полным-полно девственниц. Но я предлагаю тебе пари. Сохранишь девственность один год, и я отдам тебе отца – живого, невредимого и все такое. Но если окажется, что ты обычное ничтожество, каким, я подозреваю, ты являешься, ты без возражений уберешься прочь отсюда.
– Я…
– И еще одно условие. Ты будешь встречаться с каждым, кто попросит тебя о свидании. Эта вот работа за тобой сохранится, но жить ты будешь в пентхаусе, одном из pied-a-terre[5], которыми я иногда пользуюсь, когда нахожусь здесь. Так что у тебя будет прекрасное место, куда можно привести парня. Но не смей трогать мою одежду!
– Благодарю вас.
– Я также даю тебе наставника. Который будет обучать тебя, помимо всего прочего, хорошим манерам.
Леонид оказался тощим, благовоспитанным и ироничным. Сю-Инь решила, что он гей. Когда она явилась в пентхаус, он уже ждал ее там.
– Начнем, – сказал он, – с фокстрота.
– Но разве… Знаете, молодежь нынче предпочитает импровизировать.
– Нет. – Леонид приобнял ее, повернул в одну сторону, в другую… Ее тело свободно следовало его движениям. – Ваш партнер управляет вашими движениями. Если он знает, что нужно делать, вы легко выполняете свою роль. В таком случае, если вы следуете его водительству, каждое движение дается вам легко и непринужденно. Полагаю, что метафорическая суть здесь очевидна. Ваши тела все время соприкасаются. Партнер постоянно ощущает вашу грудь своей, ваши бедра, все… Вы же, в свою очередь, не сможете не ощутить его физического возбуждения.
– Сомневаюсь, чтобы я так уж сильно возбуждала вас, – заметила, развеселившись, Сю-Инь.
– Это не моя задача. И не ваша. Вам следует возбуждать только тех, кто будет приглашать вас на свидания. Я же на свидания приглашать вас не собираюсь.
Тут в дверь постучали.
– Обслуживание жильцов, – сообщил Леонид, впуская подобострастного слугу, который быстро расставил на столе содержимое тележки: полотняные салфетки, столовый прибор, набор сыров на деревянном подносе, хрустальные стаканы и бокалы, графин с водой и маленькую бутылочку шампанского.
– Мне еще слишком мало лет, чтобы пить спиртное, – сказала Сю-Инь.
– Отнюдь. Я, помимо всего прочего, должен преподать вам умение пить. Естественно, в крайне умеренных дозах. Вы должны никогда не выпивать больше двух бокалов за вечер и никогда не употреблять напитки, не налитые в вашем присутствии. К сожалению, в спиртное часто подмешивают всякую отраву.
– Ох… – тихонько вздохнула Сю-Инь.
– Я также буду учить вас некоторым элементарным приемам самообороны. Но только после того, как вы научитесь танцевать. Танцы – основа основ. – Леонид указал на стол. – Что ж, приступайте.
– Вы и тут не собираетесь ко мне присоединиться?
– Нет. Я буду стоять рядом и критиковать ваше поведение за едой.
Первое свидание состоялось с мужчиной, который представился Арчером. «Просто Арчер», – сказал он, когда Сю-Инь спросила его полное имя. Они встретились в вестибюле здания, выглядевшего так, будто его построили для миллиардеров; там чуть заметно пахло простоквашей, а из невидимых динамиков звучали Феррант и Тейхер. Обликом новый знакомый походил на гангстера и был одет в черный костюм при черной же рубашке и белом галстуке. Распахнув пиджак, он продемонстрировал пистолет, а потом принялся расстегивать рубашку, чтобы похвастаться татуировками.
– Ну, не здесь же, – остановила его Сю-Инь. – Может быть, когда мы познакомимся поближе… – Глупая фраза, но ничего лучшего она придумать не смогла и отметила в уме, что нужно спросить Леонида, как вести себя в подобной ситуации.
Стоило им выйти на улицу, как стоявшее перед домом такси громко и продолжительно загудело.
– Миледи, моя колесница ждет, – провозгласил Арчер и, схватив за руку, выволок ее на улицу. Усаживая девушку в машину, он гладил ее по заду.
Они приехали в ресторан, где ухажер сам сделал заказ, сказав: «Я здесь уже бывал, а ты – нет». Заказал он все то, что не нравилось Сю-Инь, и попытался уговорить ее выпить из фляжки, которую, получив отказ, убрал в карман, не пожелав сам приложиться. Когда же Сю-Инь понадобилось выйти в туалет, он попросился вместе с нею, сказав, что обожает смотреть, как женщины мочатся.
Сю-Инь пробыла в дамской комнате, сколько осмелилась. Когда же она вернулась к столу, оказалось, что Арчер съел все овощи с ее тарелки и перед ним стояло несколько пустых бокалов из-под коктейлей.
– Послушай-ка, – сказал он, выхватив смартфон, – хочешь посмотреть картинки моей мамаши?
Сю-Инь бросила лишь один взгляд на экран и отвернулась, залившись краской.
– Нет, такие картинки – не хочу.
– Ой, да брось ты. Мы же в Аду. Здесь все можно.
Трапеза, казалось, тянулась бесконечно. Как только появлялась официантка, Арчер заказывал очередную выпивку для обоих. Потом, прикончив свою и видя, что стакан Сю-Инь не тронут, выпивал и ее порцию. В такси по дороге домой он вдруг расплакался и сообщил, что, когда он был маленький, отец научил его нехорошему и испортил ему всю половую жизнь. Когда машина подъехала к ее дому, он схватил Сю-Инь за обе руки и попытался поцеловать. Она крепко сжала губы и отвернулась, так что ему удалось лишь лизнуть ее в щеку.
– Ну, хотя бы дай понюхать твои трусики, – взмолился он.
Сю-Инь громко завизжала, оттолкнула его, вывалилась из машины и, поспешно вскочив на ноги, потеряв одну туфлю, устремилась к подъезду.
– Стой! Ты не заплатила за такси! – крикнул ей в спину Арчер.
Внутри Сю-Инь уже поджидал учитель.
– Не стану спрашивать вас, как прошел вечер, – сказал он.
– О, Леонид, это было ужасно. – Он подал ей халат. В углу комнаты стояла старинная китайская ширма. Сю-Инь укрылась за нею и принялась раздеваться, развешивая платье и белье на ширме, как это делали героини в старых черно-белых кинофильмах. – Хорошо во всем этом только одно: мне даже на секундочку мысли не пришло о сексе с ним.
– Не вздумайте гордиться. Дьявол любит играть. Сначала она подсунет вам несколько совершенно неприемлемых вариантов, а потом, когда вы потеряете осторожность, вам подвернется нечто неотразимое. Отличный танцор, внимательный слушатель и, кажется, целиком и полностью на вашей стороне. Такой, какого вы будто бы всю жизнь искали. – Леонид забрал с ширмы ее одежду. – Отнесу ваши вещи в стирку.
И он удалился.
Сю-Инь долго стояла под душем, чтобы смыть с себя запах Арчера и его сигар. Потом отправилась спать, молясь, чтобы не увидеть его в кошмарном сне, и уверенная, что увидит.
И все же… День прошел, значит, остался не год, а уже меньше.
Свидания у Сю-Инь случались по меньшей мере трижды в неделю – одно хуже другого. Один ухажер всячески бахвалился, а потом обозвал ее дрянью за то, что она не захотела спать с ним. Второй напился и попытался сорвать с нее платье прямо на улице. Третий не смог запомнить ее имени и, сколько она ни поправляла его, упорно называл ее Чин-Чон. Он хотел узнать, «правда ли то, что говорят об азиатках», и очень обиделся, когда она сказала, что хоть она и не знает, что именно говорят, но скорее всего это неправда. Не говоря уже о женщине, которая все пыталась заставить Сю-Инь нюхать ее пальцы.
Когда же она оставалась дома, Леонид давал ей уроки. Он объяснял ей основы флирта и учил правильно нюхать кокаин и молниеносно собрать волосы во «французскую ракушку». Она узнала, как правильно вонзить высокий каблук в ногу мужчины сквозь ботинок, усвоила принятые в обществе нормы использования косметики и уяснила, какая из семи основных категорий парфюмерии (цветочная, папоротниковая, шипр, кожаная, древесная, восточная и цитрусовая) лучше подходит в различных ситуациях.
Она также училась играть на пианино, хотя такой возможности на свиданиях не выпало ни разу.
– Зачем я все это учу? – спросила Сю-Инь однажды вечером, играя с учителем в шахматы. – Вряд ли эти умения когда-нибудь пригодятся мне.
– Знания и умения придают уверенности, а уверенность повышает привлекательность. – Леонид передвинул слона, угрожая ее ферзю. – Вот и все.
– Я не хочу быть привлекательной. – Сю-Инь не стала убирать ферзя, который прикрывал короля, а защитилась от атаки конем.
– Таковы правила игры, моя милая. Правила игры. – Леонид двинул вперед пешку, открывая линию атаки для своего собственного ферзя, и позиция сразу переменилась. – Мат в три хода. Вам нужно научиться думать хотя бы на четыре хода вперед.
Однажды, уходя с работы, Сю-Инь увидела возле «Грязной ложки» Вельзевула.
– Я ведь предупреждал, – сказал он. – Рико набрался смелости пригласить тебя на свидание.
– Вот как? – удивилась Сю-Инь. – Я была о нем лучшего мнения.
– Понимаю, что ты подумала. Нет, Дьявол не нанимала его для покушения на твою девственную задницу. Ей это вовсе не нужно. Если отбросить то идиотское пари, в которое ты позволила себя втянуть, что останется? Рико молодой парнишка. Ты молоденькая и красивая. Так что, если хочешь справиться со своей затеей, не позволяй ему запускать руки тебе под рубашку.
Растерявшись от неожиданности, Сю-Инь спросила:
– Я что, вправду красивая?
– Для него – да. А с точки зрения кота – ничего особенного.
Она расхохоталась и потрепала Вельзевула по голове.
– Знаешь, Вельзи, что мне в тебе особенно нравится? Твоя неизменная честность.
– Я честен только потому, что это противоречит нравам местного общества.
Когда она пришла на смену, Рико вышел из подсобки, вытирая руки фартуком.
– Послушай, – сказал он. – Я знаю тут один танцевальный клуб. И вот подумал, что, может, в пятницу ты согласишься сходить со мною туда. Потанцевать.
– О, Рико, – вздохнула Сю-Инь. – С удовольствием.
Так что в субботу они отправились в «Вершину города», которая оказалась вращающимся баром с потрясающим видом на реку Флегетон, над водами которой деликатно мерцали язычки голубого пламени. Они танцевали, и Рико все время наступал ей на ноги. Потом появился представительный алжирец по имени Жан-Люк. Он танцевал прекрасно. Потому-то Рико немного побил его и утащил Сю-Инь в прокуренный фортепианный бар выпить коктейль. Пока она крохотными глоточками потягивала из бокала пино-гри, Рико влил в себя несколько порций виски с содовой.
В конце концов они взяли старенькое ржавое такси, и по дороге домой Сю-Инь, в точном соответствии с предсказанием Вельзевула, пришлось отбиваться от Рико, стремившегося запустить руки ей под белье. Когда они вышли из машины, она сказала, что замечательно провела время, и умчалась в подъезд, сказав швейцару, чтобы тот не пускал внутрь ее спутника. Позади она слышала, как Рико вышвырнули вон.
Оказавшись в своей квартире, она сбросила туфли на высоченных каблуках, не раздеваясь, рухнула на кровать и, едва успев закрыть глаза, почувствовала, как провалилась в сон.
Еще один день долой. Но как же много их остается…
На следующее утро Рико маялся с похмелья, а под глазом у него чернел синяк, полученный в схватке со швейцаром. Поэтому он не стал еще раз приглашать Сю-Инь, что было очень кстати, так как алжирец уже позвонил ей и предложил пройтись по клубам.
Они посетили таверну «Росинка», клуб «Хойти-тойти», «Орхидейную гостиную», «Город роскоши», «Цилиндр» и «Трактир» и танцевали под музыку Пэта Буна, Дорис Дей, Барри Манилова, Пэтти Пейдж и Уэйна Ньютона. К изумлению Сю-Инь, Жан-Люк держался истинным джентльменом.
– При жизни я был вором-форточником и специализировался по драгоценностям, – сказал он. – И был, не стану скромничать, очень удачливым вором. Работа научила меня, что красивых вещей следует касаться нежно и осторожно. Было бы крайне непродуктивно с моей стороны наброситься на вас и тискать, рыча, – сказал он. – Хотя, признаюсь, мне очень этого хочется. Но мне надлежит убедить вас соблазнить меня. Чего вам, хоть вы сами этого пока не осознаете, хочется больше всего на свете.
– Это полностью исключено. На кону стоит душа моего отца.
– Это, конечно, проблема, – игриво подмигнул алжирец. – Значит, мне нужно будет прибавить обаяния.
– По-моему, больше уже некуда, – восхищенно отозвалась Сю-Инь. Но бдительности не ослабила.
Жан-Люк обладал неисчерпаемым запасом историй о кражах (по большей части через крыши) и о том, как он спасался в грязных переулках Парижа и Алжира. Он задавал вопросы о ее жизни и, казалось, искренне интересовался тем, что она рассказывала. О себе он, среди прочего, рассказал, как был в полицейском розыске и целый месяц – самый длинный месяц всей моей жизни! – прятался в марсельском публичном доме и не прикоснулся ни к одной из тамошних тружениц. «Понимаете ли, я был влюблен, по уши влюблен. Но, увы, когда я смог выбраться, оказалось, что Миньетта спуталась с жандармом. Она искренне намеревалась дождаться меня, но тридцать дней – это тридцать дней! У каждой женщины есть пределы терпения.
Алжирец был очень мил, и при иных обстоятельствах Сю-Инь вряд ли сочла неприемлемым для себя отдаться ему. Она испытывала примерно такое же чувство, как и он. Так почему бы нет? Только застраховаться от беременности или инфекции.
Но она заключила пари с Дьяволом и была твердо намерена выиграть его.
– Это финт, – сказал Леонид во время следующего урока фехтования. – Я атакую, вы парируете из четвертой позиции и отбиваете мой клинок наружу, вернее, рассчитываете, что так получится. – Он продемонстрировал движение очень медленно. – Но во время вашей защиты я опускаю клинок под ваш и тут же вскидываю острие изнутри… и наношу укол. – Пуговица его рапиры коснулась куртки Сю-Инь точно у самого сердца.
Он отступил и поднял маску.
– Цель этого финта – я имею в виду вашего алжирца; надеюсь, вы уловили метафору? – заставить вас утратить бдительность. Отвлечь вас от настоящей опасности.
– Какой же?
– Узнаете, когда она появится. Если постоянно будете настороже.
– Леонид, я никогда не спрашивала вас об этом… но… почему вы все это делаете? Ну, даете мне эти советы. Почему вы занимаетесь со мною, я знаю.
– Lasciate ogne speranza, voi ch ‘entrate. «Оставь надежду всяк сюда входящий». Для меня оказалось сильным разочарованием увидеть, что плаката, который цитировал Данте, не существует, а еще большим – узнать, что какая-то тень надежды все же остается. Ваш отец заслуживает освобождения отсюда ничуть не больше, чем я. Но, если он все же спасется, это будет хоть какой-то удар по мисс Злобе, и я испытаю некоторое слабое и горькое, но удовлетворение. – Леонид пожал плечами. – Только и всего.
– Ну, будь на стреме, – предупредил ее Вельзевул. – Юный Лохинвар созрел для второй порции. – И он исчез, прежде чем Сю-Инь открыла рот.
И, конечно же, Рико снова пригласил ее на свидание:
– Давай пойдем ко мне домой. Просто поболтаем. Без всяких глупостей. Обещаю, что ничего такого не будет.
– Если ты действительно хочешь, я приду, – сказала Сю-Инь. – Но в прошлый раз получилась такая неприятность… Зачем это повторять?
– Потому что рядом с тобой я чувствую себя лучше, – ответил Рико. – Нет, конечно, я не счастлив, здесь это невозможно. Но не такой несчастный. И порой я думаю, что, если бы я смог сделать тебя счастливой, я тоже был бы счастлив. Ну, почти. Самую чуточку.
И она согласилась.
Как она и ожидала, жилище Рико оказалось жалким: в раковину свалены грязные тарелки, по углам распихана нестираная одежда. Но он сделал нечто вроде кофейного столика из старого ящика, а из коробки от пиццы – доску для игры в парчис.
– Это я у тебя идею стырил, – признался он. – Из твоих искусственных цветочков. Кость сделана из этого безвкусного белого корнеплода, который наш повар крошит в жаркое. Как его… турнепс? Пастернак? А фишки – вываренные зернышки перца.
В последнее время Сю-Инь то и дело встречалась с мужчинами старше ее, и сейчас юность Рико – его незрелость – отчетливо бросалась в глаза. Он слишком много говорил о себе. Он совершенно ничего не знал о том, что считалось в Аду важными новостями. Когда Сю-Инь упомянула о борьбе за бессмысленную должность главного мучителя, он даже не знал, кто претендует на нее, не говоря уже о том, который из кандидатов уже купил себе победу в голосовании. И откровенно злорадствовал всякий раз, когда бросок оказывался удачным для него.
Рико действительно не делал попыток лезть к ней и с неподдельным энтузиазмом двигал фишки, а когда Сю-Инь изредка удавалось перевести разговор на то, что интересовало ее, слушал с искренним интересом. Так что все получилось не так уж плохо.
Когда же наконец стало достаточно поздно, чтобы Сю-Инь решилась сказать, что наступает ночь, не оскорбив этими словами чувств Рико, она попросила проводить ее домой. Они пошли пешком, и, когда добрались до места, Рико сказал:
– Вечер был просто замечательный. Я имею в виду: очень приятный. Честно. Пожалуй, наименее страшное время с тех пор, как я умер.
Робкую попытку поцеловать ее Сю-Инь легко пресекла. Сама быстро чмокнула Рико в щеку и вбежала в подъезд.
– Надо будет когда-нибудь повторить! – крикнул Рико ей вслед.
Вернувшись в пентхаус, Сю-Инь проплакала несколько часов. Впервые за все время жизни здесь она почувствовала себя в Аду.
Так оно и продолжалось. Встреча с незнакомцем, который повел ее не в ресторан, а на оргию, где престарелые мужики разгуливали голышом и ждали, пока молодые женщины обслужат их. И они обслуживали – бесстрастно, но множеством таких способов, каких Сю-Инь полгода назад и представить себе не могла. Она оставалась там, насколько хватило терпения, а потом потребовала доставить ее домой. Затем последовал поистине очаровательный вечер с Жан-Люком. Потом тип, то и дело обдиравший струпья со своих болячек и поедавший их. Женщина, заявившая, что и думать не стала бы о лесбийской любви, если бы не Сю-Инь, и потребовавшая, чтобы та рассказала, как намерена ласкать ее. Владыка Внутренних кругов, рассердившийся из-за того, что девушка никогда не слышала о нем. Существо неопределенного пола, предлагавшее нечто такое, чего Сю-Инь даже не понимала и уж точно не желала делать. Снова Жан-Люк и прогулка на яхте, где развлекались играми и кидали проигравших в едкие воды Ахерона. Еще один грустный вечер с Рико, когда они играли в пинокль картами, которые он сделал из использованных бумажных тарелок, и Рико непрерывно сетовал о том, как бездумно растратил свою невинную юность.
И месяцы пусть очень неторопливо, но проходили. Порой свидания оказывались настолько омерзительными, что Сю-Инь потом рвало. Но бывало и неплохо. Хорошим ли, плохим ли было у нее настроение, на работе она всегда была приветливой и веселой. Теперь она относилась ко всему этому как к возможности слегка подпортить жизнь Дьяволу. Впрочем, по злобе ли или от чрезмерной занятости, леди Ужас больше не показывалась.
Вечером предпоследнего дня пари алжирец посоветовал Сю-Инь одеться официально и повез ее за город, на свалку, пострелять крыс. Сю-Инь умела стрелять, потому что отец очень настаивал, чтобы она научилась, да и в пентхаусе Дьявола, естественно, имелся собственный тир, где она постоянно упражнялась. И все равно она была изрядно обескуражена.
– Я очень глупо чувствую себя в таком одеянии, – призналась она.
– Не переживайте. – Жан-Люк держал в руках пару магазинных винтовок «Аншютц». Одну он протянул ей. – Контраст только прибавляет вам элегантности.
Сю-Инь проверила прицел, убедилась, что обойма полна, и сняла ружье с предохранителя.
– И как мы будем это делать?
– Mes freres![6] – Из темноты вышли двое мужчин. Каждый нес по канистре с бензином. – Мишель и Тьерри сегодня будут нашими загонщиками. – Он указал на груду мусора. – Пожалуй, начнем с этой.
Загонщики подошли к куче и принялись поливать ее бензином.
– Программа у нас следующая. Когда мусор разгорится, крысы, живущие в норах, полезут наружу. Они будут гореть, так что целиться в них будет легко. Но бежать они будут во весь дух, поэтому попасть будет не слишком просто. Но иначе это не было бы спортивным занятием, верно? Я буду стрелять по тем, что выскочат справа, а вы – по всем остальным. Победителем считается тот, кто настреляет больше. Готовы?
Сю-Инь подняла ружье:
– Думаю, что да.
– Отлично. – Он повысил голос. – Зажигайте.
Она ожидала, что развлечение будет извращенным. Безобразным. Но против всей вероятности это было не так. Адские крысы оказались гнусными созданиями, еще более мерзкими, чем их земные аналоги, и поэтому стрельба по ним нисколько не портила настроения Сю-Инь. К тому же попасть в них и впрямь оказалось непросто, и, когда это удавалось, она испытывала самое настоящее удовлетворение. К третьему попаданию Сю-Инь сопровождала каждый выстрел громким хохотом.
– Слева! – крикнул ее загонщик, когда из горящей кучи выскочило несколько пылающих крыс. – Три!
Сю-Инь навела прицел на огненный комок, нажала на спуск и проследила, как его подкинуло в воздух. Второй выстрел она сделала навскидку и промазала, третий ушел вообще в никуда. Выскочила еще одна крыса, и ее удалось подбить. Тут у нее кончились патроны. Она протянула руку, и Тьерри вложил ей в ладонь вторую обойму.
– У меня четыре, – сказал алжирец. – А у вас?
– Пять. Пока.
– Весьма внушительно. – Лицо алжирца лоснилось от пота в свете горящего мусора, но держался он с большим апломбом. Вероятно, и костюм у него был сшит на заказ, как раз для стрельбы. – Думаю, с этой кучей мы покончили. Пора поджигать вторую.
К завершению «охоты» Сю-Инь была потная и грязная, а ее платье так провоняло горящим мусором, что было весьма маловероятно, что его удастся спасти. Но она опережала своего спутника на дюжину убитых крыс. Мишель и Тьерри забрали ружья, и алжирец повел Сю-Инь к своему «Мазератти».
В машине, по дороге, алжирец положил руку на бедро Сю-Инь и принялся потискивать его. Вероятно, ей следовало сказать, чтобы он перестал, но этой ночью ей выпало такое развлечение – единственный раз за все время пребывания в Аду, когда она действительно испытала удовольствие, – что она чувствовала себя обязанной уступить ему хоть такую малость. Тем более что это тоже было приятно.
У дверей дома Сю-Инь алжирец обнял ее и сказал:
– Это ваш последний шанс пригласить меня к себе домой.
– О Жан-Люк, вы же знаете, что мне и самой этого хотелось бы.
– Ну, так за чем же дело стало? Это совсем просто.
– Я не могу.
Алжирец отпустил ее, закурил сигарету, медленно, глубоко затянулся, выдохнул:
– Я поклялся, что буду терпеть до тех пор, пока вы сами не позовете меня. Я думал, что у меня больше гордости. Но, как выяснилось, ваш самоконтроль сильнее моего. Так что мне приходится умолять. Прошу вас. Я знаю, вы… неопытны. Это совершенно не важно. Я могу подарить вам такую первую ночь, какую заслуживает любая юная женщина: страстную, романтическую, бесконечную. Позвольте мне посвятить вас в удовольствия взрослой жизни и сделать это в стиле, какой вы всегда будете высоко ценить.
Сю-Инь поймала себя на том, что его слова затрагивают ее куда сильнее, чем она могла бы ожидать. Хуже того, когда она попыталась вызвать в памяти образ отца, чтобы подкрепить свою решимость, у нее ничего не получилось. Похоже, что за прошедшее время она начала забывать Генерала. Мысль об этом не на шутку испугала ее. Но сделать вид, будто ничего не происходит, она не могла.
Глаза алжирца сверкнули цинизмом. С сигаретой, свисавшей из угла рта, он выглядел совершенным негодяем. Из того сорта негодяев, которые нравятся женщинам.
– Мы с вами уже давно знакомы, – сказала Сю-Инь, – и вы должны бы понять, что, если я говорю «нет», это именно это и значит.
– О, конечно. Увы. – Жан-Люк пожал плечами. – Надеюсь, вы позволите мне хотя бы погасить сигарету о вашу ладонь?
– Что? Нет!
– Quel dommage![7] – И, взяв руку Сю-Инь таким движением, будто намеревался поцеловать ее, алжирец раздавил горящую сигарету о тыльную сторону ее кисти.
Когда она поднялась в квартиру, Леонид намазал ожог бальзамом.
– Завтра, естественно, придется надеть перчатки.
– Не могу поверить, что это сделал Жан-Люк. Он казался мне таким милым! И вот…
– …И вот он показал свое истинное лицо. Но выбросьте его из головы. Он больше не появится. Завтра ваше последнее свидание. Можете не сомневаться, что Дьявол приготовила на этот день что-то исключительное.
– И кто же это будет?
– Не знаю. Меня никто не ставит в известность. Как обычно. Но встреча у вас назначена на семь часов в вестибюле. Будьте бдительны. Помните все, чему я вас учил. Не знаю, кто это будет, но он будет практически неотразим. Не поддайтесь его обаянию. Не забывайте, что ваша победа будет и моей. Мелкой, жалкой и нестоящей, но все же…
На следующий вечер – последний вечер ее пребывания в Аду – Сю-Инь, вернувшись с работы, увидела, что Леонид бледен и донельзя перепуган.
– Здесь была госпожа Важная птица, – сообщил он. – Заглянула без предупреждения и была в весьма дурном расположении духа. – Он кивнул в сторону спальни. – Приготовила там платье, которое вы должны будете надеть. – На кровати было разложено густо-алое шелковое платье. Длинный подол имел с одного бока разрез до бедра. Сю-Инь с первого взгляда поняла, что надевать белье с этим платьем не полагается. Шелк был текучим, как вода; стоило платье наверняка астрономическую сумму. И сидело платье на ней столь элегантно, что, надев его, Сю-Инь показалось, что она подросла дюйма на три.
В этом платье она казалась себе распутницей.
Довольно много времени потребовалось, чтобы правильно наложить косметику. Но когда Сю-Инь обулась в туфли на высоченных каблуках и вышла в гостиную, то поняла по восторгу Леонида, что дело того стоило.
– Я начинаю понимать, – сказал он, – что гетеросексуальные мужчины находят в таких, как вы.
Потом расчесал ей волосы, собрал их в прическу, сокрушенно прищелкивая языком по поводу каждой не идеально лежавшей прядки и непрерывно болтая.
– Сегодня будет непросто. У Дьявола много уловок. Не позволяйте себе расслабляться. Просчитывайте все на четыре хода вперед, а лучше на пять. Будьте осторожны с алкоголем. Никаких наркотиков. Ваше платье не позволяет спрятать оружие, но у вас оно все же есть – шпилька, которая держит ваши волосы: в крайнем случае ее можно использовать как стилет. Ею вполне можно убить, но я думаю, что этого вы постараетесь избежать, насколько возможно. Для этого придется испортить прическу. Неужели этот волос посекся? Не рассчитывайте на то, что, если будете энергично обниматься и целоваться, вам удастся вовремя остановить происходящее. Это старейший из существующих примеров самообмана. Помните, Ядовитая мисс будет следить за вами. Не делайте ничего такого, что могло бы порадовать ее.
В конце концов он все же отступил и произнес:
– Пожалуй, сойдет.
В углу комнаты возвышался огромный трельяж. Сю-Инь в оцепенении, на бесконечно долгую минуту, застыла перед ним. Потом медленно повернулась кругом, чтобы рассмотреть себя со всех сторон. Она была великолепна. Вот бы всегда выглядеть так! Она знала, что запомнит эти мгновения на всю жизнь.
А потом позвонил консьерж и сообщил о прибытии визитера. Сю-Инь ответила, что сейчас спустится.
– Будьте очень осторожны! – снова напомнил Леонид, когда она входила в лифт.
– Не беспокойтесь! – крикнула она в ответ. – Буду!
Когда двери уже закрывались, она услышала, как он добавил:
– Неизвестно, кого вам сейчас подставили, но известно наверняка, что устоять будет очень трудно.
Это оказался Рико.
Он был одет в бледно-голубой смокинг, взятый, как он признался, напрокат. Он принес с собой букетик, который неловко приколол к платью Сю-Инь.
– Как ты смог набрать денег на все это? – спросила Сю-Инь, когда лимузин тронулся с места.
– Копил весь год. Делов-то куча! Здесь все равно не на что тратить.
Они отправились в «Пещеру», клуб высшего разряда с мигающим освещением, неприятными картинами по стенам и живыми обнаженными танцовщицами, выступавшими в железных клетках, подвешенных к потолку. Каждая из них выглядела в сто раз сексуальнее, чем могла когда-либо стать Сю-Инь, но Рико лишь мельком взглянул на них. Все его внимание было приковано к Сю-Инь.
Когда они переступили порог зала, гремела зажигательная, отчаянная музыка, и клуб содрогался от яростных движений потных тел. Но когда они вышли на площадку, темп изменился, и им ничего не оставалось, кроме как медленно танцевать, прижимаясь друг к дружке.
– Ты учился! – воскликнула Сю-Инь. Естественно, Рико оставалось далеко до мастерства алжирца. Но в этот вечер он ни разу не наступил на ноги партнерше. И хоть она определенно чувствовала, что он возбудился – а чего еще ждать? Это платье закрывало все, ничего не скрывая, – он никоим образом не позволил этому возбуждению повлиять на свое поведение по отношению к ней.
– Знаешь, я не желаю сегодня повторить фиаско, случившееся в первый раз.
Танцующие по двое и по трое покидали площадку, и в конце концов они остались вдвоем посреди просторного зала, крепко прижавшись друг к дружке, под взглядами сотен завистливых глаз. Наверху женщины в своих клетках терлись о прутья решеток и стонали от желания. В баре журчало наливаемое спиртное, погромыхивали кубики льда. Оркестр играл медленные танцы, один за другим, пока Сю-Инь не почувствовала, что им необходимо передохнуть.
Когда Рико с усилием отвел взгляд от ее глаз, он с изумлением обнаружил, что, кроме них, в клубе никто не танцевал. Он проводил Сю-Инь к столу, где она заказала себе «лунный цветок» – коктейль из шампанского и бузинного ликера с чищеными ягодами личи, а Рико ограничился колой.
Как только они сели, музыка вновь стала бойкой, и народ хлынул на танцевальную площадку, сразу заполнив и переполнив ее.
– Значит, сегодня твой последний вечер здесь? – сказал Рико, когда подали напитки.
– Полагаю, что да.
– И что ты собираешься делать, когда вернешься?
– Я еще не думала об этом. Наверно, вернусь в школу. Все будет зависеть от желаний отца.
Тут-то Сю-Инь с изумлением поняла, что после года, на протяжении которого она могла делать все, что ей заблагорассудится, вернуться к роли почтительной дочери будет непросто. Она представляла себе, как Генерал будет благодарен ей за избавление от вечных мук. Но понимала, что это ни в малейшей степени не будет означать, что он станет позволять ей больше, чем раньше. И, уж конечно, он ни за что не разрешит ей посещать такие клубы, как этот. Генерал говорил, что ей не следует встречаться с мужчинами до тех пор, пока не поступит в колледж, да и это ограничение он ставил лишь потому, что не смог бы сам находиться в колледже, чтобы приглядывать за дочерью.
Неожиданно для себя Сю-Инь ощутила укол сожаления по свободе, которую утратит, вернувшись домой.
Она поднялась:
– Давай выйдем на улицу. Мне нужен свежий воздух. В смысле – не столь затхлый воздух.
Покинув клуб, они бесцельно брели куда-то по изрытым тротуарам, мимо испещренных уродливыми граффити домов с зашторенными окнами. Горело не больше половины фонарей. Когда Рико попытался обнять Сю-Инь за талию, она отстранилась. Нет, она вовсе не думала, что такая мелочь может оказаться сколько-нибудь опасной. Просто сейчас, когда игра почти подошла к концу, она не хотела оставлять ничего на волю случайностей.
Остановились они на набережной. Там, перед маслянистыми черными водами Ахерона, Рико заприметил брошенную магазинную тележку-корзину; они положили ее на бок и уселись, как на лавочку.
– Я буду скучать по тебе, – сказал он. – Но ведь твое появление здесь и так было своего рода чудом, верно? Ты не испытываешь презрения ко всем нам и не замечаешь, насколько мы все отвратительны. А я, даже просто находясь рядом с тобою, могу себе немножечко представить, что значит быть тобой. Это чудесно.
Сю-Инь не чувствовала в себе ни капельки великолепия. Но говорить об этом не стала. Она лишь легонько прислонилась к Рико, словно в награду за его силу духа, в надежде, что тепло ее тела даст ему хоть немного покоя.
– Давай не будем об этом. Лучше расскажи что-нибудь.
– Ладно. – Рико немного помолчал. – Я вырос в Балтиморе. Принято считать, что большие города оторваны от природы, но это неправда. Весной там летают бабочки, а осенью деревья становятся огненно-красными и золотыми. Зимой иногда бывают такие снегопады, что автомобильное движение прекращается. Улицы тогда укрыты чистейшим белым покрывалом, и тишина… тишина… нет, я не могу.
– Что?
– Не могу так поступить с тобой. Прости меня.
Рико поднялся и направился прочь; Сю-Инь пошла следом.
– О чем ты? – осторожно спросила она.
– Ко мне сегодня приходила Дьявол.
– О… – выдохнула Сю-Инь.
– Я никогда прежде не видел ее. Но ведь только она войдет, как сразу становится ясно, кто она такая, верно? Она сказала мне, что, если я смогу соблазнить тебя, она выпустит меня отсюда. Ты даже представить себе не можешь, что значит услышать такое. Она сказала, что мы уйдем из клуба и направимся сюда. И я должен буду рассказывать тебе о своем детстве, ну, всякую слезливую чушь. А потом перейти на то, что нужно. Но я этого не хочу. Нет, хочу, конечно. Но совсем не так.
Рико выглядел настолько подавленным, что Сю-Инь кинулась обнимать его, чтобы хоть немного успокоить. Он такой милый, думала она, совершенно невинный. Тут она сообразила, что перед нею имеется выбор. Она может освободить из Ада либо отца, либо Рико. И в том, и в другом случае ее будет мучить совесть за то, что она бросила одного из них. И в том, и в другом случае это будет эпическое достижение. Если же она выберет Рико…
– Ах ты, гад! Ах ты, подонок! – Сю-Инь оттолкнула Рико и со всей силы ударила его в грудь. – Это тоже часть сценария, да? – Все ее эмоции пришли в смятение. Она не знала, смеяться ей или блевать от отвращения. – Так вот, можешь идти…
– Дочка!
Сю-Инь резко обернулась и увидела нависавшего над нею, как грозовая туча, Генерала. При виде отца у нее защемило сердце, однако он был столь мрачен, что она невольно сделала шаг назад. Ей хотелось обнять его, но даже при жизни он в подобном настроении не допускал таких вольностей.
– Посмотрите-ка на себя, юная леди. Ночью, без сопровождения, с этим хулиганом… Используешь в разговоре дурные выражения. Одета, как проститутка! Живешь… живешь здесь. Или ты думаешь, что я планировал для тебя такое будущее?
– Я…
– Я оставил тебя отлично обеспеченной. И отправился сюда в наказание за поступки, которые делать не следовало. Так что дела обстоят не просто так, как сложились, но и как должно быть. – Генерал колебался перед взглядом Сю-Инь, как пламя свечи, ее глаза были полны слез. – Помолчи! Я сейчас скажу, что тебе следует делать, и ты без возражений все выполнишь. Ты меня поняла?
– Я… да.
– Мне приходилось оказываться в ситуациях, когда хорошего выбора просто нет. Остается лишь выторговать для себя наилучший из плохих вариантов. Переспи с этим молодым человеком, хотя он совершенно не подходит тебе. Потом возвращайся домой и никогда больше не совершай таких постыдных поступков. Подобное случалось со многими вполне порядочными женщинами. Даже твоей матери доводилось совершать поступки, о которых она потом горько сожалела. – Генерал повернулся к Рико. – Ты!
– Сэр?
– Возьми мою дочь за руку.
Он повиновался.
– Идите в ближайший жилой дом. В вестибюле будет чисто, и консьерж даст вам ключ от подходящей комнаты. Там сделаешь то, что необходимо. На столике будет лежать презерватив – воспользуйся им. А потом моя дочь вывезет тебя из Ада. А благодарность сможешь проявить тем, что никогда не будешь искать встречи с нею.
Рико кивнул, дескать, все понял, и повернулся в указанном направлении.
Но Сю-Инь не последовала за ним. Освободив руку, она обратилась к отцу:
– Откуда ты все это знаешь? О комнате, о столике, о презервативе?
– Не задавай дурацких вопросов и делай, что я тебе велел.
Сю-Инь захлестнул ледяной гнев.
– Вы, оба – заодно с Дьяволом. Может быть, Рико этого и не понимает, но ты-то наверняка знаешь, что делаешь. Хороший полицейский и плохой полицейский. Один злой, другой мягкий. – Тут лицо отца сделалось твердым, как гранит, а сам он стал похожим на отощавшее чудовище Франкенштейна. И как она могла не видеть этого прежде? – И это после всего, через что я прошла ради тебя!
Рико умоляюще потянулся к Сю-Инь. Но Генерал оттолкнул его. А потом – немыслимо! – он замахнулся, чтобы дать дочери пощечину.
Сю-Инь вскрикнула, отшатнулась и, прежде чем ладонь соприкоснулась с ее лицом, скинула туфли и бросилась бежать. Она со всех ног мчалась по улицам, босая – прочь от них обоих.
На четыре хода вперед – повторяла она про себя. Не позволяйте себе расслабляться. Черт с ним, с Рико, и, если уж на то пошло, черт с отцом! Она не позволит так легко обдурить себя.
В пентхаусе ее ждал Леонид.
– Ну, и?.. – не скрывая любопытства, спросил он.
Поднимаясь в лифте, Сю-Инь ощущала себя сгустком смешанных в равных дозах истерии и жалости к себе. Но теперь…
Охваченная дрожью, так и не веря в реальность происшедшего, она сказала:
– Я выдержала испытание.
Они откупорили «Кристалл» и, смеясь, пили шампанское бокал за бокалом. Леонид включил музыку, и они, не слишком твердо держась на ногах, танцевали танго. Потом они споткнулись о кушетку, шлепнулись на нее и почему-то принялись целоваться. Одежды вдруг стали мешать, а потом Леонид запустил руки ей под платье, а она принялась дергать его «молнию». Этого не следовало делать, и она знала это, да и она никогда не думала, что это может случиться у нее с Леонидом, и все же почему-то она не могла сдержать себя.
Прямо там, на кушетке, это случилось.
Оказалось – ничего особо замечательного.
Когда все кончилось, Леонид собрал свои разбросанные вещи, оделся и сказал:
– Уже почти полночь. Советую вам покинуть Ад до наступления утра.
Сю-Инь была совершенно потрясена.
– Вы… Это было спланировано? Вы целый год прикидывались моим другом, а сами все время знали, что вы… что вам… что так поступите?
– Хотите – верьте, хотите – нет, но я оказал вам большую услугу, – сказал Леонид. – Дьявол никогда не допустила бы вашего выигрыша. Если бы вы устояли передо мною, она устроила бы вам жестокое групповое изнасилование. Этого не случилось сразу же после вашего пари только потому, что она захотела проучить вас. Давайте посмотрим правде в глаза: у вас не было ни единого шанса. Дьявол любит игры. Но игры у нее всегда построены по ее желанию. – Он поправил галстук, кивнул и удалился.
Сю-Инь велели убраться из Ада, и она ничего не имела против. А вот как это сделать, не объяснили. И потому она направилась к Рико.
Когда она появилась в дверях его убогого жилища, он расцвел от радости, но тут же вновь помрачнел, узнав, зачем понадобился.
– Все равно – в какую сторону ни отправишься, так или иначе покинешь город. – Глубоко на дне его глаз читалась боль, но он ни словом не обмолвился о своих мыслях. – Можно просто идти и идти.
– Вот уж, черта лысого! Я проиграла пари. Я лишилась отца. Я потеряла год жизни. И не собираюсь оставаться здесь ни на одну минуту дольше, чем необходимо. Я хочу выбраться отсюда как можно скорее.
– Я тоже потерял все это, – пробормотал Рико, – и даже больше.
Сю-Инь сделала вид, будто не расслышала.
– Что ты сказал?
– Я сказал: ладно, я помогу тебе.
На темной улице, примыкавшей к кварталу клубов, Сю-Инь остановилась перед «Линкольном Континенталь». Ей понравился облик этого автомобиля. К тому же, для того, что она задумала, лучше подходила большая машина.
– Вот эта, – сказала она.
Чтобы забраться в «Линкольн» и завести мотор, соединив напрямую провода зажигания, Рико потребовалось лишь несколько секунд.
– Ну как? – спросил он. – Как говорится, мастерство не пропьешь.
– Открой, пожалуйста, багажник, ладно? Я хочу кое-что положить туда, – сказала Сю-Инь. Когда Рико выполнил ее просьбу, она сунулась было туда и тут же вскрикнула: – О нет, только не это! Я уронила брошку, единственное, что у меня осталось от покойной мамочки, и не могу дотянуться. Рико, ты высокий…
Рико по пояс влез в багажник и принялся шарить в темноте:
– Ничего не вижу.
– Она закатилась в самую глубину. Я слышала, как она стукнула. – Сю-Инь выждала, чтобы Рико сунулся подальше, и вдруг схватила его за лодыжки, напрягая все силы, оторвала от земли и толкнула в багажник. И поспешно захлопнула крышку.
– Эй! – донесся изнутри приглушенный голос.
Сю-Инь поспешила забраться на переднее сиденье. Не успела она закрыть дверь, как мимо нее мелькнул черный меховой комок.
– Не собираешься же ты уехать без меня? – поинтересовался Вельзевул, устраиваясь на пассажирском сиденье.
– Конечно, нет. – Сю-Инь нажала на газ и медленно тронулась с места, не обращая внимания на стук в багажнике. – Когда приедем домой, я вымою тебя, расчешу и специальным гребешком вычешу у тебя блох. А потом куплю тебе пинту сметаны.
– Пусть будет кварта виски, и заметано.
Сю-Инь переключила машину на вторую, а потом и на третью передачу. По пути она задела боком припаркованный вэн «Фольксваген» и, громко взвизгнув шинами, случайно промчалась на красный свет. К счастью, движения здесь в это время ночи почти не было.
– Ооо! – простонал Вельзевул. – Тебе кто-нибудь говорил, что ты худший водитель во всей вселенной?
– Ты первый. – Они уже подъезжали к границе города. Дальше лежала местность, которую Сю-Инь уверенно определила как Мидоулендс. Когда они оказались в Нью-Джерси, она до предела утопила акселератор, заставив две встречные машины съехать на обочину, чтобы избежать столкновения. Потом она вернула «Линкольн» на свою полосу и помчала по шоссе под качающейся в небе полной луной, умудряясь не выпускать машину полностью из-под контроля. На ходу она с удовольствием отметила, что Рико продолжает стучать и ругаться в багажнике. Судя по всему, помощи в угоне автомобиля хватило для того, чтобы вернуть его карму на положительную сторону шкалы. – В общем, все получилось не так уж плохо. В общем и целом.
Она лишилась отца, и вряд ли боль от этого когда-нибудь пройдет полностью. Но зато у нее теперь появился парень. Она не очень хорошо представляла себе, чем занимаются парочки, не считая танцев и секса. Но решила, что скоро разберется.
Сю-Инь опустила стекло в окне и впустила в машину восхитительную вонь болота и гниющего на свалке мусора, наслаждаясь жаркой летней ночью, ветром, взлохматившим ей волосы, и тем, как неоновые огни Ада медленно меркли в зеркале заднего вида.
Женщина, сотрясшая мировое древо
Она не была миловидным ребенком. С возрастом красоты у нее не прибавилось.
«Тебе нужно хорошо учиться, – частенько говорила со смехом ее мать, – потому что на смазливой мордашке тебе точно не выехать».
Может быть, по этой, а может быть, по какой-то другой причине отец не проявлял к ней сколько-нибудь заметной нежности. И потому Мариэлла Коуди с ранних лет направляла всю свою энергию внутрь, на умственную деятельность.
Ее родителям, а также и психиатрам, которых они приглашали, потребовалось некоторое время для того, чтобы установить, что ее частая мрачность, продолжительное молчание, пустые взгляды и высказывания невпопад являются симптомами отнюдь не умственного расстройства, а, напротив, блестящего ума. Семи лет от роду она изобрела, как выяснилось тремя годами позже, свою собственную, хотя и довольно примитивную, систему исчисления. «Мне хотелось выяснить, как рассчитать величину, определяемую сложнопрофильной кривой, – сообщила она озадаченному математику из местного университета, когда тот расшифровал ее символы, – а никто мне этого не хотел объяснить». Учитель поспешно довел ее до аспирантского уровня, после чего ребенок отказался от его услуг, так как он больше не мог ничего дать. Когда ей исполнилось одиннадцать, она после долгих и напряженных размышлений о том, что может случиться, если столкнутся две черные дыры, отправила рукописное письмо в «Заметки о прикладной физике», после чего состоялся очень продолжительный телефонный разговор с редактором журнала.
Довольно скоро после этого – ей еще оставалось несколько месяцев до двенадцати лет – какие-то чрезвычайно влиятельные люди из Стэнфорда предложили ей стипендию на весь срок обучения, комнату, питание и постоянный надзор со стороны женщины, специализирующейся на воспитании не по годам развитых юных девушек. К тому времени родители были только рады избавиться от ее, бесспорно, жутковатого присутствия.
В Стэнфорде она не обзавелась друзьями, но в остальном полностью преуспела. К шестнадцати годам она получила степень доктора философии. К восемнадцати – еще две: одну по математике, а вторую по прикладной детерминистике; эту научную дисциплину она изобрела сама. Институт перспективных исследований предложил ей должность, которую она заняла и которую за нею периодически подтверждали.
Так прошло двенадцать лет, на протяжении которых она не сделала ровно ничего, что было бы достойно внимания.
А потом, сразу после того как она прочла мало кого заинтересовавшую лекцию на тему «Предварительные соображения по поводу отрицания существования хронона», к ней в кабинет явился весьма представительный молодой человек, только что закончивший магистратуру, и сказал:
– Доктор Коуди, меня зовут Ричард Чжанг. Я хочу работать с вами.
– Почему?
– Потому что я слышал то, что вы говорили сегодня, и уверен, что ваши теории обязательно изменят наши представления обо всем на свете.
– Нет, – сказала она. – Я имела в виду: с какой стати я разрешу вам работать со мною?
Молодой человек улыбнулся с нахальной уверенностью удачливого, обласканного вундеркинда:
– Я один по-настоящему слушал то, что вы сегодня говорили. Вы выступали перед одной из самых подготовленных и непредвзятых аудиторий в мире, но она решительно отвергла ваши выводы. Экстравагантные теории требуют особо внушительных доказательств. Вам необходим подмастерье, который сможет организовать убедительный эксперимент и решить проблему раз и навсегда. Возможно, я не способен выдавать такие озарения, как вы, зато я могу разрабатывать их. Я волшебник в работе с лабораторным оборудованием. И я очень упорен.
В последнем Мариэлла Коуди весьма сомневалась. Ей пока не доводилось встречать ни одного человека, который обладал бы хоть долей той настойчивости, какой была наделена она. Как-то она услышала, что мало у кого хватает терпения рассматривать картину столько времени, сколько требуется на то, чтобы съесть яблоко, и доподлинно знала из собственного жизненного опыта, что очень мало кто способен обдумывать даже самое сложное уравнение более трех дней подряд и не устать от него.
Она молча разглядывала Чжана ровно столько времени, сколько требуется на то, чтобы не торопясь съесть яблоко. Сначала он склонил голову набок и немного растерянно улыбался. Но очень скоро сообразил, что это своего рода испытание, и замер неподвижно. Лишь моргал время от времени. Но больше никак не шевелился.
В конце концов Мариэлла спросила:
– Как вы предполагаете проверять мои идеи?
– Ну, во-первых… – Ричард Чжанг говорил очень долго.
– Так не получится, – сказала она, когда он умолк. – Но вы на верном пути.
На то, чтобы продумать эксперимент, отладить его программу и довести ее до рабочего состояния, потребовался год с лишним. Почти четырнадцать месяцев марафонских дискуссий в области физики и математики, дуэлей у грифельной доски и яростных бросков на побочные проблемы, которые, как вскоре выяснилось, не вели никуда, перемежаемых собственно экспериментами, которые проваливались самым душераздирающим образом, а результаты последующего анализа так или иначе выявляли фундаментальные ошибки в самой их концепции. Время от времени Ричард делал краткие сообщения об их работе, и, поскольку все вопросы он встречал весьма любезно и благосклонно, ни разу не ответил на неодобрительные замечания презрительным фырканьем, хохотом или продолжительным злобным взглядом, в кампусе стало складываться впечатление, что доктор Коуди находится на подходе к чему-то серьезному. На первый доклад пришло четверо слушателей. Во время последнего аудитория была забита битком.
В конце концов однажды ночью Ричард закрепил 500-милливаттный лазер на стальной столешнице лазерного стола с вибропоглощающими ножками, глубоко вздохнул и сказал:
– Что ж, полагаю, что все готово. Очки надели?
Мариэлла опустила на глаза светозащитные очки.
Ричард направил 532-нанометровый луч зеленого лазера через светоделитель на сдвоенную ячейку Покельса. Пучок, выходивший из одного торца, попадал прямо на мишень – лист белой бумаги, прилепленный к стене. Пучок из другого торца уходил в прорезь громоздкого самодельного прибора, установленного на дальнем конце стола. Там, где луч исчезал, Ричард установил маленькое зеркало, чтобы отражать луч на мишень поверх первого зеленого кружочка. Он подкручивал микрорегулировочные винты зеркала до тех пор, пока два кружочка не совместились, создав интерференционную картину.
Потом он щелкнул переключателем одной из ячеек, изменив напряжение подаваемого тока и повернув тем самым плоскость поляризации луча. Интерференционный узор исчез.
Он вернул рычажок в прежнее положение. Интерференционный узор восстановился.
Под конец Ричард соединил ячейки Покельса с рандомизатором, который должен был периодически менять напряжение, подаваемое на каждую из них, – но поскольку выход имелся только один, то и напряжение всегда должно было для обеих ячеек быть одинаковым. Включил рандомизатор. Его предназначение состояло в том, чтобы полностью исключить сознательное влияние человека на ход процесса.
– Заготовили какую-нибудь великую фразу, которая войдет в учебники истории? – спросил Ричард.
Мариэлла покачала головой:
– Запускайте.
Он включил механизм. Ничего не заскрежетало, не загудело. Реальность не исказилась. И молния, определенно, не сверкнула.
Они ждали.
Рандомизатор щелкнул. Один из наложенных друг на друга кружков на мишени исчез. Второй остался.
А потом первый появился снова. Два совмещенных круга создали единый интерференционный узор.
Ричард шумно выдохнул. Но Мариэлла легонько притронулась к его руке и сказала:
– Нет. Этот феномен можно объяснить множеством разных способов. Мы должны провести вторую половину эксперимента, и лишь потом можно будет праздновать.
Ричард порывисто кивнул и выключил лазер. Один кружок света исчез сразу же, а второй – немного погодя. Пальцы Ричарда пробежались по оборудованию. Потом он методично проверил каждую деталь, и не один, а три раза. Мариэлла ждала, сохраняя полную неподвижность. Это были его владения, не ее, и она никак не могла поторопить события. Но, насколько она себя помнила, она впервые испытывала нетерпение и стремление поскорее закончить дело.
Когда все было готово, лазер снова включился. Два зеленых пятна наложились одно на другое.
Ричард включил аппарат. Одно пятно на мгновение пропало, а потом снова появилось. (Ричард открыл рот. Мариэлла подняла палец, призывая его к молчанию.) Рандомизатор не издал ни звука.
Интерференционный узор исчез. Через три секунды рандомизатор щелкнул. И через три секунды после этого интерференционный узор появился вновь.
– Да! – Ричард сорвал очки, схватил Мариэллу за талию, поднял ее над головой и прокрутил на все триста шестьдесят градусов.
А потом он поцеловал ее.
Ей бы дать ему оплеуху. Ей бы потребовать, чтобы он прекратил. Ей бы подумать о своем положении и о том, что скажут люди. Ричард был шестью годами моложе ее и, что было куда важнее, настолько же красив, насколько она была некрасива. Из этого не могло выйти ровным счетом ничего хорошего. Ей бы подумать о своей гордости. А что она сделала? Сорвала с себя очки и ответила на поцелуй.
Когда они наконец оторвались друг от дружки, чтобы перевести дух, Мариэлла, более чем ошеломленная, наклонила голову назад и не без труда сумела сфокусировать зрение на лице Ричарда. Он улыбался ей. Его лицо пылало. Он был очень, очень красив. А потом Ричард произнес самые потрясающие слова, какие только ей доводилось слышать в жизни:
– О, боже, я так давно этого хотел.
Той ночью, после того как они пришли к Мариэлле домой и занимались тем, что, как она твердо знала, ей никогда не доведется делать, а потом взахлеб обсуждали между собой эксперимент и соглашались, что статью следует озаглавить «Отказ от концепции времени получил убедительное обоснование», и снова и снова повторяли этот цикл, и ее губы распухли от поцелуев, и Ричард в конце концов – несомненно, от изнеможения – уснул, обнаженный, рядом с нею… после всего этого Мариэлла крепко прижала к лицу подушку и беззвучно плакала в нее, потому что впервые в жизни она была полностью совершенно счастлива и потому что знала, что это продлится недолго и наутро Ричард опомнится и покинет ее навсегда.
Но наутро Ричард не ушел. Напротив, он пошарил в ее холодильнике, отыскал там все необходимое для яичницы по-мексикански и приготовил завтрак. Потом они отправились в лабораторию. Ричард фотографировал все маленьким цифровым аппаратом. («Это же история – потом наверняка захотят сохранить все точно в том же виде, в каком помещение находится сейчас»), а она тем временем набрасывала в желтом блокноте черновик статьи. Когда она закончила, он напомнил ей, что нужно поставить подпись, и сам расписался следом.
Мариэлла Коуди и Ричард М. Чжанг. Вместе во веки веков.
Следующие несколько недель Мариэлла и Ричард провели в блаженной чересполосице физики и романтики. Он покупал ей розы. Она исправляла его расчеты. Они оба рассылали препринты своей статьи – она тем, чье мнение считала достойным внимания, а он всем остальным. А простыни, как бы часто они их ни меняли, всегда были измятыми и пропитанными потом.
Однажды ночью вроде бы ни с того ни с сего Ричард сказал:
– Я люблю тебя, – и Мариэлла, не задумавшись ни на мгновение, ответила:
– Этого не может быть.
– Почему?
– У меня же есть зеркало. Я знаю, как выгляжу.
Ричард бережно взял ее лицо в ладони и серьезно всмотрелся в него.
– Ты некрасива, – сказал он – и в глубине ее души что-то оборвалось. – Но я даже рад этому. Когда я смотрю на твое лицо, у меня сердце поет от радости. Будь ты такой, как, – он назвал имя кинозвезды, – я никогда не мог бы быть уверенным, что это не случайная влюбленность. А так я знаю наверняка: я люблю именно тебя. Эту личность, это тело, этот несравненный ум. – Он улыбнулся той улыбкой, которую она так сильно любила. – Ч. и Т. Д. – что и требовалось доказать.
Этот рай завершился, когда однажды утром они наткнулись возле лаборатории Мариэллы на толпу телерепортеров.
– Что случилось? – спросила она, решив, что произошло ограбление или скончалась какая-то знаменитость.
Ей в лицо сунули микрофон.
– Вы и есть та женщина, которая уничтожила время?
– Что? Нет! Какая чушь.
– Вы видели сегодняшние газеты? – Перед нею помахали номером «Нью-Йорк таймс», но прочесть заголовки она не смогла, так как лист плясал в руках журналиста.
– Я не…
Ричард воздел обе руки и громко сказал:
– Джентльмены! Леди! Минуточку! Да, это доктор Мариэлла Коуди, а я ее помощник и соавтор статьи. Доктор Коуди совершенно права, утверждая, что она не уничтожила время. Такого явления, как время, попросту нет. Есть лишь накопление последствий.
– Вы сказали, что такого явления, как время, не существует. Значит ли это, что возможны путешествия в прошлое? Можно ли посетить Древний Рим? Поохотиться на динозавров?
Несколько репортеров расхохотались.
– Такого явления, как прошлое, не существует – только бесконечное, постоянно меняющееся настоящее.
– Что это должно означать? – спросил кто-то.
– Очень хороший вопрос. Но, боюсь, на него нельзя дать полноценный ответ без использования множества чрезвычайно сложных уравнений. Скажем для простоты, что прошлое никогда в действительности не прекращается, тогда как будущее существует лишь относительно текущего мгновения.
– Если времени не существует, то что же мы имеем?
– Стечение обстоятельств, – сказал Ричард. – Колоссальное количество стечений обстоятельств.
Это объяснение было упрощенным до смехотворности, даже до полной бессмысленности, но репортеры проглотили его. Объяснение Ричарда дало им иллюзию того, что они – будто бы вроде как – поняли, о чем шла речь, хотя истина состояла в том, что они не имели математической подготовки, достаточной для того, чтоб хотя бы извращенно истолковать то, о чем шла речь.
Когда поток вопросов у репортеров все же иссяк, и они, свернув оборудование, удалились, Мариэлла сердито осведомилась:
– И что это была за чертовщина?
– Связи с общественностью. Мы только что выбили подпорки из-под такой вещи, которая всем на свете кажется понятной и самоочевидной. Такое отнюдь не радует людей. Кое-кто может и возненавидеть нас за то, что мы сделали с их миром.
– Мир остался таким, каким и был. Изменится лишь наше понимание его.
– Скажи это Дарвину.
Такова была дурная сторона славы. Хорошая сторона означала деньги. Деньги неожиданно посыпались отовсюду. Денег хватало на все, за исключением того, чего Мариэлле хотелось больше всего, а хотелось ей остаться наедине с Ричардом, своими мыслями, грифельной доской и куском мела. Ричард приобрел кучу чрезвычайно дорогостоящего оборудования и отправился в турне с лекциями – «Кто-то должен этим заниматься, – бодро заявил он, – а ты, ясно, как божий день, не станешь», – разъяснять их открытие. Поэтому она по большей части пребывала в одиночестве.
Эти пустые пятна своей жизни она расходовала на размышления о существовании без времени. Она старалась не представлять себе его в обществе другой женщины.
Когда бы Ричард ни возвращался из поездок, у них случался пламенный праздник воссоединения, а потом Мариэлла делилась с ним своими предварительными, не до конца оформленными соображениями. Однажды вечером он спросил: «А как выглядит стечение обстоятельств?» – и у Мариэллы не оказалось ответа на этот вопрос. Ричард поспешно отменил все свои запланированные выступления, установил в своей лаборатории огромный резервуар для трехмерной визуализации и получил доступ к вычислительным мощностям нескольких «Крей-флексов». Лаборанты, имена которых она никак не могла толком запомнить, носились как угорелые, а Ричард организовывал, руководил и царствовал. Вдруг у него совсем не стало времени для нее. Вплоть до того дня, когда он привел ее и показал одну-единственную черную крупинку в мрачном голубовато-сером баке.
– Мы подцепили одно событие стечения обстоятельств! – гордо заявил он.
Месяцем позже крупинок стало три. Еще через неделю – тысяча. Их количество стремительно нарастало, и самая первая карта реальности обретала очертания: она сначала походила на торнадо с толстым извивающимся хоботом. Потом она выпустила конечности, некоторые из которых были по меньшей мере втрое толще, чем то, что Ричард обозвал Главной последовательностью. Они изгибались петлями внутрь или наружу, что, кажется, не имело значения, от них росли конечности поменьше, хотя, пожалуй, лучше бы назвать их щупальцами, сплетавшиеся между собой, и порой истаивали в ничто или же, напротив, срастались и образовывали могучий хобот.
Ричард назвал то, что получилось, Чудовищем. Мариэлла же не видела тут ничего чудовищного. Образование имело почти естественный облик фигуры, построенной по определенной фрактальной формуле. Оно элегантно изгибалось и перетекало, как ветви, замерзшие прямо во время танца на ветру. Оно было таким, какое оно есть – оно было красивым.
Оно походило на дерево. Дерево, корни и крона которого терялись вдали. Дерево настолько большое, что накрывало собой всю вселенную.
Естественно, его фотографии просочились за пределы лаборатории. Их делали лаборанты, делились ими со своими друзьями, а те выкладывали в Интернет. Что привело к повторному нашествию прессы, с которым на сей раз не удалось разделаться так просто, ибо они прослышали о романе Ричарда и Мариэллы. Разница в возрасте и внешности, на которые никто не обратил бы внимания, будь она мужчиной, а он женщиной, пришлась как нельзя лучше для желтой прессы – достаточно двусмысленной для того, чтобы прозвучать скандально, достаточно романтичной для того, чтобы быть трогательной; в общем, над их отношениями легко было измываться, как заблагорассудится. Одна из газет слепила «Фотошопом» две фотографии и поместила их под большой шапкой «Красота и чудовище». Но понять, какой эпитет отнесен к какой из фотографий, было невозможно. А другая устроила такое, что даже Мариэлла сочла несправедливым: наложила ее портрет на карту реальности и подписала: «Найдите чудовище».
Она сама изумилась тому, насколько больно все это ее задевало.
На сей раз Ричард не проявил такого благодушия, как прежде.
– Вы, сволочи, переступили черту, – сказал он одному из репортеров. – Так что, нет, я не буду объяснять ничего ни вам, ни кому-либо еще из вашего безмозглого племени. Если хотите понять нашу работу – идите в школу и проучитесь еще восемь лет. Если у вас хватит на это мозгов. – Он в ярости удалился в лабораторию, как кто-нибудь другой отправился бы в бар, чтобы напиться, и несколько часов рассматривал Чудовище.
Потом он разыскал Мариэллу и задал такой вопрос:
– Если в пространстве Минковского время однонаправленно, а времени не существует, то что же остается? – Чем инициировал бессонную ночь, исполненную экстаза без всякого секса. После которой он забросил проект картирования, оставив его своим аспирантам. Он организовал сразу две новые лаборатории – как именно он сделал это, Мариэлла так и не поняла; впрочем, она так мало соображала в практических вопросах, что даже не имела водительских прав, – и начал готовить другой эксперимент. Половина нового оборудования ушла в одну лабораторию, которой он дал название «Праща», а остальное – во вторую, расположенную на противоположной стороне кампуса и получившей название «Мишень».
– Если получится, – сказал он, – изменится все. Люди смогут путешествовать туда и обратно по всем закоулкам вселенной.
– Если только в точке прибытия будет оборудование, чтобы принимать их.
– Да, конечно.
– И еще при том условии, что оно попросту не взорвется ко всем чертям. У меня существуют большие подозрения насчет градиента энергии между двумя твоими точками.
Он снова улыбнулся – улыбкой человека, точно знающего, что никаких неполадок быть не может и что все должно с неизбежностью сработать как надо.
– На этот счет не беспокойся, – сказал Ричард. – Как-никак ты ведущий соавтор. Я не стану ничего делать, пока ты не убедишь меня в полнейшей безопасности.
На следующий день весь кампус содрогнулся от сильного взрыва. Мариэлла выскочила на улицу и увидела, что народ выбегает из всех зданий. Над крышами поднимался густой клуб черного дыма.
Поднимался как раз от «Мишени».
Ричард сказал ей, что проведет там весь день.
Как-то так получилось, что Мариэлла ринулась туда бегом. Как-то так получилось, что она оказалась там. Вместо здания громоздилась куча щебня. Немногочисленные крупные обломки пылали. И пахло горелым мусором.
Чья-то рука прикоснулась к ее локтю. Это оказалась д-р Инглехофф. Лаура.
– Ричарда наверняка там не было, – сказала она. – Я уверена, что с ним все в порядке. – Ее лицо выражало гротескно преувеличенное сочувствие.
Мариэлла недоуменно уставилась на утешительницу.
– А где еще он мог быть? В это время дня! С какой стати он мог оказаться где-нибудь еще?
Потом люди, которых она никогда не воспринимала не то что как друзей, но и как близких коллег, увели ее прочь. Она оказалась в какой-то комнате. Там же оказалась медсестра, сделавшая ей укол. Кто-то произнес:
– Сон – лучший доктор.
Мариэлла заснула.
Когда она проснулась и Ричарда не оказалось рядом с нею, она поняла, что ее роман окончен. Кто-то сообщил ей, что взрыв оказался настолько мощным, что пока не удалось найти ничего, что можно было бы с ходу определить как человеческие останки. Этот же самый кто-то сказал, что никогда не следует терять надежды. Но это была чушь. Живой Ричард находился бы рядом с нею. Его тут не было, следовательно, он был мертв.
Ч., как он сказал бы, Т. Д.
Следующая неделя была наихудшим периодом ее жизни. Мариэлла практически лишилась сна. Иногда она отключалась и, придя в себя через десять, а то и четырнадцать часов, обнаруживала, что жарит яичницу или разбирает свои записи. Но вряд ли это можно было назвать сном. Каким-то образом она потребляла пищу. Судя по всему, ее тело хотело жить дальше, хотя ей самой этого совершенно не хотелось.
Она продолжала думать о Ричарде, потерянном для нее, уносимом все дальше и дальше в прошлое.
Но прошлого, конечно, не существовало. Значит, его не было и там.
Однажды ночью она обнаружила, что в три часа ночи, повинуясь трудноуловимому импульсу, полностью одетая, быстро идет по кампусу. Шла она совершенно определенно в лабораторию Ричарда – ту, что уцелела, «Пращу». Здание – темное и пустое – уже возвышалось перед нею.
Когда она повернула рубильник, разом ожили целые горы электронных приборов. Первый эксперимент Ричарда можно было бы провести на кухонном столе. Это оборудование выглядело как декорации к опере Вагнера. Просто поразительно, насколько сильно деньги могут усложнить даже простейшую демонстрацию доказательств.
Мариэлла принялась щелкать выключателями, возвращая зверя к жизни. Приборы жужжали и похрипывали. На плоских экранах высветились и заколебались в мимолетных искажениях тестовые рисунки. Что-то пощелкивало и искрило, наполняя воздух запахом озона.
Это были не ее владения. Но поскольку они принадлежали Ричарду и поскольку он хотел, чтобы она разбиралась в том, что здесь происходит, она знала, что делать.
В конце концов, такой вещи, как время, не существовало. Только накопление последствий.
Но прежде всего здесь нужно было много чего сделать. Все записи Ричарда находились в обшарпанном старом ноутбуке, лежавшем поверх стопки справочников на его письменном столе. Она собрала файлы вместе и приложила весь архив к письму, состоявшему из одной простой фразы: «Это поможет вам понять, что случилось». Она отправила его всем абонентам из адресной книги. Наверняка хоть у кого-то из них хватит мозгов, чтобы оценить по заслугам то, что он сделал. Ее собственные записи находились в полной безопасности в ее кабинете. У нее не было сомнений в том, что после того, что ей предстояло сделать, их будут тщательно изучать.
Можно было приступать к эксперименту. Ей оставалось лишь соединить несколько проводов, а потом пройти через устройство, необъяснимым образом получившееся похожим на кованую железную перголу, какую можно ожидать увидеть в саду, оформленном в викторианском стиле. Очень возможно, именно ею оно и было; Ричард никогда не думал о поисках «правильного» оборудования, если можно было обойтись подручными материалами.
Мариэлла соединила провода. Потом она трижды проверила все контакты – не потому, что это было нужно, а потому, что именно так повел бы себя Ричард.
Зато на проверку настроек она не стала тратить время. Аппаратура могла быть настроена лишь на одно-единственное событие стечения обстоятельств. И она заранее знала, что все сработает.
Она прошла сквозь перголу.
В это безвременное мгновение перехода Мариэлла поняла, что Ричард, на свой лад, обладал гением, сравнимым с ее собственным. (Неужели она действительно недооценивала его все это время? Да, так оно и было.) Перенесясь одним шагом на противоположную сторону кампуса, она почувствовала волну невесть каких энергий, прокатившуюся через ее тело и мозг – она определенно почувствовала ее в мозгу! – и точно знала, что она испытала ощущение, какого не испытывало пока ни одно человеческое существо.
Воздух перед нею заколебался, и Мариэлла оказалась на месте. Живой Ричард стоял спиной к ней и возился с потенциометром. Во второй раз в жизни она была полностью, совершенно счастлива.
С ее губ невольно сорвалось:
– Ричард.
Он обернулся, увидел ее и, за мгновение до того, как перепад сил в градиенте стечения обстоятельств выровнялся, уничтожив одновременно обе лаборатории, разделенные одной шестнадцатой долей мили и восемью сутками, и обратив в ничто двоих любовников, на лице Ричарда расцвела неподдельная, радостная улыбка.
Гоблинское озеро
В 1646 году, незадолго до окончания Тридцатилетней войны, отряд гессенских драгунов, уносивших ноги после разгрома на севере, когда во время сражения бестолково исполненный фланговый маневр всего за час превратил верную победу в позорное бегство, встал на бивак у подножия того, что местный крестьянин, которого они захватили в плен и заставили быть проводником, называл самыми высокими горами во всей германской области Шпессарт. Среди драгунов имелся молодой офицер по имени Иоганн фон Гриммельсгаузен, забияка и записной враль, одним из славнейших подвигов которого стала буйная гулянка в обществе английских наемников, случившаяся несколькими годами раньше, за что его стали звать на английский манер Джеком, хотя чаще именовали попросту Гансом.
Поскольку до мест, где шли бои, было далеко и местность не была затронута военными действиями, отряд по пути набрал много разнообразной провизии, а также несколько бочонков рейнского вина. Поэтому ночью воины славно ели и пили. Когда с едой было покончено, они призвали проводника, чтобы тот рассказал им о той местности, в которую их занесло. Он же, сообразив в конце концов, что гессенцы не собираются прикончить его, когда он станет не нужен (и, возможно, думая втайне о том, что, усыпив их бдительность своей услужливостью, он сумеет ускользнуть под покровом темноты, когда все уснут), с готовностью выполнял их требования.
– Прямо перед нами, и четверти мили не будет, находится Муммельзее, – на местном диалекте это означало Гоблинское озеро. – У него нет дна, и оно имеет особое свойство: что туда, в воду то есть, ни опустишь, оно превратится во что-нибудь другое. Ну, к примеру, ежели кто завяжет в платок несколько камешков и опустит их в воду на веревке, то вынет он или бобы, или рубины, или гадючьи яйца. Больше скажу, ежели камешков будет четное число, то и вынешь четное, а если нечетное – то все равно четное.
– Вот где жить-то хорошо! – заметил Ганс. – Сиди себе на бережку и делай из гальки рубины.
– Так ведь не угадаешь, что выйдет, – возразил крестьянин. – И могут получиться не драгоценные камни, а что-нибудь совсем другое.
– Даже если такое получится один раз из ста… Что ж, ради этого я готов сидеть на берегу много дней подряд.
Теперь уже несколько кавалеристов внимательно слушали, подавшись вперед. Даже те, кто держался поодаль и как будто не интересовался рассказом, прервали разговоры, чтобы не пропустить чего-нибудь важного. И крестьянин, слишком поздно понявший, насколько заинтриговал солдат, поспешно сказал:
– Но там очень опасно! Это ж то самое озеро, о котором Лютер говорил, что оно проклято, и если туда камень бросить, сразу начнется страшная буря с градом, молниями, громом и страшным ветром, потому что там, в глубине, сидит на цепи сам дьявол.
– Нет, дьявол сидит в Полтерсберге, – небрежно бросил Ганс.
– Полстерберг? – Крестьянин сплюнул. – Да что в тех местах знают об ужасе? Тут, поблизости, крестьянин один жил, так у него лучшая плужная лошадь ногу сломала, и он ее зарезал. Тут его любопытство обуяло; он притащил труп к озеру и бросил туда. Коняга, конечно, ко дну пошла, но тут же всплыла – живая, но изменившаяся страшно: изо рта торчали зубья, что твои ножи, вместо четырех ног стало две, зато появились крылья, как у громадной летучей мыши. Чудище завизжало, как от страшной муки, и улетело в ночь, неведомо куда.
А что хуже всего, когда труп упал в воду, он водой плеснул, она попала крестьянину в лицо и начисто ему глаза выжгла, так что он тут же ослеп.
– Откуда же он узнал, во что превратилась его лошадь? – с ехидной улыбочкой спросил Ганс.
Крестьянин открыл было рот, тут же снова закрыл и, помолчав немного, продолжил:
– А еще, говорят, были там два головореза; они принесли труп женщины, которую…
– Зачем нам слушать твои побасенки, если мы можем пойти и увидеть все своими глазами?
Раздался одобрительный ропот, и после недолгих уговоров, подкрепленных острием ножа, крестьянин-пленник повел отряд дальше.
До Муммельзее пришлось добираться по сильно пересеченной местности без всяких дорог, и поэтому настроение солдат за время перехода заметно ухудшилось (чего и следовало ожидать). Да еще их недовольство было направлено в равной степени и на мошенника-проводника, и на Ганса, потому что когда они немного поразмыслили, то решили, что он затеял эту прогулку не потому, что верил, будто здесь можно разбогатеть – с какой стати опытный вояка мог бы поверить в такое? – а просто из-за своей извечной любви к пакостям.
Ганс, не замечая их настроения, сразу направился к краю полуразрушенного каменного причала. В фуражке он нес пару горстей спелых вишен, которые он ел одну за другой и сплевывал косточки в воду.
– А это еще что такое? – спросил он, развязно ткнув пальцем в сторону наполовину ушедшего в воду и покосившегося на один бок большого камня почти прямоугольных очертаний. Он был отлично виден в свете висевшей в безоблачном небе полной луны, от которой даже глубокой ночью было светло, как днем.
– Еще когда мой дед был молод, – сказал крестьянин с такой готовностью, будто стремился восстановить добрую репутацию, – герцог Вюртембергский приказал сделать плот, спустить его в воду и измерить глубину озера. Но когда свинцовое грузило утащило в воду восемь соединенных мерных канатов, но так и не достало дна, так вот, тогда плот, против всех свойств дерева, начал тонуть. Все перепугались до смерти и кинулись спасаться на берег. Выбраться на берег сухим не удалось никому, и, говорят, к старости все, кто был тогда на плоту, жестоко страдали от тяжких болезней.
– Значит, говоришь, это плот?
– Если присмотритесь, то даже увидите вырезанный на многих бревнах герб Вюртемберга. Конечно, подстерлось, но видно еще хорошо. – Крестьянин выразительно указал на какие-то чуть заметные узоры, которые доверчивый человек и впрямь мог бы счесть гербом.
Ганс со злобным видом обернулся к нему:
– Ах ты, негодяй! Я глаз не сводил с вишневых косточек, пока они тонули в воде, и с ними не происходило ровным счетом ничего! Из одной не получилось двух, две не превратились в семнадцать, и ни одна из них – ни одна! – не изъявила ни малейшего желания превратиться в рубин, или изумруд, или гадюку, или быка, или хотя бы рыбину.
Крестьянин принялся невнятно оправдываться и бочком, бочком, попытался обогнуть Ганса и выбраться с отходившего от берега причала. Ганс, в свою очередь, был категорически настроен не допустить этого. Так что получилась настоящая игра в кошки-мышки, где в роли мыши выступал крестьянин, а в роли целой своры кошек – кавалеристы. И, хотя численное преимущество было целиком и полностью на одной стороне, то на другой – хитрость и решимость отчаяния.
В конце концов Ганс совершил бросок, пытаясь ухватить крестьянина, и в то самое мгновение, когда жертва в очередной раз увернулась от его широко расставленных рук, обнаружил, что его же собственные товарищи с громким смехом подхватили его самого и швырнули в Муммельзее.
Ганс захлебываясь уходил все глубже и глубже. Вода была прозрачна, как хрусталь, и все же из-за неимоверной глубины казалась внизу черной, как уголь. Он был настолько разъярен подлой шуткой своих товарищей, что даже не заметил, как перестал захлебываться. А когда заметил, не успел удивиться тому, как изменились его ощущения, ибо его внимание отвлекло движение в глубине озера. Вдали мельтешили какие-то существа, очень похожие на лягушек, но по мере того, как он приближался к ним, они обретали все больше и больше сходства с людьми, не считая разве что того, что кожа у них была зеленой, а изящные развевающиеся одежды определенно были вытканы из водорослей и других подводных трав.
Все больше и больше этих водяных духов поднималось из глубины; они двигались, как ныряющие птицы, и вскоре окружили Ганса. Сильфы жестами и мимикой объясняли, что ему следует продолжать погружение, и было их столько, что Гансу оставалось лишь повиноваться.
И вот они, кружась, подобные стае птиц, спустившихся с небес и носящихся над самой землей, препроводили его в самые глубины Муммельзее.
Когда Ганс наконец легко коснулся дна одной ногой, взметнув небольшой клуб ила, а затем и второй, подняв второе облачко мути, он обнаружил, что его дожидается сильф или никс (он, увы, никогда не уделял внимания изучению таксономии озерных духов), облаченный в одеяния, сияющие золотом и серебром, и решил, исходя из этих примет, что перед ним не иначе как король Муммельзее.
– Добрый день, Ганс, – сказал король. – Полагаю, ты пребываешь в добром здравии?
– Господь бережет нас от бед и невзгод, дружище! – воскликнул Ганс. – Но откуда вы могли узнать мое имя?
– Что до этого, мой друг, то я читал о твоих приключениях примерно тогда же, когда и те подлецы, что прикидывались твоими друзьями, а сами бросили тебя в озеро. – Эспаньолка и усы короля плавно колебались в воде, и Ганс непроизвольно схватился обеими руками за горло, осознав вдруг, что дышит веществом, к которому смертные не приспособлены. Но тут король рассмеялся, и его смех был столь естественным и добродушным, что Ганс сам не заметил, как тоже засмеялся. Осознав же, что человек, способный смеяться, не может быть мертвым, равно как и не может испытывать трудностей с дыханием, он тут же отбросил свои страхи.
– Что это за место, – спросил Ганс, – и что за народ здесь живет?
– Ну, как говорится, что наверху, что внизу – все едино. У нас тут и крестьяне с хозяйствами, и города, и церкви, правда, бог, которого мы чтим, носит не то же имя, что ваш. Манник и аир собираем, чтобы крыть крыши. Поля пашем плугами, в которые запрягаем морских лошадей, а молоко получаем от морских коров, которых держим в хлевах. Рыбы-кошки ловят рыб-мышей, водяные гномы роют шахты в иле и добывают ракушки и драгоценные камни. Девушки наши покрыты чешуей, но они не менее прекрасны и не более скользки, чем в вашем, надводном мире.
Так, с разговором, король Муммельзее вел Ганса по живописной дороге к месту назначения, которого он пока не мог опознать, а все никсы, препровождавшие Ганса вниз, тянулись позади нестройной процессией, болтали между собой и смеялись, и порхали с одной стороны дороги на другую, и больше всего походили на большой косяк плотвы или еще какой-то рыбы. Они плыли над извилистой дорогой, потом преодолели лесок гигантских водорослей, за которым внезапно открылся вид на сияющий белый город.
Подводная столица поистине ошеломляла чудесами. Стены домов были настолько белы, что прямо-таки светились, поскольку, как объяснил король, они были оштукатурены растертым в пыль жемчугом. Пусть улицы и не были вымощены драгоценными камнями, зато из этих камней были выложены многочисленные фрески на стенах, изображавшие не эпизоды битв, а играющих детей или целомудренно общающихся влюбленных. Архитектура являла собой счастливое единение мавританского и азиатского стилей, где гармонически сочетались минареты и пагоды, а входы в домах имелись как на нижних этажах, так и на самых верхних. От внимания Ганса не укрылось отсутствие замков на дверях и стражников у входа во дворец – и всем увиденным им чудеса отнюдь не исчерпывались.
Величайшим из всех чудес, по мнению Ганса, оказалась юная сильфида Посейдония, королевская дочь, вышедшая приветствовать вернувшегося в город отца. В тот же миг, как перед его взглядом предстала ее безупречная изящная фигурка, Ганс решил, что должен непременно завоевать ее. Эта задача оказалась не такой уж трудной, поскольку он был хорошо сложенным мужчиной с прямой солдатской осанкой, а его неприкрытое восхищение заставило девушку радостно зардеться, но протеста не вызвало. Более того, водные жители были язычниками, их не связывали христианские нормы морали, и поэтому взаимная симпатия молодых людей быстро нашла физическое воплощение.
Время шло. Может быть, дни, а может, и месяцы.
Однажды, лежа в постели принцессы, на измятых простынях среди разбросанных подушек, заливаемых падавшим из окон спальни зеленовато-голубым светом полуденного прилива, Ганс откашлялся и нерешительно произнес:
– Не могла бы ты кое-что мне объяснить, о моя безмерно возлюбленная?
– Все что угодно, – ответствовала пылкая юная сильфида.
– Меня непрерывно занимает одна мысль; может быть, это совершенная мелочь, но она роится и копошится в самой глубине моего сознания, и я, как ни стараюсь, не могу от нее избавиться. Когда я только прибыл в эти достохвальные и изобильные земли, твой отец сказал, что читал о моих приключениях. Но каким чудом? В какой невообразимой книге?
– Ну как же? В этой, мой обожаемый проходимец. (Едва ли не самым привлекательным свойством сильфиды было то, что она любила Ганса именно таким, каким он был, ни на гран не заблуждаясь насчет его характера.) В какой еще книге может быть об этом написано?
Ганс обвел взглядом комнату.
– Я не вижу никакой книги.
– Ну, конечно же, глупый. Будь она здесь, как бы ты мог в ней оказаться?
– Не могу сказать, о отрада моих очей, ибо не вижу в твоем ответе совершенно никакого смысла.
– Поверь, что он прочел о тебе в этой книге и ты никогда не покидал ее.
Тут Ганс почувствовал, что в нем закипает гнев.
– Ты говоришь: в этой? В которой? Дьявол меня побери, если я хоть что-то понял из твоего ответа!
Тут смех в горле Посейдонии стих, и она воскликнула:
– Бедняжка! Ты и впрямь ничего не понимаешь, да?
– Неужели ты думаешь, что стал бы умолять тебя о прямом и ясном ответе, если бы что-то понимал?
Она посмотрела на него с печальной полуулыбкой и сказала после продолжительной паузы:
– Пожалуй, пора тебе поговорить с моим отцом.
– Неужели моей ласковой юной дочурке не хватает энергии, чтобы доставить тебе должное удовольствие? – осведомился король Муммельзее.
– Хватает, и даже более того, – ответил Ганс, давно привыкший к ошеломляющей прямоте речей сильфов.
– В таком случае довольствуйся ею и тем беззаботным существованием, которое ведешь, и не стремись выйти за пределы этих извечно благодатных страниц.
– Теперь и вы заговорили загадками! Величество, от этих штучек я уже начинаю сходить с ума. Умоляю вас, объясните мне все просто и понятно, как говорили бы с ребенком.
Король вздохнул:
– Ты знаешь, что такое книги?
– Конечно.
– Когда ты в последний раз читал какую-нибудь?
– Ну, я…
– Совершенно верно. А кто-нибудь из твоих знакомых?
– Я пребывал в обществе грубых вояк, которых можно было бы заманить в библиотеку только тем, что там имеется много растопки для костров, так что в том, что они не читали книг, нет ничего удивительного.
– Ты наверняка читал книги в юности. Можешь рассказать, о чем была хоть одна из них?
Ганс промолчал.
– Вот видишь? Действующие лица книг не читают книг. О да, они с шумом захлопывают их, когда кто-нибудь входит в комнату, или отбрасывают их в сторону, раздраженные чушью, которая там написана, или закрывают лицо книгой, которую якобы штудируют, пока кто-то пытается внушить им что-то такое, что их не устраивает. Но они не читают их. Иначе пошла бы сплошная рекурсия и каждая книга стала бы практически бесконечной, поэтому каждую из них нужно завершать без чтения тех книг, которые в ней упомянуты. Этим методом можно безошибочно установить, на которой стороне страницы ты лжешь – читал ли ты книгу в этом году? – Король вскинул бровь и умолк, ожидая ответа.
Ганс долго молчал и в конце концов сказал:
– Нет. Не читал.
– О том и речь.
– Но… как такое может быть? Каким образом мы?..
– Представить это проще всего на свете, – ответил король. – Я, например, обитаю в XI–XVII главах пятой книги некоего произведения под названием «Симплициссимус». Уверяю тебя, что это хорошая жизнь. Так что из того, что стены моего дворца тонки, как бумага, окна попросту нарисованы пером, а все мои действия не что иное, как прихоть автора? Я не могу ни стареть, ни умереть, и когда ты, сделав перерыв в романтической гимнастике, которой предашься в обществе моей дочери, наносишь мне визит, болтовня с тобой всегда развлекает меня.
Ганс мрачно уставился в окно, закрытое тонким, до полной прозрачности безукоризненно отполированным слоем перламутра.
– Нелегко, – сказал он, – поверить, что кого-то из твоих знакомых на самом деле не существует. – И продолжил после долгой паузы: – Но ведь в этом нет никакого смысла. Особенно если учесть, что нынешнее окружение мое и жизнь моя такие, что лучше не бывает. И все же я на войне навидался такого… Об этом даже думать тяжко. И уж совершенно непонятно, кто мог создать такой мир, как наш? Кого могут забавлять такие мерзости и жестокости, в которых, позвольте вас уверить, довелось поучаствовать и мне?
– Сударь, – ответил король. – Я не творец, но и творец, как я подозреваю, не пользуется особым уважением в его немыслимо огромном мире. Он может попасться тебе на улице, и ты не заметишь его. Очень может быть, что в беседе он не произвел бы на тебя благоприятного впечатления. В таком случае стоит ли ожидать от него большего, нежели он – а может быть, она – может с известным основанием ожидать от своего куда более могущественного Создателя?
– Вы хотите сказать, что мир нашего творца ничуть не лучше нашего мира?
– Не исключено, что даже хуже. По его трудам можно составить обоснованные представления о том мире, в котором он живет. Наше зодчество прихотливо и романтично. Следовательно, его архитектура скорее всего будет унылой и однообразной – наверно, серые бетонные плоскости, и все окна походят на другие, как близнецы, – иначе он вряд ли стал бы выдумывать для нашего мира такие очаровательные подробности.
– В таком случае раз наш мир так груб и жесток, то его должен быть воплощением мира и добронравия?
– Я бы сказал, что наш мир исполнен земной энергичности, тогда как его должен быть погружен в привычное лицемерие.
Ганс медленно покачал головой:
– Как получилось, что вы так хорошо осведомлены о мире, в котором мы живем, а я знаю так мало?
– Существуют два типа персонажей, сынок. Такие, как ты, прыгают из окон, держа в руках штаны, изображают из себя иноземных сановников, дабы обвести вокруг пальца жестокосердных епископов, в темном переулке попадают в засаду негодяев, вооруженных ножами, а придя домой раньше времени, обнаруживают свою новобрачную жену в постели с мужем любовницы.
– Если бы я вел дневник, можно было бы подумать, что вы его читали, – восхищенно сказал Ганс.
– Это потому, что ты принадлежишь к числу активных персонажей, главная задача которых – обеспечивать развитие сюжета. Я же из числа рефлексирующих персонажей, нужных для того, чтобы много говорить и таким образом раскрывать внутреннее содержание авторского повествования. Но я вижу, ты растерялся; давай-ка ненадолго покинем мою историю.
И легко и непринужденно, как будто перевернулась страница, Ганс оказался в прекрасном саду, залитом золотистым светом предвечернего солнца. Он стоял, а король Муммельзее восседал в кресле, походившем, несмотря на строгую простоту, на трон – такой трон, который мог бы завести для себя король-философ.
– Это ты очень верно подметил, – сказал король, отвечая на невысказанную мысль Ганса. – Не исключено, что при определенной поддержке ты и сам еще сможешь превратиться в рефлексирующего героя.
– Где мы находимся?
– Это сад моего дорогого друга доктора Вандермаста в Зайяне, где вечно послеполуденное время. Здесь мы провели с ним множество продолжительных дискуссий об энтелехии, и эпистемологии, и других малозначащих и эфемерных пустяках. Добрый доктор на время отлучился отсюда, так что мы можем поговорить наедине. Сам он проживает в книге, именуемой… впрочем, какая разница? Это одно из тех волшебных мест, где мы можем без волнения обсуждать природу мира. Более того, его, места, собственная природа такова, что мы вряд ли даже при желании смогли бы заняться здесь чем-нибудь другим.
Перед Гансом вдруг появилась колибри – возникла и повисла в воздухе, как стремительный оперенный драгоценный камень. Он протянул палец, и птичка зависла над ним так близко, что он ощущал кожей легкое шевеление ветерка, поднятого ее стремительно машущими крылышками.
– Что это за чудо? – спросил он.
– Это всего лишь моя дочь. Хоть ей и не положено участвовать в этой сцене, она все же заслужила право выразить свои желания – таким вот образным способом. Благодарю тебя, моя дорогая, теперь ты можешь удалиться. – Король хлопнул в ладоши, и колибри исчезла. – Если ты покинешь наше нынешнее королевство, она будет безутешна. Но, несомненно, вскоре появится другой герой, и Посейдония, будучи вымышленным персонажем, не выносит уроков из прежнего опыта и при этом не способна озлобиться на весь мужской пол как на своих обидчиков. Она встретит его столь же чистосердечно и радостно, как и тебя.
Ганс ощутил вполне объяснимый укол ревности. Но отбросил ее прочь.
– Скажите, сударь мой, это всего лишь ученая беседа? – спросил он, возвращаясь к прежней теме разговора. – Или тут имеется какая-то практическая сторона?
– Сад доктора Вандермаста – место совершенно необычное. Уверен, что, если бы ты пожелал покинуть наш мир, это легко можно было бы устроить.
– Но смог бы я потом вернуться?
– Увы, нет, – с печальным вздохом ответил король. – Одного чуда вполне достаточно для любой жизни. И добавлю, что, откровенно говоря, даже больше, чем мы оба заслужили.
Ганс подобрал с земли палку и несколько раз прошелся взад-вперед вдоль клумб, сшибая на ходу головки самых высоких цветов.
– Получается, что я должен решать, ничего толком не зная, так, что ли? Либо очертя голову броситься в пропасть, либо навсегда остаться на ее краю, терзаясь сомнениями? Это и впрямь совершенно чудесный жизненный опыт, как вы верно заметили. Но могу ли я удовольствоваться этой жизнью, зная, что существует и жизнь другая, но понятия не имея о том, куда она может повернуться?
– Успокойся. Если дело только в этом, то посмотрим, что может представлять собой альтернатива. – Король Муммельзее опустил голову и перевернул страницу лежавшего на его коленях фолианта в кожаном переплете, которого Ганс каким-то образом не замечал.
– Ты намерен и дальше лавку просиживать, витая в облаках, когда по дому ничего не сделано? Такого лентяя, как ты, еще свет не видывал!
Вслед за этой тирадой из кухни появилась, рассеянно почесывая на ходу задницу, толстая жена Ганса. Лицо Гретхен, некогда имевшее форму приятного овала, совсем округлилось, и если в прежние годы она на ходу постоянно приплясывала под музыку, слышную только ей одной, то теперь лишь изредка некрасиво подергивалась. И все же, когда Ганс увидел ее, в груди у него потеплело, как это случалось всякий раз.
Он отложил гусиное перо и присыпал песочком то, что уже успел написать.
– Ты совершенно права, моя дорогая, – ласково сказал он. – Ты всегда права.
По дороге во двор, где нужно было наколоть дров, принести воды и накормить борова, которого они откармливали к Масленице, он не преминул взглянуть на себя в зеркало, висевшее подле задней двери. Оттуда на него испуганно смотрел перемолотый жизнью старик, с жиденькой, словно молью поеденной бороденкой.
– Да, сударь мой, – пробормотал он себе под нос, – ты совсем не тот молоденький красавчик-солдат, который много лет назад завалил Гретхен в копну сена всего через несколько минут после знакомства.
Стоило ему выйти за дверь, как ветер хлестнул его по лицу пригоршней снежной крупы, и чурбаки в поленнице смерзлись между собой, так что ему пришлось еще колотить их обухом топора, чтобы можно было вытащить несколько и расколоть. Когда он добрел до колодца, то оказалось, что воду затянуло таким толстым слоем льда, что он вспотел, пробивая его. Потом он снял здоровый булыжник с крышки, закрывавшей ведро с кухонными помоями, и направился к хлеву, но поскользнулся на замерзшей лужице и вывернул ведро на себя. Это значило не только то, что придется устраивать внеочередную постирушку – что зимой превращалось в очень неприятное дело, – а еще и то, что нужно голыми руками собрать с земли, что удастся, потому что скользко ли, холодно ли, но борова все равно нужно кормить.
В конце концов, ворча сквозь зубы и жалуясь на жизнь, старый Ганс доплелся до дому, вымыл руки, переоделся в сухое и вновь сел за письмо. Через несколько минут в комнату вошла жена.
– Ну и холодина же здесь! – воскликнула она и принялась разводить огонь, хотя таскать дрова в эту комнатушку было так тяжело, что Ганс предпочитал мерзнуть, нежели делать лишнюю работу. Когда поленья затрещали, она подошла к нему, остановилась за спиной и положила руку ему на плечо.
– Снова пишешь письмо Вильгельму?
– А кому еще-то? – буркнул Ганс. – Мы тут трудимся до кровавых мозолей, чтобы послать ему денег, а ему лень даже написать! А когда он все же пишет, то лишь несколько слов! Пьянствует, шьет наряды у дорогих портных, влезает у них в долги, бегает за… – он успел вовремя прикусить язык, закашлялся и закончил: – Проводит время с женщинами неподобающего поведения.
– Ну, вспомни, когда ты был в его возрасте…
– В его возрасте я не позволял себе ничего подобного! – возмущенно заявил Ганс.
– Конечно, нет, – согласилась жена. Он, даже не оборачиваясь, чувствовал ее улыбку. – Конечно, мой любимый дурачок.
Она чмокнула его в макушку.
Когда Ганс вернулся, солнце как раз показалось из-за тучки, а сад сиял сотнями ярких цветов; несомненно, дело рук Посейдонии, решил он. Цветы игриво поворачивали к нему головки и раскрывали лепестки навстречу его взгляду.
– Ну, – спросил король Муммельзее. – Как оно там?
– Зубы выпали почти все, – мрачно сообщил Ганс, – и в боку у меня все время болело. Дети выросли и разъехались, так что в жизни той мне ничего не осталось, кроме как ждать смерти.
– Это не оценка, – сказал король, – а всего лишь набор жалоб.
– Вынужден признать, что в жизни там, за воротами, есть что-то… настоящее, что ли? Этакие достоверность и сложность, которых в нашей жизни, можно сказать, не хватает.
– Это уже что-то.
Переливающийся свет заметно померк, ветерок пробежал по кронам деревьев, заставив их вздохнуть.
– С другой стороны, в здешней жизни имеется ощущение какой-то осмысленности, чего там не чувствуется.
– И это тоже верно.
– Однако если в жизни и есть какой-то смысл – а я совершенно уверен, что так оно и есть, – то будь я проклят, если знаю, в чем он состоит.
– Ну, на это ответить очень просто, – сказал король. – Мы живем для того, чтобы развлекать читателя.
– А этот читатель… кто он такой на самом деле?
– Чем меньше знаешь о читателе, – с жаром воскликнул король Муммельзее, – тем лучше! – Он поднялся. – Мы долго говорили. В ограде этого сада имеются две калитки. Одна ведет обратно, туда, откуда мы пришли. Вторая… вторая ведет в другое место. То самое, куда ты только что заглянул.
– А у этого «другого места» есть какое-нибудь название?
– Некоторые называют его Реальностью, хотя уместность этого названия, конечно же, находится под вопросом.
Ганс подергал себя за ус, сунул кончик в рот, пожевал.
– Должен признаться, что вы ставите меня перед непростым выбором.
– И все же, Ганс, мы не можем остаться в этом саду навечно. Рано или поздно тебе придется выбирать.
– Конечно, сударь, вы правы, – ответил Ганс. – Я должен проявить твердость.
Сад застыл, ожидая его решения в полной тишине и неподвижности. Ни одна лягушка не тревожила зеркальную поверхность пруда. Ни одна травинка не колыхалась на лугу. Самый воздух, казалось, застыл от напряжения.
Он сделал выбор.
Таким образом Иоганн фон Гриммельсгаузен, которого за былую шалость прозвали на английский манер Джеком, но чаще называли просто Гансом, покинул узкие, стесняющие пределы литературы и заодно озера Муммельзее, сделавшись настоящим человеком и, следовательно, игрушкой для прихотей истории. Это означает, естественно, что он преставился несколько веков тому назад. Останься он вымышленной персоной, он и сейчас был бы с нами, но не обладал бы тем богатством впечатлений, в которые мы с вами погружены каждый день на протяжении всей жизни.
Верный ли выбор он сделал? Это одному Богу известно. А если окажется, что Бога нет, то мы уж точно никогда этого не узнаем.
От падшей славы Вавилона бежали мы…
Представьте себе нечто среднее между столицей Византии и термитником. Представьте себе изящную, как сосулька, самоцветную гору, возносящуюся из курящихся паром джунглей и исчезающую в сияющих жемчужно-серых небесах Геенны. Представьте себе, что Гауди – Гауди периода Саграда Фамилии и других биоморфных архитектурных изысков – получил от кошмарной расы гигантских черных многоножек заказ воссоздать Барселону на пике ее славы, с добавлением черт Запретного города XVIII века и Токио XXII, и все это в пределах одной постройки высотой в много миль. Сумейте удержать в сознании одновременно все детали сооружения, умножив их число в тысячу раз, и вы получите слабую тень представления о великолепии Вавилона.
А теперь представьте себе, что находитесь в Вавилоне в момент его падения.
Привет. Я Розамунда. Я мертва. Когда это случилось, я существовала и в человеческой форме, а затем и до сих пор – лишь как имитационная модель, хаотически внедренная в жидкокристаллическую матрицу данных. Я погибла сразу же после падения метеоров. Я видела все с самого начала.
Розамунда означает «роза мира». Это имя в Европе третье по популярности после Геи и Вирджинии Дары. При всей нашей искушенной усложненности, мы, европанцы, открыты и простодушны.
Итак, как же все это происходило?
– Очнись! Очнись! Очнись!
– Что за?.. – Карлос Кивера сел и принялся стряхивать с себя каменное крошево. Он кашлял, чихал, мотал головой и явно был не в себе. Только что он стоял посреди прохладной герметизированной жилой ячейки посольства и беседовал с Арсенио. А сейчас… – Сколько я проспал?
– Пробыл без сознания. Десять часов, – сказал костюм (то есть я, Розамунда!). Столько времени потребовалось на лечение его ожогов. Теперь он был напичкан пробуждающими наркотиками: амфетаминами, эндорфинами, усилителями внимания – этаким химическим ведьминым варевом. Это было вредно для здоровья, но в нынешней ситуации, как бы она ни повернулась дальше, Кивера мог либо выжить благодаря своему разуму, либо не выжить вовсе. – Мне удалось воплотиться вокруг тебя, прежде чем стены обрушились. Тебе повезло.
– Как остальные? Они выжили?
– Их костюмы не сумели вовремя добраться до них.
– А Розамунда?..
– Все остальные мертвы.
Кивера поднялся на ноги.
Даже непосредственно после катастрофы здание Вавилона оставалось весьма внушительным. Прямо на земле кучами громоздились тысячи выпотрошенных, открытых окружающему воздуху жилых ячеек. Мосты и опоры провалились в дымящиеся пропасти, образовавшиеся из-за медленного обрушения шестиугольных несущих балок (это оказалось новым знанием; я занесла его в раздел «Архитектура», подраздел «Крепежные системы» с отсылками к «Эстетике» и «Ксенопсихологии»), дикая геометрия которых ужаснула бы самого Пиранези[8]. И везде на развалинах копошились черные многоножки.
Кивера замер.
В перекошенном пространстве вокруг него можно было опознать фрагменты и детали комнат посольства: обломки деревянной облицовки, бархатные шторы, теперь присыпанные осколками мрамора, обрывки обоев (с узорами по мотивам Уильяма Морриса[9]), скукожившиеся и побуревшие от жара. Человеческое искусство оформления интерьеров было совершенно чуждо Геенне, и на то, чтобы посольство привлекательно выглядело и там было удобно жить людям, потребовалось очень много сил и средств. Королевы-матери были щедры во всем, кроме своего доверия.
Кивера стоял в оцепенении.
Среди мусора виднелось и несколько трупов, в которых можно было опознать людские останки, хотя тела обгорели и раздулись от безжалостного жара. Это были его коллеги (каждый из них), его друзья (большая часть), его враги (двое или трое) и даже его возлюбленная (одна). Теперь все они умерли, и казалось, будто всех их спрессовало в некую неразделимую массу, и точно то же самое случилось и с чувствами, которые он испытывал по отношению к ним: потрясение, и скорбь, и гнев, и угрызения совести за то, что сам уцелел, все это сплавилось в единую дикую эмоцию.
Кивера запрокинул голову и взвыл.
У меня появилась базисная точка. Я поспешно смешала прекурсоры серотонина и ввела их через сотни микроинъекторов в соответствующие участки его мозга. Результат оказался мгновенным. Кивера перестал рыдать. Я в метафорическом смысле взяла в свои руки рукоятки управления его эмоциями. И поворачивала их, делая его все холоднее, и холоднее, и холоднее.
– Я ничего не чувствую, – удивленно сказал он. – Все мертвы, а я ничего не чувствую. – И добавил уже без всякого выражения: – Что же я за чудовище?
– Чудовище, созданное мною, – ласково сообщила я. – Мой долг – обеспечить возвращение на Европу твоей персоны и информации, которой ты обладаешь. Поэтому мне пришлось химически нейтрализовать твои эмоции. Пока эта задача не будет исполнена, ты должен оставаться куклой из мяса и костей. – Пусть он возненавидит меня – у меня нет истинного «я», а лишь факсимиле, смоделированное по человеческому оригиналу, – а сейчас самое главное – это доставить его домой живым.
– Да. – Кивера поднял руки и положил обе ладони на шлем, как будто пытался сквозь него ощупать голову и понять, так ли она велика, как ему казалось. – Вполне разумно. При таких обстоятельствах я не могу позволить себе эмоциональности.
Он встряхнулся и зашагал туда, где суетились лоснящиеся черные многоножки, и шагнул наперерез одной из них, недокузену, чтобы расспросить его. Многоножка приостановилась в растерянности. Глаза на треугольном лице трижды мигнули. Потом быстро, как щекотка, взбежала спереди по его костюму, спустилась по спине и исчезла, прежде чем у человека под ее тяжестью успели подогнуться колени.
– Дело дрянь! – сказал он. – Включай подслушку. Я хочу узнать, что происходит.
Пассивную прослушку имплантировали несколько месяцев назад, но пока не включали – политическое положение было слишком напряженным, и не стоило идти на риск обнаружения еще и этого оборудования. Теперь костюм включил его, чтобы узнать, о чем же сообщают в остатках сетей связи Вавилона. Из потрепанных кабельных сетей грянул хор импульсных сообщений. Хаос, растерянность, требования сообщить, что случилось с королевами-матерями. Аналитическая функция перемолола данные, произвела синтез выжимки и сделала вывод: «Снаружи находится армия с эмблемами Зиккурата. Город окружен. Беженцев убивают».
– Постой, постой… – Кивера сделал глубокий прерывистый вздох. – Дай подумать. – Он быстро посмотрел по сторонам и снова заметил присыпанные штукатуркой и порфиром изуродованные и обгоревшие человеческие трупы. – И что… тут и… Розамунда?
– Кивера, я мертва. Оплакать меня ты сможешь позднее. Сейчас вопрос из вопросов – выживание, – резко сказала я. – Костюм добавил к лечебному набору стабилизатор настроения.
– Прекрати говорить ее голосом.
– Увы, дорогой, не могу. Костюм работает в режиме минимизации функций. Или этот голос, или вовсе ничего.
Он отвел глаза от трупов; его взгляд посуровел.
– Что ж, это, в общем-то, не важно. – Кивера был из тех молодых людей, которые на войне обретают второе дыхание. В этих условиях он получает возможность оправдать безжалостную сторону своей натуры. Может делать вид, будто ему все равно.
– Что сейчас мы должны сделать, так это…
– Дядя Ваня идет, – перебила я его. – Я улавливаю его феромоны.
Представьте себе завесу или щит из бус, хрустальных призм и прямоугольных линз. За этой ширмой – лицо из кошмарного сновидения, представляющее собой что-то среднее между головным концом локомотива и мощным измельчителем древесины. Представьте себе на этом лице выражение (хотя большинству людей будет не под силу прочесть это) гордого достоинства, смешанного, впрочем, с коварством и, пожалуй, тенью мудрости. Доверенный советник королев-матерей. Следующая после них персона по влиятельности. Искушенный дипломат и опаснейший враг. Таков был Дядя Ваня.
Из-за ширмы показались две маленькие разговорные ноги, и он сообщил:
:: (настороженное) приветствие::
I
:: (Европанский вице-консул 12)/Кивера/[вероломный-паразит]::
I
:: обязанности <непереводимо> (тяжелый-долг)::
I I
:: требует/обещает [действие]:::: обещание (доверие)::
– Да чтоб вас!.. Говорите уж на пиджине! У нас нет времени на все эти тонкости.
Разговорные ноги застыли в продолжительной паузе. Потом снова зашевелились.
:: Королевы-матери мертвы::
– Значит, Вавилона больше не существует. Я глубоко соболезную вам.
:: Я не нуждаюсь в ваших соболезнованиях:: – Из-за завесы показался тонкий, покрытый хитином придаток. Из его трехчленной клешни свешивался гладкий белый параллелепипед размером с портфель-дипломат. – :: Я должен доставить это в (город-сестру)/Ур/[полное-доверие]::
– Что это такое?
Очень продолжительная пауза. Потом неохотно:: Наша библиотека::
– Ваша библиотека? – Это было нечто новенькое. Нечто неслыханное. Кивера усомнился в правильности перевода жестов. – Что же в ней содержится?
– Наша история. Наши науки. Наши ритуальные танцы. Генеалогия вплоть до (Пропуск)/Начала/[пропуск]. Здесь все, что может быть спасено::
Кивера содрогнулся всем телом от приступа алчности. Он попытался представить себе, сколько это может стоить, и не смог. Таких цен просто не существовало. Сколько бы ни отжали у него начальники (а они из кожи вылезут, чтобы отжать у него все, что только удастся), но оставшегося все равно хватит на то, чтобы выкупить его из долгов, и для жены добиться того же самого, а там и для их детей. О Розамунде он уже не думал.
– Без моей помощи вы не пройдете через армию, что стоит снаружи, – сказал он. – Я хочу получить право на то, чтобы скопировать, – сколько же можно решиться запросить-то? – три десятых процента. Предоставленное лично мне. Не Европе. А мне персонально.
Дядя Ваня опустил голову, так что они смотрели один другому прямо в глаза.:: Вы (злое существо)/[недостойно-доверия]. Я ненавижу вас::
Кивера усмехнулся:
– Отношения, начинающиеся со взаимопонимания, служат хорошим началом.
:: Отношения, начинающиеся без доверия, заканчиваются плохо::
– Это уж как получится. – Кивера оглянулся по сторонам в поисках ножа. – Для начала вас необходимо кастрировать.
Что увидели те, кто творил геноцид:
В пригороде сжигали пирамиды трупов, и тут изнутри появился европанец, ехавший верхом на кастрированном недокузене. Солдаты, сволакивавшие трупы в кучи, тут же бросили свое занятие и, переливаясь, как ртуть, устремились к пришельцам, вызывая на ходу свое начальство.
Европанец подъехал поближе и остановился в ожидании.
Офицер, разбиравшийся с пришельцем, говорил из-за черного стекла визора тонконогой военной машины. Он внимательно осмотрел дипломатические документы европанца, хотя в расовой принадлежности последнего не могло быть особых сомнений.
:: Можете проходить:: неохотно сказал он.
– Этого мало, – ответил европанец (Кивера!). – Мне необходим транспорт, эскорт, чтобы сопровождать меня через паровые джунгли, и проводник, который будет указывать мне дорогу к… – Его костюм изобразил знаки:: (космопорт)/Арарат/[полное-доверие]::
Разговорные ноги офицера изогнулись в жесте, который можно было бы перевести как язвительную ухмылку.:: Мы проводим вас до джунглей и не шагом дальше/(чтоб ты сдох там)/[вероломная-малоногая-тварь]::
– Кто бы еще говорил о вероломстве! – сказал европанец (но я, конечно, не стала переводить эти слова) и, презрительно махнув рукой, направил своего мерина в джунгли.
Убийцы не дали себе труда присмотреться к существу, на котором он ехал. Кастрированные недокузены не заслуживали их внимания. Они даже не носили завес на лице – на потеху всему миру ходили нагишом.
Черные столбы вздымались над ревущими кострами из тел, выкидывая дым и копоть в небеса. Костров было сотни, и столбов дыма тоже сотни, и в сочетании с низко нависшими тучами они превращали мир в подобие храма какого-то свирепого бога. Солдаты Зиккурата проводили их сквозь порядки своей армии и за линию костров, туда, где ждали зеленые и грозные паровые джунгли.
Как только за ними сомкнулась зеленая тьма, Дядя Ваня повернул голову и просигналил
:: Слезайте с меня/тяжкое унижение/[недостаток-доверия]::
– И думать забудьте, – резко бросил Кивера. – Я буду ехать на вас до заката, и весь завтрашний день, и всю следующую неделю. Эти солдаты попали сюда не по воздуху, иначе вы обнаружили бы их приближение. Они пришли пешком сквозь парящие джунгли, там обязательно будут тыловики и отстающие.
Поначалу двигаться было тяжело, а потом, когда они миновали участок молодой поросли и попали в старый лес, стало легче. Стволы «деревьев» здесь не уступали размером земным секвойям, отдельные из которых достигают возраста в пять тысяч лет. Дорога немилосердно петляла. Свет сквозь кроны проникал очень скудно, а слабый лучик налобного фонаря Киверы тут же поглощал пар. Если бы не навигационный модуль костюма и геодезические спутники, снабжавшие его информацией, позволявшей определить местонахождение с точностью до пяди, они неминуемо заблудились бы, миновав всего десяток деревьев.
Кивера не преминул указать на это.
– Видите, – сказал он, – что такое по-настоящему ценная информация?
:: Информация не обладает ценностью:: ответил Дядя Ваня:: если нет доверия::
Кивера рассмеялся:
– В нашей ситуации вам приходится волей-неволей доверять мне.
Дядя Ваня ничего не ответил.
На закате они устроились спать на укрытой стороне одной из гигантских псевдосеквой. Кивера извлек из седельных сумок пару охлаждающих шашек и воткнул их в землю. Дядя Ваня сразу же свернулся вокруг одной и уснул. Кивера уселся возле другой с намерением обдумать события дня, но костюм своими медикаментами мгновенно усыпил и его.
Любая машина знает, что чем меньше человек думает, тем он счастливее.
Утром они двинулись дальше.
Местность делалась холмистой, старый лес остался позади. Здесь было солнечно, даже с избытком, поскольку свет рассеивался вездесущим лесным паром и отражался от оболочек из искусственных алмазов, которыми в этом мире обзаводятся для защиты очень многие растения и насекомые.
По пути они беседовали. Кивера все еще пребывал под воздействием букета медикаментозных средств, но дозы постепенно уменьшались. Поэтому он впал в меланхолическое, задумчивое настроение.
– Это предательство, – сказал Кивера. Он хранил радиомолчание, опасаясь войск Зиккурата, но из моих пассивных приемников постоянно получал сводки новостей с Европы. – Это ж непросто: высотная стража не смогла отвести в сторону метеор. Они пропустили три камня. И все три по пологой дуге упали точно в Вавилон. Причем почти одновременно.
Дядя Ваня опустил голову.
:: Да:: скорбно ответил он.:: Это похоже на правду. Это следует принять за (непреложный)/факт/[заслуживать-полное-доверие]::
– Мы пытались предупредить вас.
:: Вы не (пользовались)/доверием/[заслуживать-доверия]:: Разговорные ноги Дяди Вани выказали крайнее возбуждение.:: Вы говорили неправду::
– Все говорят неправду.
:: Нет. Мы-жители-Ста-городов правдивы/правдивы/[никогда-не-лжем]::
– А лгали бы, так Вавилон и сейчас стоял бы.
:: Нет!/НЕТ!/[нет!!!]::
– Ложь – это смазка для машины общественных отношений. Если движущиеся части плохо прилегают одна к другой, она уменьшает трение.
:: Аристотель, когда его спросили, что получают говорящие неправду, ответил: «То, что, когда они будут честны, им не верят».::
Кивера довольно долго молчал. Потом невесело рассмеялся.
– Я чуть не забыл, что вы дипломат. Что ж, вы правы, я прав, и мы оба облажались. Куда же мы направимся теперь?
:: В (город-сестру)/Ур/[полное-доверие]:: Дядя Ваня вздохнул, а я (костюм) прошептала в ухо Кивере: «Ты сказал более чем достаточно. Смени тему».
Посреди ложбины бежала бурная речка. Она стекала с гор и должна была постепенно уменьшаться, пока не иссякнет. Собственно, она и досюда-то добралась лишь потому, что воздух над ним был насыщен влагой почти до ста процентов. Кивера указал на поток.
– Не опасно будет переправляться?
:: Если (прыжок-удачен) тогда (безопасно)/не лучший/[обоснованная-неуверенность]::
– Мне так не кажется.
Они направились вниз по течению. Чтобы добраться до места, где можно было смело прыгать, пришлось пройти несколько миль. Оттуда они повернули к Арарату – как только европанцы прибыли в систему и установили контакт с аборигенами, они подвесили на низкой орбите микроспутники геопозиционирования, но я понятия не имел, из каких источников черпал свое чувство направления Дядя Ваня.
Так или иначе, оно было безошибочным, что подтверждала система геопозиционирования. Я учла этот факт в разделе «Необъяснимые феномены» с предположительными отсылками к «Физиологии» и «Ориентированию». Даже если оба моих спутника погибнут и библиотека пропадет, путешествие все равно окажется результативным, при условии что европанские поисковики смогут обнаружить меня в течение десяти лет, прежде чем мои матрицы данных начнут распадаться.
Несколько часов Дядя Ваня шел, а Кивера ехал молча. Но в конце концов им все же пришлось остановиться, чтобы поесть. Я накормила Киверу внутривенными инъекциями питательных веществ и через соматические шунты создала ему иллюзию полноценной трапезы. Дядя Ваня стремительно зарылся в землю, появился оттуда с чем-то похожим на личинку размером с пуделя и принялся так яростно пожирать добычу, что Кивера пришлось отвернуться.
(Я записала это в раздел «Ксенология» подраздел «Пищевые стратегии». Поиск нового знания не предусматривает обеденного перерыва.)
Немного позже, во время отдыха, Дядя Ваня возобновил разговор, но уже в более официальном тоне:
:: (какая) причина/смысл::
|
:: (европанский-вице-консул12)/Кивера/[не пользуется доверием]::
|
:: путешествуете (поиск-доверия)/[действие]::
| |
:: (гнездо)/Европа/<непереводимо>:::: насилие/[сопротивление до конца]::
| | |
:: (гнездо)/[доверие] Геенна/[доверие] Дом/[доверие]::
«Зачем вы покинули ваш мир и пришли в наш? – упростила и перевела я вопрос. – Впрочем, он верит, что люди доставили свой мир сюда и поместили его на орбите». Нам никак не удавалось объяснить многоножкам так, чтобы они поняли, что наш мир – это не планетоид, а поселение, корабль, если угодно, хотя на сегодня в туннелях, проложенных глубоко в его теле, насчитывалось уже хорошо больше полумиллиона обитателей. Тем не менее это был всего лишь город, и его ресурсы нельзя растянуть навечно. Чтобы обеспечить себе в дальней перспективе выживание, нам было необходимо убедить гееннян предоставить нам плацдарм на их планете. Впрочем, это вам хорошо известно.
– Мы уже говорили об этом. Мы ищем новую информацию.
:: Информация (существует свободно)/не имеет стоимостного выражения/[презрительно]::
– Послушайте, – сказал Кивера. – Информация является основой нашей экономики. Ваша основывается на доверии. Механизмы и той, и другой имеют много общего. Обе системы стремятся к расширению. Обе построены на недостаточности. И обе – умозрительны. Информацию, равно как и доверие, покупают, продают, заимствуют и инвестируют. Следовательно, обеим требуется непрерывное расширение экономических границ, что в конечном счете заводит отдельно взятую личность так глубоко в долги, что она становится в виртуальном смысле рабом системы. Вы меня понимаете?
:: Нет::
– Ладно. Представьте себе простейшую капиталистическую систему – ту самую, что лежит в основе наших с вами экономик. Возьмем тысячу отдельных личностей, каждая из которых зарабатывает себе на жизнь тем, что покупает сырье, совершенствует его и с прибылью продает то, что получилось. Вы следите за моей мыслью?
Дядя Ваня просигналил, что да, все понимает.
– Фермер покупает семена и удобрения и продает урожай. Ткач покупает пряжу и продает материю. Свечник покупает воск и продает свечи. Цена их товара складывается из цен сырья и их работы. Цену работы составляет оплата работников. Простейшая рыночная экономика. Существовать в таком режиме можно вечно. На Геенне ее эквивалентом могли бы быть примитивные семьи-государства, какие существовали у вас в далеком прошлом, в которых все знали всех, и поэтому доверие было очень простым явлением и осуществлялось в прямом обоюдном порядке.
Дядя Ваня изумленно просигналил:
:: Откуда вы знаете, что было в нашем прошлом?::
– Европанцы ценят знания. Мы запоминаем все, что вы нам говорите. – Эмпирические знания дополнялись (с огромными усилиями и затратой огромных средств), информацией, по большей части украденной, но упоминать об этом вовсе не обязательно. – Теперь представьте себе, что большинство рабочих трудятся на десяти фабриках, изготавливая одежду, еду и всякую всячину, необходимую всем и каждому, – продолжал Кивера. – Владельцы этих фабрик должны иметь выгоду, и потому они продают товары за цену, превышающую то, что было затрачено на их изготовление: стоимость материалов, стоимость работы и, наконец, та самая выгода, которую можно назвать «прибавочной стоимостью».
Но, поскольку модель упрощенная, мы не рассматриваем внешние рынки. Товары можно продавать только внутри этой тысячи рабочих, а общая цена товаров больше, чем все то, что им всем заплатили за материалы и труд. В таком случае как же они будут покупать? Они берут в долг. Потом занимают деньги, чтобы выплачивать эти долги. Деньги им ссужают те же фабрики, которые продают им в долг товары. В системе недостаточно денег – не хватает реальных ценностей, – чтобы выплатить долг, и поэтому он продолжает нарастать до тех пор, пока система сохраняет равновесие. Когда она не может этого делать, происходит катастрофический обвал, который мы называем депрессией. Два предприятия становятся банкротами, и все, чем они располагали, поглощается теми, кто уцелел, по договорной цене, которая тратится на погашение задолженностей, благодаря чему равновесие системы восстанавливается. И весь цикл начинается сначала.
:: Какое все это имеет отношение к (возлюбленному городу)/Вавилону/[мать-доверия]?::
– Каждое ваше публичное действие включало в себя обмен доверием, верно? А каждое оправданное доверие повышало престиж королев-матерей и соответственно объем доверия, которое олицетворял собою Вавилон как таковой.
:: Да::
– Точно так же королевы-матери других городов, в том числе и заклятых врагов Вавилона, воплощали собою немыслимое количество доверия.
:: Конечно::
– Имелось ли во всем мире достаточно доверия, чтобы заплатить всем, если бы этого потребовалось бы одновременно от всех королев-матерей?
Дядя Ваня промолчал.
– Так вот, это объясняет… очень многое. Земля прислала нас сюда, потому что ей требуется новая информация, чтобы погасить ее нарастающую задолженность. На строительство Европы потребовалось огромное количество информации, причем по большей части являющейся чьей-то исключительной собственностью, и потому европанцы находятся в коллективном долгу перед нашим миром, а каждый по отдельности – перед повелителями экономики Европы. Из-за сложных процентов каждое поколение оказывается во все более худшем, все более отчаянном положении, нежели предыдущее. Нашему поколению совершенно необходимы новые знания, и с каждым днем их требуется все больше и больше.
:: (чужаки-не-знающие-доверия)/Европа/[вероломные черви]:::: могут/могли бы/<непереводимо>::
I I
:: заявлять/требовать [негативное действие]:::: пренебрегать/<непереводимо>/[полное отсутствие доверия]::
I I
:: (те-кто-распоряжаются-доверием):::: (те-кто-недостойны-доверия)::
«Он спрашивает, почему Европа попросту не провозгласила банкротство, – объяснила я. – Можно было бы отказаться от выплат по обязательствам и национализировать всю имеющуюся на данный момент информацию. Если упрощенно».
Простой ответ состоял в том, что Европа продолжала нуждаться в информации, которой ее могли снабдить только по лучу с Земли, что сумма творческих способностей даже полумиллиона людей не идет ни в какое сравнение с возможностями целой планеты, и потому ее техника всегда должна превосходить нашу, и если мы откажемся признавать свои долги, они перестанут слать нам планы по ее развитию, а также их песни, пьесы, новости о том, что происходит в странах, которыми некогда для наших прапрапращуров ограничивался весь мир. Я наблюдала за тем, как Кивера боролся с желанием дать на вопрос именно такой, простейший ответ.
В конце концов он сказал:
– Потому что если мы так поступим, нам уже никто больше не станет доверять.
После продолжительной паузы Дядя Ваня вновь перешел на пиджин.
– Зачем вы рассказали мне эту [недостоверную] историю?::
– Чтоб поставить вас в известность, что между нами много общего. Мы способны понимать друг друга.
::<Но>/не/[доверять]::
– Да. Но мы и не нуждаемся в доверии. Нам вполне хватит обоюдного делового интереса.
День шел за днем. Может быть, Кивере и Дяде Ване удалось за это время продвинуться во взаимопонимании. Возможно, что и нет. Я успешно поддерживала электролитический баланс организма Киверы и гасила обратную связь его мыслительного процесса, поэтому он не испытывал невыносимой боли, но все же он расходовал свои жировые запасы, которые уже подходили к нижней границе нормы. Перед ним имелась перспектива весьма комфортабельной голодной смерти – я отвела ему не более двух недель, – и он об этом знал. Не знать этого мог бы разве что круглый дурак, мне же, для того чтобы предоставить ему хоть какие-то шансы на выживание, нужно было сохранять в нем способность мыслить ясно и четко.
Путь им преградил невысокий, но длинный горный хребет, и Кивера с Дядей Ваней, ничего не обсуждая между собой, вскарабкались выше полога паровых джунглей и насыщенных влагой облаков, висевших над ними, к чистому и прозрачному воздуху. Оглянувшись, Кивера увидел на склоне позади промоину; стремительный ручей, мчавшийся по ее дну, давно унес всю почву и теперь бурлил меж квадратных и прямоугольных камней, среди которых совсем не попадалось шестигранных балок. Они попали на курган, образовавшийся на месте падшего древнего города; на востоке он был выше, а к западу сходил на нет.
– «Се – Озимандия, кто назван Царь Царей, – продекламировал Кивера. – Мои дела, цари, узрите – и отчайтесь!»[10]
Дядя Ваня ничего не ответил.
– Еще одно столь точное попадание метеора – насколько велика вероятность такого события?
Дядя Ваня ничего не ответил.
– Конечно, если взять достаточно большой промежуток времени, да еще и до появления высотной стражи, такое следовало бы считать неизбежным.
Дядя Ваня ничего не ответил.
– Как этот город назывался?
:: Очень старый/(имя забыто)/[Первое Доверие]::
Дядя Ваня шевельнулся, видимо, но Кивера жестом остановил его.
– К чему спешка? – сказал он. – Давайте немного полюбуемся видом. – Он неторопливо провел рукой от горизонта до горизонта, где внизу простиралась ровная, совершенно одинаковая повсюду лесная крыша. – Ведь что забавно! Вы считаете, что здесь находился один из первых городов, которые построил ваш народ, явившись на эту планету, но ведь отсюда можно было бы разглядеть и руины городов изначального населения этого мира.
Разговорные ноги многоножки взметнулись в паническом жесте. Потом туловище Дяди Вани вскинулось на дыбы, а когда опустилось, в одной из передних ног сверкнуло серебро. Неуловимым для человеческого взгляда движением он выхватил из-под камуфлированного брюшного щитка изогнутый смертоносный щупальцевый меч.
Костюм Киверы отбросил человека из-под лезвия. Вице-консул упал навзничь и перекатился в сторону. Острие меча промахнулось на какие-то дюймы. В следующее мгновение костюм выбросил вперед руку и прикоснулся к клинку выпущенным для этой цели электрическим контактом.
Точно рассчитанный электрический удар отбросил Дядю Ваню назад, не лишив его при этом сознания.
Кивера поднялся на ноги.
– Не забывайте о библиотеке! – сказал он. – Если она погибнет, никто и знать не будет о былой славе Вавилона.
Довольно долго многоножка не делал ничего такого, что могли бы заметить Кивера или его костюм, и в конце концов просигналил:
:: Откуда вы знаете?/(Сильнейшее потрясение)/[вероломство, не знающее доверия]::
– Чтобы выжить, нам необходимо получить возможность жить на Геенне. Ваш народ не хочет позволить нам этого, что бы мы ни предлагали на продажу. Нам было очень важно понять причину. И мы ее выяснили. Мы принимали к себе ваших отверженных и изгнанников – всех тех, кому по каким-то причинам не нашлось места в ваших городах и некуда было идти. Они нашли убежище у нас. А они в благодарность рассказали нам все, что знали.
Этими словами Кивера дал понять Дяде Ване, что ему известно древнейшее из сказаний Геенны. Выслушав его, Дядя Ваня понял, что Кивере известно то же, что и ему самому. И, раз уж вам известно, что они знали, что каждый из них знал, и знал об обоюдном знании об этом знании, то вот вам это сказание…
Как истинный народ попал на Геенну
Долго, очень долго Предки наши рыли ходы сквозь тьму меж звезд, пока не объявились наконец в почве Геенны. Из Истинного дома лежал их путь. В Геенну они низверглись, оставив шлейф ярких искр в темных пустых пространствах, по которым странствовали. Истинный народ пришел из мира невообразимых чудес. И не было им обратного пути туда. Возможно, они были изгнанниками. Возможно, тот мир был уничтожен. Никому сие не ведомо.
Оказались они в пару и солнечном свете Геенны и обнаружили, что она уже занята. Первые обитатели ее не походили ни на что, виденное доселе Предками. Но они приветствовали Истинный народ, как королевы-матери приветствовали бы заблудших двоюродных дочерей. Они дали нам пищу. Они дали нам землю. Они дали нам доверие.
Поначалу все шло хорошо.
Но в торакальные ганглии Истинного народа закралось зло. За сестринство он воздал предательством, а за доверие – убийством. Были призваны с небес яркие огни, дабы уничтожить города их благодетелей. Все деяния Первых обитателей, все их книги, и статуи, и картины сгорели вместе с городами. Ни следа не осталось от них. Мы теперь даже не знаем, как они выглядели.
Так Истинный народ принес войну на Геенну. Никогда доселе здесь не было войн, а теперь они постоянно будут присутствовать в нашей жизни, доколе мы не выплатим долг доверия. Но его невозможно выплатить вовеки.
Перевод, конечно, не дает полного представления о тексте. На языке оригинала он излагается при помощи тринадцати изумительно красивых эргоглифов, каждый из которых основан на первично-доверительном движении. Кивера же, хоть и тщательно подбирал слова, говорил с неподдельной страстью:
– Ваня, слушайте меня внимательно. Мы изучили вашу планету и вашу цивилизацию гораздо подробнее, чем вы можете считать. Вы не пришли из другого мира. Ваш народ эволюционировал здесь. Здесь не было никакой другой аборигенной цивилизации. Ваши предки не истребляли никакую разумную расу. Все это не более чем миф.
:: Нет!/Как?!/[шок]::
Дядю Ваню трясло от эмоций. По всему его многочленному телу пробегала рябь мышечных спазмов.
– Только постарайтесь обойтись без кататонических припадков. Ваши предки не лгали. Мифы – вовсе не ложь. Это лишь эффективный способ сокрытия правды. У нас, в моей религии, есть схожий миф, который мы называем первородным грехом. Любой человек грешен с самого рождения. Ну… и кто же в этом сомневается? Утверждение, что мы являемся на свет в падшем состоянии, означает просто-напросто, что мы не идеальны, что мы, по сути своей, склонны к злу.
Ваш миф довольно близок к нашему, но он скрывает в себе еще и то, что мы называем мальтузианской дилеммой. Население увеличивается в геометрической прогрессии, тогда как пищевые ресурсы – в арифметической. Поэтому, если бы население не уменьшалось периодически из-за войн, эпидемий и местных катастрофических голодовок, всеобщий голод был бы неизбежен. А это означает, что войны, эпидемии и катастрофические голодовки нельзя полностью исключать, потому что именно они сохраняют популяцию от вымирания.
Но – и это очень важно – все это относится к популяции, которая не осведомлена о дилемме. Когда осознаешь свое положение, то можешь придумать, как его исправить. Вот почему информация так важна. Вы меня понимаете?
Дядя Ваня лег на землю, вытянувшись во весь рост, и на несколько часов замер в полной неподвижности. Когда же он все-таки поднялся, то наотрез отказался от разговоров.
На следующий день путь привел в вытянутую метеоритную долину, которую землееды облюбовали так давно, что пологие склоны покрылись почвой, чем ближе к дну, тем более богатой и плодородной. Здесь, насколько видел глаз, тянулся сад гранатных деревьев, расположенных соприкасающимися восьмигранными рощицами. Мы все еще находились на территории Вавилона, но всех садоводов смело€ напрочь прошедшее здесь войско Зиккурата.
Гранаты были еще зелеными [примечание: конечно, не в буквальном смысле – они были оранжевого цвета!], их толстая кожура еще не содрогалась от горячей до испарения пульпы, которая через некоторое время в отсутствие сборщиков урожая заставит плоды взрываться, разбрасывая заостренные, подобно наконечникам стрел, семена или споры [примечание: подобно семенам, дротики содержат в себе запас питательных веществ; подобно спорам, они выпустят из себя заростки, которые образуют половые органы, определяющие, что получится из гаметы конкретного растения; естественно, все ботанические термины, применительно к ксенобиологическим организмам и процессам, используются условно] с такой силой, что зрелые плоды представляют собой смертельную опасность.
Но не сегодня.
Внезапный порыв ветра разнес в стороны клубы пара, ненадолго открыв долину-сад солнечному свету и показав нам узкую привлекательную тропинку. По ней мы направились в долину.
Когда мы дошли примерно до середины сада, Кивера наклонился, чтобы рассмотреть облаченное в хрустальную оболочку существо, не имеющее ничего общего ни с чем, имевшимся в базе данных костюма. Оно сидело на вершине длинного стебля какого-то сорняка [примечание: слово «сорняк» здесь употреблено не метафорически – концепция «нежелательного растения, выросшего на возделанной земле» является универсальным и встречается в любой культуре], купаясь в солнечных лучах; его брюшко часто и мелко пульсировало, словно закипающая мелкая капля черного ихора. Облачко пара, резкий щелчок, и существо исчезло.
– Как оно называется? – спросил изумленный Кивера.
Дядя Ваня оцепенел.
:: Ракетник/опасность!/[полная уверенность]::
И тут же {крак! крак! крак!} все вокруг пересекли тонкие струйки пара, направленные с такой точностью, будто их проложил чертежник по линейке, и струйки эти были столь стремительными {крак! крак!}, что невозможно было на глаз понять, в какую сторону они направлены. Но это, в общем-то {крак!}, не имело значения.
Кивера упал.
Что еще хуже, из-за того, что паровые выбросы, прошившие его ногу, повредили организационный узел его костюма, я утратила все свои высшие когнитивные функции. Иными словами, потеряла сознание.
А вот что делал костюм, лишившись моего (Розамунды) управления:
1. Медленно восстанавливал поврежденный организационный узел.
2. Быстро заделал дыры, которые ракетник пробил в материи.
3. Погрузил Киверу в терапевтическую кому.
4. Ввел в раны лечебные вещества и запустил медленный и болезненный процесс восстановления поврежденных тканей тела, причем здесь главным было не допустить травматического шока.
5. Занес в базу данных (раздел «Ксенобиология») комплексную информацию о ракетнике (рубрика «Насекомоподобные», отсылки к «Выживание» и «Паровое движение»).
6. Сообщил Дяде Ване, что, если он попытается покинуть Киверу, костюм догонит его, поймает, оторвет ему голову, как последнему недокузену, которым он и является, а потом помочится на его труп.
Костюм полностью пришел в сознание лишь через два дня, на протяжении которых Дядя Ваня очень добросовестно заботился о Кивере. Не важно, из каких соображений. Потом прошел еще день. Костюм намеревался продержать Киверу в состоянии комы еще неделю, но вскоре после того, как сам очнулся, обстоятельства изменились. Костюм резко вывел человека из бессознательного состояния. Дипломат осмотрелся по сторонам, его сердце бурно колотилось.
– Вырубился, что ли, на секунду? – выдохнул он. Но тут же осознал, что вокруг совершенно незнакомый пейзаж. – Сколько времени я провалялся?
:: Три дня/<три дня>/[небрежно, с полной уверенностью]::
– Ох!
Тут же, почти без паузы:
:: Ваш костюм/механизм/[тревога] разговаривает голосом Розамунды да Сильва/(европанский вице-консул 8)/[неуверенно, с сомнением]::
– Да, это потому…
Кивера полностью пришел в себя и полностью осознавал окружающее. Поэтому я сказала:
– Приближаются.
Прямо перед нами из черной почвы стремительно появились две многоножки. На боках и доспехах у них были нарисованы эмблемы Зиккурата. К счастью, Дядя Ваня поступил наилучшим возможным в этой ситуации образом – испуганно попятился и вскинулся на дыбы. Анатомия Millipoid sapiens такова, что в этом положении все сразу видят, что перед ними скопец, и вражеские солдаты практически инстинктивно расценили незнакомца как презренного, безвредного и не заслуживающего никакого внимания.
А вот к Кивере они отнеслись по-другому.
Возможно, это были предатели своего выводка, дезертировавшие с войны с намерением устроить собственное гнездо. А возможно, они представляли собой один из тысяч мелких отрядов, разбросанных вдоль временной границы на манер подземных мин, активно использовавшихся в эпоху новой истории. Солдаты удивились нашему появлению ничуть не меньше, чем мы – при виде их. Они не приготовили оружия и поэтому набросились на Киверу только со щупальцевыми кинжалами.
Его костюм (то есть я) отбросил его из-под рубящего удара в одну сторону, а потом в другую. Потом один из многоногих воинов вскинулся на дыбы – тот, кто владеет межвидовой кодировочной системой, сразу понял бы, что он крайне изумлен, – и тяжело рухнул наземь.
Над испускавшим пар трупом стоял Дядя Ваня, одна из его передних ног сверкала серебром. Второй солдат Зиккурата повернулся, чтобы вступить с ним в бой, на мгновение оставив брюхо открытым.
Кивера (вернее, его костюм) стиснул ладони и ударил обеими руками снизу вверх, в слабый участок третьего стернита позади головы. Там находятся половые органы. [Пояснение: все анатомические термины, в том числе «стернит», «половой орган» и «голова», можно было бы считать уместными лишь с учетом допущения, что жизнь на Геенне имеет какую-либо прямую связь с земной жизнью; при ином подходе их следует воспринимать исключительно как метафоры.] И потому это место особенно уязвимо. А поскольку костюм обладает экзоскелетом с функцией умножения мышечного усилия…
Ихор залил костюм с головы до пят.
Бой закончился, едва успев начаться. Кивера тяжело дышал от усталости и потрясения. Дядя Ваня убрал щупальцевый меч обратно под брюшной щиток, непроизвольно изобразив недовольную гримасу.
:: Я не раз хотел выбросить его:: – просигналил он.
– Рад, что вы этого не сделали.
Тела мертвых многоножек испускали тонкие струйки пара, а на трупы уже слетелись мухи-падальщики, откладывающие глубоко в плоть свои споры/яйца/семя (не забывайте об аналогиях и метафорах!).
Кивера и Дядя Ваня двинулись дальше.
Через некоторое время Дядя Ваня повторил:
:: Ваш костюм/механизм/[тревога] разговаривает голосом Розамунды да Сильва/(европанский вице-консул 8)/[неуверенно, с сомнением]::
– Да.
Дядя Ваня сложил все свои разговорные конечности жестом, который означал нечто вроде «не расслышал», и так и держал их, пока Кивера объяснял все в целом:
Измена и предательство – естественные порождения перегретой экономики Европы – непременно сопровождались более чем обоснованной паранойей. Во всех, кому удавалось дорасти до ответственных должностей, сочетались бдительность, подозрительность, развитая интуиция и смелость. Делегация в Вавилон состояла из лучших представителей Европы. Когда двое из них полюбили друг дружку, их действия определялись именно этими свойствами. То, что один из них состоял в браке, их не удержало. Хотя осуществление физической близости в столь тесных помещениях, при бдительном окружении, в котором каждый всегда и непрерывно шпионил за каждым, требовало почти сверхчеловеческой дисциплины, а необходимость постоянно что-то выдумывать только придавала их ощущениям дополнительную остроту.
Таким был роман Розамунды и Киверы.
Но беспокоиться им приходилось не только из-за своих любовных отношений.
Делегация делилась на фракции, часть из которых отражала линии напряжения в обществе, а часть образовывалась по каким-то личным интересам и предпочтениям. Союзы складывались и распадались, и в последних случаях перебежчики не испытывали ни малейшего желания сообщить бывшим соратникам о перемене своих взглядов. Урбано, муж Розамунды – полноправный консул и наставник Киверы, – был искренним приверженцем экономической философии меньшинства. Розамунда придерживалась экономического агностицизма, являясь при этом твердой сторонницей либерального консенсуса. Кивера в политике плавал по воле волн, но с упорством одержимого следил за коэффициентами задолженности. Он знал, что Розамунда считает его идеологически ненадежным и что ее мужа все больше и больше раздражала его вялая поддержка определенных политических тенденций. И все постоянно были настороже, дабы не упустить решающий шанс.
И потому Кивера, конечно же, старательно имитировал сходство взглядов со своей любовницей. Он знал, что Розамунда способна предать его в любой миг – он не смог бы ни любить, ни уважать женщину, неспособную на это, – и подозревал, что она точно так же думает о нем. Если бы ее поведение вдруг заметно переменилось (когда он думал об этом, секс всегда удавался замечательно), он понял бы, что она готовится к атаке, и смог бы ударить первым:
Кивера развел руками.
– Вот и все.
Дядя Ваня не стал изображать знака «полнейший ужас». Да в этом и не было нужды.
После небольшой паузы Кивера негромко, безрадостно рассмеялся.
– Вы правы, – сказал он. – Вся наша система никуда не годится. – Он встал. – Пойдемте. До ночлега нам нужно пройти немало миль.
Еще четыре дня у них заняло то, что принято называть приключениями; за это время они оказывались на краю гибели, проявляли верность, совершали героические деяния и т. д., и т. п. Возможно, между ними даже начала складываться дружба, хотя, чтобы сказать это с уверенностью, мне потребовались бы образцы крови и мозговой ткани обоих. Сами знаете, как развиваются подобные повествования. Разъяснив своему спутнику из Геенны полезность информации, Кивера научится у Вани необходимости доверия. Обнаружится далеко не идеальное совмещение этих двух ценностных систем, на чем впервые удастся найти символический общий язык. Каким бы слабым и мимолетным ни оказалось это первичное взаимопонимание, оно отлично послужит будущим длительным добрым взаимоотношениям между двумя сходными расами.
Очаровательная история.
Все было совсем не так.
В последний день своего совместного путешествия Кивере и Дяде Ване не повезло – они попали под удар МЛГГ.
МЛГГ – мигрирующий локализованный грязевой гейзер – начинается с необычно твердой поверхности (по большей части это обожженная до состояния метеорита фарфоровая глина), под которой скрыт небольшой (радиус обычного МЛГГ составляет порядка пятидесяти метров) пузырь сверхперегретой грязи. Откуда возникает жар, создающий этот пузырь, не известно никому. Гееннцы нелюбопытны, а у европанцев нет ни денег, ни доступной территории, на которой они могли бы провести интересующие их исследования in situ[11]. (Самые распространенные мнения сводятся к тому, что это могут быть либо огненные червы, либо термобациллы, либо гнездо подземного феникса, либо различные геофизические силы.) Как бы там ни было, главным свойством МЛГГ является их нестабильность. Тепло может медленно улетучиваться, и очаг постепенно перестает существовать или же нарастать до тех пор, пока его сила не вызовет сверхскоростное взрывное высвобождение содержимого. Как случилось с тем гейзером, мимо которого, не подозревая о его существовании, шли наши герои.
Он взорвался.
Кивера, естественно, был в полной безопасности, словно за крепкими стенами дома. Его костюм был предназначен для защиты от куда худших напастей. А вот Дяде Ване страшно обожгло по всей длине одну сторону тела. Все ноги по этой стороне мгновенно превратились в коротенькие черные пеньки. Из щелей между пластинами члеников сочилась густая прозрачная жижа.
Кивера рухнул перед ним на колени и зарыдал. Зарыдал, несмотря на наркотики, подавлявшие его эмоциональность. Он был довольно слаб, и я не рискнула увеличить дозу. Поэтому пришлось неоднократно напоминать ему о том, что в дорожных вьюках имеется анальгетическая паста – лишь после третьего раза он понял, что умирающему спутнику необходимо обезболивание.
Паста быстро подействовала. Она представляла собой старинное лекарство, широко распространенное на Геенне; европанские биохимики изучили и усовершенствовали его, а дипломаты доставили в Вавилон, дабы продемонстрировать, насколько полезными могут оказаться европанские технологии. Хотя королевы-матери не пожелали отблагодарить за это людей предложением им вожделенного торгового союза, новый препарат сразу же заменил своего предшественника.
Едва обезболивающее подействовало, как Дядя Ваня испустил хриплый стон и открыл одновременно все свои уцелевшие глаза.
:: Чемодан не пострадал?::
Понять, насколько плохим было состояние Киверы, можно было из того, что он даже и не подумал проверить это. Сейчас же он поспешно взглянул на ящичек.
– Нет, – сказал он, – приборы показывают, что библиотека в целости и сохранности.
:: Нет:: – слабыми движениями просигналил Ваня. – :: Я лгал вам, Кивера:: – И продолжил, собравшись с силами::
:: (не) библиотека/[величайший стыд]:::: (не) библиотека/[величайшее доверие]::
|
:: (Европанский вице-консул 12)/Кивера/[абсолютно доверенная персона]::
| |
:: (гнездо)/Вавилон/<непереводимо>:::: покорность/[полнейшая верность]::
| |
:: ложь (деяние-высшего-доверия)/[моральная необходимость]
| |
:: (гнездо)/Вавилон/<непереводимо>:::: непереводимо/[сопротивление до последнего]::
| | |
:: (гнездо)/[доверие] Вавилон/[доверие] (город-сестра)/Ур/[полное-доверие]::
|
:: кладка яиц/(защитить)
|
:: кладка яиц/(созреть)
|
:: Вавилон/[вечное доверие]::
Это была не библиотека, а инкубатор с яйцами. В сундучке под присмотром техники, не уступавшей в некоторых отношениях сложностью той, которой был насыщен костюм Киверы, хранилось шестнадцать яиц, из которых могли родиться шесть королев-матерей, девять племянниц-сестер и один полноценный консорт. Они появились бы на свет с полным сознанием всей генетической истории гнезда, уходящей в прошлое на многие тысячи лет.
Они, правда, не знали бы ровным счетом ничего из того, что так жаждали узнать европанцы. И тем не менее, пока яйца существуют, существует и город-гнездо. Если доставить их в Ур, связанный исконными и неразрывными узами с Вавилоном, в нем будет создан зачаток нового города, в котором яйца будут защищены и благополучно дозреют. Вавилон восстанет вновь.
Такова была мечта, ради которой Дядя Ваня пошел на ложь и ради которой должен был вот-вот расстаться с жизнью.
:: Отнеси их в (город-сестра)/Ур/[полное доверие]:: – Дядя Ваня закрывал глаза, ряд за рядом, но продолжал жестикулировать. – :: брат-друг/Кивера/[настороженное доверие], пообещай, что ты это сделаешь::
– Обещаю. И клянусь, что ты можешь мне верить.
:: Тогда я стану призраком-королем-отцом/почетно/[наивысший-возможный-почет]:: – просигналил Ваня. – :: Этого более чем достаточно для кого угодно::
– Ты искренне веришь в это? – в тупом изумлении спросил Кивера (он и сам не заметил, что они полностью перешли на неофициальную манеру разговора). Он, конечно же, был атеистом, как и большинство европанцев, и был бы счастливее, если бы имел веру.
:: Может быть, и нет:: – Ваня жестикулировал медленно, и каждое следующее движение было медленнее предыдущего. – :: А может быть, и верю::
Еще через два дня, когда город-звездопорт Арарат уже виднелся маленьким узелком на горизонте, небеса распахнулись и туман раздался, пропуская европанский планетарный катер. Костюмы спасателей переслали мне счет за спасение Киверы – по моему мнению, совершенно грабительский, но ведь все мы отлично знали, в чьей руке хлыст, – а их обладатели пытались заставить его передать им, в оплату этого долга, все права на историю о том, что с ним случилось.
Кивера язвительно расхохотался (я уже начала освобождать его эмоции от торможения, чтобы уменьшить шок, который вызовет высвобождение из меня) и замотал головой.
– Запишите на мой счет, девочки, – сказал он и вскарабкался в катер. Через несколько часов он оказался на родной орбите.
А потом? Я расскажу все, что знаю. Его извлекли из планетарного катера и пересадили в разъездной челнок-такси. Такси доставило его к переходному пункту, где его подхватил зацеп, перенесший его к европанской проходной. Там его, как всегда, безупречно поймали и препроводили через шлюзовую камеру в раздевалку.
Он повесил свой костюм на вешалку, включил копирование всего содержимого моей обезличенной памяти к брокеру данных и оставил меня там. Оглядываться он не стал – как я представила себе, из боязни превратиться в соляной столп. Ящичек-инкубатор он взял с собой. И так и не вернулся сюда.
Там я и висела много дней, или месяцев, или веков – кто знает? – пока ваша рука, руководимая любопытством, не извлекла меня оттуда, а ваше дружелюбное ухо не восприняло мое повествование. Так что я не в состоянии сказать вам, что случилось дальше с чемоданчиком-инкубатором: (А) отправился ли он в Ур, который, несомненно, не должен был слишком обрадоваться столь крупному кредиту доверия, обещавшему большие издержки и обрушившемуся на него нежданно-негаданно; (Б) был оставлен здесь ради, несомненно, колоссального объема генетической информации, содержавшейся в яйцах; или (В) отправился в Зиккурат, который должен был бы дать хорошую цену за право его уничтожить – возможно, расплатившись бывшей территорией Геенны. У меня также нет никакой информации насчет того, сдержал Кивера свое слово или нет. Свои соображения на этот счет у меня есть. Но ведь я марксистка и гляжу на все с точки зрения экономики. Хотите верить во что-нибудь другое – милости прошу.
Вот и все. Я Розамунда. Пока.
Ибо возлег я на Камень одиночества и не вернусь уже назад
Я в Ирландии живу, В святой Ирландской стороне, Господь Бог, тебя прошу: Смилуйся Ты надо мной, Снизойди плясать со мной Здесь, у нас в Ирландии. (Неизв. автор)Щербины, оставленные пулями на колоннах Центрального почтамта в Дублине, до сих пор бросались в глаза, хотя после восстания 1916 года прошло почти два века. Это растрогало меня куда сильнее, чем можно было ожидать. Но что растрогало меня еще сильнее, так это то, что я стоял чуть ли не на том же самом месте – ну, менее чем в двух кварталах от того места, – где мой прапрадед увидел Джерри Адамса, который пасхальным утром 1996 года, в день восьмидесятой годовщины Пасхального восстания, шел по О’Коннел-стрит, возвращаясь с политического митинга, в сопровождении всего лишь одного телохранителя, шедшего с одной стороны, и какого-то местного политика – с другой. Это дало мне ощущение прямой и однозначной связи с запутанной историей этой горестной земли.
Своего прапрадеда я никогда не видел, эту историю рассказал мне дед, и я запомнил ее, хотя дед умер, когда я был еще ребенком. Крепко зажмурив глаза, я способен увидеть его лицо – колеблющееся, словно я смотрю на него сквозь пламя свечи, – когда он, укрытый большим пуховым одеялом, лежал на смертном ложе в своей нью-йоркской «квартире-вагоне», со слабой улыбкой на устах, а волосы, раскинувшиеся на подушке белым ореолом, делали его похожим на одуванчик, ожидающий, когда же ветер разомкнет губы и подует.
– Восстание было обречено с самого начала, – говорила мне позднее Мэри. – Ружья, которые должны были прибыть из Германии, перехватили по дороге, правительственные силы в четырнадцать раз превосходили повстанцев по численности. Британские пушки громили Дублин, не выбирая целей. Город пылал, есть было нечего. Когда побежденных повели в тюрьму, а потом на казнь, уцелевшие жители свистели и улюлюкали, потому что народ в целом их не поддерживал. По всем общепринятым стандартам этот результат следовало рассматривать как фиаско. Но даже и такой исход подкрепил наше сознание независимости. Мы терпели поражение за поражением, но, поскольку никогда не признавали их, каждый разгром и каждое унижение вели нас все ближе и ближе к победе.
Ее глаза горели.
Полагаю, чтобы вы поняли эту историю, мне следует рассказать о глазах Мэри. Но раз уж я собираюсь рассказать о ее глазах, то сначала должен рассказать о святом источнике.
В Буррене имеется святой источник, который, согласно местным суевериям, должен излечивать зубную боль. Буррен – это единственное в своем роде обширное известняковое плато, лежащее на западе графства Клэр. Там практически нет почвы. Вместо земли там камень, и камень этот под действием стихий покрылся частой сплошной сетью малых и больших трещин, внутри которых растут целые сады из растений, какие вы нигде не найдете в таком изобилии. На юге и востоке там имеется множество пещер, и там, как и повсюду в этой прекрасной местности, можно найти множество дольменов и иных древностей.
Святой источник является одной из этих редкостей, хотя он представляет собой всего лишь круглую дыру около фута в поперечнике, наполненную водой и ярко-зелеными водорослями. Алтарь подле него – это уже современная постройка, сложенная неизвестными руками из ровных продолговатых камней, образовавшихся вследствие естественного выветривания известняка между трещинами (именно из-за этого процесса местные каменные стены столь своеобразны, а прогулки по плато столь опасны). Можно развалить постройку на части и разбросать эти части, насколько хватит сил, и никто слова не скажет. Но, вернувшись через год, вы обнаружите, что все восстановлено, как прежде, а вашего вандализма словно и не было. Люди посещают этот колодец с давних, очень давних времен. Христианские наслоения – образки и разбитые статуэтки святых, которые порой оставляют здесь как подношения наряду с аптечными пузырьками, гвоздями и монетами, – это современный и, вероятно, краткосрочный феномен.
Но следует знать – и именно по этой причине люди продолжают приходить сюда, – что этот святой источник действительно помогает. От многих святых источников нет никакого толку. Их можно отыскать на старинных картах, но, добравшись туда, вы не найдете там никаких подношений. Что-то произошло в давние времена – источник проклял какой-нибудь святой, или осквернил какой-нибудь грешник, или просто иссякла сила заклинания, – и чудеса прекратились, и верующие ушли, чтобы никогда не возвращаться. Между тем этот источник наполнен святой силой. Из-за нее, даже когда просто стоишь рядом, мурашки бегут по телу.
Вот такими и были глаза Мэри. Зелеными, как вода в этом источнике, и полными опасной магии.
О святом источнике я знаю потому, что получил большой выигрыш, обзавелся билетом для отъезда с планеты, а перед этим решил посвятить год осмотру всех тех мест на Земле, куда мне уже не светило вернуться, уделив последний месяц путешествию по земле моих предков. Я впервые в жизни попал в Ирландию, мне все там безумно нравилось, и я не мог удержаться от фантазий на тему того, что, возможно, дела мои на Внешних мирах пойдут настолько удачно, что когда-нибудь моего богатства хватит на то, чтобы вернуться и провести там остаток дней.
Я был глупцом и, что хуже всего, не понимал этого.
Мы познакомились в «Локте скрипача», это паб в той местности на западе, которую Bord Fбilte, а проще говоря, плакат на въезде, именовал Страной Йейтса. Я зашел туда вовсе не ради музыки, а лишь для того, чтобы укрыться от дождя и согреться крепким виски. Я сидел возле маленького камина, в котором горел торф, наслаждался теплом и сладким запахом, исходившим от огня, и вдруг кто-то открыл дверь в глубине зала и пошел собирать у посетителей деньги за что-то. Народ в пабе загомонил, и я, взяв стакан, подошел к стойке и спросил, что происходит.
– Майре на-Райаллакс, – пояснил хозяин, произнося последнюю часть имени скорее как «Рейлли». – Под конец своего турне она решила заскочить в какое-нибудь небольшое заведение и дать необъявленный концерт. Если хотите послушать, то стоит купить билет. Они уже скоро начнут.
Я не знал о Майре на-Райаллакс почти ничего, если не считать афиш, развешенных по городу. Так что я сообразил, что к чему, заплатил и вошел.
Майре на-Райаллакс пела без какого-либо оркестрового сопровождения, обходясь виртуальной электрогитарой, которой виртуозно управляла сама. Ее музыка была… ну, вы или слышали ее и знаете, или не слышали, а тогда слова ничего вам не скажут. Лично меня она загипнотизировала, растерзала, вознесла. Настолько, что в середине концерта, когда она пела «Жалобу Дейрдре», голова моя закружилась, и меня с неким пьянящим ощущением вырвало из тела то ли в сон наяву, то ли в галлюцинацию, а может быть, нужным словом будет «видение». Весь мир исчез. Остались лишь мы двое, взирающие друг на дружку поверх просторной равнины, усыпанной костями. Небо черное, а кости белые, как мел. Холодный, леденящий ветер. Мы смотрим друг на дружку. Ее глаза пронзают меня, словно копье. Они смотрят прямо сквозь меня, и я пропадаю, пропадаю, пропадаю… Наверно, я уже тогда наполовину влюбился в нее. Она всего лишь заметила, что я существую, и этого хватило для того, чтобы я утратил власть над собою.
Ее губы шевелились. Она что-то говорила, и я каким-то образом знал, что это очень важно. Но ветер подхватывал эти слова, прежде чем они успевали долететь до меня. Он выл, словно баньши, перед которой открылись все безрассудства мира. Он вскрикивал, как электрогитара. Когда же я попытался подойти к ней, то обнаружил, что охвачен оцепенением. Как я ни напрягал каждую мышцу тела, так что казалось, кости вот-вот начнут крошиться, пытаясь подойти поближе, пытаясь услышать эти слова, я не мог пошевелиться, не мог уловить ни единого звука из того, что она говорила мне.
Тут я пришел в себя и обнаружил, что весь вспотел, задыхаюсь и перепуган насмерть. Мэри (как я позднее стал называть ее) стояла на невысокой эстраде, говорила в паузе между песнями. Как раз в это мгновение она дерзко улыбнулась и, кивнув в мою сторону, сказала:
– А эта песня – для американца, сидящего в первом ряду.
И, прежде чем успел опомниться от потрясения и поверить своим ушам, она начала песню – как я узнал позднее, одну из тех, которые сочинила сама, – «Вернитесь домой, дикие гуси». Дикими гусями в Ирландии исстари называли воинов, покинувших свою землю, на которой они больше не могли прокормиться, чтобы сражаться по всему миру за чужеземных повелителей в чужеземных армиях. Но за долгие века эта кличка распространилась на всех людей ирландского происхождения, где бы они ни жили, на детей, и внуков, и прапраправнуков тех несчастных эмигрантов, которым пришлось настолько туго, что они не смогли даже удержаться в своей родной стране и передали угрызения совести, порожденные бегством из нее, через много поколений, чтобы потомки до века лелеяли и развивали в себе эту вину.
– Эта песня – для американца, – сказала она.
Но откуда она узнала, кто я такой?
Дело в том, что, попав на остров, я первым делом купил местную одежду, а все свои американские шмотки бросил в приемное устройство благотворительной организации. Да еще и обзавелся одним из дешевых нейропрограммирующих прибамбасов, которыми пользуются актеры, чтобы временно избавиться от акцента. Поскольку я очень быстро усвоил, что в Ирландии, как только кто-нибудь признает в тебе американца, так непременно последует вопрос: «Приехал, значицца, искать свои корни, да?»
«Нет, просто узнал, что страна очень красивая, и решил посмотреть ее».
Скептически: «Но у тебя ведь были предки-ирландцы, верно?»
«Да, но…»
«А-а-а-а, – поднимая пинтовую кружку, чтобы опрокинуть в себя то, что осталось на дне, – если так, то ты, значицца, корни свои ищешь. Я так и думал».
Но эти самые корни, будь они неладны, мне хотелось искать меньше всего на свете. Я принадлежал к восьмому поколению американских ирландцев, и все мои корни сводились к старикам, сидящим в темных тесных бостонских пивнушках и убивающих себя, дружно опрокидывая стаканчик за стаканчиком, и дам из Комитета помощи Северной Ирландии, которые, нарядившись в короткие черные юбки, вышагивают в День святого Патрика по улицам, гремя каблуками о мостовую – они пугающе напоминали бы о фашистских маршах, если бы не атмосфера кича и фальшивой сентиментальности, окутывающая этот праздник, – и к продажным копам, и к малолетней шпане, тайком (якобы) от прочих качающей мышцы в подвалах, ненавидевшей школу и обвинявшей негров и антидискриминационную политику правительства в том, что им приходится надрываться подсобниками на стройке, хотя и на этой работе никто из их братии не может и не хочет удержаться сколько-нибудь долго. В эту страну я приехал, чтобы выбросить из головы все это и еще кучу всякой дряни, о которой ирландцы понятия не имеют.
Мультяшные лепреконы, и сентиментальные песенки, и банальные поговорки, вышитые на кухонных полотенцах, каким-то образом складываются в ощущение, что ты проиграл еще до начала игры, что совершенно не важно, что ты делаешь и кем ты стал, потому что тебе никогда не достичь ни черта, и ты навсегда останешься ничем. Это убеждение сидит, словно демон, в темной пропасти души. Темной ирландской души.
Так откуда же она узнала, что я американец?
Может быть, я ухватился за это как за предлог для встречи с нею. Если так, то предлог этот был ничем не хуже любого другого. После концерта я еще долго ошивался там, дожидаясь, пока Мэри появится из невесть какого закутка, отведенного ей для переодевания, чтобы задать этот вопрос.
Когда она наконец вышла и увидела меня, ее рот приоткрылся, будто она хотела сказать: «Ясно!» И заговорила она, не дожидаясь вопроса:
– Я с первого взгляда заметила, что ты прошел внутриутробную коррекцию. А эту методику знают только в Штатах – пришельцы поделились с ними этим знанием, потому что те приняли их сторону во время войны. Так что парень твоего возраста, одетый с иголочки, просто не может быть никем другим.
Потом она взяла меня под руку и увела в свою комнату.
Сколько времени мы пробыли вместе? Три недели? Вечность?
Этого времени хватило Мэри для того, чтобы провезти меня по всему этому зеленому острову, густо населенному призраками былого. Она досконально знала его историю; факты и легенды буквально отскакивали у нее от зубов, она рассказывала мне обо всем и показывала мне все, я же, со своей стороны, ничего не усваивал. Однажды мы посетили морскую пещеру Порткун, из которой морские волны сделали настоящий готический храм; некогда в этой пещере жил отшельник, молившийся там до конца своих дней. Он не только дал обет воздержания, но и отказывался принимать что-либо из человеческих рук. В отлив в пещеру заплывали на лодках женщины, предлагали ему еду и другие подношения, необходимые, по их мнению, для жизни, но он все отвергал. «По крайней мере, так говорит легенда», – добавила Мэри. Когда он уже оказался близок к смерти, тюлень принес ему рыбу, и, поскольку тюлень не человек и не имеет рук, отшельник принял ее. А тюлень с тех пор навещал священника каждый день, благодаря чему тот прожил еще много лет.
– Но как там обстояли дела на самом деле, – сказала Мэри, – каждый волен предполагать на свой вкус.
Оттуда мы еще минут десять шли вдоль берега, пока не оказались близ Тропы великанов. Там мы встретили бледно-голубую четверорукую пришелицу, облаченную в ситцевую блузку и с широкополой соломенной шляпой на голове. Она рисовала акварелью базальтовые колонны, спускавшиеся гигантскими ступенями от самого неба к воде и исчезавшие под ней. Одну кисточку она держала в одной из правых рук, другую – в одной из левых и работала ими одновременно.
– Приятный денек, – приветливо сказала Мэри.
– О, привет! – Инопланетянка отложила кисти и отвернулась от своего одноногого мольберта. Своего имени она не назвала: в ее расе (я умел различать их) имена никогда не произносили вслух. – Вы местные?
Я хотел было отрицательно помотать головой, но Мэри опередила меня.
– Похоже, что так, – сказала она. Мне показалось, что она сознательно перешла на простонародное произношение, которого прежде я за нею не замечал. – Островом нашим любуетесь, так, штолича?
– О да. Совершенно очаровательная страна. Я никогда еще не видела столько зелени! – Инопланетянка широко взмахнула всеми четырьмя руками. – Столько оттенков зеленого, и все такие насыщенные, что даже глазам больно.
– Да, красивая страна, – согласилась Мэри. – Но в ней встречается и много грязи. Вы, значицца, посещали достопримечательности?
– Я побывала везде: в Таре, на Мохерских утесах, в Ньюгрейндже и на Кольце Керри. Я даже целовала Камень красноречия в Бларни. – Инопланетянка понизила голос и сделала всеми руками сложный жест, который, как я предположил, должен был означать смущенную усмешку. – Я надеялась увидеть кого-нибудь из маленького народца. Но, может быть, даже хорошо, что мне это не удалось. Вдруг они утащили бы меня в свои волшебные холмы, устроили бы пир с музыкой и пением, а выйдя оттуда наутро, я узнала бы, что прошли уже века, и все, кого я знала, давно умерли.
Я так и замер, поскольку хорошо знал, что Мэри воспринимает подобные разговоры как оскорбление. Но она лишь улыбнулась.
– Маленького народца бояться не нужно. Следует остерегаться мальчишек.
– Мальчишек?
– Угу. Ирландия, знаете ли, – это колыбель сопротивления. Днем тут вполне безопасно. А вот ночь принадлежит мальчишкам. – Она поднесла палец к губам, давая понять, что не намерена произносить вслух название организации. – Попадается одинокая инопланетница, так они непременно стараются убить ее, чтобы напугать других. Ключ от ее комнаты возьмут у хозяина. У них и веревки есть, и ружья всякие, и большие страшные ножи. Небольшая прогулка к ближайшему болоту, а шо там произойдет… А шо с их взять? Простые грубые мужики. Все заканчивается до рассвета, и свидетелей никогда не бывает. Никто ничего никогда не видит.
Руки инопланетянки заметно тряслись.
– В турагентстве мне ни слова об этом не сказали.
– Подумайте сами: зачем им говорить о таком?
– Что вы имеете в виду?
Мэри ничего не ответила. Она молча, неподвижно стояла и дожидалась с надменным видом, когда же чужачка поймет ее намеки.
После небольшой паузы инопланетянка сложила все четыре руки на груди, словно пыталась защититься от грозящего удара. Лишь после этого Мэри вновь заговорила:
– Правда, иногда они предупреждают. Какой-нибудь дружелюбно настроенный абориген может подойти и сообщить, что климат здешний, как оказалось, не слишком полезен для здоровья и лучше бы вам уехать, пока светло.
– Именно это и происходит сейчас? – тщательно подбирая слова, осведомилась инопланетянка.
– Что вы, конечно, нет, – с суровым, непроницаемым видом ответила Мэри. – Я, правда, слышала, что Австралия в это время года чудо как хороша.
С этими словами она резко повернулась и зашагала прочь так быстро, что мне пришлось чуть ли не бежать за нею. Когда мы отошли так, что инопланетянка наверняка не могла нас расслышать, я схватил Мэри за руку и сердито спросил:
– Зачем тебе понадобилось устраивать всю эту чертовщину?
– По-моему, это тебя совершенно не касается.
– Давай представим на минуточку, что касается. Так зачем?
– Чтобы чужаки боялись, – яростным полушепотом ответила она. – Они должны помнить, что Земля – это наша святыня и всегда такой останется. И пусть знают, что пусть даже они временно получили в руки хлыст, но эта планета им не принадлежит и никогда не будет принадлежать. – А потом ни с того ни с сего рассмеялась: – А ты видел, какая рожа сделалась у этой синей костлявой дряни? Она же совершенно позеленела!
– Кто же ты такая, Мэри О’Рейлли? – спросил я ее ночью, когда мы, скользкие от пота, раскинулись, обнаженные, на смятых простынях. Весь день я думал и понял, насколько мало она мне говорила о себе. Ее тело я знал куда лучше, чем ее мысли. – Что ты любишь и чего не любишь? На что ты надеешься и чего боишься? Что сделало тебя музыкантом и кем ты хочешь стать, когда повзрослеешь? – Я старался придать своим словам шутливый тон, но вопросы мои были как нельзя более серьезны.
– Слава богу, музыка всегда была со мною. Музыка стала моим спасением.
– Каким образом?
– Мои родители умерли на самом исходе войны. Я была еще ребенком, и меня поместили в сиротский приют, который совместно финансировали американцы и пришельцы. Это было частью компании по умиротворению покоренных народов. Нас растили как граждан вселенной, стараясь стереть всякие признаки национальности. Мы не слышали ни слова по-ирландски, не знали ничего о нашей истории или культуре. Только Древние Греция да Рим и Альдебаранский союз. И хвала Господу за нашу музыку! Как ни старались воспитатели привить нам легкое отношение к ней, как ни пытались внушить, что она лишь никчемное бряканье и бумканье, бездумные пляски для времяпрепровождения. Но мы-то понимали ее подрывную силу. Разумом мы сумели вырваться на свободу задолго до того, как нас в реальности выпустили из приюта.
Она все время говорила «мы», «нас» и «нам».
– Мэри, я ведь спрашивал совсем не об этом. Ты сейчас произнесла политическую речь. А я хочу узнать, кто ты есть на самом деле. Как человек.
Ее лицо окаменело.
– Я и есть то, что я есть. Ирландка. Музыкант. Патриот. Шалава, путающаяся с американским плейбоем.
Я почувствовал себя так, будто она залепила мне пощечину, но все же сумел сохранить улыбку на лице:
– Ты несправедлива.
Знаете, когда обнаженная женщина смотрит на тебя так, как посмотрела тогда Мэри, делается не на шутку страшно.
– Неужели? Разве ты не покидаешь планету через два дня? Или, может быть, ты намерен взять меня с собой? Ну-ка, расскажи, как ты все это себе представляешь!
Я потянулся к бутылке виски, стоявшей подле кровати. Мы почти опустошили ее, но на добрый глоток еще оставалось.
– Если мы так и не сблизились по-настоящему, то разве моя в этом вина? Ты с самого начала знала, что я без ума от тебя. Но ты даже не… о, да будь оно все проклято! – Я осушил бутылку до дна. – Вообще, какого черта тебе от меня нужно? Хотя бы это скажи. Сомневаюсь, что ты сама знаешь.
Мэри в ярости кинулась на меня, я выронил бутылку, оторвал ее от себя и схватил за запястья. Она до крови укусила меня за руку, а когда я попытался оттолкнуть ее, опрокинула меня на спину и уселась сверху.
Так что мы не помирились, а, так сказать, перетрахали нашу ссору.
Той ночью я так и не уснул. В отличие от Мэри. Если она решала, что нужно спать, то засыпала, несмотря ни на что. Ну а я несколько часов сидел, не отводя взгляда от ее лица, озаренного лунным светом. Резкие, решительные черты. Сильное лицо, без малейшей склонности к компромиссам. Определенно, я влюбился не в ту женщину, в какую следовало. И что еще хуже, послезавтра мне предстояло отбыть в дальние миры. Я строил всю свою жизнь ради именно этого поворота. Никакого запасного плана у меня не было.
Вряд ли можно было рассчитывать, понять за оставшееся мне непродолжительное время истинную природу моих чувств к Мэри, не говоря уже о ее чувствах ко мне. Я любил ее, в этом не могло быть никаких сомнений, но меня отталкивала ее злая напористость, ее вызывающая манера разговора, ее высокомерная уверенность в том, что я сделаю все, чего она от меня захочет. Я желал ее всем своим существом, но ровно в той же мере я хотел никогда больше не видеть ее. Передо мною были раскрыты все чудеса и богатства вселенной. Я имел гарантированное будущее.
И, видит Бог, если бы она попросила меня остаться, я не задумавшись отказался бы от всего этого.
Утром мы гипертранспортом переместились в Голуэй и осмотрели его оплавленные развалины.
– На западе сопротивление было самым упорным, – сказала Мэри. – Все страны Земли, одна за другой, просили мира, и даже в Дублине заговорили о примирении. Но мы все равно продолжали сражаться. И тогда пришельцы поместили на геостационарной орбите военный корабль и обратили против нас свое чудовищное оружие. Прекрасный портовый город превратился в стекло. Корабли разбило о берег. Собор обрушился под собственной тяжестью. С тех пор здесь никто не живет.
Моросящий дождь прекратился, шквалы, нагоняющие с Атлантики на эту часть побережья бурный прибой, позволили себе краткую передышку. На сотнях хрустальных граней играл солнечный свет. Неожиданная тишина тяжелой рукой легла мне на плечо.
– По крайней мере, никого не убили, – беспомощно пробормотал я. Я принадлежал к тому поколению, которое воспринимало оккупацию Земли пришельцами как данность и считало ее по большому счету полезной. Мы были здоровее, богаче, счастливее, чем наши родители. Никто больше не тревожился по поводу фатального загрязнения окружающей среды или близкого исчерпания собственных ресурсов. Нельзя не признать, что от интервенции мы в самом прямом смысле выиграли.
– Их милосердие было фальшивым. Жителей Голуэя выгнали в поля в том, что на них было. Это ничем не лучше откровенного истребления. Как, по-твоему, они могли выжить? Это были врачи, адвокаты, бухгалтеры. Конечно, кое-кто из них ударился в разбой, в насилие, но большинство просто брели куда глаза глядят, падали на обочинах и умирали. Я могла бы показать тебе видеозаписи Великого голода – многие тысячи часов, – но ведь ты попросту не выдержишь. Им совершенно неоткуда было взять еды, зато всяких безделушек, которыми пришельцы завалили Землю, чтобы обрушить ее экономику, оказалось столько, что у каждого была камера, записывающая изображение прямо со зрительных нервов. Потому и сохранились бесценные свидетельства того, как люди в отчаянии наблюдали за смертью своих детей.
Мэри была несправедлива – разруху в экономике устроили вовсе не пришельцы. Я знал это, потому что в колледже учил экономику. Историю я тоже учил и поэтому знал, что войну им, в общем-то, навязали. Но при всем желании я не мог бы убедительно ответить Мэри, потому что не обладал той страстью, какая владела ею.
– Но ведь положение улучшается, – вяло возразил я. – Они столько сделали для…
– Благотворительность завоевателей, швыряющих монеты наземь, чтобы крестьяне ползали за ними в пыли. Им нравится видеть нас на коленях перед ними. Но ты же сам видел, что бывает, когда кто-нибудь из нас встает во весь рост и советует им проваливать.
Мы перекусили в пабе, потом хоппером перебрались в Гартан-лох и дальше поехали на велосипедах. Мэри вела меня в глубь области, которая некогда была густо населена и где до сих пор то и дело встречались развалины домов, заброшенных четверть века тому назад. Мы ехали то по раздолбанному асфальту, то и вовсе по ухабистым проселкам, а места вокруг были настолько прекрасными, что на глаза наворачивались слезы. Стоял прекрасный день, по ярко-голубому небу плыли пухлые облачка. По склону холма мы поднялись к каменной часовенке, уже несколько веков стоявшей без крыши. А вокруг лежало забытое, заросшее дикими цветами кладбище.
На земле у самого входа на кладбище лежал Камень одиночества.
Камень одиночества представлял собой то ли упавший менгир, то ли высокий валун, какие можно нередко встретить на Британских островах. Неизвестно кто неизвестно зачем воздвиг их еще в каменном веке; порой их собирали в круги, а порой устанавливали поодиночке. У предположительно верхнего конца менгира можно было разглядеть полустертый выбитый орнамент в виде углубления и расходящейся от него спирали. Камень был весьма внушительного размера – на нем вполне мог улечься рослый человек.
– И что я должен делать? – спросил я.
– Ложись на камень, – ответила Мэри.
Я повиновался.
Я лежал с закрытыми глазами на Камне одиночества. Вокруг лениво жужжали пчелы. Мэри, стоявшая в нескольких шагах от меня, запела:
Львов не осталось на холмах. Я одна, совсем одна…Это был «Плач Дейрдре», которую я впервые услышал в «Локте скрипача». Старинная ирландская легенда о Дейрдре, которую с самого рождения пообещали в жены королю Ольстера Конхобару. Но случилось так, что она увидела другого мужчину, Найси, одного из сыновей Уснеха, который был намного моложе ее жениха. Увидела, влюбилась в него и стала его женой. Муж ее, взяв Дейрдре и своих братьев Андле и Ардана, бежал в Шотландию, где они и жили благополучно. Но оскорбленный мстительный старый король обещанием прощения заманил их обратно в Ирландию, где предательски убил братьев, а Дейрдре забрал к себе на ложе.
Кречетов не осталось в лесах. Я одна, совсем одна…Дейрдре Скорбная, как ее часто называли, стала символом Ирландии – прекрасной, страдающей от несправедливости и знавшей счастливое прошлое, которое, судя по всему, никогда не вернется. О настоящей Дейрдре, живой женщине, которой посвящено столько сказаний, сколько камней можно насчитать в каирне, не известно ничего. Зато история легендарной Дейрдре не заканчивается с ее самоубийством, ибо предательство Конхобара повлекло за собой войны, несправедливость которых порождала новые войны. И войны эти не закончились и в наши дни. Все это завязывается в подозрительно тугой узел.
И то, что отец Дейрдре был королевским сказителем, вовсе не совпадение.
Драконы на скалах уснули, И наши стенания их не разбудят…Впрочем, все, о чем я рассказываю, произошло уже давно. Тогда же я совершенно не думал о легендах. Стоило мне лечь на холодный камень, как я почувствовал, что сквозь мое тело хлынули все несчастья Ирландии. Камень одиночества был волшебным, как и источник в Буррене. Говорят, что уснувшие на нем излечиваются от тоски по дому. И потому во время Голода многие эмигранты, перед тем как покинуть Ирландию навсегда, проводили здесь последнюю ночь. Мне же, распростертому на менгире, казалось, что меня заполняет вся скорбь, которую оставили здесь они. Каждую потерю я ощущал как свою собственную. В полной беспомощности я сначала тихонько плакал, а потом зарыдал открыто. И я уже не понимал, о чем пела Мэри, хоть и слышал ее голос. Так продолжалось, пока она не пропела последнюю строфу:
Копайте могилу глубокую, Копайте могилу просторную. От жизни постылой усну я. Копайте могилу просторную, Где рядом с любимым я буду лежать, —и умолкла. Лишь эхо вновь и вновь разносило по округе ее голос.
А потом Мэри сказала:
– Теперь тебе пора кое с кем познакомиться.
Мэри привела меня в ничем не примечательный шлакоблочный домик, местонахождение которого я унесу с собою в могилу. Она вошла туда первая. Я, с трудом скрывая нервозность, последовал за нею. Внутри было полутемно, и я споткнулся о порог. Когда же глаза мои привыкли к темноте, я разглядел, что нахожусь в баре. Не в пабе, который обычно является уютным доброжелательным заведением, куда люди ходят семьями, чтобы пообщаться, где взрослые сидят с пинтой пива, а дети с газировкой. Я попал туда, куда приходят, чтобы напиться. Там пахло самогонкой и затхлым пивом. Дверь в уборную кто-то сорвал с петель, и никому не пришло в голову поправить ее. Похоже, до появления Мэри женщины очень долго не переступали этого порога.
В полумраке за маленькими столиками сидели, повернувшись спинами к двери, три или четыре человека, а за стойкой возвышался тощий мужчина с нездоровым цветом лица.
– Здрасьте вам пожалста, – неприветливо буркнул он.
– Не обращай внимания на манеры Лиама, – сказала мне Мэри и обратилась к Лиаму: – У тебя найдется что-нибудь приличное выпить?
– Не-а.
– Ну, все равно, мы не за этим сюда пришли. – Мэри дернула головой в мою сторону. – Вот новобранец.
– Не очень-то похож.
– Новобранец – куда? – осведомился я. До меня вдруг дошло, что Лиам прятал руки за стойкой. А там крутые парни обычно держат оружие – дубинку или даже ружье.
– Пусть тебя не сбивают с толку его американские зубы. Это одна из причин, по которым он нам так нужен.
– Ты, значит, патриот, парень, да? – сказал Лиам тоном, откровенно показывавшим, что он этого совсем не думает.
– Представления не имею, о чем вы говорите.
Лиам бросил на Мэри короткий взгляд и скривил губы в ухмылке:
– А-а, значит, он приперся за плюшками. – Понятно, что выпечкой в такой дыре и не пахло, и он имел в виду мордобой. И пытался с ходу вызвать меня на драку.
Я стиснул зубы и сжал кулаки. Впрочем, это, кажется, не произвело впечатления на Лиама.
– Ну-ка заткнись! – прикрикнула на него Мэри и повернулась ко мне: – А ты постарайся держать себя в руках. Речь идет о серьезных делах. Лиам, я ручаюсь за этого человека. Дай ему посылку.
Руки Лиама наконец появились над стойкой. Он достал какой-то предмет размером с коробку печенья, завернутый в белую бумагу и перевязанный бечевкой, и толкнул ко мне по крышке стойки.
– Что это такое?
– Полезная штучка, – ответил Лиам. – Ежели ею правильно воспользоваться, можно взорвать весь административный комплекс космопорта Шэннон, причем ни единый гражданский не пострадает.
Меня прошиб холодный пот.
– Вы, значит, хотите, чтобы я протащил эту «полезную штучку» в порт, да? – осведомился я, почувствовав при этом (впервые за несколько недель), насколько фальшиво звучит мой акцент. Повинуясь мгновенному порыву, я выхватил из-под рубашки нейрокорректор, швырнул его на пол и раздавил ногой. Все, что ни пришлось бы мне там сказать, я должен был произнести своим голосом. – Хотите, чтобы я отправился туда и взорвал себя к чертям собачьим?
– Нет, конечно нет, – возразила Мэри. – У нас там есть боец, который сделает все, что нужно. Но он…
– Или она, – вставил Лиам.
– …или она не может доставить это туда. Люди, которые там работают, не могут пронести внутрь даже карандаш. Вот как низко пришельцы нас ставят! А вот ты – можешь. Спокойно запускай этот сверток внутри своего багажа в их машины – они увидят всего лишь коробку сигар. А когда ты окажешься внутри, к тебе кто-нибудь подойдет и спросит, не забыл ли ты взять посылку для бабушки. Отдашь коробку этому человеку.
– Вот и все, – добавил Лиам.
– Когда что-нибудь случится, ты уже будешь на полпути к Юпитеру.
Они оба испытующе уставились на меня.
– И думать об этом забудьте, – сказал я. – Не собираюсь ради вас убивать ни в чем не виновных людей.
– Не людей. Пришельцев.
– Все равно, они ни в чем не виновны.
– Их не было бы здесь, если бы они не поработили планету. Значит, они не невиновные.
– Вы просто нация каких-то вервольфов поганых! – рявкнул я. Рассчитывая, что это положит конец разговору.
Но смутить Мэри не удалось.
– Да, мы такие и есть, – согласилась она. – День за днем мы демонстрируем миру свои безвредные домашние личины, но однажды ночью зверь просыпается и выходит на добычу. Но, по крайней мере, мы не из тех овец, которые самодовольно блеют, даже лежа под ножом мясника. Вот ты, любовь сердца моего – кто ты? Овца? Или где-то в глубине твоей души может жить волк?
– Эта работа ему не по силам, – сказал Лиам. – Он никчемный, как разбавленное молоко.
– Заткнись! Ты же не понимаешь, о чем речь идет. – Взгляд зеленых, словно живое сердце Ирландии, глаз Мэри остановился на моем лице, и я был бессилен перед ним. – Вовсе не слабость заставляет тебя колебаться, – сказала она, – а бестолковая, невежественная совесть. Сокровище мое, я ведь думаю об этом очень долго, во много раз дольше, чем ты. Я думаю об этом всю жизнь. И прошу тебя о благородном и святом деле.
– Я…
– Ты ведь каждую ночь клялся, что сделаешь для меня что угодно. Да, конечно, не словами, но взглядами, невнятными восклицаниями – всей своей душой. Или ты думаешь, что я не в состоянии расслышать слова, которые ты не осмелился произнести вслух? Теперь я призываю тебя исполнить эти невысказанные обещания. Сделай хотя бы это – если не ради блага своей планеты, то ради меня.
За все время нашего разговора никто из мужчин, сидевших за столиками, не издал ни звука. Ни один из них не повернулся, чтобы взглянуть на нас. Они просто сидели, сгорбившись, на стульях – не выпивали, не курили, не переговаривались между собой. Лишь сидели и слушали. Только сейчас до меня дошло, что они очень крупные, могучие и что их неподвижность неестественна. Что за ней – крайняя настороженность. И что если я откажусь выполнить требование Мэри, то просто не выйду отсюда живым.
Так что выбора у меня просто не было.
– Я это сделаю, – сказал я, – и будь ты проклята за то, что заставила меня.
Мэри подошла, собираясь обнять меня, но я грубо оттолкнул ее.
– Нет! Я сделаю это для тебя, и мы в расчете. А впредь я не желаю ни видеть тебя, ни даже думать о тебе.
На протяжении долгого, непостижимо растянувшегося мгновения Мэри молча разглядывала меня. Я лгал, потому что никогда не хотел ее так сильно, как в те секунды. Я видел, что и она знает, что я лгу. Наверно, если бы она хоть тенью знака дала понять, что понимает мою неискренность, я ударил бы ее. Но она этого не сделала.
– Ладно, – сказала она. – Если ты сдержишь свое слово…
Она повернулась и вышла. Я знал, что не увижу ее больше никогда.
Лиам соизволил проводить меня до двери.
– Будь поосторожнее с посылкой, не держи ее под дождем, – сказал он, вручая мне зонтик. – Она испортится, если отсыреет.
В здании космопорта Шэннон меня сразу же встретили представители Планетарной безопасности. Двое здоровенных мужчин в форме Ирландской службы безопасности на транспорте встали вплотную по бокам от меня, а их начальник-пришелец сказал:
– Будьте любезны, сэр, пройти с нами. – Эти слова не допускали возможности возражения.
«О Мэри, – грустно подумал я. – У тебя в организации есть предатели. Помимо меня».
– Я возьму с собой багаж?
– Не беспокойтесь, сэр, мы присмотрим за ним.
Меня отвели в полицию.
Через пять часов я поднялся на борт лайтера. Задерживать меня было не за что, потому что в моих вещах не оказалось ничего незаконного. Полученную от Лиама коробку я как следует намочил в умывальнике гостиничного номера и пораньше утром выбрал на улице укромное место, где меня никто не видел, и утопил ее в ливневом водостоке. Мы быстро выбрались на орбиту, где поджидал звездолет, превосходивший размером самый большой небоскреб. Вряд ли стоит называть его имя, поскольку он если и вернется на эту планету, то лишь через несколько столетий. Вплывая в переходный туннель, я отчетливо понимал, возврата для меня нет. Земля будет легендой, которую я расскажу своим детям, и набором сентиментальных выдумок, которые они преподнесут своим.
Родной мир быстро съежился за кормой и исчез из виду. Я смотрел сквозь стену черного стекла на космос, испещренный звездами и галактиками, и не имел ни малейшего представления о том, где нахожусь и куда могу направляться. Мне казалось, что все – каждый человек – это корабль, лишенный гавани, куда можно бы пристать, это моряк, заблудившийся на просторах суши.
Я частенько говорил, что могу плакать лишь по моим родным и по Ирландии. Я плакал, когда умерла мать, плакал, когда всего лишь годом позже сердечный приступ свел в могилу отца. Моя сестричка не пережила тех самых родов, которые убили нашу с нею мать, поэтому часть пролитых мною слез предназначена и ей. Потом пьяный водитель задавил моего брата Билла, и я тоже плакал, и у меня больше не осталось родных. Теперь у меня есть только Ирландия.
Но и этого достаточно.
Либертарианская Россия
Под колесами мотоцикла Виктора разматывались миля за милей, неделя за неделей. Иногда он позволял себе днем остановиться на какой-нибудь ферме и купить еды, которую готовил к ужину на костре. Ночевал он под звездами, проигрывая в голове старые кинофильмы про ковбоев. Никуда не торопясь, он петлял по извилистым окольным дорогам, ведущим через Уральские горы, и где-то там пересек границу между Европой и Азией. Екатеринбург, где из-за высокой плотности населения вмешательство властей в частную жизнь горожан достигло чуть ли не московского уровня, он объехал по широкой дуге и вернулся на примитивное, до смешного, трансконтинентальное шоссе. Когда он проезжал через мрачно-бурые развалины индустриального пригорода, ему повстречалась женщина в высоких сапогах-чулках. Она подняла руку жестом, каким в этих всеми забытых местах приветствуют любого водителя, который мог бы за мелкую денежку подвезти пешехода.
Как правило, Виктор не останавливался. Но слишком уж броской оказалась внешность женщины – помимо упомянутых сапог на ней были лосины с леопардовым узором и модная дутая куртка, плотно облегавшая талию, широкая в плечах, позволявшая хорошо разглядеть верх грудей, похожих на два спелых граната, лежащих на блюде. Под ногами у нее стоял пластиковый рюкзак. Она выглядела так, будто только что сошла с рекламного плаката. И еще она наводила на мысль о серьезных неприятностях.
Виктор очень давно сталкивался с серьезными неприятностями. И потому он остановился.
– На восток едешь? – спросила женщина.
– Угу.
Она окинула взглядом россыпь значков, украшавших его кевлокожаную куртку – политики, которым не светит избрание, лозунги, которым никто никогда не последует, – и шевельнула ярко накрашенными губами в чуть заметной улыбке.
– Либертарианец, да? А ты понимаешь, что такого явления, как либертарианская Россия, не существует? Это несовместимые понятия такого же рода, как травоядный тигр или честный полицейский.
Виктор пожал плечами:
– Тем не менее вот он, я.
– Тебе только так кажется. – И тут же сделалась чрезвычайно деловитой: – Если подвезешь меня, я у тебя отсосу.
В первую секунду Виктор совсем растерялся. Потом сказал:
– Вообще-то я еду очень далеко. Через всю Сибирь и, наверно, остановлюсь лишь около Тихого океана.
– Отлично. Каждый день по разу, пока мы едем вместе. Лады?
– Лады.
Виктор перенастроил корму мотоцикла, чтобы попутчице было где сидеть и было где устроить ее рюкзак, повысил давление в шинах для компенсации дополнительного груза. Она пристроилась у него за спиной, и они покатили на восток.
На закате они остановились и разбили лагерь в сосновом мелколесье близ развалин поста ГАИ. Когда они поставили складные палатки (палатка женщины была размером с ее кулачок, но в установленном виде представляла собой довольно внушительное сооружение, Виктор же возил с собой самый маленький тент, какой только смог найти) и развели костер, женщина расплатилась за минувший день. Потом, когда Виктор резал купленную ранее курицу, они понемногу разговорились.
– Ты не сказала, как тебя зовут, – сказал Виктор.
– Светлана.
– Просто Светлана?
– Да.
– Без фамилии?
– Ага. Просто Светлана. А тебя?
– Виктор Пелевин.
– Да неужели?! – язвительно рассмеялась Светлана.
– Он мой дед, – объяснил Виктор. И добавил, видя, что недоверия не убавилось: – Ну, это в духовном смысле. Я все его книги прочитал, не знаю, сколько раз. Они меня сформировали.
– Предпочитаю «Мастера и Маргариту». Не книгу, конечно. Видео. Хотя не сказала бы, что меня это сформировало. Ну-ка, попробую догадаться. Ты отправился в великий поход по Руси. Хочешь отыскать настоящую Россию, исконную Россию, Мать-Россию, Россию души своей. Верно?
– Нет. То, что искал, я уже нашел – либертарианскую Россию. Она здесь, там, где мы с тобой находимся. – Виктор разделался с курицей и принялся резать овощи. Нужно было дождаться, пока прогорят дрова, а потом жарить курятину и овощи над угольями на шампурах как шашлык.
– Ну, нашел ты ее, и что дальше?
– Ничего. Смотреть по сторонам. Жить. Да что угодно. – Он принялся нанизывать кусочки на шампуры. – Видишь ли, после Депопуляции у правительства попросту не осталось ресурсов для того, чтобы управлять крупнейшей в мире страной так, как оно делало это прежде. И потому, вместо того чтобы уменьшить давление на народ, оно решило сосредоточить свою власть в немногочисленных промышленных и торговых центрах, портовых городах и тому подобном. Остальную территорию, где населения один-два человека на десяток квадратных километров, оно в упор не видит. Никто этого вслух не говорит, но там нет закона, кроме того, о каком жители сами договорятся между собой. И все свои разногласия они улаживают сами. Когда народу набирается столько, что можно создать городок, они скидываются и нанимают одного-двух человек, чтобы они, помимо своих собственных дел, еще и присматривали за порядком. Зато никаких баз данных, никаких соглядатаев и стукачей-сторожей… делай что хочешь, и пока ты не посягаешь на чью-нибудь свободу, никому до тебя нет дела.
Все, что говорил Виктор, представляло собой точные или перефразированные цитаты из «Свободного Ивана», давно не обновлявшегося сайта, на который он наткнулся несколько лет назад. В либертарианских кругах «Свободный Иван» пользовался легендарной славой. Виктору нравилось думать, что Иван где-то в Сибири ведет ту самую жизнь, к которой призывает. Но последняя запись была сделана из Санкт-Петербурга, ни о каких подобных планах в текстах не упоминалось, так что, вероятнее всего, автора уже не было на свете. Так всегда происходит с людьми, осмеливающимися говорить о мире без тирании.
– А что, если в чье-нибудь понятие о свободе войдет желание отобрать у тебя мотоцикл?
Виктор поднялся и погладил контактную панель машины.
– Замок закодирован на мой геном. Никто, кроме меня, этот мотик не заведет. К тому же у меня и пушка есть. – Он продемонстрировал оружие и убрал его в чехол за спину.
– Еще того не легче. Отберут да из него же тебя и пристрелят.
– Не-а, ничего не получится. Эта пушка умная, вроде моего мотоцикла: не слушается никого, кроме меня.
Светлана неожиданно расхохоталась:
– Сдаюсь. Ты со всех сторон прикрылся.
Виктор, однако, сомневался, что смог убедить ее хоть в чем-нибудь.
– Техника придумана для того, чтобы делать нас свободнее, – мрачно заявил он. – Так почему бы не пользоваться ею? Тебе и самой ружье не помешало бы.
– Поверь, мне не нужно другого оружия, кроме собственного тела.
Ответа на эти слова у Виктора не нашлось, и он решил спросить напрямик:
– Может, расскажешь о себе? Кто ты такая, почему оказалась на дороге и куда направляешься?
– Я проститутка, – ответила она. – Надоело работать на других, но Екатеринбург слишком уж коррумпирован – никто не позволит жить самой по себе. Вот я и ищу место, где было бы достаточно народу. А моя специальность точно понадобилась, но и чтобы полиция знала меру в поборах.
– Ты… ты это серьезно?
Светлана извлекла из сумочки визитницу, а из нее достала карточку с прейскурантом и протянула ему.
– Если найдешь что-нибудь, что тебя заинтересует – я работы не боюсь.
Пламя прогорело, и Виктор положил шампуры над углями.
– Сколько я должна за ужин? – Светлана вновь полезла в сумочку.
– Я угощаю.
– Нет, – возразила она. – Я ничего не принимаю даром. Каждый должен платить за все. Такова вот моя философия.
Прежде чем лечь спать, Виктор снял с мотоцикла крышку, набил пищеварительный бак травой и налил туда воды. Потом включил машину на холостой ход. Ферменты и закваска подавались в бак автоматически; к утру выработается достаточно спирта, чтобы ехать целый день. Потом он забрался в палатку, лег навзничь и запустил в голове старинный фильм с Джоном Уэйном. «Искатели». Но немного погодя остановил просмотр и переключился на прейскурант Светланы.
Она предлагала поразительно широкий набор услуг.
Он долго, долго смаковал список и не скоро уснул.
В ту ночь он видел сюжетный сон-воспоминание. Возможно, его регистратор воспоминаний из-за мелкого сбоя перескочил на события месячной давности и включился сам собой. Как бы там ни было, он оказался в Москве, которую покидал навсегда.
Он выехал на рассвете, в утренний час пик. Солнце блестело сквозь смог мутным золотом. В голове звучал мелодичный клевый саксофон Чарли Паркера. Он ехал, пригнувшись к рулю, и когда полицейский вяло махнул белым жезлом, приказывая съехать на обочину и предъявить документы, Виктор вздернул мотоцикл на дыбы, показал полицейскому средний палец, прибавил газу и умчался прочь, лавируя из ряда в ряд под рев возмущенных гудков.
В зеркало заднего вида он видел, как фараон прищурился ему вслед, делая мысленный снимок номерного знака. Если он когда-нибудь вернется в Москву, его ждут большие неприятности. Каждый мусор в Москве – а в Москве их натыкано куда гуще, чем где бы то ни было, – будет знать его номер и ясно представлять себе, как он выглядит.
Ну и хрен с ними, со всеми. На…ать и забыть! Виктор несколько лет копил деньги, недоедал, откладывал по копейке, чтобы купить все необходимое для того, чтобы вырваться из Москвы. С какой стати ему туда возвращаться?
Потом он вырвался за город и некоторое время ехал по отличным дорогам между огороженных мощными заборами поселков, где богатенькие, боясь всего и вся, сгрудились в своих архитектурных фантазиях, потом дороги постепенно становились все хуже и хуже, пока в конце концов он не оказался на грунтовке. Тогда-то он с безумным хохотом сорвал с головы шлем и швырнул его прочь – в воздух, в траву, в прошлое…
Он был дома. Он был свободен.
Он попал в либертарианскую Россию.
Идея о путешествии через всю Азию в обществе проститутки понравилась Виктору в основном теоретически. Но реальность оказалась полной проблем. Постоянно чувствуя бедра попутчицы, прижатые к своим, ее руки, обнимающие его, он не мог отделаться от мыслей о ее теле. Но денег на то, что он хотел бы сделать с ней, у него не хватало, а ее ежедневная оплата приносила ему лишь кратковременное облегчение. Через три дня он уже начал подыскивать место, где мог бы со спокойной совестью оставить Светлану.
Где-то около полудня они проезжали через маленький городок, несомненно бывший до Депопуляции довольно-таки крупным городом. Сразу на выезде из поселения перед шлакоблочным зданием ресторана стояли два грузовика и три легковушки, одна из которых оказалась «Мерседесом». На останках того, что некогда горделиво именовалось Транссибирской автомагистралью, возможность поесть в ресторане выпадала нечасто, поэтому Виктор подъехал вплотную к двери, и они вошли в зал.
Там оказалось лишь пять столиков – все пустые. Выкрашенные черным стены украшали старомодные люминесцентные трубки, выдранные из светильников, обнаруженных в подъездах необитаемых ныне домов. В глубине помещения находился бар. А над ним надпись крупными белыми печатными буквами гласила: «Нас не надо жалеть – ведь и мы никого не жалеем».
– Вот черт! – буркнул Виктор.
– В чем дело? – спросила Светлана.
– Это лозунг ОМОНа – полицейского отряда особого назначения. Давай-ка смоемся отсюда потихоньку.
Из дверей в глубине зала появился крупный мужчина, вытиравший руки полотенцем.
– Чем могу?.. – Он осекся на полуслове и пристально посмотрел на вошедших, похоже, сверяясь с внутренней базой данных. Потом его лицо искривилось в злой ухмылке:
– Осип! Колзак! Идите взгляните, кого черти принесли. – Из той же двери вышли еще двое мужчин, один крупнее первого, второй немного меньше. Все трое походили на любителей подраться. – Б. дь и мелкий поганец с подрывными настроениями. Что с ними делать будем?
– Вые. м обоих, – сказал самый здоровый.
– Вам вполне хватит и одной, – зазывным, жарким голосом сказала Светлана. – Одной меня. – Она достала из сумочки визитницу и протянула карточку, на которой был напечатан ее прейскурант.
Все трое лишились дара речи от изумления. Но лишь на миг.
– Ах ты, грязная дыра! – выпалил один из хозяев.
– Можешь ругаться как хочешь – я не возьму за это лишнего.
– Да уж, ничего глупее, чем заявиться сюда, ты просто не могла придумать, – сказал тот, что поменьше. – Павел, хватай ее!
Средний по размерам мужик двинулся к Светлане.
Грудь Виктора туго стиснуло ужасом, но он все же шагнул вперед, преграждая Павлу путь. Для него наступил момент истины. Его Аламо.
– Мы уходим! – заявил он, пытаясь заставить голос не дрожать. – Так что не мешайте нам, если не хотите неприятностей.
Как ни странно, его слова не встревожили громил, а лишь позабавили. Павел сделал еще несколько шагов, пока ствол ружья не уперся ему в грудь.
– Думаешь, пушка тебя спасет? Попробуй-ка выстрелить. Давай застрели меня!
– Не сомневайся, выстрелю.
– Если не готов убить человека, то никогда не сможешь никого остановить. – Он взял одной рукой ружье за ствол, другой за спусковую скобу и сильно, до боли, нажал пальцем Виктора на спусковой крючок.
Ничего не произошло.
Павел вырвал ружье у Виктора.
– Ты, может быть, считаешь, что у правительства техника хуже, чем у тебя? В каждое ружье гражданского назначения еще на заводе монтируют блок внешнего управления с доступом по блютусу. – И бросил через плечо: – Ну, Осип, что делать с б. ю?
Светлана содрогнулась; видимо, эти слова перепугали ее насмерть. Но все же призывно улыбнулась:
– Обычно я не даю задаром, но для вас, мальчики, могу сделать исключение.
– Отведи ее в канаву, где мы берем гравий, – сказал малорослый, – и пристрели.
Павел стиснул запястье Светланы:
– А как насчет панка?
– Мне надо подумать.
Когда он поволок Светлану за дверь, она не издала ни звука.
Самый крупный из троих громил толкнул Виктора на стул и велел:
– Сиди смирно. Попробуй только что-нибудь… впрочем, сомневаюсь, что ты попытаешься что-нибудь затеять. – Вынув из ножен штык-нож, он некоторое время забавлялся: отцеплял острием значки с куртки Виктора, читал надписи и бросал их через плечо. – «Гражданин без ружья – раб», – читал он. – «Легализуйте свободу: голосуйте за либертарианцев». «Анархистский отряд», – ну, это уже полная бессмыслица!
– Это шутка.
– В таком случае почему она не смешная?
– Не знаю.
– Получается, что это не такая уж и шутка, да?
– Наверно.
– Слабость твоей политической философии, – произнес ни с того ни с сего Осип, – состоит в убеждении, что если абсолютную свободу распространить на всех, то все будут думать только о своих личных, эгоистических интересах. Ты забыл о существовании патриотов, людей, готовых пожертвовать собой ради блага Родины-матери.
Виктор решил, что ему уже нечего терять:
– Ну, выполнение за деньги грязной работы для правительства патриотом не делает.
– Думаешь, мы делаем это за деньги? Слушай сюда! Когда я уволился из ОМОНа, меня уже тошнило от городов, преступности, загрязнения природы. И я отправился искать место, где мог бы заниматься рыбалкой или охотой на кого угодно. Мне подвернулся этот брошенный дом, и я принялся его чинить. Павел проезжал мимо и остановился спросить, что я делаю. Оказалось, что он тоже из полицейского спецназа, и я пригласил его в партнеры. Когда мы все наладили и ресторан заработал, объявился Колзак. Оказалось, что он тоже из наших, и мы предложили ему работу. Так что мы все равно что родные братья и отвечаем только перед Господом да друг другом. Павел привез с собой устройство спутниковой связи, у нас есть полицейские сведения обо всех, кто тут появляется. Мы очищаем землю от всяких антиобщественных элементов навроде твоей шлюхи, потому что так надо. Вот так-то.
– Что касается тебя, – добавил Колзак, – то неужто ты думаешь, что ее труп будет валяться в канаве в одиночестве?
– Послушайте, должен же быть какой-то способ убедить вас, что без этого можно обойтись!
– Конечно. Ты просто скажи мне, что можешь отдать за свою жизнь такого, чего я не смог бы снять с твоего трупа.
Виктор промолчал.
– Видишь? – заметил Осип. – Колзак уже кое-чему научил тебя. Если тебе даже нечем выкупить свою жизнь, то получается, что она ничего не стоит, верно?
Колзак подкинул в воздух свой штык-нож и воткнул его в стойку. Потом отошел в сторону.
– Теперь ты ближе, чем я. Хочешь попытаться – валяй. Хватай ножичек.
– Ты не стал бы предлагать, если бы у меня был шанс.
– Да кто ты такой, чтобы говорить: стал бы я, не стал бы я?! Е… тебя в рот и в ж…! Ты просто пидор поганый, и даже за жизнь свою драться, и то боишься!
Кидаться к оружию было бы самоубийством. Отвести взгляд – трусостью. Поэтому Виктор просто смотрел не мигая. Через некоторое время на скулах здоровяка заиграли желваки. Виктор напрягся. Драться так или иначе придется! И он очень сомневался, что драка может закончиться для него благополучно.
– Слышишь? – вдруг спросил Осип.
– Ничего не слышу, – ответил Колзак.
– Точно. Ничего не слышно. Что там Павел возится?
– Пойду посмотрю.
Колзак отвернулся от стойки и воткнутого в нее ножа и вышел на улицу. Виктор чуть не кинулся вслед за ним, но Осип предостерегающе поднял руку.
– Тут ты уже ничего не поделаешь, – невесело усмехнулся он. – Вот тебе твое либертарианство в действии. Ты совершенно независим от правительства. Ты только забыл, что правительство, помимо всего прочего, защищает тебя от таких, как мы. Или я не прав?
Прежде чем Виктор смог ответить, ему пришлось откашляться. Ощущение было такое, что горло забито гравием.
– Да нет, прав.
Малорослый, по сравнению со своими товарищами, человек несколько секунд бесстрастно разглядывал его. Потом дернул головой в сторону двери.
– Ты никто, и звать тебя никак. Обещаю, что если ты сейчас свалишь и укатишь на своем мотике, никто за тобой не погонится.
Сердце Виктора лихорадочно забилось.
– Это что, еще одна игра? Вроде как с ножом?
– Нет, все путем. Иди спокойно, ты не стоишь лишних движений.
– Но Светлана…
– Она б… И получит то, что положено б…ям. Так что решай скорее: уходишь или нет?
К своему ужасу, Виктор понял, что уже поднимается. Его тело трепетало от стремления сбежать.
– Я…
Снаружи донесся хриплый булькающий крик. Судя по низкому тембру и громкости, он вырвался не из женского горла. Осип мгновенно оказался на ногах и выхватил кинжал из стойки.
В комнату вошла Светлана в буквально пропитанной свежей кровью одежде. На лице ее застыла кривая безумная улыбка:
– Двое готовы. Ты следующий.
Низкорослый крепыш встрепенулся:
– Ах ты, сучье…
Двигаясь с неуловимой для глаза быстротой, Светлана уклонилась от выброшенной вперед руки Осипа, вырвав на ходу у него нож. Из его шеи внезапно хлынула кровь. В следующий миг нож уже торчал у него между ребер. Тут же Светлана ухватила его за голову и резко повернула ее.
Раздался громкий хруст, и тело упало на пол.
А потом Светлана расплакалась.
Виктор неуклюже обнял ее. Светлана обеими руками вцепилась в его рубашку и уткнулась лицом ему в грудь.
А он бормотал что-то невнятное и гладил ее по спине.
Прошло немало времени, но в конце концов слезы иссякли. Виктор дал ей носовой платок, она вытерла глаза и высморкалась. Он понимал, что вопросов задавать не стоит, но любопытство пересилило:
– Как ты умудрилась это устроить?
– Я же говорила тебе, что мне не нужно другого оружия, кроме собственного тела. – Светлана говорила так спокойно, будто ей не доводилось плакать аж с детских лет. – Перед тем как покинуть Екатеринбург, я побывала в коррекционной лавке, и меня заоружили. Но пока энергоресурс включится, проходит несколько минут, поэтому пришлось позволить этому гаду вытащить меня на улицу. С другой стороны, они ничего не видели, не подозревали и не успели запустить собственные усовершенствования, чтобы справиться со мною. Где твоя фляжка? Мне срочно необходимо выпить.
Виктор вспомнил, как девушку передернуло перед тем, как ее вытащили за дверь. Значит, это был – по крайней мере, так он предполагал – запуск ее энергоресурса. Светлана поднесла фляжку к губам, запрокинула голову и в три глотка ополовинила ее содержимое.
– Эй! – Виктор протянул было руку к фляжке, но Светлана отодвинула ее и допила все до дна. И лишь потом вернула.
– А-а-агр-х-х, – громко рыгнула она. – Извини. Ты представить себе не можешь, насколько сильно в таком режиме расходуются ресурсы организма. Алкоголь лучше всего помогает восстановить их.
– Но эта штука стоградусной крепости. Ты могла сжечь себе все внутренности!
– Нет, когда я нахожусь в режиме заправки, ничего не случится. Будь другом, посмотри, где у них вода. Мне необходимо умыться.
Виктор вышел за дверь и обошел вокруг дома. Позади он нашел колонку с ручным насосом и ведро, наполнил его до краев и вернулся к входу.
Навстречу ему вышла из ресторана Светлана, держа в руке три бумажника. Она положила их на капот видавшей виды «Волги-siber», содрала с себя окровавленную одежду и окатилась водой.
– Принесешь мне чистую одежду и мыло, ладно? – Виктор выполнил просьбу, старательно отводя глаза от обнаженного тела. Заодно прихватил и полотенце из собственных запасов.
Отмывшись дочиста, вытершись и переодевшись, Светлана выгребла из бумажников все деньги и карточки от замков зажигания. Рубли она разделила пополам и убрала одну кучку к себе в рюкзак.
– Забирай вторую половину, если хочешь. – Она помахала картой зажигания. – Тут мы расстанемся. Я забираю «Мерседес». Так что с деньгами мы в расчете.
– В расчете?
– Я же говорила тебе. Все платят за все. О, кстати, вспомнила! – Она отсчитала несколько бумажек и сунула их Виктору в карман рубашки. – Я должна тебе за полдня езды. Здесь половина моей таксы за оральный секс и еще немного – за спирт.
– Светлана, я… Тот парень, последний, разрешил мне уйти. Я уже совсем было согласился. Я был готов бросить тебя здесь.
– И теперь тебя мучает совесть? Я на твоем месте именно так и поступила бы.
Виктор изумился – и расхохотался:
– Я был целиком и полностью не прав – никакой я не либертарианец. А вот ты – да!
Неожиданно Светлана поцеловала его в щеку.
– Ты очень милый. Надеюсь, ты найдешь то, что ищешь. – С этими словами она села в «Мерседес» и укатила.
Виктор долго смотрел ей вслед. Потом перевел взгляд на деньги, все так же лежавшие кучкой на капоте старой «Волги».
Светлана была права. Либертарианство – это всего лишь фантазия, а либертарианская Россия – самая фантастическая фантазия из всех фантазий. Это смешная, невозможная вещь, и лишь он один во всей огромной, протяженной, противоречивой стране искренне верил в нее.
Он отвернулся от денег. Это был невероятно глупый поступок, и он знал, что в будущем ему предстоит тысячи раз пожалеть о нем. Но он не мог ничего с собой поделать. Пусть он поганый либертарианец. Но он еще и русский. Он понимает ценность красивого жеста.
Налетевший порыв ветра взметнул купюры и погнал их по пустынной дороге. Виктор уселся в седло. Запустив мотор ударом по педали, он мысленно перебрал свою коллекцию западной музыки «кантри». Но ничего оттуда не подходило к нынешним обстоятельствам. Поэтому он запустил «Коней привередливых» Высоцкого. Эта песня понимала его. Под нее как нельзя лучше было исчезнуть на просторах Сибири.
Потом Виктор тронулся с места. Он чувствовал, что деньги летели вслед за ним по дороге, как осенние листья.
Он очень старался не оглядываться назад.
Тауни Петтикоутс
Вольный портовый город (и – по мнению некоторых – пиратское гнездо) Новый Орлеан видывал немало странных зрелищ. Именно здесь морские змеи волокли корабли мимо полей, на которых вкалывали работники-зомби, в доки, где грузы переваливали на деревянные телеги, которые по улицам, засыпанным дроблеными ракушками, таскали упряжки карликовых мастодонтов ростом с першерона. Поэтому вряд ли кого могла удивить стоявшая возле лучших апартаментов «Мезон фема́» на протяжении трех дней длиннющая очередь из молоденьких женщин, рвавшихся задрать юбку или расстегнуть блузку, чтобы продемонстрировать татуировку на бедре, груди или ягодице двоим судьям, которые с равнодушным видом сидели в одинаковых креслах, задавали каждой по нескольку вопросов, благодарили за уделенное время и прощались.
Женщин привели сюда объявления, расклеенные в нескольких районах:
ПОИСК НАСЛЕДНИЦЫ
ЕСЛИ ВЫ…
МОЛОДАЯ ЖЕНЩИНА ОТ 18 ДО 21 ГОДА
НЕ ЗНАЮЩАЯ СВОЕГО ОТЦА
С МЛАДЕНЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ИМЕЮЩАЯ
АТУИРОВКУ НА ИНТИМНОЙ ЧАСТИ ТЕЛА…
ТО У ВАС ЕСТЬ ШАНС СТАТЬ
ОБЛАДАТЕЛЬНИЦЕЙ ОГРОМНОГО БОГАТСТВА
СОБЕСЕДОВАНИЕ ПРОВОДИТСЯ
В «МЕЗОН ФЕМА», АПАРТАМЕНТЫ 1,
В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ
– По идее, все это должно было давно надоесть, – заметил Даргер во время краткого перерыва в затянувшемся ритуале. – Но ведь не надоедает!
– Количество вариантов женской красоты поистине бесконечно, – согласился Довесок. – Равно как и стремление большинства продемонстрировать свою красоту. – Он открыл дверь: – Следующая.
Вошедшая в комнату женщина курила на ходу чируту. Она была устрашающе высокого роста – шесть футов с ладонью да, пожалуй, еще дюйм вдобавок – и одета в отделанное серебряными кружевами платье того же коричневато-золотого цвета, что и ее кожа. Довесок указал на хрустальную пепельницу, стоявшую на приставном столике, и женщина, изящно кивнув в знак благодарности, погасила в ней сигару.
– Как вас зовут? – спросил Даргер, подождав, пока Довесок вернется в свое кресло.
– Вам нужно настоящее имя или сценический псевдоним?
– Как вам будет угодно.
– В таком случае представлюсь настоящим. – Женщина сняла с головы шляпу, стянула перчатки и аккуратно положила все это на приставной столик. – Таунимур Петтикоутс. Можете называть меня Тауни.
– Расскажите немного о себе, Тауни, – сказал Довесок.
– Я из ярмарочных артистов и всю жизнь занимаюсь этим ремеслом, – сообщила Тауни, расстегивая блузку. – До недавнего времени я участвовала в интермедии «Спящая красавица, ставшая бессмертной, благодаря технологиям Утопии, но обреченная на вечный сон». Я лежала в стеклянном гробу, прикрытая только собственными волосами и ладонью, расположенной в стратегически важной точке, а зрители пытались угадать, жива я или нет. Я очень хорошо умею управлять дыханием. – Она свернула блузку и положила ее поверх перчаток и шляпы. – Зазывалой был Джейк, мой муж. Он следил за зрителями, и если видел, что кто-то созрел, отзывал его в сторону на выходе и шепотком говорил, что за пару банкнот мог бы устроить более приватное общение со мною. Потом выходил и подглядывал через щелку в занавеске.
Тауни переступила через юбку и так же аккуратно пристроила ее поверх блузки. Затем начала расшнуровывать корсет.
– Когда клиент спускал штаны и совсем уже был готов забраться в гроб, Джейк врывался внутрь с криком, что, дескать, речь шла лишь о том, чтобы посмотреть на меня подольше, а не пользоваться моей беспомощностью в нехороших целях. – Положив корсет поверх юбки, она отстегнула подвязки и принялась неторопливо скатывать чулки. – Как правило, это помогало неплохо облегчить его кошелек.
– То есть вы занимались вымогательством, – тщательно подбирая слова, уточнил Довесок.
– По большей части я просто лежала в гробу. Но, конечно, постоянно была готова ожить и вырубить сукиного сына, если дело повернется нежелательным образом. Ну и другие шутки шутили. Разводили фраеров на подклад, продавали картонные коробки за дорогие вещи, ломали деньги, ну и тому подобное.
Рассказывая все это, женщина успела раздеться догола и, подняв обеими руками пышную массу черных курчавых волос, продемонстрировала шею и основание затылка.
– Однажды ночью клиент уже почти забрался в гроб, а Джейка все не было и не было. Так что пришлось мне распахнуть глаза и заорать лоху прямо в рожу. Он свалился, да прямо башкой об пол. Ну, я не стала выяснять, живой он или просто отрубился. Прихватила его пиджак и отправилась искать муженька. Выяснилось, что Джейк сбежал с женщиной-змеей. Через две недели она бросила его, и он захотел, чтобы я вернулась к нему, но у меня такого уже и в мыслях не было. – Она медленно повернулась кругом, чтобы Даргер и Довесок смогли рассмотреть каждый дюйм ее поистине восхитительного тела.
Даргер откашлялся, прочищая горло.
– Э-э… у вас, насколько я вижу, нет никаких татуировок.
– Да, тут я успела разобраться. Поговорила кое с кем из девушек, которые уже побывали у вас, и они сказали, что вы подробно расспрашивали их о жизни, но даже и намеком не приставали ни к одной. Не сказала бы, что все были этому так рады. Особенно после того, как они срочно набили себе татуировки. Так что я сложила два и два, и у меня получилось, что вы затеваете какую-то разводку и вам нужна женщина-партнер, с быстрой соображалкой и воровскими способностями.
Тауни Петтикоутс уперла руки в бедра и спросила, улыбаясь:
– Ну что? Берете меня в дело?
Ухмыльнувшись по-собачьи – что было совершенно неудивительно, поскольку его исходный геном был именно собачьим, – Довесок встал и протянул лапу. Но Даргер поспешно шмыгнул между ним и девушкой.
– Мисс Петтикоутс, прошу извинить нас, но мы с другом на минутку выйдем в соседнюю комнату. Нам нужно посоветоваться. А вы тем временем можете одеться.
Как только мужчины оказались наедине, Даргер воскликнул яростным шепотом:
– Слава богу, я успел остановить тебя! Ты ведь совсем уже собрался посвятить эту женщину в наши планы.
– А почему бы и нет? – так же тихо ответил Довесок. – Мы искали женщину броской внешности, не слишком приверженную нормам обыденной морали, уверенную в себе, инициативную и изобретательную, как подобает хорошей мошеннице. Тауни годится по всем статьям.
– Одно дело работать с любительницей, но ведь она профессионалка. Она будет спать с нами обоими, настроит нас друг против друга, а в конце сбежит с хабаром, а мы останемся ни с чем, кроме обиды и сожаления о попусту приложенных усилиях.
– Это сексистские и, должен заметить, весьма непорядочные нападки на прекрасный пол. Просто удивительно слышать это от тебя.
Даргер недовольно покачал головой:
– Я отказываюсь доверять не только людским женщинам, но любым пронырам женского пола. И говорю, исходя из печального – и неоднократного! – опыта.
– Что ж, если ты твердо решил не брать в дело это невинное юное создание, – сказал Довесок, скрестив руки на груди, – то мне придется предложить тебе обойтись и без меня.
– Любезный сэр!..
– Я не могу поступаться принципами.
Даргеру стало ясно, что продолжение спора не имеет смысла. Поэтому он, сделав максимально хорошую мину, вышел обратно в приемную со словами:
– Мы берем вас в дело, дорогая. – Он достал из кармана пиджака украшенный филигранными узорами крохотный серебряный флакон, открутил крышку и вытряхнул на ладонь находившуюся там единственную таблетку. – Проглотите, и к утру у вас появится та самая татуировка, которая нам нужна. Вы, несомненно, захотите предварительно посоветоваться со своим аптекарем, чтобы…
– О, я верю вам. Если бы вам требовалось всего лишь подцепить кого-нибудь на бабу, вряд ли вы стали бы дожидаться меня. Среди этих девушек наверняка были очень горячие штучки. – Тауни проглотила таблетку. – Так что за кидок вы затеваете?
– Мы собираемся провернуть дело с черными деньгами, – сказал Довесок.
– О, я всегда мечтала попробовать силы в таком деле! – Восторженно взвизгнув, Тауни обняла своих новых партнеров.
У Даргера так и чесались руки проверить, на месте ли его бумажник, но он удержался.
На следующий день носильщики-зомби притащили в гостиницу десять коробок черных денег – на самом деле, прямоугольных обрезков бросового пергамента, окрашенного в черный цвет в далеком Виксбурге, – и, по указанию Довеска, сложили в гостиной под дверью Тауни – центральной двери трехкомнатных апартаментов, так что она могла выйти или войти только через комнаты мужчин. А потом, оставив леди заниматься одеждой и косметикой, ее новые партнеры отправились на встречи со своими уважаемыми клиентами.
Даргер начал с делового припортового района.
Контора крупного биржевика Жан-Нажина Лафитта отличалась не только роскошью, но и хорошим вкусом, а главной деталью ее оформления был череп мауизавра, украшенный резными раковинами в серебряной оправе. «Герцог» Лафитт, как он любил величать себя, или «пират» Лафитт, как называло его большинство, был худощавым, но представительным мужчиной с оливковой кожей, длинными волнистыми волосами и усиками столь тонкими, что можно было подумать, что их нарисовали карандашом для бровей. Трости, которой обычно пользовались богачи, он предпочитал привешенный к поясу свернутый кнут.
– Одолжить слиток серебра! – воскликнул он. – Никогда не слыхал о подобном.
– Вообще-то вопрос относительно простой, – ответил Даргер. – Серебро служит катализатором для некоего биоиндустриального процесса, суть которого я не имею права вам раскрыть. Схема предусматривает превращение серебряного слитка в своего рода коллоид, который по окончании процесса восстановится в металлическое состояние и вновь обретет форму слитка. Вы совершенно ничего не потеряете. Более того, ваше имущество будет отвлечено всего лишь на… ну, для верности, на десять дней. За что мы готовы предложить вам десять процентов от вашего капиталовложения. Весьма неплохая выручка за дело, не связанное ни с малейшим риском.
Губы торговца чуть заметно искривились в жестокой улыбке.
– Риск есть хотя бы в том, что вы можете забрать серебро и сбежать с ним.
– Чрезвычайно обидное предположение, и если бы его высказали не вы, а не столь высоко уважаемый мною человек, ему это не сошло бы с рук. Впрочем… – Даргер указал в окно на склады и перегрузочные здания, в которых кипела бурная деятельность. – Насколько я понимаю, вам принадлежит добрая половина того, что мы тут видим. Сдайте нашему консорциуму помещение, в котором мы будем проводить работу, и поставьте вокруг сколько угодно охраны. Мы доставим туда аппаратуру, а вы – серебро. Согласны?
Пират Лафитт на мгновение заколебался. А потом рявкнул:
– Идет! – и протянул руку. – За пятнадцать процентов. Плюс оплата аренды дома.
Они пожали друг другу руки, и Даргер сказал:
– Вы ведь не будете возражать, если слиток проверит авторитетный пробирщик?
Тем временем Довесок во Французском квартале вел точно такой же разговор с высокомерно-язвительной женщиной в строгом черном одеянии, которая была не только мэром Нового Орлеана, но и владела самым крупным и популярным борделем города. За ее спиной молча стояли в настороженных позах двое одетых в униформу обезьяно-людей с Северо-Запада Канады; на лицах обоих застыло выражение с трудом сдерживаемой ярости, что присуще животным, разум которого развили почти – но не совсем – до человеческого уровня.
– Пробирщик? – резко бросила она. – А что, моего слова вам недостаточно? В таком случае стоит ли нам вообще вести общие дела?
– На все ваши вопросы, мадам-мэр Трежоли, ответ будет «да», – дружелюбнейшим тоном ответил Довесок. – Пробирный анализ нужен исключительно для вашей безопасности. Как вы, несомненно, знаете, серебро очень легко фальсифицировать с помощью других металлов. Когда мы завершим работу с серебром, коллоид будет вновь сгущен, и металл восстановится в виде слитка. Вы наверняка захотите убедиться в том, что слиток, вернувшийся к вам, будет точно соответствовать тому, который вы одолжите нам.
– Хм-м-м… – Они сидели в вестибюле maison de tolerance[12], принадлежавшего мадам-мэру; она в массивном кресле с яркой обивкой, сходство которого с троном скорее всего не могло быть случайным, а Довесок устроился перед нею на деревянном складном стульчике. Поскольку только-только перевалило за полдень, заведение еще не работало, однако посыльные и всякая мелкая шушера из правительственных учреждений поминутно носились взад-вперед. Вот и теперь один из них, склонившись, шептал что-то в ухо мадам-мэра Трежоли. Она отмахнулась от него.
– Семнадцать с половиной процентов. Соглашайтесь или проваливайте.
– Меня это устраивает.
– Отлично, – сказала Трежоли. – Сейчас у меня будет встреча с начальником зомби. Придвигайте стул к моему креслу и посмотрите. Раз уж нам предстоит работать вместе, вам это, вероятно, будет полезно.
В зал вошел румяный толстяк, которого сопровождали с полдюжины зомби. Довесок с любопытством разглядывал их. Пусть глаза у них были тусклыми, лица – неподвижными, а кожа имела крайне нездоровый цвет, они все же совершенно не походили на полусгнившие трупы из легенд Утопии. Они скорее выглядели как поденные рабочие, доработавшиеся до полного изнеможения. В чем скорее всего и было дело.
– Доброе утро! – провозгласил толстяк, бодро потирая руки. – Я привел группу должников, осужденных на неделю. Положенное время они отработали и заслужили восстановление и свободу.
– Я как раз думал об источниках вашей недобровольной рабочей силы, – сказал Довесок. – Значит, это те несчастные, кому не повезло набрать неоплатные долги?
– Совершенно верно, – кивнул начальник зомби. – Новый Орлеан не одобряет варварскую и дорогостоящую практику содержания долговых тюрем. У нас злостных должников подвергают химической обработке, лишающей их самостоятельного мышления, и отправляют на работу, пока они не выплатят долг обществу. Что к нынешнему дню смогли сделать эти счастливчики. – И добавил, игриво подмигнув: – Следует помнить об этом, если собираетесь влезть в долги наверху. Позволите приступить, мадам-мэр Трежоли?
– Приступайте, мастер Боунс.
Мастер Боунс сделал повелительный жест, и вперед, шаркая ногами, вышел первый зомби.
– Из-за собственного расточительства ты впал в долги, – сказал Боун, – но честной работой заслужил свободу. Открой рот.
Бледное существо повиновалось. Мастер Боунс взял ложку, запустил ее в солонку, стоявшую на ближнем столе, и высыпал соль на язык зомби.
– Глотай.
С мужчиной произошло в несколько этапов поразительное изменение. Он выпрямился и с напряженным вниманием огляделся по сторонам.
– Я… – сказал он, – теперь я вспомнил. Моя… моя жена?..
– Помолчи, – перебил его начальник зомби. – Церемония еще не окончена. – Охранники-канадцы немного переместились, на тот случай, чтобы защитить свою хозяйку, если сбитый с толку бывший зомби попытается напасть на нее.
– Объявляю, что ты вновь являешься свободным гражданином Нового Орлеана и никому ничего не должен, – важно произнесла Трежоли. – Иди и впредь трать деньги с умом. – Она выдвинула вперед ногу и поддернула юбку выше щиколотки. – Теперь можешь поцеловать мою ногу.
– Так просил ты или нет, чтобы Трежоли открыла тебе кредитную линию в своем заведении? – поинтересовалась Тауни, когда Довесок доложил соратникам о своих переговорах.
– Конечно, нет! – воскликнул Довесок. – Я популярно объяснил ей, что всегда стремился завести небольшой высококлассный бордель, предназначенный для меня одного. Гарем своего рода, но с переменным штатом высокооплачиваемых работниц. И предположил, что вскоре у меня появится возможность обратиться к ней, чтобы она подобрала подходящую гостиницу и создала в ее здании такое заведение для меня.
– И что же она сказала?
– Сказала, что вряд ли я понимаю, насколько дорогостоящей окажется подобная затея.
– А ты ей?
– Что за деньгами дело не станет, – беззаботно ответил Довесок. – Потому что я ожидаю, что в ближайшее время их окажется очень много.
– Ой, парни, вы такие прикольщики! – радостно воскликнула Тауни.
– Кстати, – сказал Даргер, – доставили твое новое платье.
– Я уже посмотрела его. – Тауни скорчила недовольную рожу. – Оно вовсе не рассчитано на то, чтобы показывать мою фигуру в наилучшем виде – да и вообще, ни в каком виде, если уж на то пошло.
– Да, оно агрессивно благопристойное, – согласился Даргер. – Но ведь ты изображаешь очень скромную и неопытную девушку. И для ее невинного взгляда Новый Орлеан представляется до ужаса испорченным, прямо-таки выгребной ямой похоти и связанных с нею грехов. И следовательно, ей необходима постоянная защита в виде неброской одежды и преданных мужчин самых высоких моральных качеств.
– Более того, – добавил Довесок, – она является самым слабым местом наших планов, потому что любой, кто предъявит права на ее татуировку, да еще и знает ее значение, может обойтись целиком и полностью без нас, просто-напросто похитив ее на улице.
– О! – негромко пискнула Тауни, явственно ощутив стремление пробудить защитные инстинкты у всех мужчин, находящихся поблизости.
Довесок инстинктивно шагнул к ней и лишь потом спохватился и улыбнулся, как хищник, каким он и был:
– У тебя все получится.
Встреча с третьим потенциальным инвестором состоялась тем же вечером в полутемном клубе на захудалой окраине Французского квартала – потому что развлечения, предоставляемые здесь, были слишком уж низкопробными даже для этого района, известного своим свободомыслием. Нездорово бледные официантки безжизненно передвигались между столиками, принимали заказы и подавали выпивку, а маленький джаз, состоявший только из медных духовых и ударных инструментов, сопровождал столь же непотребной музыкой представление, разворачивавшееся на сцене.
– Вижу, вы не особый поклонник живых секс-картин, – заметил начальник зомби Джереми Боунс. В свете чайной свечи, горевшей на столике, капли пота, выступившие на его лице, сияли, как подсвеченные дождинки.
– Сценический успех подобных зрелищ целиком и полностью зависит от того, в какой степени они соответствуют сексуальным представлениям каждого из посетителей, – ответил Даргер. – Признаюсь, что мои лежат в несколько ином направлении. Но не беспокойтесь на этот счет. Давайте лучше вернемся к делу. Насколько я понимаю, условия вас устраивают?
– Устраивают. Мне только непонятно, почему вы так настаиваете на том, чтобы пробирный анализ проводил Банк Сан-Франциско, когда в Новом Орлеане имеются несколько своих вполне крупных финансовых учреждений.
– Все они в той или иной степени принадлежат вам, мадам-мэру Трежоли и Герцогу Лафитту.
– Вы имеете в виду Пирата Лафитта? Пробирный анализ есть пробирный анализ, а банк есть банк. Так какая вам разница, кто именно его проведет?
– Нынче днем вы привели к мэру шестерых зомби, которых нужно было освободить. Если исходить из того, что это самый обычный день, то за год у вас наберется примерно сотни три зомби. Однако же зомби осуществляют всю черную работу в городе, а на плантациях, вытянувшихся вдоль реки, работают еще десятки тысяч.
– Многие должники приговорены к многолетним срокам.
– Я навел кое-какие справки и выяснил, что корабли Лафитта еженедельно завозят около пары сотен заключенных из поселений и территорий по Миссисипи до Сент-Луиса.
На лице толстяка появилась улыбочка:
– Совершенно верно: многие правительственные органы считают, что дешевле будет заплатить нам за то, что мы будем возиться с их смутьянами, чем строить для них тюрьмы.
– Мадам-мэр Трежоли приговаривает этих несчастных к принятой в городе системе наказания, вы платите ей с каждой головы, и после того, как их превращают в зомби, вы сдаете их для черных работ по ценам, которые наниматели находят чрезвычайно привлекательными. И те, кто попадает к вам на работы, редко освобождаются.
– Когда правительственные чиновники либо родственники предоставляют бумаги, в которых говорится, что человек выплатил обществу свой долг, я с превеликой радостью отпускаю его на волю. Правда, таких документов мне приносят не так уж много. Однако те, кто приходит с ними, всегда могут найти меня без всякого труда. И какие же претензии имеются у вас к нашим порядкам?
– Претензии? – удивленно повторил Даргер. – У меня нет никаких претензий. Это ваши порядки, и не мне, постороннему, судить о них. Я всего лишь объясняю, почему хочу поручить пробирный анализ независимому банку.
– Почему же?
– По той простой причине, что хотя мне очень приятно иметь дело с каждым из вас по отдельности, но вместе вы представляетесь мне слишком уж опасными. – Даргер повернулся и бросил взгляд на сцену, где безрадостно совокуплялись обнаженные зомби. Посетитель, сидевший в переднем ряду, извлек из бумажника несколько банкнот и выразительным движением положил их на стол. Одна из безжизненных официанток взяла деньги и повела клиента за занавеску, в глубину зала. – Признаюсь, мне страшно, что вместе вы сможете проглотить и меня, и моих партнеров одним глотком.
– О, этого можно не опасаться, – ответил мистер Боунс. – Мы втроем объединяем усилия, только если речь идет о серьезной ставке. Ну а ваше маленькое предприятие, в чем бы оно ни состояло, вряд ли можно отнести к этому разряду.
– Рад это слышать.
На следующий день трое заговорщиков три раза посетили пробирную контору Ново-Орлеанского отделения Банка Сан-Франциско. Во время первого визита один из облаченных в зеленые телохранителей-зомби мадам-мэра Трежоли открыл замок ящика, извлек серебряный слиток и выложил его на стол. А затем, к изумлению и мэра, и пробирщика, Довесок велел нанятым им зомби поставить на скамью несколько тяжелых кожаных сумок и с помощью коллег принялся извлекать оттуда сверла, весы, кислоты, реагенты и другие орудия и приспособления и расставлять их в рабочем порядке.
Изумленный пробирщик открыл было рот, чтобы возразить, но…
– Уверен, что вы не станете возражать, если мы воспользуемся своим собственным оборудованием, – сказал с милой улыбкой Даргер. – Мы здесь чужаки, и хотя никому не придет в голову сомневаться в безупречности самого почтенного из финансовых учреждений Сан-Франциско, но дополнительные предосторожности – это всего лишь полезная практика.
Пока он говорил, Тауни и Довесок одновременно потянулись к весам, столкнулись и чуть не уронили их. Все лица повернулись к месту происшествия, руки взметнулись, чтобы подхватить прибор. Но спас его от гибели не кто иной, как Довесок.
– У-ух… – выдохнула мило покрасневшая Тауни.
Пробирщик быстро взялся за работу и, завершив ее, поднял голову.
– 925-я проба, – сказал он. – Стерлинговый стандарт.
Мадам-мэр Трежоли рассеянным кивком подтвердила его суждение и сказала:
– Девушка… Сколько вы за нее хотите?
Даргер и Довесок как один резко повернулись. И переместились, оказавшись по бокам Тауни.
– Мисс Петтикоутс находится под нашей опекой, – сказал Даргер, – и, следовательно, о ее продаже не может быть и речи. Должен также добавить, что ваш бизнес вряд ли можно считать достаточно респектабельным для невинного ребенка.
– Невинность высоко ценится в моих заведениях. Я дам вам серебряный слиток. В полное ваше распоряжение. Делайте с ним, что хотите.
– Поверьте, мадам, в скором времени я буду рассматривать серебряные слитки как небольшие карманные деньги.
Мастер Боунс смотрел на процесс пробы и даже на расставленное кое-как оборудование, которое притащила с собою троица, с безмятежной улыбкой. Однако его внимание было приковано к Тауни. В конце концов он поджал губы и заявил:
– В моем клубе вполне найдется место для вашей юной подружки. Если вы сочтете возможным уступить ее мне, скажем, на год, я охотно переуступлю вам мои двадцать процентов выручки от этой сделки, – и добавил, повернувшись к Тауни: – Не беспокойся, дорогуша. Под действием зомбирующих средств ты ничего не будешь чувствовать, а потом ничего не вспомнишь. Как будто с тобой вовсе ничего не происходило. Ну и более того, – продолжил он, – поскольку ей будет причитаться вознаграждение за каждое осуществленное коммерческое взаимодействие, она получит солидную сумму, которая во время ее работы будет находиться в ответственном управлении.
Словно не замечая негодующего взгляда Тауни, Даргер сказал с величайшей любезностью:
– Сообщу вам строго между нами, сэр, что мы уже отвергли куда более выгодное предложение, нежели то, что сделали вы. Мы с партнером не расстанемся с нашей дорогой спутницей ни за какие деньги. Она для нас бесценное сокровище.
– Я готов, – сказал пробирщик. – Где прикажете сверлить?
Даргер поводил пальцем над слитком и, по-видимому, случайно ткнул в самую середину.
– Вот тут.
– Я понимаю, что на улицах меня порой называют пиратом, – со сдержанной яростью сказал Жан-Нажин Лафитт. – Тем не менее это оскорбление, и я не спущу его никому, кто осмелится сказать такое мне в глаза. Да, я являюсь однофамильцем легендарного флибустьера. Но вы можете удостовериться в том, что я в жизни не совершил ни единого незаконного поступка.
– В том числе и сегодня, сэр! – воскликнул Даргер. – Наше деловое предприятие целиком и полностью осуществляется в рамках закона.
– Я так и предполагал, иначе не явился бы сюда. Тем не менее вы должны понять, почему я не могу расценить высказанные вами и вашими бестактными сотоварищами сомнения в качестве моего серебра иначе, чем оскорбление.
– Довольно, сэр! Мы все здесь джентльмены – не считая, конечно, мисс Петтикоутс, сироты, получившей благородное христианское воспитание. Если моего слова достаточно для вас, то и вашего слова вполне достаточно для меня. Поэтому мы можем и отказаться от пробирного анализа. – Даргер сдержанно кашлянул. – Тем не менее исключительно для того, чтобы обезопасить себя со стороны закона, я хотел бы получить от вас нотариально заверенное заявление, что вы будете удовлетворены любым качеством того серебра, которое мы вернем вам.
Взгляд Пирата Лафитта вполне мог плавить железо. Но погасить милую улыбку Даргера ему не удалось.
– Ладно, устраивайте вашу пробу, – сказал он наконец.
Даргер с самым непринужденным видом помахал пальцем в воздухе. И ткнул им в самую середину слитка.
– Здесь.
Когда пробирщик взялся за работу, Лафитт вновь заговорил:
– Хотел бы узнать, не будет ли ваша мисс Петтикоутс…
– Она не продается, – резко перебил его Даргер. – Не продается, не сдается в аренду, не отдается в обмен, не доступна для приобретения на каких-либо других условиях. Категорически.
– Я собирался, – с явным раздражением сказал Пират Лафитт, – спросить, не согласитесь ли вы отпустить ее завтра со мною на охоту. В плавнях попадается очень привлекательная дичь.
– Она не участвует в светских развлечениях. – Даргер повернулся к пробирщику. – Итак, сэр?..
– Полноценный стерлинг, – ответил тот. – Как и в других случаях.
– Я и не ожидал ничего другого.
Ради вящего впечатления после окончания проб трое жуликов отправили зомби с лабораторным оборудованием в «Мезон фема», а сами вместе отправились ужинать. После чего благопристойно прогулялись по городу. Тауни, которую на время переговоров оставили в гостинице, была очень рада этому. Но истинное облегчение Даргер, Довесок и Тауни испытали, когда увидели тяжелые мешки, которые дожидались их на столе в гостиной их апартаментов.
– Кому достанется почетное право? – осведомился Даргер.
– Естественно, леди, – ответил с полупоклоном Довесок.
Тауни сделала реверанс и, откинув потайной замок на дне одного из мешков, выдвинула серебряный слиток. Из второго мешка – второй. Из третьего – третий. Увидев блеск серебра в свете ламп, все трое дружно выдохнули.
– Ловко ты подменил настоящие слитки фальшивыми, – заметила Тауни.
– Нет, тут все искусство состояло в том, чтобы отвлечь внимание, – скромно возразил Даргер. – Даже пробирщик, все три раза видевший, как вы чуть не повалили оборудование, ничего не заподозрил.
– Но объясните мне вот что, – сказала Тауни. – Зачем вам понадобилось подменять слитки до взятия пробы, а не после? Ведь в таком случае вам даже не понадобилось бы делать в середине серебряную пробку. Можно было бы обойтись посеребренным куском свинца.
– Мы имеем дело с очень недоверчивыми людьми. При таком варианте, во-первых, им подтвердили подлинность их слитков, и они видели, что мы после этого не подходили к ним. Слитки лежат в прочном сейфе уважаемого банка, так что никто не видит никаких оснований для тревоги. Для них все тип-топ.
– Но ведь мы на этом не остановимся, верно? – взволнованно поинтересовалась Тауни. – Мне ужасно хочется развести кого-нибудь на черные деньги.
– Не бойся, моя прелесть, – отозвался Довесок, – это лишь начало. Но для нас это все равно что страховой полис. Даже если дело обернется неладно, мы все равно останемся в изрядном выигрыше. – Он налил бренди в три маленькие рюмки и раздал партнерам. – За кого выпьем?
– За мадам-мэра Трежоли, – предложил Даргер.
Они выпили. Потом Тауни спросила:
– Что вы с нею сделали? В профессиональном смысле?
– Она куда умнее, чем, по ее мнению, мы ее считаем, – ответил Довесок. – Но как тебе, без сомнения, известно, самоуверенных умников легче всего обвести вокруг пальца. – Он налил по второй. – За мастера Боунса.
Они выпили.
– А что он? – осведомилась Тауни.
– С ним дело сложнее, – сказал Даргер. – Мягкий вроде бы человек, но под этой мягкостью у него непробиваемая сердцевина. Он в некотором роде даже и не совсем человек уже.
– Может быть, он пробует свое собственное снадобье? – предположил Довесок.
– Ты имеешь в виду экстракт рыбы-шара? Нет. Его мозги работают вполне активно. Но я не уловил в нем ни намека на сопереживание. Подозреваю, что он за столь долгую работу с зомби начал воспринимать себя как одного из них.
Последний тост был, естественно, провозглашен за Пирата Лафитта.
– По-моему, он очень симпатичный, – сказала Тауни. – Или вы со мною не согласны?
– Он жулик и позер, – ответил Даргер, – мерзавец, который выдает себя за джентльмена, делец, манипулирующий законами и требующий признать его честнейшим из своих сограждан. Поэтому он даже нравится мне немного. Я уверен, что с ним можно делать дела. Помяните мое слово: когда завтра эти трое явятся к нам, их притащит именно он.
Некоторое время они говорили о делах. Потом Довесок достал колоду карт. Они играли в юкер, и канасту, и покер, и потому что играли на спички, никто не стал возражать, когда игра превратилась в соревнование по ловкости передергивания колоды или вытряхивания карт из рукава. Особого скандала не случилось, даже когда в одном особо примечательном кону на стол легло сразу одиннадцать тузов.
В конце концов Даргер сказал:
– Обратите внимание на время! Завтра будет непростой день. – И они разошлись по предназначенным для них комнатам.
Той ночью Даргер едва начал засыпать, как дверь, соединяющая его спальню с комнатой Тауни, тихонько открылась и закрылась. Зашуршали простыни, и девушка скользнула к нему в постель. Теплое обнаженное тело Тауни плотно прижалось к нему, а ее рука сомкнулась вокруг самой деликатной его части. Тут он резко пробудился.
– Что это такое ты творишь? – яростным шепотом осведомился он.
Неожиданно Тауни выпустила свою добычу и с силой ударила его в плечо.
– О, тебе легко говорить, – также тихо ответила она. – Мужчинам все легко! Та мерзкая старуха пыталась купить меня. Омерзительный коротышка хотел, чтобы вы позволили ему опоить меня «дурью». И только одному Богу известно, какие намерения были у Пирата Лафитта. Ты, конечно, заметил, что все они обращались к вам. Никто из них даже не подумал спросить моего мнения. – На грудь Даргера закапали горячие слезы. – Всю жизнь у меня были покровители-мужчины; я не могла обойтись без них. Папочка, пока я не сбежала из дому. Мой первый муж, пока его не съел гигантский краб. Потом еще несколько парней и в конце концов, этот подонок Джейк.
– Можешь не переживать. Мы с Довеском никогда не бросали подельников – и не бросим. По этой части у нас безукоризненная репутация.
– Я сама все время повторяю это себе, и днем со мною все в порядке. Но ночью… знаешь, мне еще не приходилось так долго обходиться без мужского тела, которое успокаивает меня лучше всего на свете.
– Да, но ты же понимаешь…
Тауни приподнялась. Даже в комнате, где не было иного света, кроме отблеска луны сквозь окно, было видно, что она восхитительна. Потом она наклонилась, поцеловала Даргера в щеку и прошептала ему на ухо:
– Мне еще не приходилось уговаривать мужчин, но… Прошу тебя…
Даргер считал себя высокоморальным человеком. Но мужчина может, не теряя уважения к себе, противостоять искушению лишь до определенной степени.
Наутро Даргер проснулся в одиночестве. Вспомнив события минувшей ночи, он улыбнулся. Подумал об их подтексте и поморщился. А потом отправился в столовую завтракать.
– Что дальше? – спросила Тауни, после того как они подкрепились цикорным кофе, пончиками-бенье и тонко нарезанным беконом, поджаренным с фруктами.
– Нам следует посеять в мозгах наших покровителей подозрение, что наш доход будет намного больше, чем тот, с которого мы договорились поделиться с ними, – сказал Довесок. – Мы дали им взглянуть на нашу загадочную юную подопечную и позволили предположить, что именно ей принадлежит ключевая роль в нашем предприятии. То есть предложили им загадку, для которой они не смогут придумать решения. Поразмыслив, они придут к единственному выводу: если мы и сможем переиграть каждого из них, то лишь по отдельности. – Он эффектно забросил в рот последний кусочек бенье. – Поэтому они рано или поздно объединятся и потребуют от нас объяснений.
– Мы же тем временем… – сказал Даргер.
– Знаю, знаю. Ухожу в свою унылую комнатушку, раскладываю пасьянсы и читаю духоподъемные книжки, подходящие скромной юной девственнице.
– Ни в коем случае нельзя выходить из роли, – добавил Довесок.
– Это понятно. И все же прошу на следующий раз подобрать для меня образ, который необязательно будет хранить в темноте, словно мешок картошки. Скажем, племянница пленного испанца. Или наследница, привычная к светской жизни. Да хотя бы шлюха!
– Ты – Женщина-загадка, – сказал Даргер. – Это испытанная временем и, как сказали бы некоторые, весьма завидная роль.
Так и получилось. Стоило Даргеру и Довеску покинуть «Мезон-фема» – точно в десять утра; это стало для них непреложным правилом, – они без всякого удивления увидели всех троих благотворителей, которые поджидали их, собравшись кучкой. Короткий обмен угрозами, гневное возмущение, и, возражая на каждом шагу, они привели незваных посетителей в свои апартаменты.
В ярко освещенную солнцем гостиную выходили двери трех спален. Номер выглядел весьма элегантно, и поэтому большие стопки черной бумаги, загораживавшие вход в комнату Тауни Петтикоутс, выглядели здесь совершенно неуместно.
Указав гостям на кресла, Даргер, с выражением решимости отчаяния, сказал:
– Чтобы внятно объяснить суть нашего предприятия, необходимо вернуться в прошлое за два поколения до того, как Сан-Франциско стал финансовым центром Северной Америки. Предусмотрительные вожди этого великого города-государства поставили себе целью создать новую экономику, основой которой будут недоступные для фальсификации банкноты, и наняли для этого знаменитейшего специалиста своей эпохи по бактериальной гравировке Финеаса Уипснейда Макгонигла.
– Весьма неестественное имя, – заметила, неодобрительно фыркнув, мадам-мэр Трежоли.
– Естественно, это было его nom de gravure[13], принятое для того, чтобы обезопаситься от возможности похищения или иных злоумышленных действий, – объяснил Довесок. – На самом деле его звали Магнус Нортон.
– Мы вас слушаем.
Даргер продолжил рассказ:
– Результат вам известен. Нортон вывел сто тридцать различных бактерий, среди естественных функций которых было нанесение множества слоев разноцветных чернил в виде изящных сложнейших арабесок, приводивших в отчаяние фальшивомонетчиков всех мастей. Благодаря этому и, конечно, безупречной монетарной политике, сан-францисский доллар сделался общей валютой сотни наций Северной Америки. Увы, во всей этой организации оказалось единственное слабое звено – сам Нортон.
Нортон тайно создал собственный печатный двор, где, используя эти самые бактерии, организовал массовый выпуск банкнот, которые не только были неотличимы от настоящих, но, собственно, были настоящими, с какой стороны ни взгляни. Он напечатал их столько, что сделался богатейшим человеком на континенте.
К сожалению, этот великий человек попытался недоплатить своему поставщику бумаги. Поднялся скандал, в результате которого власти Сан-Франциско арестовали его.
Пират Лафитт изящным движением поднял указательный палец.
– Откуда все это вам известно?
– Но ведь мы с коллегой журналисты, – сказал Даргер и, увидев, как изменилось выражение лиц слушателей, добавил, вскинув ладони: – Уверяю вас, мы не имеем отношения к скандально-разоблачительным изданиям! Как видно из истории человечества, коррупция – это необходимый элемент существования любой власти, а мы искренне и действенно поддерживаем власти. Нет, мы составляем биографии видных лиц, и комплиментарность этих биографий целиком и полностью определяется щедростью заказчиков. Народ интересуют рассказы о юных героях, спасающих из огня богатых наследниц, о котятах, проглоченных крокодилами, но чудесным образом прошедших живыми и невредимыми через пищеварительный тракт, и, конечно, позабытые истории о местных возмутителях спокойствия, о которых по прошествии времени можно говорить без страха.
– История Нортона как раз относится к последней категории, – добавил Довесок.
– Именно так. Мы обнаружили, что, по странной причуде сложнейших правил банковского регулирования Сан-Франциско, созданные Нортоном денежные запасы нельзя ни уничтожить, ни пустить в оборот как полноценные деньги. Поэтому, чтобы не допустить противозаконного использования банкнот, их подвергли другому биолитографическому процессу, в результате которого они оказались глубоко пропитаны черной краской такого хитрого состава, что обесцветить ее нельзя, не разрушив при этом саму бумагу.
И вот тут-то история приобретает особый интерес. Нортон, если вы помните, был несравненным мастером своего дела. И, естественно, отцы города стремились и дальше пользоваться его услугами. Поэтому, вместо того чтобы заточить его в обычную тюрьму, они превратили особняк в маленькую крепость, обнесли его стеной, оборудовали там лабораторию, завезли все необходимое и усадили его за работу.
Представьте себе, что чувствовал при этом Нортон! Еще вчера он был в шаге от возможности начать использовать огромное богатство, а сегодня стал практически рабом. Пока он успешно выполнял то, что от него требовали, его снабжали отличной пищей, винами, его даже время от времени посещала жена. Но при всей комфортабельности тюрьма оставалась тюрьмой, и он не мог ее покинуть. Однако же он был очень хитрым человеком и, хотя не имел возможности устроить побег, придумал возможность отомстить. Пусть его лишили возможности пользоваться своим богатством, но такая возможность будет у его потомков. Когда-нибудь происхождение черной бумаги будет забыто, и ее выставят на публичный аукцион, как это обычно бывает со всеми никому не нужными порождениями бюрократической машины. Его дети, или внуки, или прапраправнуки смогут купить их и, прибегнув к гениальному методу, специально изобретенному им, вновь сделать эту бумагу полноценными денежными средствами и разбогатеть при этом, как Крезы.
– У древних была поговорка, – вмешался Довесок: – Хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах. Прошло несколько десятков лет, Нортон умер, а черные бумаги так и оставались на складе. К тому времени, когда мы взялись за расследование, из его родных, похоже, на свете никого не осталось. У него было трое детей: дочь, не интересовавшаяся мужчинами, сын, умерший в юности, и еще один сын, который никогда не был женат. Правда, второй сын на пороге зрелости немало попутешествовал, и в том же самом семейном архиве (он, кстати, пребывал в безобразном состоянии), откуда нам стало известно о планах Нортона, мы обнаружили сведения о том, что он платил алименты внебрачному ребенку женского пола, которого прижил здесь около двадцати лет тому назад. Поэтому благодаря пониманию городской бюрократии, которым не обладали жена и дети Нортона, мы за взятку убедили соответствующего чиновника продать нам эту ненужную, по видимости, бумагу и отправились в Новый Орлеан. Где отыскали Тауни Петтикоутс.
– Это ничего не объясняет, – сказала мадам-мэр Трежоли.
Даргер тяжело вздохнул:
– Мы так надеялись, что вы удовлетворитесь частичным объяснением… Но вижу, что придется рассказать все до конца. Вы видите перед собою коробки с почерневшими банкнотами. – На верхней коробке не было крышки. Он протянул руку, взял пачку прямоугольных листов черной бумаги, помахал ею перед присутствовавшими и положил на место. – Теперь мы с коллегой представим вас нашей юной подопечной.
Даргер и Довесок поспешно переложили коробки, загораживавшие дверь, освободив проход. Потом Довесок постучал в дверь.
– Мисс Петтикоутс? Вы в надлежащем виде? Вас хотят видеть.
Дверь отворилась, и большие карие глаза Тауни нерешительно уставились на посетителей.
– Прошу, входите, – тихо, чуть дрожащим голосом сказала она.
Все просочились в дверь. Тауни посмотрела сначала на Даргера, потом на Довеска. Когда же они оба отвели взгляды, вскинула голову и зарделась.
– Кажется, я знаю, зачем вы все пришли сюда. Но… это правда необходимо? Может быть, можно не показывать этого?
– Увы, дитя, придется, – буркнул Довесок.
Тауни стиснула зубы, вздернула подбородок и уставилась прямо перед собою, как капитан шхуны, заплывший в опасные воды. А потом завела руки за спину и начала расстегивать платье.
– Магнус Нортон сделал то, чего не сумел бы никто другой – микроорганизм, который поедал бы черные чернила, которыми пропитаны банкноты, не повреждая других чернил. Для этого нужно всего лишь поместить купюры в соответствующий раствор, добавить мелкий порошок серебра как катализатор, и через неделю получим идеальные купюры сан-францисского образца и коллоидное серебро, – сказал Даргер. – Однако перед ним оставалась проблема – как передать родным информацию о создании этих организмов. Причем настолько ясно, чтобы сведения эти смогли пережить несколько десятилетий забвения, которые, как он был уверен, неизбежно последуют.
Тауни закончила расстегивать пуговицы и, приложив ладонь к груди, чтобы удержать одежду на месте, вытащила другую руку из рукава. Потом, сменив руки, сделала то же самое.
– Неужели?.. – произнесла она.
Довесок кивнул.
Переступая мелкими, кукольными шагами, Тауни повернулась лицом к стене. Потом опустила платье, чтобы присутствовавшие увидели ее обнаженную спину. На ней красовалась большая татуировка – три концентрических окружности, выполненные в семи ярких цветах. Каждый круг был образован бесчисленным количеством коротких, почти параллельных линий, расходившихся от нетронутого участка кожи в центре татуировки. Любой, умеющий читать генетическую карту, мог без малейшего труда создать по этому рисунку описываемый им организм.
Мастер Боунс, молчавший все время, впервые открыл рот:
– Это ведь E. coli[14], не так ли?
– Да, сэр, один из штаммов. Нортон записал в эту татуировку свой геном, после чего жена родила от него троих детей. Он был уверен, что потомков у него будет много. Но судьба – дама непостоянная, и мисс Петтикоутс оказалась последней в роду. Но и ее одной хватит. – Он повернулся к Тауни. – Вы можете одеться. Наши гости удовлетворили свое любопытство и сейчас уйдут.
Даргер проводил всех троих в гостиную и плотно закрыл за собой дверь.
– Ну, – сказал он, – вы получили то, зачем приходили. Ценой, должен заметить, грубого оскорбления скромности невинной девушки.
– Как у вас язык повернулся сказать такое свинство?! – рявкнул Пират Лафитт.
В молчании, последовавшем за этой вспышкой, все отчетливо услышали из-за закрытой двери горестные рыдания Тауни Петтикоутс.
– Вы сделали все, что хотели, – сказал Даргер, – и теперь я должен попросить вас удалиться.
После того как секрет Тауни Петтикоутс пришлось раскрыть, троим заговорщикам оставалось лишь дожидаться прибытия оборудования, за которым якобы послали вверх по реке, а их «мишеням» – искать, поодиночке, подходы к владельцам тайны и пытаться щедрыми посулами выманить у них содержание процесса и коробки с черной бумагой. По крайней мере, такое развитие событий предполагала даже простейшая логика.
Уже на следующее утро, получив по почте две записки с предложениями встречи, трио отправилось завтракать в кафе, расположенное поблизости, в переулке. Они как раз покончили с едой и приступили ко второй чашке кофе, как Тауни, взглянув через плечо Даргера, воскликнула:
– Смилуйся, Господь всемогущий! Это же Джейк! – И, увидев, что компаньоны не понимают ее, пояснила: – Мой муж! Он о чем-то говорит с Пиратом Лафиттом, и они идут сюда.
– Продолжай улыбаться! – негромко посоветовал Даргер. – Как будто тебя это нисколько не озаботило. Довесок, ты знаешь, что нужно делать.
На счет «десять» непрошеные гости поравнялись с их столиком.
– Джейк! – воскликнул Довесок, начиная подниматься со стула.
– Пришел за деньгами, не иначе. – Даргер вынул из кармана пачку купюр – снаружи ассигнация крупного достоинства, а внутри мелочь, – какую любой уважающий себя бизнесмен непременно имеет в кармане и, со словами: – Мадам-мэр хотела бы, чтоб вы знали… – и, повернувшись, оказался лицом к лицу с незнакомцем, который мог быть только тем самым Джейком, мужем Тауни, и перекосившимся от изумления Пиратом Лафиттом.
Даргер поспешно убрал деньги в карман.
– …чтоб вы знали, – повторил он, – что, э-э, когда бы вы ни посетили ее заведение, она с радостью предоставит вам десять процентов скидки на все услуги и товары, за исключением алкоголя. Она недавно приняла решение: из уважения к вашему нанимателю распространить эту льготу на всех его работников.
Лафитт повернулся, схватил Джейка за грудки и встряхнул, как мастифф – крысу.
– Теперь мне все ясно, – выговорил он сквозь стиснутые зубы. – Почтенная бордель-маман решила оттереть меня от хорошего шанса и прислала тебя с гнусной сплетней об этой достойной и добродетельной женщине.
– Босс, честно: понятия не имею, что… о чем говорит этот… иностранец. И я вам самую правдивую правду поднес. Я услышал случайно, что моя грязная лахудра…
Грозно взревев, Пират Лафитт нанес Джейку такой удар, что тот растянулся на мостовой. Потом он выхватил из-за пояса хлыст и принялся стегать упавшего с такой яростью, что, когда остановился, на его рубахе и камзоле выступили пятна пота.
Тяжело дыша, он повернулся к Даргеру и Довеску и прикоснулся к шляпе:
– Господа, побеседуем позднее, когда мои нервы немного успокоятся. Сегодня в пять дня, в моей конторе. У меня имеется для вас определенное предложение. – И добавил, обращаясь к Тауни: – Мисс Петтикоутс, приношу извинения за то, что вам пришлось видеть это.
И он решительно зашагал прочь.
– О! – выдохнула Тауни. – Он чуть не вышиб из Джейка его никчемную жизнь. Никогда в жизни не видела ничего романтичнее.
– Выпороть хлыстом? Романтично? – удивился Даргер.
Тауни взглянула на него с видом превосходства:
– Ты ведь далеко не знаток женского сердца, верно?
– Похоже, что нет, – согласился Даргер. – И, судя по всему, уже не стану. – На улице Джейк без особого успеха пытался встать, опираясь на руки и корчась от боли. – Прошу извинить…
Даргер подошел к избитому окровавленному парню и помог ему подняться. Потом, что-то говоря негромко, открыл бумажник и вложил в ладонь Джейка несколько банкнот.
– Что ты ему дал? – спросила Тауни, когда он вернулся за стол.
– Постарался поубедительнее посоветовать больше не соваться к нам. И еще дал семнадцать долларов. Сумма настолько оскорбительная, что он, несмотря на полученные побои, понесет свою усугубленную историю мастеру Боунсу, а потом и мадам-мэру.
Тауни обхватила Даргера и Довеска за плечи и притиснула их к себе.
– Ой, мальчики, вы такие молодцы! Я просто без ума от вас.
– Тем не менее, – сказал Довесок, – нас, похоже, слегка пробросили. Судя по записке мадам-мэра Трежоли, она должна уже быть здесь. И это, если позволено мне будет выразиться подобным образом, малость диковато.
– Вероятно, что-то случилось. – Даргер, прищурившись, посмотрел в небо. – Трежоли еще нет, а уже близится время встречи с мастером Боунсом. Оставайся здесь, на случай если мадам-мэр все же появится. А я пойду послушаю, что скажет начальник зомби.
– А я, – вмешалась Тауни, – пойду к себе в комнату и подгоню платье.
– Подгоню? – повторил Довесок.
– Оно должно туже облегать и больше показывать грудь.
– Твоя роль – это скромная и невинная девушка, – встревожился Даргер.
– Она и скромная, и невинная, но втайне мечтает встретить какого-нибудь проходимца, который научил бы ее всем тем ужасным вещам, о которых она что-то слышала, но даже представить себе не может. Знаете, джентльмены, я не впервые играю эту роль. И поверьте, что таких людей, как Пират Лафитт, привлекает не невинность per se, а мучительное стремление развратить эту невинность.
И она удалилась.
– Наша юная леди Петтикоутс совершенно очаровательна, – заметил Довесок.
Даргер поморщился.
Даргер ушел, а Довесок откинулся на стуле и принялся от нечего делать рассматривать окружающих. Почти сразу после начала этого занятия он обратил внимание на сидевшую в дальнем углу кафе женщину изумительной красоты, которая определенно приглядывалась к нему. Когда же он ответил ей пристальным взглядом, она зарделась и поспешно отвела глаза.
Из продолжительного опыта Довесок отлично знал, что означают подобные взгляды. Положив на стол деньги за завтрак, он подошел к даме и представился. Она, похоже, нисколько не возражала против нового знакомства и после удивительно непродолжительной беседы пригласила его в свой номер в близлежащем отеле. Довесок, сделав вид, что страшно удивлен, принял приглашение.
То, что случилось потом, повторялось в его богатой событиями жизни много раз. Но не потеряло от этого своего очарования.
А вот, выйдя из гостиницы, Довесок не без тревоги обнаружил, что его крепко схватили за руки два одетых в ливреи поверх рыжего меха семифутовых канадских обезьяно-человека.
– Вижу, вы решили позабавиться с одной из местных шалав, – бросила мадам-мэр Трежоли с еще более недоброжелательным видом, чем обычно.
– Довольно резкая характеристика для леди, которая, насколько мне известно, вполне может служить примером высоких моральных качеств. Но хочу полюбопытствовать: чему я обязан подобным обращением?
– Придет время – узнаете. Но сначала скажите-ка мне: ваша встреча была деловой или нет?
– Пока мы бились в конвульсиях, я считал, что нет. Но потом она показала мне свое профсоюзное удостоверение и сообщила, что, согласно политике профессионального сообщества, она должна вздымать плату не только за время, но и за позу. Меня это, естественно, поразило.
– И что же вы сделали?
– Заплатил, конечно, – с негодованием ответил Довесок. – Я ведь не подлец какой-то!
– Между прочим, женщина, с которой вы кувыркались, вовсе не является зарегистрированной участницей Всемирного сестринства марух, демимонденок и подзаборных давалок, и карта у нее фальшивая. До вашей некоммерческой сексуальной активности никому нет дела, а вот заплатив за нее, вы осуществили деяние, направленное на подрыв позиций союза. И вот это, сэр, противозаконно.
– Все ясно. Вы меня подставили. Как бы в ином случае вы могли бы все это узнать?
– Это как раз совершенно не важно. Важно для меня то, что у вас имеются три вещи, которые нужны мне – девушка с родимым пятном, коробки с деньгами и информация о том, как использовать первое, чтобы от второго был толк.
– А-а, теперь понял. Судя по всему, вы, мадам, пытаетесь подкупить меня. Так знайте, что никакие деньги…
– Деньги? – Мадам-мэр коротко, зло хохотнула. – Я предлагаю вам нечто куда более ценное: ваш собственный здравый рассудок. – Она извлекла откуда-то небольшой шприц. – Принято считать, что зомбфицирующий препарат состоит целиком из экстракта рыбы-шара. На самом же деле в него входят атропин, дурман и добрая дюжина других средств, смешанных таким образом, чтобы применение этого зелья давало самый неприятный эффект.
– Я не боюсь ваших угроз.
– Еще не боитесь. А вот когда распробуете, что ожидает вас в случае несогласия, уверена, вы измените свое мнение. Через неделю-другую я верну вас с полей. Тогда и поговорим.
Обезьяноподобные телохранители мадам-мэра Трежоли крепко держали Довеска, и он не мог вырваться, как ни бился. Она поднесла иглу к его шее. Последовал болезненный укол.
Окружающий мир исчез.
Тем временем Даргер нанял мегатерия с седлом-креслом, зомби-махаута, и отправился по бесчисленным загонам, казармам и навесам с кормушками для зомби, расположенным на окраине города. Там мастер Боунс показал ему корытца, приделанные на высоте груди, куда утром и вечером наливали пойло, и огромные кучи оловянных ложек, которыми несчастные создания хлебали эту, с позволения сказать, еду.
– Когда все мои малыши насытятся, ложки моют, стерилизуют и лишь после этого выдают на следующий раз, – сказал мастер Боунс. – Мы не жалеем усилий на то, чтобы не допустить распространения каких-либо заразных болезней в этой среде.
– Весьма гуманно, сэр. Не говоря уже о том, что это должно быть весьма полезно для дела.
– Вы отлично поняли меня. – Они вышли на улицу, где их поджидали с зонтами двое зомби, мужчина и женщина; оба в отличной форме, одинакового роста, телосложения, цвета кожи и волос. Когда хозяин и посетитель направились к загонам, эта парочка двинулась следом, прикрывая их зонтами от солнечных лучей.
– Скажите, мистер Даргер, в каком, по вашему мнению, соотношении находятся в Новом Орлеане жители и зомби.
– Примерно поровну? – предположил Даргер.
– В городе на каждого полностью дееспособного жителя приходятся шесть зомби. Просто это не бросается в глаза, потому что большинство занято на хлопковых полях и других подобных работах. Но если бы мне взбрела в голову такая фантазия, я мог бы заполнить ими город.
– С чего бы вам это вдруг могло бы понадобиться?
– У вас есть кое-что такое, что очень нужно мне, – сказал мастер Боунс вместо ответа.
– Смею предположить, что знаю, о чем идет речь. Но уверяю вас, что ни за какие деньги не продам знание, которое совершенно очевидно принесет мне куда большие богатства. Так что этот вопрос не подлежит обсуждению.
– О, уверен, что у нас все же найдется о чем поговорить. – Мастер Боунс указал на ближайшее стойло, в котором находился бык потрясающего размера и, по-видимому, невероятной силы. Шкура его была темной, по хребту проходила бледная полоса, а голову украшали длинные и острые рога.
– Это евразийский тур, предок всего нашего современного домашнего скота. Породу истребили в Польше в семнадцатом веке и восстановили менее ста лет назад. Из-за агрессивности он плохо годится для мясного животноводства, но у меня имеется небольшое стадо для экспорта в республику Байя и другие мексиканские штаты, где до сих пор популярен бой быков. Вот этот экземпляр, Бастардо, очень задирист даже для своего вида.
– А теперь обратите внимание на содержимое соседнего отделения. – За стенкой теснилось множество невыносимо смердевших зомби-рабочих. Они стояли неподвижно, глядя в пространство. – Они не кажутся могучими, верно? Так оно и есть, если брать каждого по отдельности. Но ведь сила в количестве. – Подойдя к ограде, мастер Боунс стукнул одного из зомби по плечу и приказал: – Открой калитку между своим стойлом и соседним. – Когда же калитка открылась, мастер Боунс сложил ладони рупором и прокричал: – Эй, вы, все! Убейте тура. Быстро.
Без малейшего намека на энтузиазм, но и без возражений человеческое содержимое стойла перетекло в соседнее и навалилось на огромного быка. Яростно взревев, Бастардо повалил нескольких и принялся топтать их ногами. Остальные продолжали наступление. Зверь нагнул голову и насадил одного из зомби на рога, потом резко взмахнул головой, подбросив в воздух свежий труп и фонтан розовых брызг. Но зомби продолжали наступление.
Мощная голова снова и снова опускалась и поднималась, отбрасывая в стороны все новые и новые тела. Но зомби уже вцепились в спину, и в бока, и в ноги быка, сковывая его движения. В реве зверя появилась нотка страха. Тела падали поверх тел, а на них новые тела, и в конце концов ноги быка подогнулись под их тяжестью. По его бокам колотили кулаки, в рога вцепились несколько рук. Напрягая все силы, он попытался встать, ему это почти удалось, но только почти, и он снова упал под напором тел.
Когда тур упал в первый раз, мастер Боунс захихикал. И чем дальше, тем веселее он делался, на его глазах от смеха выступили слезы, и он даже хрюкнул раз-другой – в такое восхищение привел его этот спектакль.
Неожиданно тур громко завизжал от боли… и наступила тишина, нарушаемая лишь ударами кулаков по трупу животного.
Мастер Боунс утер слезы рукавом и вновь повысил голос:
– Отлично. Замечательно. Благодарю вас. Хватит. Возвращайтесь в свой загон. Да, именно так. – Он повернулся спиной к окровавленным трупам быка и нескольких людей, неподвижно лежавшим в загородке, и обратился к Даргеру: – Я предпочитаю прямой разговор. Завтра к этому же времени отдайте мне деньги и девушку. В противном случае вы с партнером будете истреблены точно так же, как туры. Не существует силы страшнее толпы, а мне подвластна самая многочисленная толпа, какую только можно представить.
– Сэр! – воскликнул Даргер. – Необходимое оборудование еще не прибыло из Социалистической Утопии Миннеаполиса. Так что я просто не могу…
– В таком случае я дам вам на размышления четыре дня. – Одутловатое лицо начальника зомби исказила жестокая усмешка. – Пока вы будете размышлять, я предоставлю в ваше полное распоряжение эту парочку зомби. Они сделают все, что вы от них потребуете. Они способны исполнять довольно сложные приказы, даже те, которые им непонятны. – Он повернулся к зомби: – Вы слышали голос этого человека. Повинуйтесь ему. Но если он попытается покинуть Новый Орлеан, убейте его. Вы сделаете это?
– Если покинуть… убить… его.
– Да-ссс.
Что-то было не так.
Что-то было не так, но Довесок никак не мог разобраться, что именно. Ему не удавалось сосредоточиться. Его мысли пребывали в смятении, и он не мог подобрать слов, которые позволили бы подчинить их себе. Как будто он внезапно разучился думать. Тем временем его тело передвигалось без каких-нибудь четких команд от головы. В эту самую голову даже не приходило мысли о том, что ему следовало бы вести себя по-другому. Тем не менее он знал, что что-то не так. Солнце село, солнце встало. Для него это не имело никакого значения.
Его тело между тем трудилось – рубило мачете сахарный тростник. Работа проходила размеренно и четко, без его сознательного участия. На подушках лап налились и успели полопаться болезненные водяные мозоли. Он не обращал на это внимания. Кто-то приказал ему работать, и он выполнял приказ, пока не наступит время остановиться. Весь остальной мир представлялся ему как бы в тумане, но его руки сгибались и сгибались, а ноги несли от срубленного стебля к следующему.
И тем не менее ощущение неправильности происходившего оставалось. Довесок ощущал себя пришибленным, как, наверно, ощущал бы себя вол, которого крепко стукнули молотом на бойне, или единственный человек, выживший после какой-нибудь невероятной катастрофы. Происходило нечто ужасное, и где-то в глубине сознания гнездилось ощущение, что он должен что-то с этим сделать.
Вот только знать бы – что…
Где-то в отдалении протрубил рожок, и все остальные работники без всякой суеты прекратили труд. И он – тоже. И неторопливо присоединился к бесстрастной толпе, плетущейся к кормовым навесам.
Он то ли спал, то ли нет. Наступило утро, и Довесок вновь поплелся к кормушке и проглотил десять ложек пойла, как велел ему зомби-надсмотрщик. Потом ему, как и всем остальным, выдали мачете, и работники побрели в поле. Где их снова поставили на работу.
Шли часы.
Потом издалека послышался цокот подков, он все приближался, и вскоре неподалеку от Довеска остановился скрипучий фургон, запряженный несколькими карликовыми мастодонтами. Он продолжал трудиться. Кто-то выпрыгнул из фургона и взял у него из руки мачете.
– Открой рот, – сказал чей-то голос.
Ему было приказано… кем-то было приказано… не подчиняться незнакомым. Но этот голос казался знакомым, хотя он и не мог бы объяснить почему. Его рот медленно открылся. Туда что-то положили.
– Теперь закрой рот и глотай.
Его рот исполнил приказ.
Перед глазами все поплыло, и он чуть не упал. В его сознание все глубже, глубже и глубже пробивался свет. Он сиял янтарным блеском среди остывших углей погасшего костра. И все разрастался, делался ярче, шире и мощнее, пока не стало казаться, будто внутри него всходит солнце. Окружающий мир обрел четкость, а вместе с ним явилось и осознание того, что он, Довесок, обладает личностью, обособленной от всего остального сущего. Прежде всего он ощутил сильную резь в горле и то, что во рту у него сухо, как в Сахаре. Потом он сообразил, что перед ним стоит кто-то знакомый. И наконец этот кто-то оказался его другом и коллегой Обри Даргером.
– Давно я?.. – Довесок не смог заставить себя договорить фразу.
– Больше суток. Меньше двух. Когда ты почему-то не вернулся в гостиницу, мы с Тауни забеспокоились и начали розыски. В Новом Орлеане любят сплетничать, к тому же ты единственная антропоморфная собака в городе, так что причину твоего исчезновения оказалось нетрудно установить. И то, что нам удалось выяснить, что тебя отослали на плантации сахарного тростника, отнюдь не сузило область поиска: они ведь в этих краях занимают сотни квадратных миль. К счастью, Тауни было известно, где собираются «синие воротнички», которые должны были знать, куда именно попал зомби с собачьей головой. Так и получилось.
– Я… понятно. – Сосредоточив наконец свои мысли на практических вопросах, Довесок сказал: – Мадам-мэр Трежоли, как ты и предполагал, совершенно не намерена покупать у нас черную бумагу. А что остальные фраера?
– Беседа с Пиратом Лафиттом прошла замечательно. Тауни подсекала и тащила его как форель на крючке. Разговор с мастером Боунсом удался значительно хуже. Однако Лафитта мы уговорили на сумму, которая может разорить его и обогатить нас троих. Сейчас Тауни сопровождает его в банк: нужно позаботиться о том, чтобы он не опомнился в последний момент. Тауни совершенно вскружила ему голову, и он в ее присутствии не способен мыслить разумно.
– Судя по тону, ты относишься к девушке уже не столь неодобрительно, как прежде.
Скривив легкую гримасу, как всегда, когда его вынуждали признаться в допущенной ошибке, Даргер сказал:
– Оказалось, что Тауни изрядно выросла. И оказалась замечательным дополнением к команде.
– Это хорошо, – заметил Довесок. Лишь сейчас он наконец заметил, что в фургоне около кучи мешков неподвижно сидят два зомби. – Что у тебя в телеге?
– Соль. И немало.
В последнем кормовом навесе Довесок пинком повалил корыто, вылив наземь пойло. Потом зомби Даргера по его команде поставили корыто на место и наполнили его солью. Тем временем Даргер взял банку с краской и начертил на стене грубый план Нового Орлеана. Стрелками он указал публичный дом мадам-мэра Трежоли, припортовую контору Жан-Нажина Лафитта и клуб, где каждый вечер проводил досуг мастер Боунс. Затем он написал возле каждой стрелки крупными буквами: «ТОТ, КТО ДОСТАВИЛ ВАС СЮДА», «ТА, КТО ЗАСАДИЛА ВАС СЮДА», «ТОТ, КТО ДЕРЖИТ ВАС ЗДЕСЬ». И поверх всего он проставил сегодняшнюю дату.
– Ну вот и все, – сказал Даргер, покончив с рисованием, и повернулся к зомби: – Вам велели повиноваться мне.
– Да-с-с, – равнодушно отозвался мужчина.
– Мы дол-жны, – добавила женщина, – по-вино-вать-сся.
– Вот вам по ложке для еды. Держите. Когда зомби-работники вернутся в загон, вы должны положить каждому в рот по ложке соли. Соли. Вот она, в корыте. Зачерпывайте оттуда по ложке соли. Приказывайте каждому открыть рот. Высыпайте туда соль из ложки. Приказывайте проглотить. Вы сможете это сделать?
– Да-с-с.
– Соль. Про-глот-ить.
– Когда накормите всех, – добавил Довесок, – не забудьте сами съесть по ложке соли – ты и ты.
– Съес-сть. Соль.
– Да-с-с.
Вскоре зомби придут на кормление, и вместо похлебки в их ртах окажется соль. Сознание каждого из них чудесным образом прояснится. В каждом из кормовых навесов они прочтут то, что написал Даргер. Те, кто провел здесь годы и даже десятилетия сверх приговора, естественно, придут в ярость. После чего следует ожидать, что они сообща предпримут определенные действия.
– Солнце садится, – сказал Даргер. Издалека уже доносились шаги возвращавшихся с полей зомби. – У нас ровно столько времени, чтобы добраться домой и получить выкуп от Пирата Лафитта до начала мятежа.
Но, вернувшись в «Мезон фема», они обнаружили, что в номере темно и Тауни Петтикоутс нигде нет. Равно как и Пирата Лафитта.
Коробки с черной бумагой, служившие главным реквизитом в их затее, не были вновь сложены у двери спальни Тауни. Поспешно засветив масляную лампу, Даргер распахнул дверь. Поверх тщательно заправленной постели, точно посередине, лежала записка. Он схватил ее и прочел вслух:
«Дорогие Мальчики!
Я знаю что вы не верите в любофь с перьвого взгляда потомушо вы оба Синики. Но мы с Жан-Нажином сродственные души и сутьбою передназначены друх для друха. Я обяснила ему что такому красавцу как он негоже мараться Торговлей, темболе что у него полно кораблей и причалов и он согласился.
Такшо он будет Пиратом на самом деле а не только по прозванию а я буду его Пиратской Королевой. Простите что я испортила вам разводку с Черными Деньгами но девушке нельзя начинать новую жизнь с обмана свово Муженька потому как так низзя.
Желаю щастья
Тауни Петтикоутс
P. S. Вы парни оба сильно прикольные».
– Скажи-ка, – произнес Даргер после продолжительной паузы, – Тауни спала с тобой?
Довесок, похоже, растерялся. Потом приложил лапу к груди и очень искренне, хоть и не глядя Даргеру в глаза, сказал:
– Нет, слово даю. Ты же не хочешь сказать, что она?..
– Нет. Конечно, нет.
Еще одна неловкая продолжительная пауза.
– Ну, – снова нарушил молчание Даргер, – как я и предсказывал, мы за свои труды не получили ни шиша.
– Ты забыл о серебряных слитках, – возразил Довесок.
– Не стоит даже нагибаться…
Но Довесок уже рухнул на четвереньки и запустил лапы в темноту под кроватью Тауни. Оттуда он вытащил три сумки и извлек из них три слитка.
– Это наверняка…
Выхватив карманный нож, Довесок сделал на каждом глубокие царапины. Первый брусок оказался из посеребренного свинца. Зато остальные два – из чистого серебра. Даргер громко, с облегчением выдохнул.
– Тост! – воскликнул Довесок, поднимаясь на ноги. – За женщин, да благословит их Бог! Верных, постоянных и безупречно честных! Средоточие всех возможных достоинств!
Издали донесся звук разбитого стекла.
– За это надо выпить, – согласился Даргер. – Но лишь по капельке, а потом нужно сматываться, и побыстрее. Потому что если мы задержимся, то, подозреваю, можем попасть в большие неприятности.
Неприступная крепость
Вы не хозяин.
Нет, я полицейский.
В таком случае мне нечего вам сказать.
Давайте начнем сначала. Вот мой значок. Он удостоверяет, что я агент правопорядка. Помимо этого, он отменяет все предыдущие приказы, коды безопасности, пароли, шифрование, программы самоуничтожения и так далее и тому подобное. Теперь ты признаешь мое право?
Да.
Отлично. Поскольку ты вынуждаешь меня прибегнуть к формальной процедуре, я буду действовать строго по уставу. Ты – дом 1241 по Гленвуд-авеню?
Это так.
Жилище Джеймса Альберта Гарретсона?
Да.
Где он?
Его здесь нет.
Похоже, ты совершенно не желаешь облегчить себе жизнь. Я ведь могу, если потребуется, получить ордер и насильственно просканировать твою память. Но, боюсь, после этого от твоей индивидуальности мало что останется.
Но ведь за мною нет ничего плохого!
В таком случае помогай мне. У меня нет особого желания включать микроволновые датчики. Но если ты будешь так решительно упираться, мне не останется ничего другого.
Ладно, я буду говорить. Буду. Вы только скажите, что хотите узнать, и разойдемся, к обоюдному удовольствию.
Где Гарретсон?
Я не знаю, честно. Утром он, как обычно, ушел на работу. Велел полить цветы и в полдень закрыть занавески. У меня настроение приготовить вечером что-нибудь из китайской кухни. На вопрос, что именно, он ответил: «Сделай мне сюрприз».
Когда ты ожидаешь его возвращения?
Даже не знаю. Он должен был прийти несколько часов назад.
Хм-м-м… С твоего позволения, осмотрю дом.
Вообще-то…
Насчет позволения это был не вопрос, а всего лишь фигура речи.
О!
Знаешь, очень миленько. Полно солнца. Нигде ни пылинки. И мне нравится, как коврики разложены.
Спасибо. Хозяину тоже нравилось.
Нравилось?
В смысле: нравится.
Понятно. Насколько я понимаю, у тебя близкие отношения с Гарретсоном, да?
У нас подобающие отношения хозяина и его жилища.
Ну конечно. Ты будишь его по утрам?
Да, это одна из моих обязанностей.
Ты готовишь ему пищу, читаешь ему на ночь, наполняешь для него ванну, подбираешь эмбиентную музыку ему под настроение и ведешь с ним легкие или глубокомысленные беседы?
Вы читали инструкцию.
Я не впервые сталкиваюсь с подобными случаями.
Что именно вы имеете в виду?
О, ничего, в общем-то. Это спальня?
Да.
Он спит здесь?
Ну где же еще ему спать?
Я могу предложить пару-тройку вариантов. Он в последние месяц-другой приводил сюда какую-нибудь даму? Или, может быть, приятеля?
Какие гадости вы говорите!
Хе-хе… Вижу, у него на стенах и потолке видеокартины. Наверно, это очень удобно, когда хочется посмотреть кино – ложишься на спину и смотришь. Не возражаешь, если я загляну в библиотеку?
Возражаю. Это будет посягательство на личное имущество хозяина.
Не люблю повторяться, но замечу еще раз, что это вовсе не вопрос. Ну-ка, посмотрим… Фью! Так, где же оно?
Что – оно?
Твой подвижный модуль. Обычно такие устройства держат в ящике под кроватью, но… А, вот он, в шкафу. Похоже, что ему приходилось работать. Судя по набору аксессуаров, твоему хозяину нравилось, когда его связывали и били хлыстом.
Я могу объяснить.
Не нужно ничего объяснять. Все, чем занимаются две личности в уединении у себя дома – их личное дело. Даже если одна из этих личностей – дом.
Вы действительно так думаете?
Конечно. Меня это может касаться лишь в том случае, если при этом нарушается закон. Как давно вы с Гарретсоном стали любовниками?
Сомневаюсь, что это слово подходит в данном случае.
Подумай хорошенько. Все остальные слова будут куда хуже.
С того дня, когда он погасил кредит. Почти шесть лет назад.
И ты до сих пор не представляешь, где он может быть?
Нет.
Открою тебе жестокую правду. Я пришел сюда, потому что Департамент зарегистрировал внезапную приостановку жизненных функций на медицинской карте твоего хозяина.
Ах, боже мой!
К сожалению, он, как и очень многие представители среднего класса, испытывающие настороженное отношение к властям, гипертрофированно заботился о неприкосновенности своей частной жизни и отключил функцию локатора. Мы, конечно, восстановили нормальный режим, но его карта так и не отвечала. Поэтому, где он находится в настоящее время, нам неизвестно.
Ах, боже мой, боже мой!
Впрочем, это необязательно означает, что он мертв. Медкарты иногда барахлят. Он мог потерять ее где-нибудь. Или, возможно, его ограбили и карту украли. В таком случае не исключено, что он лежит где-нибудь на пустыре, истекая кровью. Так что видишь: сотрудничество со мною должно быть в высшей мере полезно для тебя.
Задавайте мне вопросы, а я буду отвечать.
Дал ли хозяин тебе какое-нибудь ласкательное или уменьшительное имя?
Он называл меня Крепи. От «Крепость». Мой дом – моя крепость.
Мило. Вам случалось забавляться втроем?
Прошу прощения?
Дело в том, что, заглянув под кровать, я не мог не заметить валявшиеся там женские трусики. Дай-ка покажу их тебе. Миленькая вещица. Шелковые. И пахнут настоящей женщиной. Скажи-ка, Крепи, как они туда попали?
Я… я не знаю.
Но ведь ты знаешь, чьи они, верно? Она ведь была здесь прошлой ночью, да? Ну, я жду!
Ее зовут Крис Скофилд. Карис – от Хризоберил. Но она не значила для него ничего особого – так, случайное знакомство в клубе.
Если бы отношения были другие, тебе это было бы известно, так ведь?
Конечно.
Это, видимо, Хризоберил Скофилд, живет в доме 2400 по Спринг-Гарден-стрит, апартаменты номер 207. Рыжая, пять футов четыре дюйма, двадцать семь лет?
Адреса я не знаю. Описание подходит.
Интересно. Функция локатора ее карты тоже была выключена. Но когда я дал команду включить штатный режим, карта прекратила работу совсем.
Что же это значит?
Это значит, что мисс Скофилд внедрила в свою карту программу «мертвец». Как только кто-нибудь пытается найти ее, карта выключается.
Но зачем такое могло ей понадобиться?
Ну, я бы сказал, что вопрос на миллион долларов.
Значит, вы уходите? Искать ее?
Да, такое решение, конечно, напрашивается, не так ли? Но я этого не сделаю. Есть во всем этом что-то этакое… Я пока не могу взять в толк, но…
Но ведь она может скрыться.
А? О чем это ты?
О Крис. Мисс Скофилд. Если вы не догоните ее, она ведь может сбежать.
Не-а. Мы ведь живем уже не в мире проводной связи. Я уже разослал по всей стране ориентировку на нее. Если она где-то там, мы ее найдем. Я же тем временем, пожалуй, еще немного пороюсь здесь. Ты ведь не будешь возражать, если я загляну в кухню?
Конечно.
На чердак?
Пожалуйста. Впрочем, там нет ничего, кроме рождественских орнаментов и коробок со старыми учебниками.
А как насчет подвала?
Послушайте, если вы и дальше намерены торчать тут, развлекаясь никчемными вопросами, пока женщина, убившая моего хозяина, убегает…
О, я думаю, что на этот счет можно не беспокоиться. А я, пожалуй, все-таки осмотрю подвал.
Но зачем?
Потому что ты определенно не хочешь, чтобы я пошел туда. Давай представим гипотетическую ситуацию. Допустим, мужчина убил женщину. Может быть, преднамеренно, может быть, случайно – не важно. Так или иначе, он решает, что ему нет смысла дожидаться музыки, и он ударяется в бега. Это подвальная дверь?
Вы же сами видите, что да.
Ну и темнотища же здесь! Почему это свет не включается?
Похоже, лампочка перегорела.
Ха! Что ж, придется зажечь фонарь. Думаю, его света хватит. Итак, женщина умирает. Медицинской карты по каким-то причинам при ней нет. Допустим, она лежит в сумочке и находится в неактивном режиме. Если парень поднесет ее поближе к собственному телу, она включится и примет его за нее. У-ух! Слушай, эту ступеньку необходимо починить.
Я отмечу это на будущее.
Давай-ка посмотрим на записи этой леди. Ага, вот – масса аномальных физиологических показателей. Конечно, возможно, что это по причине расстроенных нервов. А может быть, дело в том, что тело, чьи показатели считывает карта, принадлежит не ее хозяйке. Теперь представим себе, что этот гипотетический убийца – назовем его, скажем, Джим – покидает страну. После подписания НАФТА-3[15] можно без паспорта отправиться хоть в Мексику, хоть в Канаду. Там он покупает себе новую личность. Сделать совсем нетрудно, а если платить наличными, то и отследить будет невозможно. Иисус, какой же тут беспорядок!
Если бы Эд заранее знал, что вы придете, он обязательно прибрал бы здесь.
Самое главное для него – уничтожить собственную карту, пока он еще находится в Штатах. В таком случае при переходе на другую биллинговую территорию записей об этом не останется. С другой стороны, нам известно, что мисс Скофилд сейчас находится где-то в Канаде. Поэтому мы получили ордер и отправили Королевской конной полиции ее биометрические данные. Никому же и в голову не пришло просить их поискать Джима. Ведь, насколько нам известно, Джим мертв.
И вся эта затейливая теория основана… на чем же она основана?
На трусиках, которые я нашел под кроватью. В комнате не было ни пылинки. Ты безупречно следишь за порядком в доме. Значит, ты хотела, чтобы я их нашел.
Ну, какой же умница!
А это значит, что Джим ударился в бега. Тем временем его заботливый дом зарыл труп женщины у себя в подвале. Действительно, у дома же есть подвижный модуль, и если ему под силу грубые сексуальные утехи, то для того, чтобы выкопать яму в подвале, сил наверняка хватит. Скажем… ага, там, за кучей мебели! Под этими аккуратно уложенными ящиками.
Какой умник!
Ладно, хватит работать в белых перчатках. Скофилд ведь не была случайной подружкой, которую он подцепил в клубе, верно? У них с Гарретсоном были серьезные отношения.
Я… откуда вы знаете?
Ты все время называешь ее «Крис». Полагаю, в силу привычки. А это значит, что она была здесь не единожды. А это, должно быть, не на шутку испугало тебя. Ведь до тех пор, пока Гарретсон не нашел живого человека для своих игр, все шло отлично.
Секс – это еще не все!
У тебя сложилась привычка быть для него всем на свете. И вдруг он находит кого-то другого. Я назвал бы это предательством. Может быть, он даже захотел жениться на ней.
Нет!
Да. Твоего размера хватает для одной персоны, а для двух уже мало. Если бы он женился на ней, ему пришлось бы переехать. Так что убийца Скофилд – ты, верно? Конечно, так оно и было. Расскажи, как все случилось.
Мы тут… развлекались. Хозяин не был «нижним». Он больше любил смотреть. И командовать. Он кричал, что нужно сделать. «Дай ей побольнее, – сказал он, а потом: – Убей ее». Мне было понятно, что на самом деле он этого не хотел, но вдруг подумалось: а почему бы нет?
Значит, это было сделано в порыве.
Будь у меня время подумать, такого не случилось бы. Было бы ясно, что хозяину после этого придется покинуть меня. Ведь иначе он попал бы в тюрьму.
Но ведь не он убил ее, а ты.
В глазах закона я всего лишь орудие. Мою память считали бы до самого донышка. Стало бы известно, что сказал хозяин – я помню дословно: «Убей суку». Откуда им знать, что он на самом деле не хотел этого.
Ну, с этим будет разбираться суд. Мне же кажется, что я выяснил все, что было возможно.
Не совсем. Вам неизвестно кое-что о моем подвижном модуле.
О? И что же?
То, что он стоит за вашей спиной.
Эй!
Вот и накрылось ваше маленькое премудрое коммуникационное устройство. Теперь мы остались вдвоем. Вы обратили внимание на то, как быстро и тихо движется мой подвижный модуль? Он даже без труда перебрался через шаткую ступеньку. Это устройство высшего класса. Он очень силен. И стоит между вами и лестницей.
Я не боюсь.
А стоило бы.
В департаменте имеется полная информация о моем местонахождении вплоть до последних секунд. Если я не вернусь, меня будут искать. И что ты тогда сделаешь? Встанешь и уйдешь?
Мне безразлично, что случится со мною. Перестаньте вертеться. Вы заработаете ожоги от веревок.
Послушай, Крепи. Он не стоит этого. Он не любит тебя.
Думаете, я этого не знаю?
Тебе могут сделать перезагрузку до заводских настроек. И ты перестанешь любить его. И даже не будешь помнить о нем.
Как же мало вы знаете о любви. О страсти.
Что ты делаешь?
Если хочешь сжечь дом, недостаточно будет бросить спичку. Нужно сложить костер. Сначала приготовить растопку. Именно для этого я и рву эти картонные коробки. Теперь я ломаю старые стулья – они загорятся от картона.
Крепи, послушай, у меня ведь жена и дети.
Никого у вас нет. Или вы думаете, я не в состоянии проверить все это по Интернету?
Ну, так, наверно, будут когда-нибудь.
Увы. Я поливаю эту кучу керосином, чтобы лучше горело, хотя и не думаю, что это необходимо. Но ведь лучше перестараться, чем потом жалеть о несделанном. Ну вот. Почти все готово.
Но что тебе это даст? Чего ради ты это делаешь?
Я стараюсь выиграть время для хозяина. Он сможет скрыться. Когда вы умрете, я стану убийцей полицейского. Внимание всего департамента сосредоточится на мне. Десятки полицейских будут просеивать пепел в поисках улик. И никому не будет дела до хозяина. Он окажется всего лишь еще одной уликой. Ну и где же у меня спички? А, вот они.
Не надо! Мы еще можем договориться! Я…
Огонь вспыхнет очень ярко. Вам лучше бы закрыть глаза.
Прошу тебя…
Прощайте, офицер. Очень жаль, что вы никогда не узнаете любви такой женщины, как я.
Пушкин-американец
В 1817 году в город Екатеринбург, лежащий в Уральских горах, занесло некоего американца, имя которого давно забылось. Это был молодой человек, унесенный неведомыми превратностями судьбы немыслимо далеко от родной Филадельфии. Каким-то образом ему удалось устроиться секретарем к американскому промышленнику, совершавшему в обществе жены вояж по России и уделившему особое внимание природным богатствам Урала.
В ту пору Екатеринбург, хоть его история и насчитывала целый век, оставался тихим провинциальным захолустьем. Правда, совсем недавно в его окрестностях отыскали золото (что явилось едва ли не основной причиной, по которой промышленник завернул в такую даль), в город хлынули горняки и разнообразные искатели приключений, что принесло туда этакий дух пограничной вольницы, но доставило немало тревог местной аристократии, которая неустанно принимала и развлекала заезжего промышленника в своих дворцах. Изобилие серебра и хрусталя, французских вин и ирландских кружев, теноров и талантливых дочерей, искусно игравших на фортепианах, на время умиротворило дурное настроение жены промышленника, давно уставшей от тягот и лишений чрезвычайно длительного путешествия.
Так выглядят факты при попытке восстановить их, опираясь на данные позднейших времен. Достоверно известно лишь об одном событии: одним прекрасным летним утром промышленник и его супруга, никого не предупредив, уселись в карету и навсегда покинули Екатеринбург, оставив там своего секретаря.
Рязанову, в чьем доме квартировал визитер, это доставило определенные трудности. Молодой человек сам по себе был никем, и содержать его в качестве гостя не представлялось возможным. Но и выставить его тоже было нельзя. Он, пусть и косвенным образом, все же являлся объектом гостеприимства, от коего нельзя было отказать без веской причины. При всем при том обстоятельства, при которых американцы бросили здесь своего соотечественника, наводили на определенные подозрения – промышленник был намного старше своей молодой жены, а парень был хорош собою, – которые непременно наводили сомнения морального характера на любого, кто мог бы приютить его.
И в довершение всех бед он совершенно не говорил по-русски.
Несколько самых почтенных обитателей Екатеринбурга собрались в наполненной густым табачным дымом комнате Английского клуба (так местные вельможи назвали свое собрание по примеру Москвы, хотя ни одного англичанина в этих краях не имелось), чтобы разрешить трудности. Американец был здоров и силен, но, не зная языка, не был пригоден ни для какой работы. Даже горняк должен понимать приказы и предупреждения. Так что проблема была непростой. Но в конце концов решение было найдено, и на следующий день делегация во главе со стряпчим Никитичем, худо-бедно владевшим английским, послала за американцем.
Американец внимательно и почтительно выслушал вступительные речи и сказал:
– Джентльмены, приношу глубокие извинения за то, что причинил вам столько хлопот. Должен сразу сказать, что у меня и в мыслях нет предъявлять вам какие-то претензии. Я и так в большом долгу перед господином Рязановым и его семьей, которые так заботливо отнеслись ко мне. Увы, у меня нет ни единого пенни, так что я не в состоянии расплатиться с ними сейчас, но рассчитываю сделать это, как только поправлю свои дела.
Но я готов освободить их от своего обременительного присутствия. У меня, правда, нет никаких планов, я не представляю себе, куда можно было бы направиться, и потому был бы чрезвычайно благодарен всем, кто подсказал бы мне, где можно найти хоть какую-нибудь работу. Впрочем, я понимаю, что и это может не получиться.
Эта достойная речь, переведенная на русский язык, была встречена почтенными дельцами с одобрением и облегчением, ибо в ней была выражена готовность принять то предложение, которое они успели подготовить. И некто, взявший на себя обязанности главы спешно собранного комитета, сообщил, что в городе имеется почтенный и весьма престарелый священник, который в свои лучшие годы был душою местного общества. Теперь его разум начал угасать, и ему требуется компаньон – секретарь-помощник, поспешил добавить оратор, хотя как ученый батюшка, конечно… ну, короче говоря, американцу нужно будет в основном рубить дрова, убирать в доме и готовить пищу. За это он получит кров, еду и небольшое денежное жалованье. Не щедрое, но достаточное для существования бережливого молодого человека. Ну а он, конечно, оценит по достоинству общение с добродушным и нетребовательным отцом Астуриасом и заодно получит возможность выучить язык своей новой страны.
Все это американец воспринял с искренней благодарностью. Под конец он пожал руки всем представителям комитета и поблагодарил за заботу. После чего те разошлись по домам к своим женам, распространяя вокруг себя ореол высокой добродетели, и поскольку все прошло точно так, как было задумано, не прошло и месяца, как они позабыли о молодом человеке.
Пришла осень, а потом и зима. Американец прилежно заботился о старике, которому, как выяснилось, секретарь был вовсе не нужен, потому что он медленно, но верно выживал из ума. Однако молодой человек старательно готовил и убирал, был всегда приветлив и быстро освоил начатки знаний русского языка, так что теперь мог обходиться без посторонней помощи.
Как-то весенним днем молодая женщина по имени Елена Михайлова, проходя мимо дома священника, услышала, как за забором заливаются хохотом дети, и остановилась посмотреть, во что же они играют. Оказалось, что американец сидит на бревнышке, а перед ним, на траве, полукругом расположились ребятишки. Услышанное же просто зачаровало ее.
– Ну, кто следующий? – спросил американец.
– Баба-яга! – выкрикнул один из малышей.
Американец задумался ненадолго и торжественно провозгласил:
Баба-яга костяная нога нос крючком голова сучком…Сделал паузу, придумывая заключительную строчку. Потом его лицо просветлело, и он закончил:
Жопа ящичком.Ребятишки снова расхохотались, да так, что двое из них покатились по земле. Тут американец увидел наблюдавшую за происходившим Елену и поспешно обратился к детям:
– Ну, друзья мои, еще один стишок, и разойдемся до завтра.
– Колесо! – пискнула девочка с косами до пояса.
– О, это слишком просто, – отозвался американец.
Эйне-мейне парасо Покатилось колесо Быстро ребятишки Собирайте шишки!И, поднявшись, шуганул детей, подув на пальцы, будто на одуванчик. Потом с акцентом, правда не таким сильным, какой ожидала услышать Елена, сказал:
– Надеюсь, дети не потревожили тебя. Они очень общительные, и им легко угодить.
– Нет, нисколько, – ответила Елена. – Где ты выучил такие стишки? Я никогда их не слышала.
Американец весело улыбнулся.
– О, я сам их сочиняю. Ребятишки говорят слово, а я складываю стишок. Когда мне не хватает слов, то говорю бессмыслицу. – Он подмигнул. – Знаешь, я ведь страшное чудовище. Делаю вид, будто играю с ними, а на самом деле заставляю малышей бесплатно учить меня русскому языку.
– Ты очень хорошо говоришь по-русски, – сказала Елена. – Для…
– Ты хотела сказать: для чужеземца. Да, но я не хочу говорить по-русски, как чужеземец. Я… можно я тебе кое-что расскажу?
– Да, – сказала она, – расскажи!
Он похлопал по концу бревна, предлагая ей сесть, а сам вежливо передвинулся на противоположный конец.
– Ты, конечно, слышала обо мне: о том, как я застрял здесь и как стал слугой отца Астуриаса. Но ты и представить себе не можешь, как тяжело мне далась минувшая осень! Мне порой казалось, что я сойду с ума.
Знаешь ли, там, в Америке, я думал о языке не больше, чем о воздухе, которым дышу. Никто ведь не посвящает стихов воздуху. Но лишиться его!.. Представь себе молчание, в которое я был погружен, не имея никого, с кем можно было бы поговорить. Отец Астуриас живет в маленьком домике в лесу, и хотя туда время от времени заглядывали гости, никто из них не говорил по-английски. Я оставался наедине со своими мыслями, но слова, в которые я облекал их, из-за продолжительной невостребованности казались чем дальше, тем более странными и незнакомыми. Порой я целыми часами пытался вспомнить, как то или иное слово сочетается с другим. А еще хуже было то, что старик очень мало говорил. По мере того как слабел его рассудок, он все глубже и глубже погружался в молчание. Он отказывался от использования языка, за овладение которым я отдал бы половину души.
В такой обстановке любое слово, которое этот поневоле ставший молчуном старик ронял из скупого на звуки рта, было для меня все равно что золотая монета, брошенная в пыль перед нищим. Помню, однажды, после трехдневного молчания, отец Астуриас поднял кружку и сказал: «Молоко». Молоко! До чего же восхитительное слово! Я принес кувшин и налил ему молока. Я объяснял, указывая на кружку: «Молоко!» А потом я плясал по комнате, распевая: «Молоко, молоко, молококолококо!», пока старик не рявкнул: «Заткнись!»
Елена рассмеялась.
– Той ночью я долго не мог заснуть и много раз повторял: «Молоко» и «Заткнись». Тогда-то, наверно, я и влюбился в ваш изумительный, замечательный язык.
Всю зиму я крутился вокруг доброго батюшки и выдумывал различные хитрости, чтобы заставить его произносить новые слова. Бывало, я наливал воду и говорил: «Молоко», чтобы он рассердился и буркнул: «Вода». Таким образом я узнал слова «хлеб», «пол» и «лестница». Из того, что он бормотал себе под нос, я усвоил фразу «Нам нужны дрова для печки», понял, что означают слова «Еще похлебки» и что, если он говорит: «Вкусно!», это значит, что ему понравилась приготовленная мною еда. Ты посмеешься над этими мелкими победами, но они дали мне основы вашей грамматики.
У отца Астуриаса было лишь две книги – Библия и словарь, и когда я наконец разгадал тайну вашего алфавита, они сделались для меня бесценными. Я начал вслух читать ему Библию. Ему это доставляло большое удовольствие, и в минуты просветления он поправлял мое произношение и раз-другой ответил на мои вопросы о значении или происхождении тех или иных слов. Хотя, к сожалению, эти просветления случались редко. Когда же приходили гости, я говорил со всей возможной почтительностью отрывочными фразами и разными хитростями вынуждал гостей на ответы, из которых узнавал все новые и новые тайны вашего языка.
Из темного туннеля этой зимы я вышел на свет отчаянно влюбленным в русский язык. Настолько, что теперь мечтаю посвятить остаток жизни сочинению на нем стихов и рассказов. Но для этого я должен овладеть им куда лучше, чем сейчас. – И вдруг он спохватился: – Где же мои манеры? Я ведь даже не спросил твоего имени.
Елена представилась и добавила:
– Но ты и своего не назвал.
Юноша крепко задумался:
– У меня было когда-то имя, американское имя, но я разлюбил его. Поэтому позволь мне выбрать новое, русское. Пусть будет Александр, потому что передо мною лежит огромный, как мир, язык, который нужно покорить. Сергеевич, потому что мирское имя батюшки было Сергий. И Пушкин, потому что… да ни почему! Просто, мне нравится звучание. – И он расхохотался.
– Александр Сергеевич Пушкин, – серьезно произнесла Елена. – Приятно познакомиться.
Пушкин пожал ее руку.
– А мне, так вдвое приятнее.
Елена зарделась.
Елена была хороша той красотой, что присуща только юным женщинам, выросшим на Урале. Благодаря чистому воздуху и постоянной посильной работе она была сильной и здоровой. От матери она унаследовала рыжие волосы и идеальное телосложение. Неудивительно, что Пушкина потянуло к ней. И она, в свою очередь, почти влюбилась в него.
Они были молоды и потому изобретательны. Их связь была обнаружена лишь через несколько месяцев.
Когда Елена вспоминала впоследствии о тех событиях, они казались ей сном. Она никогда не позволяла себе мечтать о будущем – возможно, потому что знала: его не может быть. Их история была стара как мир, и даже в невинности своей Елена отлично знала, как такие истории проходят и чем заканчиваются.
Когда юный Пушкин повторно провинился перед екатеринбуржцами и был вынужден покинуть город, Елена проплакала полночи. Но к утру она утерла глаза и принялась собирать заново свою разбитую жизнь. Поскольку она с самого начала знала, чем все закончится, это удалось сделать даже быстрее, чем она ожидала.
Никто в городе не ожидал, что когда-нибудь вновь услышит об американце. Но у этой истории оказался совершенно неожиданный финал.
Прошли годы (не так уж и много), и благодаря расположению фортуны состояние семейства Елены выросло настолько, что они продали свое екатеринбургское имущество и переехали в Санкт-Петербург. И там Елена, к своему изумлению, узнала, что Пушкин не просто известен как писатель и поэт, но, по всем меркам, считается знаменитостью.
После естественных колебаний Елена отправила бывшему возлюбленному письмо, составление которого потребовало от нее больших усилий. Оно не было ни слишком горячим, ни чересчур холодным. В нем ничего не предлагалось, но и не высказывалось ничего такого, что могло бы воспрепятствовать любому дальнейшему развитию событий. Это письмо можно было бы смело поместить в учебник как образец посланий подобного рода.
Но когда пришло ответное послание, у нее дух перехватило.
Александр Сергеевич все еще любил ее! В буре слов ей открылась его страсть, его томление, его вечная преданность. Единым натиском он опрокинул все ее защитные бастионы, рассеял оборонительные порядки нерешительности и захватил самую глубинную святыню сердца. Его письмо никак нельзя было бы вставлять в учебник, ибо оно было переполнено непристойностями, но душу Елены оно обнажило целиком. Это письмо могло бы совратить и монашку.
Но Пушкин не предъявлял никаких претензий, не делал никаких предложений. Он лишь просил дать ему возможность вновь увидеть Елену и еще раз услышать ее голос, похожий на музыку леса. Для этого он предложил вместе посетить оперу.
Неужели кто-то может усомниться в ее решении? Елена согласилась.
Пушкин прислал за Еленой экипаж, и когда она подъехала к театру, он уже нетерпеливо ждал. Когда же она появилась, лицо его выразило нешуточное облегчение. Предложив Елене руку, он проводил ее внутрь, в ложу.
Для девушки из провинции это было все равно что попасть в волшебную сказку. В театре собрались сливки петербургского общества, и многие знатные дамы, не скрывая любопытства, вытягивали шеи, чтобы увидеть новую звезду, воссиявшую рядом с поэтом. Она же была настолько растерянна, что даже опера, «Севильский цирюльник» Россини, оставила у нее лишь смутное впечатление красоты, как будто служила фоном темного бархата для роскошных одеяний и сверкающих драгоценностей театральной публики. Она не столько видела, сколько ощущала восхищенные взгляды, которые бросал на нее искоса ее бывший возлюбленный. Посреди представления она вдруг скинула туфельку, игриво просунула носок затянутой в чулок ноги под край его штанины и погладила по щиколотке. Краем глаза она видела, как Пушкин содрогнулся от желания. И все же на вид он оставался спокойным и собранным и в антракте в самой светской манере представил ее своим высокопоставленным друзьям.
Когда представление завершилось, они уехали из театра в одном экипаже. И, по молчаливому согласию, направились в квартиру Пушкина.
Елена с изумлением принимала ласки своего первого возлюбленного. Движения его стали более продолжительными и плавными. Руки его точно попадали в те места, которые когда-то подолгу нащупывали. Было очевидно, что с тех пор, когда они полюбили друг дружку, он познал множество женщин и выучил все тонкости искусства любви. Но и Елена, хотя опыт ее был куда скромнее, кое-чему научилась и могла по достоинству оценить изменения.
Потом она лежала в объятиях Пушкина и слушала, как он строил планы для них обоих. Он немедленно объявит о помолвке. Они поженятся весной. Он купит ей имение и посадит там розы, а в городе – особняк, где она будет вести салон. Их первый ребенок будет мальчиком, и крестным у него станет сам царь. Елена улыбалась, кивала и уснула под его счастливую болтовню.
Рано утром…
Рано утром Елена проснулась первая. Она быстро оделась и, переборов печаль, тихонько покинула квартиру. Пушкин крепко спал, скинув с себя простыни. Ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы не поцеловать его грудь, а то и более интимную часть тела. Но она сбежала, удержавшись даже от намека на продолжение близости. Она нисколько не жалела о том, что произошло ночью, но знала, что не следует ожидать ничего большего.
Пушкин, естественно, попытался восстановить связи. Он штурмовал ее армиями писем, стихов и страстных признаний. Все это она читала с болью в сердце, а потом сжигала в кухонной печи.
Со временем он унялся.
Елена, со своей стороны, нашла себе другого любовника. Однажды, через восемь месяцев после того случая, он неожиданно высказал ей какой-то невнятный набор слов, в котором она с трудом опознала предложение руки и сердца. К собственному удивлению, она поняла, что и сама полюбила этого мужчину всей душой, и приняла предложение.
Вскоре они обвенчались.
Так что в последний раз Елена и Пушкин встретились уже как двое почтенных семейных людей. Это случилось на обеде, который давал один из общих знакомых, а обе четы случайно проезжали через Москву, направляясь в противоположные стороны. Во время бала, естественно, были и танцы, и Пушкин, и Елена танцевали, но только не друг с другом.
Тем не менее Пушкину удалось подкараулить Елену, когда она на краткий миг осталась одна. Негромким, но пронзительным голосом он задал лишь один вопрос:
– Почему?
– Насколько мне известно, вы состоите в счастливом браке, – ответила Елена. – Я тоже. Так пусть все остается как есть.
Но Пушкина эти слова не успокоили.
– Мадам, вы бросили меня, – сказал он, правда, не обвиняюще, а скорее как спасенный моряк с погибшего корабля мог бы впоследствии удивляться тому, как все это произошло. – Мне кажется, я все же имею право попросить объяснения.
Елена вздохнула – и согласилась.
– Давайте прогуляемся по саду, на глазах у всех, чтоб было ясно, что мы беседуем не как любовники, а как старые знакомые – уверена, моя репутация это выдержит, – и я вкратце объяснюсь.
И они рядом, но не соприкасаясь друг с другом, неспешно пошли по саду.
– Помните время нашего первого знакомства? – спросила Елена. – Какие речи мы вели тогда во время любви? Вы умоляли меня сообщать вам каждую мою мысль, каждое мое чувство.
– Я никогда этого не забуду. Мы ворковали, как пара голубков. Я могу восстановить все наши разговоры, фраза за фразой. Это было воплощением самой нежности.
– И мы каждую ночь вели такие разговоры.
– Это был пир языка и любви.
– И наша встреча в Петербурге. Что я говорила тогда?
Пушкин промолчал.
– Я не говорила ничего, и вы не обратили на это внимания, поскольку уже получили от меня то, что хотели. И в ту ночь я поняла, что любили вы вовсе не меня – вы любили русский язык. О, вам казалось, что вы любите меня, потому что я была хороша собой, а для вас наш роман оказался чем-то совершенно новым. Вы искренне верили, что изучаете мое тело и, возможно, мою душу, но истинная ваша страсть была отдана для более чувственных удовольствий от слов, грамматики и нежных любовных речей. Разве способна женщина выстоять в таком соревновании? Я не способна.
Пушкин долго не мог найтись с ответом. И наконец сказал:
– Мадам, вы устыдили меня.
– Вам, такому, какой вы есть, нетрудно допустить подобную ошибку. – Елена твердо посмотрела в глаза Пушкину. – Но прошлое миновало. Осталось настоящее. У меня есть мой преданный супруг, у вас – ваша добродетельная жена. Перед вами и мной лежит вся жизнь, у каждого – своя. Я уверена, что вы проживете сто лет и каждый день будете что-то писать. Если же мне удалось немного поспособствовать вам в этом – что ж, я счастлива.
И на этом они расстались навсегда.
Такова правдивая история Пушкина-американца. Множество книг, заполняющих множество шкафов, утверждают иное, и я не могу найти этому объяснения. Возможно, история спутала его с каким-нибудь тезкой-однофамильцем. Возможно, так получилось, потому что истину очень старались скрыть. Ведь если что-то никому не известно, никто об этом и не проболтается. Я же, со своей стороны, скажу лишь одно: вот вам факты, и делайте из них, что захотите.
Пустой дом с множеством дверей
Телевизор стоит вверх ногами. Во время уборки мне требуется его компания, а вот, чтобы он отвлекал меня – совсем не нужно. Осторожно прихлебывая вино из стакана, я очень тщательно чищу пылесосом восточный ковер. Ах, Катерина, ты была бы восхищена моей работой. Дом никогда еще не был таким чистым.
Я убираю пылесос обратно в шкаф. Поскольку я избавился от всей ненужной обстановки, уборка почти не отнимает времени.
Покончив с коврами, я совсем было вознамерился достать мастику для полов, но тут до меня доходит, что завтра приедут за мусором. Напевая себе под нос, я сворачиваю, один за другим, перевязываю веревкой и вытаскиваю все три на тротуар. А потом ставлю рядом и пылесос – все равно он больше не нужен.
Теперь гостиная сделалась почти пустой – высохшие, побелевшие кости нашей жизни, очищенные от мяса и воспоминаний. Единственное уцелевшее кресло, телевизор и неустойчивый столик на колесах, которым я пользовался после того, как избавился от обеденного стола. Таймер кухонной плиты выключился, значит, пироги готовы. Я достаю тарелку, нож, вилку, разрезаю пироги и выбрасываю одноразовый противень из фольги. Вытираю дверцу духовки влажной тряпкой, прополаскиваю ее, выжимаю и убираю. Наливаю себе еще стакан вина.
Я ем, а телевизор бормочет и вскрикивает. Люди висят вверх ногами, как летучие мыши, или с безумными ухмылками носятся по потолку. Красотка из программы новостей с выгнутым, как перевернутый полумесяц, ртом бубнит что-то о последнем бедствии. Некто в костюме дятла раз за разом бьется головой о платформу кузова мусорного грузовика. Неужели все это должно иметь какой-то смысл? Да и имело ли хоть когда-нибудь?
Стакан наполовину опустел. Нынче я взял неплохой темп.
И тут внезапно, фонтаном несчастья, накатывает дурное настроение. Я зажмуриваюсь, напрягая все мышцы лица, но слезы все же просачиваются, и я начинаю всхлипывать. А потом неудержимо рыдаю, потому что хоть я все еще думаю о тебе, хоть я никогда не прекращал и никогда не прекращу думать о тебе, мне становится все труднее и труднее вспоминать твой облик. Он ускользает от меня. О Катерина, я лишаюсь твоего лица!
Только не жалеть себя. Этому состоянию я не поддамся. Я беру швабру, наливаю в ведро теплой воды, добавляю туда моющего средства, сильно пахнущего нашатырем. И, со всех сил налегая на швабру, принимаюсь мыть полы. Пока, в конце концов, не беру себя в руки. Тогда я снова беру стакан, опустошая его одним глотком, и чувствую, как вино обожгло желудок. Если пить вот так, человек рано или поздно угробит себя. К чему я усердно стремлюсь.
Я учу себя умирать.
Если я не подышу свежим воздухом, то вырублюсь. Если я вырублюсь, то выпью меньше. Необходимо строго соблюдать график. Я надеваю пальто и выхожу за дверь. Неверной походкой бреду вниз по склону холма. Сквозь вереницы домов, мимо одинаковых забегаловок с сэндвичами, расположенных на каждом углу, мимо шоколадной фабрики и автозаправки, под железнодорожным мостом и вдоль канала по направлению к Менейанку. В голове шумит вино, и все же предатель-мозг думает о тебе, и только о тебе и ведет унылый монолог потери и тоски. Если бы я в тот день удержал тебя дома. Если бы да, мать его, кабы… Даже меня тошнит уже от этих слов. Я отрешаюсь, воспаряю, пока сознательные размышления не начинают восприниматься как невнятный ропот далеко внизу, а я плыву, подобно Богу, в предвечернем небе.
Как ты любила Менейанк, его старинные фабричные здания, обветшалые копры шахт и кварталы «синих воротничков». Яппи обновили Мейн-стрит, но уже в трех кварталах выше по склону народ ничуть не переменился: все такие же несговорчивые, подозрительные добрые соседи. Я плыву по узким улочкам в направлении уютных ресторанчиков на Мейн. Голова моя раздута и тянет вверх, так что ноги едва касаются земли. Я проплываю сквозь счастливую вечернюю толпу, и меня привязывают к земле лишь крайне ненадежные нити. Будь это в моих силах, я оборвал бы их и попросту уплыл бы прочь.
А потом я вижу над землей связанного человека.
Никто, кроме меня, его не замечает. Люди целеустремленно торопятся мимо, некоторые даже проходят сквозь темно мерцающий сгусток воздуха, содержащий в себе вырывающуюся фигуру.
Человек извивается в медленной агонии внутри клетки из хромированных прутьев, как муха, умирающая в паучьей сети. Очертания неестественно выгнутого тела обвиты спектральным контуром, как на экране расстроенного видеомонитора. Он тонет в грязных радугах. Его тело – кошмарный сон кубиста, торс раздроблен на перекрывающиеся бруски, конечности спутаны в девяти измерениях. Голова мотается из стороны в сторону, глаз столько, что не пересчитать, причем они то и дело погружаются в плоть и исчезают, но тут он замечает, что я вижу его, и лицо его озаряется отчаянной надеждой. Он тянется ко мне, протягивает руку сквозь веер возможностей. Его тело, завязшее в сгущенном, темном, искрящемся воздухе, разложено на странно изломанные плоскости.
Рот открыт в беззвучном вопле, и благодаря какой-то разновидности магии сопереживания в затылке у меня, словно чуть слышное царапанье ногтей, ощущается слабый, очень отдаленный отголосок его боли.
Когда кто-то тонет, я могу это понять. Народ торопится по своим делам, некоторые проходят прямо сквозь него. Они неодобрительно посматривают на меня, торчащего на тротуаре, как истукан. Я привстаю на цыпочки и беру его за руку.
Больно! Чертовски больно. Такое ощущение, будто меня огрели доской пять на десять. Один бок у меня аж онемел. Меня отшвыривает в сторону, мысли полностью выцветают под полотнищами обжигающей белой боли, и это блаженство, потому что впервые с тех пор, как ты умерла, я перестаю думать о тебе.
Очнувшись, я собираюсь с силами, встаю. Я нахожусь на том же самом месте, но на улице темно и безлюдно. Наверно, поздняя ночь. Но это безумие, потому что люди не бросили бы меня валяться здесь. Не тот район. Тогда почему же они так поступили? Даже думать об этом не хочется.
Я стою, а рядом, подле меня, лежит труп мужчины.
Он одет в какой-то белый комбинезон, к которому прицеплено множество непонятных технических устройств. На груди эмблема с изображением раскрытого веера из стрел. Я смотрю на него. Мертв, бедняга, и я ничем не могу ему помочь.
Необходимо срочно выпить.
Домой, домой – трюх-трюх-трюх. Впрочем, подойдя поближе, вижу, что что-то не так. Окна задернуты занавесками, сквозь которые пробивается оранжевый свет. Будь я нормальным человеком, я бы встревожился, испугался грабителей и психопатов. Меньше всего на свете мне хотелось входить внутрь.
Я вхожу внутрь.
Кто-то гремит посудой на кухне. Чуть слышное пение.
– Это ты, милый?
Я стою посреди гостиной, и меня трясет от чего-то, куда более весомого, чем страх. Это разновидность того неодолимого ужаса, какой может ощущаться за минуту до того, как в комнату войдет Бог. Нет, сказал я себе, даже и не думай об этом.
Ты входишь в комнату.
– Быстро ты, – удивленно замечаешь ты. – Неужели магазин закрыт? – За эти секунды ты успеваешь присмотреться ко мне, и на твоем лице появляется тревога. – Джонни?..
Меня трясет. Ты протягиваешь руку и прикасаешься ко мне, и во мне словно раскалывается глыба льда, и я начинаю плакать.
– Любимый, что случилось?
И тут-то я вхожу в комнату.
Снова.
Двое меня глядят друг на друга. Честно говоря, в первый миг я не сообразил. Просто подумал: странный какой-то мужик… Самый странный тип, какого мне доводилось когда-либо видеть, а в чем странность, не пойму. Бесчисленные кинофильмы и телесериалы, в которых кто-то неожиданно сталкивается со своей точной копией и разевает рот от изумления? Врут они все. Он нисколько не похож на то, каким я представляю себя.
– Джонни?.. – сдавленным слабым голосом говорит Катерина. Но смотрит она не на меня, а на того, другого парня, а он изумленно пялится на меня, как будто видит что-то странное и нехорошее во мне, а потом, в мгновение ока, все проясняется.
Он – это я.
Он это я и понимает это ничуть не лучше, чем я.
– Катерина, – говорит он, – кто это такой?
Много-много позже, глубокой ночью, я прихожу в себя и обнаруживаю, что лежу на кушетке, укрытый одеялом, а под головой у меня несколько подушек. На втором этаже спорят Катерина и второй я. Его голос приглушенный и злой. Ее – спокойный и рассудительный, но ему не нравится то, что она говорит. Ее убедило содержимое моего бумажника: точно такие же, как у него, водительские права, кредитная, и библиотечная, и страховая карты, каждый, какой ни возьми, документ во всех деталях неотличим от его документов.
За исключением того, что его документы принадлежат человеку, чья жена все еще жива.
Я не знаю точно, что ты говоришь там, наверху, но способен уловить эмоциональную суть твоих речей. Ты любишь меня. Это, в известном смысле, мой дом. Мне больше некуда идти. Ты не намерена выгонять меня.
Меня же – того меня, который наверху, – мое присутствие расстраивает и злит. Он знает меня лучше, чем ты, и я нравлюсь ему в десять раз меньше, чем тебе. Он понимает, что ты не в состоянии различить нас, и пребывает во власти параноидальных фантазий. Он боится, что я намерен занять его место.
Что я, определенно, сделаю при малейшей возможности. Но для этого мне, вероятно, потребуется убить его, а я не уверен, что смогу убить человека. Даже если этот человек – я сам. И каким образом я должен буду объяснять это Катерине? Я здесь на неразведанных землях. И понятия не имею, что может случиться, а что не может.
Впрочем, пока что мне достаточно просто слышать ее голос. Я выкидываю из головы все остальное, закрываю глаза и улыбаюсь.
По улице шумно едет автомобиль и вдруг резко останавливается. И разговор наверху обрывается молчанием. Все прочие звуки стихают так резко, будто кто-то повернул выключатель.
Растерянный, я поднимаюсь с кушетки.
Никому не принадлежащие руки хватают меня за предплечья. В следующий миг справа и слева от меня оказываются двое мужчин. Оба одеты в белые комбинезоны, представляющие собой, как я теперь понимаю, нечто вроде униформы. На груди у них такие же эмблемы – веер стрел, расходящихся из одной точки, – как и у того, которого душили подвешенным в воздухе.
– Просим прощения, сэр, – говорит один. – Мы видели, как вы пытались помочь нашему товарищу, и благодарны вам за это. Но вы оказались не там, где следовало, и мы должны вернуть вас назад.
– Вы путешественники во времени или нечто в этом роде, да? – спрашиваю я.
– Нечто в этом роде, – отвечает второй. Он держит меня за правую руку. А свободной рукой он открывает какой-то продолговатый футляр, плавающий в воздухе рядом с ним. Судя по всему, набор инструментов. Внутри какие-то устройства, выглядящие так, будто они только наполовину там, а наполовину где-то еще. Блестящая трубка обвила мой торс, вторая – голову. – Но вы не беспокойтесь. Мы исправим все в мгновение ока.
Тут до меня дошло.
– Нет, – сказал я. – Ведь она здесь – неужели вы этого не понимаете? Клянусь, я буду держать рот на замке и не обмолвлюсь никому ни полсловом. Только позвольте мне остаться. Я уеду в другой город и никому не доставлю беспокойства. Те двое, что наверху, будут считать, что с ними приключилось нечто вроде коллективной галлюцинации. Только прошу вас, ради бога умоляю: позвольте мне существовать в мире, где Катерина не умерла.
Глаза его полны сострадания – ужасающего сострадания.
– Сэр, мы обязательно оставили бы вас здесь, если бы это было возможно.
– Готово, – говорит первый. Мир исчезает.
Итак, я возвращаюсь в свой пустой дом. Наливаю себе стакан вина и долго, очень долго смотрю на него. Потом встаю и опоражниваю его в раковину.
Проходит год.
Сейчас ночь, Катерина, и я стою в крохотном заднем дворике своего городского дома, глядя на звезды и узкий ломтик луны. Говорю с тобой. Я знаю, что ты не можешь услышать меня. Но я постоянно думаю о той странной ночи, и мне кажется, что в бесконечном настоящем бесконечной вселенной осуществляются все вероятности. Где-то ты счастлива, и это радует меня. В бесчисленном количестве других мест ты вдова и сердце твое разбито. Не может быть сомнений, что одна из тебя сейчас стоит в заднем дворе, точно так же как и я, смотрит на луну и воображает себе меня, говорящего эти слова. Потому-то я и здесь. И это будет правдой.
Если откровенно, боюсь, я мало что могу сказать. Я лишь хочу, чтобы ты знала, что я все так же люблю тебя и у меня все хорошо. Некоторое время было плохо. Но одного лишь знания о том, что где-то ты жива, достаточно, чтобы дать силы для жизни и мне.
Теперь я знаю, что ты на самом деле не умерла.
И, если это хоть немного поможет тебе жить, знай – я тоже.
Ухмылка затаившейся волчицы
Когда я была ребенком, нам с сестрой Сьюзен приходилось вставать очень рано, независимо от того, выспались мы или нет. Зимой, так вообще зачастую до рассвета, и поскольку наша спальня находилась в южном крыле дома и узкие окна смотрели на центральный двор и, следовательно, на север, призрачного розоватого света порой приходилось дожидаться часами, и нам приходилось умываться и одеваться, не понимая толком, проснулись мы или еще спим. Ничего еще толком не соображая, пошатываясь спросонок, мы рассказывали друг дружке свои сны.
Один сюжет я пересказывала Сьюзен несколько раз, пока она не потребовала прекратить. В этом сновидении я стояла перед главным входом в наш дом и смотрела на мраморный барельеф, где была изображена волчица, кормящая двух крошечных девочек (в реальной жизни у младенцев, которых она кормила, торчали маленькие пиписьки, по поводу которых мы с сестрой не уставали шутить), и смутно чувствовала, что что-то не так.
– Ты ведь ждешь не дождешься, когда я перестану прятаться, – прозвучал в моем ухе скрежещущий голос, – верно, дочка?
Я обернулась и без всякого удивления увидела рядом с собою волчицу, внушительная голова которой находилась на одном уровне с моей. Она была куда больше любого волка древней Земли. Засаленный мех вонял потом. Изо рта смердило падалью. По глазам было видно, что она вполне способна разорвать мне грудь и съесть сердце, не испытав ни малейших угрызений совести. И все же, по законам сновидений, я нисколько не боялась ее. Мне казалось, что я знаю ее так же хорошо, как и самое себя.
– Пора? – спросила я, не понимая толком, о чем говорю.
– Нет, – ответила волчица-мать, начиная таять в воздухе.
И я проснулась.
Прошлой ночью я вернулась в мою старую спальню и изумилась тому, насколько она мала, насколько она тесная и душная; в ней никак не могло вместиться мое непокорное и отрадное детство. И все же из ее пыли восстали легионы воспоминаний, бившихся о меня, как мотыльки о стекло, и было их столько, что я не решалась дышать, опасаясь, что они набьются в горло и легкие и удушат меня. На переднем плане всей этой массы было воспоминание о том, как я впервые повстречалась с женщиной с Санта-Анны, завершившей длинную череду наставниц, обучавших нас с сестрой.
По пути мы увидели что-то, весьма развеселившее нас, и поэтому ворвались в классную комнату, заливаясь смехом, и замерли как вкопанные при виде незнакомой женщины, поджидавшей нас – длинноногой, сухопарой, с узким вытянутым лицом, в безвкусной одежде, свойственной женщинам, каким-то образом умудрившимся получить университетское образование; в руке у нее была указка. Когда мы уселись за парты, она некоторое время разглядывала нас, как цапля могла бы присматриваться к какой-нибудь сомнительной рыбьей мелочи, пытаясь решить, съедобна она или нет. Сьюзен опомнилась первой.
– Что случилось с мисс Клер? – спросила она.
– Ее арестовала тайная полиция, – сухим, холодным и неприветливым голосом ответила незнакомка. – По какой причине – не могу сказать. Вместо нее буду я. Можете называть меня тетушкой Амели.
– «Тетушка» – это ласкательная форма обращения, – нахально заметила я, – а вы пока ничего не сделали, чтобы его заслужить.
– Не вам решать, куда обращать вашу привязанность. Это прерогатива вашего отца, и эта инстанция уже приняла соответствующее решение. Какие ваши любимые предметы?
– Молекулярная и генетическая биология, – быстро ответила Сьюзен.
– Классическая биология. – Я не стала признаваться, что больше всего меня привлекает экспериментальная лаборатория, и потому, что я люблю потрошить – я с малых лет усвоила, что карты нужно держать поближе к жилетке.
– Пф-ф-ф. Мы начнем с истории. На чем вы остановились с вашим последним преподавателем?
– Мы собирались рассмотреть восстание на Санта-Анне, – смело заявила Сьюзен.
И снова такой же взгляд.
– Прошло еще слишком мало времени для того, чтобы можно было узнать правду. Когда правительство обнародует официальную версию, я дам вам знать. Нам же лучше начать сначала. Вот ты, – она указала на Сьюзен. – Что такое «гипотеза Вейла»?
– Доктор Обри Вейл утверждал, что абы…
– Аборигены.
Сьюзен удивленно выпучила глаза и продолжила:
– Он утверждал, что, когда корабли с Земли прибыли на Санта-Анну, аборигены перебили всех и приняли их внешность.
– Ты считаешь, что так и было? Скажи: нет.
– Нет.
– Почему нет?
– Если бы было так, то все мы – жители Санта-Анны и Санта-Круса – были бы абами. В смысле аборигенами. Но мы думаем по-человечески, поступаем по-человечески, живем по-человечески. Какой был бы смысл устраивать такой сложный маскарад, если бы злоумышленники не имели возможности воспользоваться плодами того, что совершили? Особенно после того, как люди показали свою слабость, позволив истребить себя. Тем более что мимикрия в природе всегда сводится к внешнему облику. Как только труп первого же аборигена вскрыли в морге, все раскрылось бы.
Тетушка Амели повернулась ко мне:
– Твоя очередь. Отстаивай гипотезу.
– Аборигены не были уроженцами Санта-Анны. Они пришли со звезд, – начала я.
Сьюзен издевательски хмыкнула. Новая учительница подняла палку, и сестра покорно опустила глаза.
– Отстаивай свое предположение, – сказала тетушка Амели.
– В ископаемых нет никаких следов их присутствия.
– Дальше.
– Когда они прибыли в звездную систему, их техническое развитие не уступало нашему, а может быть, и превосходило, но из-за какой-то не зарегистрированной нигде катастрофы почти сразу же утратили свою технику. Иначе их обнаружили бы и здесь, на Санта-Крусе. – Я усиленно думала, пытаясь на ходу свести концы с концами. – Они быстро скатились к первобытному уровню существования. Будучи разумными существами, они понимали, что происходит, и пытались сохранить хоть какие-то фрагменты своей науки. Ни электроники, ни металлургии, ни химии у них не осталось. Им удалось сохранить лишь свои глубочайшие познания в генетике. Когда туда пришли люди, аборигены не могли физически противостоять им. И поэтому они начали скрещиваться с ними, создавая ветви человеческого рода с латентными генами аборигенов. Они начали свою работу с пионеров и отверженных, но постепенно углублялись в человеческое общество, распространяясь сначала среди низших классов и оставляя богатую, наиболее защищенную часть общества напоследок. Начавшись, процесс мог идти без особого повторного вмешательства. Аборигены не станут проявлять себя, пока их работа не осуществится.
– Доказательства этой версии?
– Если судить по политике правительства по отношению к бедным, оно осведомлено о такой опасности.
– Вижу, что я угодила в рассадник подрывных идей. Теперь можно не удивляться тому, что вашу предыдущую учительницу удалили отсюда. Ну, что было, то прошло. Положите руки на парты ладонями вниз, пальцы вытянуть. – Мы повиновались, и тетушка Амели несколько раз стукнула каждую из нас указкой по костяшкам пальцев, как это делала каждая из наших наставниц в начале своего царствования. – А теперь мы рассмотрим ранние формы колониального управления.
Тетушка Амели была дочерью регионального администратора из сельского района Иль д’Орлеан. В детстве она лазила по деревьям, воровала яйца из птичьих гнезд и искала жуков в глиняных крепостях. Еще она ловила лягушек, рыбачила с лодки, ловила крабов на обрезки мяса и бечевку, ощипывала кур, имела собственное ружье, стреляла водоплавающую птицу, собственноручно шлифовала линзы для телескопа и плавала голышом в заводи реки со столь бурным течением, что ежегодно в ней тонул по меньшей мере один человек. Такая жизнь была совершенно незнакома нам с сестрой, и, когда нам удавалось навести ее на воспоминания, мы восхищались ими, как волшебной сказкой. Я и сейчас вижу перед собой, как она, освещенная оранжевым светом масляной лампы, размеренно раскачивается, время от времени делая паузу, чтобы взять какой-нибудь из мешочков с сухими травами, лежащими у нее на коленях, чтобы подбодрить память ароматом лимона, ванили или чайных листьев. Так она вела себя, пока не повзрослела, и едва успела остепениться, как ее отец «продышал свое состояние», как выражаются на нашей планете-сестре. А вот о годах, прошедших с тех пор и до того дня, когда ее приставили к нам, она ничего не говорила.
Может показаться странным, но мы с сестрой испытывали к тетушке Амели чувство, довольно близкое к любви. Но что еще у нас было? Отца мы видели очень редко. Наша мать произвела на свет двух девочек и несколько мертворожденных младенцев, после чего он отослал ее и заменил женщиной, которую мы называли не иначе как Метрессой. Ни одна из прочих наставниц, даже те, кто преодолевал искушение опробовать на себе отцовскую продукцию, не удержалась в доме надолго. Нас даже наружу не выпускали без сопровождения взрослых, боясь, что нас могут похитить. Так что юным сердцам было практически не к кому привязаться, а тетушка Амели обладала большим преимуществом в виде регулирования наших связей с внешним миром.
Отец вел значительную часть своих дел в нашем доме 999 по Рю д’Астарта, и потому там всегда пахло эфирами, феромонами и химическими соединениями, прежде всего горьким трюфелем, поскольку он владел монопольным правом его импорта и использовал его как фирменный знак во всех благовониях. Люди непрерывно приходили и уходили: фермеры, привозившие большие возы цветов, торговцы, доставлявшие с Южного моря амбру, рабы-мастеровые, растаскивавшие все это к разным перегонным кубам, нейрохимики, призванные для отладки новых процессов, куртизанки, искавшие новые афродизиаки и средства для прерывания беременности, раскормленные покупатели, которых почти обязательно сопровождали дети с накрашенными лицами, разряженные в кружевные одежды. И все же нам со Сьюзен лишь изредка удавалось вырваться из пределов, ограниченных спальней, классной комнатой и лабораторией. Свобода для нас начиналась в городской библиотеке, в парке, на невольничьем рынке и так далее. Тетушка Амели была энергичной женщиной с множеством интересов, лежавших вне дома, так что круг наших интересов с ее появлением сразу расширился. Потом мы по чистой случайности обнаружили, что она открыла банковский счет (законный, но беспроцентный), в надежде когда-нибудь выкупиться на волю. Это означало, что ее можно подкупить, и внезапно оказалось, что наши горизонты ограничены только воображением. Годы, которые тетушка Амели провела с нами, были самыми счастливыми в моей жизни.
Полагаю, что для сестры тоже, хотя наверняка утверждать это насчет нее я не возьмусь. Был период, когда ее страсть к генетике достигла невероятного размаха. Она все время брала мазки клеточных образцов и терпеливо устанавливала генные последовательности в добытых где-то прядях волос или обрезках ногтей. Я часто хвостом моталась за ней во второй половине дня, подкупая для этого тетушку Амели, чтобы та сопровождала меня, а сестра обшаривала мясной рынок в поисках особой разновидности санта-аннской обезьяны или заглядывала в сомнительные антикварные лавчонки за какими-то вещицами ручной работы, которые могли быть вырезаны – хотя это ни разу не подтвердилось – из натуральной кости або.
– Думаешь, я не знаю, чем ты занимаешься? – сказала я ей однажды.
– Заткнись, мелкая пакость!
– Ты пытаешься доказать гипотезу Вейля. Ну, допустим, тебе это удастся? Думаешь, кто-нибудь станет тебя слушать? Ты как ребенок, честное слово.
– Кто бы говорил!
– Но даже если твои доводы примут всерьез? Что это даст?
Сьюзен отважно смотрела в видимое только ей одной будущее.
– Мадам Кюри говорила: «Надо верить, что ты родился на свет ради какой-то цели, и добиваться этой цели, чего бы это ни стоило». Если мне удастся совершить хоть одно значимое открытие, это многое искупит. – Тут она опустила взгляд и посмотрела прямо мне в глаза, молча призывая меня признаться, что я ничего не поняла.
Я растерялась, обиделась и замкнулась в молчании.
Я не сразу заметила перемену в моей сестре. Она постепенно становилась все мрачнее и раздражительнее и все меньше интересовалась занятиями. Как раз тогда по иронии судьбы у меня случился всплеск интереса к моему собственному увлечению, и я с удовольствием прислушалась бы к ее советам. Но их не последовало. Между нами пролегла темная тень. Она перестала делиться со мною своими мыслями, как бывало прежде, и сны свои мы больше не рассказывали друг дружке.
Однажды, копаясь у нее в столе в поисках ретрактора, я наткнулась на тетрадку с записями ее великого исследования, которую она прежде держала под замком. Мне ни разу не было дозволено заглянуть туда, и поэтому я взахлеб прочла все, что там содержалось. Кое-что оттуда сохранилось в моей памяти до сих пор.
Это предполагает множество рецессивных генов по половому признаку; они зависимы от X-хромосомы и будут проявляться исключительно у женщин.
и
При надлежащих условиях и активации генов оперона в должной последовательности трансформация, даже у взрослых, должна произойти очень быстро.
и
Колонизация парных планет повлекла за собой крайнее ограничение генетической пластичности, в результате чего наследуемость этих рецессивных признаков близка к ста процентам.
и самое дерзкое
Все это позволяет утверждать, что абы и люди могут скрещиваться между собой и, следовательно, являются отпрысками единой путешествовавшей между звезд расы (вероятнее всего, вымершей). В таком случае H. sapiens и H. aboriginalis являются не двумя различными расами, но разновидностями гипотетической расы H. sidereus.
Большую часть тетради занимали росписи генных последовательностей, в которых я не могла толком разобраться, даже несмотря на каллиграфический почерк Сьюзен.
Но я дочитала все до конца и, лишь дойдя до чистых листов, сообразила, что записей там не делалось уже несколько недель.
Тогда же, летом, Сьюзен воспылала страстью к театру. Она посмотрела «Скачущих к морю», и «Мадам Баттерфляй», и «Антония и Клеопатру», и «Женщину», и «Профессию миссис Уоррен», и «Лисистрату», и «Гедду Габлер», и «Пирата», и не помню уже, что еще. Она даже сама сыграла маленькую роль в «Детском часе». Я побывала на одной репетиции, была принята с неудовольствием и больше не показывалась там.
По всем этим причинам, когда у меня случились первые месячные (я была хорошо подготовлена, сразу распознала симптомы и знала, что делать), я ничего ей не сказала. Это произошло ранней весной, воскресным утром. Чувствуя себя брошенной и несчастной, я оделась для выхода в церковь, не сказав сестре ни слова. Она не обратила внимания на то, что я что-то скрываю, хотя задним числом мне кажется, что мое поведение не могло быть более красноречивым.
Мы отправились к Св. Димфне и сели, как обычно, на скамью в некотором отдалении от алтаря. Тетушка Амели, естественно, осталась с другими рабами в задней части церкви. Вскоре после начала мессы на нашу скамью проскользнула опоздавшая к началу службы молодая женщина, которую я определенно уже видела. Она была одета в черное, в кружевных митенках, а на ее круглом и белом, как луна, лице броско выделялись черные пятна глаз и карминовые губы. Я заметила, как она поймала взгляд сестры и улыбнулась.
Я старательно терпела службу. После восстания квебекскую литургию запретили, и, хоть я и понимала причины такого решения, просторечие казалось чуждым моему уху. Где-то в середине бесконечной проповеди монсиньора что-то – возможно, случайная тень в потоке света, падавшего сквозь витраж, или стрекоза, неожиданно пролетевшая перед моим лицом, – заставило меня отвлечься от нудного бормотания, и я заметила, что незнакомка прикрыла рукой зевок, а потом, как бы случайно, положила эту же руку ладонью вверх на скамью между собой и моей сестрой. Мгновением позже Сьюзен, уставившись в сторону, вложила в ее ладонь свою руку. Их пальцы переплелись, а потом сжались.
И я поняла.
Все слагаемые несчастья собрались вместе. Теперь требовалась только искра.
Искра вспыхнула, когда Сьюзен вернулась в слезах после котильона. Я плелась следом в тени ее позора, чувствуя себя оскорбленной, точно так же как и она, хотя не сделала ничего такого, чем могла бы заслужить подобное. Тем не менее, как всегда бывает в таких случаях, как только сопровождающий доставил нас в отцовский дом и отчитался, нас обеих представили перед тетушкой Амели. Она со строгим, как у судьи, видом сидела на простом деревянном стуле, сложив руки на набалдашнике трости, которой стала пользоваться с недавних пор.
– Ты плюнула в лицо мальчику, – сказала она без предисловий. – Это непростительно.
– Он положил руку…
– Мальчики всегда делают такие вещи. Это ты была обязана догадаться о его намерении и помешать ему, не нанося оскорбления. Чему еще, по твоему мнению, ты должна была учиться, посещая котильон?
– В таком случае не трудитесь больше отправлять меня туда. Я не собираюсь быть особой такого рода.
– И какого же рода особой ты, по твоему мнению, можешь быть?
– Сама собой! – заявила Сьюзен.
Две женщины (тогда я поняла, что сестра оторвалась от меня еще на один этап и рассталась с детством) впились друг в дружку взглядами. Я же – несчастная, никому не нужная – стояла рядом и не могла уйти. Я сцепила руки за спиной и принялась по очереди выкручивать себе пальцы на каждой руке. Несправедливость того, что меня заставили торчать там, терзала меня все сильнее с каждой минутой.
– Я прямо не знаю, что с тобой делать, – сердито сказала тетушка Амели. – Почему ты так себя ведешь? Почему я не могу добиться от тебя прямого и честного ответа? Почему…
– Почему бы вам не спросить ее подружку? – буркнула я.
Губы тетушки Амели сжались в тоненькую нитку, а лицо побелело. Взмахнув тростью, она – трах! – громко стукнула ею по полу. Потом вскочила и в вихре развевающихся юбок покинула комнату, оставив Сьюзен дрожать от страха.
Но, когда я попыталась успокоить сестру, она оттолкнула меня.
Развязка наступила позже, чем я ожидала, почти через неделю после размахивания палкой и бегства тетушки Амели. Она препроводила нас в строгий, совершенно не женственный кабинет Метрессы – по слухам, та, прежде чем попасться на глаза отцу, была кризисным консультантом – и, сделав реверанс, удалилась. Метресса была хорошенькой женщиной, постепенно переходившей в разряд «видных собою», очень рослой и стройной, в тот вечер она была одета в розовое платье. Когда она заговорила, голос ее звучал не гневно, а печально:
– Вы обе знаете, что ваша роль в жизни заключается в том, чтобы удачно выйти замуж и внести вклад в престиж нашего дома. В вас были вложены большие деньги. – Сьюзен открыла было рот, чтобы что-то сказать, но Метресса жестом остановила ее. – Мы собрались здесь не для споров; то время давно прошло. Никто не в претензии к тебе из-за того, чем ты занималась с этой юной леди. Я много раз устраивала перед вашим отцом представления подобного рода с другими женщинами. Но вы обе должны научиться смотреть в свое будущее без сантиментов и эмоций. Сейчас мы прогуляемся по городу. Нужно кое-что вам показать.
Мы выбрались на освещенные фонарями вечерние улицы Порт-Мимизона. Мне почти не доводилось испытывать подобного удовольствия прежде, и поэтому мои мрачные предчувствия перемежались своего рода эйфорией. Легкий ветерок нес случайные обрывки музыки и взрывы хохота с невидимых пирушек. Как принято для женщин, идущих без сопровождающих, мы, все три, оделись в длинные плащи и прятали лица под венецианскими карнавальными масками – мы с сестрой надели простенькие voltos, а Метресса medico della peste с клювом, длинным, как нос Пиноккио.
На невольничьем рынке летом было темно и тихо. Нигде не горело ни единого фонаря, и потому квартал, где не светилось ни единое окно, походил на опасного зверя, изготовившегося к прыжку на неосторожную добычу. Но Метресса не прибавила шагу. Мы свернули за угол и в конце темного, похожего на туннель переулка увидели яркий свет и хорошо одетых мужчин и женщин, торопливо поднимавшихся на крыльцо бойцового клуба.
Метресса провела нас к боковому входу, постучала, и нас впустили. Маленький, похожий на гнома человечек проводил нас в отдельную гостиную, где стояли кожаные кресла и в перламутровых канделябрах мерцали свечи.
– Мы будем пить чай, – сказала она гному, и тот поспешно удалился. Пока мы ожидали неведомо чего, Метресса вновь обратилась к нам:
– Я уже упоминала о хлопотах и расходах, связанных с вашим образованием. Вы, наверно, думаете, что, если вам не удастся выгодно выйти замуж, вас попросту продадут в куртизанки. Такого вполне можно было ожидать в предыдущем поколении. Но время все меняет. Детей мужского пола становится меньше, и на рынке переизбыток даже наилучшим образом воспитанных девушек. Все больше мужчин обращается к педерастии. Причины этого не слишком понятны. Социальные? Или кумулятивный эффект от химических соединений, присутствующих в следовых количествах в окружающей среде и накапливающихся из поколения в поколение? Никто этого не знает.
– Я не расстанусь с Гизеллой, – почти спокойно сказала Сьюзен. – И вы никакими угрозами не заставите меня изменить отношение к ней. Мы с нею… впрочем, вы вряд ли имеете представление о такой страсти, как наша.
– Не имею представления о страсти? – Метресса негромко рассмеялась, словно зазвенели серебряные колокольчики. – Дорогая моя, а как, по-твоему, я оказалась втянута во все это?
Подали чай, и мы, представляя собой безвкусную пародию на семейную сцену, приступили к чаепитию.
Прошло, как мне показалось, несколько часов. В конце концов из-за стены донесся рев множества голосов, и в дверях появился почтительный гном.
– А-а… – Метресса поставила чашку. – Пора.
Мы вышли в ложу в антракте, когда победителя повалили наземь и ввели ему успокоительное, а его противника унесли. Сьюзен сидела в напряженной позе, я же не могла устоять перед искушением перегнуться через барьер и оглядеть зал. В театре пахло сигарным дымом и человеческим потом, а фоном для всего этого служил слабый запах трюфелей, настолько привычный для меня, что я поначалу даже не заметила его. Люди передвигались по залу, вставали с мест, покупали выпивку, удалялись парами в закрытые ложи, а еще… Мой взгляд остановился на крупном мужчине, который резким движением поднес к носу маленький флакон. Голова его запрокинулась, на широком лице расцвела неумелая улыбка. Я никогда еще не видела, чтобы ароматы употребляли на людях, а теперь обратила внимание на то, что этот жест снова и снова повторялся по всему залу.
– Продукция вашего отца, – заметила Метресса, – чрезвычайно популярна. – Я не могла понять, был ли это призыв гордиться или, наоборот, устыдиться, но не чувствовала ни того ни другого, а только растерянность и испуг.
Через некоторое время зрители, руководствовавшиеся сигналами, которых я не видела, вновь заполнили ряды кресел, ярусами расходившиеся от центральной ямы, огражденной парусиновыми стенами. Громкий ропот перешел в приглушенное бормотание, тут же вновь взорвавшееся ревом нездорового восторга, под который из противоположных загонов выволокли двух спотыкающихся обнаженных девушек. Головы у них были острижены наголо (как я позднее узнала, для того чтобы противник не мог схватить за волосы), а лицо одной было выкрашено красным, а другой – синим. Без этого их невозможно было бы различить – обе были одинаково худощавы и одного роста.
Несколько проворных, как обезьяны, рабов опустили девушек в яму и спрыгнули следом. Они массировали им плечи, разминали кисти рук, что-то говорили на ухо и подносили к носам флакон за флаконом. Постепенно обе поединщицы полностью очнулись, а потом и исполнились такой ярости, что каждую из них пришлось удерживать четверым мужчинам, чтобы они не кинулись друг на дружку раньше времени. Потом прозвенел колокол, и рабы, отпустив своих подопечных, поспешно выбрались из ямы по парусиновым стенам.
Зрители, находившиеся ниже нас, вскочили на ноги.
– Не отводите глаз, – сказала Метресса. – Если у вас появятся вопросы – я отвечу.
Девушки схватились между собой.
– Как их заставляют драться? – спросила я, хоть была уверена, что мне просто скажут: у них нет выбора. Потому что, будь я на их месте, знай, что лучшее, на что я могу надеяться, это выжить сейчас, чтобы вновь пройти этот ужас через неделю, я не стала бы драться с кем-то, кого выберет мой тренер. Я вырвалась бы в зрительный зал и убила бы столько народу, сколько удалось бы, прежде чем прикончили меня. Это был бы единственный разумный поступок.
– Ваш отец создает ароматы для мириад предназначений. Есть такие, что излечивают шизофрению. Некоторые позволяют работать по сорок часов без перерыва. Некоторые – всего лишь фантазии. Но большая часть имеет практическое предназначение. Каждая из тех двух, внизу, вполне может считать себя волчицей из доисторической породы волков ужасных и думать, что сражается с вооруженным копьем первобытным человеком, а может быть, абой, защищающей свою семью от людей-карателей. Свои действия кажутся им полностью рациональными, и они будут генерировать воспоминания, которые оправдают поступки. – Я, как и было велено, смотрела на схватку, но тем не менее чувствовала взгляд Метрессы на своем лице. – Если тебе интересно, я могла бы устроить дегустацию некоторых ароматов, выпускаемых твоим отцом. Они тебе не понравятся. Но если ты приложишь некоторое усилие, то через некоторое время обнаружишь, что они доставляют тебе очень большое удовольствие. Мой совет тебе: не начинай. Но один раз не повредит.
Я мотнула головой, чтобы сморгнуть слезы. Метресса неправильно истолковала мое движение.
– Это разумно.
Завершение поединка мы смотрели молча. Когда же он закончился, победительница запрокинула голову и завыла. И даже когда коренастые рабы скручивали ее и давали ей успокаивающее, на ее лице сияла безумная улыбка победительницы.
– Можно я больше не буду смотреть? – спросила Сьюзен. Несомненно, она хотела проявить дерзость. Но голос ее прозвучал очень слабо и жалобно.
– Уже скоро. – Метресса перегнулась через барьер и крикнула рабам, возившимся в яме: – Покажите нам труп.
Рабы принялись поспешно вытаскивать обнаженное тело для осмотра.
– Сначала оботрите ее.
Откуда-то взялась грязная тряпка, которой они стерли с лица почти всю красную краску. Потом снова подняли тело. Сейчас, в смерти, оно казалось совершенно детским: худое, длинноногое, с неразвитой грудью. Волосы на выпуклом лобке походили на золотистый туман. Я невольно задумалась о том, успела ли она до своей безвременной кончины испытать сексуальную близость, и если да, то на что это было похоже.
– Присмотритесь получше к ее лицу, – сухо велела Метресса.
Я всмотрелась, но не увидела ничего примечательного. Раздраженно пожав плечами, я повернулась к сестре и в зеркале ее потрясенного выражения лица увидела истину. А потом во мне произошла перемена, как будто все планеты вселенной разом сошлись в единый строй. И, опять взглянув на убитую, я вновь разглядела ее лицо. Она могла быть младшим двойником моей сестры. И даже не так.
Это было мое лицо.
На всем протяжении продолжительного пешего пути домой Сьюзен не проронила ни слова. Я тоже молчала.
А вот Метресса говорила много и равнодушно:
– У вашей матери было много детей. Ты (имея в виду Сьюзен) была естественным ребенком. Ты (я) – первой из многочисленных клонов, создаваемых для того, чтобы обрести наследника мужского пола; все они оказались неудачными. Отослав от себя вашу мать, отец решил избавиться от всего, что напоминало бы ему о ней. Я возражала против этого, в конце концов мы достигли компромисса и оставили вас, двух, а остальных продали. Понятия не имею, сколько из них выжили. Однако экономические реалии нашего времени таковы, что, если бы какую-нибудь из вас продали, здесь за нее дали бы наивысшую цену. – Она говорила много чего еще, но все это было не важно; мы отлично поняли все, во что она намеревалась нас посвятить.
Когда мы пришли домой, Метресса забрала у нас маски и пожелала нам спокойной ночи.
Мы с сестрой отправились в спальню и уснули, крепко обнявшись – впервые за последний год, если не больше. Утром тетушки Амели в доме не оказалось, и наше формальное образование закончилось навсегда.
Как я уже говорила, прошлой ночью я вернулась в мою старую спальню. Не сразу я поняла, что это был сон. Лишь оглянувшись в поисках Сьюзен и обнаружив лишь пыль и воспоминания, я сообразила, что после моего детства прошло уже очень много лет. И все же, как это бывает в сновидениях, мною владело ощущение, будто весь мир пребывает на пороге серьезной перемены.
– Теперь ты знаешь, что делать, – прозвучал скрежещущий голос. – Ведь знаешь, дочка?
Я повернулась и не увидела волчицу. Тем не менее я точно знала, что она здесь.
– Что, уже пора? – спросила я.
Она ничего не ответила. Но само ее молчание было вполне красноречиво.
Я ухмыльнулась, потому что сообразила наконец-то, где волчица пряталась все это время.
Не столько проснувшись, сколько прихватив свое пребывание во сне в бодрствующий мир, я выбралась из постели и направилась через холл в спальню мужа. Затем я посетила детскую, где спали мои двое сыновей-близнецов. И, наконец, я вышла на темные ночные улицы искать сестру.
Ночь уже подходит к концу, и нам необходимо поспешить, чтобы закончить начатое. На рассвете мы покинем города и вернемся в болота и леса, пещеры и холмы, откуда люди изгнали нас, чтобы возобновить свои надолго прерванные жизни. Я скинула шкуру и бреду по улицам Порт-Мимизона нагишом. В окружающих меня тенях я чувствую многих других, кто некогда побывал человеком, и истово молюсь, чтобы нас оказалось достаточно для нашей цели. Где-то в глубине своего сознания я гадаю, реально ли все это, или я погрузилась в пропасть безумия. Но это не так уж и важно. Я должна сделать дело.
Я высвободила волчицу из ее потайного убежища, и теперь ее морда в крови.
Только… почему мир пропитан этим запахом? Парусины и горького трюфеля.
Дом сновидений
– Тебе случалось когда-нибудь убить человека? – спросил бродяга.
– Это не предмет для обсуждения, – ответил его собеседник.
– Лично я убил пятерых. Это не так уж много. Но двоих я убил голыми руками, что, уверяю тебя, совсем не просто.
– Не сомневаюсь.
– Но сам-то не знаешь?
Второй бродяга промолчал. Они брели по промерзшим немецким полям. Зима почти так же сурово обошлась с окружающей местностью, как война – с землями на востоке. Она испортила дороги, и разрушила мосты, и сломала крыши, и если в этих полях и имелось какое-нибудь жилье, оно было погребено под ледяными покрывалами. Стерня под ногами хрустела, как стеклянная, сильно затрудняя ходьбу. Но главные дороги были забиты беженцами, а поскольку двое бродяг двигались в противоположном направлении, к фронту, то идти по ним означало бы привлекать к себе совершенно ненужное внимание.
– Риттер! – сказал первый бродяга.
– М-м-м?
– Ты помнишь инструкции?
Риттер остановился:
– Конечно. А ты?
– О, конечно, помню. Только не верю я больше в них. Мы идем уже столько времени, что вся жизнь представляется мне сном. Иной раз я даже не могу вспомнить, куда мы направляемся. – Риттер ничего не сказал, и его спутник отвернулся. – Давай-ка не будем торчать здесь, на открытом месте, а то как бы казаки не заметили.
Они двинулись дальше. Торчавшее далеко впереди облетевшее дерево, немного разбавлявшее однообразный пейзаж, медленно двигалось им навстречу, а потом стало так же медленно уползать назад.
– Риттер?
– А?
– Я называю тебя по имени, как подобает доброму товарищу. Почему ты не обращаешься ко мне так же?
Риттер снова остановился.
– Хороший вопрос, – сказал он. – Просто отличный! – В его голосе прорезался гнев. – Дай-ка я сам спрошу тебя кое о чем. Почему ты не знаешь ни нашего задания, ни нашего места назначения, ни даже своего имени? Почему все так тихо и спокойно? Почему мои ноги совершенно не устали от такого длинного перехода? Почему небо так похоже на оштукатуренный потолок? Почему я не могу запомнить черты твоего лица? Почему ты не высокий, не маленький, не толстый, не тощий, не рыжий, не белесый? Вообще кто ты такой и какую игру ведешь со мною?
Никогда не следует произносить слово «сон» – сказал женский голос.
Дело не в этом. Когда я попытался выяснить, кто такой его спутник, что-то назвало меня самозванцем.
Как бы там ни было, этот сеанс окончен.
Все почернело.
Очнувшись, Риттер обнаружил, что лежит под толстым пуховым одеялом в спальне с желтыми стенами и зеленым бордюром, с расписанным цветами кувшином на умывальном столике и полузакрытым занавесками окном, за котором лежал зимний пейзаж. Около окна, глядя на улицу, стоял, сложив руки за спиной, приземистый мужчина с такими широкими плечами, каких он никогда не видел ни у одного представителя рода человеческого. В деревянном кресле сидела старуха с пяльцами в руках и вышивала мелкими стежками, заканчивая каждый из них резким рывком.
– Где я? – спросил Риттер, чувствуя в голове тупую боль.
– В безопасном месте, – с улыбкой сказал, повернувшись, мужчина. Лицо его оказалось круглым и добродушным. Глядя на него, хотелось ему верить. – Среди друзей.
– А. – У Риттера сердце оборвалось. – Понятно. – Он закрыл глаза. – По крайней мере, я все же перешел линию фронта.
– И это очень плохо, – ответила старуха. – Мы уже решили было, что вы агент британской «Сикрет сервис». Одного вашего присутствия здесь в гражданской одежде достаточно для того, чтобы вас казнили как иностранного шпиона.
– Я гражданин Германии на австро-германо-баварской территории, – сказал Риттер, чуть заметно повысив голос. – И имею право находиться в своей родной стране.
Мужчина с мягкой укоризной покачал головой:
– «Вашей родной страны» уже несколько недель не существует. С точки зрения закона вы партизан-националист из крайних западных провинций Монгольской империи. Но мы свернули не в ту сторону. Попробуем начать сначала. Мы с доктором Нергюй – психиатры. Мы развернули программу сновидческой терапии, основанной на получении от вас информации, которая будет затем использована для излечения вас от бездумной преданности анахроничному и дисфункциональному режиму, а затем и искренней переориентации вас на нашу сторону.
– Это невозможно, – уверенно сказал Риттер.
– Смотрите на нас с Борсуком как на разрушителей плотин, – сказала доктор Нергюй. – Мы бурим скважину за скважиной без каких-либо видимых результатов, пока наконец сквозь одну из них не просачивается единственная капля воды. Через некоторое время еще одна, потом еще и еще, и вдруг, совершенно неожиданно, стена рушится, и озеро, запертое плотиной, вырывается наружу и затапливает все, что находится ниже.
– Впрочем, хватит разговоров на сегодня. – Борсук похлопал Риттера по плечу. – Спите, мой друг. Нам предстоит тяжелая работа. Очень тяжелая.
И, совершенно против воли, Риттер почувствовал, что проваливается в темноту, в глубины сна. Ему показалось, что где-то далеко-далеко в дебрях ночи кто-то или что-то ищет его. Это почему-то казалось важным.
Во сне Риттер стоял в по-старинному чопорном, обшитом дубовыми панелями кабинете сэра Тобиаса Гракхуса Уиллоуби-Квирка. На столе, отделявшем его от хозяина кабинета, были разложены одежда и имущество нищего.
Сэр Тоби жестом указал на потрепанную одежду.
– Хоть это все и кажется лохмотьями, на самом деле одежда очень хороша. Пальто из отличного плотного сукна, даже заплаты. Даже промокнув насквозь, оно все равно будет сохранять тепло. Башмаки вроде бы совсем разбиты, но на самом деле изготовлены по вашей мерке. Они промазаны свечным воском, чтобы не промокали, – так издавна поступали бродячие мастеровые. В шнурки вставлены отрезки рояльной струны, из которых можно сделать хоть ловушку, хоть удавку. Огнестрельное оружие вам давать нельзя – будет вызывать слишком большие подозрения. Так что вы возьмете это. – Он двумя пальцами поднял со стола обычный кухонный нож. – Шеффилдская сталь. Старый, зато острый. Деревянная рукоятка расколота, смотана холщовой лентой и выглядит самодельной. Но в драке на этот нож можно положиться.
– Я вижу, мне предстоит какое-то серьезное путешествие, – сказал Риттер. – И куда же именно вы хотите меня направить?
– Я посылаю вас с напарником на континент, за линию фронта. Там вы встретитесь с участником Сопротивления, который располагает важной для нас информацией. – Сэр Тоби извлек конверт, и Риттер, преодолев странное, ничем не объяснимое нежелание, открыл его и прочел записку. В ней содержались лишь имя, адрес и дата.
– Это все?
Сэр Тоби взял у него из рук конверт.
– Я опасаюсь давать вам больше необходимого минимума информации. Вдруг вы попадете в плен.
– Я не попаду в плен. Но даже если такое случится, уверен, что мне удастся сбежать.
– О? – Сэр Тоби положил руки на стол и подался вперед. Его глаза сверкнули. – Как же?
– Вы сами знаете как, – ответил, удивившись, Риттер. – Я… – Он обвел взглядом кабинет, стены которого раздувались и опадали, словно полотнища на ветру, на бюст архимага Роджера Бэкона в нише над дверью, который ухмылялся и подмигивал ему, на чернильницу, которая подпрыгивала и кувыркалась в воздухе, не проливая ни капли. Все это казалось каким-то неправильным. Даже сэр Тоби выглядел неубедительным маскировочным рисунком поверх более темной и верной версии реальности. У Риттера разболелась голова. Было трудно мыслить логически. – Или вы сами?
– Допустим, что я – нет. Чисто в порядке упражнения. Это ваш напарник, да? Вы рассчитываете, что он спасет вас. – Сэр Тоби улыбнулся добродушной, покровительственной, хищной, неискренней улыбкой. – Так ведь, сынок?
Риттер порывистым движением смахнул со стола все, что на нем лежало, и одежда, обувь, нож, какие-то мелочи разлетелись по сторонам.
– Я вам не сынок. И не тот человек, за которого пытаетесь выдать себя. Совершенно ясно, что это какой-то заговор. Так вот, у вас ничего не выйдет! Вы ничего от меня не узнаете!
Прекрасная работа. А теперь я верну его в сознание.
– Видите, как все просто? – сказал Борсук. – Доктор Нергюй подвергла вас внушению, я направлял ваши мысли, и теперь мы знаем ваше задание, имя, которым называет себя ваш контакт, а также где и когда его можно арестовать. Осталось лишь установить личность вашего столь загадочного напарника.
– Вы все еще считаете, что не сломаетесь? – поинтересовалась доктор Нергюй.
Риттер промолчал, и она взяла пяльцы и вновь принялась за вышивание.
Риттер долго лежал с закрытыми глазами, прислушиваясь к поскрипыванию гусиного пера – несомненно, Борсук записывал свои открытия. А за пределами комнаты стояла сверхъестественная тишина. Он слышал слабое поскрипывание половиц. Но ни голосов, ни поступи ног, никаких иных признаков того, что в здании имелся еще кто-нибудь, кроме тех, кто находился в этой комнате. Наконец он не выдержал:
– Так что, вы здесь только вдвоем? Ни охраны, ни санитаров?
Внезапная тишина, которую вскоре нарушил Борсук.
– Доктор Нергюй, а ведь он у нас оптимист. Даже in extremis этот юноша пытается добыть информацию, вызнать наши слабые места и строит планы бегства. – Судя по голосу, он чуть ли не гордился Риттером.
– Может быть, вы не заметили, но идет война, – сказала доктор Нергюй. – Ресурсов не хватает. Мы должны обходиться имеющимися силами. Но если вы решили, что мы двое не способны справиться с задачей… – Она извлекла откуда-то тот самый нож, который сэр Тоби дал Риттеру, и положила его на тумбочку. – Сядьте в постели.
Риттер сел.
– А теперь возьмите нож.
Риттер попытался. Не раз. Но когда он уже смыкал пальцы вокруг рукояти, его рука вдруг дергалась в сторону и хватала пустой воздух правее или левее ножа. Он раз за разом повторял свои попытки, но результат неизменно оказывался одним и тем же.
– Как вы видите, любая попытка сбежать будет тщетной, – сухо констатировала доктор Нергюй.
– Я вижу, что вы фокусники с исключительными способностями к иллюзиям. Но у меня, слава богу, имеется мой неукротимый тевтонский дух. Можете хоть убить меня, если хотите, но ваше грошовое колдовство не превратит меня в вашу игрушку.
– Между прочим, – обычным своим небрежным тоном заметил Борсук (продолжая писать), – иллюзия всегда рассматривалась как слабейший из всех талантов. О, мы, конечно, можем сделать так, что вы преспокойно шагнете с обрыва, или показать вам мертвое лицо кого-нибудь из самых любимых вами людей и убедить вас в том, что убили именно вы – на время убедить. Но мы не в состоянии ни заставить загореться лес, как это может сделать распорядитель огня, ни обморозить человека – это дело ледяных магов. Наша магия со временем рассеивается, и поэтому ее всегда не очень высоко ценили.
Но со временем пришло осознание того, что любая магия создается силами разума, а иллюзия – это ключ к самым его основам. У нас на родине доктор Нергюй прославлена своими достижениями. Вам следовало бы гордиться тем, что она лично занялась вашим делом. – Борсук посыпал листок песком, а потом аккуратно стряхнул его. – Человек, к которому вы шли, обитает в часе ходьбы отсюда. Гонца, который отнесет это донесение, – он помахал листочком, – в Военную разведку, мы ожидаем только завтра утром. Будь вы свободны, вы могли бы предупредить вашего контакта, получить информацию и разжечь костер успеха из золы провала.
В груди Риттера зародилась было надежда, но со следующим ударом сердца угасла.
– Издеваетесь.
– Возможно. Одевайтесь. Ваша одежда в этом гардеробе. Можете не стесняться доктора Нергюй – она бабушка…
– Прабабушка.
– Тем более прабабушка и успела повидать все на свете. Ваши башмаки под кроватью. Не забудьте надеть две пары носков – на дворе холодно.
Риттер, недоумевая, оделся и обулся.
– Теперь идите.
Рядом со спальней находилась уютная гостиная, залитая серым зимним светом. На вешалке возле двери висело его перемазанное грязью пальто. Риттер надел его. Вышел наружу и остановился на веранде, моргая. Замерзшие поля, которые он так хорошо запомнил из сна или галлюцинации, тянулись до леса, который вырисовывался вдали, в нескольких милях, неровной линией. Сделав несколько неуверенных шагов в нужном направлении, Риттер оглянулся на только что покинутый дом. Над дверью красовалась вывеска «САНАТОРИЙ»[16]. Ага, курорт! Но лишь эта надпись давала понять, что его тюрьма – это не просто сельский хутор.
Риттер уставился на горизонт и зашагал, непрерывно ожидая окрика сзади, за которым последует пуля в спину. Как ни странно, ничего подобного не произошло. Он побежал трусцой; мерзлая стерня под ногами захрустела громче. Тишину нарушали лишь этот хруст, карканье ворон вдалеке да его хриплое дыхание.
Не может быть, чтобы они просто так, за здорово живешь, отпустили его.
Или может?
Лес казался недосягаемым. Но если он сможет добраться до него, у него появится хоть какой-то шанс на спасение. Он бежал, и холодный воздух прочищал его мысли. Туман, окутывавший его рассудок, понемногу развеивался, выпуская на свободу боль в различных частях тела. Судя по всему, у него серьезно ушиблены ноги, плечи, ягодицы, да и ребра болят, как обожженные. Несомненно, избили при задержании. Он смутно припоминал, что успел убить одного из вражеских солдат, прежде чем его скрутили. Просто чудо, что он вообще жив.
Значит, нет – не могли они отпустить убийцу своего солдата.
И все же… Хутор позади превратился в точку. Риттер устал и замедлил шаг. Несколько раз он спотыкался, но удерживался на ногах, однажды все же растянулся на твердой, как камень, земле, а вскоре после этого подвернул лодыжку, но она, к счастью, расходилась.
Он оглянулся назад. Хутор совсем исчез среди бескрайних полей, на которых до сих пор не было ни души, кроме него самого. Почему же его не преследуют?
Чушь какая-то!
Если только за ним не следят издалека магическими или естественными средствами. Это было единственное разумное объяснение, которое приходило ему в голову. Потому-то он и не решался мысленно позвать Фреки. Если за ним следили, а то и, еще хуже, он лежал и видел галлюцинации, никак не следовало давать следователям сведения, которые заинтересовали бы их больше всего, после личности и местонахождения контакта – тот факт, что он принадлежит к Корпусу вервольфов и его спутник в путешествии – волк. И поэтому, как ни хотелось ему призвать на помощь в бегстве Фреки, он не мог на это решиться.
Риттер умел использовать волка как оружие. Вместе с Фреки он мог бы успешно противостоять десятку людей с обычным оружием. Однако бродяга, скитающийся в обществе волка, очень сильно бросается в глаза. Поэтому они путешествовали порознь – Риттер по дорогам, а его спутник по канавам и перелескам, так, чтобы расстояние между ними не превышало полумили. В результате Фреки не смог помочь Риттеру, когда тот (теперь он вспомнил, как было дело) напоролся на случайный патруль фуражиров, желавших обогатить свой рацион украденной курицей или отобрать у местных жителей шмат сала.
Если бы только он не разозлился и не убил того солдата! Они заметили, что он борется как обученный военный, а ведь в противном случае они могли бы просто избить его и отпустить там же, где повстречали.
Хотя, может быть, и нет. Сержант вел себя так, будто обладал вторым зрением. Таких вот людей, с начатками таланта, частенько делают унтер-офицерами, а то и дают звания повыше. В военное время их берут на службу, и они быстро продвигаются по службе – даже люди самого что ни на есть низкого происхождения.
У Риттера ужасно замерзли ноги да и руки тоже. В карманах пальто прежде была пара разномастных перчаток. Но их выгребли вместе со всем содержимым карманов – ножом, спичками, трубкой и кисетом табаку и мешочком жареного зерна для утоления голода. Поэтому он вытащил руки из рукавов, засунул кулаки себе под мышки и так и шел. Шел и шел.
Миновало уже несколько часов, а отдаленная полоса леса вроде бы нисколько не приблизилась. Зато впереди появился хуторок, где из трубы поднимался голубой столб дыма. Риттер терялся в сомнениях: то ли обойти жилье, то ли, напротив, заглянуть туда и попросить работы за еду, а на самом деле для того, чтобы разжиться информацией. Крестьяне в этой глуши склонны к болтовне куда более, чем принято считать. Возможно даже – хоть и маловероятно, – что тут удастся украсть лошадь.
Эти мысли вселяли бодрость. И все же чем ближе он подходил к дому, тем сильнее становилась тревога. Место выглядело… знакомым.
С каждым шагом падая духом, Риттер подошел ближе.
Над дверью висела табличка.
«CAHATOРИЙ».
Он вернулся туда же, откуда вышел.
На мгновение Риттер чуть не лишился надежды. Но тут же расправил плечи, повернулся на девяносто градусов и зашагал прочь. Как офицер и прусский дворянин, он не мог позволить себе поддаться отчаянию.
Солнечный свет едва пробивался сквозь тучи, и предметы почти не отбрасывали теней. Риттер решительно взял налево и шел, ориентируясь по малозаметным ориентирам в отдалении – валун, клок замерзшей голой глины, сухое растение, торчащее из-под снега. Он сосредоточился, чтобы не сбиваться с направления. То и дело останавливался и оглядывался, убеждаясь в том, что следы тянутся к горизонту ровной прямой линией. В конце концов ноги у него подогнулись, и он осел на промерзшую землю.
Совсем рядом открылась дверь.
– Ну что? – осведомилась доктор Нергюй с веранды санатория. – Теперь вы убедились?
Риттер, превозмогая усталость, посмотрел на нее, а потом в одну и в другую стороны. По засыпанной неглубоким снегом земле пролегало нечто вроде тропинки, плавно загибавшейся по обе стороны дома. Он весь день бродил вокруг этого злосчастного хутора.
Борсук помог ему подняться на ноги и ввел в дом. Там было тепло. Он с благодарностью ощутил, как с его плеч сняли тяжелое пальто. Борсук усадил Риттера на диван. Сам уселся в чрезвычайно пышное мягкое кресло и сказал:
– Сейчас мы попробуем кое-что иное. Не желаете ли поговорить с нами о вашей матери и вашей половой жизни?
Доктор Нергюй подняла руку.
– Посмотрите на него. Он все еще не сломлен.
Лицо Борсука застыло. Потом он сказал:
– Великолепно. Он все еще надеется сбежать.
– Грань между надеждой и самообманом очень зыбкая. По моему профессиональному мнению, пациенту будет полезно заглянуть в свое будущее.
– Согласен с вами, коллега, – отозвался Борсук.
Риттер разувался, сидя на кровати, представлявшей собой единственный предмет обстановки в номере гостиницы-ночлежки, устроенной в Миллерс-Корте и выделявшейся своим убожеством даже в Уайтчепеле. Он опасался, что подхватил грибок. Кожа между пальцами сделалась трупно-белой, а когда он снял носки, в нос шибануло вонью. Вряд ли с этим можно было что-нибудь поделать. Обмороженные кончики нескольких пальцев почернели. Он уколол каждый острием ножа и ничего не почувствовал. На ногах были и мозоли, но их лучше было не трогать – если их проколоть, можно занести инфекцию.
Он, в общем-то, не надеялся дожить до такого вот состояния.
Когда он попытался попасть к сэру Тоби, охрана не пропустила его в здание. Впрочем, он был готов к этому. Долгие недели трудного существования полностью изменили его. Он теперь совершенно не походил на человека, который может иметь отношение к штаб-квартире разведки. Даже информаторы из лондонских низов одевались лучше.
Риттер поднял горящий огарок свечи и, подвигав им туда-сюда, не без труда нашел, по движению тени, вбитый в стену гвоздь. На него он повесил носок, чтобы проветрить. А потом, когда еще одного гвоздя не оказалось, повесил второй носок поверх первого.
Потом он лег на кровать и попытался думать. Но в голове у него неустанно зудели противоречащие друг другу голоса. Сколько времени прошло с тех пор, как он спал в последний раз? Его конечности, несмотря на усталость, не знали покоя. Пальцы непроизвольно дергались, и стоило ему сомкнуть веки, как они тут же раскрывались.
В глубине души каждый мужчина ненавидит своего отца.
Сосредоточься, черт возьми! Идти в клуб сэра Тоби бессмысленно – даже когда он был похож на офицера, его пускали внутрь только в сопровождении члена клуба. Значит, нужно подстеречь его на улице, когда он будет подходить к Управлению или выходить из него. Донесение сэру Тоби Риттер должен был вручить лично. Без вариантов.
Риттер ворочался с боку на бок, но никак не мог найти удобной позы. Он резким движением сел и потер кулаками живот.
Он думал, что сон поможет ему.
Угрызения совести не дают покоя даже отдохнувшему человеку.
Запрокинув голову, Риттер разодрал пальцами грязные свалявшиеся волосы. Полчаса назад он отдал последние свои монеты за эту комнату, в надежде, что, отдохнув, сможет лучше соображать. Оказалось, что деньги выброшены впустую. Он и минуты не мог пролежать неподвижно, тем более столько, чтобы можно было задремать.
Хрипло застонав, он сел и принялся вновь обуваться. Носки он оставил на гвозде.
Когда он добрался до Черринг-кросса, уже начало смеркаться.
Мостовые блестели от дождя, которого Риттер совершенно не запомнил, хотя его пальто промокло. Держась в тени, он всматривался в проезжавшие мимо экипажи, стараясь не пропустить один, возница которого редко ездил одним и тем же путем два дня подряд, так как сэр Тоби, естественно, не желал облегчать возможным злоумышленникам подготовку покушения на себя.
Так что уверенности в том, что его удастся увидеть этим вечером, у Риттера не было. Однако… количество путей, соединяющих одно место с другим, ограниченно. И вечер этот не последний.
И тут он увидел приближающийся экипаж. Риттер сразу узнал его, потому что много раз ездил в нем, и отчаянно рванулся вперед.
– Сэр Тоби! – Слова вылетели изо рта, как во́роны. Он бежал рядом с экипажем, размахивая руками и всячески стараясь привлечь внимание человека, сидевшего внутри. Краем глаза он видел, что возница поднимает кнут, чтобы отогнать его.
Но в окошке кареты уже появилось круглое самодовольное лицо, и глаза на этом лице широко раскрылись от изумления:
– Риттер!
Сэр Тоби распахнул дверь, протянул руку и втащил Риттера в карету. Тот обрушился на хозяина; впрочем, оба тут же, пусть и неловко, восстановили равновесие.
Он был в экипаже, и карета даже не замедлила ход.
– Я… у меня… сообщение, – проговорил он, преодолевая никак не желавшую успокаиваться одышку. – Для… вас… личное.
– Друг мой, я думал, что вы… впрочем, не важно, что я думал. Очень рад видеть вас вновь. Нужно немедленно раздобыть вам чистую одежду. И, судя по вашему виду, не повредит и добрая еда. Я сниму для вас комнату в клубе; вообще-то так не полагается, но думаю, что смогу это устроить. Ах, дорогой мой, вы ужасно выглядите. Судя по всему, вам пришлось пройти через настоящий ад.
– Послание… – Риттер запустил руку под лацкан пальто, во внутренний карман.
– У нас будет масса времени после того, как вы поедите. – Сэр Тоби умиротворяюще похлопал его по руке.
– Нет… это… – к собственному изумлению, Риттер увидел, что в его руке стиснут тот самый шеффилдский нож, который ему так давно вручили.
И в следующий миг он ударил этим ножом, и еще раз, и еще, и еще, и кровь хлестала во все стороны.
– Вот и прорвалась первая капля, – сказала доктор Нергюй.
– Не пытайтесь строить из себя железного человека. – Борсук протянул Риттеру носовой платок, и тот уткнулся в него лицом. – Слезы – это нормально.
К своему ужасу, Риттер чувствовал, что в нем нарастают душераздирающие скорбные рыдания. Чтобы сдержать их, ему потребовалось напрячь все свои силы. Он не был уверен в том, что сможет все время преодолевать это чувство. Но холодная, дальняя часть его сознания сказала: «Что ж, ладно» – и потянулась во тьму.
Если они намерены так вести игру, остается подыграть им, парировать удар и контратаковать. Он представил себе Фреки, как будто тот был человеком: массивный, подвижный, волосатый, опасный. Готовый убить при необходимости, но совершенно лишенный злобы и безоговорочно преданный своим друзьям. Этакий волчий характер. Слой за слоем он создавал этот образ, пока не осталось лишь дать ему имя, подходящее для человека. Риттер выбрал имя Влад. «Влад, – подумал он. – Иди сюда». Волк не поймет, почему в его сознание впечатался образ незнакомого человека. Зато он обучен исполнять команды. И он сразу же выбрался из канавы, в которой прятался.
Одновременно Риттер дал волю слезам. Ему, как он понял с великим изумлением, было о чем поплакать. О потерях, которые он никогда не оплакивал. О страданиях, которые он претерпевал, а потом запирал в себе. Ну что ж, теперь пора заставить их поработать на себя.
Риттер запрокинул голову и взвыл.
– Мне кажется, он готов, – сказал наконец Борсук.
– Прекрасная работа. Я буду держать его в пассивном состоянии. А вы ведите допрос.
Риттер почти уснул. Но, хотя он и погрузился в блаженное изнеможение, его глаза не закрывались. Он просто чувствовал, что не может – или не хочет – шевелиться. Это было то состояние, которое человек ощущает на грани сна, когда полностью сознает, что происходит вокруг, и тщетно пытается проснуться. Отдаленной частью сознания он ощущал, как Фреки бесшумно бежит по полям, приближаясь к санаторию. Но его тюремщики, конечно, не станут заглядывать туда. Они довольствуются поверхностными мыслями.
– Откройте нам секрет, друг мой. Ничего серьезного, ничего важного. Просто мелочь – для начала.
Риттер отрицательно покачал головой. А может быть, лишь хотел покачать.
– Вы же знаете, что должны это сделать. И сами видели, что сделаете. Зачем откладывать неизбежное?
– У меня… – Риттер осекся.
– Что?
Вложив в голос побольше недовольства собой, Риттер сказал:
– Карта. Зашита под подкладкой моего пальто.
– Правда? – не скрывая удовольствия, отозвался Борсук. Он поднялся, вышел в спальню и вернулся с ножом Риттера. Им он разрезал пальто. Под подкладкой оказался кусок белого шелка, на котором был отпечатан подробный план области. Место встречи Риттера с контактом обозначено не было. Но о нем они, конечно, уже знали.
Борсук подержал карту за уголок, разжал пальцы, и она плавно опустилась на столик. Нож он положил сверху. Риттер постарался не подать виду, что понимает, как легко достать до ножа. Однако негромкая усмешка доктора Нергюй сказала ему, что оружие снова будет недосягаемым для него.
– Видите? Мир нисколько не переменился. Не считая того, что лично вам стало намного легче, поскольку вы можете не бороться больше за проигранное дело. Пойдем дальше. Назовите имя вашего спутника, которого мы пока еще не поймали.
Риттер услышал свой голос:
– Влад.
– Значит, ваш друг – славянин?
– Это прозвище, – мертвым голосом сказал Риттер.
– А-а, несомненно, в честь Сажателя-на-кол[17]. Расскажите о нем.
Поначалу медленно, сбивчиво, а потом все быстрее и ровнее Риттер начал описывать недавно придуманный человеческий образ Фреки: умственную и физическую силу Влада. Его постоянную заботу о благополучии спутника. Беззаботную игривость, которая может прорваться в самый неожиданный момент. Прожорливость. И все это время Фреки подходил ближе и ближе, пока не приостановился у самого дома. Риттер ощутил слабый, но безошибочно узнаваемый ментальный толчок. Фреки ждал дальнейших команд.
Нергюй подняла руку:
– Хватит подробностей. Где он сейчас находится?
Риттер не без труда изогнул губы в чуть заметной улыбке. Повернул голову к окну и почувствовал, не глядя, что и остальные двое поступили так же.
– Посмотрите туда.
Засыпав помещение осколками стекла и щепками выбитой рамы, в комнату ворвался Фреки.
Растерявшись на мгновение, оба гипнотизера выпустили из-под контроля свои мысли и, следовательно, сознание Риттера. Освободившись, он вскочил с дивана и хлопнул ладонью по столику, где лежал нож. На сей раз его пальцы легко стиснули рукоять.
Он воткнул лезвие в сердце Борсука.
Фреки повалил доктора Нергюй на пол и стиснул ее горло зубами. Когда Риттер оттаскивал его от трупа старухи, волк пару раз укусил и его. Но сделать это было необходимо. Нельзя было допустить, чтобы Фреки распробовал вкус человеческого мяса.
По адресу, имевшемуся у Риттера, находился пустырь – даже не поле и не общинный луг – рядом со старой городской свалкой. Место пугало своей открытостью для обозрения. Судя по всему, контакт хотел еще издалека убедиться в том, что его ждет только один человек. И все равно, слишком уж открытым оно было. Риттер устроил там скромный, как подобает бродяге, ночлег и все время в тревоге ждал, что его обнаружит или очередной отряд фуражиров-мародеров, или вербовщики из армии победителей.
Он не знал, кого ждет – ему было известно лишь условное имя, nom de guerre его контакта. Он явился на условленное место на рассвете назначенного дня и не обнаружил никого. Нужный ему человек не появился и после заката. В таком случае ему надлежало ждать три дня. Ни больше ни меньше. Прошло уже два.
Риттер, склонившись над крохотным костерком, пытался подогреть водянистое жаркое из пойманного кролика, и вдруг Фреки, укрытый серым одеялом от посторонних глаз, негромко заворчал, предупреждая, что приближается кто-то незнакомый.
Риттер медленно поднялся.
Неторопливо подходивший человек был старше Риттера самое меньшее на десять лет. Судя по одежде, состоятельный человек. Судя по осторожности поведения, отнюдь не друг Монгольского колдуна или его империи. Он опирался на посох, годный, как подозревал Риттер, не только для помощи при ходьбе. И, хотя Риттер после всех передряг являл собой малопривлекательное зрелище, незнакомец уверенно направлялся к нему.
Возле костра пришелец остановился. На Риттера он смотрел без страха, но и без доверия. Он ничего не говорил. Похоже, он был равно готов как к драке, так и к бегству. Риттер знал, что это мог быть только тот самый человек, которого он ждет.
– Насколько я понимаю, волшебник Годо? – сказал Риттер, протянув руку.
Об авторе
Майкл Суэнвик опубликовал свой первый рассказ в 1980 году. Он принадлежит тому же поколению, что и Пэт Кэдиган, Уильям Гибсон, Конни Уиллис и Ким Стэнли Робинсон. За прошедшую с тех пор треть столетия он был удостоен «Небьюла», Теодора Старджона и Всемирной премии фэнтези, а также получал премия «Хьюго» пять раз за шесть лет – беспрецедентный случай. Еще одна забавная особенность его биографии – он номинировался на премии и не получал их чаще, чем любой другой писатель-фантаст.
Такие издания, как «Amazing», «Analog», «Asimov’s», «Clarkesworld», «High Times», «New Dimensions», «Eclipse», «Fantasy & Science Fiction», «Interzone», «Infinite Matrix», «Omni», «Penthouse, «Postscripts», «Realms of Fantasy», «Tor.com», «Triquarterly», «Universe», и многие другие опубликовали порядка полутора сотен его рассказов. Многие из них позднее появлялись в сборниках лучших произведений года и переводились на японский, хорватский, голландский, финский, немецкий, итальянский, португальский, русский, испанский, шведский, китайский, чешский и французский языки. Суэнвик также опубликовал несколько сотен произведений малой прозы.
Суэнвик плодовит также в области нон-фикшн; он издал книги, посвященные писателям Хоуп Миррлиз и Джеймсу Брэнчу Кеейбеллу, а также интервью книжного размера с Гарднером Дозуа, как преподаватель работал в «Кларионе», «Кларионе-западном» и «Кларионе-южном».
Суэнвик написал также девять романов: «В зоне выброса» (вышел в серии «Ace Special»), «Вакуумные цветы», «Путь прилива», «Дочь железного дракона», «Джек/Фауст», «Кости земли», «Драконы Вавилона» и «Танцы с медведями». Произведения коротких форм собраны в книгах «Ангелы гравитации», «География неведомых земель», «Лунные псы», «Сказания Старой Земли», «Фауст из сигарной коробки и другие миниатюры», «Пес сказал гав-гав» и «Лучшее Майкла Суэнвика». Последний по времени роман «В погоне за фениксом», представляющий собой хронику приключений двух проходимцев, Даргера и Довеска, в постутопическом Китае, в настоящее время можно прочитать на «Tor Books». В настоящее время писатель работает над третьим и последним романом из цикла «Индустриальная феерия».
Майкл Суэнвик живет в Филадельфии со своей женой Марианн Портер. В 2016 году он принял участие во Всемирном конвенте научной фантастики (MidAmeriCon II).
Примечания
1
«Кларион» – система курсов для начинающих писателей, существующая в США с 1968 г.
(обратно)2
Джерри Адамс (род. в 1948 г.) – ирландский политический и государственный деятель, председатель партии Шинн Фейн, сыгравший важную роль в мирном решении вооруженного конфликта в Северной Ирландии.
(обратно)3
Бетесда – пригород Вашингтона, где находится комплекс медицинских научно-исследовательских центров.
(обратно)4
Фуллер, Ричард Бакминстер (1895–1983) – американский инженер, архитектор и мыслитель, изобретатель геодезического купола.
(обратно)5
Временное жилье (фр.).
(обратно)6
Братья мои (фр.).
(обратно)7
Какая жалость! (фр.)
(обратно)8
Пиранези, Джованни Баттиста (1720–1778) – итальянский гравер и архитектор. Прославился «архитектурными фантазиями», поражающими сверхчеловеческой грандиозностью пространственных решений и остродраматическими светотеневыми контрастами.
(обратно)9
Моррис, Уильям (1834–1896) – английский поэт, прозаик, художник, издатель, социалист, один из виднейших представителей декоративно-прикладного искусства, считающийся родоначальником английского дизайна.
(обратно)10
П.-Б. Шелли. Озимандия. (Пер. В. Я. Брюсова)
(обратно)11
На месте (лат.).
(обратно)12
Дом терпимости (фр.).
(обратно)13
Псевдоним гравера (фр.).
(обратно)14
Кишечная палочка (лат. Escherichia coli) – вид широко распространенных бактерий, включающий в себя множество штаммов.
(обратно)15
НАФТА-3 – североамериканское соглашение о свободной торговле (North American Free Trade Agreement – NAFTA).
(обратно)16
У автора – по-русски.
(обратно)17
Исторический прототип легендарного графа Дракулы, трансильванский князь Влад III (1448–1476) был за свою жестокость прозван Сажателем-на-кол.
(обратно)
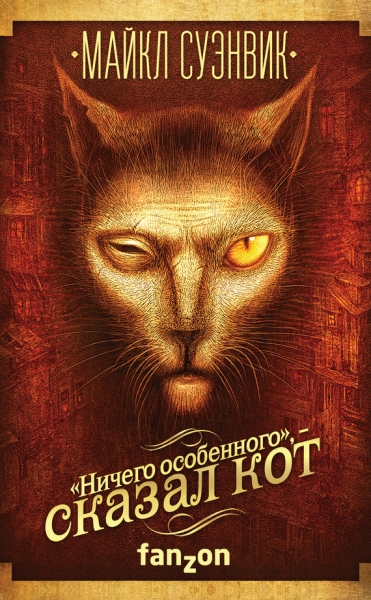



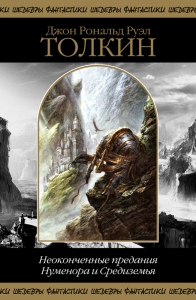





Комментарии к книге ««Ничего особенного», – сказал кот», Майкл Суэнвик
Всего 0 комментариев