Шимун Врочек Легионы просят огня
Неси это гордое Бремя Его уронить не смей. Не смей болтовней о свободе Скрыть слабость своих плечей! Усталость не отговорка, Ведь туземный народ По сделанному тобою Богов твоих познаёт. Редъярд Киплинг, «Бремя белого человека», перевод В. Топоров Слава нашему хозяину европейцу, У него такие дальнобойные ружья, У него такая острая сабля И так больно хлещущий бич! Слава нашему хозяину европейцу, Он храбр, но он не догадлив.Николай Гумилев, «Невольничья»
Пролог. Другое небо
1980 год, Советский Союз, Узбекская ССР, окрестности Ташкента
Человек явно не хотел здесь находиться. Но ему пришлось.
Его очень убедительно попросили.
Вытертые солдатские ремни охватили запястья, врезались в кожу. На мощном плече — татуировка.
Латиница. Написано странно: буквы прописные, пробелов между словами нет. Свиридов потянул носом воздух. Пахло болью и прокисшим, застарелым запахом пота.
«LEGIO~PATRIA~NOSTRA» — прочитал капитан еще раз.
— Что это значит?
— Легион — наша родина, — перевел специалист. — Латынь. Обычная татуировка римских легионеров. Что‑то вроде «Не забуду мать родную».
Человек с римской татуировкой забился, закричал сдавленно. Свиридов поднял брови.
— Тоже латынь?
Губы специалиста дрогнули в улыбке:
— Нет, как ни странно. Английский. Точнее даже: американский английский, южные штаты. Возможно, Виргиния.
В тоне специалиста проскочила нотка превосходства. Вот мы, мол, какие. Акценты на слух различаем.
— Однако… как он оказался в легионе? Или это Иностранный легион? Французы?
Специалист покачал головой. Нет.
— Хмм. Тогда что за легион?
— Римский. Настоящий римский легион. Седьмой год от Рождества Христова.
Свиридов усмехнулся. «Ага, ага. Как же». И — замер.
Потому что специалист не шутил.
— Кто он вообще такой? — спросил капитан. — Известно?
— Дэннис Л. Хартиган. Разведка Корпуса морской пехоты США. Мастер — сержант. У американцев это довольно высокое звание. Такой сержант получает жалованье больше, чем заслуженный капитан.
«Вечный капитан» Свиридов, которому давно уже пора было носить погоны подполковника, хмыкнул.
— И что этот сержант делал в римском легионе?
— Что? — специалист почесал бровь. — То, что умеет. Учил молодняк обращаться с оружием. Солдат всегда солдат.
Свиридов помедлил.
— Откуда он здесь‑то взялся?
— Погранцы взяли. Шел себе — прогулочным шагом — из ущелья Сармыш — сай.
— Того самого?..
— Того самого. Теперь смотрите. Штатовский морпех времен Вьетнамской войны шпарит по советской земле в полном обмундировании римского центуриона. Понимаете ситуацию?
— И что мне с этим теперь делать? — Свиридов повернулся к человеку, который его сюда привез. У человека был мягкий восточный акцент и текуче властные манеры. «Развели тут у себя, в Узбекистане, средневековую сатрапию», — подумал Свиридов с неудовольствием.
— Теперь ваша задача — правильно использовать полученную информацию, — сказал человек с мягким восточным акцентом.
— Совершенно верно, использовать. — Свиридов поморщился. Опять голова кругом. «Мало мне геморроя с Мохтат — шахом». — Кто бы знал, как меня задолбали эти путешественники во времени!
* * *
1980 год, Ташкент, окружной военный госпиталь N340
В Ташкенте солнце и весна. За окном госпиталя зреют абрикосы — их сладко — желтая мякоть мерещится ему даже здесь, в залитой дождями осенней Германии. Возможно, все дело в цвете. Оранжевые абрикосы, зеленые листья, колеблемые теплым ветром, ах, как хорошо сидеть на подоконнике — белом, широком, деревянном — и ощущать на лице этот ветерок. Алексей выглядывает в окно и видит медсестричку. Она спешит по двору. Походка раненой верблюдицы, вспомнил он фразу из учебника… или исторического романа? Неважно. Главное, что эта походка приятна взгляду мужчины.
Он наблюдал, как сестричка торопится через двор — белый халатик, руки в карманах, вся при делах. А колени загорелые так и мелькают. Очень красиво. Очень.
«Я встретил девушку, полумесяцем бровь…» — как в песне.
Только все это больше не для него. Какой девушке нужен чертов калека?!
Алексей спрыгнул с подоконника, затушил недокуренную сигарету в банку с окурками.
В следующий момент он почувствовал, что за спиной кто‑то есть. Алексей мгновенно развернулся, напружинил ноги для прыжка…
Твою ж мать.
Давешний капитан смотрел на него с интересом.
Умный, сволочь, подумал Алексей с сожалением. Капитан Свиридов, как представился «комитетчик» в прошлый раз, улыбнулся и протянул руку. Алексей выпрямился. С секундной задержкой сунул в ответ культю.
Капитан аккуратно сжал ему предплечье выше повязки.
— Хорошее утро, — сказал Свиридов. — Как ваши дела, товарищ сержант?
А то ты не знаешь. Алексей выдернул культю из пальцев «комитетчика», отвернулся к окну. Капитан смотрит? Ну и черт с ним. Алексей затылком чувствовал, где тот находится и что делает. Странная способность, которая проявилась у сержанта в Афганистане.
— Весна, — сказал капитан негромко. Подошел и встал рядом. Ростом он был почти вровень с Алексеем, взрослый мужик в полевой форме пограничника. Коротко стриженый затылок. Крепкая шея. В десанте пограничников не любили, но уважали — в отличие от «махры», мотострелков, путавшихся в собственных соплях, погранцы дело знали туго.
— Я думал, ваши люди ходят в гражданке, — сказал Алексей.
Капитан посмотрел на него внимательно.
— Честно? Я бы с удовольствием походил в гражданском, но увы…
Алексей хмыкнул. Хотел опереться на подоконник ладонями, затем вспомнил, что опираться нечем. Покачал рукой без кисти. Интересно, мышцы чувствуют, что вес руки изменился? Видеть пустое место вместо правой кисти было… Он поморщился. «Забавно»? «Смешно»?
Глупо.
Словно видишь кошмарный сон и никак не можешь проснуться. Черт, подумал он.
Черт, черт, черт.
— Что вы от меня хотите? — спросил Алексей глухо.
Капитан улыбнулся. У — урод. В голове щелкнуло, Алексей расправил плечи.
— Смешно тебе? — спросил равнодушно. Глаза стали мертвые. Алексей представил: серые и тусклые, они неподвижно лежат в глазницах, как в могилах. — А если я тебе шею сверну, будет смешно?
— А ты попробуй, — посоветовал Свиридов.
Этот спокойный тон окончательно вывел Алексея из равновесия. Щелк. В висках — нарастающий стук сердца. Оглушительный, как выстрелы танковых орудий. БУХ. БУХ.
БУХ.
Капитан ждал. Алексей пошел на него, отставив культю в сторону, чтобы ненароком не задеть повязку. Врезать левой в горло, затем подсечка и удар ногой, на добивание. «Посмотрим, какой дисбат мне влепят, с моей‑то рукой».
— Стоять, сержант, — произнес Свиридов негромко.
Алексей вдруг против воли остановился. Словно у него все мышцы разом занемели.
У капитана были глаза разного цвета. Очень запоминающиеся глаза…
Один голубой, другой зеленый.
* * *
— Викулов? Старший сержант Алексей Викулов? — шагнул навстречу молодой лейтенант. Щеки у него были пухлые, погоны мотострелковые.
— Что? — Алексей не сразу сообразил, что обращаются к нему. Потом встряхнул головой. — А! Да. То есть, нет. Извини, братишка, обознался ты. Викулов дальше по коридору. В двенадцатой, где ожоговые больные.
Викулов был из «пожарников». Сгорел в бээмпэшке. Точно, я его сегодня видел, подумал Алексей. Везли на койке на процедуры. Леха Викулов из второй роты. Викул. Перед глазами возник серый ком белья, пропитанный желтой жирной мазью…
— Прости, братишка, — сказал Алексей «летёхе». — Нужда зовет.
Он отправился в уборную, насвистывая мотив из оперы «Кармен». На стене над унитазом была надпись «Тщательнее мой руки, воин». Алексей хмыкнул, левой рукой завязал тесемки больничных штанов — фокус удавался далеко не всякому. Сестрички говорили, что у него пальцы как у хирурга. Подошел к умывальнику, тщательно вымыл руку, но вытирать не стал. Полотенце оказалось серым и бугристым, словно размокшая вафля.
Не рискнул. Пошел, держа руку на весу, чтобы обсохла.
В коридоре, между плакатами «Товарищ военнослужащий, береги социалистическую законность!» и иллюстрированной цветной памяткой «Симптомы пищевого отравления», маялся прежний лейтенант.
— Нашел своего Викулова? — спросил Алексей. Лейтенант моргнул. Алексей проследил за взглядом «летёхи» и замолчал.
К ним шел врач.
Врач вытер руки полотенцем, хирургическая шапочка криво сидела на его большой голове.
— К Викулову? Кончился ваш Викулов, — сказал врач нехотя. — Ожог третьей степени, почти восемьдесят процентов тела. Две недели под капельницами и вот… Слышите?
— Как же… — лейтенант заморгал. — Как же так? Я ему гостинец вез… от тетки. Из Вологды.
— Гости — инец, — протянул врач. — Мы сделали все, что могли. Интоксикация, почки не выдержали. Понимаете?
Лейтенант растерянно кивнул.
— Идите, мужики, — сказал врач устало. — Накатите за упокой души раба божьего… Викулова… как его по отчеству?
— Алексей Иванович, механик — водитель, — голос лейтенанта дрогнул. — Призыв семьдесят девятого, весна.
* * *
Свиридов провел ладонью по лбу, стирая пот. Кожа белая, загара нет. Откуда капитан приехал? С Дальнего Востока? Или из какого‑нибудь Лондона?
— Разрешите вопрос? Давно вы здесь, товарищ капитан?
Свиридов помедлил.
— Да вот, прилетел на днях из дружественной ГДР. Приказ, сам понимаешь. Подняли меня, значит, по тревоге… и погнали на аэродром.
— Совсем срочно? Это, значит, пинком под мягкое место? — съязвил Алексей.
Свиридов усмехнулся.
— Вроде того. Я даже зубную щетку с полотенцем из общаги не успел захватить.
«Комитетчик» в сущности, был свой мужик. Нормальный.
— А вы полотенце в гостинице замыльте, товарищ капитан, — посоветовал Алексей невозмутимо. — С вас‑то кто спросит?
— Ты прямо кладезь ценных советов. — Свиридов снял фуражку, помахал на себя. — Уф, духота сегодня. Как в парилке. Присядем, что ли?
Город плыл за окнами — бело — розовый, весенне — майский.
— А ну‑ка, — капитан потянулся к ручке, с треском повернул. Через распахнутое окно влился на лестничную площадку кусочек Ташкента. Запахло сухой пылью, нагретым солнцем деревом, цветущей землей. И еще почему‑то — вареной бараниной и тушеной капустой. А! Это из столовой, понял Алексей.
— Вообще‑то, сидеть на подоконниках запрещено, — заметил он.
Капитан усмехнулся. Достал из портфеля армейскую фляжку, металлические стаканчики и коробку конфет. Алексей невольно загляделся: там лежали аккуратные, завернутые каждая в прозрачный целлофан, желтые круглые конфеты. Яркие, как кусочки кураги особого, «медового» сорта. Только вот такой «кураги» в Ташкенте не купишь. Это заграница, сразу видно.
— Угощайся. Немецкие. Хорошо, сюда самолетом, а то не довез бы. Прозит! — капитан отсалютовал стаканчиком.
— Будем.
Алексей поднес стаканчик к губам, глотнул. Тягучая, пахнущая свежестью жидкость обволокла язык, мягко скатилась по пищеводу в желудок, всплыла к голове теплым шаром. Стало жарко… и хорошо.
За окном закричали: «Зинка! Зинка! Куда ты дела…». И потом по — узбекски.
Алексей не слушал.
— Немецкая мятная водка, — пояснил Свиридов. — Отличная штука. Так на чем я остановился?
Алексей помедлил.
— На задании. Или цели.
Свиридов кивнул, размял костяшки пальцев — с треском.
— Значит, так. Слушай, сержант, повторять не буду…
* * *
— Выходит, я остаюсь в армии?
Свиридов усмехнулся:
— Выходит. Дадим тебе прапорщика — сразу старшего, чтобы не мелочиться. Идешь на сверхсрочную.
— С этой рукой? — Алексей покачал культей в воздухе. — Ничего не забыли, товарищ капитан? А?
— Забудешь тут. Когда этой штукой у тебя перед самым носом размахивают…
— И что я должен сделать?
— Думать, — сказал Свиридов. — Тебе решать, сержант. Ты без пяти минут комиссованный, через пару дней тебя выпишут из госпиталя… Получишь документы и домой. Я тебя силком задерживать не стану… Тебе вообще есть, куда возвращаться?
«Дембель, скоро дембель». Мысль билась, словно залетевший в окно голубь. Металась по комнате, круша хрусталь и ломая крылья. Медленно пульсировала заживающая культя.
Жара. Грохот гусениц, мелкие камешки, летящие из‑под траков… Вспышка справа, вспышка слева.
«Леша, б…дь! Прикрой!» Алексей мотнул головой, отгоняя воспоминания.
Тень БМП — шки, надвигающаяся на руку…
Пришел дембель, откуда не ждали.
Алексей выпрямился. Подступило невыносимое желание взять капитана в охапку и выкинуть в окно. Пусть летит.
«Тебе есть, куда возвращаться?» Ур — род. А то он не знает.
Алексей усилием воли взял себя в руки.
— Где это будет происходить? Эта операция?
Капитан странно усмехнулся:
— Не «где», а «когда».
Молчание. Капитан аккуратно разлил остатки водки. За это время Алексей успел прикинуть варианты. Афган, Пакистан… что еще? Куба? Вьетнам? Ангола? Камбоджа?
«Не где, а когда».
— Ну, что, есть вопросы? — капитан терпеливо ждал.
«А какая, в сущности, разница, где это будет? Или когда. В любом случае я снова возвращаюсь за Реку».
Алексей медленно поднял здоровую — левую — руку и поскреб подбородок. Побриться бы. И еще…
Он повернулся к капитану:
— Полотенце брать?
* * *
За окнами госпиталя плыл Ташкент, цвели абрикосы и яблони. Шел тысяча девятьсот восьмидесятый год, год Олимпиады. За сотню километров отсюда, в дружественной Народной республике Афганистан советский Ограниченный Контингент мужественно выполнял свой интернациональный долг.
В палате читали стихи — не так, как обычно это делают — с надрывом и декламацией, а спокойно, устало. Словно прозу:
Парашюты рванулись,
И приняли вес,
Земля колыхнулась едва.
А внизу дивизии: «Эдельвейс» и «Мертвая голова».
Автоматы выли, как суки в мороз
Пистолеты били в упор
А мертвое солнце на стропах берез
Мешало вести разговор.
Алексей мотнул головой. Ерунда какая. Каждый день люди умирают. А я вдруг расклеился. Кто мне этот Викулов? Кто я Викулову?
В приоткрытую дверь Алексей видел железную койку, свисающие до пола трубки капельниц. Из таких плели украшения, они были особого, золотистого цвета. Шнур капельницы покачивался. Медсестра закрывала белой (нет, серой) простыней нечто бесформенное, почерневшее…
Он грешниц любил, а они его,
И грешником был он сам.
Но где ты святого найдешь одного,
Чтобы пошел в десант?
* * *
Свиридов кивнул Алексею: садись. В комнате гудел вентилятор, в углу под потолком зависла паутина. У раскрытого настежь окна две мухи гонялись друг за другом.
Видимо, мечтали догнать и зажить полноценной семейной жизнью. Весна.
Перед капитаном лежала толстая папка. Свиридов вытащил лист и взялся за химический карандаш.
— Ну, что решим? Кто ты у нас будешь?
— Буду? — не понял Алексей.
— Фамилию в контракт какую напишем? У нас тут секретность, если не забыл.
Алексей усмехнулся:
— Не забыл, товарищ капитан. — Он помедлил. — Пишите: Викулов Алексей Игоревич. Воинская специальность: механик — водитель.
«Он мертвый, я мертвый. Все правильно». Алексей откинулся на спинку стула, жалобно скрипнуло дерево.
В ушах вновь зазвучал голос из палаты:
И сказал Господь: эй, ключари!
Отворите ворота в Сад.
Даю приказ: от зари до зари
В Рай принимать десант.
Вот это правильный бог, подумал Алексей. Не то, что некоторые.
* * *
Алексей лег на койку, затолкал подушку под шею, чтобы получился валик — как делали дехкане в Пенджабской долине. И шея не устает, и голова не потеет. Вытянулся и чуть не застонал от наслаждения. Блаженство. Усталые ноги гудели, словно высоковольтные провода. Культя пульсировала.
Почему людей для заброски в Германию готовят возле Ташкента? — подумалось внезапно.
«Не знаю. Какая разница?»
Алексей закрыл глаза. Будем считать до ста. Или до тысячи. Надеюсь, овец у них хватит. Потому что у меня, мать вашу, после всех этих дел ночное сердцебиение (легкая аритмия, сказал врач, пройдет) и временами бессонница. И вообще, у меня дембель. Его надо бы отметить.
И еще за прапорщика надо проставиться…
Если я им буду, этим прапорщиком.
— Теперь ты «сверчок», — сказал Свиридов утром. — И будешь им до приказа о присвоении тебе звания «старший прапорщик». А получишь ты этот чудесный прыжок через звание за выполнение особо ответственного задания в тылу вероятного противника. За подвиг и проявленный героизм. Другими словами, официально мы все еще в составе «ограниченного контингента», идем в боевой поиск.
— А на самом деле?
— На самом деле — узнаешь. С готским у тебя как?
Алексей пожал плечами.
— Восстанавливаю навыки. И вообще — зачем он? Это же мертвый язык. Уже полторы тысячи лет мертвый. Я владею английским, немецким, понимаю французский. Пушту, таджикский — разговорный.
— Узнаешь. В свое время.
— Товарищ капитан!
— Я сказал: в свое время. Эх, его‑то у нас совсем в обрез, — капитан почесал подбородок. — Да, пока не забыл… подарочек тебе пришел. — Он пододвинул коробку к краю стола. На ней были наклеены зеленые марки — не советские точно. Алексей моргнул.
— Мне?
— Нет, летчику Николаю Гастелло! — съязвил Свиридов, но глаза капитана смеялись. — Бери и радуйся.
— Что это? — Алексей напрягся, ногти уцелевшей руки вонзились в ладонь. Боль отрезвляла.
— Увидишь.
* * *
— Сержант!
Импортный протез. Из хорошего светлого материала, точно повторяющего фактуру человеческой кожи. Садился на культю он гораздо лучше сделанной в ленинградском протезном цехе руки. Блевотного розово — желтого цвета. С инвентарным номером, надо же. Как табуретка. Алексея передернуло.
А у этого протеза были красивые пальцы. Почти как живые.
— Сержант! Спишь, что ли?
— А? — Алексей поднял голову и вспомнил, где находится. В крепости. Вчера были тренировки по рукопашке…
А сегодня перед ним стоял тощий очкарик — остроносый и круглоглазый. Рядом ухмылялся капитан.
— Знакомьтесь, — сказал Свиридов. — Юрий Святославович Варшавский, доктор от археологии… Алексей Викулов, из «голубых беретов». Десант. Разведрота.
Алексей кивнул «доктору от археологии».
— Приветствую, док!
Так в американских фильмах, что они смотрели на «видиках» в Афгане, военные называли ученых. Алексею, как знатоку языков, приходилось переводить на слух.
— На самом деле я всего — навсего «кин», — сказал археолог.
— Кто?
— Кандидат исторических наук. Докторская моя еще впереди. — Археолог посмотрел на бывшего сержанта с симпатией, протянул руку. — Юра, — представился он. — Будьте как дома. Тут у нас…
Он заметил протез Алексея, споткнулся, но закончил фразу:
— …без церемоний.
Его ладонь неловко зависла в воздухе.
Алексей продолжал смотреть на «академика», не мигая. Потом растянул губы в улыбке и поймал его ладонь в свою левую — молниеносным, почти незаметным движением. Крепко сжал. Археолог вздрогнул. Но тут же сообразил и улыбнулся:
— Ничего себе. Вот это скорость!
— Это трюк, — сказал капитан. — Не ведитесь, Юрий Святославович. Он отвлек ваше внимание и…
В следующее мгновение Алексей вынул из пальцев капитана сигарету, взмахнул ей. Дымный росчерк повис в воздухе. Через секунду сигарета вернулась на место.
— Хмм, — капитан затянулся, выпустил дым и посмотрел на Алексея с веселым прищуром. — А может, и не трюк.
* * *
— Готский‑то зачем?
— Настоящего древнегерманского языка никто не знает, — пояснил Юра Варшавский. — Не сохранилось письменных источников. Да и были ли они вообще? Так что задача усложняется. Вот рунное письмо разного периода мы находили во многих местах, в том числе в Германии и в Чехии, но восстановить звучание языка по написанному — это почти невыполнимая задача. Как, например, с языком критян.
— Кого?
— Жителей Крита. У нас множество письменных источников по Минойской цивилизации, но восстановить язык мы не можем. Не хватает материала. Так называемое линейное письмо уже расшифровано — хотя и спорно, на мой вкус, но все же это версия, заслуживающая внимания. А знаменитый Фестский диск до сих пор остается загадкой. Возможно, он записан на языке атлантов… — археолог вдруг смутился. — Это, конечно, только предположение…
— Кого — кого? — Алексей решил, что ослышался. — Атлантов?
— Атлантида. Знаете про такую?
Алексей покосился на Свиридова, тот закатил глаза — видимо, у археолога это была идея фикс.
— Немного, — сказал Алексей осторожно. — Я читал Александра Беляева. Как там? «Последний человек из Атлантиды».
Археолог отмахнулся.
— Чушь! Фантастика!
«А тут у нас, значит, сугубый реализм?»
— Так что там с Атлантидой?
— Атлантида, — археолог произнес это с благоговением. — Атлантида — это загадка! Только представьте, высокоразвитая цивилизация с огромным флотом, армией и собственной религией — просто исчезает. Не оставив на память о себе ничего, кроме пары упоминаний в мифах. Почему? Как так вышло, что великая империя рухнула в единый миг? Огромное государство — от Тибета до обеих Америк — перестало существовать?
— Может, ее просто не было, — негромко произнес Свиридов, однако археолог сделал вид, что не расслышал.
— И как вы это объясните? — спросил Алексей.
— Объясню что?
— Ну, почему Атлантида погибла?
Археолог помедлил, бросил быстрый взгляд на Свиридова (тот дипломатично промолчал) и вдруг скороговоркой произнес:
— Теория Льда.
— Это еще что такое?
— Один нацистский ученый придумал. Красиво… кхм. Просто красиво. Интересная теория. Вы, наверное, помните: Атлантида утонула?
— У Беляева было именно так. У Платона, насколько помню, тоже.
— Все было наоборот. Атлантиду погубил не Потоп, а — будете смеяться — отсутствие Потопа!
Алексей покрутил головой. Воротничок, по случаю дембеля накрахмаленный до твердости гранита и подшитый неуставными черными нитками, царапал шею. Что поделаешь… традиция!
— Чего? Теперь по — русски, пожалуйста. И… — Алексей помедлил, — в изложении для военных.
Свиридов хмыкнул. Выразительно.
— Попроще… хмм, попроще… — археолог заторопился. — Хорошо, давайте так. Примем как гипотезу, что Атлантида все‑таки существовала. Теперь представьте: огромная морская держава. Простирается от Тибета до Южной Америки.
А что самое главное для империи? Первое и необходимое условие ее существования?
Связь!
Тысячи кораблей связывали империю в единое целое. Тысячи кораблей бороздили мировой океан, разнося приказы из столицы и привозя обратно новости из провинций. Так когда‑то испанский король управлял Америкой.
И вот однажды вода ушла. Океан отступил, оставив голое дно. И это был конец. Империя развалилась. Потому что пути по суше — это трудно, дорого и опасно. Варвары и дикие звери, болота и бездорожье. А морского пути — быстрого и удобного — больше нет. Атлантида не утонула. Атлантида — всплыла.
— Ну, это… как бы… ненаучно, что ли?
Археолог поднял на него удивительно беззащитный взгляд истинного фанатика.
— Ненаучно? Кто сказал?
Свиридов тяжело вздохнул.
— Юрий Святославович, поймите меня правильно. Вы утверждаете, что нацистский ученый с бредовой, но красивой теорией был прав? Вполне серьезно? Так мы договоримся до того, что Доктор Смерть был, в сущности, милым парнем со склонностью к смелым экспериментам.
— Доктор Смерть? — Алексей не сразу понял.
— Йозеф Менгеле, — пояснил археолог. — Известная в мировой истории тварь. Но разговор же не о нем!
— Тогда о ком?
Археолог повернулся к Алексею, спросил строго, как на экзамене:
— Что тебе говорит дата: девятый год нашей эры?
Алексей моргнул. Что говорит?
— Ничего.
— Девятый год нашей эры. Примерно девять лет со дня рождения… кого? Правильно. Хотя историчность фигуры пока не доказана.
— Чья историчность?
Варшавский растерянно поморгал. Лыжная шапочка с белым бомбоном придавала ему еще большую трогательность.
— Как чья? — переспросил он. — Мы же собираемся… Ты разве не понял? Христа ты знаешь?
У Алексея по спине пробежал холодок.
— Лично?
Археолог окончательно смешался.
— Что ты! Я не это имел в виду. Хотя, лично… — он вдруг поднял голову, глаза стали блестящие и счастливые. — Лично, знаешь ли, было бы лучше всего.
* * *
…«Газик» с горем пополам завелся, дернулся несколько раз — Алексей коленом ощутил мощную вибрацию металла кабины — и вдруг поехал. Чудо, не иначе. Мимо проплыли высохшие акации, тень от них скользнула по головам десантников. Затем — каменные неровные столбы вдоль дороги. Старинная крепость, где они провели полтора месяца, уплывала в рассветной дымке.
Спецгруппа тряслась в кузове, увешанная рюкзаками и автоматами. Группа была готова.
Алексей поморщился. От недосыпа тонко ныло в животе.
Напротив сержанта уселся Долохов — казалось, случайно. Алексей, не мигая, посмотрел ему в глаза. Долохов, не выдержав, отвернулся.
«Крысеныш». Этот урод так просто не сдастся.
Пять дней назад, во время тренировок на учебной базе, случился конфликт. Долохов был из академии ГБ, недавний выпускник, с гонором — и почему‑то сразу невзлюбил бывшего десантника. Началось с мелких стычек и дошло до того, что они устроили рукопашную в развалинах, за садом. Несмотря на подготовку, Долохов огреб по полной. Умылся кровью в лучших традициях ВДВ. «Ты, псих!» — орал Долохов. Пацаны вовремя их растащили, а то бы Алексей убил придурка. У него в голове знакомо щелкнуло. Он снова был на войне, где врага уничтожают любыми доступными способами…
А теперь они вместе идут на это странное задание. Парадокс.
К четырем тридцати группа была на въезде в ущелье Сармыш.
— Ну, с богом, — Свиридов махнул рукой. Группа зашевелилась; люди поднялись, начали выпрыгивать из кузова, двинулись в ущелье — один за другим, цепочкой. В «линзу» было приказано не лезть, а накапливаться на подступах. Как для атаки.
Алексей замедлил шаг, остановился у огромного валуна, некогда отвалившегося от отвесной стены. Огляделся. Ущелье Сармыш — сай, о котором за последние дни десантник наслушался достаточно, пока особо не впечатляло. Наскальные рисунки нескольких эпох, разбившееся НЛО, чуть ли не путь в иные миры. Угу, угу. Пока вокруг — обычные камни. Много обычных камней.
Алексей поднялся выше и увидел рисунок. Бегущие быки — оранжевые силуэты, почти уничтоженные временем. Обычный мотив наскальной живописи.
А вот это интереснее. Силуэт человека, наподобие того, что рисуют дети в определенном возрасте — длинные руки, короткие ноги, тело черточка, и рядом — намного выше ростом — силуэт человека… в космическом скафандре. Или с огромной головой, в которой — Алексей моргнул — было две головы поменьше. Однако. Инопланетянин в шлеме? Черт его знает. Но почему двухголовый?
— Сержант, не оставать! — раздался окрик. Алексей бросил последний взгляд на двухголового. «Бывай, звездный гость. Удачной дороги».
Свиридов внимательно оглядел археолога, словно хотел получше запомнить на прощание.
— Ни пуха, ни пера, Юрий Святославович, — сказал капитан наконец. — Надеюсь на вас.
Археолог кивнул. Лицо бледное и истовое, как на иконах. Лоб в испарине. Археолог даже начал слегка заикаться.
— К — к черту! — он притопнул, попрыгал на месте. Брякнул котелок, закрепленный к рюкзаку. — П — пошли мы, Илья Ильич.
И вдруг… протянул руку. Черт, подумал Алексей. Повисла мертвая тишина. Вся группа теперь смотрела на них.
Черт, черт, черт. «Я же предупреждал его». Ни черта эти гражданские не соображают.
Лица десантников вытянулись. Многие отслужили свое за Рекой, поэтому приметы не были для них пустым звуком. Археолог оглянулся и вдруг понял. Сник.
— Илья Ильич… я…
Свиридов похлопал его по плечу. Лицо капитана осталось бесстрастным.
— Не волнуйтесь. Товарищ сержант о вас позаботится, Юрий Святославович. Верно, сержант?
Алексей кивнул — медленно. Хотя мечталось врезать очкарику со всей дури. Предупреждал же! Самая дурная примета — руки пожимать перед выходом на «зеленку».
Варшавский крякнул, почесал переносицу. Глаза за толстыми стеклами были беззащитные.
— Мда. Вы уж позаботьтесь, Алексей, я вас очень прошу. Иначе я и двух часов там не протяну.
— Договорились, — кивнул сержант. А что еще сказать? Не убивать же дурака, в самом деле?
* * *
Алексей шагнул из светящегося голубым светом проема, пошатнулся. Твою ж налево! Мир вокруг поплыл. Алексей упал на колени, чувствуя себя как после сильнейшего удара в голову, отхаркнулся горьким. Перекатился в сторону, чтобы освободить место следующему…
Ничего. Бывало и хуже.
За его спиной из «линзы» выпал следующий десантник, застонал. Затем — еще один…
Алексей поднялся, огляделся. Вдохнул. Кислорода здесь столько, что чувствуешь себя пьяным. Огромный лес — до горизонта, никаких следов человека.
— Когда появятся звезды, определим координаты, — сказал археолог. Он был бледен, но в целом держался неплохо. Его даже не стошнило.
Алексей почесал лоб протезом.
— А какой сейчас год? Созвездия же смещаются…
Археолог открыл рот, заморгал. Закрыл. Глаза за толстыми стеклами казались огромными и беззащитными.
— Очкарик, — произнес Алексей с легким презрением. — Об этом ты не подумал, да? Четырехглазик хренов.
Детское обзывательство, но здесь оно вдруг стало уместным. И очень точным.
Археолог смутился.
— Седьмой год н — нашей эры… плюс — минус восемнадцать месяцев.
— Пошел ты… со своей точностью «плюс — минус», Юра. Где мы? Это ты можешь сказать?
— В Германии. Вернее: Римская империя, провинция Германия. Римлян здесь скинут через два года…
* * *
Пламя взвивалось и вспыхивало синим. Пшш. Пшш. Жадное ночное пламя. Алексей поморщился от выстрелившего в него крошечного уголька. Шашлык должен вот — вот доспеть…
Конечно, шашлык не по — карски. Но тут уж, извините, не до жиру. Где посреди леса возьмешь ребрышки молодого барашка? Олень попался не слишком старый — спасибо и на том. Тварь вкусная, но жилистая. Да и мариновать особо нечем. Алексей покачал головой. Кефиром бы… эх, где ж его взять?
Вдалеке выли волки. Алексей переложил поближе «калаш», для надежности.
— Пусть я погиб, пусть я погиб… — пел археолог.
Над поляной висела луна — слегка откушенная с левого края — и мириады звезд. То есть, действительно, до фига звезд. Никогда столько не видел, подумал Алексей. Словно окунули с головой в бесконечность.
Орлы шестого легиона
Все так же реют в небесах.
Гитара в руках археолога расстроено звякнула, и Алексей понял вдруг, что тот совсем молод. Ему не намного больше, чем мне. Лет двадцать пять — двадцать семь. Ну, ладно — тридцать. Свиридову, оставшемуся в будущем, около сорока. По местным меркам: старик.
Алексей поднялся, выпрямился, пошел в темноту. В звездную ночь. Трава шуршала, не желая расступаться.
Пусть я погиб, пусть я погиб, — стучало в висках.
— …под Кандагаром, — закончил фразу Алексей. Почему‑то перед глазами стоял сожженный в бою с «душками» Викулов — не человек, сверток в бинтах, пропитанных желтой мазью, неподвижно лежащий на серой койке…
Мертвый.
«Возможно, и я умер. Там, в Афгане. За Рекой. А это все мне чудится.
Вся эта чертова древняя Германия».
От леса вокруг — огромного, первозданного, нетронутого — кружилась голова. Деревьям по тысяче лет и больше. Великаны.
— Викулов, ты куда? — окликнул его Алексеенко, командир группы вместо оставшегося в будущем Свиридова.
— Так отлить, тарищ капитан.
— Хорошо. Далеко не отходить…
Когда Алексей вернулся к костру, разговор был в самом разгаре.
— От слова «калина»? — Долохов почесал лоб. — Я думал, он как бы сказать… сплетён, что ли… из калиновых веток.
— На самом деле Калинов мост — это не от слова «калина», — пояснил археолог свысока. — Никакой связи с калиновым кустом тут нет и никогда не было. Калинов — это слово «калить», «накалять», «раскаленный». В некоторых вариантах сказки упоминается, что это мост из меди. То есть, Калинов мост — это раскаленный добела мост через огненную реку…
— Которая, как понимаю, никакого отношения к ягоде смородине не имеет, — съязвил Долохов.
— Все‑таки кое‑что помните? — археолог поправил очки. — Но вообще: верно. Название реки «Смородина» — это от слова «смород», «смрад». Воняет эта река, как… хмм… сильно воняет. Скорее всего, это горит смола. Или, возможно, нефть.
— Огненная река?
— Точно. И река эта лежит как граница между миром живых и миром мертвых. Вообще, в мифах многих народов встречается эта метафора — река и мост. И еще страж моста. У греков переправу сторожит пес Цербер. Трехголовый и жуткий. В скандинавской мифологии ту же роль исполняет пес Гарм — что интересно, с четырьмя головами. Видимо, чем больше голов, тем лучше. Гарм охраняет врата Хельхейма, мира мертвых.
— А зачем вообще охранять мир мертвых?
— Чтобы ты и там консервы не спер! — донесся из темноты насмешливый голос. — Вон и в мире мертвых о тебе наслышаны… псов ставят.
— Заткни фонтан! — огрызнулся Долохов. — А серьезно: на фига? Кто к мертвецам по доброй воле полезет?
— Хороший вопрос. На самом деле задача адских псов Цербера и Гарма другая. Они охраняют не вход, они охраняют — выход.
Долохов присвистнул.
— Зачем?
— Чтобы мертвые оставались там, где им и положено находиться.
Молчание. Археолог задумчиво пошевелил угли веткой, танец пламени отражался в стеклах очков.
— И только птицы летают себе свободно туда и обратно, — сказал он негромко. — Над черными болотами Коцита.
— Верно, — Алексей разомкнул губы. — Птицам можно.
Археолог вздрогнул, повернулся.
— Ничего смешного, Леша. Птицам действительно можно. Есть даже особые птицы, древние греки называли их «психопомпы». Переносчики душ. Обычно это воробьи… ну, или, скажем, голуби.
— Ясно, — Алексей посмотрел на часы, хотя толку от них здесь было пока немного. — Вообще, поздно уже, Юра.
— Спать? — археолог зевнул.
— Ага. Я бы придавил пару часиков.
— Отбой! — приказал Алексеенко, словно услышав его слова. — Долохов, Викулов — в караул.
* * *
Алексей остановил бег и поднял голову. Над ним плыло низкое небо, забитое облаками плотно, словно ватой под Новый год. Небо здесь было… другим. Алексей помедлил, проверил, как затянуты ремни протеза.
Другое небо. Чужое небо.
— Пусть я убит, пусть я убит под Ершалаимом, — негромко пропел он. Выпрямился, поправил автомат — плечо уже изрядно оттянуло, и снова перешел на равномерный бег. Алексей спускался вниз, к берегу реки. Там надо будет перейти на другую сторону, а, может быть, даже пройти вверх по течению, чтобы сбить погоню со следа.
Он оглянулся, но бородатых людей с копьями нигде не было видно.
— Пусть кровь моя досталась псам, — снова затянул Алексей. Монотонный напев помогал держать темп.
Орлы шестого легиона,
Орлы шестого легиона
Все так же реют в небесах.
Группы больше не существовало. Примета сработала, черт ее побери, подумал Алексей. Приметы всегда срабатывают…
Кто бы это ни сделал, сделано было чертовски быстро — и одним холодным оружием. Часовые умерли первыми. Археолог Юра застыл, открыв рот. Алексей снова увидел его детское лицо. Из груди археолога торчало огромное древнее копье. Германцы, голые по пояс, длинноволосые, бродили по лагерю и добивали уцелевших. Вот они какие, древние варвары, носители мертвого уже полторы тысячи лет языка…
Алексей видел, как Долохова привязали к дереву и древняя старуха перерезала выпускнику академии ГБ глотку. Кровь потоком хлынула в деревянную чашу. Да, к такому на кафедре «истории КПСС» не готовили, пожалуй.
Судя по знакомым словам (вот и пригодился готский), группе не посчастливилось забрести в священную для местных рощу. Алексей, которого странное чувство разбудило посреди ночи и погнало в темноту, молча наблюдал за происходящим. Из всей группы в живых остался только он. Насмешка судьбы. Однорукий псих с проблемами адаптации в коллективе остался без коллектива. Ха — ха. Ха — ха.
Алексей облизнул пересохшие, растрескавшиеся губы и захрипел:
Орлы шестого легиона,
Орлы шестого легиона
Все так же реют в небесах.
Дурацкая песня привязалась. Он спустился к реке, зашел в воду по колено. Наклонился и зачерпнул ладонью. С жадностью, захлебываясь, выпил. Еще. Утолив жажду, умыл лицо, достал фляжку и набрал воды про запас. Что ж… придется начинать жить здесь, в начале тысячелетия.
Только сначала надо разобраться с теми, ночными налетчиками. Я псих? Пожалуй, что и псих. Но псих с проблемами адаптации в коллективе отомстит за свой коллектив. Так будет… забавней.
А еще забавней будет выполнить задачу, перед этим коллективом поставленную.
Алексей выпрямился. Пора идти.
Полоска по горизонту наполнилась кровью, словно руки полощешь после разделки оленьей туши. Вдалеке занимался рассвет. Утро.
Глава 1. Разговоры с живыми
9 год н. э., Римская империя, провинция Германия
Орел реет над легионом.
Первые лучи рассвета отражаются от золотой птицы, бегут по главной площади лагеря. Над серыми рядами палаток встает солнце…
Неровное и красноватое, словно потемневший от времени медный чан.
Часовой на башенке дернулся и открыл глаза. Сердце бешено стучало. Уфф, не спать! Наказание за сон на посту — смерть. Может, в мирное время и в другом легионе он отделался бы плетьми, но здесь, в проклятой богами варварской Германии…
Часовой сглотнул. Лучше об этом не думать. Префект лагеря Эггин — суровый и жесткий солдат, он ошибок не прощает. Вот новый командир легиона — другое дело. Он губить хорошего воина не станет… наверное.
Часовой поежился. Поле за пределами лагеря, вытоптанное тысячами ног легионеров, лежало пустое и мертвое, как равнины загробного мира. Тьфу, тьфу, тьфу, как бы не накаркать. Вдалеке темнел лес — огромная масса колышущейся зелени. Некоторые деревья, несмотря на теплую для начала осени погоду, успели пожелтеть. Готовятся к зиме, что ли? Германия, что тут скажешь.
Варварская Германия.
Часовой повел плечами. Два года как легионы стоят за Рением. Казалось, все спокойно, варвары утихомирились. Если бы! Прежний легат водил дела с германцами, «гемами». Хороший был легат, ничего не скажешь… но слишком верил варварам. Теперь у Семнадцатого легиона новый командир, к тому же — родной брат прежнего. Гемы и его хотели убить, подослали двадцать человек, а легат их в капусту нашинковал.
Хорошая штука капуста, кстати.
Вкусная.
Ходят слухи, Гай Деметрий Целест раньше выступал на арене. Сражался с лучшими гладиаторами Рима. Но затем Август отправил его в Германию, на место прежнего легата.
Принцепс сказал: если умеешь драться, делай это там, где это пойдет на пользу Риму…
Ну, или где варваров много.
Теперь этот легат — гладиатор здесь.
Светает. Серые ряды палаток затапливает розово — золотистым сиянием. День солдата начинается с первыми лучами солнца. По главной улице лагеря шествует центурион. Его легко узнать по гребню на шлеме — отчего издалека голова кажется намного больше человеческой.
Правда, мозгов там маловато, ну, так это ж центурион! Часовой хмыкнул. Центурион, словно услышав его мысли, поднял взгляд. Часовой поспешно отвернулся — сделав вид, что рассматривает дорогу, ведущую к лесу. Обычно по ней ездили за дровами для легионных пекарен, кузен и лагерных костров…
Сейчас дорога была пуста.
Ветер донес запах дыма и пригоревшей пшенки. Часовой сглотнул слюну. Сейчас бы каши — парящей, горячей как вулкан, с медом и сыром. И заправить оливковым маслом. Кра — со — та. «О чем я думаю?!» Часовой заставил себя выпрямиться. Так, не спать, не спать! Скоро смена… скоро, уже скоро… стук копыт… смена… смена…
Смена.
— Заснул! — его толкнули в плечо. — Эй!
Часовой вскинулся. Рядом — напарник. Улыбается кривым от шрама ртом.
— Смотри!
Они наблюдали, как суетится тессерарий, караульный офицер; как открываются главные ворота, чтобы выпустить из лагеря вереницу всадников.
Копыта стучат по дороге. Всадники пускают коней рысью. Судя по пурпурным плащам, всадники — это преторианцы из личной когорты Августа. Здесь, в Германии, они приставлены только к самым важным «шишкам».
На одном из всадников — белый плащ. Этот человек — точно не преторианец.
Через некоторое время всадники исчезают за поворотом.
Туман плывет над дорогой, изгибается бесшумными, тягучими волнами. Опускается на лагерь, на лес вокруг, на дремлющую гладь реки…
— Кто это был? В белом? — спросил часовой. Напарник лениво почесал толстую мозоль на подбородке — от ремешка шлема. У каждого из легионеров есть такая отметина. Это еще вернее, чем татуировка «ЛЕГИОН~НАША~РОДИНА», выдает «мула».
— Не узнал, что ли? Это же новый легат!
— Я думал, он малость повыше, — признался часовой. — Как думаешь, зачем он здесь?
Напарник пожал плечами.
— Хмм. Мстить, небось, приехал. Кто ж их знает, этих патрициев? Вот ты бы что сделал, если бы гемы у тебя брата убили?
Часовой задумался.
— Женился бы на его вдове, — сказал наконец. — Красивая баба.
— Вот! А он тут гемов убивает. Странные они люди, эти патриции. Кстати, о странном. Перекинемся в «дюжину»?
Дуодецим — одна из любимых игр в легионе. Популярней только обычные кости.
Часовой почесал локоть, шею. Проклятые германские комары!
— Ну… можно.
— Правда, ты мне с прошлого раза четыре асса должен, — напомнил напарник.
Сын собаки! Часовой от возмущения проснулся окончательно.
— Иди ты к воронам! Все я тебе отдал!
— Это ты сейчас так говоришь… кодекс.
— Сам ты кодекс! Ну, отдал… или отдам. Какая разница? Все равно они уже твои.
Против такой логики напарнику возразить было нечего. Он поболтал в воздухе деревянным стаканчиком для «костей» — защелкало, застучало. Приятный звук — особенно для азартных ушей…
— Ну что решил? Сыграем?
Молчание.
— Давай, — обреченно махнул рукой часовой. — Эх! Была, не была… отыграюсь!
* * *
Негромко стучат копыта.
Я слышу крики и музыку. Жеребец поводит ушами, фыркает.
— Тихо, мальчик, тихо, — я похлопываю его по мокрой шее. — Мы уже приехали.
В кончики пальцев отдается каждый удар огромного лошадиного сердца.
У входа в дом стоят, вытянувшись по струнке, рослые преторианцы. Я киваю, спешиваюсь, бросаю поводья мальчишке — рабу. Прохожу в вестибул, затем — в атриум. Зажмуриваюсь. Ослепляющий после вечерних сумерек свет. Запахи горящего воска, жареного мяса, рыбного соуса и разгоряченных тел…
От перезвона кимвал, пения флейт, стона кифар голова идет кругом.
Атриум полон народа. Полуобнаженные рабыни разносят напитки, рабы бегают с блюдами, гости в гражданских тогах беседуют с гостями в военных туниках. Римляне традиционно держатся подальше от германцев. Красные отсветы вина в стеклянных чашах режут глаза…
Гааа. Гааа. Гул вокруг, плотный, словно из войлока.
Я пробираюсь сквозь толпу.
На меня тут же наскакивает кто‑то смутно знакомый. Римлянин.
— Легат, вы здесь! — жмем запястья, словно давние друзья.
— Рад видеть, — говорю я сдержанно. «Кто это, Дит побери?».
Через голову собеседника я замечаю в толпе коренастого человека в военной одежде. Солдатская выправка. Волосы точно присыпаны солью. На затылке — толстый шрам. Это Нумоний Вала, командир Восемнадцатого легиона. Он поворачивается, и мы учтиво киваем друг другу.
Нумоний Вала приближается. Суровым солдатским шагом.
— Легат, — говорит он.
— Легат, — говорю я.
— Слышал, ты убиваешь гемов, Гай? — Нумоний внешне невозмутим, но в глубине его темных глаз тлеет улыбка.
— Слухи… хмм, сильно преувеличены.
— Правда? Неужели вы хотите меня разочаровать, легат? — спрашивает Нумоний насмешливо.
— Конечно, хочу, — говорю я. — Если вы не против, легат.
Нумоний Вала смеется — я вижу его неровные зубы.
Германцы как‑то странно косятся в нашу сторону. С уважением и с опаской.
— Так ты убил тех гемов? — уточняет Нумоний.
Отрицать бессмысленно.
— Да.
— Сколько их было на самом деле?
— Шестеро. Против двоих — со мной был один из моих центурионов.
— Ты честен, — Нумоний удивлен. — Ты мог бы увеличить число убитых германцев до сорока или до сотни — с легкостью. И тебе бы поверили — потому что хотят верить. Но ты этого не делаешь. Почему?
Пауза.
— Я не хочу быть героем.
Нумоний Вала смотрит на меня с прищуром — как на породистого жеребца, что из принципа не желает размножаться. Хотя кобылы уже приведены и жаждут…
— Ты когда‑нибудь плавал на корабле, Гай?
— У меня брат — командир триремы.
Словно это важно — кто мой брат.
— Его же убили?
Я сжимаю зубы.
— Другой брат, младший. Квинт. Он служит на флоте.
— А! — говорит Нумоний Вала. — Прости, Гай. Знаешь, что я думаю по этому поводу? — он кивает в сторону веселящихся германцев.
— Я слушаю.
— Эти варвары, гемы… — легат делает паузу. — Ты когда‑нибудь видел, как ловят акул? Чтобы поймать акулу, ее нужно приманить — опустить в море кусок мяса, и чтобы кровь пошла по воде.
Акулы всегда приходят на запах крови.
А теперь смотри, что у нас происходит с германцами…
Мы кормим акул сырым мясом — голыми руками. И надеемся при этом сохранить пальцы целыми.
Они не слижут кровь у нас с пальцев. Нет, Гай. Это не дворовые собаки. И не кошки. И даже не рабы. И уж точно не союзники. Это — убийцы.
Они появляются из темноты — бесшумные, быстрые. Убивают и уходят на глубину. А вода окрашивается кровью.
Что, в свою очередь, приманивает других акул.
Нумоний Вала некоторое время молчит, затем продолжает:
— Какой союз может быть у человека и акулы?
— Гастрономический, — говорю я.
Легат Восемнадцатого смеется.
— Тише! — окликают нас. — Он идет.
* * *
У каждого праздника есть план.
Каждый человек на своем месте: кто‑то гость, кто‑то раб, подающий фрукты или полотенце, кто‑то обнаженная нумидийская танцовщица с лиловой от света факелов грудью…
Кто‑то хозяин.
Тишина. Преторианцы мощными телами раздвигают толпу. Голоса стихают, музыки больше нет. Ждем.
Наконец, он появляется. Белоснежная тога с широкой пурпурной полосой. Лицо блестит, волосы уложены по последней римской моде. Кажется, я даже чувствую запах раскаленных щипцов для завивки…
Публий Квинтилий Вар, правитель беспокойной провинции Великая Германия, обводит толпу взглядом.
Молчание.
Губы пропретора растягиваются в улыбку. Он поднимает руку:
— В консульство Мессалы Волеза и Цинны Великого наш повелитель, первый сенатор, Отец Отечества и император Цезарь Август вынес на решение сената вопрос о создании новой провинции — Германии. Великой Германии! Которой ныне управляю от имени принцепса я, скромный и недостойный Публий Квинтилий Вар.
Аплодисменты. Если бы гости могли, они бы топали ногами…
Бух, бух, бух.
О, уже топают.
Болтун. Будь у меня выбор, я бы послушал флейтистов. Или посмотрел на танцовщиц.
— Рим пришел на эти земли навсегда. Великой Германии процветать! Да будет на то воля богов, Квирина, Юпитера и Весты, а так же, — Вар делает почтительный жест в сторону бронзовой статуи, глядящей на нас из глубины кабинета, — самого Божественного Августа!
Аплодисменты. Возгласы одобрения.
Вар, несмотря на бодрость слов, выглядит осунувшимся и больным. Насколько я знаю, пропретор больше не пьет вина. Под видом дара Бахуса ему подают воду из целебного источника, подкрашенную отваром шиповника…
Я перевожу взгляд на римлян — в основном они довольно чахлые. Климат Германии не щадит моих соотечественников.
Напротив — германцы выглядят настолько здоровыми, словно собираются жить вечно…
Сволочи.
Раб подносит Вару стеклянную чашу с «вином». Вар выплескивает немного жидкости на пол и поднимает чашу над головой:
— Пью за это!
Все пьют.
— Но не будем о серьезном! — продолжает Вар. — Сегодня первый день Патрицианских Игр, так же называемых Театральными. Значит, вечер должен закончиться хорошим представлением!
Я киваю. Посмотрим, что нам приготовил Квинтилий Вар.
— А вот и мой сюрприз, — говорит он.
— Расступитесь! Дайте пространство! — Преторианцы раздвигают толпу. — Расступитесь! Расступитесь!
Квинтилий Вар улыбается. Я смотрю, затем пожимаю плечами.
Интересное, однако, у пропретора Германии представление о театре…
* * *
Когда‑то бог — кузнец Вулкан — или, как его называют греки, Гефест — сделал людей из глины. Хорошо сделал, с чувством, с толком, с расстановкой. Мастер. Но чего‑то не хватало…
Люди были красивы, но мертвы.
Прекрасные оболочки без души.
И тогда титан по имени Прометей похитил огонь, чтобы вдохнуть в людей жизнь…
И был наказан. Отец богов Юпитер приказал приковать смутьяна к скале, и каждый день прилетал орел — клевать печень Прометея. А утром она снова отрастала. Как новенькая. Чтобы продлились эти мучения целую вечность. Так задумал великий Юпитер…
Но самое главное: со скалы открывался прекрасный вид на все человечество.
Чтобы наивный, прекраснодушный, мечтательный Прометей наконец понял, что натворил.
* * *
В круг, освобожденный преторианцами, входит темнокожий человек в синем одеянии и высоком колпаке — вроде тех, что носят вольноотпущенники. На ткань нашиты серебряные монеты, кусочки цветного стекла и ракушки.
Человек поднимает руки — торжественно.
Германцы на мгновение затихают, затем начинают вопить еще громче. Гаа, гаа!
Вот что выбрал для нас Публий Квинтилий Вар…
Черного человека с грацией заклинателя змей.
Помощник фокусника — тощий, высокий, лица не видно в тени капюшона — выносит подставку и водружает на нее деревянный цилиндр. Затем произносит неожиданно звучным, летящим голосом:
— Слушайте, слушайте, слушайте! Великий маг и волшебник Острофаум прибыл в Германию из Египта! Секрет своей магии он узнал в Африке! В самом ее сердце, таинственном царстве огромных обезьян и диких слонов!
Острофаум? Где я слышал это имя?
— Откройте глаза!
Я открываю.
— Приготовьтесь узреть чудо!
Я готовлюсь.
— Великий маг Острофаум… ЗДЕСЬ!!
Спустя мгновение я вспоминаю — и едва не начинаю хохотать в голос. Ализон, рыночный день. Прекрасный сюрприз. Великий фокусник, приехавший с центральной площади.
— Этот трюк никто не может повторить! — кричит зазывала.
Конечно, конечно. Потому что никто и не пробовал.
— Настоящая магия! — гремит зазывала. — Настоящая!
Как неосторожно. По приказу Августа по всем землям Рима преследуют колдунов. Без особого, правда, успеха.
Что галльские друиды, что ярмарочные фокусники до сих пор могут творить чудеса в любой деревне. И люди прячут их от римских властей…
Впрочем, власти тоже не особо усердствуют.
Колдуны и маги нужны всегда.
И уж тем более нужны фокусники. Иначе кто будет развлекать бедных необразованных диких германцев?
— То, что вы увидите, повергнет вас в трепет! — повышает голос зазывала. — Приготовьтесь увидеть незабываемое! Необычайное! Жуткое!
Фокусник поднимает руки. Глаза его закрыты, лицо спокойное. Свет факелов причудливо переливается по угольно — черной коже — словно вода, подкрашенная закатом.
— Сейчас! — кричит зазывала.
Гул стихает. Германцы замерли.
Я слышу только дыхание.
Фокусник открывает глаза…
* * *
Тот, кто долго идет по следу тигра, сам становится тигром. Сопереживает ему, сочувствует его утратам, радуется его радостям. Начинает его понимать…
Я понимаю убийцу брата.
Я почти люблю его.
Я — тигр. И я тот, кто убьет тигра.
* * *
На мгновение мне чудится, что у меня вместо правой кисти — пустота. Ничто. На миг мне показалось, что я — тот высокий гем, что замешан в смерти моего брата…
Однорукий германец, которого ищут по всей Германии и никак не могут найти.
Найдут ли? Германия большая. Недаром название провинции звучит как Germania Magna — Великая. Правда, название не имеет отношения ни к размерам провинции, ни к доблести ее обитателей. А только к моменту основания. Это был год, когда консулом стал Цинна Великий.
Правда, прозвище Великий — Магн, Цинна получил не сам, а унаследовал от деда, знаменитого Помпея.
Как легко в наше время обрести величие!
Просто берешь нужного деда и…
Мне становится скучно.
Когда фокусник проделывает трюк с веревкой, с которой исчезают узлы, меня окликают:
— Гай?
Вибрирующий низкий голос. Я поворачиваю голову. Это Арминий, царь херусков. Рослый, красивый и очень спокойный. Белые волосы собраны в пучок на затылке. Я улыбаюсь. Всегда приятно видеть умного человека, особенно если этот умный человек — твой друг.
— Здравствуй, римлянин, — говорит Арминий, улыбаясь.
— Здравствуй, варвар.
Арминий протягивает мне чашу с вином. Выплескивает из своей пару капель на землю и говорит:
— На добро тебе! — как принято в Риме. Похоже, скоро варвары будут знать наши обычаи лучше нас самих.
— Живи, — отвечаю традиционно. Вино льется внутрь; тягучей прохладной рекой заполняет желудок. Хорошо.
— Философы ошибаются, считая, что человек меняется в течение жизни, — говорит Арминий спустя пару чаш. — Ерунда. Полная чушь. Мы упорно остаемся такими, какими были — это и называется «воспитание».
— Воспитание? Если бы… Упорно следовать всю жизнь одним и тем же заблуждениям — это называется «характер», — говорю я, — а не воспитание.
Мне нельзя пить — я начинаю философствовать.
Арминий усмехается.
— Играешь словами, Гай?
— Разве я не прав, дорогой варвар?
— Пожалуй, — германец смеется. — И ты решил собственным примером доказать это умозаключение?
— А что делать? Мужчинам и легатам — в отличие от философов и женщин — приходится нести ответственность за свои слова.
Арминий хмыкает.
— Другими словами… — Внезапно в дверном проеме мелькает тонкая девичья фигура. И — я забываю, о чем хотел сказать.
— Гай?
— Прости, царь, — я смотрю на Арминия. — Мне нужно идти.
— Ответственность? — спрашивает он серьезно. Голубые глаза смотрят на меня в упор.
— Она самая.
* * *
Мы встречаемся в галерее.
И стоим, как два идиота…
Думаем.
Юная германка смотрит на меня. Я смотрю на нее. И, кажется, пора нам что‑то делать с этим молчанием…
Туснельда поворачивается, идет. Я следом за ней — глядя, как движутся ее ноги под платьем. Толстая светлая коса спускается до пояса.
Она подходит к алтарю, посвященному ларам. Алтарь вот — вот рухнет под тяжестью золота.
Туснельда поворачивается ко мне:
— Ты веришь в духов, римлянин?
Серые глаза кажутся темными, как мрак загробного мира.
— Я верю в богов, — говорю я хрипло. — Нет, не верю.
Я делаю шаг, наклоняюсь…
В следующее мгновение мои губы касаются ее губ. Все вокруг исчезает. Это как вспышка молнии. Как извержение вулкана. Как…
«Ты слишком импульсивный, Гай», сказал бы Луций.
…как удар в голову деревянным мечом в учебной схватке. Тишина. Гром. Земля и небо меняются местами, в ушах — звон, мир кружится и теряет очертания…
Красота — это смерть. Желание женщины — бесстрашие перед лицом смерти.
Я чувствую, как плывет подо мной земля…
Я медленно открываю глаза. Все вокруг становится четким и ярким… Живым.
Я — родился.
Пока мужчина рядом с женщиной, он бессмертен.
— Я верю в богинь, — говорю я.
— Идем, — говорит Туснельда.
Мы проходим через галерею и оказываемся в малом перистиле. Внутренний сад дома Вара. Обычно здесь гуляют заложницы — дочери знатных германцев. Сейчас тут пусто.
Туснельда — дочь Сегеста, царя хавков. Германка и заложница. Обычная практика. Если отец Туснельды восстанет против римской власти, девушку казнят…
И даже я, легат, один из высших военачальников здесь, в Германии, не смогу этому помешать.
Это отрезвляет.
Мы стоим рядом. Над нашими головами, в черном проеме над садом — сияют звезды. Я нахожу глазами: вот Венера, голубая звезда, звезда богини Любви. Красный жестокий Марс, бог воинов…
Что бы он сделал на моем месте? Вырвал убийце брата кишки?!
Нежные ладони ложатся на мои щеки. Мою голову берут и опускают обратно, к земле.
Туснельда смотрит на меня в упор. Глаза — глубокие, как бездна.
— Я здесь, — говорит она. Я смотрю, как шевелятся ее губы. — Здесь, римлянин. А не там, на небе.
— Я тоже здесь. — Беру ее ладонь — она прохладная. Легонько касаюсь губами запястья.
— Оставь… перестать? — она отдергивает руку. Туснельда неплохо говорит на латыни, но только когда не волнуется. — Перестань… месть. Не… думать месть, Гай. Пожалуйста.
…Мой умный старший брат. Мой мертвый старший брат.
Я говорю:
— Не думай.
— Вос ист?
— Правильней сказать «не думай о мести». Я понимаю.
Ее улыбка вспыхивает, как падающая звезда. Мгновенно и ослепительно, точно бликующая под солнцем гладь моря. Лодка сонно покачивается под ногами. Штиль. Розовая полоса по горизонту…
— Но ты думаешь? — спрашивает германка.
Некоторое время я молчу.
«Ты слишком импульсивный, Гай».
— Да. Думаю.
Протягиваю руку и касаюсь пальцами ее щеки.
Иногда мне трудно понять, зачем вообще нужны слова. Мы больше понимаем без слов, одними движениями… наше тело предает нас.
Вот он, вечный наш предатель.
Мы говорим о мести или о долге, а наши тела говорят о слиянии…
Слиянии тел.
«Все критяне — лжецы».
Все?
— Что ты знаешь о моем брате? — слова срываются прежде, чем я успеваю их перехватить.
Глаза Туснельды гаснут.
— Ты глупый, римлянин, — говорит она. — Ты все испортить. Ты — не здесь.
Поворачивается и уходит.
Я стою, неловко опустив руки. Ладони, что впитали тепло ее тела, горят огнем.
* * *
Когда я возвращаюсь, представление в самом разгаре.
Красные, желтые, зеленые мячики летят по кругу, мелькают перед глазами. Германцы радуются. Фокусник демонстрирует ловкость рук.
Африканец.
Почему боги создали таких черных людей? У них что, белая глина закончилась?
— Как тебе представление, Гай? — спрашивает Арминий.
В полутьме лицо фокусника выглядит жутковато. Половина золотая, половина черная. Пламя факелов колеблется, по коже африканца бегут огненные волны…
— Замечательно.
Стоило бы сказать: полная ерунда, но…
— Замечательно, — я поворачиваюсь к Арминию. — Пропретору стоило бы взять этого… — я киваю в сторону фокусника, — и сделать послом в землях за Рением.
Меня прерывает хохот германцев.
Фокусник — посол? Варвары были бы рады. Я смотрю на веселящихся германцев. Простодушие этих ребят завораживает. Но смеются‑то они над фокусником, а кинжал в спину воткнут нам.
Отличные ребята, в сущности.
— Бросьте, легат! — к нам подходит еще один римлянин. Лет тридцати, очень белокожий, с каштановыми волосами. — Представление — кошмарный ужас и безвкусица!
Это Гортензий Мамурра по прозвищу Стручок, командир Девятнадцатого легиона. На сегодня это уже третий легат — не много ли для одного вечера?
Арминий улыбается. С едва заметным огоньком в глазах.
— Даже так?
Стручок важно кивает:
— Несомненно! Вы заметили, насколько чудовищно поставлено представление…
— А мне нравится, — говорит Арминий. — Видимо, у меня плохой вкус, легат. Простите. Но мне нравится фокусник. Ничего не могу с собой поделать. Это, наверное, потому что я варвар, да?
Лицо Гортензия мгновенно становится кислым. Стручок складывает тонкие губы, еще раз — словно не может отыскать для них нужного положения…
— Увидимся, легат, — говорю я.
* * *
Фокусы — развлечение для толпы. Для охлоса. Для варваров.
Глотание зажженного факела. Исчезновение монеты. Распутывание цепей и веревок…
Свет факелов падает на мозаичный пол. Изгибается. Плывет.
Германцы кричат и хлопают в ладоши.
…Однорукого убийцу искали по всей Германии, но не нашли. И пока варвар на свободе, тот, кто заманил моего брата в ловушку — остается безнаказанным.
Луций встречался в лесной деревеньке с неким германцем. И — умер. Его людей перебили всех до единого. Но у меня нет ключа к этой загадке. Я не знаю, что делать дальше…
— Я могу помочь, — говорит Арминий.
Поднимаю голову и неожиданно вспоминаю слова Нумония. Похож ли царь херусков на акулу? Пожалуй… когда так скалится.
— Но вот хочешь ли ты этого? — спрашивает Арминий, скалясь, как белозубая акула.
— Хороший вопрос. Почему ты спрашиваешь?
— Из любопытства. Многое становится отвратительным, если подойти к этому слишком близко. Самая прекрасная бабочка вблизи выглядит отвратительным чудовищем. Ты не боишься, Гай?
— Боюсь?
«Что мы знаем о самых близких нам людях?» — спросил Август, прежде чем отправить меня в Германию.
Царь херусков смотрит на меня. В зрачках мерцают огни факелов, которыми жонглирует фокусник.
Они летят вверх и вниз, крутятся и вспыхивают.
Арминий улыбается.
— Твой брат вел записи, Гай. Пару раз я заставал его за работой. Мы были друзьями, но он все равно закрывал эту… — он щелкает пальцами, — деревянную штуку для бумаг…
— Кодекс, — говорю я.
Интересно.
— Остались мелочи. — я с трудом растягиваю губы в улыбке. — Узнать, где Луций хранил свои записи — и прочитать. Всего — навсего, друг мой Арминий, царь херусков, варвар.
Он поднимает брови. И смеется:
— Ну, это просто, друг мой Гай.
— Да? — я чувствую, как холод вползает между лопаток. Озноб в затылке. Предчувствие.
— Думаю, если бы я делал записи — как делал твой брат — я бы держал их поближе к себе. Но не так близко, чтобы их мог прочитать любой идиот.
Только — особенный идиот?
— Смешно, — говорю я.
— Смешно, — соглашается Арминий. Огненная струя прорастает в его зрачках — я чувствую запах горючей жидкости. Гулкий хлопок, крики германцев. Дешевый старый фокус с выдыханием пламени…
Мой умный старший брат, думаю я.
Мой мертвый старший брат.
Арминий ждет. Я говорю:
— Слушай, тебе что, действительно понравился фокусник?
Глава 2. Архив Луция
Белесая хмарь нависла над лесом. Ветхими краями, похожими на лохмотья прокаженного, закрыла она подступы к чаще.
Командир разведки Восемнадцатого легиона, декурион всадников Марк Скавр поднял руку — стой. Натянул поводья. Жеребец по кличке Сомик переступил с ноги на ногу, фыркнул возмущенно. Позади затих глухой стук копыт.
Туман.
Смутно темнеющие стволы сосен. Тишина. Белая пелена поглощала и искажала звуки. Позади едва слышно звякнули пластины на чьей‑то броне.
Марк покачал головой. Германский лес — другой. Он мало похож на италийский, к которому привык декурион, но нечто общее у них все же есть — голос. Древний, тягучий, ужасающий в своей мощи голос леса.
Он глухо рокочет на грани слышимости. И еще звуки, насторожился Марк. Птицы? Воробьи? В лесу?! Нет, не воробьи…
Гемы, понял декурион. Они рядом, подают друг другу сигнал.
Огромные сосны уходили вверх, где‑то там, далеко от земли, втыкаясь верхушками в небесный свод. Голос леса глухо нашептывал:
«Марк… Марк… вернись, Марк…»
Декурион перекинул ногу через седло, спрыгнул с коня. Покачнулся, выпрямился. От долгой езды все тело ныло.
— Дальше пешком, — сказал он. Всадники переглянулись.
— Ты уверен, командир? — Галлий почесал нос.
— Уверен. Стаскивайте свои задницы, лентяи.
Марк медленно вытянул из ножен меч — настоящую спату, хорошую, галльскую.
И очень дорогую. Хотя все, что помогает дожить до старости, стоит своих денег…
На ветеранскую премию можно купить шесть — восемь югеров земли. Завести рабов, построить дом, пахать землю, сажать пшеницу и жить в трудах, как подобает настоящему римлянину. И для этого всего — навсего надо: прослужить двадцать лет. Шестнадцать — солдатом, четыре года — в отряде ветеранов, затем выйти на покой с почетом. Может быть, даже жениться… завести детей. Стать счастливым, наконец!
На что мои шансы, подумал Марк едко, стремятся к нулю. «Мне все чаще кажется, что эту зиму я не переживу. Только не в Германии…»
Затаившийся кашель жжет в груди, словно уксус.
— Марк! — окликнули его. — Там… слышишь?
Далекий хруст. Один из гемов наступил на ветку.
Возможно, потом, когда мы покончим с германцами…
В следующее мгновение декурион пригнулся, чудом избежав камня в лицо.
Засада!
«Боги, дайте мне силы». Марк закричал:
— Вперед!
Всадники побежали. «Барра!» Следующий камень просвистел над головой декуриона. Марк ощущал, как натирает шею грязная фокала, как немеет в подмышках от застарелого пота. Капля сбегает по лицу и срывается вниз…
Земля под ногами исчезла.
Обрыв! Проклятье!
Марк рухнул вниз, заскользил по размытому влагой склону, попытался затормозить падение ногами. Гнилое дерево развалилось под ударом сапог. Твою мать! Под ним был большой, плавно сходящийся овраг — и враги, германцы, были на другой стороне…
Декуриона понесло по мокрому склону. Марк врезался плечом в дерево, бег остановился. От удара перехватило дыхание. Сердце стучало, как барабан. Ничего, ничего подумал Марк, я еще жив. Декурион протянул руку и оттолкнулся от шершавого соснового ствола. Выпрямил спину.
Всадники его турмы бежали сверху, крича и ругаясь. Марк повернулся — и встретился лицом к лицу с огромным германцем.
Варвар был ужасен. Все, что было уродливого на свете, сошлось в одной бородатой роже. Н — на! Марк на полувзмахе приложил противника краем щита. Оглушенный, гем отступил на шаг — лицо рассечено белой полоской. Время замерло…
Марк увидел, как полоска наполняется кровью — и рубанул спатой. С оттяжкой. Кисть дернуло. Мертвенно — бледное, как у мертвеца, лицо германца рассекло надвое. Потом лицо вдруг разошлось посередине — словно плохо скрепленное.
Проклятье! Марк привычным движением выдернул меч, перенес вес на правую ногу. Ударил. Забрызгался кровью. Ударил еще раз.
За спиной германца бежали к декуриону темные бородатые фигуры. Их с десяток, не меньше. И среди них — ни одного однорукого…
Варвары били по щитам и вопили:
— Ти — ваз, Ти — ваз!
Звук вибрировал и искажался. Проклятые ублюдки.
— Баррра! — надрывая горло, заорал Марк.
— Баррааа! — подхватили всадники. Вперед, вперед! Еще германец. Декурион принял удар на клинок — кисть дернуло — чуть вскользь, чтобы не сломать меч. Молот с чавканьем вошел в жирную грязь. Марк молниеносно ткнул спатой, еще раз. Попал!
Клинок вошел германцу в низ живота.
Декурион оттолкнул от себя противника — тот начал медленно заваливаться назад, в овраг — и прыгнул. Проклятая грязь. Марк поскользнулся, рухнул навзничь и покатился. Сучок больно пробороздил спину. В следующее мгновение Марк увидел, что летит на другого германца… ох! и сбил его с ног. Сверху обрушилось мохнатое, темное, тяжелое.
Боги!
Германец ворочался на декурионе, как медведь. Задавит, сволочь. Марк уперся в грудь великана, напрягся, рыча от ярости — бесполезно.
Над их головами гремел металл. Кричали люди. Против воли Марк подумал, какие же здесь к Эребу высокие деревья… до самого неба. В следующее мгновение великан схватил его за горло.
Мир стремительно отдалился.
Декурион хватал ртом воздух. Германец вонял чудовищным, несытым, изголодавшимся зверем. Хрипя, Марк попытался ударить мечом, но руку зажало коленом германца. Боги, помогите мне… Боги!
Следующий рывок. Марк достал кинжал и ткнул гема в подмышку. Плечо едва не выдернуло из сустава.
А! Ааааа!
Хрипло рыча и пытаясь задушить один другого, Марк с германцем покатились по склону. Мир вокруг завертелся, отдалился, улетел в сторону. Где‑то далеко, выше по склону — и за тысячи миль отсюда, остались германцы, схватившиеся с римлянами. Где‑то далеко остался его меч. Лес вокруг, серо — зеленый, мрачный, завертелся и… удар!
Темнота.
* * *
Ализон, дом Вара.
У Квинтилиона при виде меня становится озадаченное выражение лица:
— Доброе утро, легат.
В этот момент я прохожу мимо.
Оказавшись в атриуме, я замедляю шаг. Рассеянно киваю: доброе.
Квинтилион бесшумно оказывается рядом. Хороший у Вара управитель.
— Легат?
Вместо ответа я снова иду. Пересекаю атриум и оказываюсь у выхода в крытую галерею.
Мягкие сапоги бесшумно шагают по мозаичному полу. Я наступаю в квадрат солнечного света, затем в тень, и выхожу во внутренний двор. Ухоженная зелень. На земле несколько пожелтевших листьев. Поднимаю взгляд. Фонтан, статуя, галерея. Серый проем неба над садом…
Где же?
Там, где была моя комната? Или в другом крыле, где комнаты гостей?
Не знаю.
— Кхм, — деликатное покашливание. Оборачиваюсь. Квинтилион смотрит на меня. Поза управителя выражает вежливый, но настойчивый вопрос.
— Квинтилион, ты‑то мне и нужен, — говорю я.
— Господин?
Теплый ветер обдувает мое лицо. Пахнет умирающей листвой и одиночеством. Похоже, сегодня один из последних солнечных дней в этом году. Дальше будет только осень…
И зима, конечно.
Не знаю, какая зима в Германии, но думаю — ужасающая. Как все здесь.
— Легат? Вам что‑нибудь нужно?
Я перевожу взгляд на управителя и, наконец, вспоминаю, зачем его позвал.
— Мой брат… Луций. Он жил здесь?
Квинтиллион кивает:
— Да, господин. Когда ваш брат приезжал навестить господина пропретора, он останавливался в этом доме.
— Где именно?
Управитель медлит. Я выдыхаю сквозь зубы. Что ж, этого следовало ожидать. Любопытство неискоренимо.
— Ладно, уж… веди. Будут тебе ответы.
Квинтилион кивает. Мы проходим по галерее вдоль сада, мимо статуй, минуем поворот во внутренние покои и оказываемся… Что?!
Сложное сделать — простым. Так сказал бы центурион Тит Волтумий.
Квинтиллион поворачивается ко мне — лицо излучает простодушие. Вот лукавая, беспринципная бестия!
Квинтиллион поднимает полог:
— Легат?
Мгновение я медлю. Затем делаю шаг и оказываюсь в своей комнате.
Нет, не в своей…
В комнате Луция.
* * *
Здесь ощутимо холодно.
Через окно, закрытое стеклом, в комнату проникает тусклый дневной свет, ложится на мозаичный пол. На кровать, на кушетку, украшенную резьбой. На стены, покрытые сценками охоты.
Я оглядываю комнату. Я не был здесь с того дня, когда убили старого Тарквиния…
Моего раба… нет, не раба.
Моего воспитателя.
Комок в горле. В последнее время у меня слишком много потерь.
«…любой идиот», вспоминаю я слова Арминия.
Не любой. Только особенный.
В детстве старшие братья частенько называют младших «идиотами». Это нормально. «Особенным идиотом» для Луция мог быть только я. Или Квинт? Но скорее речь обо мне. Квинт слишком маленький.
Значит, если брат хотел, чтобы я получил эти записи, он должен был выбрать место, о котором догадался бы только я…
А я не догадываюсь.
— Легат? — голос Квинтилиона. — Все в порядке?
— Здесь холодно.
Квинтилион кланяется.
— Простите, легат. Понимаете, мы еще не запустили большую печь. Сейчас все будет исправлено.
Я рассеянно киваю.
Может, я ошибся и никаких записей брата не существует?
Или они спрятаны настолько надежно, что их обнаружат только наши потомки через пару тысяч лет?
— Осторожнее, — голос Квинтилиона. — Сюда… Осторожнее, говорю!
Рабы, сгибаясь от тяжести, вносят бронзовую жаровню. Ставят в центре комнаты. Раб в фартуке, прожженном во многих местах, машет опахалом. Угли мгновенно раскаляются. Тлеют багровым. Тепло струится, наполняет комнату…
— Легат?
— Можешь идти, Квинтилион. Спасибо.
Я остаюсь один. Тишина. Смотрю на тлеющие угли. Когда мне было одиннадцать, случился пожар на бабушкиной вилле; огонь охватил дом, деревянные пристройки, конюшню — мне до сих пор снятся крики сгорающих заживо лошадей…
Так что к огню у меня сложные чувства.
Ладно, сейчас не об этом… Где мог Луций оставить свои записи? При условии, что он прятал их здесь?
От напряжения начинает болеть голова.
Я смотрю на угли — и вдруг понимаю.
Вот оно!
Пожар. Огонь. То, что всегда пугало меня… и всегда привлекало. Я подхожу к стене. Есть!
Конечно, в комнате холодно. Потому что систему отопления еще не запустили — рано. Обычно в подвале большого дома делают огромную кирпичную камеру — очаг, там сгорают дрова. А дым идет по специальным ходам под полом комнат и выходит наружу через стенные каналы. И в доме становится хорошо и тепло. И ногам приятно, даже босиком.
Это называется гипокауст — с греческого «тепло снизу».
Но чтобы ходы не забивались, нужны отверстия для чистки. А брат погиб летом… И если ему был нужен тайник, то стоило поискать то, что летом не используется. Центральное отопление.
Я берусь за бронзовые ручки и с усилием вынимаю заслонку из стены…
Скрежет кирпича. Опускаю заслонку на пол, выпрямляюсь.
В стене темнеет прямоугольник, оттуда резко тянет гарью. Я медлю, потом засовываю в дыру руку…
Долгое мгновение мне кажется, что там ничего нет. Что я ошибся, приняв обычное совпадение за знак судьбы.
И тут мои пальцы натыкаются на нечто, завернутое в ткань.
Есть!
Я достаю из углубления сверток, перевязанный веревкой. Ткань перепачкана сажей.
* * *
Деревянные дощечки служат для защиты пергаментных страниц — на бумаге буквы, буквы составляются в слова, в словах — мудрость, изысканность оборотов и поучительные истории. Так?
Это называется «кодекс».
Я открываю наугад и читаю:
«Время империи заканчивается, когда граждане, вместо того, чтобы умирать за нее лично, нанимают для этого варваров».
Ровный и уверенный почерк брата. Изредка — легкая дрожь в написании букв.
Еще читаю:
«Рим обречен. Во времена Республики лучшие люди стремились возвыситься, сейчас, при едином властителе, который награждает за лояльность, а не за способности, Рим оказался лишен энергии».
Я листаю страницы. Он многое знал, мой брат, многое понял, о многом размышлял. Какую потерю понес Рим с его смертью! Эх, Луций, Луций.
И вдруг…
Я переворачиваю страницу. Пробегаю глазами, снова возвращаюсь обратно, к началу.
Нет… не может быть! На листе написано:
Гаю Деметрию от Луция Деметрия.
Радуйся, брат!
Не может быть, но — есть. Я получил письмо.
* * *
Хриплое дыхание.
Марк открыл глаза, с трудом выпрямил ноги. Живой? Не уверен. Декурион лежал на спине, где‑то рядом бежала вода. Марк слышал ее негромкое деловитое журчание. Спина точно лопнула пополам.
Куда исчез бородатый германец, Марк не знал. Он лежал, глядя в бесконечное серое, двигающееся небо, в которое уходили — словно навсегда — вершины сосен… Мыслей не было.
Возможно, так видят мир боги. Без эмоций. Без чувств.
Без окраски. Просто серо — зеленый.
Гемы, вспомнил Марк. Однорукий.
Что я здесь делаю? Зачем? — вопросы приходили и уходили, небо продолжало двигаться, течь и меняться. Плавно покачивались вершины сосен. Над декурионом медленно плыли облака. Мир остался прежним. В какой‑то момент Марк понял, что голос леса стал громче.
…тяжелее. Декурион скривился. Тягучий бас леса оглушал.
МАРК. МАРК. ТЫ МОЙ, МАРК.
— Марк! — от крика едва не раскололась голова.
«Оставьте меня в покое».
— Марк! Живой?!
Декурион с трудом выпрямился, сел. Вытянул ноги. Помогая себе руками, цепляясь шершавыми ладонями за неровную кору, попытался встать. Скавра качнуло. На мгновение показалось, что вокруг — одни прозрачные, словно наполненные речной водой, стеклянные рожи…
— Командир! Марк! Да очнись ты!
Над ним склонились всадники его турмы. Его эквиты.
— Не пахнет? — один наклонился и принюхался.
— Да вроде нет. — Марк узнал голос Галлия, своего оптиона. — А должен?
— Так вроде он всегда пахнет…
— Придурки, — сказал Марк хрипло. Измученное горло едва проталкивало слова. — Помогите мне найти лошадь.
Всадники засмеялись. Кто‑то протянул ему флягу с водой.
— Сволочи, — сказал Марк. — Спасибо!
* * *
Радуйся, брат.
Буквы плывут у меня перед глазами. Я переворачиваю страницу.
Если ты читаешь это послание, то меня уже, скорее всего, нет в живых. Не печалься, брат. Это не так страшно. Если считать, что где‑то есть боги и загробный мир, то у меня сейчас все хорошо. Я уже там и ничего не помню. Это такое счастье — ничего не помнить и ни о чем не жалеть. Так что я даже надеюсь на богов.
Если же их нет, и за последней чертой жизни нас ждут темнота и ничто, то печалиться тем более не о чем. Помнишь, как мы с тобой спорили о том, что за гранью смерти? Сейчас я, вероятно, знаю об этом точно, но никому рассказать не могу. Даже тебе. Прости, Гай.
Но вернемся к главному. Скоро меня не станет, брат. Это неизбежно.
Возможно то, что ты узнаешь обо мне после моей смерти — видишь, я не пытаюсь лукавить? — будет не очень красивым. Там будет много лжи, выдумки, просто невежества, но главное, они скажут: Луций Деметрий Целест, сенатор и легат, умер зря. Надеюсь, ты так не думаешь?
Тебе расскажут обо мне много плохого. Я же скажу тебе только одно: не верь.
Да, еще: передавай привет Квинту.
Живи, Гай.
И прощай.
Твой брат Луций
* * *
Душа человека составлена, словно мозаика, из кусочков стекла и разноцветных камушков. Тысячи оттенков, тысячи вариантов фактуры. Вряд ли повторяется хотя бы один.
И каждый камушек — другой человек. Его слова. Присутствие. Или запах травы в тот день, когда вы впервые встретились. Воспоминание о кузнечике, сидящем на мальчишеской ладони…
«Смотри, Гай».
Или — кровавое пятно на белоснежной отцовской тоге.
Я закрываю глаза.
Каждый человек — это множество камушков. И пока человек жив, мы добавляем их, меняем местами. Составляем мозаику. Каждый раз получается по — новому…
Это пока человек жив.
После его смерти камушки больше некому тасовать. Они остаются на одном месте. Они пылятся. Они тускнеют. И волна забвения, беспамятства сдвигает их, смывает, уносит в море…
Навсегда.
Каждый день мы забываем.
Прощай, Луций. Прощай, брат.
Живи, Гай.
На этом письмо заканчивается. В горле у меня застрял комок. Я сглатываю с усилием — шею сводит — и закрываю кодекс… Провожу пальцами по украшенной резьбой деревянной обложке.
Мой брат мертв. Сколько человеку нужно времени, чтобы осознать потерю?!
Или хотя бы — ее тяжесть?
* * *
Окрестности Капуи. Вилла бабушки.
Мне одиннадцать лет.
Комнату заливает яркий дневной свет. Пахнет свежим сеном, сухой травой, молоком и, иногда, навозом. Это чтоб не забывать, что мы в деревне. Запах розовых кустов струится тонкими, не различимыми глазом масляными струйками.
Они пролегают из открытого окна, росчерком пересекают комнату, исчезают в глубине дома…
Я лежу на кровати, укрытый одеялом. Мои руки перевязаны и покрыты жирной мазью. Они уже почти не болят. И сегодня я начал лучше слышать. Настойка зеленой конопли помогает.
Я лежу и слушаю звуки. Это приятно.
Потом входят двое. Это мои братья. Старший, темноволосый, с острым профилем, и младший, светловолосый и пухлый.
Луций протягивает мне руку.
— Смотри, Гай, — он раскрывает ладонь. Там сидит кузнечик. Желто — зеленый, с пятнышками. Миг — и кузнечик исчезает…
Прыгнул!
Младший Квинт с воплями начинает носиться за ним по комнате. Луций, старший, смотрит на меня и улыбается.
Это мои братья.
* * *
Когда я закрываю кодекс, из толщи страниц остается торчать краешек листа. Пергамент другого оттенка, светлее. Я вытягиваю лист и разглаживаю на колене. Почерк — не Луция. Странно…
Читаю.
У меня снова ощущение, что кузнечик — прыгнул. Все изменилось.
Это письмо Луцию, моему старшему брату.
Оно написано на латыни, с многочисленными ошибками и помарками. Письмо короткое, но этого достаточно, чтобы понять — речь идет о долгом романе. О будущем замужестве. О любви, наконец.
Я слышал, что мой брат увлекался юной германкой. Но не придавал слухам значения.
Теперь вижу, что все было намного серьезнее…
Это письмо от Туснельды, дочери Сегеста, царя хавков.
И в нем она просит Луция о встрече.
* * *
Луций и Туснельда. Что было между ними?
Хороший вопрос.
Возможно, разгадку гибели Луция нужно искать именно здесь. Скажем, одному из варваров не понравилось, что мой брат заглядывается на германку. Ревность — хороший повод для убийства. Луция заманили в ловушку и прикончили. Так?
Причина не хуже любой другой.
Вот только одна загвоздка: мне трудно представить брата в роли страстного любовника…
А может быть, я слишком мало знаю о брате.
Луций, думаю я. Туснельда.
Как вы меня подвели, мои дорогие.
Я выхожу во двор. В фонтанчике шумит вода, изливая свои беды мраморной статуе и мокрым лягушкам.
Я выдыхаю. Прикасаюсь ко лбу пальцами — он ледяной, в холодной испарине.
Надо успокоиться. Надо, Гай! Остановиться, не бежать стремглав, как я обычно делаю, а просто сесть и спокойно, обстоятельно поразмыслить.
Значит так… Мой брат и Туснельда. Они были любовниками…
Проклятье!
Я возвращаюсь в комнату, ложусь на кровать, сцепив пальцы на затылке. По потолку змеится трещина, похожая на разряд молнии. Словно во время грозы потолок раскололся.
Значит, Луций и Туснельда, снова начинаю я…
…Как можно соревноваться с мертвецом?
Я сжимаю зубы. В висках давит.
В письме Туснельда просит Луция о встрече. И говорит, что готова «дать ответ». На какой вопрос, интересно?
* * *
Крошечная нянька сидит неподалеку от нас и делает вид, что дремлет. Не слишком убедительно. Верят ей, по — моему, только лягушки…
И только каменные.
— Он не трогал меня, — Туснельда поднимает голову. Взгляд прозрачный и твердый.
Словно лед, что привозят с вершины Альп — для римских застолий.
Куски льда опускают в чаши с вином. Потому что вино лучше пить охлажденным.
— Неужели я поверю в то, что мужчина может устоять? — говорю я. — Не считай меня дураком. Не надо.
Пауза. Долгая — долгая пауза. Я устал.
— Он был болен, — говорит Туснельда. — Твой брат. Об этом мы хотели говорить…
— Что?
— Болен. Смертельная болезнь, понимаешь?
Я смотрю на нее и — понимаю.
Так вот почему я нашел в вещах Луция амулеты для хорошего здоровья! Много амулетов — я еще удивился тогда. Луций и побрякушки!
Убедительно.
Когда такой человек, как мой брат, хватается за малейшую надежду — означает, что болезнь страшна, уродлива и шансов нет.
Смерть. Интересно, Луций ждал ее прихода? Особенно когда ворочался по ночам в постели и смотрел в потолок? Белый, расколотый трещиной, похожей на молнию…
Туснельда молчит. Я беру ее за запястье — тонкое, нежное. Прикасаюсь губами.
— Я бы не удержался.
Она выдергивает руку, смотрит на меня исподлобья. Серые глаза сейчас темные, как морская глубина.
Мне становится стыдно. Какое непривычное чувство, да, Гай?!
— Он очень хотел, — говорит Туснельда негромко. — Но… боялся меня заразить. Боялся сделать зло.
Желание женщины — это человеческое выражение страха смерти.
Даже зная, что умирает, мой брат оставался самим собой. Благородным человеком, настоящим римлянином…
Да, кое‑что я все‑таки знаю о своем брате.
— Что это было? — спрашиваю я.
Германка поднимает голову:
— Что?
— Чем он болел? Как это называется?
Туснельда берется за светлую косу, теребит ее.
— Я не знаю. Твой брат, он… мало говорить. — Разволновавшись, она снова начинает делать ошибки.
Я смотрю на ее чистый лоб. На ее косу. Я хочу подойти и взять германку за затылок, притянуть к себе. Почувствовать вкус ее губ и забыть обо всем…
Но я, к сожалению, упертый сукин сын.
Поэтому я говорю:
— Что‑то он все же сказал?
Туснельда качает головой. Я говорю:
— Помоги мне. Пожалуйста.
Молчание.
— Несколько раз твой брат ходил в Ализон, в квартал торговцев. Он говорил — там живет философ. Который колдун.
Колдун? Даже так?! Луций, который высмеивал ярмарочных колдунов, как дешевых мошенников!
— Этот философ лечил его — тайно. Это болезнь, о которой другим людям знать нельзя.
У великого Цезаря была падучая. Человек бьется в припадке, изо рта идет пена… Не самая лучшая болезнь для политика. Извергая пену и катаясь по полу, довольно трудно вызывать у людей симпатию. Неужели Луций?..
Я представляю брата, бьющегося в припадке. Лицо изуродовано гримасой, изо рта летят клочья пены….
Проклятье, проще представить его в сенате!
Качаю головой. Нет. Падучая не смертельна — если не откусить себе язык, конечно, и не захлебнуться кровью…
И общаться с женщиной она не мешает.
Тут явно было нечто иное… Но что?
— Врач? Где, говоришь, он нашел врача?
— В Ализон. Он не врача находить… он находить философ. Тайна чтобы.
Я киваю.
— Как его зовут, этого философа?
Она качает головой. Впрочем, я и не рассчитывал.
— Римлянин Гай, — говорит Туснельда торжественно. — Твой брат, чтобы идти туда, надеть… надевать военную одежку. Грязный старый плащ. Как римский солдат.
Молчание. Мы стоим и смотрим друг на друга.
Я улыбаюсь, хотя мне хочется плакать.
* * *
— Квинтилион, — говорю я. — У меня к тебе еще одна просьба…
Управитель кланяется. Лицо невозмутимое.
— Как прикажете, господин легат. Готов исполнить любое ваше желание, господин легат.
Мгновение я медлю. Затем открываю рот, но Квинтилион меня опережает:
— Вам снова нужны молоток, веревка и центурион Тит Волтумий?
— Гм.
Пожалуй, насчет Тита Волтумия стоило бы подумать. Помощь старшего центуриона в прошлый раз мне очень пригодилась…
— Спасибо, но… нет. В этот раз мне будет достаточно шерстяного солдатского плаща. Такого, знаешь, погрязней и попроще…
— Понятно, господин легат, — говорит Квинтилион. — Уже бегу.
Но с места не двигается. Ждет.
— Хорошо, хорошо, — говорю я. — Возьмешь деньгами или сведениями?
— Лучше информацией.
— Вот ты хитрец. Почему информацией? Откуда ты знаешь, что она того стоит?
Улыбка Квинтилиона приторна, как груша в меду.
— Иначе вы бы не предложили мне денег.
* * *
Сегодня вечером я напьюсь, думает он. Опять. Или снова. Но напьюсь.
Легионер Секст по прозвищу Победитель расправляет широкие плечи. Виктор. Какая насмешка…
— Сколько женских сердец ты покорил сегодня? — кричат из толпы.
— Только не ошибись палаткой! — хохочут. — А то знаем мы тебя…
— Нет, нет. В этот раз он не промахнется. Он зайдет сразу в палатку нового легата и…
Секст усмехается. Вытягивает перед собой волосатые руки, растопыривает пальцы.
— А если поймаю? — спрашивает он. — Я могу.
Аккуратно сжимает кулаки. Огромные. Такими можно пробить кирпичную стену.
— Ой, только не это, доблестный Виктор! — дерзкий голос. Толпа «мулов» стонет от смеха. — Только не это… Мне не вынести столько любви. Ты такой си — и–ильный.
Сволочи, думает Секст. Стоило один раз по пьяни совершить глупость, и уже не отмоешься. Виктор! Победитель! Ради всех богов, чрево Юноны, задница Юпитера! Секст Победитель — вот издевка, так издевка…
Он делает рывок, несколько легионеров падают, отшатнувшись. Строй прогибается. «Мулы» ревут от смеха, особенно те, что упали. От чудовищного грохота половина Ализона должна проснуться.
— Ты такой стра — а–астный сегодня, — снова голос из толпы. — Мне не вынести столько страсти, доблестный воитель. Недаром тебя зовут…
— Виктор! — хором кричат легионеры. Сволочи. Секст отталкивает ближайшего «мула», замахивается… Легионер приседает в испуге, вокруг хохочут еще громче.
— Да, я сегодня в ударе, — говорит Виктор и опускает кулак. Если не можешь посмеяться над собой, тебя в легионе заклюют. — Зовите меня Юпитер Громовержец. Я крут.
— Он сегодня покроет и корову! — опять тот же голос. — Да что корову… Носорога! Слона! Жирафа!
«Ну, я тебя найду», думает Секст. Обещаю. В легионе все тайное быстро становится явным. В том числе — имя шутника.
Самое обидное, я не помню, что тогда произошло, думает Секст. Вот если бы вспомнить… Тогда бы я знал, что ответить.
— Пока, зелень! — он машет рукой, поворачивается и идет.
— Останься с нами, доблестный Виктор! — кричат сзади. — Как же мы без тебя?
Он шагает, не оглядываясь. В темноту.
На Ализон опускается ночь.
Глава 3. Философ и Атлантида
Военный плащ легионера называется сагум.
Он колючий и грубый, у него мягкий кисловатый запах старой вещи.
Этот запах кажется мне родом из детства — очень деревенский. Мы тогда жили на вилле у бабушки, где‑то возле Капуи.
Я выходил во двор и видел горы. Я возвращался в дом и видел горы через окно. Я закрывал глаза, и там снова оказывались горы. В общем, горы там были везде.
Снежные вершины в голубой дымке.
Детство. Тогда было очень много света.
Словно с годами свет из твоей жизни уходит. Сейчас даже в самый ясный день того ощущения наполненности не бывает. На нашем солнце — пятна.
Они появляются в тот момент, когда мы в первый раз надеваем взрослую одежду, и растут с годами. Чтобы заполнить весь солнечный диск. Когда‑то солнце было чистым и ясным, но с годами обветшало, обросло слоем пыли и натянуло ветхую дырявую хламиду.
К чему клоню?
Правда всегда одна…
Все проходит.
* * *
Ализон, римская столица варварской Германии. В квартале у Водяных ворот — ветер. Стиснутый с двух сторон домами, по узкому руслу улицы, он мчится все быстрее и быстрее, чтобы, наконец, влететь мне в лицо. Вместе с пылью и мусором. Я моргаю. Сплевываю. Глаза слезятся. Проклятье!
Вонь страшная, хотя, казалось бы, канализация и водопровод в Ализоне — сделаны по римским стандартам.
Странно. Мы пришли сюда надолго…
А воняет по — прежнему.
— Господин, достойный господин, купите! — торговка тянет грязные пальцы. Край моего плаща точно случайно попадает к ней в руки. — Господин!
Я выдергиваю сагум и иду дальше.
— Будь ты проклят, сын шлюхи! — кричит торговка вслед. — Собачье отродье! Тебя зачали всем легионом!
Как быстро меняется мой статус, однако.
Я плотнее заворачиваюсь в плащ. В проклятой богами Германии холодно по утрам, душно ночью и дождливо днем. Собачья погода.
И собачий квартал.
Женщины смотрят враждебно. Взгляды мужчин не предвещают ничего хорошего. Вообще, мрачнее местных жителей только тени Преисподней. А я — словно Орфей, спустившийся в ад.
Так. Главное, не останавливаться и не оглядываться. Спасибо, Орфей уже как‑то оглянулся. Перекресток. Слева — таверна «СЧАСТЛИВАЯ РЫБА» (очаровательное название), направо — улица, она тянется до центральной площади.
Иду.
Скрип, скри — ип. Я поднимаю глаза: над входом в таверну раскачивается вывеска. Скри — ип. Синяя рыбина держит в плавнике вилку, на которую наколота бледно — розовая свинья. Вывеска потемнела от копоти.
Рыба мрачная, свинья улыбается. Может, стоило назвать таверну «СЧАСТЛИВАЯ СВИНЬЯ»?
Надеюсь, здесь хорошо кормят.
Ну, или хотя бы остается в живых каждый третий посетитель.
Словно в ответ, дверь таверны распахивается. Через мгновение оттуда вылетает человек. Бум! Пьяница падает на мостовую, словно мешок с тряпьем, и лежит без движения. Обычное дело. Следом из таверны выходит молодая рабыня. Тоненькая, в короткой тунике. В руке — деревянное ведро. Рабыня аккуратно обходит пьяницу и выливает ведро в канаву. Затем некоторое время девушка стоит, словно не чувствуя вони. Лицо измученное…
И почти счастливое.
В каком аду нужно находиться целый день, чтобы вонь сточной канавы показалась свежим воздухом?
Гниющие рыбные головы.
Я иду. Девушка вытирает лоб тыльной стороной ладони, провожает меня взглядом. Что она увидела? Предполагается, что я выгляжу как легионер — дезертир. Таких здесь должно быть полно…
Останавливаюсь. А это мысль, пожалуй.
Возвращаюсь.
Рабыня поднимает брови. Красивая. Хотя под глазами темные круги, а руки и бедра — в синяках от щипков посетителей. Есть такой тип красоты, что сияет только ярче — вопреки всему. Интересно, кто она по происхождению? Гречанка? Италийка? Кожа смуглая. Длинные ноги, гордая осанка, изящный изгиб шеи. Ее отмыть, приодеть, накрасить, надушить, сделать прическу — и готова первая красавица Рима. Жаль, что у меня нет времени заниматься ее судьбой…
Жаль.
Киваю девушке и толкаю дверь таверны.
* * *
Народу немного. Мало кто оборачивается в мою сторону.
Над очагом висят засиженные мухами колбасы. Рядом — свиная нога, закопченная вместе с кожей. Огромная. По коричневой поверхности взгляд невольно скользит.
Деревянные столы и лавки — грубые, но добротные, словно их на века делали.
В целом, здесь лучше, чем я думал. Обстановка как в дешевой таверне где‑нибудь в Субуре. В центре — очаг со столом для готовки. Вон та дверь ведет в кладовую. Слева — лестница на второй этаж. Это для тех, у кого есть деньги.
Жужжание. Я лениво отмахиваюсь. Мухи сонные, словно вот — вот на лету впадут в спячку. Скоро осень…
Она уже наступила.
Я сажусь, кладу ладони на столешницу. Закопченная, жирная поверхность. Крошки попадают между пальцами. На столешнице вырезана надпись:
LEVATE DALOCU
LUDERE NESCIS
IDIOTA RECEDE
Встань и уезжай
Ты не знаешь игру
Идиот, уходи!
Если бы я не знал, что это поле для игры в дуодецим — «дюжину», я бы решил, что это личное послание.
Для меня.
Интересное ощущение. Этот стол мне точно родной. Немало времени я провел, играя в «дюжину» в самых грязных и опасных кабаках Субуры.
Азарт. Особая болезнь.
С замиранием сердца смотришь, как кости со стуком падают на стол, кружатся в танце и… вот — вот… есть! Есть!
Шесть и один.
Отличный ход. Ставишь фишки на первую и на шестую буквы. Затем ход соперника. Потом снова кидаешь и снова ходишь, все дальше передвигая фишки. Двигаясь к финалу.
А потом соперник рубит твою фишку. И все приходится начинать сначала…
Да, немало времени.
И еще больше — денег. Я почти наяву вижу: золотые ауреи, падающие в гору таких же золотых ауреев. И на каждой монете: профиль божественного Августа…
— Что угодно?
Я поднимаю взгляд.
Хозяин — упитанный, с лысой головой, словно надетой прямо на плечи, минуя шею. Толстые пальцы с короткими фалангами. Кожаный фартук, засаленный и прожженный.
Взгляд его зеленых — надо же! — щелок — глаз останавливается на мне. Хозяин мигает, раз. Другой. Похоже, у него нервный тик.
— Господин? — говорит хозяин. — Чего желаете?
Его левая рука поднимается, чтобы почесать правую. Я моргаю. Большая часть предплечья у него нежно — розовая, резкими пятнами. От вида этих пятен меня бросает в дрожь.
Ожог. Когда кожа сгорела едва не до мяса…
Огонь. Пламя. «Смотри, Гай».
Я моргаю. Потом говорю:
— Жареной колбасы. Полкувшина вина. И хлеба на два асса.
Достаю монету и бросаю.
Хозяин ловит ее на ладонь. Смотрит рыбьим взглядом. Похоже, теперь я знаю, с кого рисовали вывеску «Счастливой рыбы»…
— Мирца! — вдруг орет он. Я вздрагиваю.
От этого крика всю пыль внутри таверны встряхивает в воздухе и ударяет о стену. Бум.
— Дай ему колбасы!
— Жареной, — напоминаю я.
— Жареной, — повторяет хозяин «Счастливой рыбы», затем смотрит на монету так, словно видит ее впервые:
— Римские?
Проклятье. Отличный ход, Гай. Вместо оккупационных денег — с пометкой VAR, которые чеканят для солдат легионов — я дал хозяину монету с лицом юного Августа. Такая стоит в полтора раза больше.
И стоило, спрашивается, разводить комедию с переодеванием?!
— Да. Сам чеканил, — говорю я. — Веришь?
Хозяин хмыкает. И я, наконец, понимаю, что улыбающуюся свинью на вывеске тоже рисовали с хозяина.
— Мирца! — орет он. Я снова вздрагиваю. Рабыня, которую я встретил на улице, подходит к нам, вытирая руки полотенцем. Красивая.
— Чего? — у нее слегка подсевший, грудной голос.
— Дай господину жареной колбасы, ленивая корова.
* * *
Мирца приносит глиняную тарелку с почерневшей от жара колбасой. Колбаса скворчит. Там, где кожица лопнула, виднеется розовое мясо. Как при ожоге.
Мне едва не становится плохо.
Мирца ставит передо мной чашку с соусом. Резко пахнет уксусом и медом. И чесноком.
— Ешь, солдат, — говорит девушка. И добавляет вполголоса: — И уходи.
Я поднимаю голову, улыбаюсь глазами.
— Скоро уйду.
Когда она поворачивается, я накрываю ее руку своей.
— Подожди.
— Солдат, — произносит она тихо, не поворачивая головы. — Отпусти.
— Мы оба знаем, что я не солдат. Скажи мне кое‑что. Пожалуйста.
Мирца выпрямляется.
— Сейчас тебе будет плохо, — предупреждает она.
— Наплевать. Если бы у меня были ожоги — как у твоего хозяина, то…
— То что?
— К кому лучше обратиться? Здесь есть лекарь?
— Солдат, отстань…
— Ты красивая.
Мирца вздыхает. Судорожно, словно я ее ударил.
— Помоги мне, Мирца. Я прошу.
— Ешь свою колбасу, солдат.
— Верно сказано, — мужской голос. Я поднимаю взгляд. Затем — откидываюсь назад, прислоняюсь к стене затылком.
— Правда? — говорю я.
— Правда. Клянусь мужскими частями Юпитера!
В первый момент кажется, что передо мной — близнецы. Оба в грубых коричневых туниках, рослые, квадратные. Я оцениваю чудовищные мышцы правой руки у одного из близнецов. Впечатляет. Гладиатор или атлет? Для атлета он чересчур уродлив. Шрам через бровь и на носу мозолистая прослойка — такая остается от долгого ношения самнитского шлема.
Гладиатор.
Второй — из той же породы, но еще шире в плечах. Шея толщиной с храмовую колонну.
Сцилла и Харибда, чудовища из «Одиссеи». И теперь мне, как Одиссею, предстоит пройти между ними…
Желательно сохранив при себе как можно больше частей своего тела.
— Брат, — я делаю знак Большой школы, по — особому складывая пальцы. Этому меня научил Фессал, наставник и телохранитель моего младшего брата — Квинта. У гладиаторов свои тайные общества, куда посторонних не пускают. Но есть и черный ход для таких настырных, как я. — Я пришел с миром, брат.
Близнецы переглядываются. У широкого часть уха отрублена, розовеет шрам.
Первый из близнецов улыбается:
— Правда?
От такой улыбки впору взобраться повыше на дерево. Или вину превратиться в уксус. Мирца за спинами близнецов подает мне страшные знаки. Съедят они меня, что ли?
— Какая школа? — говорю я. — Ага, сейчас вы скажете: не твое дело.
— Не скажем, — говорит широкий и открывает рот, чтобы рассмеяться. Выходит у него довольно пугающе.
— Садитесь, прошу. Выпейте со мной.
Близнецы занимают место напротив. Лавка под ними жалобно скрипит, стол сдвигается. Еще бы. Гладиаторы, получившие подготовку в настоящей, хорошей школе с правильным питанием — чаще всего великаны.
Высокий протягивает правую руку через стол. Она чудовищно большая, гладкая, без волос, и длиннее левой на пол — ладони минимум. По такой лапище легко опознать профессионала.
Мы пожимаем друг другу запястья.
— Школа, говоришь? — Старший хмыкает.
— Да.
— Школа Галлов. А этот малыш, — он кивает в сторону рубленноухого, — из Капуи, из школы Менавра.
— Зачем вы здесь?
— Деньги, — Старший ухмыляется. Шрамы приходят в движение. На удивление, от улыбки его лицо становится добродушным. — Римские Игры. Пропретор хочет сделать гостям красиво.
Младший кивает. Я невольно смотрю на его обрубленное ухо.
— А мы не против. Мы любим делать красиво… когда платят по красоте.
Возвращается Мирца. Ставит на стол кувшин с вином и чашу, наклоняется ко мне.
Шепчет:
— Шел бы ты отсюда, солдат.
А мне смешно.
Хорошие ребята. Понятные мне.
Я многого в этой жизни не понимаю. Так пусть хоть что‑то приносит мне душевный покой. Вот эти ребята, кровь на острие меча и песок арены…
И крики толпы.
Нет, я не гладиатор. Я никогда не дрался на настоящей арене.
Но я видел, как кровь многих достойных бойцов впиталась в песок. Там все было просто и понятно.
Я отодвигаю тарелку, поднимаюсь:
— Пора мне. Удачи, парни.
— Бывай, солдат.
* * *
За столом рядом с дверью режутся в латрункули. Рыжий играет черными, его приятель, сидящий ко мне спиной — белыми. Колоритная парочка.
И, кажется, рыжий уже загнал «орла» противника в ловушку.
Я иду к выходу. В последний момент один из игроков вскакивает и загораживает мне дорогу.
Ну и рожа! На левом глазу — огромное бельмо.
— Чего тебе, солдат? — говорит бельмастый. Таким тоном, словно это я у него на пути встал, а не наоборот.
Поднимаю брови. Не об этом ли пыталась меня предупредить Мирца?
— Ну, раз ты спросил. Я ищу местного мага. Знаешь, где он живет?
— А тебе какое дело? — выговор у бельмастого явно не римский.
— Свое.
Бельмастый качает головой.
— Ты не слишком о себе возомнил, солдат? Зачем «мулам» понадобился наш колдун, а? Ты соглядатай? Соглядатай, да?! Награды захотел? — он накручивает себя. Делает шаг. — Скажешь, что ты здесь делаешь, или правду из тебя вынуть? Вместе с кишками?
В руке у него появляется нож. Блестят следы свежей заточки.
— Ты с кем разговариваешь? — рыжий поднимает голову, словно только что меня заметил. — С этим, что ли? Чего тебе, солдат?
— Он из дезертиров, не видишь?
— Не вижу. — Рыжий поднимается на ноги. Когда он встает в полный рост, я улыбаюсь ему в лицо.
Мгновенная растерянность.
Я сдвигаюсь в сторону, уходя с линии атаки. Поворот. И оказываюсь за спиной у рыжего. Выдергиваю из ножен кинжал — пугио, приставляю к горлу ублюдка. Лезвие упирается под кадык, заросший рыжими волосками. Нажать посильнее и…
— Ну, и что дальше? — интересуется рыжий. Голос на удивление спокойный. — Убьешь меня?
— Не совсем.
— Тогда что… ааа! — он начинает орать.
— Побрею.
Я продолжаю нажимать на кинжал. Веду вниз — ровно, как настоящий цирюльник. Противный скрежет металла о щетину. Влажная струйка сбегает вниз по его шее. Кровь. Рыжий дергается, но всерьез вырываться не рискует.
— Ааааа! — выдыхает он.
Я довожу лезвие до ключицы и отнимаю. С силой встряхиваю пугио — капли крови и рыжие щетинки летят в стороны. Толпа подается ко мне. Снова приставляю кинжал к горлу рыжего — они нехотя отступают. Так‑то лучше.
— Еще? — говорю я. Рыжий мычит. Кровь стекает ему на тунику. Красное пятно расплывается по грубой ткани.
— Что ты… что ты хочешь?!
— Угадай, — говорю я. — Или помочь? Тихо вы!!
Голоса смолкают.
Я тщательно вытираю окровавленный клинок о тунику рыжего. Снова приближаю лезвие к кадыку.
— Так где живет колдун? Забыл? Эй, вы! — это уже толпе. — Кто знает местного лекаря? Ну же, вспоминайте!
— Я вспомнил! — орет рыжий. — Опусти кинжал… не надо.
* * *
— Где? — спрашиваю я. — Где мне его искать?
— У Водяных ворот, инсула, третий этаж.
Давно бы так.
— Отлично.
Я отпускаю рыжего — он тут же отскакивает на безопасное расстояние. Убираю пугио в ножны… оглядываюсь. Та — ак.
Такое ощущение, что людей в таверне прибавилось.
— Может, лучше сыграем в «дюжину»?
Угрюмое молчание.
Похоже, местным находка с бритьем не очень понравилась. Они медленно обступают меня. Лица недобрые, рыжий подхватил кочергу. За их спинами я вижу братцев — гладиаторов, которые смотрят на происходящее, сложив могучие руки на груди.
— Хорошо, — говорю я. С тихим шелестом меч выскальзывает из ножен. Вот и пришло время гладия. — Ну, кто первый?
Словно я тут всех положу, один. Оптимист.
— Я — гражданин Рима, — говорю я. — Слышите?
Им все равно. Один из ублюдков — тот, что с бельмом на глазу — пытается достать меня ножом снизу, из‑под руки. Подлый прием. За такое в кабаках Субуры ломают руки…
Я пинаю со всей силы, звон металла — нож ударяется в стену. Н — на!
Все будет хорошо…
Кто‑то обхватывает меня сзади. Сукин сын!
…даже если — не будет.
Не глядя, бью локтем. Хруст! Вопль. Гладием задеваю руку рыжего, тот отступает к стене и начинает орать. Кровь течет по голому предплечью, капает на пол. Рыжий орет. Дурак. Если бы я хотел убить, уже убил бы…
«Мой меч — это я».
— Ааааа!
С острия гладия срывается темная капля. Остро пахнет кровью и чесночным соусом.
Капля разбивается. Щелк!
Ситуация непростая. Или они задавят меня числом — или я их всех поубиваю. Но это уже что‑то из области сказаний о Геркулесе…
— Берегись! — знакомый голос. Кажется, это один из братьев — гладиаторов. — Сзади!
Я успеваю повернуться и увидеть — оскаленные зубы, гримаса ярости…
Кочерга летит мне в лоб…
В последний момент я вскидываю гладий. Металл звенит. Сустав едва не выворачивает. В ладонь отдается так, что я чуть не роняю меч.
Проклятье!
Почему я пришел сюда без Тита Волтумия?! Было бы кому прикрыть мне спину!
Рыжий оскаливается и снова поднимает кочергу.
— Сюда! — слышу я голос.
Краем глаза замечаю движение. Здоровенный легионер расшвыривает местных в стороны — с легкостью. Бум, трах, н — на! С грохотом переворачивается деревянный стол, один из бродяг оказывается под ним… отлично!
Я бью рукоятью гладия в лоб самому настырному — н — на! — и иду вперед. Запрыгиваю на стол и взмахиваю мечом. Теперь нужно добраться до выхода. Но как?
Легионер машет рукой.
— Сюда! — кричит он. — Сюда, друг!
Я перепрыгиваю на другой стол, перебегаю. Мы с треском вываливаемся на улицу. Здоровенный полосато — серый котяра смотрит на нас с удивлением. Щурит желтые равнодушные глаза.
— Легат?! — мой спаситель удивлен.
Он кажется мне смутно знакомым.
— Ты — Виктор? — говорю я. — Верно? Семнадцатый Морской?
Легионер закрывает рот.
— Так точно, легат. — Выпрямляется, салютует. — Секст Анний, первый манипул второй когорты! Я был с Титом Волтумием… если помните.
— Милит?
— Арматура, легат.
Все «мулы» разделяются по сроку службы. Начиная от тирона — новобранца до эвокати — ветерана, отслужившего двадцать лет и добровольно вернувшегося на службу. Арматура — золотое сечение, костяк легиона. Это солдат, который служит давно и умеет все, что должен уметь легионер, но пока не освобожден от повседневной работы.
Когда я только ехал в Германию, Виктор сопровождал мою повозку от границы с Бельгикой до самого Ализона. Тогда мы еще столкнулись с галлами — дезертирами. В том бою я познакомился с Арминием, царем херусков, нашим союзником. Моим другом.
Давно это было…
Примерно месяц назад.
— Для римлян тут небезопасно, легат, — Виктор чешет затылок. — Даже для таких больших и красивых, как мы.
Я не выдерживаю. И смеюсь. Виктор тоже начинает смеяться…
Мы стоим в переулке и хохочем. Это нервное. Наконец я говорю:
— Берегись!
— Легат?
Я хватаю его за тунику и дергаю на себя. Треск ткани. Бум! Прилетевший из темноты камень ударяет в стену дома — там, где только что была голова легионера.
— Вот сукины дети, — говорит Виктор с каким‑то даже восхищением. — Нам бы побыстрее свалить, легат.
Побыстрее? С удовольствием, но…
— Мне нужен лекарь.
— Я знаю, где это, — говорит Виктор. — Бежим!
* * *
Они настигают нас в переулке. Обходят с двух сторон — по всем правилам военного искусства.
Темнота сгущается.
Даже в Субуре, самом мрачном и опасном квартале Рима, есть ночное освещение — уличные лампы. Чтобы, когда тебя будут резать, резали с удобством, не напрягая глаз. В Германии ничего подобного нет.
Только звезды.
— Эй, римлянин, — доносится из темноты стерто — безличный голос. — Слышишь? Самое время расплатиться…
Я киваю: верно. Обожаю драки в подворотнях. Ничего не видно, противники злы, безжалостны, напуганы и обычно пьяны. В ход идут ножи и палки, а пинать лежачего считается классическим приемом.
В Риме я частенько участвовал в подобных развлечениях. Правда, я обычно бывал с компанией… что и спасало, видимо, мою голову.
Из темноты возникают три настороженные фигуры.
Бельмастый пришел не один. Ничего, остальными займется Виктор. С утробным рычанием легионер наступает на них, фигуры шарахаются…
Бельмастый делает шаг вперед. Тусклый недобрый блеск железа. В руке у бельмастого — гладий. Все понятно: это варвар с римским мечом…
А с варварами у меня разговор короткий.
Бельмастый ухмыляется. Я вижу, как белеют в темноте его зубы.
В следующее мгновение я с силой бью гладием по клинку его меча. Раз! Вижу растерянное лицо, отвожу руку назад. Коли, коли, коли! — учит центурион новобранцев…
Два!
Я поворачиваю кисть, чтобы гладий плотнее вошел в тело. Бельмастый смотрит на меня — в глазах удивление. Рот открывается. Черная дыра глотки. Извини, ты сам напросился.
За моей спиной — хриплый рев Виктора. Крики, торопливый топот. Приятели бельмастого решили нас оставить. Отлично.
Гарда упирается в мягкое. Я рывком припираю бельмастого к стене.
Вонь его дыхания режет глаза. Чеснок и много лука. Гнилые зубы.
Я моргаю. Приближаю голову к лицу ублюдка — он вздрагивает, словно пойманная рыбина. Пытается сорваться с крючка.
— Это мой меч, — говорю я негромко и выдергиваю клинок. — Я убиваю им своих врагов.
Отступаю на шаг.
Из его рта вырывается струйка крови, пачкает подбородок.
Бельмастый делает шаг. Падает на колени.
— Львы — говорит он. Жутким, потусторонним голосом. Я вздрагиваю.
— Смерть, смерть… никого не останется…
Кровь заливает мостовую, вокруг его ног расплывается пятно. В черной лужице отражается полоска неба над нашими головами.
— Слышите, римляне! Львы пожирают… львов… Львы! Львы!
Он дергается — и затихает. Кончено.
Виктор выглядит не на шутку обеспокоенным.
— Легат, я… я слышал про предсмертные предсказания… и он говорил… Он говорил… что… Я же слышал!
— Пошли, солдат. Это всего лишь еще один мертвый варвар.
* * *
— Здесь, легат, — говорит Секст Виктор. — Наверху.
В сумерках дом кажется каменной горой. А мы идем в поход на живущего в пещере злобного Циклопа, пожирателя людей и овец.
Мда. Сомнительная метафора.
Потому что Одиссея тогда чуть не съели.
— Легат?
Я киваю. Мы поднимаемся по узкой лестнице. Гем, сидя на ступеньках, провожает нас мутным, равнодушным взглядом.
Третий этаж.
— Останься здесь, — говорю я Виктору хрипло. Голос внезапно сел. Я стою на пороге тайны — тайны, которая, возможно, изменит все.
— Да, легат, — Виктор кивает. Встает у двери в задумчивой позе. Ладонь на рукояти гладия.
Молодец, солдат.
* * *
— Что это сегодня был за шум?
Мирца закручивает волосы в узел на затылке, поднимает вверх. Такую прическу делают знатные римлянки и дорогие гетеры. Но ей она тоже идет. С ее темными волосами и тонкой шеей — и кошачий изгиб спины! — Мирца хорошо смотрится.
Даже со своими синяками.
Она красивая. Теперь Мирца это знает. Как сегодня тот дезертир на нее смотрел… хотя он не дезертир, конечно… Но смотрел хорошо.
— Дезертир не поделил что‑то с Рыжим и Людоедом, — говорит она.
— Правда? И кто выиграл?
— Дезертир заколол Людоеда до смерти, а Рыжему порезал шею.
— Крутой парень, — говорит Тиуториг равнодушно. — Как же они так сплоховали? Вроде ребята крепкие.
Хотя на самом деле ему наплевать на всех Рыжих и Людоедов вместе взятых. Они этому голубоглазому на один щелчок, не противники…
Голубые глаза, не мигая, смотрят, как она раздевается. Это почему‑то приятно, хотя и страшновато.
— Ему помог другой солдат. Тоже, видимо, дезертир.
Он кивает, не слушая. Протягивает левую руку.
— Иди ко мне.
* * *
Она берет его рубаху.
На табурете остается желто — розовая неживая рука. Она лежит ладонью вверх, ремни небрежно ослаблены. Полусогнутые пальцы смотрят вверх — словно отростки или корни. Эта рука пугает Мирцу, но она храбро касается ее пальцами.
Рука неожиданно теплая. Даже странно. Это почти приятно.
Рубаха, вспоминает Мирца.
Это явно подшито женской рукой. Мирца неожиданно чувствует ненависть к той, что так ровно наложила стежки. Странно. Кто она такая, чтобы ревновать голубоглазого к каким‑то там женщинам?! Он ей даже не нравится.
Совсем нет.
— Кто это шил?
Он равнодушно пожимает плечами.
— Моя жена.
— А это? — Мирца берет с табурета его штаны.
— Жена.
Она смотрит на него в ярости.
— Лжец! Здесь другая рука.
Тиуториг усмехается, а глаза остаются холодными. Но хотя бы нет этих щелчков — как бывает, когда у него плохой день. И это ее радует. Иногда с ним действительно жутко находиться рядом. Один раз он ее чуть не убил.
Это странное счастье, когда однорукий приходит сюда, в «Счастливую рыбу». Но все‑таки это счастье.
— Значит, и жена другая, — говорит он. Мирца взрывается.
— Сколько у тебя жен?
Беловолосый смеется. Голубые глаза горят ярко — до безумия. Мирца не хочет смотреть, но все равно смотрит.
— Так сколько? — она прижимается к его плечу, толкает, чтобы он, наконец, перестал хохотать. Но его это еще больше смешит.
— Много, — говорит Тиуториг. — Тебе так важно знать?
— Нет.
— Хочешь быть одной из них?
Мирца замирает. Встает.
— Нет, — говорит она. — Ни за что!
Варвар с белыми волосами и голубыми глазами выдыхает, запрокидывает голову. У него щетина, он давно не брился.
— Я вернусь, — говорит он. — Закончу одно дело и вернусь. И неважно, сколько у меня жен. Я заберу тебя с собой. Мы поедем…
— Куда?
— На теплое море, — он ухмыляется каким‑то своим воспоминаниям. Мирца чувствует ревность. Среди тех воспоминаний ее нет. — Туда, где жарко. В Грецию, например. Или в Африку. В Иудею. Почему нет? Тем более что мне все равно туда надо.
— Сейчас?
Усмешка.
— Лет через десять. Но можем поехать раньше, если хочешь.
— Ты выкупишь меня у хозяина? — спрашивает она с надеждой.
— Выкупить? Зачем? — он поднимает брови. Открывает голубые жестокие глаза. Мирца вздрагивает. Щелк. И снова два человека внутри него совмещаются, и говорит один:
— Я просто тебя заберу. Так будет…
— Романтичней?
Щелк. Глаза застывшие и не выражают ничего.
— Забавней, — говорит он наконец. Голос тоже изменился. Теперь он хриплый и низкий. — Намного забавней.
* * *
В жилище философа царит полумрак. Пахнет пряностями и медом, шалфеем и какой‑то едкой мазью. Я прохожу пустую комнату, откидываю занавесь. Замираю на пороге.
Я знаю этого человека.
Точно! Африканец в остроконечной шляпе, тот, что выступал во дворце Вара.
Еще у него должен быть помощник в сером плаще, тощий, словно фокусник его никогда не кормит…
— Господин? — Фокусник сидит на кушетке, полулежа, и вставать не собирается. Комната освещена огнем нескольких светильников.
— Кто ты? — спрашиваю я.
— Что?
— Я говорю: как тебя зовут? На самом деле?
Философ разминает тонкими пальцами персик. Красивое лицо — в его чертах нет ничего африканского. Если бы не темная, почти черная лоснящаяся кожа, философ бы сошел за римлянина. Или грека.
Он совсем не похож тех ливийцев, которых я знал, будучи младшим трибуном при африканском легионе.
— Это неважно. Мое имя плохо звучит на вашем языке. — Философ качает головой. Его темные пальцы с розовыми подушечками разрывают желтую мякоть. Брызжет сок. — Зовите меня Острофаум, господин. Этого вполне достаточно. Что‑нибудь еще?
Я делаю шаг вперед.
— Луций Деметрий Целест, — говорю я. — Ну же, вспоминай!
Молчание. Остро пахнет убитым персиком.
Шаги. Я поворачиваюсь — мгновением раньше, чем успеваю задуматься. Ладонь на рукояти гладия. Пауза. Из боковой двери появляется помощник фокусника. В сером плаще, лицо закрыто капюшоном. Помощник проходит мимо меня, словно не заметив, неловко опускается на колени у жаровни, начинает раздувать огонь. Я выпрямляюсь.
— Что господин желает знать? — фокусник смотрит на меня.
— Ты лечил моего брата?
— К сожалению. Я ничем бы не смог помочь вашему брату, господин, — говорит философ. — Простите.
Впервые вижу врача, который извиняется не за свое умение, а за попытку помочь.
«Смотри, Гай». У меня начинает кружиться голова. В горле першит, я с трудом сглатываю.
— Чем он был болен?
— Насколько я могу судить… — философ поднимает голову — белки глаз резко выделяются на фоне темной кожи, — Это финикийская болезнь. Так называл ее великий Гиппократ.
Я молчу. Вот оно что. Это, чрево Юпитера, многое объясняет…
Колени на мгновение слабеют, усилием воли я заставляю себя выпрямиться.
У моего брата была проказа?!
Финикийская болезнь, от которой человек сгнивает заживо. Теряет пальцы, руки, уши. Безносые, безглазые — они бродят вереницами по Германии, Италии, Ливии. В Иудее, говорят, в горах есть целый город прокаженных.
Им приносят еду и одежду. Как мертвым.
— Язвы, — говорю я хрипло. Перед глазами: тело брата, плавающее в кусках льда. Бледное, искаженное лицо. Таким Луция привезли из далекой Германии в солнечный и жаркий Рим. Я напрягаю память: — Подожди. У него же не было язв!
Философ качает головой. У него гладкое лицо без возраста, только между бровей залегли глубокие морщины. И над всем этим — шутовской колпак с блестками.
Он забавен. И страшен одновременно.
— Самое начало болезни. Только две небольшие язвочки — вот здесь и вот здесь, — фокусник показывает. Я не могу оторвать взгляда от его черных рук с розовыми ладонями. Проклятье! Все время жду, что он вынет из рукава яйцо или голубя. Или — я невольно усмехаюсь — воробья.
Это было бы жестоко, но очень смешно.
— И… что? Что дальше, вот что я хотел бы знать…
— Дальше? — философ спокойно поднимает взгляд. — Это вы мне скажите, легат.
— Мой брат был… очень настойчив?
— Очень? — философ усмехается. — Это мягко сказано. Ваш брат умел быть убедительным. И тогда появилась фигурка. Маленькая металлическая птичка.
Я запускаю руку в ворот туники и вытягиваю шнурок. Выкладываю ее на ладонь.
Птичка. Она странно холодная и тяжелая — для своего размера. Короткий клюв, пухлое тело.
— Такая?
Фокусник не отвечает. Впрочем, ответ мне и не требуется.
— Откуда берутся такие фигурки? — я смотрю на него в упор, не мигая. — Я хочу знать. И ты мне расскажешь.
Фокусник некоторое время молчит, затем улыбается. Это не очень веселая улыбка.
— Кажется, вы похожи на своего брата больше, чем думаете, — мягко замечает он.
— И все же?
— Хорошо. Я расскажу.
* * *
Он рассказывает о фигурках, о предметах, о правилах и запретах.
Большинство волшебных фигурок попало к людям из Атлантиды — после ее гибели. Орихалк. Вот какой небесный металл имел в виду Платон в своих диалогах! Металл, который практически невозможно разрушить.
— Так эти фигурки созданы в Атлантиде?
Фокусник качает головой.
— Не совсем, легат. Они были созданы намного раньше Атлантиды. Хотите персик?
Я качаю головой. В этот момент я замечаю у фокусника на груди странный амулет. Словно бы крест, распятие…
Нет, глупости. Кто по доброй воле будет носить на груди знак позора и смерти?
Не забивай себе голову, Гай. Разве в этом сейчас дело? Но все же мне интересен этот человек.
— Откуда ты?
Фокусник смотрит на меня, взгляд совершенно спокойный. Он знает, что я могу с ним сделать — и не боится. Совсем.
Это мне нравится.
— Я приехал издалека, легат. Настолько издалека, что даже сам не понимаю, как здесь оказался. В своей стране я был служителем бога…
Я наклоняю голову и разглядываю фокусника — с новым чувством. Действительно, некое достоинство в нем ощущается. Словно за спиной Острофаума стоит кто‑то много больший, нежели человек.
— Ты — жрец? Тогда что случилось?
— В моей стране появился могущественный, но не очень умный правитель. Он заявил, что моя вера нарушает законы и что нужно вернуть старых богов. Он запретил давать детям имена согласно моей вере, а только старые, времен древних богов…
— И ты нарушил запрет?
— Совершенно верно.
— И что дальше?
Фокусник пожимает плечами. Теперь мне кажется, что ему больше лет, чем самому Августу.
— Об этом донесли правителю, и меня посадили в тюрьму. Это вполне милосердно, потому что с тем же успехом мне могли отрубить руки. Или повесить вниз головой на ближайшем дереве. У нас это обычное дело… Тюрьма. Не самое приятное место. Я провел там пять лет. Пять очень долгих лет. А когда меня почему‑то выпустили, я пошел домой.
— И?
Философ улыбается. Загадочно и мудро. И даже почти весело.
— И не дошел.
— Жалеешь об этом?
— Иногда.
Молчание. Философ крутит тонкими черными пальцами, разминает суставы. Достает монету и начинает перекатывать по костяшкам. Вечная работа, иначе потеряешь навыки.
В комнате клубится сладковатый дым. Поднимается над жаровней.
— Но откуда у Луция фигурка из Атлантиды?
Это то, чего я пока не понимаю.
— Я дал ему, — говорит помощник философа, сидящий в плаще с капюшоном, закрывающим лицо. Он встает, делает шаг — ко мне. Словно огромная тень движется за ним — я моргаю. Нависает над целым миром, поглощая свет. Нет, показалось.
Я почти испугался. Надо же…
Всего лишь игра света.
Я вглядываюсь во тьму под капюшоном. Кладу руку на рукоять меча.
— Кто ты? — спрашиваю резко. — Отвечай!
Молчание. Вместо ответа помощник поднимает забинтованную ладонь к голове и откидывает капюшон. Я моргаю. В первый момент это кажется дурацкой шуткой. Боги!
Невольно отшатываюсь.
Чрево Юноны! Боги!
Под капюшоном — полупрозрачная голова с прожилками. Биение сердца отдается по всему телу.
Призрак, которого я видел однажды, во время схватки с германцами. И вот он здесь, передо мной.
Я вытягиваю гладий из ножен. Легкий скрежет. Тусклый блеск железного клинка.
«Это мой меч. Я буду убивать им своих врагов».
Даже если эти враги — не совсем люди.
— Приветствую тебя, Гай Деметрий Целест, — говорит призрак. — Ты спрашивал про Атлантиду? Я могу рассказать.
Я молчу. Возможно, стоило бы сначала ударить, затем рассуждать, но…
Почему‑то мне кажется, что меч не причинит ему вреда.
— Откуда тебе знать? — спрашиваю я.
Стеклянный человек негромко смеется. Так, наверное, смеются боги…
Полупрозрачные зубы в полупрозрачном рту. Полупрозрачный язык.
…Боги, чтоб их, отвратительно смеются.
— Потому что я — из детей Посейдона, — говорит он.
— Как? — я не сразу понимаю.
— Вы называете нас… атлантами.
— Что?!
Океан покрыл развалины великой Атлантиды. Остались только сказания…
— Меня зовут Пасселаим. Я — один из последних атлантов.
Я молчу.
В воздухе кружится, вспыхивая в свете факелов, мелкая золотистая пыль.
* * *
— Это все не случайно, — говорит прозрачный. — Случайностей не бывает, Гай Деметрий Целест. Любая случайность — это результат выбора того или иного варианта.
Я смотрю на него, не мигая. Вдруг он исчезнет посреди белого дня? Испарится, как туман. Как испарился прозрачный человек, которого я видел во время грозы.
— Каждая фигурка имеет определенную силу. Орел — влияет на людей, заставляет верить, как самому себе, воодушевляет. Это предмет для правителя, полководца или мессии. Ящерка — или саламандра — дает бессмертие. Воробей…
— Возвращает мертвых, — говорю я хрипло.
Стеклянный человек улыбается и кивает — словно я маленький ребенок, который случайно сделал что‑то правильно. Смешно.
— Почти угадал.
Я представляю германца Стира — чудовище, отрывающее руки гладиаторам. Песок арены. Вопли толпы. Серебристая фигурка на широкой ладони, он мажет ее кровью убитых…
— Что делает Бык? — спрашиваю я.
— Бык? — похоже, мне удалось застать призрака врасплох. — Ты видел фигурку Быка? Где?!
— Это не ответ.
— Бык дает силу. И все. Когда‑то он был у Геракла… Геркулеса.
Безумие германца Стира. Безумие Геракла. Вот в чем дело.
— Силу и… безумие?
Прозрачный человек смотрит на меня. Поднимает брови.
— Что ж… Хорошая догадка, Гай Деметрий Целест. Ты прав. У каждого магического предмета есть то, что делает его не таким уж желанным приобретением.
— Колдовство?
— Скорее, побочное действие. Каждая фигурка забирает часть здоровья. Даже та, что дает бессмертие.
Не бывает дара богов без подвоха. Дар в любом случае несет с собой и проклятье.
— Зачем вам это?
— Мы хотим вернуть свою родину.
— Атлантиду?
Пауза. На мгновение мне показалось, что по губам прозрачного человека скользнула усмешка.
— Да… Атлантиду.
Он продолжает:
— Но для этого нам был нужен человек. Человек, который мог собрать воедино тысячи фигурок. Можешь называть его героем. Или мессией. Это неважно. Главное, что был тот, кто мог стать этим избранным…
До меня нескоро, но все же доходит.
— Мой брат?! Луций?
— Твой брат подавал большие надежды. Жаль, что он так распорядился предметом.
— Как?
Он не отвечает.
Как мой брат распорядился предметом? Умер с ним в руке?! Тоже мне, выбор.
— Ты, легат — не самый лучший хозяин для Воробья, — говорит прозрачный. — Он принесет тебе только горе. Поверь.
Может, стоило бы вернуть фигурку?
Правда? И как мне потом найти ответы?! Хороший вопрос.
Что было написано на столе в той таверне?
«Встань и уезжай
Ты не знаешь игру»
Верно. Я не знаю игру. Но я не собираюсь сдаваться.
— Я рискну, — говорю я.
Молчание.
— Что ж, — кивает прозрачный человек. — Это твой выбор.
* * *
Открываю глаза. В комнате клубится дым — резкий сладковатый запах тлеющей на углях травы. От копоти слезятся глаза и першит в горле.
Я резко сажусь.
Висок словно пронзает железная игла. Ох!
Фокусник смотрит на меня непроницаемым темным взглядом. Белки глаз у него синеватые.
— Что? — спрашиваю я. В голове звенит. Морщусь и потираю висок. Ощущение, что я с глубокого похмелья.
— Проклятье, — говорю я. — Я… что, заснул?
Фокусник, черный как помешательство, слегка улыбается.
— Так и есть. И, похоже, разговаривали с богами, легат.
Кха — кха. Я откашливаюсь. Во рту кисловатый привкус — как от вулканического пепла.
— Что это было?! Где прозра… — я замолкаю.
Я вижу человека в капюшоне. Он сидит спиной ко мне у жаровни. Значит, это был не сон?!
В два шага я оказываюсь рядом. Сдергиваю капюшон…
И застываю. Проклятье!
Человек поднимает голубые глаза. Глубокий шрам пересекает лицо от виска до челюсти. Светлые волосы, прямой нос. Ему лет двадцать пять. На щеке выжжено клеймо — беглец.
Он уродлив, да. Но он человек и раб, а не прозрачный… или полубог.
— Прости, — говорю я.
Лицо фокусника неподвижно, словно каменная маска.
— Прощайте, легат, — говорит он. — Может, еще встретимся. И удачи вам.
Я киваю.
Смешно.
Глава 4. Человек с серебряным лицом
Титан Прометей подарил людям огонь. И в каждом человеке есть частица этого дара — иначе бы у нас не было бессмертной души.
Так говорят.
Но одно все забывают…
Откуда Прометей взял огонь? Правильно. Позаимствовал у кузнеца Вулкана, обитающего в глубинах Эреба. В подземном мире…
В мире мертвых.
Какая ирония. В каждом из нас — без исключения! — горит огонь Преисподней. Отражаясь в черных водах болота Коцит. Да, за это надо выпить неразбавленного…
Каждый человек носит в себе частицу Ада.
* * *
«Эй, ты!» — удачное имя для домашнего раба. Никогда не забудешь.
— Господин, он здесь, — говорит Эйты.
— Хорошо.
Я откладываю стило и восковую табличку, встаю.
В атриуме палатки ждет невысокий кавалерист. При виде меня он выпрямляется. И тут я понимаю, насколько он худой. Скелет, кое‑как обтянутый кожей. Болезненно бледное лицо с желтизной, запавшие глаза.
Он вскидывает руку, чтобы отдать честь — и вдруг начинает кашлять. Пытается зажать рот ладонью. Бесполезно.
Кха — кха. И словно рвется что‑то внутри. И чем сильнее кавалерист пытается сдерживаться, тем хуже.
— Про… простите, легат, — говорит он наконец.
— Давно это у вас?
Кавалерист поднимает взгляд. С трудом выпрямляется.
— С похода Тиберия.
Всего два года? Великая Германия сожрала его здоровье и силу. Выпила его кровь. За это время от человека остались кожа, кости да боевые награды…
Грудь кавалериста увешана фалерами — за храбрость, за взятие чего‑то там, за осаду крепости и прочее.
Награды тяжелые. Это, видимо, чтобы его не унесло ветром.
Марк Скавр, декурион всадников Восемнадцатого легиона, четко салютует:
— Легат!
— Это ты нашел моего брата, декурион?
— Да, легат.
Я медлю, прежде чем задать следующий вопрос.
— С вами кто‑то был?
— Да, легат. Однорукий по имени Тиуториг. Этот гем был у нас проводником. Раньше он нам несколько раз помогал, и все проходило хорошо. Но на этот раз…
То есть… я закусываю губу. Проклятье!
Однорукий Тиуториг привел солдат к месту убийства. А это не мог быть другой однорукий?
По времени не совпадает. Потому что к моменту появления в деревне всадников Марка Скавра, мой брат и его люди были уже мертвы.
Проклятье, проклятье, про…
Я стучу по столу ладонью, потом соображаю, что делаю. Поднимаю голову.
— Когда вы нашли убитых, кровь была свежей?
Декурион кивает:
— Прошло всего пара часов, может, даже меньше.
— И убийцы могли находиться рядом, — говорю я медленно. — Интересно. Закололи всех римлян и…
— На вашем брате не было ран.
— Нет?
Этого я не знал.
— Мы нашли его в доме. Сидел с открытыми глазами, за столом. Он уже не дышал, легат. Но… — декурион запинается.
— Что «но»?
— Ну, он скорее выглядел спящим, чем мертвым.
Спящим? Интересно. Яд не очень сходится с моим представлением об одноруком. Этот гем скорее убьет собственными руками… вернее, рукой… чем возьмется за отраву. К тому же «яд» подразумевает знание о ядах. Что не так просто. Это уже Рим. Египет. Или, скажем, Парфия и дальше на восток. Там это дело любят. А тут люди простые… варвары.
— Яд?
Декурион пожимает плечами.
— Не знаю, легат. Я не очень в этом разбираюсь.
Я молчу. Думаю.
«Случайностей не бывает», сказал последний из атлантов. «Случай — это просто выбор того или иного варианта».
— Марк? — говорю я наконец. Поднимаю взгляд. Кавалерист переступает с ноги на ногу.
— Легат?
— Покажешь мне это место?
* * *
Небесный эфир, он же квинт эссенция — пятая стихия. Легчайший слой воздуха, в котором живут и которым дышат боги. Если задрать голову и посмотреть вверх, то его даже можно увидеть. Он голубого цвета. Он — целест. Небесный.
Его зовут так же, как меня. И как звали моего брата. Как нашего отца.
Семейное прозвище.
Означает высоту стремлений, чистоту помыслов, полет мысли… и что‑то еще.
А еще мы очень жестокие. По себе знаю.
* * *
Тит Волтумий, старший центурион Семнадцатого легиона. За сорок, круглая голова с сединой в висках. Жесткие черты лица, крупная челюсть. Насмешливые морщины в уголках глаз. Центурион идет, слегка прихрамывая. В какой‑то момент он оступается и едва заметно морщится. Тит Волтумий был ранен в ночном бою, когда наши пути пересеклись с шестью гемами. Меня тоже задели, но то была царапина. Рана Волтумия оказалась гораздо серьезнее…
Центурион берет себя в руки, подходит и салютует — четко и красиво. Как всегда.
Хромота почти незаметна. Если бы я не знал, то…
— Как твое бедро? — спрашиваю я.
Центурион кивает, щурится:
— Спасибо, легат. Уже могу танцевать.
Я хмыкаю.
— Конечно, конечно. Рад тебя видеть, Тит. И — давай выздоравливай. Ты мне нужен. — Я поворачиваюсь, чтобы идти.
— Легат?
— Что, Тит?
Глаза центуриона ярко — золотистые, как мед. Он наклоняет голову, смотрит на меня исподлобья.
— Вы, наконец, скажете, куда собираетесь? Или мне догадываться?
Я улыбаюсь. Мне сильно не хватало этого долбанутого на всю голову служаки…
— На танцы, центурион. На танцы.
* * *
Почему умер мой брат?
Я спрашиваю у богов — и напрасно жду ответа. Молчание. Тишина в эфире.
С тем же успехом я мог спросить, почему вольноотпущенники Августа убили моего отца. Или почему сделали это на моих глазах?
Кровавое пятно на белоснежной отцовской тоге…
Целест — означает небесный.
Огромное зеркало из черной бронзы, доставшееся мне в наследство от брата, высится посреди палатки. Оно такое старое, что, вероятно, перешло к Луцию от предыдущего легата.
Я внимательно разглядываю в отражении свой правый глаз. Оттягиваю веко.
Голубой. Нет, вы серьезно? А другой — я оттягиваю веко и внимательно его разглядываю — зеленый.
Я надеваю перевязь с мечом, поверх — солдатский пояс с широкой пряжкой. Сверху — шерстяной плащ. Застегиваю сагум фибулой на правом плече. Кинжал пугио — в ножнах на поясе. Кажется, все.
Нужно ехать. В этот раз я не совершу ошибки — как тогда, с распятым германцем. В этот раз со мной будет Тит Волтумий, старший центурион, гроза легионной «зелени»…
А также Марк Скавр и целая турма всадников.
Выхожу из палатки. Меня уже ожидают. Вереница солдат расположилась на Санктум Преториум — главной площади лагеря. Алые вексиллы колеблются от ветра.
— Все готово?
Декурион кивает. Они с Титом обмениваются приветствиями — как старые знакомые. Я сажусь верхом, натягиваю повод, жеребец переступает. Все, пора трогаться.
Центуриону подводят каурую кобылу.
— Проклятье, — говорит Тит. — Я так и думал, что тут какой‑то подвох…
Тит влезает на лошадь без особого удовольствия. С недоверием смотрит на ее загривок. Все‑таки он пехота, «мул», для него лошади — что‑то совсем чуждое. Я сжимаю коленями бока жеребца.
— Поехали!
* * *
Спустя несколько часов, когда солнце начинает клониться к горизонту, мы прибываем на место.
— Легат, — декурион придерживает коня. Тот со злостью грызет удила. — Вот она, та деревня.
Я киваю. Спешиваюсь — ноги болят так, что я еле могу идти — и веду коня в поводу. От покосившегося частокола и заброшенных амбаров ложатся на дорогу вытянутые, угловатые, изломанные тени. Вечер. Лучи солнца пробиваются сквозь листву, все залито красноватым светом — словно это вода с растворенной в ней кровью. Негромко стучат копыта.
Заброшенная деревня. Место, где люди больше не живут.
Владение мертвых.
Туман скапливается в низинах. Сквозь прозрачную белесую пелену медленно прорастают стволы сосен.
Деревня — это правильный круг, огороженный частоколом. В центре огромный бревенчатый дом. Обычное дело для местных деревень, объясняет декурион. Марк — разведчик, поэтому знает о германцах больше, чем они сами.
Мы объезжаем дом по широкой дуге.
— Здесь мы их похоронили, — говорит кавалерист.
Ветер усиливается. Шелест листьев над головой становится тревожным. Словно предупреждает меня:
«Остановись, Гай. Ты еще можешь остановиться».
Перед моим лицом пролетает, кувыркаясь, желтый лист. Я поднимаю глаза — над общей могилой «мулов» Семнадцатого легиона, убитых здесь два месяца назад, шумят буки и ясень. Далекие сосны скрипят тоскливо. Жалуются на забвение.
Красно — желтый слой опавших листьев покрывает землю…
Скоро осень. Она уже здесь.
Я говорю:
— Центурион, вы со мной. Остальные — с декурионом. Марк? Выставьте посты и ждите приказа.
Декурион кивает. Он маленький и очень худой, и забавно смотрится на крупном испанском жеребце. Тот косит на меня лиловым глазом и дергает ушами.
Лошадям в деревне не очень нравится. Я их понимаю. Когда мы с центурионом остаемся одни, я говорю:
— Тит.
— Да, легат. — Центурион ждет. Конная поездка нелегко далась ему, лоб блестит в испарине.
Я говорю:
— Прикажи всадникам принести лопаты. Земля, похоже, затвердела.
Он медлит:
— Легат?
— Что, Тит?
Центурион смотрит на меня. Щурится.
— Хочу напомнить. В прошлый раз мы снимали с креста распятого человека…
— Верно, центурион. Так и было.
— Потом вы оживляли его.
— Да, но…
— Мне это не очень понравилось.
— Я понимаю, — говорю я медленно. Тит Волтумий — единственный, кто знает о моей фигурке. Не считая фокусника и прозрачного атланта.
— Вернее, совсем не понравилось. Скажу, чтобы не было никаких сомнений, легат. Мне — не понравилось.
Молчание. Где‑то вдалеке кричит ночная птица. Проклятая сова. Совы — это к несчастью.
— Никаких сомнений, Тит. Я понял. Что ты хочешь этим сказать?
Тит Волтумий поднимает взгляд. Ухмыляется. Вокруг глаз — насмешливые морщины. В медового цвета глазах отражается закат.
— Что я хочу сказать, легат? Я хочу сказать: откапывать мертвецов мне понравится еще меньше…
* * *
Но мы это делаем.
Мы втыкаем лопаты в землю, наши лица закрыты тряпками. Перемазавшись как последние рабы, снимаем верхний слой. Отшатываемся от запаха. Снова копаем. Наконец, вытаскиваем одно из тел. На нем еще сохранился саван. Этот мертвец выглядит более — менее целым. Он напоминает скорее не человека, а личинку гигантского жука.
— Внутрь, там нас не будет слышно, — говорю я. В мертвой, жутковатой тишине мы волоком затаскиваем тело в дом. Выходим отдышаться.
От сладковатой вони мертвечины кружится голова.
— Теперь иди, Тит, — говорю я. — Дальше я сам.
Центурион медлит.
По римским поверьям, касаться вещей и одежды мертвеца — значит, подставить себя под удар богов. Проклятье еще никто не отменял. Так что Титу нужно найти жреца и очиститься.
Мне проще. Я в богов не верю.
— Ступайте, центурион. Это приказ.
Он нехотя салютует.
Я достаю фигурку Воробья.
Металл холоден под пальцами.
«Мертвых нельзя вернуть», — вспоминаю я… и сжимаю фигурку в кулаке. До боли. Ее края врезаются в пальцы.
Но иногда — все‑таки можно.
* * *
Мертвец лежит передо мной. Он мало похож на человека — после двух месяцев, проведенных в земле. Гниль. Смрад. Белые черви. Я зажимаю нос платком, но помогает плохо.
Интересно, сможет ли он вообще говорить?
Но у меня нет выбора. Я слишком далеко зашел, чтобы отступать.
Слушайте, боги, в которых я не верю!
Слушайте, люди, которые не верят в меня!
Я, поклявшийся больше не возвращать мертвых, собираюсь нарушить свою клятву. Радуйтесь!
Я держу фигурку Воробья на ладони. Затем сжимаю пальцы с такой силой, что белеют костяшки. Больно.
Я хочу верить.
«Ты многого не знать, римлянин».
Но я узнаю.
«Вернись», мысленно приказываю я.
Вспышка. Знакомая дрожь — словно все волоски на теле разом встали дыбом…
Словно меня пронзила молния. Я моргаю. Я не знаю, с чем это сравнить…
Это чудо.
Я выдыхаю сквозь зубы. Получилось.
— Ну же, — говорю я негромко. — Ответь мне, солдат.
Долгое мгновение ничего не происходит.
Затем полусгнившие челюсти вдруг размыкаются…
— Кха, кха!
Мертвый легионер кашляет. Куски гнилой плоти вылетают изо рта, я отшатываюсь. Проклятая вонь! Едва сдерживаю дурноту. Держаться, держаться… терпеть, легат!
— Кто ты? — говорю я.
Легионер открывает мертвые глаза, моргает. Мертвая грудь поднимается. Мертвые губы шевелятся. Я нехотя склоняюсь к нему:
— Отвечай, солдат! Ну же! Кто ты?
— Я… я — я… арматура, — это больше похоже на шипение.
«Арматура» — опытный легионер. У него все получается, он знает службу, владеет дротиком, мечом и щитом, может построить лагерь на пустом месте, подвести подкоп под стену и жевать овес вперемешку с прошлогодней травой. Солдаты «арматуры» — это основа легиона.
— Сенат и народ Рима, солдат, — говорю я. — Как тебя зовут?
— К — ке… зо О — о… имий.
Кезон Опимий. Получилось.
Мертвец вернулся.
* * *
Дом построен из сосновых бревен — если бы не вонь мертвечины, я бы почувствовал запах смолы. В дальнем конце светится дверной проем. Через узкие окошки под самым потолком падает свет, пыльными лучами прорезает сумрак.
И он действительно длинный, этот дом.
Раньше пространство было разделено занавесками на каморки для отдельных семей, но после убийства легионеров дом пустует. Похоже, его даже успели разграбить…
Грязные полотна тут и там лежат на полу или свисают со стен. В этом есть нечто жутковатое.
Огромный деревянный стол стоит под углом к стене. На нем сохранились глиняные тарелки с засохшими до камня остатками еды. Словно хозяева когда‑нибудь вернутся…
Никогда.
Мертвец хрипит и шевелится.
Я встаю, делаю глубокий вдох ртом и опускаюсь на корточки — словно ныряльщик за раковинами. Я должен задать вопрос — и получить ответ. Другими словами, мне нужен жемчуг…
— Гай Деметрий Целест.
Невольно вздрагиваю. Голос раздается в заброшенном доме. Низкий и слегка рокочущий. Дом эхом отражает этот низкий голос — так, что начинает гудеть весь, целиком. Вся эта громадина.
— Легат Семнадцатого. Какая неожиданная встреча.
И это говорит не мертвец.
Я поднимаю голову. Ну, наконец‑то…
Встаю. В дальнем конце дома, рядом с дверным проемом, стоит человек. В следующий момент я чувствую разочарование — у пришельца две руки. Проклятье!
Я ждал однорукого. А появился этот.
Он высокий. Широкоплечий.
На лице — маска. Тускло блестит серебро. Я поднимаю брови. Забавно. Похоже, это маска римского всадника. Такие используются на учениях, чтобы защитить лицо от удара копьем. В бою — очень редко. Гладкое лицо без возраста, изогнутые брови…
Человек в маске опасен.
Он настолько опасен, что у меня бежит озноб по затылку. Он словно сгусток чудовищной силы и власти.
— Я слушаю, — говорю я. — Только побыстрее. Я занят.
Человек делает шаг, медленно поднимает длинный меч. Это кавалерийская спата. Отличный клинок.
Хорошо.
Он мягко идет по дому. Ко мне. В определенный момент человек в серебряной маске сдвигается вправо, чтобы солнечный свет был у него за спиной. По клинку бегут отсветы…
Я щурюсь, моргаю.
Хитро. Из‑за проклятого солнца я почти слеп. Человек шагает ко мне черным истончившимся силуэтом в ореоле желтого света. «Серебряная маска» тонет в нем и все равно идет.
Я слышу скрип деревянного пола. Ближе, ближе…
Мягкие сапоги. Он ступает почти беззвучно — словно плывет в потоке света.
Меч плывет вместе с ним.
Что ж… Я выпрямляюсь. Приятно иногда встретиться с противником, который от тебя не бегает.
«Идущие на смерть приветствуют тебя!»
Я кладу ладонь на рукоять гладия. Лишь бы он не подвел. Спата длиннее на ладонь и выкована из отличного железа. И спата, в отличие от гладия, не гнется при ударах…
Человек в серебряной маске неторопливо шагает.
Он рослый и крепкий. И при этом — мягкий, точно кошка. Я отмечаю его обманчиво расслабленные движения. Человек держит спату острием к земле — и приближается.
— Зря ты пришел сюда, — голос из‑под маски искажен.
Я выпрямляюсь. Хо — ро — шо.
— Наконец‑то, хоть кому‑то не наплевать на смерть моего брата, — говорю я. С тихим скрежетом гладий покидает ножны. — Это мой меч. Я буду убивать им своих врагов.
* * *
Мы стоим друг напротив друга — я и человек в серебряной маске.
— Может, сдашься? — предлагаю я. — Обещаю честный суд. Почти.
— Нет, — человек качает головой. Серебряная маска разбрасывает отсветы по стенам. — Я пришел сюда не за этим. Я пришел поговорить…
— Хватит болтовни! — я делаю шаг.
Мы сходимся.
Клинки со скрежетом ударяются. Еще раз. И еще.
Через несколько мгновений я понимаю, что он мне не соперник.
Серебряная маска — неплохой боец. Сильный, гибкий, с хорошей скоростью… длинные руки и высокий рост тоже помогают.
Но у него нет таланта. Он не может импровизировать. Он действует от головы…
И поэтому проиграет. Потому что я умею думать всем телом. Я перехожу в контратаку и увеличиваю темп. Раз, раз, раз — два. Клинки звенят.
Странного убийцу избрали для меня. Могли не пожалеть денег и выбрать лучшего…
Мда. Стиль боя у него до странности знакомый. Похоже, его тоже обучали гладиаторы.
— Подожди! Я пришел… по… поговорить… — человек в серебряной маске уже не может перевести дыхание. Его голос вот — вот сорвется.
— Сдавайся, и поговорим, — я мягко шагаю к нему. Чуть смещаюсь вправо, отвожу руку в сторону. Он зря надел маску. Защита — это хорошо, но прорези ограничивают боковое зрение.
В следующее мгновение я бью справа, почти без замаха. Острие гладия чиркает по серебру маски, оставляя след. Искры. Человек отшатывается. В прорезях маски я вижу его глаза. В них — нарастающее отчаяние.
— Выслушай меня! — у него легкий варварский акцент. Впрочем, это ни о чем не говорит. У половины римлян в Германии такой выговор.
— Сейчас я тебя убью. А потом побеседуем, — я поднимаю гладий.
Зря, что ли, я сегодня собирался оживлять мертвых?!
Этот будет посвежее. Точно.
— Это мой меч, — говорю я. — Мой меч — это мой брат.
Человек в серебряной маске вздрагивает.
Молитва меча пугающе звучит в огромном пустом доме. Я даже себя немного пугаю. Человек в маске выдыхает…
Звяк! Я отбиваю в последний момент. Спата отлетает в сторону — он швырнул ее в меня — и с грохотом ударяется о стену. Падает и звенит.
Я поворачиваю голову, еще не веря, что меня чуть не провели. Сукин сын. Сжимаю гладий…
И тогда человек начинает убегать.
* * *
Похоже, у него длинные ноги. И много отчаяния. Потому что он умудряется прилично от меня оторваться.
Я бегу за ним. Передо мной качается длинный коридор… брошенный стул… полотнище с дырой… порог… крыльцо… Вот он!
У крыльца привязана гнедая лошадь. Проклятье!
Беглец легко, с полпрыжка вскакивает на лошадь, бьет ее пятками. Вперед. Я еще успею догнать…
Вперед!
Выбегаю на крыльцо, прыгаю с высоты помоста. Свист воздуха в ушах…
И промах. Удар. Проклятье, едва не сломал ноги! Я перекатываюсь через голову, вскакиваю. Пятки гудят… не спать! Не спать, Гай. Вперед!
— МАРК, КО МНЕ! — кричу я. — Быстрее! Марк!!
Всадник вылетает из‑за угла, осаживает коня. Декурион Марк смотрит на меня сверху.
— Туда! — я показываю. — За ним!
Декурион мгновение глядит на меня, затем — на беглеца, толкает жеребца пятками, конь делает прыжок… И идет боком. Вот скотина!! Нашел время показывать характер!
Кажется, целую вечность ничего не происходит — а человек в серебряной маске продолжает убегать. Я вижу его спину… гнедой круп его лошади… Уйдет! Проклятье, точно уйдет!
— Марк! Ну же! Быстрее!
Всхрап.
Затем — жеребец декуриона срывается с места. Оскаленные зубы проплывают в двух шагах от меня. Меня едва не сбивает мощной воздушной волной.
Клочья пены срываются вниз, летят на землю. Мышцы перекатываются под коричневой шкурой, из‑под копыт взлетают комья грязи…
Удар!
Проклятый декурион. Этот его Сомик бешено красив.
И забросал, сволочь, меня грязью с головы до ног.
* * *
Я останавливаюсь и едва не кричу от ярости. Ушел! Сукин сын!
— Легат, — центурион, прихрамывая, спешит ко мне.
— Тит, человек в маске… Ты видел его?
— Да, легат.
Я пытаюсь успокоиться.
— Тит, он… этот человек. Кто это был, по — твоему?
Тит некоторое время молчит, лоб рассечен морщинами. Думает.
— Наверное, варвар. Кто‑то из них, кто хорошо с нами сжился и перенял наши привычки.
Не уверен. Не может варвар так перенять наши привычки! Клянусь, по речи, по жестам, даже по манере драться — это точно был римлянин.
— Что еще, Тит?
Центурион трет бровь.
— Хмм. Ну, на мой пехотный взгляд он смотрелся в седле отлично. Почти как германец.
— Маска римского всадника, Тит. Ты заметил?
— Ага. — Центурион медлит, потом говорит: — Думаете, это был один из наших?
Предатель? Не слишком хороший вариант. Кстати…
Я оглядываюсь.
— А где Марк? Где наш собственный кавалерист?
Лицо центуриона в глубокой тени.
— Не знаю.
* * *
Всадники отправляются на поиски, Тит стоит на часах, я возвращаюсь в дом.
Человек в серебряной маске сбежал. Но у меня остался мой мертвец. Я вспоминаю разрытую могилу за домом… Целая декурия моих мертвецов!
Я говорю:
— Кто это был? Скажи, с кем встречался мой брат?
Он шепчет имя. Я наклоняюсь ближе, чтобы разобрать.
— Что? — говорю я. — Не может быть… Что?!
— Это… правда, — хрипит мертвец и замирает. Перекошенная восковая маска вместо лица. Рот открыт. Желтый оскал.
Вонь гниющей истины.
Я стискиваю зубы.
Вонь истины — на редкость омерзительна.
* * *
Я сижу на бревне и смотрю на заходящее солнце. За спиной — шелест листьев. Шаги.
— Тит? Это ты?
— Я, легат.
Некоторое время мы молчим. Смотрим, как солнце прячется в переплетение ветвей. Кроваво — красный закат.
— Слушаешь, Тит?
— Да, легат.
— Почему я никогда не могу остановиться вовремя? А? — я стискиваю зубы. Затем перевожу дыхание: — Как сказал один умный человек: если слишком близко смотреть даже на самые прекрасные вещи, они покажутся тебе отвратительными.
— Легат? Мертвец назвал вам имя?
Я дергаю щекой.
— Кое‑что кажется мне отвратительным. Нормально, Тит.
— То имя, что вы узнали… — центурион медлит. — Оно что‑то меняет?
Молчание. Я слышу, как в темном лесу стрекочут кузнечики.
«Смотри, Гай. Кузнечик».
— Легат?
Все будет хорошо — даже если не будет.
— Ничего не меняет, Тит. Убийца должен быть наказан. — Я поднимаю голову: — Как ты обычно говоришь, Тит? Сложное сделать — простым?
Старший центурион медленно кивает.
Я усмехаюсь. Смешно. Сложное сделать…
— Легат? — говорит центурион.
— Эх, Тит. Как все запуталось…
— Гай, — он впервые называет меня по имени.
Я поворачиваюсь. Центурион смотрит на меня в упор, глаза светятся медным огнем.
— Да, Тит?
— Иногда я говорю и другое.
— Правда? Что именно?
— Я говорю: парни, давайте просто пойдем и убьем этих гадов.
Тит Волтумий, старший центурион. Первый манипул второй когорты. Вот она — воплощенная мудрость. Зачем нужны философы, когда у нас есть такие центурионы? А?
Если бы это действительно было так просто…
Я оглядываюсь:
— И где же все‑таки Марк?
* * *
Проклятье!
В следующее мгновение Марк вылетел из седла. Перекувыркнулся через голову и грохнулся плашмя…
БУХ.
Удар о землю оказался настолько силен, что в первый момент декурион лишился дыхания. Твою ж мать… как больно‑то.
Веревка была натянута на уровне груди верхового человека. Как раз на повороте тропы, чтобы тот, кто знает, пригнулся, а кто не знает…
Человек на гнедой лошади пригнулся, а Марк — не знал.
Сам виноват.
Мир закружился, небо с землей скрутились в узел. Боги!
Во рту — боль. Кислое. Отлично. Кажется, я прикусил язык, подумал декурион и на несколько мгновений провалился в темноту.
Марк пришел в себя. Все вокруг кружилось. Хотелось кашлять.
Перед глазами оказались чьи‑то ноги в мягких кавалерийских сапогах со шнуровкой.
— Эй, разведка! — голос над головой насмешливо вибрирует. Легкий акцент выдает варвара. — Это что, опять ты?
Марк выплюнул землю и траву. Еще раз. Привкус крови. Перед глазами плыли черные точки. Много. Сквозь их мельтешение Марк разглядел однорукого германца. Тиуториг! Ах, ты, сволочь!
Декурион медленно, стараясь делать это незаметно, протянул руку к поясу. Пальцы нащупали выпуклость рукояти. Она прохладная и надежная.
— Не надо, — мягко произнес однорукий. Ярко — голубые глаза, не мигая, смотрели на Марка. И не прочитать по ним — ничего. Словно они из стекла.
— Я бы этого не делал, разведка, — Тиуториг усмехнулся. — А то, чего бы не делал я, тебе, разведка, точно делать не стоит.
Латынь у однорукого отличная. А в прошлый раз он притворялся, что не понимает и половины слов. Сволочь германская.
Гем склонился над всадником.
— Держись, братишка. Твое подкрепление уже рядом.
Марк застонал, потянул рукоять спаты. Бесполезно.
Невдалеке заржал жеребец. Предатель, подумал Марк. Сомик фыркнул, словно услышал. Жеребец потянулся мягкими губами и сорвал листик.
«Ничего, я встану». Декурион сжал зубы. И начал подниматься, ломая сопротивление больного тела.
Приглушенный топот копыт. Мои ребята уже недалеко.
Рывком он дотянулся до кинжала, пальцы сомкнулись на рукояти. Быстрее! Декурион рванул клинок из ножен. В следующее мгновение беловолосый гем с легкостью блокировал отчаянный выпад Марка. Пугио вырвался из ладони и улетел в траву.
Голубые глаза. Ярость.
Гем размахнулся. Приближающийся кулак. Да что ж такое! Марк успел закрыть лицо локтями…
Удар.
* * *
Я осматриваю трофейную спату. Хороший клинок. Гладий после боя весь в зазубринах, а этой спате — хоть бы что. Ни царапины.
Когда я вспоминаю, кому принадлежит клинок, меня снова начинает трясти. Как же так?! Почему?
К воронам рассуждения! Надо заняться делом. Я смотрю на центуриона:
— Как там Марк? Живой?
— Живой, — Тит чешет затылок. — Ну… почти.
В сущности, декуриону повезло. Эквиты нашли Марка — лежащего без сознания на поляне. Рядом пасся его конь.
Декурион едва может стоять, всадники с трудом усаживают его верхом.
Я говорю:
— Отвезите его в лагерь Семнадцатого и передайте медикам. Скажете: я приказал. Мы доберемся до легиона сами.
Эквиты салютуют.
Когда всадники уезжают, Тит Волтумий кладет ладонь на рукоять гладия. В отличие от простых солдат, которые носят меч под правой рукой, у центурионов он висит слева. Выпендрежники.
Центурион хмыкает. Неожиданно весело.
— Легат? Ничего не хотите мне сказать?
— Хорошо, Тит, — Проклятье, как я устал. — Имя, которое назвал мертвец…
Центурион ждет. В глазах — напряжение.
— Арминий, — говорю я.
Тит моргает. И все. Кажется, он почти не удивлен.
— Ваш друг?
— Да… мой друг.
Где‑то вдалеке кричит сова.
Глава 5. Испытание на излом
Ветер треплет мои волосы, бросает в лицо водяную пыль.
— Квинт, — говорю я. — Ты как?
Рим. Палатинский холм. Дом семьи Деметриев Целестов.
Серое небо вливается в атриум через отверстие в крыше. Нарастающий шум дождя. За стенами дома потоки воды несутся по мостовым Рима, с ревом вливаются в канализационные стоки, пробегают под всем городом и обрушиваются в Тибр. В следующее мгновение небо раскалывается на тысячи кусков, озаряется синеватой вспышкой…
Гремит гром. Буд — ду — бу — дых.
Мы стоим у бассейна, смотрим, как капли разбиваются о поверхность воды. Она морщится.
Мне — двадцать один год.
Луцию двадцать пять, Квинту — хотя он выше нас обоих на голову — всего шестнадцать.
Наш отец убит во времена проскрипций.
Его казнили по приказу Августа. Имущество и земли отца конфисковали, но приданое матери Квинта — бросившейся в ноги принцепсу — оставили. Так что у нас есть, что проедать и чем распорядиться. Позже Луций получил назначение в Паннонию, успешно командовал когортой, затем отрядом союзников и частично восстановил состояние семьи. Теперь мы достаточно богаты, чтобы в будущем я мог стать сенатором.
А теперь смерть матери Квинта подкосила нас снова.
Идет дождь. Капли летят сквозь проем крыши во внутренний дворик, разбиваются о камни. Щелк! Щелк! Щелк! Медленно. Другие падают в маленький бассейн.
Мы стоим рядом. Наши с Луцием тоги мокрые, туника Квинта тоже. Капли с волос стекают на лица. Словно мы плачем.
— Братья, — произносит Луций. — Братья…
И замолкает.
— Мама, — говорит Квинт.
Мы молчим, стоя под дождем, вода струится с наших одежд и собирается в лужи на мозаичном полу. Мама Квинта, думаю я. Она была красивой. Квинт опускает голову и хлюпает носом — как в детстве. Он самый младший.
— Все будет хорошо, брат, — говорю я. Поворачиваюсь и иду вдоль галереи. Мы справимся.
В последний момент я оборачиваюсь и вижу их, стоящих рядом у бассейна с дождевой водой. Луций и Квинт. Они совершенно не похожи друг на друга. И одновременно они — одно целое. Это так правильно, что у меня щемит сердце.
Это мои братья.
* * *
Мы часто в детстве дрались. Лупили друг друга всем, что под руку попадется.
Это бывает.
Только самые близкие люди могут сделать тебе по — настоящему больно.
Друг.
Что это слово значит для меня?
Как поступить, если человек, которому ты доверял, оказывается убийцей и предателем? А? Не знаешь, Гай?!
А ты подумай. Подумай, пока есть время.
Глухой перестук копыт. Солнце почти зашло, кроваво — красный закат — медленный, неторопливый — опускается на германскую землю.
Я — думаю.
* * *
Мы подъезжаем к расположению ауксилариев. Три германские когорты находятся здесь во временном лагере.
Смеркается.
Аккуратный частокол окружает лагерь по периметру, колья заострены — все по уставу. На деревянных башенках застыли часовые — я вижу их черные силуэты на фоне пламенеющего неба. Вокруг лагеря идет ров, тускло блестит вода. Отлично. Уверен, размеры рва и количество воды в нем соответствуют самым строгим военным правилам.
Мы подъезжаем к главным воротам. Они находятся на северной стороне прямоугольника.
Все, как положено римскому военному лагерю.
За исключением того, что это германский военный лагерь…
Я толкаю жеребца пятками. Вперед, вперед! Быстрее!
Что будет, если в открытом бою столкнутся легионы и серый поток германской конницы?
Ну, варварам точно не поздоровится.
Лучше нашей пехоты нет ничего. Даже несокрушимая фаланга спартанцев, даже парфянские катафрактарии, закованные в железо с головы до ног, на лошадях, покрытых панцирями, не рискуют сталкиваться с легионами лоб в лоб.
Солдат Красса парфяне закидывали стрелами издалека.
Не принимали открытого боя. Умные люди парфяне. Знали, что в прямом столкновении легионы сомнут их к чертовой матери.
Поэтому парфяне изматывали легионеров и водили их по пустыне. Засыпали стрелами. Закидывали камнями…
Жажда, усталость и сомнение воинов в собственном полководце довершили остальное.
Погибли тысячи.
Легионов Красса больше нет. А его голову парфяне прислали в Армению, царю Артавазду — как подарок.
* * *
Главные ворота. С наступлением темноты они закроются окончательно. Но мы успеваем. Хотя и в последний момент — часовые уже начали поднимать мост. Часовой оборачивается на окрик Тита Волтумия. Пауза. Германец смотрит на нас, мы на него.
Все‑таки непривычно видеть варвара в римских доспехах! Шлем застегнут, как положено, лорика начищена. Часовой выпрямляется, поднимает руку: стой. Дисциплина.
— Пароль! — требует он с жутким акцентом. «Тессе'ххра» вместо «тессера». Варвар раскатывает «р» горлом, словно там что‑то застряло.
— Понятия не имею, — говорю я. — Придумай что‑нибудь сам. Я Гай Деметрий Целест, легат Семнадцатого легиона, приехал к вашему командиру.
Короткая заминка. Через некоторое время они находят караульного офицера, тот приказывает открыть ворота. Мы въезжаем в лагерь. Ровные ряды палаток слева и справа, главная улица, освещенная кострами…
Едем шагом.
Санктум Преториум, главная площадь лагеря. Священное место. Караульный офицер предлагает нам спешиться.
Я знаками отсылаю варваров прочь и иду к палатке командира. Здесь трудно заблудиться. Все, как в настоящем римском лагере. Разве что палаток поменьше. И вокруг одна варварская речь.
Тит Волтумий следует за мной. Лицо у него странное. Похоже, он такого не ожидал.
Горят костры. Палатки выставлены настолько ровно, словно этим занимался сам великий Евклид. У германцев теперь и землемеры есть?
«Они не слижут кровь с наших рук, Гай», вспоминаю я слова Нумония Валы.
«Они откусят нам пальцы».
Я чувствую в воздухе запах дыма и острый, солоноватый привкус крови. При виде нас с Титом германцы отрываются от еды. Пялятся во все глаза. Показывают пальцами. Варвары. Ублюдки. Ненавижу!
Ненавижу их взгляды. Ухмылки. Ненавижу то, как они кладут руки на рукояти ножей…
Ничего, мы еще встретимся.
У палатки военачальника медленно раскачивается на шесте алый значок вексиллы.
Осматриваюсь. Охраны нет. Только несколько гемов расположились неподалеку, у костра, и играют в кости. Я слышу дробный стук и азартные возгласы. Этому развлечению их тоже научили мы, римляне. До нашего прихода в Германию варвары развлекались в основном тем, что пили до полусмерти и грабили соседей.
Я иду ко входу. Сердце гулко стучит. Шаг, еще шаг… Внезапно навстречу выходит из палатки огромная темная фигура.
В первый момент я вздрагиваю. Проклятье!
Чудовищно длинные и толстые руки, облитые красноватым светом костра. Темная туника без рукавов.
Короткая стрижка на римский манер.
Разноцветные глаза. Сейчас, в темноте, этого не разобрать, но я знаю, что глаза у германца разного цвета. Один зеленый, как сумрачный германский лес, другой ярко — голубой, словно небо под беспощадным ливийским солнцем.
Перед нами Стир — великан, разорвавший гладиатора голыми руками…
Безумец.
— Куда? — говорит гигант сонным голосом. Очень тихо. Словно он спит, а мы с центурионом ему снимся.
Или он идиот. Такое тоже возможно.
Я говорю:
— Я хочу видеть вашего командира. Префект Арминий здесь?
Германцы у костра замолкают. Переглядываются.
— Зачем? — германец смотрит куда‑то между мной и Титом. Один глаз заметно косит. Мы с Титом обмениваемся взглядами. Центурион словно невзначай смещается влево, я — вправо. Вдвоем у нас есть шанс — даже против Стира — отрывающего — руки, Стира — убийцы.
Человека с фигуркой Быка.
Но если мы даже мы выиграем схватку, то проиграем войну.
Думай, Гай. Думай!
— Уходить, — говорит Стир медленно, на искаженной латыни. — Римлянин совсем уходить. Шнехле.
— Кто уходить? — переспрашиваю я.
— Ду уходить.
Тит Волтумий распрямляется.
— Смирно, — говорит он голосом, от которого мне самому хочется выпрямиться. — Равняйсь! Как стоишь, солдат?! Легат приказывает пропустить его.
Только Стиру — все равно. Германец склоняет голову набок и ворчит, как собака.
Высокий гем у костра встает.
Подходит к нам.
Начинает говорить. Я не понимаю слов, но Тит заметно напрягается.
— Что ты сказал? — центурион поворачивает голову. — Повтори.
Стир вздыхает — шумно, медленно, с присвистом. Слушает.
Я не могу смотреть на него прямо.
Если я смотрю на Стира, волосы у меня на затылке шевелятся. От ужаса. Поэтому я улыбаюсь…
Это чтобы не стучать зубами.
— Стир, они к Герману, — повторяет высокий гем раздельно и отчетливо, словно для младенца. — Понимаешь? Герцог их ждет.
Он снова переходит на германский. Высокий несколько раз называет Арминия «герцог», что у гемов означает военного вождя.
Германн? Арминий — Германн — герцог?
Впрочем, как иначе назвать командира трех германских когорт?
Огромный варвар молча сопит. Ссутулившийся, громоздкий, пугающий. В его расслабленной фигуре затаилась чудовищная сила. Мощные руки свисают, словно бескостные. Они почти достают Стиру до колен.
А где‑то на груди, под туникой, у великана спрятана крошечная фигурка Быка. Сила и безумие — вместе.
Я знаю, неповоротливость и сонливость Стира — кажущаяся. На самом деле Бык быстрый, как молния. И невероятно сильный.
Чудовище. Полубог. Уродливый отпрыск титана и смертной женщины. Гигант.
В его разноцветных глазах — отблески Преисподней…
Огонь Прометея.
Я бы не хотел встретиться с ним на арене. Да ни за что!
Внезапно центурион делает шаг и оказывается перед германцем. Великан удивлен. Он моргает.
— Ты… сильный? — от звуков его голоса у меня в затылке озноб. Словно их порождают искалеченные связки.
— Хочешь проверить? — Центурион на две головы ниже германца. Тит Волтумий смотрит на Быка снизу вверх, глаза центуриона — ярко — золотистого, сумасшедшего цвета. Словно два яростных солнца.
Он не отступит.
Двое сумасшедших. Вернее, один псих и один самоубийца. Я не преувеличиваю. Я видел, как Тит Волтумий сражается. Он прекрасный солдат и отличный центурион. Но Стир, разделавший на арене одного из лучших гладиаторов Рима, опаснее во стократ. На месте Тита я бы бежал без оглядки.
Но Тит — не бежит.
…В схватке больших умелых воинов с маленькими умелыми воинами обычно побеждают воины покрупнее.
— Тит, — говорю я тихо, — не надо.
Центурион усмехается, не поворачивая головы.
— Я отвлеку его, легат. А вы делайте, что задумали.
Время застыло. Оно прозрачное и гладкое, словно критское стекло. И такое же хрупкое.
— Стир, спокойно, — слышу я голос. Низкий и хрипловатый. В нем словно звучат далекие раскаты грома.
Гроза надвигается.
Стир замирает. Затем поворачивается всем телом — точно собака на голос хозяина. Арминий! Он говорит что‑то Стиру по — германски, потом переводит взгляд на меня.
— Гай, прости моего человека, — царь херусков склоняет голову. — Стир не хотел тебя обидеть. Рад вас видеть, центурион. Заходите, прошу.
Прежде чем войти, Тит Волтумий оборачивается. Смотрит на великана Стира — внимательно. С прищуром.
— Увидимся, — говорит центурион.
* * *
Внутри горят светильники. От их чада у меня начинает кружиться голова. И слегка подташнивает… Проклятье!
Я наливаю себе вина. Руки трясутся. Так сильно, что приходится остановиться и начать снова. Ничего, еще раз. Меня бьет озноб, пальцы дрожат. Соберись, Гай. Возьми себя в руки, легат!
Наконец, справляюсь с вином, не сильно расплескав. Красное пятно на столе расплывается…
Выпиваю чашу залпом, не разбавляя водой и не чувствуя вкуса.
По подбородку ползет капля, я вытираю ее тыльной стороной ладони. Кажется, у меня дрожат не только пальцы.
— Рад тебя видеть, друг мой Гай, — говорит Арминий. Я искоса смотрю на него, отворачиваюсь. Он высокий и красивый. И совсем не похож на того, кто мне нужен. — Что привело тебя сюда в столь поздний час?
…совсем не похож. Но это — он. Убийца моего брата.
— Тит, — говорю я. — Пожалуйста.
Сложное сделать — простым.
Потому что отвечать ему — выше моих сил.
— Гай, — окликает меня Арминий. — Я хотел тебе сказать…
Я киваю. Я не могу на него смотреть. Говорят, у варваров есть слово — оно означает стыд за другого человека. Забыл, как звучит…
Сейчас бы оно подошло, это слово.
Мне — стыдно.
Стыдно за Арминия, который оказался предателем и убийцей. Фальшивым другом. Это стыд вытравливает мне нутро, словно уксус.
— Что слу… — Арминий осекается.
За моей спиной — грохот. Едва слышный, но мне он кажется громом небесным. Этот звук разлетается над всем варварским лагерем. Над всей Германией.
Сдавленное «ох». Шум возни.
Я наливаю вина и начинаю пить. Все время, пока позади меня падает, и хрипит, и ругается сквозь зубы, я пью. Медленно, без всякого желания, не чувствуя вкуса. Допиваю. Ставлю чашу на стол.
У вина привкус горечи.
— Легат, — говорит Тит Волтумий за моей спиной. — Он готов.
Снова беру чашу, провожу пальцами по резному орнаменту. Пора. Мне придется это сделать…
Я — смертельно трезвый.
Я поворачиваюсь.
* * *
— Позволь рассказать тебе историю, друг мой Арминий, царь херусков. Варвар.
Арминий прижат к полу. Колено центуриона воткнулось царю херусков в грудь, давит. Острие меча упирается Арминию под подбородок.
Я хочу рассказать, как нашел мертвеца и оживил его силой маленькой серебристой фигурки. Как встретился лицом к лицу с человеком в маске. Как он бежал, а я остался в дураках.
Как я нашел мертвого легионера.
Как я спросил его. И как он назвал имя.
Надо бы рассказать…
Но я молчу. Слова кажутся ненужными. Зачем? Этот человек участвовал в убийстве моего брата. Он выдавал себя за моего друга. О чем мне еще с ним разговаривать?!
Его нужно просто прикончить — быстро и четко. И уйти, пока германцы не сообразили, что происходит. Сейчас я возьму гладий, прижму Арминия коленом и загоню клинок ему под ребра.
Мгновенная смерть.
Прощай, друг.
* * *
Когда я учился в Греции, я видел, как делают эллинский меч — махайру.
Испытание меча. Греческие оружейники кладут меч плашмя себе на голову и двумя руками пригибают концы к плечам. Отпускают.
Если меч не распрямился до конца — это ошибка, неудачная работа. Плохой клинок.
Тем более, если сломался.
А вот если меч распрямился…
Значит, этот клинок достоин того, чтобы им убивали людей.
* * *
Я опускаюсь на колени перед царем херусков, моим лучшим другом, и кладу меч на землю.
Тусклый блеск металла. В отличие от махайры, это простой гладий легионера — из мягкого плохого железа. Он гнется. У него вытертая ладонями деревянная рукоять. Но на счету этого простого клинка — несколько варваров. Почему‑то мне кажется это важным.
Простое оружие для непростого дела.
Пора начинать.
Пламя светильника вздрагивает.
Проклятый свет лезет в глаза. Он желтый.
Цвет предательства. Так, кажется, говорят? Вот ты сволочь, Арминий. Сукин, сукин, сукин сын.
— Скажи правду, — говорю я медленно. — Пожалуйста. Я очень тебя прошу. Зачем ты убил моего брата?
Молчание.
Сукин сын, думаю я.
Он поднимает голову и смотрит мне в глаза — открыто и насмешливо.
Очень смелый сукин сын.
— Я — не убивал, — говорит Арминий. — Ты многого не знаешь, друг.
Друг?!
В это мгновение он невероятно близок к смерти. Я зажмуриваюсь и усилием воли пережидаю вспышку ярости. Друг, сука. Друг.
В какой‑то момент любой мерзавец понимает, что смертен. Встреча лицом к лицу с собственной уязвимостью серьезно сказывается на характере предателя. Он начинает говорить, умолять, предлагать варианты…
Он рассказывает.
— Расскажи мне, — предлагаю я мягко. От этой мягкости Арминия передергивает.
— Гай, я…
— Пожалуйста.
— Пусть твой центурион выйдет, — говорит Арминий наконец. — Это касается только нас двоих.
Я кручу головой, позвонки щелкают. Раз, другой. Страшное напряжение не отпускает. Смешно. Предатель начинает придумывать невероятные истории — словно от полета воображения зависит его жизнь.
Что ж… Послушаем. Хотя меня трясет так, что я могу убить его в любой момент.
Арминий словно читает мои мысли.
— У тебя хорошие люди, — говорит он мягко.
Я наклоняю голову на плечо. И молчу.
— Думаешь, я хитрю и набиваю себе цену? — говорит он. — Нет, Гай. Когда я расскажу то, что знаю, тебе придется убить своего человека. — Он медлит. И вдруг усмехается — от этой усмешки у меня холодеет затылок. — Это касается чести семьи Деметриев.
Почему я должен ему верить?!
Я — не должен.
Мы смотрим в глаза друг другу. Я ненавижу его так, что могу задушить голыми руками.
Голос сдавлен:
— Тит, оставь нас наедине.
— Но… — центурион запинается. Я поднимаю взгляд. Пауза. Тит кивает: — Хорошо, легат. Я понял.
Центурион убирает меч в ножны и выходит из палатки. Хлопает полог. Мы остаемся наедине.
Ярко горят светильники. Проклятый свет. Я вижу в глубине палатки стол, заваленный бумагами. Восковые таблички и стило, чернильница и пергамент. На меня снова накатывает ярость. Этот сукин сын всю ночь работал. Как Цезарь. Как мой брат.
— Только закричи, и я воткну этот клинок тебе под ребра. Ты понял меня, варвар?! Если понял, кивни.
Арминий кивает.
— Сейчас я дам тебе немного времени. Мы поговорим. Спокойно и без крика. Готов?
Арминий смотрит на меня, затем пытается улыбнуться.
Я упираю клинок ему под ребра. Глаза Арминия расширяются.
— Итак, — я начинаю сначала. — Зачем ты убил моего брата?
— Я не убивал.
Неправильный ответ. Я нажимаю на меч — так, что острие клинка прокалывает одежду и кожу. Выступает кровь. Я ударю сильно, один раз, повторять не придется.
Я готов.
Держу меч одной рукой. Поднимаю ладонь, чтобы с силой ударить по навершию рукояти и вогнать гладий в сердце, пробив царю херусков грудную клетку.
Друг мой варвар… Арминий… Мне жаль.
— Считаю до пяти. Или ты говоришь, почему, или…
Глаза Арминия — огромные. До него вдруг доходит — то, что я собираюсь сделать — это серьезно. Он, не отрываясь, смотрит на мою поднятую ладонь.
— Я и есть твой брат! — кричит он.
Что? Я моргаю. Это так нелепо, что я даже почти не злюсь.
— Хорошая попытка, варвар. Пять, четыре, три, два…
Меч занесен. Еще мгновение и…
— Воробей, — говорит Арминий быстро. — Он же у тебя, верно, Гай?
…и все будет кончено.
— Похоже, ты знаешь, о чем я говорю, — Арминий поднимает голову. — Ты уже говорил с мертвыми, брат?
— Один, — говорю я.
* * *
Когда мы были детьми, многое было проще. Даже наши драки. Или — кто виноват в том, что произошло.
Мне одиннадцать лет, я лежу на кровати.
Белый свет пронизывает комнату. Пахнет сеном и коровьим теплым духом. И моей болью. Вонь жирной мази, которой покрыты мои руки, перекрывает все запахи.
И еще пахнет страхом.
Ожоги меня не пугают. Меня пугает другое…
Тишина.
В полной тишине из рук раба падает — медленно, очень медленно — глиняный кувшин. Разбивается. Я чувствую сотрясение пола, но самого удара не слышу.
Медленно летят осколки. Брызги воды разлетаются по комнате.
Кажется, все это не настоящее. Потому что ни одного звука я не слышу. А, может, я оглох.
Иногда я вижу беззвучные сны и просыпаюсь в холодном поту. Мокрая спина, часто бьющееся и тут же замирающее сердце…
Нет, такие сны мне ни к чему.
И уж тем более — наяву.
* * *
— Один, — говорю я. Звуки исчезают.
— Смотри, Гай!! — он почти кричит. В последний момент я успеваю двинуть рукой — и клинок, пробороздив по ребрам Арминия, втыкается в пол. Глухой стук. Гладий дрожит и качается.
Кровь.
Я безразлично смотрю. Красное течет у меня по руке. Кажется, я порезался. Наплевать.
Я сажусь рядом с Арминием, у меня нет сил. Совсем нет.
В первый момент я думал, что рассмеюсь ему в лицо. Просто рассмеюсь. Пошел ты к Диту, любезный, скажу я. Потому что это чушь.
Вместо этого я говорю:
— Не верю.
Сжимаю зубы. Мотаю головой.
Лучше не становится. Я, что — поверил?!
— Смотри, Гай, — говорит он. И разжимает ладонь.
В первое мгновение мне кажется, что там сидит кузнечик. Зеленый с желтыми пятнышками…
Но нет.
Ладонь пуста.
— Где бы мне взять кузнечика? — говорит Арминий. Я молчу. Арминий… Луций улыбается. — Не знаешь?
«Ты слишком импульсивный».
«Смотри, Гай».
«Время империи заканчивается, когда граждане, вместо того, чтобы умирать за нее…»
Арминий продолжает улыбаться, сидя в луже собственной крови.
Я вздрагиваю. Озноб пробегает по затылку, волосы встают дыбом.
«…нанимают для этого варваров».
«Даже в собственной смерти мой брат нашел бы что‑нибудь смешное».
— Верь мне, Гай, — говорит Луций.
Это он. Это мой старший брат — и он вернулся.
Глава 6. Хорошие новости
Лагерь Семнадцатого Морского живет обычной жизнью. Шумит, скрипит, брякает железом, чихает, орет, перекликается на разные голоса. Пахнет дымом, пшенной кашей и потом.
Я слышу глухой гул за стенами своей палатки. А уж запахи… Куда от них деться?
— Нет, пропретор такого приказа не отдавал, — говорю я. Хлопает клапан, пламя факелов дергается. Проклятье. Порыв ветра приносит холод — я невольно ежусь. Напротив, от жаровни с углями расходятся волны тепла.
Только человеку, стоящему передо мной, одинаково наплевать и на холод, и на жару. Он — железный.
— Мы не можем оставаться здесь дольше, — говорит Эггин. — Наступает осень, у меня больных и простуженных прибывает по сорок человек в день. А дальше будет только хуже. Нам нужно в зимний лагерь, легат.
Это верно. Легионы до сих пор в летних лагерях, а время идет. И легионеры начинают мерзнуть.
Почему Вар медлит?
— Хорошо. Я переговорю с пропретором. У вас все, префект? Можете идти.
— Легат, — он склоняет упрямую голову. И выходит.
Это мой заместитель. В случае моего отсутствия в легионе (или героической смерти, что с легатами в нашем роду случается) он примет командование на себя.
Его зовут Спурий Эггин.
Он — префект лагеря. Заслуженный солдат, прошедший весь путь от тирона, новобранца, до второго по старшинству командира в легионе. Он — профессионал.
В отличие от меня, любителя, назначенного легатом по личной прихоти принцепса Августа.
Таких, как я, называют «тога». Гражданский.
Таких, как Эггин — гордостью армии.
* * *
Вечер. Закат окрашивает красным городок, связывающий лагеря трех легионов в одно уродливое целое.
Улица, публичный дом. Судя по некоторой претензии на роскошь, этот лупанарий предназначен для трибунов и центурионов.
— Рыжая, — говорит Эггин. — Где ты, Рыжая?!
Префект лагеря с трудом поднимается по скрипящей лестнице, спотыкается, ругается вполголоса. Проклятые ступеньки. Он чудовищно пьян. Его голос плывет, словно плохая песня — певец слишком далеко, голос его слаб, и ветер относит в сторону слова.
Вот и нужная дверь. Она закрыта.
— Рыжая! — зовет Эггин. — Выйди ко мне!
Он размахивается и ударяет кулаком. Еще раз. И еще.
* * *
Удары. Глухие, сильные…
Дверь сотрясается.
Ее все зовут Рыжая. Его Рыжая. Руфина.
Тит Волтумий стискивает зубы. Он не очень высок, да, но зато быстр, силен и он, о боги, старший центурион. Он словно кусок железа, стальной меч, выкованный кельтами. Или черная бронза, которую мало что может сломать.
Рыжая — вот что делает его мягким, как овечий сыр.
А удары что? Удары только сделают его крепче. Как и раны. Как и походы…
Тит встает с кровати, протягивает руку к одежде. Пора разобраться с Эггином — раз и навсегда.
— Не надо, — говорит Рыжая. — Не трогай его.
У нее распухшие от поцелуев губы, на нижней — маленькая царапина. Точеный нос — в мелких капельках пота.
Тит останавливается. Руки его висят у бедер — мощные и, одновременно, бессильные.
— Он несчастен. И болен.
Это я болен, думает Тит. Я — удачливый соперник Эггина, но кто скажет, что я счастлив?! Никто. Даже я этого не скажу. Эггин болен. Я болен.
Мы все здесь, Дит тебя побери, больны.
Схватка двух кровавых зверей. Каждый раз, каждый проклятый раз.
И неизвестно, кто побеждает.
— Рыжая! — голос Эггина. — Зачем?!
Вот и я не знаю, думает Тит. Рыжая улыбается.
* * *
Ализон, дворец Вара. Сентябрьские иды.
Гости в белых тогах — «пагани», гражданские. Чиновники, судьи, адвокаты, сборщики налогов. Что удивительно, это очень важные люди. Гораздо важнее солдат. Германия оплачивает наше пребывание здесь своими деньгами, а деньги надо считать. Побежденные — платят.
Это политика Рима.
Гости в военных туниках — легаты и трибуны. Они стоят отдельно.
Военные редко смешиваются с чиновниками.
И только я — «тога», гражданский, назначенный легатом, могу примкнуть к любой из партий.
Когда я приехал в Германию, мне пришлось столкнуться с презрением и даже ненавистью офицеров моего легиона. Легатов, назначенных сверху, не очень любят. Каждый из моих трибунов отслужил годы. Каждый участвовал в нескольких военных кампаниях. Они шли к своим должностям через сражения и долгую утомительную службу на окраине, в окружении врагов и дешевых женщин. Их звания политы кровью и потом. И отполированы до блеска скукой лагерной жизни…
За что им любить выскочку?
Меня.
Но кое‑что изменилось. Как оказалось, я тоже могу убивать германцев.
И даже делаю это с определенным изяществом.
— Друзья! — обращается к присутствующим Квинтилий Вар. Запах шиповника — сегодня едва уловимый. — У меня хорошие новости из Паннонии. Тиберий…
Гул голосов.
— Тише вы!
— Тише!
Вар продолжает:
— Тиберий разгромил мятежников.
Тишина. Затем поднимает гул. «Слава Тиберию! Слава Августу!» Это действительно хорошие новости. Война в Паннонии длится уже несколько лет — с переменным успехом. Мятежники собрали чудовищную армию — около ста тысяч воинов — и всерьез угрожали Италии. Риму. Попытки подавить мятеж не увенчались успехом…
Так что пришлось Тиберию, пасынку Августа, взяться за дело.
Только тогда мы начали побеждать.
Он хороший полководец — осторожный, решительный, расчетливый. Тиберий ничего не оставляет без должного внимания. Легионеры его не любят, но обожают, когда он ими командует. Интересный парадокс. Как человек, Тиберий жесткий и равнодушный — словно кусок пемзы. Он смотрит сквозь тебя и, кажется, забудет твое имя сразу же, едва за твоей спиной закроется дверь… Но нет.
Тиберий ничего не забывает.
Теперь он победил мятежников в Паннонии. И, значит, будет праздник.
— Вина! — требует Вар. — Выпьем за доблестного Тиберия!
Мы пьем вино. Вар пьет подкрашенную воду.
Я качаю головой. В какое интересное время мы живем. С сарматами у нас мир, с германцами мир, даже с парфянами согласие… Теперь и мятеж в Паннонии подавлен. Везде тишина и покой.
Даже не верится.
Когда я выхожу из дворца, уже темнеет.
Высокая фигура выступает из тени. Я поднимаю голову и вздрагиваю. Голубой огонь варварского взгляда окатывает меня — с головы до ног.
— Кажется, пора нам побеседовать, — говорит Арминий негромко.
Я киваю.
Давно пора.
* * *
Фигурка лежит на столе. Маленькая серебристая птичка. В этом есть нечто зловещее.
— Как такое может быть? — говорю я. — Как?!
Арминий улыбается.
— И об этом спрашивает человек, регулярно оживляющий мертвецов? — он берет чашу с вином, но не пьет. — Знаешь, что делает твоя фигурка? Воробей возвращает душу. Ненадолго. Чтобы поговорить.
— Это понятно.
На самом деле я не очень понимаю, как это работает. Но это работает.
…молния пронизывает меня насквозь — с головы до ног. Ветвится внутри моего тела. Волосы встают дыбом…
Фигурка на ладони подрагивает. Она — ледяная.
— Срок жизни возвращенного зависит от возможностей тела и силы воли. Если человек серьезно ранен, потерял много крови, изрублен на куски — то это будет мучительный разговор, — Арминий медлит, — И очень короткий.
— Тогда что произошло с тобой? Ты ведь жив?
Арминий медлит.
— Пожалуй.
— И ты — другой. Ты — варвар.
Арминий усмехается. Морщинки вокруг глаз выдают его возраст.
Двадцати с чем‑то летний германец улыбается, как сорокалетний старик…
Хотя Луцию было всего тридцать два года.
Смешно.
— О. Тут все гораздо хитрее.
— Правда? — говорю я с сарказмом. Арминий пожимает плечами:
— Почти три дня я был мертв, брат.
* * *
— Ты не понимаешь, Гай. Дело не в том, что Воробей возвращает мертвых, а Орел дает власть повелевать людьми. У фигурок могут быть самые разные свойства. Самые глупые и странные. Вытирание носа без платка, волосы в носу растут быстрее, чем у остальных людей, или невозможность утонуть в луже. Это, в общем‑то, неважно. Дело в другом.
— И в чем же?
Арминий… Луций смотрит на меня. Из‑за освещения кажется, что глаза у него — разного цвета. Но этого не может быть.
Потому что Воробей сейчас у меня.
Это мои глаза разного цвета. Это я возвращаю мертвых.
Беру на себя дело богов…
В которых, между прочим, я не верю.
— Дело в другом, — повторяет Луций. — Эти фигурки… Они заставляют тебя действовать. Нет, не так. Не заставляют. Как бы сказать, Гай? Они тебя пробуждают. Вот правильное слово. Пробуждение. Словно до этого момента ты спал, а сейчас проснулся. Понимаешь?!
В этом все дело. Пока у меня не было фигурки, я умирал. Каждый день и каждую секунду. А с ней я понял, что умирать — необязательно.
Теперь я здесь.
Он молчит, перебирает пальцами. Мне жутко привыкать к мысли, что моего друга Арминия больше нет.
Двойная потеря.
Сначала я потерял брата. Затем — друга.
Теперь передо мной незнакомец. Полубрат, полудруг, полуримлянин, полугерманец.
Я даже не знаю, как его теперь называть. Луций? Арминий? Как правильно?!
— А ты, Гай — разве ты не начал действовать, получив фигурку? — Луций — Арминий смотрит на меня в упор. — Разве тебе не кажется, что Воробей ведет тебя к великой и достойной цели?
— Нет, не кажется.
Луций — Арминий моргает. Потом запрокидывает голову и хохочет. Сверкают белые красивые зубы.
— Узнаю тебя, брат. Ты всегда был упрямым.
Я дергаю щекой.
— Правда?
— Я должен был это сделать, Гай. Понимаешь?!
Я начинаю смеяться.
Ему все еще требуется мое понимание. Вот в чем проблема: когда мы могли выяснить отношения между собой по — простому, кулаками или пинками, валяясь в пыли, мы не находили особых противоречий. Теперь же, когда противоречия такие, что альпийские ущелья кажутся не шире ручейка, мы даже не можем дать друг другу в глаз. Это обидно.
А еще обиднее: мы знаем это и все равно хотим друг от друга понимания.
Смешно.
* * *
«Если ты читаешь это послание, то меня уже, скорее всего, нет в живых. Не печалься, брат. Это не так страшно. Если считать, что где‑то там есть боги и загробный мир, то у меня сейчас все хорошо».
Почему Луций написал мне письмо?
Неужели хотел оправдаться? Или — рассказать правду единственному человеку, который выслушает его и не осудит?
Не знаю.
И кто из них написал то письмо?
Луций или Арминий?
Луций Деметрий Целест — сенатор Рима, прожженный политик, опытный военачальник, усталый и умный человек.
У него часто болело колено. В детстве Луций упал с лошади и повредил правую ногу. С тех пор он слегка прихрамывал в сырую погоду. А здесь, в Германии, погода всегда сырая…
Или письмо написал варварский вождь Арминий? Молодой красавец, дерзкий воин, герой войны в Паннонии. Римский всадник, награжденный браслетами за отвагу и венком за спасение товарища в бою…
Тот, в чьем теле сейчас обитает душа моего старшего брата.
— Ты избегаешь меня, Гай? — спрашивает Арминий.
Я качаю головой: нет.
Хотя вру. Действительно избегаю.
* * *
— Почему Воробей? — спрашиваю я.
— Иногда предметы можно использовать… неправильно, — говорит Арминий.
— Например?
— Например, Саламандра дает бессмертие. Но если обладатель Саламандры решит по дну моря перейти из Италии в Африку, это будет — не совсем верное использование предмета. Согласен?
Логическая задачка. Подобные задавали нам в Греции.
— Разве Саламандра не спасет владельца?
— Спасет. И не раз. Но дышать под водой — это не относится к возможностям фигурки. Человек будет умирать тысячи и тысячи раз, но останется на дне. Это трудно представить. Но это совершенно жуткая вещь.
Я закрываю глаза и представляю, как захлебываюсь морской водой. Бьюсь в синеватой гудящей темноте. Пузыри вырываются изо рта и уносятся вверх. Булб! Бу — улб!
И так тысячи раз. Тысячи тысяч…
Значит, Луций использовал предмет неправильно?
* * *
— Я был болен, — говорит Луций. — Финикийская болезнь — неизлечима. А я столько всего не успел сделать. Поэтому я стал искать спасение… лекарство… что угодно! И нашел.
Мой умный старший брат.
Мой настойчивый старший брат.
— На самом деле мне нужна была фигурка Саламандры. Бессмертие. Но найти ее оказалось невозможно. Существует предмет, что может вылечить любую болезнь. Но — снова это слово. «Невозможно». Владелец неизвестен. И тогда они предложили мне Воробья.
«Почему?»
— Я плохо представляю, как можно вылечить кого‑либо с помощью Воробья, — говорю я.
— Я сказал примерно то же самое. Но Пасселаим… стеклянный человек…
— Сын Посейдона?
— Да. Пасселаим сказал, что можно сделать…
* * *
Неправильное использование предмета. Ловкость рук.
Фокус.
Нужно за миг до того, как отправиться в мир иной, приказать Воробью вернуть твою душу. Тогда тело и душа будут вместе, но — разъединены. Человек будет жив, но — в нестареющем, практически вечном, теле. Главное здесь: угадать момент.
Это риск, конечно, — но риск оправданный. Особенно для того, кто обречен.
Правда, тело самого Луция не годится. Он болен. Но есть варианты…
— Арминий, — говорю я.
— Да, — Луций встает, начинает ходить по комнате. — Мой друг, молодой и отважный варвар. Он учил меня верховой езде. Это было довольно болезненно, с моим‑то коленом. И моим, — он криво усмехается, — страхом перед лошадьми. Но я справился. Хотя Арминий был, между нами говоря, неважным учителем.
Я дергаю щекой.
— И как это произошло? Этот… обмен?
— Я позвал его на встречу. Мы пили вино. В вине был яд — хороший, из Парфии. Он убивает без боли. Просто засыпаешь. Арминий много выпил и умер первым. Когда я почувствовал, что начинаю засыпать, то приказал Воробью вернуть мою душу обратно. По идее, душа должна была вернуться в первое же свободное тело. В тело Арминия — молодое и здоровое. Но я опоздал. Промедлил. Вот она, сила воли!
Луций усмехается. Это больше похоже на судорогу.
— Это была ошибка, Гай. Или воля судьбы, называй, как хочешь. В результате моя душа переместилась — в тело Арминия, как было задумано, но… не сразу.
Поэтому я и говорю, что был мертв целых три дня.
Арминий умер. Херуски решили, что это ловушка. Перебили легионеров, а тело Арминия забрали с собой. Херуски собирались замести следы бойни, но тут…
Неудачное совпадение.
Нагрянул отряд римской конницы и спугнул их. Воробей остался в моей руке. В мертвой руке легата Луция.
Херуски принесли тело Арминия в родную деревню. Готовились к похоронам. Но вдруг через два дня, на третий, перед самой церемонией — Арминий очнулся. Чудо! Чудо! Видел бы ты их лица, Гай. Варвары решили, что отец богов Тиваз вернул Арминия в мир людей, чтобы тот завершил некое важное дело. Теперь они называют царя херусков, то есть, меня — Дважды — Рожденным.
Избранным.
Потом я узнал, что фигурка пропала. А дальше — что мой родной брат Гай едет легатом в Германию.
Так что встретились мы неслучайно.
А теперь, Гай, скажи мне, что ты об этом думаешь?
* * *
«Смотри, Гай. Кузнечик», крутится в голове.
Нечестно, думаю я.
Луций всегда был умнее, но теперь он к тому же выше ростом, сильнее и красивее. У Квинта, нашего младшенького, при всей его неотразимости хотя бы нет мозгов — поэтому с его достоинствами можно смириться.
А как быть тут?!
Старший брат моложе меня. Больше не хромает. И отлично ездит верхом…
Если, конечно, меня нагло не обманули.
Кровь бросается мне в лицо.
А что — если обманули?!
— Там погибло несколько хороших солдат. Римлян. Из‑за тебя. Это ты мне можешь объяснить?!
— Не кричи, — говорит Арминий.
* * *
Римская дорога. Вдоль нее — ряд крестов с распятыми германцами — светловолосыми и рыжими. Крестов — много.
Молот опускается. Бух!
Раз удар, два удар. Железный гвоздь входит в запястье человека. Крик. Из ранки вытекает тонкая струйка крови.
Голос — хриплый, привычный к командам — приказывает:
— Поднимайте.
— Осторожнее! Давай! — легионеры налегают на веревки.
Поднимается крест. На нем — измученный человек. Жилистый, с длинными светлыми волосами и бородой. Варвар. Легионеры поднимают крест на фоне рассветного неба. Они не торопятся. Зачем? Наконец крест установлен и закреплен, как положено.
Римский чиновник, холеный, толстый, в меховом плаще поверх белоснежной тоги. Редкие волосы завиты со всем тщанием и уложены.
— Это будет вам уроком, варвары! — провозглашает он.
Германец вдруг оскаливается. Плюет кровью. Красный сгусток летит по дуге вниз и размазывается по плечу римлянина.
Тот возмущенно оборачивается.
— Проклятый варвар! — у чиновника маслянистый, жирный, очень высокий голос. Легионеры переглядываются. Они терпеть не могут таких чинуш. А варвар сделал отличную вещь.
Германец смеется.
Они все смеются — на всех крестах. Чиновник оглядывается, смотрит вправо, влево. Он испуган. И, к тому же, очень обижен.
Затем варвары начинают плеваться — каждый, даже самый слабый, стремиться попасть в толстяка. Тот дергается и взмахивает пухлыми руками.
Легионеры делают серьезные лица, но чувствуется, что им смешно. Хорошая шутка. Гем — смелый парень.
Варвары презирают смерть. И презирают таких, как этот жирный.
Центурион подходит к чиновнику.
— Нам лучше уйти. Местные нас не слишком любят…
Чиновник небрежно взмахивает пухлой рукой с короткими пальцами, унизанными перстнями:
— Ерунда, центурион. Мы приведем их к покорности… — он замолкает, подыскивая слова: — Нужно лишь побольше крестов.
* * *
В стороне деревни — движение.
Центурион видит это краем глаза. Он стоит — с непокрытой головой, в одной подшлемной повязке, не раз стиранной, с неровными разлохмаченными краями. Лицо со шрамами, рубленое, впалые щеки, жесткая складка губ. Центурион смотрит, как ветер треплет остатки одежды на варварах — резкие порывы, как хлопки в ладоши.
Словно аплодисменты.
Центурион наклоняет голову набок, как большая собака. Он видит: изуродованные ноги германца, грязные, пробитые гвоздями. На них садится муха, снова взлетает.
Центурион моргает. Надевает шлем. Синий гребень, начищенный металл. Нащечные пластины свисают свободно. Центурион начинает завязывать ремни под подбородком…
Затягивает узел.
Грубые пальцы. Но достаточно ловкие, чтобы справиться с ремешками шлема. Ногти обломаны и в грязной кайме. Широкие браслеты на запястьях — из грубой кожи, потертой и старой.
Вдалеке слышны голоса.
Центурион смотрит на казненных, переводит взгляд в сторону, откуда ему послышался шум.
Центурион медлит. Разглядывает приближающихся людей.
«Проклятье». Он даже не удивлен. Рано или поздно это должно было случиться.
Поворачивается к солдатам и приказывает негромко:
— К бою.
Короткая заминка.
В следующее мгновение легионеры четко и быстро строятся. Они молчаливые и серьезные, улыбок больше нет. Но никакой паники, никакой лишней суеты. Спокойно и деловито проверяют доспехи и оружие. Щит, дротики. Гладий у правого бока, чтобы было удобно вынуть его одной рукой.
Они — профессионалы.
Толстый чиновник беспомощно смотрит на приготовления.
— Что случилось? Что?
Центурион медлит, разглядывая этого «паганца», затем кивает в сторону германской деревни.
— Что? — говорит чиновник. — Я не понимаю…
Он поворачивает голову. И видит.
Чиновник стремительно бледнеет. Словно вся кровь из него вытекла. Это не какая‑то простая бледность, а желтушная синева, как у покойника.
— Боюсь, что крестов нам все‑таки не хватит, — говорит центурион без всякой насмешки.
Чиновник вздрагивает. Со стороны деревни к ним идут германцы. Целая толпа. У некоторых копья и дубины, у других — ничего, кроме голых рук.
Они плохо вооружены, но их много. Слишком много для маленького римского отряда.
И они не кричат, не ругаются, а идут молча. Это самое пугающее.
Лицо молодого солдата бледнеет.
— О, боги, сколько их.
Центурион говорит негромко:
— Стой крепко, зелень. Бей по приказу. И держись. Сейчас будет жарко.
Лицо молодого легионера бледнеет на глазах.
— Я… я не хочу умирать. Пожалуйста! Пожалуйста!
— Встать в строй! — резкий окрик заставляет новичка подскочить. Он, наконец, вспоминает, что боится центуриона больше, чем любого варвара. Занимает свое место. Его с двух сторон подпирают плечами опытные солдаты.
Старый центурион подходит и говорит негромко:
— Мальчик, никто не хочет умирать. Даже я. В этом вся хитрость. Именно поэтому — стой крепко и бей по приказу. И… — он медлит, — и надейся на своих богов, мальчик. Они нам пригодятся.
Центурион неторопливо поправляет завязки шлема, достает гладий из ножен. Осматривает клинок, стирает крошечное пятнышко с металлической поверхности. Пробует пальцем заточку лезвия. Потом убирает меч в ножны.
Легионеры ждут. Центурион краем глаза видит, как натягивается кожа на их скулах.
Они стоят и ждут, когда человеческая волна докатится до них.
* * *
— Проклятье! — серебряная чаша падает. Со звоном улетает куда‑то под стол.
Я вздрагиваю и опускаю руку. Арминий лежит на полу. Рядом растекается кровавая лужа. Но это всего лишь вино.
С чужого красивого лица смотрят на меня знакомые глаза.
— Брат? — говорю я. Звучит неловко и фальшиво.
— Брат, — говорит Арминий. Глядит на меня снизу вверх. Затем протягивает руку…
Пальцы зависают в воздухе.
Я медленно беру его за запястье — оно крепкое и надежное — сжимаю пальцы. Тяну на себя. Вставай!
Если это мой брат, то весу в нем изрядно прибавилось.
Арминий поднимается на ноги. Мы стоим и смотрим друг на друга. Как‑то все очень странно вышло…
Я подхожу к столу и забираю Воробья. Вешаю фигурку на шею.
«Это твой выбор», сказал прозрачный. Очень смешно… Очень. Прозрачный человек знал, что на самом деле случилось с Луцием.
Воробей. «Он принесет тебе только горе».
Я поворачиваюсь. Медленно. Что ж… пора нам начать все с самого начала.
— Привет, Луций, — говорю я. — Рад тебя видеть, брат.
Глава 7. Восстание
Цирюльник стирает с моего подбородка остатки оливкового масла. Прикладывает полотенце, смоченное в отваре шалфея — горячо! От чаши с кипятком тянутся изгибы пара…
Когда цирюльник заканчивает, я оглядываю себя в зеркале. Сойдет.
Бритье — довольно болезненная процедура. Особенно с местной водой, от которой лицо сохнет.
А мне пора тренироваться.
После того как мы с Титом Волтумием встретились в бою с шестью «гемами», я понял: нужно вернуть форму. А случай в таверне «Счастливая рыба» убедил меня внимательней отнестись к занятиям.
Потому что одних навыков уже недостаточно. Тело отвыкло. Нужна практика.
Глядя, как центурионы третируют новобранцев, как гоняют их целыми днями, я могу только качать головой. Такие нагрузки уже не для меня… нет, спасибо.
Я бы умер просто. Мне даже не верится, что когда‑то я выдержал целый месяц в школе наравне с настоящими гладиаторами…
И меня даже не убили.
Хотя не сказать, что совсем не пытались.
А сейчас тренировка — единственное, что помогает мне не думать о дурацком Воробье и перемещении душ.
* * *
— Надо тебе больше мяса есть, — говорит Метелл. — Ты какой‑то вялый.
Качаю головой. Я насквозь мокрый от пота. В легатской палатке места для тренировок хватает, и тут — в отличие от улицы — тепло. Поэтому уже полтора часа мы с Метеллом фехтуем.
— Тут ты промахнулся, дружище. Настоящие гладиаторы не едят мяса.
Метелл поднимает брови.
— Серьезно?
— Совершенно.
Метелл — самый молодой трибун в Семнадцатом легионе. Высокий темноволосый парень.
Мой начальник конницы.
Он энергичен, обаятелен и обожает дурацкие шутки. Поэтому мысль заехать своему легату палкой по ребрам кажется ему ужасно забавной…
— Совсем не едят? — он потирает подбородок. Темные глаза блестят от смеха.
— Именно. Все гладиаторы, которых я знал, питались в основном тушеными овощами и овсяной болтушкой. Такая еда помогает набрать вес и оставаться большим и страшным.
Метелл качает головой. Я усмехаюсь. Еще бы, я тоже сначала не верил.
— Ответь мне на один вопрос: кто, по — твоему, выносливее — волк или бык?
Тут я понимаю, что бык — не самый удачный пример.
Германец Стир. Полусумасшедший великан с разными глазами.
Серебристая фигурка Быка, вымазанная кровью…
Я морщусь.
— Пожалуй, бык, — говорит Метелл. — А что?
— Гладиаторы — это сражающиеся быки, а не волки.
— Хорошо, что не коровы.
Что я говорил про дурацкие шутки?
Сейчас в Риме существуют четыре государственных школы гладиаторов.
Большая школа и Утренняя школа специализируются на бестиариях, убийцах зверей. Там бойцов готовят четыре года. В школах Галлов и Даков срок обучения в два раза короче.
Конечно! Человека убить гораздо проще.
Я же регулярно упражнялся с оружием на Марсовом поле. Это традиция. Кто из римской молодежи этого не делал?
Ну, многие не делали — если уж быть честным.
Времена изменились.
Сейчас молодого римлянина проще застать в банях, чем на поле боя.
Впрочем, Марсово поле — это так, баловство. И даже гладиаторская школа — баловство. Главному меня научили в доме моего отца. Бывшие гладиаторы — изрубленные, искалеченные, изуродованные, но сумевшие выжить — приходили к нам каждый день. И мы старались. Вместе с молодыми гладиаторами мы, сыновья Луция Деметрия Целеста, главы рода Деметриев, набивали синяки и шишки.
Впрочем, это все равно бы ничего не дало…
Не будь одной мелочи.
У меня — талант.
* * *
Мы занимаемся.
Я хватаю воздух ртом. Деревянный меч в руке весит больше, чем сорокалибровый мешок с солью.
Ничего, ничего. Еще немного. Я этому наглецу покажу, как надо драться!
Метелл, молодой и дерзкий префект конницы, щурится, наклоняет голову. Выставляет деревяшку, идет ко мне. Я жду.
Жду, когда он по — особому поведет головой. Я изучил его привычки. Когда Метелл готовится ударить, он делает резкое движение подбородком… вот оно!
Отбой, удар. Выпад! Моя деревяшка глухо ударяет его в грудь. Бум! Он отшатывается…
Я поднимаю меч, салютую Метеллу. По деревянному клинку четким узором идут следы ударов.
— Ты убит, — говорю я.
Метелл качает головой.
— Как ты это сделал?
— Это просто.
Я показываю. Это действительно просто.
При этом с меня пот льет ручьями.
В палатку входит один из эквитов. Он весь пропах конским потом. Лицо в пятнах дорожной грязи. Когда он хлопает себя по груди кулаком, взлетает облачко пыли.
— Приказ пропретора! — чеканит он. — Где ваш хозяин?
— Кто ты? — спрашиваю я.
Он презрительно оглядывает мою грязную тунику, мое потное и раскрасневшееся лицо. Деревянный меч, который я по — прежнему держу в руке…
— А кто ты, раб? — спрашивает гонец. Метелл хмыкает.
— Легат Семнадцатого.
…Хохот префекта конницы прямо‑таки режет уши.
Всадник на мгновение теряет дар речи. Затем выпрямляется и салютует — четко и энергично. Словно ничего не произошло.
— Нума Деций, — докладывает он. — Первая турма, Восемнадцатый Верный легион.
Мгновение я вспоминаю, кто есть кто.
— Декурион, в чем дело?
— Вас просят на военный совет, легат. Пропретор сейчас в лагере Восемнадцатого легиона.
— Хорошо, — говорю я. «Какого черта Вара принесло сюда, в летние лагеря?»
Я бросаю деревянный меч Метеллу. Он ловит его в воздухе, улыбается.
— Дела, — говорю я. — В другой раз получишь по шее, префект.
— Хорошо, легат.
Метелл хохочет, скаля отличные зубы. Словно он лошадь.
— Хорошая причина увильнуть, легат. Иначе я бы крепко настучал тебе… вам по… хмм… афедрону.
Угу, самое время блеснуть знанием греческого.
— Хвастун самнитский.
— Простите, легат, — говорит всадник. — Вас просили поспешить. Дело срочное.
Мы с Метеллом переглядываемся.
— Что случилось? — спрашивает он серьезно.
Всадник медлит.
— Ну!
— Германцы восстали.
Сначала я думаю, что ослышался. «Они откусят нам пальцы», вновь слышу я голос Нумония Валы.
— Что — о?!
* * *
Марсы — небольшое племя германцев. Они поклоняются какой‑то своей Богине. Это все, что я о них знаю.
— Марсы перебили римских судей и легионеров, что были посланы вершить суд на месте, — докладывает гонец. — Гемы обошлись с ними… очень жестоко, пропретор.
Вар поднимает голову. Лицо усталое и нездоровое, левый глаз подергивается. Запах шиповника настолько сильный, что меня начинает мутить.
— Как? — говорит Вар. — Как они обошлись с нашими воинами и судьями?
Гонец бледный, словно сам это видел.
— Они…
— Говори же! — кричит пропретор.
Гонец вскидывает взгляд, на щеках — красные пятна.
— Гемы их распяли.
Всеобщий вздох.
Я вспоминаю, как приехал в Германию. Кресты с распятыми германцами вдоль дороги. Мухи, кружащие над изуродованными ступнями, синие пальцы. Десятки казненных. Это был ответ на смерть моего брата.
Мы распинали варваров — по римскому праву. Гемы ответили нам тем же.
Все честно.
Крики, ярость, гнев. Лица трибунов искажены.
Распятие — позорная казнь.
— Теперь дело за нами, — Арминий, который на самом деле Луций, прерывает молчание. Все оборачиваются на этот негромкий сильный голос. — За Римом. Ответ должны быть мгновенным… и сокрушительным. Пугающим. Иначе это будет воспринято как слабость, пропретор.
Мой мертвый старший брат.
Мой…
— Варвар прав, — говорит легат Девятнадцатого легиона, изнеженный и чахлый побег от ствола Ромула и Рема, Гортензий Мамурра. В каштановых кудрях вяло переливается отсвет лампы. — Мы должны наказать мятежников. Задавить восстание в самом начале, в зародыше! Чтобы Германия ужаснулась. Чтобы варварские матери пугали детей вашим именем, пропретор!
Вар опускает голову и бродит по палатке. В покоях Нумония несколько мраморных бюстов — в основном это философы. Пропретор останавливается и задумчиво рассматривает каждый.
Платон, Аристотель, Сократ, еще несколько бородатых мужиков. Греки. Даже я не всех помню.
Вот уж не думал, что Нумоний интересуется философией. Я смотрю в затылок легата Восемнадцатого легиона — там толстый шрам. Памятка от сарматов, с которыми легат сражался, будучи молодым префектом конницы.
Мы ждем.
— Пропретор? — повторяет Гортензий Мамурра.
Вар вздрагивает. Поднимает голову.
— Где царь марсов?
— Исчез, — отвечает Нумоний.
Вар облизывает губы.
— Я принял решение, — голос у него внезапно сел. — Мы не можем оставить это без внимания. Поэтому… — он медлит. — Кажется, у нас есть заложница из племени марсов?
Я вздрагиваю. Заложницы!
Туснельда, прекрасная германка. Она тоже одна из них.
Правда, царь хавков, Сегест, до сих пор был верен Риму. Я сжимаю зубы. Надеюсь, так оно и останется.
Но почему — марсы?
* * *
— Римлян — резать! Бей! Убивай!
Бьется в истерике человеческая толпа. Бежит человеческая толпа. Рвет и мечет человеческая толпа.
Словно мутный дождевой поток, сметающий все на своем пути.
Хлодриг выступил вперед, поднял римский меч. Трофейный. Хлодриг забрал его у патрульного легионера — мальчишки лет семнадцати. Это было просто. Даже слишком. Кровь забулькала, когда мальчишка упал. Хлодриг с интересом наблюдал, как она пузырится и течет на землю. Мальчишка хрипел и дергался. Лицо юное, еще в подростковом пушке. Глаза широко раскрыты.
Хлодриг присел рядом, наблюдая, как пыль намазывается на смуглую кожу легионерчика. Тот зажимал руками горло, но кровь все равно текла. Смешной все‑таки они народ, римляне…
Хлодриг положил фрамею на землю.
Старое верное оружие. «Давно я ее не доставал». Еще с того набега за Рений, когда большим отрядом они прошли по Галлии и разворошили несколько римских поселений. Сейчас по всем германским землям пошел зов — восстание близко. Римлян — убивать. Но первыми… Первыми восстать должны были марсы, племя, к которому принадлежал Хлодриг.
Восстать и — первыми попасть под удар Рима.
Затылок свело. Неужели легионы дотянутся и сюда? Раньше им удавалось. Но сейчас все будет по — другому.
Или нет?
Человек в маске говорит, что время римлян ушло. Сейчас наше время. Племена хаттов, бруктеров, лангобардов, гиперов, херусков, ангривариев и фризов — все должны восстать. И повернуть оружие против Рима.
Так же, как марсы.
Паренек — римлянин продолжал дергаться. Хорошо, что догадался зажать артерию руками. Иначе бы уже истек кровью, а это неинтересно.
Хлодриг поморщился. Поднял меч римлянина и осмотрел клинок. Железо. Не очень хорошее, но отлично заточено. Гнется, но и режет.
Пожалуй, этот меч все‑таки может пригодиться.
— Варвар! — позвали сверху.
Хлодриг выпрямился. Тщательно отряхнул пыль со штанов. Поднял голову.
Старого центуриона приколотили к кресту — не очень умело, но для начала сойдет. Седые волосы, лицо, черная от синяков грудь и подшлемная повязка — в запекшейся крови. Край повязки разлохматился. Ветер теребит ниточки с багровыми комочками.
Разбитые губы центуриона шевельнулись.
— Оставь… мальчишку… в покое. Ты… я убью.
Хлодриг засмеялся. Этот старик еще угрожает!
— Я… те… бя найду… ты… ублюдок.
Хлодриг покачал римским мечом, ловя отсветы. Забавно.
— Я видел ваших орлов, старик. Они из золота, правда? — полузабытая латынь. Служба в германской когорте в Паннонии многому научила Хлодрига, в том числе и языку. А еще — снимать добычу с трупов, пока не подоспели мародеры из числа легионеров.
— Орел… выклюет тебе… — старик задохнулся, закашлял. — Гла… за…
— Лучше бы твоему орлу быть из золота, — продолжал Хлодриг. — Мы убьем много римских свиней в этот раз. Я раздобуду себе такого орла — и стану богаче. Вот увидишь, старик. Ах, да… ты этого не увидишь. Прости, старик.
Римлянин поднатужился и плюнул.
Красно — черный сгусток плюхнулся в пыль рядом с ногой Хлодрига.
Германец расхохотался.
— Эх, старик, старик… Все у тебя не так, не по — человечески.
Он кончиком римского меча срезал полоску кожи с бедра легионерчика. Потекла кровь, красным заливая смуглую кожу. Мальчишка забился, открыл рот… Булькнуло. Хрип. Но больше — ни звука. Хлодриг кивнул. Очень удобно. Перерезаешь горло, потом они тихие.
Хлодриг резал и смотрел. Наконец, в глазах мальчишки медленно погас огонек. Кончено. Жаль.
— У… бью, — центурион все еще не успокоился. Упрямый старик.
— Не накаркай, — сказал Хлодриг и вытер меч о синюю тунику мальчишки.
* * *
Ализон, провинция Великая Германия.
Девушку выводят. Помост возвышается над площадью — поэтому кажется, что девушка ступает босыми ногами по головам зрителей.
Казнь.
Легионеры охраняют помост. Они стоят с невозмутимыми каменными лицами.
Палач привязывает девушку к столбу,
Она юная и симпатичная. Короткий нос. Веснушки — болезненно яркие на белом лице.
Она виновата только в том, что она дочь царя марсов. Марсы — германцы, что нарушили клятву на верность Риму.
И значит, заложница должна умереть.
Веревочная петля сжимает ей горло. Глаза девушки расширяются от ужаса.
Палач заходит девушке за спину и вставляет деревянную палку в петлю.
Ожидание. Долгое и мучительное. Площадь замирает.
— Можно начинать, пропретор? — спрашивает чиновник вполголоса.
Квинтилий Вар моргает, словно только что проснулся. У него утомленный больной вид. Он делает вялый жест — давайте.
Чиновник машет палачу. Тот кивает: понял. Это крепкий, но совершенно обычный с виду человек, увидев такого в толпе, даже не подумаешь, что перед тобой — тот, кто отнимает жизни.
Палач берется двумя руками за концы палки.
Начинает закручивать.
Раз оборот, два, три…
Петля сжимается. В конце концов, она сожмется до предела и удавит жертву.
Отчетливый, жуткий скрип веревки.
Общий вздох.
— Будьте вы прокляты, римляне! — доносится из толпы одинокий голос. — Будьте вы прокляты!
* * *
В легионах царит оживление.
Германцы взбунтовались? Нормально. Ничего нового.
Отправят какую‑нибудь когорту для усмирения бунтовщиков, остальной легион будет дальше делать свои дела.
Так всегда бывает. Не стоит беспокоиться раньше времени.
Солдату положено думать одним днем.
* * *
После казни заложницы Вар выглядит еще более бледным и потерянным. Кожа напоминает старый пергамент.
Арминий, как всегда бодрый и собранный, излагает план. Он младший по званию, поэтому говорит первым:
— По пути в зимний лагерь легионы пройдут по землям марсов. Нужно воспользоваться временем, пока погода еще теплая. Тогда мятеж будет подавлен в этом году, а не останется тлеть до следующего лета. Воля и решительность — это то, что заставит германцев принять власть Рима, пропретор. Германцы презирают слабость.
— Зачем столько? — спрашивает Нумоний. Его глаза холодно ощупывают лицо германца. — Три легиона? Может, вполне хватит и пары когорт? Для одного небольшого племени?
Арминий невозмутимо встречает взгляд легата. Он снова выглядит большим римлянином, чем все настоящие римляне вокруг него. И теперь я знаю, почему.
— Вы совершенно правы, легат. Двух когорт было бы вполне достаточно… будь это только марсы. Нельзя недооценивать противника. Что, если восстало не одно племя?
Молчание. С ним трудно не согласиться. Любой, даже случайный, успех мятежников вызовет в провинции новые волнения. А Великая Германия — далеко не самое спокойное место изначально.
Вар думает.
— Наказать марсов… и сразу в зимний лагерь?
— Да, пропретор.
— Хорошая идея, — говорит Квинтилий Вар наконец. Похоже, он доволен, что не пришлось выдумывать план самому. — Так и сделаем. Приказываю: Семнадцатому, Восемнадцатому и Девятнадцатому легионам сворачивать лагеря. Готовить обоз. Собирать вещи. Мы идем в земли марсов, а затем — в Ализон, на зимние квартиры.
— Зимний лагерь — это хорошо, — говорит Нумоний. — Но…
— Но сначала мы должны наказать варваров за неповиновение! — закачивает Вар.
Мы с Нумонием переглядываемся. Похоже, спорить бесполезно. Наш «великий судья», как прозвали Вара солдаты за страсть к судилищам, уже принял решение.
А план… План хороший. Но даже прекрасные планы могут пойти наперекосяк.
Я поворачиваю голову и встречаю спокойный взгляд Арминия. Голубые глаза. «Ты со мной?» словно спрашивает он.
Луций — мой старший брат. Он знает лучше… наверное.
— Да, пропретор, — говорю я медленно. — Я согласен с префектом Арминием.
— Конечно, пропретор, — Гортензий Мамурра, легат Девятнадцатого, манерно улыбается. — Как скажете, пропретор. Думаю, это прекрасная мысль.
Нумоний Вала молчит. Затем кивает. И только позже, словно забывшись, поднимает руку и пальцами проводит по багровеющей ленте шрама.
* * *
Легионам дан приказ: всеобщий сбор. Переезжаем! И — война.
Лагерь Семнадцатого Победоносного превращается в гудящий муравейник.
Префект Эггин, трибуны, центурионы — заняты настолько, что даже ненавидеть меня у них нет времени. Тысячи вещей должны быть собраны. Тысячи дел — решены.
Соседний городок — уродливый нарост, связавший три лагеря вместе — тоже бурлит. Вслед за легионами пойдет обоз. Оставлять ничего нельзя. Все — от колышка палатки до последней шлюхи — последует за легионами.
Так положено.
Легионеры оживились.
Зимние лагеря — это Ализон, там хорошо. Там тепло и каменные стены. Там весело и безопасно…
Наверное.
Но до него еще нужно добраться.
Глава 8. Все еще живы
Центурион поднимает деревянный меч за середину — двумя узловатыми пальцами. Смотрит на тирона исподлобья, морщит брови.
— Как твое имя, зелень? — спрашивает наконец.
— Фурий Люпус.
— И ты действительно стоишь своего имени?
Смешки.
Это имя означает «яростный волк». Конечно, оно дорогого стоит…
Тирон выпрямляется.
— Да.
И вдруг получает удар в голову. Темнота. В ушах плавится алый звон, набегает, словно волна, захлестывающая лодку.
— Живой? — спрашивает центурион. — Эй, зелень!
— ЦЕН, ДА, ЦЕН! — орет тирон на всякий случай. Перед глазами — туман. Штормит. Желудок Фурия сжимается так, что тирона вот — вот вывернет наизнанку. Стоять, стоять, не падать!
— Хорошо, — центурион опускает палку из виноградной лозы, которой только что ударил мальчишку. — Откуда у тебя это имя?
— Мне дал его легат.
Брови центуриона взлетают вверх.
— Что?! Какой еще легат?!
— Гай… — новобранца качает. — Деметрий… Целест.
Смех стихает. Легионеры переглядываются.
— Чем ты заслужил такую честь? — спрашивает центурион. Ему действительно интересно. Он из другой центурии, поэтому не знает о том знаменитом дне, когда новый легат участвовал в занятиях вместе с новобранцами.
— Меня ударил легат!
В учебной схватке. «Здорово он дерется». А потом легат с учителем фехтования отдубасили друг друга палками так, что весь легион до сих пор это вспоминает.
Центурион поднимает брови.
— И?
— И назвал имя!
Центурион некоторое время думает, прежде чем поверить. Ну, хорошо.
— Я буду звать тебя Волчонком. Свободен, зелень. Да, запомни. Здесь я устанавливаю правила. Я, центурион, а не легат и даже не император. Понял меня?!
— Цен, да, цен!
— Не слышу!
…Вечером, когда учения заканчиваются, полумертвые тироны возвращаются в палатки.
Едва передвигая ноги. Тирон, прозванный Волчонком, добирается до своей койки. Все тело болит, от усталости мир вокруг изгибается, словно жидкое стекло. Иногда Фурию кажется, что все вокруг тонет в тумане.
Мягком, убаюкивающем тумане…
Волчонок дергает головой и просыпается. Его качает. Он словно плывет в медленно закипающей воде.
Жизнь новобранца и так нелегка… Эх, ты, зелень легионная!
А тут еще всякие легаты ее усложняют.
От осенней промозглой сырости режет колени. Одеяло тонкое и совсем не греет.
«Я стану центурионом!», думает мальчишка, трясясь от холода. «Старшим центурионом».
Или хотя бы аквилифером. Орлоносцем, тем, кто носит легионного орла. Надеть львиную шкуру… эх. Новобранец Фурий Люпус вздыхает и пытается натянуть одеяло на голову. Львиная шкура — это красиво. Хотя волчья, как у знаменосца центурии, тоже ничего…
Теперь ушам тепло, зато мерзнут ступни. Одеяло слишком короткое. Волчонок перетягивает одеяло на ноги — они твердые и ледяные. Голова снова начинает мерзнуть.
Вот бы вернуться в родную деревню в волчьей шкуре…
Мечты, мечты. Фурий проваливается куда‑то вниз и в сторону. Плывет по неслышным упругим волнам. Шелест прибоя. Вкус меда, намазанного на кусок хлеба — из детства.
Руки деда, морщинистые, черные от загара. Они тянут из воды сеть.
Скалы, выжженные солнцем, белесые. Прибой. Ласково плещет море, в маленькой ямке на валуне сидит крошечный краб… отсветы солнца от воды качаются на шершавой скале…
Фурий Люпус спит.
Хороших снов много не бывает.
* * *
Префект лагеря Семнадцатого Морского, Спурий Эггин выходит из палатки.
Навстречу ему — человек в военной тунике, в кожаном панцире, украшенном серебряными силуэтами кабанов. На щеке у человека — большая бородавка.
— Префект Эггин! Какая встреча! — говорит человек с бородавкой. Или это бородавка говорит за человека.
— Префект лагеря Цейоний, — Эггин холодно кивает. Он знает этого придурка. Цейоний — заместитель командира Девятнадцатого легиона. Он выслужился из центурионов, так же, как и он, Эггин. И это единственное, что у них общего.
«Интересно, хотя бы собрать лагерь Цейоний способен?», думает Эггин.
Сегодня и увидим.
— Куда‑то торопитесь, префект?
Эггин с досадой останавливается. Голова трещит жутко. Вчера он напился, как обычно, до полного бесчувствия. Чтобы не думать. Чтобы — забыть.
Но знать это Цейонию не обязательно.
— Дела, — поясняет Эггин сухо. — Прошу меня простить, префект.
Он идет, а за его спиной Цейоний насмешливо улыбается, в сузившихся глазах стынет обида.
— Что вас насмешило, префект? — спрашивает его Гортензий Мамурра.
Цейоний поворачивает голову, улыбка натянута на лицо, как свиная кожа на барабан.
— Этот… — кивает Цейоний в сторону шагающего Эггина. — Кажется, только в Риме не знают, что он не поделил с одним из своих центурионов рыжую шлюху. И она вроде как выбрала старшего центуриона Волтумия. Что неудивительно.
— Действительно забавно. — Гортензий Мамурра кривит тонкие губы в улыбке. — И что, эта шлюха…
— Руфина, — говорит Цейоний.
— Эта Руфина… очень хороша?
Цейоний медлит.
— Очень.
* * *
Мне кажется, я понимаю, что было в глазах Нумония Валы, когда он говорил о германцах…
«Они не слижут кровь с наших пальцев. Нет, Гай».
То был не лед. Не насмешка. Не презрение. Нет.
То был — ужас.
«Они откусят нам пальцы».
— Легат, — склоняет голову Эггин. Это коренастый, сильный человек. Крутой затылок выдает упрямство. Обветренное лицо — опыт и плохую кожу. Пористый нос с багровыми прожилками — страсть к выпивке.
— Префект лагеря, — говорю я. — У меня есть основания полагать, что скоро что‑то произойдет.
Эггин смотрит невозмутимо.
— Основания? — переспрашивает он. Словно ему непонятно только это слово.
Сукин сын.
— Не буду вдаваться в детали, префект. Вот мое… хмм… пожелание. Удвоить караулы. Обслуживающие команды, лесорубы, фуражиры, обозники, пекари — вне лагеря должны передвигаться под усиленной охраной. Все. Легион перевести на военное положение. Это ясно?
Некоторое время Эггин молчит. Я почти вижу, как за толстой черепной костью неторопливо шевелятся мысли.
Что‑то вроде «тога», гражданский, понаехали тут. И прочее.
— Да, легат, — говорит он наконец.
Когда германцы впервые столкнулись с Римом, их приняли за выходцев из Преисподней. Бледная кожа — настолько бледная, что кажется синеватой. Желтые волосы. Огромный рост, чудовищная сила. Голубые глаза.
И полное отсутствие чувства самосохранения.
Полуголые германцы бросились на железный строй легионов, радостно вопя и скалясь…
«Ти — ваз! Ти — ваз!»
Добежали.
И два наших легиона поминай, как звали.
Варвары ничего не боялись. Словно германцам было все равно. Словно они уже были мертвые.
Забавное совпадение: они пришли с Севера.
А вход в Преисподнюю, как известно, находится где‑то там…
Тевтоны и кимвры, два германских племени, здорово нас тогда потрепали.
И только Гай Марий сумел справиться с ними. Чуть позже — Юлий Цезарь. И дальше — Друз, прозванный Германиком. Получается, для достойного отпора германцам понадобились таланты двух великих полководцев и одного незаурядного!
А спустя несколько лет на север пришли мы. В ответ.
— Я все сделаю, — Эггин язвителен. — Любые ваши пожелания, легат. Не стесняйтесь.
Вот сукин сын, повторяю я мысленно.
— Можете идти, префект.
* * *
В палатке Нумония Валы, командира Восемнадцатого легиона — гости. Сегодня у нас дружеская попойка. Варвары там, не варвары, а выпить надо.
Горят светильники. Мраморные философы выглядят в этом свете еще угрюмее. Губастый Сократ глядит перед собой слепыми глазами. Он бы уж точно не отказался промочить горло!
— Гай, — окликают меня.
— Позвольте представить, легат, — говорит Нумоний. — Это Понтий Пилат, префект конницы из Пятого Македонского. За искусство в обращении с оружием его прозвали Золотое копье. Здесь он по поручению своего командира.
— Легат, — кивает Пилат. Среднего роста, крепкий. С умными — даже слишком — глазами. На руке префекта я вижу золотое кольцо всадника. Сколько Понтию лет? Девятнадцать, двадцать? Несмотря на молодость, у него лицо настоящего солдата.
Пятый Македонский. Хороший, говорят, легион.
— Префект, — говорю я. — У меня к вам просьба. Недавно в ваш легион отправился один из моих солдат. Возможно, вы его знаете… Оптион Марк по прозванию Крысобой. Думаю, его нетрудно узнать. Он — настоящий великан.
Пилат медлит, затем кивает. Его серо — желтые, звериные глаза внимательно рассматривают меня.
— Кажется, я его знаю. Я прослежу за его судьбой, легат.
Он похож на честного человека, поэтому я киваю тоже.
— Хорошо. Спасибо.
Пока мы обсуждаем новости из Паннонии, появляется новый гость. Варвар. Здоровается с хозяином, кивает нам, как равным. Смешно.
— Кто это? — спрашивает Пилат. Нумоний Вала морщится. Подозреваю, что варвар явился без приглашения. Впрочем, если германец пьет вино, а не пиво, это терпимо.
Вошедший — седоватый, грузный, но все еще очень крепкий мужчина. Одет со спокойной роскошью, как варвар. Зато манерами подражает римлянам — сдержанный и холодный. Он даже вполне убедителен в этой роли…
Но рядом с Арминием, царем херусков, впечатления не производит.
Нет.
Нумоний пожимает плечами:
— Это Сегест, царь хавков. Наш основной — помимо Арминия, царя херусков — союзник здесь, в Германии. Его народ один из самых многочисленных. Хавки — серьезная сила, префект.
Пилат медленно кивает.
— Я понимаю. А рядом с ним кто?
Поворачиваю голову, моргаю. Арминий!
Они едва не сталкиваются плечами. Смотрят друг на друга — молча. Затем Арминий с Сегестом, не обменявшись и кивком, расходятся в разные стороны. Воздух между ними словно покрылся коркой альпийского льда.
— Легаты, — Арминий подходит к нам. — Префект.
— Выпьете, царь? — предлагает Нумоний Вала. Арминий — один из немногих варваров, которых легат Восемнадцатого уважает.
* * *
— Конечно, я царь. Rex.
Голос Арминия рокочет низко и приятно, латынь грамотна и изящна. И только легкий варварский акцент выдает провинциала. Ставил Луций себе произношение или так получилось само, из‑за долгой жизни в Германии? Не знаю.
— Я — царь, которого выбрали общим собранием народа. Конечно, я достоин этого по происхождению — мой род богат и знаменит, но этого мало. Царя должны признать воины. Когда я вернулся из Паннонии с трофеями и славой, мужчины херуски, имеющие право носить оружие, избрали меня царем. Они прокричали мое имя трижды и подняли меня на щит. Так я возглавил свой народ.
«Сколько же воинов было на том собрании? Несколько тысяч?», думаю я. Херуски большое племя. Тьфу, проклятье! Луций — Арминий убедителен настолько, что даже я начинаю ему верить…
— А если собрание решит выбрать другого царя? — спрашивает Пилат.
Арминий пожимает плечами, улыбается.
— Тогда что вы сделаете? — Пилат не собирается отступать. Упорный малый.
— Он подчинится желанию своего народа, — говорит Нумоний Вала. — Верно, префект?
— Так и есть, — кивает Арминий. — Легат совершенно прав. Как у вас, римлян, говорится? Если таково желание моего народа, то я умываю руки.
Пилат медлит.
— Я считаю это… не совсем правильным.
— Как и я, префект… Как и я.
Мы смеемся.
Арминий прощается и уходит.
— Какой интересный человек. Он мог бы быть консулом, — говорит Пилат. — Жаль, что он родился варваром.
Чудовищное обаяние все‑таки у моего братца. Даже на человека, который его впервые видит, Луций произвел сильное впечатление.
К глубокой ночи некоторые из нас плохо стоят на ногах. Но префект конницы из Пятого Македонского — крепкий парень. Он еще пытается философствовать.
— Когда власть избранных заменяют властью толпы… — и Пилат качает головой. Рассказ Арминия явно не дает ему покоя.
— Не дай боги вам когда‑нибудь столкнуться с желаниями толпы, префект, — замечает Нумоний. По легату Восемнадцатого трудно понять, сколько он выпил. — Это страшная сила, поверьте. Зря вы ее недооцениваете. Она может заставить вас сделать то, чего сами вы никогда бы делать не стали.
Легат Восемнадцатого точно злится на кого‑то. Отрывисто произносит слова, не глядя на собеседника.
— Вряд ли такое случиться, — Пилат серьезен, но в глазах мелькают насмешливые искорки. — Но если даже случиться, надеюсь, я сумею сделать правильный выбор, легат. Свой выбор.
Мы с Нумонием переглядываемся. Нумоний поднимает бровь. Эх, префект.
Молодость, молодость. Как ты наивна!
Даже я смотрю на его девятнадцать лет свысока.
— Не сомневаюсь, — говорит Нумоний мягко. — Не сомневаюсь.
* * *
За окном таверны «Счастливая рыба» медленно синеет сумрак. Однорукий поднимает чашу с вином и нюхает. Ставит на стол, не пригубив. Все как обычно. Тиуториг, беловолосый варвар с ледяными глазами, никогда не пьет. Словно боится, что его отравят.
— Это будет… непросто, — говорит он.
Человек смотрит на Тиуторига в узкие прорези серебряной маски.
— Но возможно?
— Конечно.
— Что ты предлагаешь?
Тиуториг медлит, затем говорит:
— Атакуем здесь и здесь. — Он склоняется к столу и показывает на карте. Она непривычная, но можно приспособиться. — Одновременно отрезаем хвост и голову каравана… Главное, полная внезапность. Затем добиваем тело.
Человек в серебряной маске кивает.
— Хороший план. Только мы кое‑что изменим…
Он говорит. Тиуториг слушает, затем кивает. Так действительно лучше.
— Может сработать, — он чешет культю левой рукой, зевает.
— Вар сделал глупость, отправившись в лес с обозом, — говорит человек в серебряной маске.
— Он еще ее не сделал.
Серебряная маска качнулась. Тиуторигу показалось даже, что она улыбается.
— Сделает. Обязательно сделает.
* * *
На следующий день я прибываю в Ализон. Мокрые и раскисшие от ночного дождя улицы. В лужах отражается серое небо. Мне нужно увидеться с Туснельдой.
Знает ли она, кто такой Арминий?
Хороший вопрос.
— На самом деле Рима нет, — говорит Туснельда.
Шорох зелени вокруг нас, запах цветов — последних в этом году, и черное пятно няньки, сидящей на приличном расстоянии — так, чтобы нас не слышать.
Хотя уверен, черная гарпия слышит, как растет трава, и видит не хуже орла.
Я медлю, затем спрашиваю:
— Почему Рима нет?
Она пожимает плечами.
— Потому что его никто никогда не видел.
Волей — неволей мои брови поднимаются. Удивление.
— Я видел Рим, — говорю я.
Она фыркает.
— Ты думаешь, это доказательство, римлянин? Но на самом деле… то, что ты говоришь — не обязательно правда.
В первый момент я хотел рассмеяться, потому что рассуждения ее совершенно детские… или — как это? — варварские, но потом… При всей внешней странности слов Туснельды, звучит это вполне убедительно. Что ж… попробуем отнестись к этому, как к логической задаче. Упражнение в рассуждении о некоей ситуации, которой никогда не было. Мои греческие учителя любили такие игры ума.
Или декламаторы, которых обожает Август — вроде того же Апулея или Квизона. Они вечно задаются странными вопросами.
«Например, что было бы, если бы у людей были квадратные головы?»
— Ты знаешь, что Рима нет, так? (город с населением, по последней переписи — постойте… четыре с половиной миллиона жителей) Я же говорю: Рим есть. Я знаю, что он существует, потому что я его видел. Ходил по его улицам. Дышал его воздухом. Ты опираешься в своих рассуждениях на авторитетные источники?
— Что?
— Ээ… кто тебе это сказал?
— Наш жрец.
Мне удается не поперхнуться.
— Хмм. Очень авторитетные источники (ну, если не принять тезис, что жрец — полный идиот). Я же говорю: Рим есть — по праву очевидца. Что возникает из этого столкновения?
Она вдруг улыбается — озорно:
— Что тебя тоже нет, римлянин Гай.
* * *
…От запаха умирающих цветов мне хочется чихнуть. Внутренний сад дома Вара засыпан желтыми и красными листьями. Осень — убивает.
— Пятнадцать лет. Слишком рано, — говорит Туснельда. — Да? — потом замечает: — Ты меня не слушаешь.
— Что? — я понимаю, что потерял нить разговора. Тру пальцами над бровью. Что я пропустил?
— Девушке выходить замуж. Рано?
Ах, вот она о чем! Женщины.
Я пожимаю плечами.
— Не знаю. Римлянки выходят замуж гораздо раньше. У нас одиннадцать лет считается подходящим возрастом для брака. Иногда девочку выдают замуж с семи лет. Правда, это скорее долгая помолвка. В этом случае девочка живет в семье будущего мужа, воспитывается, как остальные дети — до возраста, подходящего для рождения детей.
Угу, растет. И каждый мужчина может сам воспитать себе жену — по вкусу.
— Какой странный обычай, — говорит Туснельда.
Я не знаю, что ответить, поэтому говорю:
— Очень старый обычай.
Туснельда качает головой, фыркает.
— Глупости! У нас все не так, римлянин. У нас можно выходить замуж с пятнадцати лет, но обычно позже. Хотя родители между собой сговариваются гораздо раньше. Так заведено. А молодой воин, познавший женщину до двадцати лет, считается опозорившимся, утратившим чистоту. За таких неохотно выдают замуж.
Германцы, варвары — племя целомудренных людей?! Смешно.
— Старые женщины… те, что живут в священных рощах и смотрят за миром… Они установили такие обычаи. Они следить… следят? — волнуясь, она снова начинает путать латинские окончания.
Внезапно словно туча набегает на небо, закрывает и луну, и звезды. Лицо Туснельды застывает:
— Они не дать мне выйти замуж.
Темнота.
Не дать выйти замуж… За кого? За Луция?!
* * *
— Замуж? — повторяю я. У меня почему‑то сухие глаза. Они болят, когда я смотрю на нее. Такую юную и естественную. Такую красивую. Это мучительно.
Неужели я такой замороженный истукан, что меня нужно бить по голове, чтобы я хоть что‑нибудь понял?!
Коса, светлая и толстая, лежит на ее плече. Туснельда перебирает кончик косы тонкими пальцами.
— Да, замуж, — говорит она беззаботно. Затем поднимает голову…
Я вздрагиваю.
Потому что это всепроникающий, безжалостный взгляд взрослой женщины. Она все понимает. Никаких шуток.
Ее серые глаза сейчас темные и глубокие. Как Бездна.
— А ты возьмешь меня в жены? — говорит она.
Отличный вопрос для такого вечера.
Завтра легионы отправляются в поход. Сегодня — последний мирный день…
Прежде чем я успеваю ответить, она словно забывает о своем вопросе.
— К нам приходят учителя, — говорит Туснельда. Акцент ее становится совсем легким, почти незаметным.
Я смотрю на ее губы. Как они двигаются.
И мне нравятся ее руки. Прекрасный изгиб ее запястья. Пальцы — тонкие, нежные.
— Ты слушать, римлянин Гай?
— Я слушать.
К германским заложницам приходят учителя, я понял. Pax Romana — римский мир. Это обычное дело, обычная практика. Мы всегда так делаем. Варвары, воспитанные римской культурой, тянутся к ней, а не к своим, покрытым шкурами, соплеменникам…
Мне нравится ее акцент.
— К вам приходят учителя и?..
— И ничего. Так ты возьмешь меня в жены? — спрашивает она.
— Нет.
* * *
Трудно говорить «мы», когда речь идет о Риме. Рим — это мы. Но Рим — это еще и тот Рим, в который мы можем включить себя, как частицу целого.
Как там, в логике Аристотеля?
Рим включает в себя нас, патрициев, плебеев, легионеров и прочих — без остатка. Но мы — не весь Рим. Понятие «Рим» включает в себя еще многое другое.
Раньше говорили: Республика.
Сейчас, после гражданских войн, выкосивших тысячи и тысячи квиритов, знавших республику, так не говорят. Да, это республика, но уже — республика одного. Римом управляет сенат, а сенатом — первый сенатор Август, принцепс. Старик с вечно сопливым носом.
Я закрываю глаза и вижу Курию — здание, где проходят заседания сената.
Белые тоги с широкими пурпурными полосами вливаются в полутемный зал. Пурпурный ближе к цвету моря и вечерних сумерек, чем к цвету огня и утренней зари.
«Вышла из мрака с перстами пурпурными Эос».
Хотя она скорее розовопальчиковая Эос, чем пурпурная.
Пурпурный ближе к цвету крови.
* * *
Я смешиваю воду и вино. Поднимаю чашу, салютую богам. Я в них не верю, но это не повод быть невежливым. На дне чаши — покой и счастье.
Я знаю.
Когда я в детстве заболел, пришел врач, грек по происхождению, в коричневом паллиуме. Он послушал меня, постучал в мою тощую грудь — больно! — кончиками длинных пальцев, а потом велел приготовить из зеленых плодов конопли настойку. И капать мне в уши. Дважды в день.
Это помогло.
По крайней мере, боль сразу стала меньше. И я начал лучше слышать.
Конопля — это средство от тишины.
— Гай!
Вино же — наоборот. Средство для тишины.
Я пью медленно, чтобы не успеть напиться до отъезда. Туснельда смотрит на меня.
— Ты хмуришься, — говорит она. — Почему ты всегда хмуришься? У тебя становится такое усталое лицо.
— Мне пора возвращаться.
— Куда?
— В легион. Завтра — война.
Она улыбается. Неожиданно лукаво — так, что я чуть не роняю чашу с вином. Однако…
— А сегодня, римлянин Гай?
Я скашиваю глаза в сторону черной няньки. Но, похоже, та, делая вид, что спит, заснула на самом деле. Негромкий храп.
Смешно.
Я ставлю чашу на постамент, выпрямляюсь. Туснельда смотрит на меня.
— Сегодня — вечер мира, — говорю я и обнимаю германку.
Вкус ее губ. Нежность.
Все будет хорошо, думаю я. Слышу возмущенный возглас проснувшейся няньки…
Даже если — не будет.
* * *
Тит остановился. От внезапной боли сжалось сердце, задергалось, как заячий хвост — так, что отдалось в левую руку.
Спокойно, центурион.
— Чего ты хочешь, женщина? — сказал он медленно.
Собственные руки казались ему огромными и слишком длинными. Слишком грубыми.
Ненужными.
Особенно рядом с изящным изгибом ее теплого бедра. Рядом с нежной белоснежной кожей. Ее веснушки, их драгоценная россыпь. Он прикрывает глаза. Он готов прикоснуться к каждой из них губами.
— Чего я хочу? Чтобы ты остался со мной. Мне нужно тебе кое о чем рассказать…
— О чем?
Внезапно за окном закричали. «Восстание! Гемы восстали!»
Тит Волтумий молниеносно вскочил, оделся. Пошел, на ходу накидывая перевязь с мечом и застегивая кингулум.
Уже в дверях, он остановился, повернулся к ней. Лицо центуриона странное, словно постаревшее на много лет.
— Ты… — он не договорил.
Он думал, что сейчас получит одну из ее сцен ревности — или каприза. Он не знал. Или равнодушия…
Или даже — прощания. Он сглотнул.
Вместо этого она кивнула:
— Иди.
От вида ее бесстыдно обнаженного тела, от веснушек на плечах, от впадинки между ключиц, от распухших губ Тита пробил озноб. Как всегда. Затылок свело.
— Это может подождать? То, о чем ты хотела со мной поговорить? — голос хриплый и напряженный. — Мне действительно надо идти.
Рыжая садится на кровать, вытягивает длинные ноги. Сучка.
— Иди.
— Я серьезно!
— Я тоже. Иди.
Он стискивает челюсти так, что слышен скрежет. Затем волевым усилием разворачивается к двери, медлит, заставляет ноги идти — шаг, еще шаг — и выходит. Все.
Руфина помедлила. Догнать? Окликнуть?
Тогда ты не узнаешь, что у меня будет ребенок. От тебя, мой доблестный и страстный центурион. Старший центурион. Какая разница?
— Нужен тебе ребенок шлюхи? — говорит она негромко и замолкает. Слова неприятно разлетаются, отскакивают от стен в пустой комнате. Гаснут. Все равно. Его нет. Он ушел.
Может, и хорошо, что не сказала, думает она.
Скажу потом, когда мы прибудем на место. Куда легионы, туда и шлюхи. Известное дело…
Нас — не разъединить.
* * *
Мы умираем.
Каждый день и каждый час приближает момент нашей смерти. Каждая минута или миг…
В этом нет ничего нового или необычного.
Смерть может настигнуть нас в любой момент — от восхода солнца до заката, или в полной темноте.
В темноте, полной звезд, и — отчаяния.
«Вышла из мрака младая с перстами пурпурными Эос…»
Гомер, «Одиссея».
Я открываю глаза и в полной темноте лежу и смотрю вверх. Полог палатки набух от влаги и прогнулся. Сырость обволакивает. Что я знаю о будущем в этот момент?
Ничего.
Здесь, в темноте палатки, посреди Германии и ночи, будущего нет. Я слышу, как стучат дождевые капли над головой, слышу тонкое сопение моего раба — Эйты спит и не видит меня, ему хорошо. Сон уравнивает всех. Рабов и хозяев, римлян и варваров, больных и здоровых, людей и богов…
И только тот, кто не спит — несчастлив и чужой для всех остальных.
Я лежу в темноте, натянув шерстяное одеяло до подбородка. Дышу водой. Пропускаю ее сквозь легкие. Сырость плавает вокруг меня холодными упругими волнами, где‑то под потолком зудит комар — я слышу движение его прозрачных крыльев. Холодно. Хорошо, что мы, наконец, уходим на зимние квартиры. Здесь много комаров — «мулы» отпугивают их, поставив курильницы, но иногда, несмотря на дым, комары все равно летают.
Как сейчас.
Пространство легатской палатки — гулкое, сырое, огромное — наполнено пустотой. Я лежу и чувствую, как просачивается сквозь мои пальцы вода минут и часов. Уходит время, как из треснувшей клепсидры.
Нет, не уходит.
Время вокруг нас.
Мы, люди, медленно барахтаемся в океане времени, в то время как к нам подбираются в темноте чудовища. Тревога. Я кожей чувствую, как чудовища, похожие на огромных ящериц, смотрят на меня из темноты белесыми светящимися глазами.
«Вышла из мрака младая…»
Не вышла.
Ее сожрали вараны времени.
Титан Сатурн, повелитель времени, пожирал своих детей.
«Ты возьмешь меня замуж?», спросила Туснельда. Вкус ее губ…
Дай только вернуться из этого похода и тогда…
Возьму.
В темноте негромко зудит комар.
* * *
Последняя ночь.
Мятущиеся комары и мысли.
Нет, комары как раз спокойны. Они медленно пересекают сырое пространство палатки, летают неслышно…
Опускаются.
Кусают.
Пьют кровь.
И умирают под ударом ладони — порой тот, кто бил, даже не успевает проснуться. Бух! Готово.
Кровавое пятно.
А мысли продолжают метаться…
Секст Виктор начинает еще один куплет. Горло уже только сипит, музыки не будет больше. Кажется, он спел за сегодня двести или триста песен. Даже больше, чем когда‑либо знал. Так что теперь, лежа на койке, он все равно продолжает мычать мелодию. И никак от этого не избавиться.
Завтра мы выступаем. Пройдем железными гвоздями калиг по головам германцев, распнем сотни, чтобы привести к покорности тысячи. Повеселимся.
В Иудее это сработало. Почему не сработает здесь?
Виктор вытягивается на койке и закладывает руки за голову. Под упрямый, забитый песнями, затылок.
Германцы его сейчас мало волнуют. Война — это уже было. И будет еще не раз. Война — это работа. А вот случай разобраться с тем, кто тебя недавно доставал…
Ради этого стоит проснуться в последнюю ночь перед войной.
Виктор смотрит в провисший от сырости полог палатки. Сон — лучший друг солдата, он часто заменяет легионеру еду и вино. Виктор поднимает голову. Да, я буду спать…
Только осталось решить одно дельце…
Через мгновение Виктор выскальзывает из палатки. Для такого рослого человека он двигается удивительно бесшумно. Сопящие товарищи по контубернию остаются позади.
Все само идет. В сером безлунном полумраке Виктор, крадучись, двигается к расположению третьей центурии. Вот нужная палатка.
Помедлив мгновение, Виктор ныряет внутрь. Хоть глаза выколи… нет. У крошечных статуй, стоящих в глубине палатки, сонно колышется красный огонек масляного светильника. Отлично!
— Вот ты где, — Виктор аккуратно переступает через чью‑то койку, наклоняется над следующей. Лежащий тихонько посапывает, приоткрыв по — детски рот. Да, это тот самый…
Виктор аккуратно кладет твердую широкую ладонь на рот шутника. Зажимает.
Шутник резко открывает глаза. Моргает.
— Что ты там говорил насчет покрыть корову? — спрашивает Виктор шепотом. И напрягает мышцы, пока жертва пытается вырваться.
Глаза несчастного вращаются, он мычит. Это тот самый шутник, что кричал из толпы. «Ты такой стра — а–астный!». Нет, у нас в легионе ничего не скроешь…
— В следующий раз — оторву уши, — ласково говорит Виктор. — Смотри у меня… допросишься.
* * *
Завтра мы выступаем. Рано утром, после традиционных гаданий.
За стенами палатки лежит пустое пространство. Площадь, на которую пялятся, стараясь не уронить отяжелевшие веки, два легионера — охранника. За площадью серыми пятнами плывут в темноте ровные ряды палаток. Если подняться выше, как летящий комар, видно, как эти ряды складываются в геометрический узор, разлиновку лагеря, очерченную по периметру прямоугольником стен, затем контуром рва, а дальше… Дальше сонное поле, вытоптанное тысячами ног место для занятий, тускло блестящая гладь реки. В вязкой глубине германского леса, клубящегося ветвями и листьями, спят обитатели. Где‑то гукает филин.
Светит луна.
Пиликают кузнечики.
Спит в своей палатке Гай Деметрий Целест, легат Семнадцатого легиона. Спит Арминий, царь херусков. Спит Сегест, царь хавков. Спит Туснельда, германская заложница, закинув руку за голову — на тонком запястье сонно блестит браслет. Спят лошади и ослы. Спят спокойным сном три германских легиона. Спит Виктор. Центурион Тит Волтумий.
Все еще живы.
Глава 9. Союзники
Сегодня Квинтилий Вар, пропретор Великой Германии, чувствовал себя хуже обычного. Утром он не сразу смог прокашляться, горло ныло, словно там прошлись банным скребком, нос заполнен слизью. К тому же Вар подозревал, что из‑за недосыпа опять начнет болеть желудок. Если бы не необходимость встать и руководить отправлением легионов, пропретор остался бы в постели. Точно бы остался.
Проклятый желудок.
Проклятый климат.
Проклятые люди.
Сейчас Вар глотал горькую слюну, стоя на помосте в центре палатки, пока рабы поправляли складки тоги. Голова кружилась. «Все бы отдал за то, чтобы оказаться сейчас в Риме, в своем доме!»
Проклятые варвары.
Проклятая провинция.
Проклятое тело.
Здоровье пошатнулось уже давно, но он убеждал себя, что хотя бы в этот раз врачи правы, и целебная вода с настоем шиповника поможет. И лечебные притирания — с приторным запахом камфары, который намертво сцеплен в его памяти с болью в суставах. И желудок. И — остальное. В прошлый раз, когда выходили камни из мочевого пузыря, он думал, что это худшее, что может быть в жизни.
Орал два дня как резаный.
Теперь же — война.
А только пришли хорошие новости из Паннонии…
В Иудее все было проще. Он тогда тоже мучился, не спал толком — закрывал глаза и проваливался в мутный горячечный кошмар.
Здесь наоборот. Кошмар был холодный. Словно он, Публий Квинтилий Вар, лежит в своей палатке — а вокруг пустота. И никого рядом, даже верного Солигора. Серое утро, до настоящего рассвета еще час. Орел легиона высится рядом с изображением Августа — золотая птица и бронзовый диск с лицом юного бога. Ветер свистит. Орел слегка покачивается от порывов. У юноши Августа на диске — саркастическая улыбка.
Вар прикрыл глаза, сглотнул. Горечь с привкусом желудочного сока. Раб поправляет складки тоги на плече… Это раздражает. Невыносимо, мучительно долго.
Ряды палаток. Серые. Ветер треплет грубое полотно. Палатка принципов пуста. Вар идет по центральной улице лагеря, оглядывается, снова идет. Ветер перекатывает перед ним пустую тубу для бумаг, холодит даже не тело, а саму душу. Вар ощущает на ее месте гладкий железный брусок.
Пропретор останавливается возле солдатской палатки. Рядом — погасшая жаровня, ветер сдувает пепел, ворошит остывшие, серые угли. Помятый медный котелок медленно раскачивается.
В нем — остывшая похлебка, разваренные листья капусты. Куски застывшего жира.
Вар вздрагивает и снова идет. Вой ветра равнодушен.
Между палатками мелькает тень. Кажется, это кошка, думает Вар. Некоторые легионеры, несмотря на запреты, возят с собой любимцев. Наверное, все же кошка. Собаки обычно крупней.
Вар идет. И чем дальше, тем острее понимает — здесь никого. Лагерь пуст. Все ушли, оставив его одного. Его, пропретора провинции Великая Германия! Не взяли с собой ни еды, ни вещей, ни оружия. Вар останавливается. На лбу выступает холодная испарина.
На земле — лорика и шлем легионера.
В блеске полированного железа мелькает тень. Вар резко оборачивается, сердце замирает. Стучит медленно — медленно. Провал в желудке.
Это кошка. Точно, кошка…
Вар усилием воли передвигает ноги. Сворачивает направо от главной улицы лагеря, шагает между палаток.
Везде остались вещи, словно легионеры только что были здесь, но куда‑то ушли.
Я один, думает Вар. Меня все бросили.
Почему?! За что?
Внезапно, без всякого перехода, он снова оказывается на главной площади, рядом с легионным орлом.
То, что он принял за кошку, теперь перед ним.
Это серое существо, похожее на… Вар сглатывает. Сердце бешено колотится. Серый зверек со сморщенным лицом Божественного Августа сидит на четвереньках.
Существо смотрит на Вара мерцающими темными глазами. Оно похоже на кролика.
— Где они? — говорит оно вдруг скрипучим голосом.
По спине Вара бежит отвратительный холодок.
— Кто?
— Мои легионы. — Существо вдруг поднимается на задние лапы. — Где мои легионы?! Верни мои легионы!
Вар в ужасе отшатывается… и оказывается в своей палатке, перед зеркалом. Приторный запах камфары. Раб укладывает складки тоги.
— Господин? — спрашивает раб, в голосе — беспокойство. Он поддерживает Вара.
Всего лишь кошмар, думает пропретор. Слава богам, всего лишь сон.
Внезапно он чувствует слабость.
— Все в порядке, Солигор, — говорит Вар дрогнувшим голосом. — Спасибо.
Он проводит рукой по лбу — тот в холодной испарине.
— Вы побледнели, господин, — Солигор хмурится.
Вар вымученно улыбается.
— Все хорошо. Я всего лишь не выспался.
«Верни мои легионы», вспоминает он слова серого существа. «Верни мои…».
Не стоило на ночь пить то новое лекарство. Верно. Не стоило.
— Готово, господин, — говорит Солигор.
* * *
Рожок поет раз. Звук разносится над лагерем. Другой.
Третий.
Три раза — три легиона.
Марк Скавр, командир второй декурии всадников, вытягивается по струнке. Поздравление легионного орла с новым днем завершено.
— Слава Августу! — дружно орет легион. — Слава Риму!
Над железными квадратами легионеров сияет неяркое северное солнце. Орел, в последний раз озирающий свои владения здесь, на берегу Визургия, горит мрачным золотом. Гордый, с раскинутыми крыльями, он реет над просторами дикой Германии. Цифра «XVIII» алым с золотом пятном полощется на ветру.
— По центуриям, по манипулам — стройся! — орет префект лагеря. — Слушай мою команду! На — лево! Шагом — марш!
Последнее утро. А завтра — в бой. Марк качает головой, украдкой вытирает нос ладонью. Мокрое. Похоже, опять начинается.
…Хотя, может быть, в бой — уже сегодня.
Вдалеке темнеет лес. На почерневшей от сырости земле лежат листья. Коричневые, желтые, пропитанные увяданием и усталостью…
От земли поднимается в воздух темно — вишневый, холодноватый запах смерти.
* * *
Я въезжаю под полог леса, конь неторопливо ступает по выстеленной влажными листьями земле. Тень бука массивна и прохладна. Я закрываю глаза.
Мимо идут манипулы и когорты моих солдат. Топот отдается через землю.
Я их слышу. Чувствую.
Я — легат Семнадцатого.
Ветер срывает с ветвей и бросает мне в лицо холодные капли. Это след ночного дождя.
Что мне за дело до моего брата?
Мне хочется толкнуть коня пятками, догнать авангард, германскую конницу, — там едет в гребенчатом шлеме друг римского народа Арминий — и хлопнуть по мокрому металлу наплечника.
Я словно наяву вижу мелкие капли на сером железе.
— Друг мой, — скажу я Арминию. А может быть, ничего не скажу…
«Умер мой брат дорогой, брат мой, навеки прощай».
У меня перехватывает дыхание. Это строчка из Катулла, я прочитал ее на похоронах Луция в Риме.
Кто он на самом деле, этот Луций — Арминий? Кто он, мой вернувшийся с того света брат?!
«Пока Арминий рядом, я спокоен за верность германцев». Так я говорил совсем недавно.
А если вместо германца в его личине находится мой брат?
Хороший вопрос.
Очень хороший вопрос…
«Смотри, Гай».
Теперь я неспокоен за верность германцев.
* * *
Человек взял в руки маску. Холодный металл, серебряное лицо, украшенное по краю потемневшей чеканкой. Провел пальцами. Маска смотрела на человека в ответ. И слегка улыбалась, словно знала то, чего человек не знал.
Вот зачем она нужна. Ты можешь хоть рыдать за ней — люди видят только это спокойное серебряное лицо. И все. В горячке боя, когда паника нарастает, как идущая на берег штормовая волна, спокойствие командира важнее, чем многое иное.
А когда выходишь один на один с противником, его пугает твое лицо, лишенное привычной человеческой слабости.
Словно он сражается не с человеком. А с богом или с титаном.
Человек усмехнулся, отложил маску. Взял отрез ткани и начал наматывать на голову. Аккуратно, не торопясь, чтобы полосы легли ровно, без складок, чтобы потом, когда он наденет шлем — ничего не натирало. Искусство правильно наматывать повязку переживет века. Закончив, человек взял маску и полюбовался своим отражением в начищенной серебряной поверхности. Неплохо. Провел пальцем вдоль глубокой царапины — от края глазницы. Усмехнулся. «Эх, Гай, Гай».
Оказывается, судьба целого мира может зависеть от одного взмаха меча.
Человек положил маску на стол. Выпрямился, провел ладонями по вискам, чувствуя пальцами завитки волос — отлично. Осталось надеть шлем. Человек помедлил. Другой шлем вместо утерянного в стычке.
Новый неплохо сидит, но я привык к старому…
Человек усмехнулся, повел плечами. Неплохо сидит? Оказывается, эта метафора применима не только к шлему…
Виски сдавило. Человек затянул кожаные ремешки под подбородком.
Пристегнул маску. Повернулся к выходу из палатки.
— Я жду, — сказал на германском. — Входите!
Они вошли.
В прорези маски смотрели два живых глаза. В зрачках вошедших германцев отражался человек с серебряным лицом…
— Начнем, пожалуй, — сказал человек негромко.
* * *
Однажды мы с братом поспорили. Я сказал, что оставил статуе Юпитера приношение за определенную услугу, а тот не исполнил обещанного, и теперь бог у меня в долгу…
Вообще‑то, это была шутка.
Беда людей в том, что боги редко отдают долги.
— Забудь, — говорит Луций.
— Почему это? Юпитер со мной еще не расплатился!
Луций качает головой:
— Не торгуйся с богами, Гай. Окажешься в проигрыше. Всегда.
Это тоже шутка. Но внезапно меня прорвало.
— Что это за боги такие?! — я в бешенстве хожу по атриуму. Не знаю, что на меня нашло. — Боги торгашей. Боги — торгаши.
Их тысячи. Зачем нам столько?!
Если бы был один бог, — всего один! — который не торгуется, не продает свою милость за тарелку молока или за черную курицу… Бог, которого нельзя купить.
Бог, который наказывает и милует без оглядки на дары и приношения.
Бог, которому наплевать, кто ты — богатый или бедный, римлянин или варвар, здоровый или больной…
Бог, который судит по делам и мыслям…
Который… Проклятье, как объяснить?!
Бог, которому не все равно.
Возможно, будь такой бог, я бы верил. Проклятье, Луций! Верил даже не в него… а — верил ему.
Но такого бога нет.
Одни торгаши вокруг.
Юпитер с мошной ростовщика, Юнона в платье шлюхи, Квирин, оценивающий дверной проем, которому покровительствует, в мерах зерна и кувшинах вина…
Нам нужен другой бог.
Который плюнет на горы золота, что принесет к его ногам убийца и ростовщик, и спросит за каждую каплю слез, пролитую проданными в рабство за долги, за каждый миг страданий, что тот принес людям, за каждую искалеченную мать и сестру… за все и за всех.
Нам нужен бог, который строг и жесток. Неподкупный отец семейства.
А не боги, берущие взятки, как последние чиновники.
— Нет, Гай, — говорит Луций. — На самом деле людям нужен добрый бог.
— Добрый?! Не знаю. Мне лично нужен бог, которым я мог бы гордиться. Как гордятся суровым отцом.
Бог, который не продается.
Когда Луций уходит, я все еще пытаюсь понять, что я сейчас сказал.
Бог. Нам нужен бог, который не продается.
Не продается? Правда? Какие мы все‑таки мечтатели…
* * *
На дорогу перед разведчиками выскакивает варвар. Голый мускулистый торс, штаны. Светлые волосы собраны в узел на затылке.
— Мы вас всех убить! — кричит гем на ломаной латыни. — Вы сдохнуть, римляне! Сдохнуть!
Ага, разбежался, думает оптион.
Холодное утро. Влажный туман стелется над болотными кочками, перетекает из одной ложбинки в другую. Фиолетовые поля вереска простираются от кромки леса до дороги.
Легионеры переглядываются. Оптион поднимает бровь.
— Мы вас… — начинает кричать варвар. И что‑то совсем неприличное. Из‑за дикого акцента не разобрать. Но — обидно.
— Разрешите? — один из легионеров смотрит на оптиона.
— Давай, — говорит тот. — Только аккуратно.
Легионер усмехается. У него шрам на щеке, светлые глаза полуприкрыты — отчего взгляд кажется надменным.
— Сделаем в лучшем виде, — говорит он развязно.
Легионер расслабленно выходит из строя вперед, подволакивая ноги. Кажется, у него все тело болтается, как хочет.
Варвар продолжает приплясывать. Идиот.
Оптион ждет, легионеры с любопытством наблюдают.
Буки, окружающие вересковую пустошь, тонут корнями в утреннем тумане. Германец высоко задирает ноги. Издевается, гад, думает оптион.
Легионер, послюнявив палец, проверяет направление ветра. Надменные глаза щурятся. На самом деле он все давно рассчитал, просто играет на публику. Варвар все еще кривляется. Он высокий и крикливый. И скорее даже забавный, чем раздражающий.
Оптион ждет.
— Давай, не тяни, — говорит он наконец.
Легионер мгновенно отклоняется назад, занося дротик. Р — раз! Легионер распрямляется. Сейчас он быстрый и четкий, как укол мечом. Легкое, почти небрежное движение. А дротик уже летит. Поднимается в небо по дуге…
Вибрирует на лету. И — исчезает в густой кроне бука.
Германец смеется. Даже отсюда видно, как сверкают его зубы. Показывает пальцем и жестами демонстрирует, что сделает с таким метателем дротиков.
Он так и замирает с открытым ртом. Лицо застывшее. Из уголка губ стекает тонкая струйка крови…
Потому что вылетевший из листвы дротик пробил германца насквозь. Несколько оторванных листьев, кружась, опускаются с дерева…
Всплеск крови.
«Мулы» радостно кричат. Довыпендривался, варвар. Легионер шутовски раскланивается.
Оптион кивает: хорошо.
Германец, как надломленный, опускается на колени. Клонится и падает.
Лицо искажено недоумением и болью.
Над его головой ветер тихо качает фиолетовый вереск.
* * *
Квинтилий Вар оглядывает нас и говорит:
— Передовые посты докладывают. Мы столкнулись с сопротивлением германцев. Это марсы?
— Похоже на то, — Нумоний лаконичен.
— И что вы предлагаете, легат?
Нумоний пожимает плечами. Мол, ничего нового. Бить варваров — и все предложения.
— Как обычно.
Зато Гортензию Мамурре есть что сказать:
— Мы уничтожим их войска, пропретор, а каждого десятого мятежника распнем!
Меня бесит его манерный выговор. Так даже в Риме не говорят.
— Верно, верно.
Мимо идут легионеры, на рогатках — фурках — болтаются сковороды и походные мешки. Молчаливые преторианцы окружают нас, словно гиганты — гору Олимп. Преторианцев набирают из варваров — из галлов и батавов, поэтому они выше обычного легионера на голову. Пурпурные плащи развиваются.
— Выступление против власти Августа должно быть подавлено жесточайшим образом! — голос Вара подрагивает.
Мы с Нумонием переглядываемся. Что происходит? Легат Восемнадцатого пожимает плечами. Старый солдат, он привык, что командиров время от времени заносит.
Вар продолжает говорить. На губах выступает слюна, пропретор не замечает.
— Никто не должен уйти от наказания! Никто!
«Иудейский изюм». Восстание в Иудее, подавленное Варом в бытность его пропретором Сирии. Тогда было распято две тысячи мятежников — вдоль дороги к Храму, главной иудейской святыне. Помогло.
Мятеж утих.
Решительность и безжалостность, суровость и следование долгу — основа нашей, римской жизни. Так было всегда.
А Вар уверовал в пользу невероятной жестокости.
Такое бывает.
— Мы превратим их в кровавую грязь под нашими ногами!
Молчание. Даже Гортензий Мамурра, изнеженный легат Девятнадцатого легиона, выглядит озадаченным. Он переводит взгляд с меня на Нумония и обратно. Каштановые волосы падают завитками на бледный лоб.
— Когда мы закончим с ними, вся Германия поймет, что Рим пришел в эти земли навсегда! — говорит Вар.
Все молчат.
* * *
Жрец — птицегадатель трясущимися от старости руками отворяет клетку. Недовольный клекот, кряхтение жреца…
Гадание перед важным делом — самое главное.
Без правильного гадания даже обычная фракийская похлебка не сварится. Что уж говорить о таком важном деле, как военный поход.
Жрецу подносят чашку с кормом. Он зачерпывает дрожащей рукой пшено, кожа в коричневых пятнах. Цы — па — цы — па — цып, говорит жрец. Голос дребезжит.
Куры недовольно квохчут — они ленивые и раздраженные в этот ранний час. Начинают подбирать корм. Клюют. Сначала нехотя, затем все лучше. Помощники жреца горстями разбрасывают зерно.
Куры вынесли приговор.
Легионы могут трогаться в путь. Вперед! — сказали боги через безмозглых птиц.
— Вперед! — командует Вар. Вскидывает руку. — Вперед, мои легионы! Боги с нами! Божественный Август смотрит на нас!
Грозный гул. Легионеры стучат по щитам и кричат. Вар оглядывается. Лица, лица, лица. Все они рукоплещут ему, пропретору и военачальнику.
Грохот ударов по щитам становится невыносимым. Бух, бух, бух.
Бар — р–ра!
Возможно, думает Вар, это лучший момент в моей жизни.
…За исключением того, что все лучшие моменты в жизни рано или поздно заканчиваются.
Иногда — вместе с самой жизнью.
Вар с содроганием вспоминает серого кролика с лицом Августа. «Верни мои легионы!»
И его передергивает.
* * *
Привал. Вопли центурионов. Легионеры валятся на землю — с бряцаньем железа и вздохами облегчения.
Пока Эйты готовит мне перекусить (вода, пшеничный хлеб, оливки и отжатый вручную овечий сыр), я со стоном опускаюсь на землю. Ноги словно выдернули из задницы и вставили обратно не тем концом.
Я беру стилус и вывожу на восковой табличке:
Итого: три легиона общей численностью семнадцать тысяч восемьсот пятьдесят три человека.
Я решил вести записи, как мой старший брат. При жизни.
Вдобавок три когорты ауксилариев под командованием префекта Арминия. Одна из херусков, вторая из германцев разных племен и третья смешанная — из галлов, бельгов и батавов. Общее число примерно три тысячи человек, пополам конница и пехота. Вместе с римлянами в распоряжении Вара — примерно двадцать одна тысяча воинов.
Огромная сила. Какие варвары с ней справятся?
К тому же, — пишу я, — германцы не умеют правильно воевать. Они понятия не имеют об искусстве полководца, о стратегии и тактике, о том, как победить лучшую в мире армию.
А кто имеет?
Хороший вопрос.
* * *
Вечереет.
Тиуториг спешился и привязал коня. Низкорослый скакун из породы обычных германских рабочих кляч, только смешной желтой масти. Да уж, куда ему до огромных испанских лошадей римской кавалерии.
Беловолосый варвар вышел на поляну. Сырые после ночного дождя кусты, мокрая трава. Ноги сразу промокли.
Тиуториг ждал.
Серебряная морда редко опаздывает.
То есть — никогда.
Наконец, раздался топот копыт. Полуконек вытянул морду и заржал, приветствуя знакомую лошадь. Через некоторое время на поляну выехал тот, кого Тиуториг дожидался. На огромной испанской кобыле.
«Что он ее таскает все время? — подумал Тиуториг, глядя, как блестит серебро. — Эту рожу?»
— Они идут? — спросил однорукий.
— Да.
— То есть, они купились? — Тиуториг засмеялся. Человек в серебряной маске выглядел невозмутимым. Конечно, конечно, по маске‑то хрен что прочитаешь.
Он покачал головой.
— Не знаю, что ты имеешь в виду под словом «купились», но, кажется, именно это сейчас и происходит. Легионы выступают.
— Отлично. Что теперь?
— Это ты меня спрашиваешь? — Серебряная маска пожал плечами. — А я думал, спросить у тебя.
Тиуториг усмехнулся. Страшной ледяной улыбкой, от которой даже у человека в серебряной маске пошел холодок по затылку.
— Так зачем дело стало? Спрашивай. А я отвечу.
* * *
Кто может победить римскую армию?
Кто знает, как это сделать?
Легионы идут.
Глава 10. Суд Вара
Седой легионер выступил вперед. Заговорил негромким, значительным голосом:
— Братья! Сегодня мы принимаем в наше братство новых товарищей — Попилия Кривого и Авла, прозванного Счастливчиком. Эти воины, испытанные и храбрые, достигшие статуса «милит», имеют право на котел, меч и воинские похороны. Мы представляем их вам по ходатайству их контуберний — контубернии Салсы из второй центурии и контубернии Марка Ликея из первой центурии второй когорты. Пожалуйста, братья — поручители, выйдите вперед.
Из рядов выдвинулись двое. Виктор окинул их взглядом — ага, ага, этих я знаю. Он машинально потер левую руку — та все еще ныла после ночной стычки. Сжал кулак и снова разжал.
Легионеры — кандидаты встали напротив поручителей.
— Братья! — заговорил седой легионер. — Вы видите сейчас перед собой тех, кто разделит с вами кровь и хлеб. Мы посвящаем вас в секреты воинского братства…
Фурий Люпус, Волчонок, слышал глухие слова за тонкой тканью палатки. И завидовал.
Ему посвящение еще не положено.
Вообще, даже то, что Фурий сейчас все слышит — нарушение и проступок. Если попадется, мало ему не покажется… совсем.
Его время еще не пришло. Он пока — всего лишь тирон, новобранец. Зелень легионная…
— Братья, подойдите и возьмите хлеб, — продолжал седой легионер.
Фурий вздохнул. Есть‑то как хочется! Он видел в узкую прореху в ткани палатки, как кандидаты переломили твердый круглый хлеб руками, как один из них пальцами выскоблил из корки и запихал в рот серый мякиш. Начал жевать, угловато двигая челюстью, словно она была приделана к его голове на веревке. В уголке угрюмого рта скапливались пузырьки слюны.
Вкусно, наверное, подумал Волчонок. Хотя хлеб был овсяный, рабский, для посвящения.
В животе требовательно заурчало. Так громко, что слышно на другом конце лагеря, должно быть…
Фурий замер. Проклятый живот! Ненасытная утроба! Вечно он хочет есть. Теперь твоему хозяину достанется!
Легионеры обернулись. Огромный легионер, что стоял ближе всех к палатке, где спрятался Фурий, прищурился. Новобранец отпрянул от дырочки в ткани — поздно! Его увидели. Бежать некуда, его сразу же обнаружат.
— Что там? — спросили из толпы. — Эй, Виктор!
Огромный легионер повернулся к палатке спиной и развел руками.
— Простите, братья. Похоже, мой живот тоже желает вступить в братство.
В толпе солдат засмеялись. «Это же Виктор!», «опять он». Седой легионер шикнул, смех стих.
— Виктор! — укоризненно сказал седой. — Опять ты со своими шуточками… Смотри, мое терпение лопнет.
Фурий вздохнул. Пронесло!
Снова забубнил седой легионер, кандидаты отвечали хором и нестройно.
В палатке — в контубернии — обычно живут восемь человек. Их называют со — палаточниками. Каждый из них — воин, брат, каждый — наследник остальных, они обменялись письмами, клятвами и завещаниями. Если убьют одного, другие сделает все, чтобы исполнилась последняя воля брата по оружию.
Исключений не бывает. Но выше контуберний идет тайное общество легионеров. И если братья по палатке позаботятся о твоей смерти, то братство — о твоей жизни.
Виктор подождал, пока все разойдутся, и встал на выходе из палатки.
Мальчишка, наконец, не вытерпел, высунул нос. Виктор мгновенно поймал его за шиворот, вытащил, несмотря на сопротивление, и отвесил подзатыльник. Весил тирон всего ничего, одной рукой можно поднять, как кутенка. Что Виктор и проделал.
— Эх ты, зелень легионная! — сказал он с ухмылкой. — Подглядываем?
Мальчишка зло засопел. Глаза у него были боевые, Виктор покачал головой. Именно из таких упрямцев получаются отличные солдаты и настоящие товарищи.
— Пусти! Ну!
— Как зовут, зелень?
— Фурий… Фурий Люпус.
Яростный Волк? Виктор засмеялся. Держа одной рукой лягающегося мальчишку, другой вытащил из‑за пазухи кусок хлеба. Он достался легионеру при сегодняшнем обряде. Протянул салаге.
— На, держи, Волчонок.
— Это еще зачем?!
— Станешь центурионом, отдашь.
* * *
Воробей смотрит на меня через оконце в стене палатки.
Он сидит на перекладине вексиллы с надписью «II когорта». Под птичьими ногами трепещет ярко — алая ткань. Знамя слегка покачивается от порывов ветра.
Я хмыкаю, беру стеклянное перо, обмакиваю его в чернильницу. Затем аккуратно вывожу:
ПРИВЕТСТВУЮ~КВИНТ~
Чернила стекают по винтовым стеклянным дорожкам, ложатся на пергамент. Впитываются в пористую желтовато — коричневую поверхность.
Хороший пергамент. Египетский.
Что сказать этому оболтусу? Вопрос. Я редко пишу младшему брату. Можно было бы оправдаться: мол, одно письмо в два месяца Квинт еще в состоянии осилить, но чаще испытывать его терпение — уже чересчур. Но это ложь.
На самом деле я не знаю, что написать младшему брату.
Никогда не знал.
Квинт — странный человек. Не будь он моим младшим братом, я бы, пожалуй, его ненавидел.
Вспомнить хотя бы, чем занимался Квинт до своего изгнания на флот…
Обманывал людей, врал и мошенничал, входил в доверие к женщинам и убивал доверие мужчин. Он точно собирался повторить все пороки легендарного Катилины. Квинт наделал в Риме столько долгов, что мне пришлось стоять насмерть, чтобы кредиторы позволили ему уехать из города — живым.
Я помню лицо Квинта, когда он уезжал. Спокойное и беззаботное.
Как можно обманывать людей и оставаться при этом добрым малым с таким простодушным взглядом?!
Будем честны. Квинт, мой младший брат — мошенник, балбес и негодяй. Позор семьи. Но при этом он — самый красивый и обаятельный из нас. И ему предсказано умереть молодым…
Ну, если он будет продолжать в том же духе — так и случится.
Светлые волосы. Высокий рост. Голубые глаза…
Как у варвара! Красавец. Застывшая глупость.
Человек, достаточно умный, чтобы обманывать людей, но — недостаточно умный, чтобы понять: поступать так не следует.
Квинт.
Мой глупый младший брат.
Мой… пока еще живой младший брат.
— КОГДА~ТЫ~ПОЛУЧИШЬ~ЭТО~ПИСЬМО~
…вывожу я.
* * *
Временный лагерь Восемнадцатого Галльского. Обычная практика — легион в походе, прежде чем встать на ночлег, строит укрепления. И врагу не застать нас врасплох. Это — тоже часть нашей военной легенды.
Пасмурное небо. Ветер усиливается. Палатки хлопают на ветру.
До меня доносится запах подгорелой пшенки. Легионеры завтракают.
— Легат! — салютует мне всадник. — Пропретор требует вас к себе!
Проклятье. Опять военный совет?!
У входа в консульскую палатку меня приветствует Нумоний Вала.
— Слышал, Гай? Вар лично будет вести суд.
— Суд? — я поднимаю брови.
— Получен донос…
Все равно не понимаю. Задерживать легионы ради кляузы? Зачем?!
— И что с того?
Нумоний потирает шрам на затылке, смотрит на меня.
— Ты действительно не знаешь? Донос на Арминия, префекта вспомогательных когорт, — глаза легата в красных прожилках от недосыпа. — Теперь понятно? Мне казалось, что он — твой друг.
Это как удар в голову. Искры. И заваливающийся на бок мир…
Я моргаю.
— Арминий? — голос сел. — В чем же германец провинился?
— Преступление против общества.
Дурацкие судебные формулировки!
— То есть…
— Да, — говорит Нумоний насмешливо. — Ты прав, Гай. Его обвиняют в измене Риму.
* * *
Палатка принципов Восемнадцатого легиона — размером с небольшую арену. Внутри расставлены скамьи: поближе для участников, подальше для зрителей. Суд — это основное развлечение для граждан Рима.
Но не во время же войны?!
Донос на Арминия, думаю я. Донос на моего брата. «До — нос». Какое интересное слово.
— Что это значит, царь? — говорю я.
Арминий усмехается. Морщины собираются вокруг голубых варварских глаз.
— Все просто, легат. Один человек… Он так жаждет моей смерти, что готов ухватиться за любой, самый нелепый повод. Не обращай внимания, Гай. Все будет хорошо.
Верно, думаю я. Все будет хорошо…
Даже если — не будет.
Появляется распорядитель.
— Арминий, сын Сегимера, римский гражданин! — объявляет он. — Займите место на скамье обвиняемых!
Арминий кивает мне и садится. Внешне он совершенно спокоен.
Смертная казнь, значит. За государственную измену положена смертная казнь…
В Риме бы его привели на нижний уровень тюрьмы Туллия, в темные, низкие катакомбы, где от падающих с потолка капель вздрагивает заплесневелое эхо — и удавили. Молча и грубо, под глухую капель. Как сделали это когда‑то с катилинариями, сторонниками Луция Сергия Катилины.
* * *
Процесс суда состоит из трех частей.
Первая: обвинительная. Речь истца (или его адвоката).
Вторая: изыскательная. Судья допрашивает ответчика. Адвокаты молчат.
Третья: оправдательная. Речь ответчика (или его адвоката) в собственную защиту.
И только после этого судья выносит свое решение.
В связи с походной обстановкой адвокатов отменили. Так что мы теперь будем наслаждаться тщательно отрепетированным косноязычием участников.
Скамья истца до сих пор не занята.
— Кто обвиняет меня? — Арминий, царь херусков, встает и оглядывает присутствующих. Он поразительно красив. Белоснежная военная туника и белый панцирь, украшенный вставшими на задние лапы львами. У Арминия короткие светлые волосы, ярко — голубые глаза и резкий профиль.
Он, проклятье, больше похож на настоящего римлянина, чем все настоящие римляне вокруг него.
Поднимается шум. Нам самим интересно, кто этот таинственный обвинитель.
— Почему я не вижу его перед собой? Видимо, он слишком занят, пересчитывая серебро?
Вокруг — смех.
Доносчику по Плавциеву закону положены неприкосновенность и денежная награда.
— Сколько мне еще ждать? — Арминий явно издевается. Молодец, брат. Он уже перетянул на себя симпатии присутствующих. Если истец еще промедлит, на его долю достанутся только свист и насмешки толпы. — Пусть этот храбрец выйдет и покажет свое лицо!
— Я обвиняю.
Тишина.
У того, кто это сказал, глуховатый варварский акцент. И тяжелый, глубокий голос.
Арминий резко оборачивается.
— Ты?
— Я.
Он стоит у бокового входа. Очень рослый. Некогда крепкий воин, сейчас он постарел, погрузнел. Стал седым и испортил характер. Сегест, царь хавков. Доносчик. Обвинитель.
А еще он — отец Туснельды.
— Благородный Сегест, — Арминий приветствует моего будущего тестя ироничным кивком. — Прости, что не признал.
Свист, крики, смех.
Свистит кто‑то позади меня. Так, что от переливов звука у меня скоро лопнет голова.
— Мне плевать, что вы обо мне думаете, — германец игнорирует шум. Зрители кричат — варвар им не нравится. Некоторые молчат и хмурятся. Вроде Нумония. Легат Восемнадцатого смотрит прямо перед собой, шрам на затылке пульсирует.
— Да, я обвиняю Германа, сына Сегимера… вы знаете его по имени Арминий! Я обвиняю его в измене и в подготовке восстания против Рима. Которому, если кто забыл, он поклялся в верности!
Латынь его звучит так, словно он произносит слова с камнями в глотке. Клекот и глухое рычание.
Варвар, думает большинство римлян.
— И твоя дочь тут, видимо, ни при чем? — осведомляется Арминий иронично.
Сегест, прерванный на полуслове, умолкает. Багровеет.
Вообще, конечно, комедия. Один римский гражданин обвиняет другого римского гражданина в преступлении против общества…
И оба они — варвары.
— Говорят, Арминий просил Сегеста отдать за него дочь, — произносит Нумоний негромко. — Но Сегест почему‑то — не знаю, почему — отказал. С тех пор между ними — ад и Преисподняя. Впрочем… — легат Восемнадцатого смотрит на меня пристально. — Но ты, должно быть, и сам это прекрасно знаешь, Гай?
— Нет.
* * *
Обвинительная речь Сегеста полна грубостей, оговорок и искалеченных падежей. Ошибки вызывают смех зрителей, грубость — возмущение, латинская грамматика стонет в углу, издыхая. Сегест упорно говорит, не обращая внимания на шум.
Вару несколько раз приходится призывать к порядку, смутьянов преторианцы выводят из палатки.
Наконец, Сегест ставит точку. Арминий кивает. И вдруг начинает аплодировать. Тишина, в которой отчетливо звучат раздельные четкие хлопки…
Лицо Сегеста искажается.
Короткий смешок в толпе. И вдруг зрители начинают аплодировать. Через мгновение это уже овация…
На Сегеста страшно смотреть.
Зрители аплодируют не царю хавков, а его позору.
Впрочем, симпатии толпы сейчас далеко не главное…
Чтобы ни думали зрители, все решает один человек. И этот человек — Квинтилий Вар.
* * *
— Арминий, сын Сегимера!
Он встает и выпрямляет спину. Его осанке и благородству облика может позавидовать Гай Юлий Цезарь.
— Вы позволите мне говорить в свою защиту, пропретор?
Вар задумчиво касается губ кончиками пальцев. Он сидит в кресле и слушает.
— Конечно, конечно.
— Спасибо, пропретор. — Арминий выходит в центр палатки. Гул ветра торжественно вторит каждому его шагу.
Арминий оглядывает атриум. Сегест, белый от ярости, сидит на скамье обвинителя. Дерево скрипит, словно с трудом выдерживает тяжесть его гнева.
— Римляне! Воины! Посмотрите на этого человека, — говорит Арминий на чистейшей, чеканной латыни. Взгляды обращаются на Сегеста. — Кого вы видите? Варвара? А ведь перед вами — римский гражданин, всадник, имеющий право носить золотое кольцо. Доносчика? А ведь перед вами — искатель правды, ревнитель законов! Может быть, вы видите перед собой вздорного, капризного отца — тирана? Что вы! Ваши глаза вас обманывают! Перед вами — отец нежный и заботливый…
Арминий говорит, люди слушают.
— …Только этот человек прав, а вы, я, наши глаза, наши уши, наш разум, наше чувство справедливости — все мы ошибаемся. Не так ли, Сегест?
Я качаю головой. Блестяще. Не споря ни с единым словом Сегеста, брат обратил все аргументы царя хавков в пыль.
Под бурные — и настоящие! — аплодисменты Арминий благодарит слушателей и садится. Взгляды обращаются на пропретора. Теперь он должен вынести приговор.
Молчание длится.
Зрители ждут, участники ждут. Где‑то за стеной палатки продолжает хлопать на ветру знамя когорты. Я представляю: алое пятно бьется на фоне предгрозового неба…
— Я прошу дать мне время на размышление, — говорит Вар слабым голосом. Лоб блестит от испарины. Пропретор без сил опускается в кресло. — В уединении, прошу меня извинить… Позже я объявлю свое решение.
* * *
Нужно ждать, напоминаю я себе. Просто ждать. Квинтилий Вар, пропретор провинции Великая Германия, размышляет.
Скоро он вынесет свое решение.
А мне нужно отвлечься.
Я возвращаюсь в свою палатку и говорю бенефициарию:
— Позовите ко мне легионера Виктора из первого манипула второй когорты.
Тот салютует и выбегает прочь. Хлопает клапан.
Через некоторое время появляется Виктор. Огромный легионер ухмыляется, салютует.
Я киваю.
— Ты‑то мне и нужен.
— Легат, намечается что‑то интересное? — Виктор оживлен и весел. — Обещаю, я не подведу…
— Подожди немного.
Я заканчиваю писать, откладываю перо. Поднимаю голову:
— Виктор, я все не могу понять. Может, ты мне поможешь? Что ты делал в тот вечер в Ализоне? У тебя была увольнительная?
Рослый легионер молчит. Лицо странное. На жаргоне гладиаторов это называется «сбить с позиции».
— Легат, я…
Понятно. Что ж, это многое объясняет.
— Ты был в самоволке, верно, Виктор? Можешь не отвечать, просто кивни.
Легионер обреченно кивает. Я смотрю на него:
— И что мне с тобой делать, Виктор?
— Легат… я… — он вспоминает, как должен поступать в этом случае солдат. Легионер вытягивает по струнке, лицо каменное. — Виноват! Готов понести наказание, легат!!
От раскатов мощного голоса звенит в ушах. Я морщусь.
— Тише, Виктор. С одной стороны, ты действительно заслуживаешь сурового наказания… но с другой: ты очень вовремя выручил меня в трудной ситуации. Так что теперь я, как твой командир и как человек, тобой спасенный, нахожусь в некотором затруднении. Понимаешь, Виктор? Как твой легат, я не могу спускать нарушение дисциплины, но также я должен вознаграждать мужество и храбрость. Ты достоин венка за спасение товарища в бою. И наказания розгами — за неподчинение приказу. Как нам быть?
Я некоторое время молчу. Изучаю перо на просвет. Стеклянная палочка критской работы, с витыми бороздками для стекания чернил. Отличная вещица…
Жду, пока Виктор представит себе возможные исходы.
Легионер выпячивает грудь.
— Как прикажете, легат! — орет он.
— Ну — ну, тише. Я рад, что ты согласен. Подожди минутку.
Я заканчиваю писать. Сворачиваю одну бумагу в трубочку, затем другую, передаю рабу. Эйты запечатывает каждую восковой печатью.
— Вот тебе две записки. Одну отнесешь к легионному палачу, другую — в канцелярию. Можешь сделать это в любом порядке, разрешаю.
— Легат, — начинает Виктор и замолкает. О чем тут говорить? Эйты вручает ему свитки. Огромный легионер растерянно держит их в руках, словно не зная, что с этим делать. — Разрешите выполнять?
Я говорю:
— В одной записке — награда, в другой — наказание. Смотри, не перепутай, арматура. Можешь идти.
Подмигиваю легионеру.
Лицо Виктора — на него стоит посмотреть в этот момент.
* * *
Отвращение к жизни — это болезнь коренных римлян.
Суровые, жестокие, безжалостные римляне. Так о нас говорят во всех завоеванных землях.
Строгость или жесткость — что для настоящего римлянина одно и то же — у нас в почете.
Мы ценим это выше красоты. Выше доброты или какой‑то там нежности…
Мужчина должен быть строг.
Означает ли это, что мужчина должен быть еще и жесток? Я задумываюсь на мгновение…
Я не уверен, что вы хотите услышать ответ на этот вопрос…
Означает.
* * *
Преторианцы приводят Арминия. Почетная охрана. Я киваю декуриону, он салютует и уводит своих великанов из палатки.
— Царь, — говорю я, глядя на брата.
— Легат, — говорит Арминий.
Мы сидим напротив друг друга. В чашах — вино. Хорошее, настоящее фалернское — не та бурда, что мы пили по его милости в прошлый раз. Но, похоже, даже сейчас брат не способен это оценить.
Теперь он варвар, для которого привычней пиво.
— Я дам тебе один совет, брат, — говорит Луций — Арминий. — Поздновато, конечно, но…
«Если Вар примет жесткое решение, нам больше не придется вот так поговорить». Вот что брат хочет сказать.
— Я слушаю.
— Гай, у меня не так много времени…
— Тогда не трать его понапрасну.
Кажется, брат никогда не поймет, что я давно вырос. Что мне уже не двенадцать лет.
— Настоящее предназначение легата в бою… — начинает Луций. Я перебиваю:
— Управлять боем? Командовать? — меня всегда в детстве бесил его поучительный тон. — Я знаю.
Ироничный взгляд. Задранная бровь. Луций смотрит на меня так, как обычно старшие умные братья смотрят на младших…
Как на редкостных, коллекционных идиотов.
— Откуда ты этого набрался? Катулла перечитал? — говорит Луций насмешливо. — Забудь. Полная чушь, Гай. Полная. Мой дорогой брат — я все‑таки был легатом когда‑то. Чтобы управлять легионом и командовать людьми, у тебя есть профессионалы. Эггин, твой верный Тит Волтумий и остальные центурионы. На них и опирайся. У этих проверенных центурионов под началом солдаты, которые прошли больше сражений, чем ты можешь себе представить. Все, что нужно, они сделают сами, а твоя задача — как можно меньше им мешать. Они умеют все, Гай.
Это правда. Впрочем, это не ответ.
— Тогда зачем нужен я?
— Зачем нужен легат? — Луций хмыкает. — Отличный вопрос.
— Чтобы…
— Чтобы ждать, Гай.
Я поднимаю брови.
— Да, Гай, да. Это самое трудное. Чтобы стоять под легионным орлом до самого конца. Это важно. Легиону не нужен еще один командир, легионерам наплевать на твои великолепные команды. Единственное, что легиону действительно необходимо — это знамя. Все остальное они сделают сами. А легат должен в это время стоять под легионным орлом и улыбаться. До самого конца — каким бы он ни был. Когда битва заканчивается, легат принимает поздравления или умирает от рук противника.
— С той же самой улыбкой на губах?
Арминий хмыкает.
— Именно.
— Тогда легат должен быть настоящим тупицей.
Некоторое время брат рассматривает меня так, словно видит впервые.
— Надо же, — говорит он. — Иногда, братец, я забываю, что ты умнее, чем выглядишь…
Я молчу.
— …это означает, что экзамен на звание легата ты бы провалил.
Я начинаю хохотать.
Смешно.
— И все твои люди умерли, — говорит Луций.
Я обрываю смех. Молча смотрю на брата. Потом говорю:
— То, что сказал Сегест, правда?
Луций медлит.
— Что именно?
— Ты — предатель?
Луций смеется.
— А я думал, ты спросишь о другом…
Я сжимаю зубы.
«Будь честен, Гай. Хотя бы перед самим собой».
— О чем же?
— О Туснельде.
* * *
КВИНТУ~ДМ~ЦЕЛЕСТУ~ОТ~ГАЯ~ДМ~ЦЕЛЕСТА
ПРИВЕТСТВУЮ~КВИНТ~
КОГДА~ТЫ~ПОЛУЧИШЬ~ЭТО~ПИСЬМО~Я~БУДУ~УЖЕ~ДАЛЕКО
ЛЕГИОНЫ~ОТПРАВЛЯЮТСЯ~В~ПОХОД~НА~ГЕРМАНЦЕВ~И~Я~НЕ~ЗНАЮ~ЧЕМ~ЭТО~ЗАКОНЧИТСЯ
Я~НАДЕЮСЬ~ВСЕ~БУДЕТ~ХОРОШО
МЫ~ЛЮДИ~ЭТО~В~НАШЕЙ~ПРИРОДЕ~СТРЕМИТЬСЯ~К~БОЛЬШЕМУ~И~НАДЕЯТЬСЯ~ НА ЛУЧШЕЕ~
ИНОГДА~ТАК~И~ПРОИСХОДИТ
И~ЭТО~САМЫЙ~БОЛЬШОЙ~ЖИЗНЕННЫЙ~ПАРАДОКС
* * *
Время тянется, а Вар все думает. Скоро за полдень. Через некоторое время приходит приказ собирать лагеря.
Мы с Луцием переглядываемся. Кажется, все решено.
… — Арминий, царь херусков! Римский всадник, префект первой когорты ауксилариев. Встаньте! Сегест, царь хавков! Римский всадник, бывший префект шестой когорты ауксилариев! Встаньте!
Они стоят перед Квинтилием Варом, пропретором Великой Германии.
Два варвара.
Старый и молодой. Хавк и херуск. Префект и бывший префект. Всадник и всадник.
Оказывается, у меня взмокли ладони.
Ожидание.
— Я принял решение. Сегест и Арминий, приблизьтесь. Вы оба — верные граждане и друзья Рима. Но между вами — разлад и ненависть. Это меня безмерно огорчает. Боюсь, уважаемый Сегест, я должен отклонить твой иск. Я пришел к выводу, что твои обвинения связаны не с фактами, а с личной ненавистью к царю херусков. Впредь решение личных споров… прошу оставить на время после окончания нашего похода.
Он говорит и говорит, но я уже не слушаю. Невиновен! Оправдан!
Хорошо.
Облегчение такое, словно это меня, а не Арминия, обвиняли в измене. И именно я стоял перед судьей в ожидании приговора…
«Ты слишком импульсивный, Гай».
Сегест молчит, лицо то бледнеет, то краснеет. Желваки вокруг рта — словно бугры.
— Понятно, — говорит он глухо. — Вы правы, пропретор. Но вы совершаете ошибку.
— Идите, — Вар устало вздыхает. — Легаты, прошу на пару слов…
— В любом случае, — говорит пропретор, когда германцы уходят. — Даже если Сегест в чем‑то прав… В чем я сомневаюсь, конечно! Но даже если каким‑то чудом он прав… Пока у нас есть заложницы, восстания германцев не будет.
— Вы уверены, пропретор? — говорю я. Теперь, когда для Луция все закончилось, во мне снова проснулись подозрения.
Сегест — далеко не самый приятный человек, но вдруг он не врал? Хотя бы отчасти?
Пропретор поднимает взгляд. У него мутные глаза. Белки — покрасневшие, измученные. Кожа лица желто — восковая, с нездоровым блеском.
Запах шиповника настолько силен, что меня начинает мутить.
— Я уверен, — говорит Вар. — Конечно, я уверен, дорогой Деметрий Целест.
Где‑то вдалеке вопит птица. Следом — жалобный крик, тонкий, надрывный, полный ужаса.
Скорее всего, это филин задавил зайца.
Пропретор вздрагивает.
Глава 11. Заложницы
Оптион третьей когорты Девятнадцатого Счастливого легиона Фанний выпрямился, шею холодило утренним ветерком. Зябко со сна. Он втянул голову в плечи, обхватил себя руками, чтобы не трястись. Не помогало. Дрожь била такая, что зуб на зуб не попадал.
Невдалеке часовой окликнул кого‑то, ему ответили. Тессера, пароль. Обычное дело. Все‑таки зря я задремал, подумал Фанний. Теперь вряд ли согреешься. С недосыпа самый лютый холод… А мне еще караулы проверять.
В полумрак, в туман, скрадывающий расстояния и звуки, уходила и растворялась без следа вереница обозных повозок. Она тянется отсюда на милю, не меньше. Обоз трех легионов готовится к выходу вслед за воинами.
А здесь — особый груз, нуждающийся в особой охране.
Фанний протянул руку, провел по ткани плаща. Посмотрел на ладонь. Мокрая. Ночной туман, что ж ты хочешь. Ветер донес до оптиона запах торфяного болота, влажный переквак лягушек… Будь проклята Германия, подумал Фанний. Я‑то что здесь забыл?
Рядом рассмеялись. Тихими женскими голосами, словно рассыпались в траве мелкие колокольчики.
Фанний мгновенно проснулся. Вскинулся, как охотничий пес на добычу. В полутьме за повозкой возникла темная фигура, двинулась к оптиону.
— Эй, солдат, — сказали негромко, женским голосом. — Подойди, солдат.
Фанний сглотнул.
Проклятые варварки! Гемки. Заложницы. Все высокого рода, дочери и племянницы царей германцев. И все — высокие, красивые. Трахнуть их порой хотелось так, что зубы сводило.
Чтобы не смотрели на солдата, как на коровье дерьмо.
Оптион решился, шагнул вперед… Остановился. За это могут и кастрировать. Не про тебя, оптион, этот кусок. Не про тебя.
— Боишься, солдат?
Голос волновал, словно водили по затылку мягкой женской ладонью.
Девушка шагнула на свет, и оптион, наконец, ее разглядел. Высокая германка с суровым, полумужским лицом, изуродованным множеством шрамов. С длинными светлыми волосами, заплетенными в две косы. Куртка — безрукавка, штаны… На бедрах — пояс с ножом. Что?!
Это не заложница! Это… Оптион потянулся к мечу, но не успел. Германка оказалась совсем близко.
Хррр. Аа!
Оптион замер. В следующее мгновение горячее и соленое наполнило рот, хлынуло на грудь. Фанний закашлялся. Что за… ерунда… к воронам! Сделал шаг, чтобы ударить мечом…
Мокрые от крови пальцы заскользили по рукояти гладия.
— Отдохни, солдат, — сказала германка. Светлые глаза ярко блестели в полутьме. Черные капли на лице.
Резкая боль пронзила живот оптиона.
Германка вырвала нож. Кровь метнулась следом и залила весь мир. Море крови. Океан крови, блестящей под лунным светом.
Оптион начал падать. Тонуть. Медленно, преодолевая сопротивление тягучей черной жижи.
— Тре… — хрипнул он. Фанний опустился на самое дно, ударился мягко, почти невесомо. — Тре… во…
«Тревога». Но его уже никто не услышал.
* * *
Виктор зевнул, расправил плечи. Затем вспомнил о вчерашнем и почесал затылок. Дела… Легат вручил ему записки. Верно. А срок, когда их нужно отдать адресатам, он разве назвал? Виктор наморщил лоб.
Нет, кажется…
Не назвал.
Получается, можно отложить наказание на далекое — далекое будущее? Виктор хмыкнул. Хороший фокус, но, боюсь, легат его не оценит…
Ох, задачка. Кому вообще охота попадать к палачу?
Оптион второй когорты только присвистнул, когда Виктор объяснил, что у него за дела. «Приказ легата, значит?» Оптион посмотрел с сочувствием. Понятно, понятно. «Держись, арматура. И топай, куда велено».
Виктор кивнул. Он бы с большим удовольствием перекинулся бы сейчас парой слов с Титом Волтумием, но центурион умотал в конец легионной колонны. И пока даже не думал возвращаться. Подождать? Виктор почесал затылок в очередной раз.
Только хуже будет, честно признал он. Я просто тяну время.
Интересно, что в записке? Розги? Или плеть?
Или — лишение на время воинского ремня?! Виктор невольно схватился за кингулум, вздохнул. Это позор. Да нет, стал бы легат отправлять к палачу за этим…
Ну, всыплют десяток ударов розгами. Или палкой. И гуляй, арматура, дальше.
Всего лишь самоволка! Кто из «мулов» хотя бы раз не ходил в самоволку?!
Как, оказывается, утомительно быть другом легата.
Виктор пожал плечами.
Ладно, что будет, то будет. Но сначала — за наградой.
* * *
Корникуларий, он же начальник над писцами, он же казначей легиона, внимательно оглядел Виктора, но ничего не сказал.
Он ковырнул печать темным от чернил ногтем, остался доволен.
— Приказ легата, говоришь? — казначей близоруко прищурился. А когда прочел записку, засмеялся: — Ты уверен, что этого хочешь, солдат?
Виктор переступил с ноги на ногу. Та — ак. Кажется, накрылась его награда.
— А что там?
Старик мелко затрясся от смеха, поманил легионера узловатым пальцем.
— Пошли. Сам все увидишь.
Свободное пространство повозки занимали ящики с записями, стопки бумаги, полки с табличками, несколько абаков разного размера. Корзина темных и светлых псифосов — счетных камней. Старик, кряхтя, словно тащил на себе все серебро легиона, дошел до нужной полки, остановился.
Виктор, и без того нервный, насторожился. Старик открыл огромный кодекс, нашел страницу. Провел пальцем по строчкам — и постучал черным ногтем.
— Вот здесь. Распишись в получении. У Дентера Стацилия все точно.
Одна строчка — приход. Сколько?! Виктор похлопал глазами.
— Как вернемся в Ализон, деньги вручу аквилиферу, — старик мерзко захихикал. Словно передача мешка с серебряными монетами была чем‑то ужасно неприличным. Что‑то вроде изнасилования ослицы на центральной площади.
Виктор кивнул. Аквилифер, орлоносец, заведовал деньгами тех ветеранов, что уходили со службы в положенный срок.
Легионер расписался, где показали. Вот это да, вот это легат учудил. Кстати…
— А что в записке было?
Любопытство — словно противный зуд. Пока не почешешь, как следует, никакого покоя.
Старик опять захихикал. Виктор едва преодолел желание свернуть корникуларию тощую шею.
— А ты умеешь читать, мул? — сказал старик.
— Умею.
— Ну, читай тогда.
Записка гласила:
ПОКАЖИ~ЕМУ~ВСЕ
Вот и ответ. Не давай в руки, а покажи. Двадцать пять тысяч сестерциев. Будущая пенсия легионера Секста Виктора — теперь она стала в два раза больше. Легат дорого ценит свою жизнь.
Виктор почесал затылок. Отлично. Награда получена — только я ее увижу через двенадцать лет, не раньше. Эх, было бы на что отметить это дело! Как назло, ни асса сейчас нет. Ладно, что‑нибудь придумаю…
— Двадцать пять тысяч ровно, — повторил он. Прямо не верилось.
— Почему ровно? — старик удивился. Морщинистая рука потянула на себя книгу…
— Эй, мул и его уши! — старик бросил Виктору золотой аурей. Тот от неожиданности еле поймал. — Двадцать пять тысяч сестерциев плюс золотой — лично в руки… Дентер Стацилий ничего не забывает! У Дентера Стацилия все точно. Распишись вот здесь, солдат. Получил один аурей, ага. Молодец, ага. И проваливай, ага. Дентер Стацилий занят.
Виктор вышел из повозки казначея, ухмыляясь. Золотой холодил ладонь и грел сердце.
Вот теперь можно и к палачу.
* * *
Спекулатор, дознаватель, специалист по разведке и пыткам. Самый странный офицер легиона.
И один из самых пугающих.
Обычно спекулаторами становились доверенные люди Августа, первого сенатора и Отца Отечества. Формально они подчинялись легату, но имели прямой выход на принцепса, дабы сообщать Августу, как ведет себя, о чем думает, с кем спит и кого оскорбляет в пьяном виде назначенный в легион командир.
Да уж. Интересная работа.
Виктор оглядел сидящего за столом человека.
Спекулатор из особого отряда преторианцев, приближенный Августа. Но ни следа пурпурного цвета, которым щеголяли преторианцы, охраняющие Вара и легатов, Виктор не заметил.
С виду — простой офицер. Центурион, может быть. Лицо обычное, круглое. А глаза маленькие и умные. Разговаривает скороговоркой, с восточным акцентом.
Спекулатор протянул руку.
— Давай.
Виктор отдал записку. Спекулатор пробежался глазами, хмыкнул. Посмотрел на Виктора.
— Секст Анний, прозванный так же Виктором. Помню тебя.
Легионер испугался, что спекулатор продолжит экскурс в историю его прозвища, но тот ограничился многозначительным хмыканьем.
— Поступил на службу в… году, в консульство Божественного Августа. Арматура. Хороший, умелый, храбрый, но временами недисциплинированный солдат. Любит выпить.
Спекулатор явно цитировал по памяти. Мощно.
Виктор опасливо покосился на коллекцию плетей, висящую за спиной спекулатора — на стене повозки почти не осталось свободного места.
— Однохвостая, простая, для обычных наказаний, — заметив его взгляд, пояснил спекулатор. — Рядом — многохвостая, с кусочками свинца на кончиках — такая превратит твою спину в кровавое месиво. Следующая — толстая, с крючками — они раздерут тебе шкуру и вырвут кусочки кожи. Выглядеть будет пострашнее, чем со свинцом, но — если будешь выбирать, выбирай с крючками, мой тебе совет. Не пожалеешь. Крови с виду много, но больше для виду. А свинцовой можно с одного удара вышибить дух. Тебе какая больше нравится?
Виктор похолодел.
— Ээ… так сразу и не выберешь.
— Ты прав. Из чего тут выбирать? — спекулатор почесал лоб. — Ничего особо интересного. Пошли, я тебе такое покажу!
— Ээ…
Показать, действительно, было что. Тиски для ног и зажимы для промежности. Деревянное седло и медный «барашек». Молотки для коленей и локтей, маленькие молоточки для пальцев (для каждого свой), различные иглы, прутья, клещи, ножи. Набор инструментов полевого хирурга — в нем нашлось место сверлу для черепа, пилам для костей и ложечке для мозга. Крошечные тисочки для ногтей, медные…
— А вот смотри, еще интересное! Обожаю эту штуку!
Спекулатор явно гордился своими «игрушками». И многое мог о них рассказать.
— Я сам из перегринов, из Александрии Египетской. Теперь‑то меня кличут Спурий, а раньше звали Спиридоном — на греческий манер. Что означает «плетеную корзину»… или ублюдка, который в эту корзину положен. Рос, света не видя. Вот эти «игрушечки» вывели меня в люди. Спасибо им… и Божественному Августу!
— Хватит уже издеваться!
Пауза.
— Издеваться? — спекулатор медленно повернул голову. — Что ты имеешь в виду?
Виктор больше не мог сдерживаться.
— Что в записке? Что написал легат?
Брови спекулатора поползли вверх, отчего его круглое лицо стало выглядеть как личико огромноголового младенца.
— Хмм, ээ… нетерпеливый какой. На, читай.
Текст записки оказался лаконично короток.
ОТДАЙ~ЕМУ~ВСЕ
— Все? — Виктор помедлил. — И что мне положено?
Плетка со свинцом или тиски для ногтей? «Только не тиски для ногтей, пожалуйста!», мысленно попросил Виктор. «Что угодно, только не это!» Эх, легат, легат…
Спекулатор непонимающе посмотрел на легионера, затем хлопнул себя по лбу.
— Ах, да! Прости, увлекся, запамятовал… Так. Где же оно?
Виктор почувствовал, как между лопаток собрался ледяной комок. Похоже, для него приготовили нечто особенное.
Спекулатор начал искать в ящиках, затем ушел куда‑то вглубь повозки, за перегородку, долго громыхал там. Вернулся и поставил на стол перед Виктором это.
— Вот, держи.
Виктор увидел потертую деревянную тубу, запечатанную восковой печатью. Печать была сломана.
— Что это? — голос легионера дрогнул. Какое страшное орудие пытки приготовлено для него, легионера Секста Анния?!
Спекулатор поднял брови и снова стал похож на удивленного грудного младенца.
— А ты разве не знаешь?
— Н — нет.
Спекулатор почесал лоб.
— Хмм, странно. Это письмо легату от его младшего брата. По личному приказу Божественного Августа вся переписка с префектом Квинтом Деметрием Целестом идет через службу спекулаторов. В прошлом его брат натворил дел, так что мы теперь за ним присматриваем. Чего смотришь? Бери и неси легату.
Облегчение было таким сильным, что Виктор едва не бросился спекулатору на шею. Только тот вряд ли оценил бы этот жест.
— А зачем… — Виктор обвел рукой пространство повозки. Все плетки, палки с шипами, розги, тиски и медные иглы. — … Зачем вы мне все это показали, господин спекулатор?
— Я думал, тебе будет интересно.
* * *
Наконец, легионы собраны, орлов поздравили с новым днем, а утреннее гадание получено. Отправляемся. И как всегда, в последний момент, случается непредвиденное…
И, конечно же, неприятное.
— Сегест уезжает?
— Так точно, легат, — говорит Метелл, мой префект конницы. — Уже седлают коней.
Я кручу головой. Шея занемела, словно от огромной тяжести. Громко щелкает позвонок, вставая на место.
— И пропретор ему это позволил? — спрашиваю я.
Прежде чем я успеваю получить ответ, меня окликают:
— Легат!
Я оборачиваюсь. Передо мной бенефициарий, порученец — молодой легионер, приписанный к штабу легиона.
— Что еще?
— Вестник прибыл, легат. Похоже, в обозе что‑то случилось.
* * *
Квинтилий Вар смягчает повелительные складки своего лица. Лицо его обмякает.
— Говори.
Гонец, молодой всадник, четко салютует Вару. На лбу у него слипшиеся пряди темных волос.
— Пропретор!
— Ну же, — подбадривает Вар. — Говори.
— Нападение на обоз, пропретор. Варвары напали… и бежали.
— Опять бежали? — Вар улыбается. — Прекрасно! И сколько человек они потеряли?
Гонец поднимает голову. Смотрит прямо и дерзко на повелителя провинции Великая Германия.
— Они убили нескольких солдат, пропретор. И… и увели с собой всех германских заложниц.
Долгое мгновение до Вара не доходит истинный смысл сказанного.
Потом вдруг — доходит.
— Что — о?! Как?!
Шумят трибуны. Я дергаю щекой. Проклятье! Без германских заложниц мы практически остаемся один на один с варварскими обычаями германцев. Вот теперь наша прогулка уже не кажется такой веселой…
Гемы огрызаются.
И очень толково это делают.
— Обходной маневр. Они отвлекли наше внимание. Напали на передовой отряд, затем перебили охрану заложниц. И увели их с собой. Всех, — он смотрит на нас. — Всех до одной.
Неожиданно я слышу воробьев.
* * *
Германия — провинция, которая считается не до конца покоренной. Поэтому ею управляет пропретор, что подразумевает — полководец, военачальник. Не самая подходящая роль для Вара. Хотя надо признать, во время мятежа в Иудее, он действовал уверенно и эффективно…
Но здесь — не Иудея.
Здесь Германия. Провинция, где мы вынуждены брать в заложницы женщин.
Думаю ли я о Туснельде?
Теперь, когда она свободна, и над ней больше не висит меч возмездия за действия ее отца… Что мне делать?
Сегест — царь хавков, отец Туснельды.
Я собираюсь жениться на дочери человека, обвинившего моего брата в измене.
Да уж… интересный поворот.
* * *
— Уезжаете, царь?
Сегест, царь хавков, замирает. Тяжелая, крупная спина. Он медленно поворачивается.
— Да. Подальше от духоты, поближе к дому.
Нумоний, легат Восемнадцатого легиона, смотрит на германца в упор.
— Что ты хочешь этим сказать, варвар?
Варвар? Грубовато.
Сегест вздергивает подбородок. Ноздри раздуваются, глаза потемнели.
— Вы, римляне, пришли к нам с оружием, — говорит Сегест медленно. — Вы подкупили одних, уговорили других, перессорили третьих, а четвертых вмяли в грязь своими легионами. У вас отличная пехота. У вас отличные судьи. Германия стала вашей провинцией. Но вы все равно ничего не понимаете. Германцы — свободные люди. И мы будем сражаться за свою свободу.
— Свобода? Ты говоришь о свободе, варвар? — легат Восемнадцатого раздувает ноздри. — Какая это свобода, позволь спросить? Свобода убивать, грабить и насиловать?! — он подается вперед. — Ответь мне на один вопрос, свободный германец. Сколько раз ты был за Рением? Молчишь?! Хорошо, я не буду спрашивать, что ты там делал. Думаю, если я зайду в твой дом, то твоя жена подаст на стол стеклянную посуду. Или даже серебряную? Откуда она у тебя? Или вернее… — он на мгновение замолкает, но глаза сверкают по — прежнему ярко. — Скольких римлян ты за нее убил?
Сегест делает шаг к нам.
Сейчас он ударит того, кто задает эти вопросы.
— Что ты хочешь сказать? — спрашивает германец.
— Ничего, что ты хотел бы услышать. Почему ты бреешь бороду? Какого врага ты убил?
— Хочешь послушать?
— Еще бы! Сделай мне приятное.
Сегест бледнеет, затем краснеет.
— Мой первый враг… я убил его в шестнадцать лет, еще мальчишкой.
— Оставь эти воспоминания при себе! Ты был за Рением, царь хавков? Ответь на вопрос. Был?
Сегест выпрямляется. Глаза сверкают. Подбородок гладко выбрит, смягченная возрастом линия челюсти открыта. Царь хавков не раз убивал, поэтому имеет право брить бороду.
— Был ли я за Рением? Хороший вопрос. Конечно. Вот правильный ответ на правильный вопрос. Я там был, римлянин. И я убивал других римлян.
Напряженное молчание.
Как будто мы раньше этого не знали? Правда, после этого Сегест храбро сражался за Рим в Паннонии и получил римское гражданство.
Отлично.
— Не испытывай мою верность, римлянин, — говорит он хрипло и устало. — Моя дочь сейчас в руках мятежников. Я должен ее вернуть.
Туснельда! Я сжимаю зубы.
…Это значит, что верность Сегеста под вопросом.
— Я отпущу тебя, царь, — говорю я.
— Что? — он тянется к мечу. — А кто сказал, что ты можешь меня задержать, легат?
Он выше меня на голову и намного крупней. Германцы, его телохранители, начинают смеяться…
Я молчу.
И перестают, когда острие меча упирается Сегесту под подбородок.
— Я сказал.
Германцы молчат. Замерев в странных позах, они переглядываются.
Сегест смотрит на меня. Лицо не дрогнуло ни единым мускулом. Затем царь хавков отводит пальцами клинок от своей шеи. Да, в храбрости Сегесту не откажешь.
— Чего ты хочешь, легат? — он совершенно спокоен.
— Дай слово, что не повернешь оружие против Рима.
Сегест молчит. Затем говорит: хорошо.
Когда приходит время уезжать, он оборачивается в седле:
— Легат!
— Да, царь?
— Не доверяй Арминию. Не верь ни единому его слову.
* * *
Арминий делает шаг вперед. Он высокий, мужественный и — в меру почтительный.
Варвар и римский всадник одновременно.
— Пропретор, — говорит Арминий, — позвольте взять вспомогательную когорту. Я знаю местность, я знаю местных. Мы накажем предателей и вернем заложниц. Я обещаю.
Вспомогательная когорта — это почти тысяча солдат. А если учесть, что германские когорты наполовину состоят из конницы, это очень серьезная сила. Впрочем, в племени марсов воинов все равно больше…
— Это возможно? Вернуть заложниц? — спрашивает Вар.
Арминий спокойно кивает.
— Да, пропретор.
— Пропретор, — вмешивается Нумоний Вала. — Совсем недавно этого человека обвиняли в измене. Разумно ли поручать такое дело… хмм, человеку, в чьей верности один раз уже усомнились?
— Префект? — Вар поворачивается к моему брату.
Арминий пожимает плечами.
— Это всего лишь слова, пропретор. Слов на свете много.
— То есть, ты не изменник, хочешь сказать? — Нумоний язвителен, как никогда. Я вижу его затылок, изуродованный толстым шрамом. Странно, он же всегда хорошо относился к Арминию, и вдруг… Неужели поверил Сегесту?
— Я — солдат. Я сражался за Рим в десятках сражений, проливал за него кровь. И слова одного старика ничего в этом не изменят…
Нумоний хочет что‑то еще сказать, но Вар поднимает руку:
— Довольно, легат!
Пропретор смотрит на царя херусков.
— Вы сможете это сделать, префект?
Арминий склоняе т голову.
— Я справлюсь, пропретор, — говорит он низким приятным голосом. — Я — всадник Рима и римский гражданин. Я исправлю все, что сделано не так. А все, что еще не сделано, сделаю, как следует. Верьте мне, пропретор.
Я смотрю на Квинтилия Вара. Он — верит.
Пропретор говорит:
— Прекрасно, царь. Возьмите свою когорту и найдите похитителей. Нет, лучше возьмите все три вспомогательных когорты! И сделайте, что обещали.
Я хочу возразить. Сказать, что без ауксилариев мы потеряем мобильность, что варвары не так надежны, лучше бы их держать поближе к себе, что…
Я молчу.
Луций.
Мой старший брат. Он знает лучше. Верно?
* * *
Старший центурион Тит Волтумий опустился на колено. В хлюпающей тишине — шагают тысячи людей, кожа скрипит, металл позвякивает, легионеры сопят, чешутся, портят воздух и сквернословят — он внимательно рассмотрел собственное отражение в грязной луже. Ужасающе суровое лицо, морщины — он помедлил, затем ребром ладони разогнал мусор с поверхности воды. Затем еще раз и еще. Вода на мгновение оголила дно — и Тит вздрогнул.
Показалось?
Он еще раз проделал фокус с расступившейся водой. «Интересно, будь у меня ладони величиной с гору, смог бы я проделать подобное с морским дном?»
Тит отряхнул руки, растер остатки грязной воды между ладонями. Поднялся.
Мимо шли легионы. «Мулы» топали, повесив шлемы на грудь. Тусклый блеск поцарапанного железа. Центурион проводил взглядом одного из «мулов» — голова замотана бинтом. На белой повязке расплылось темно — красное пятно.
Тит выпрямился.
Поправил меч и пошел к легиону.
Шаг его был быстрым и спокойным. Никто из «мулов» не заподозрил бы, что Тит спешит. Ноги бывалого пехотинца, исходившие сотни миль, больше, чем могут представить себе гражданские, уверенно несли центуриона. Сегодня даже бедро почти не беспокоит. Тит обогнал проходящую центурию — не ускоряя темпа, мельком оглядывая идущих и кивая знакомым.
Чтобы догнать центр Семнадцатого, где находилось командование — центуриону понадобилось чуть больше времени, чем требуется чайке, чтобы пролететь походную колонну легионов от начала до конца.
Привычно он оглядывал идущих «мулов» и кивал знакомым.
Пока никто ничего не заподозрил.
Они ехали верхом — трибуны, канцелярия и охрана из эквитов. В повозках везли бумаги, печати и казну легиона. Аквилифер в львиной шкуре неторопливо шагал, держа шест спокойно и уверенно. Орел летел над легионом, забранный в специально сшитый для него меховой плащ — для тепла. Рядом шагал имагифер, несущий изображение Августа. Грязь хлюпала под ногами.
Буцинатор, трубачи и рожкист. Военные музыканты.
Выгнутые в форме «G» огромные медные буцины.
Центурион догнал штабных, пошел рядом. Один из трибунов поднял брови — Тит выдержал пристальный взгляд и кивнул. Трибун нахмурился. «Где же легат?», подумал Тит. Префект лагеря Эггин одарил центуриона холодным взглядом. Лицо каменное. Тит помотал головой. Если легата здесь нет, придется доложить заместителю командира легиона — а это Эггин. Ни одному из них этот разговор удовольствия не доставит.
Но это придется сделать. Времени совсем нет, похоже.
Тит продолжал шагать. Как опытный пехотинец, он мог идти так весь день, держа ритм, который выматывал лошадей.
Где же легат?
Один из трибунов, старый и опытный, обернулся. На белой тунике у него было две узких полоски. Ангустиклавий. Трибун по выслуге, а не из‑за высокого происхождения.
— Что случилось, Тит? — спросил трибун.
— Где легат? — Тит продолжал шагать. Калиги проваливались в грязь. Спасибо инженерной команде, они проложили на топких местах навесы из веток, связанных между собой. Сейчас саперы идут впереди легионов и наводят переправы, вырубают просеки, прокладывают путь. Они — голова змеи. Ощетинившаяся топорами, мотыгами и лопатами. Огромная змея легионов ползет следом, растянувшись на несколько миль.
Трибун прищурился.
— Наш‑то? Уехал к пропретору. Вар опять затеял совещание. Что случилось, Тит?
Понятно. Если хороший вариант не проходит, всегда есть плохой.
— Гемы рядом, Авл.
Трибун моргнул, но тут же взял себя в руки.
— Ты их видел?
Тит покачал головой:
— Нет. Это их лес. Они идут рядом, но мы их не видим.
Трибун помолчал.
— Что мне сказать Эггину? — спросил наконец.
Разногласия между префектом лагеря и старшим центурионом ни для кого в легионе не были секретом.
— Скажи, что я видел след.
— След?
Момент истины. Тит вздохнул.
— Гемы не оставляют следов, иначе бы мы их давно заметили. Но один из них наступил в лужу. Там глина, на дне отпечатался след его ноги. Они рядом, Авл. Можешь мне поверить.
По лицу трибуна пробежала гримаса.
— Я тебе верю, Тит. Хорошо. Возвращайся к своей когорте. Я передам Эггину.
— Легату.
— И легату… когда он вернется. Хорошая работа, центурион.
Тит кивнул и начал отставать. Остановился, оглядел строй — шла первая когорта. Центурион помедлил — если на него смотрят из леса, не должны ничего заподозрить. Тит повернулся и пошел к своим — привычным шагом пехотинца, который исходил столько дорог, что не всякий торговец проедет за всю жизнь. И далеко не всякий мул пройдет.
Тит моргнул. Мошки вились облаком, он помахал рукой, разгоняя их. Мелкий зуд на грани слышимости. С комарами легионеры уже привыкли обходиться, а с мошкой — пока нет. Здесь все сложнее. Мошку можно только отгонять — «мулы» идут, обмахиваясь ветками — а убивать нельзя. Мошка прилетит на запах крови облаком. И все будет намного хуже.
Тит шагал. Скоро будет колонна второй когорты.
Моя когорта.
Вспомнил след от человеческой ноги на дне лужи. Разведчик — гем был очень осторожен, но тут допустил промах.
Гемы. Леса вокруг молчали, глядя на центуриона.
«Отмахнемся ли мы от этой мошки? А?»
* * *
Когда начался бой, девушки переглянулись. Все они — дочери и сестры царей. И они должны быть достойны своих отцов и братьев.
В темноте закричали люди. Звон оружия, вопли ярости. Туснельда придвинулась к выходу из повозки. Что происходит? Может, пора брать оружие и драться — как положено настоящим германским женщинам?
Когда воинам приходилось плохо, женщины брали в руки оружие. Ни один мужчина не может отступить, если женщина сражается рядом с ним, плечом к плечу.
Ни один настоящий, поправила себя Туснельда.
Крики раненых и стоны умирающих. Грохот и лязг железа. Глухие удары.
Заложницы ждали.
Из мутной, предрассветной темноты вышел танцующим шагом высокий германец. В левой руке он держал факел. Пламя потрескивало, отсветы плясали на лице. Если бы не шрамы, воин был бы красивым… пожалуй, даже очень.
Где‑то она его видела. Туснельда помотала головой.
Германец оглядел заложниц. Светлые равнодушные глаза. Девушки притихли.
Губы германца искривились. То ли улыбка, то ли гримаса — не поймешь.
— Ну и цветник, — сказал он насмешливо. — Прямо хоть букет делай. Привет, девушки!
Несмотря на странности, он обаятелен. Заложницы невольно прыскают.
— Командир! Надо уходить! — воительница появилась из темноты, с другой стороны от повозок. — Они сейчас будут здесь. Быстрее!
Германец кивнул.
Когда он повернулся, Туснельда увидела, что у их спасителя (или похитителя?) нет правой руки. Культя обмотана цветной тряпкой.
Однорукий. Убийца, о котором говорил Гай!
— Ты — Тиуториг? — одна из девушек распахнула глаза. — Тот самый… ой. — Подруга толкнула ее локтем.
— Какой тот самый? — однорукий вежливо улыбнулся.
— Тот, что забрался в дом Вара… и ранил преторианца. Говорят, ты это сделал из любви к одной из… одной из нас.
Девушка замолкает. Однорукий смотрит на нее без всякого выражения. Глаза ярко — голубые. Равнодушно — стеклянные.
Девушки затихли. Почему‑то вдруг становится жутковато, словно
— Из любви? — он вдруг засмеялся. — Слышали, воины? Чтобы я делал что‑то из любви? Боги, какой мусор в этих маленьких прекрасных головах!
Воины послушно засмеялись.
Туснельда нахмурилась.
Ее похитили или освободили? Как понимать происходящее? А если похитили, то…
Значит ли это, что она свободна от всех обязательств?
Об этом стоит подумать.
* * *
Туснельда, дочь Сегеста, царя хавков, 15 лет
…А где‑то ждет человек, которого она назовет мужем. Настоящий мужчина и воин. Высокий, красивый, белокожий. И молодой. А не этот невысокий, смуглый и старый… конечно, старый, ему уже почти тридцать лет! Римлянин Гай, который думает только о мести.
Туснельда, сама того не замечая, облизнула губы.
Поцелуй.
Тот, что под звездным небом. Рядом с алтарем предков. Интересно, предки римлянина смотрели в это время на них? А ее предки? И что они подумали?
Боги римлянина и боги ее предков — разве они уживутся?
Гай. Как он ее обнимал. И думал при этом о другом. Он все время был не со мной, думает Туснельда рассерженно.
Как иногда трудно выбрать между мужчинами! Мужчинам всегда проще. Распушили хвосты, как тетерева на току, и довольны. А ты думай. Выбирай.
Римлянин Гай. Херуск Арминий. Один мрачный, ироничный и усталый, другой — молодой, ироничный и красивый.
Они чем‑то неуловимо похожи. Оба умеют ее смешить. Оба кажутся старше, чем выглядят. Оба воины. Оба больше похожи на римлян, чем на ее соотечественников. У обоих невыносимый характер.
Оба ее любят. Оба?
Она другая. Порченая. Она не может понять, кого любит. Или — может?
Может быть, стоило бы выбрать… кого‑то другого?
Твой сын станет повелителем всей Германии, сказала старуха — жрица. Царем. Его будут называть Rex.
Туснельда вздохнула. Повелитель? Царь всей Германии? Rex?
Если не соврала старуха, то так и будет.
Только сделай правильный выбор, Туснельда. Сделай выбор.
Сделай.
* * *
Арминию подводят коня. Он кивает мне, садится в седло.
— Прощай, Гай.
— Удачи, брат, — говорю я.
Я не помню, как добрался до своего легиона. Сердце стучит так, что кроме толчков крови в висках, я почти ничего не слышу.
— Легат? Что с вами? — Тит останавливает меня.
Я выпрямляюсь. Еще не хватало, выдавать свои чувства. Я — римлянин. И легат Семнадцатого Морского.
— Все хорошо, Тит.
Центурион смотрит на меня с сомнением. Я говорю:
— Я слышал, ты обнаружил гемов?
Тит кивает.
— Да. Они нас преследуют.
* * *
Бешеная скачка закончилась на удивление быстро.
Заложниц снимали с коней, выгружали из повозок — словно ценный, но не особо одушевленный груз. Воины грубо хохотали, шутили. Правда, руки почти не распускали. Непривычная дисциплина в дружине, римская.
Однорукий больше не появлялся, но осталась женщина с мужским лицом в сетке шрамов. Она командовала разгрузкой. Вояки, несмотря на вид отчаянных головорезов, подчинялись ей беспрекословно.
Туснельда размяла затекшие ноги, огляделась.
Неяркий свет пасмурного дня.
Небольшая деревня, окруженная лесом. Длинный дом в центре, амбары на высоких сваях вокруг, землянки для рабов. Все это окружено частоколом.
Туснельда удивилась. Скачка через ночной лес, когда ветви норовят хлестнуть по лицу, а конь сбросить… нет, это было здорово. Но почему они отъехали так недалеко? Неужели похитители совсем не опасаются, что их будут здесь искать?
Тот, кто увел у римлян германских заложниц, или очень умный, или очень глупый.
Осталось выяснить, какой вариант — правильный. И действовать, исходя из него.
День прошел, заложницы устраивались в длинном доме. Хозяева жались в углу, смотрели на людей однорукого угрюмо и испуганно. Похоже, гостей они принимали против воли. Туснельда пожала плечами. Война. Все‑таки война…
Женщина с мужским лицом окликнула ее.
— Ты дочка Сегеста? Пошли со мной.
«Что от меня нужно однорукому?», подумала Туснельда. Но это был не он. У человека, что сидел за столом, перед картой, было две здоровых руки. Ладони лежали на поверхности стола, пальцы барабанили. Тук, тук, ту — тук. Тук, тук, ту — тук.
Человек повернулся.
Туснельда попятилась. В высокой фигуре незнакомца было нечто пугающее.
— Прекрасная Туснельда, дочь Сегеста, — сказал человек с серебряным лицом. — Вот мы, наконец, и встретились.
Глава 12. Черный лес
Кора, влажная и хрупкая, крошится под пальцами. Пахнет сыростью и осенним лесом. Опустившийся к земле туман облегает буковые стволы прозрачно — белой, упругой пеленой.
Гем отнимает руку от дерева, смотрит на ладонь. Она испачкана рыжим. Гем вытирает ладонь о безрукавку, оставляя в облезлой шерсти примятый след…
Выпрямляется.
Некоторое время землисто — голубые, тусклые глаза его смотрят неподвижно, не мигая.
Издалека слышен крик совы, охотящейся на мышей. Писк умирающих зверьков пробивает ухо насквозь, словно иглой.
Гем смотрит. Затем делает шаг — мягко, беззвучно. Сапог оставляет вогнутый след, здесь мягкий мох. Долговязый гем может двигаться с такой скоростью, что за ним трудно уследить, но сейчас он все делает нарочито медленно.
Гем слушает.
Взгляд застывший. Из голубовато — серых, водянистых, словно подтаявший снег, глаз сочится холодный, осязаемый ужас.
Гем моргает. Медленно, словно во сне. Веки опускаются. Поднимаются.
Он задирает голову, поворачивается всем телом.
Кажется, он что‑то услышал.
* * *
С утра Тиуторигу казалось, что ладони его пахнут гарью и мокрым железом.
Даже от желто — розовой пластиковой руки шел этот запах — прямо от исцарапанной ладони. Тиуториг поднес протез к носу, втянул ноздрями воздух. Отдернулся.
Железо. Гарь.
И гнилая старая кровь.
Он прищурился.
Сквозь деревья виден строй римлян. Много мокрого железа и шерстяных плащей.
Серая змея движется.
* * *
Мы не знаем будущего.
Мы живем спиной вперед. Мы видим перед собой только прошлое.
А будущее прыгает нам на спину, точно злобная облезлая обезьяна.
Кривые желтые клыки. Они вот — вот вопьются нам в загривок…
Ааа!
Я поправляю складки тоги на левом плече. Плотная белая ткань шуршит под пальцами.
Зал Курии в этот час пуст. На скамьях лежат атласные подушки — для упитанных задов сенаторов. Иногда для тощих — чтобы не оставляли царапины на камне. Из светового колодца в потолке падает неяркий свет. Если солнца сегодня толком не будет или заседание затянется допоздна, рабы принесут факелы.
Рабы уже принесли факелы.
Красноватые отсветы. Копоть горящей смолы оседает на стенах. Пламя шипит и потрескивает.
Что я здесь делаю? Один, без друзей и врагов?
И так ли мне нужны друзья и враги?
* * *
— Легат! Легат!
Я открываю глаза. Проклятье, задремал на ходу.
— Смотрите!
Поднимаю голову.
Среди деревьев мелькают темные фигурки.
— Варвары! Гемы!
— Вперед! Проучите их, парни.
С короткой заминкой вперед выносится отряд всадников. Они больше не привязаны к пешим, их больше не заставляют ждать…
Копыта бьют. Удар. Удар. Удар.
Летят комья грязи. Выдранные подковами клочья травы и дерна. Эквиты врываются в вересковые поля, проносятся, оставляя черный след…
Вот они уже у леса.
Короткая яростная схватка. Блеск железа. Крики и вопли.
Гемы, не выдержав натиска, исчезают в чаще. Всадники возвращаются — довольные и разгоряченные стычкой.
— Проще простого, — говорит декурион. На раскрасневшемся от скачки лице сияет улыбка. Ему хорошо.
* * *
После полудня мы вступаем в буковую чащу. Местные называют эту местность Черным лесом. Не знаю, почему. Может, потому что здесь действительно темно?
Плохие места.
Это скорее тропа, чем дорога. Огромные деревья нависают, тень их настолько плотная, что кажется, на плечи легла тяжесть. Сырой мох покрывает стволы. Корни выступают из земли, словно набухшие вены.
А скоро будут болота.
Поэтому нам придется потрудиться.
Это значит, что мы будем прокладывать гати, рубить деревья, копать рвы и вести себя так, как ведут себя римские легионы в чужом краю.
Разломаем все, что есть, и сделаем по — нашему.
В голове колонны, перед легионами идет саперная команда. «Мулы» привычно валят деревья, прокладывают дорогу, строят мосты, наводят понтоны и делают непроходимый путь — проходимым.
От стука топоров, крика инженеров и ругани саперов гудит германский лес.
Я останавливаю коня на обочине и оглядываюсь.
Змея легионов растянулась на несколько миль. Нас восемнадцать тысяч. Три полных легиона. Плюс обоз — там женщины, дети, торговцы и обозные рабы. Так что мы легко добираем до двадцати пяти тысяч.
Легионеру запрещено жениться. Он должен отдавать всего себя службе, а уже после окончания двадцатилетнего срока пусть заводит семью и детей.
В идеале.
Но люди есть люди.
Поэтому у многих «мулов» в обозе — походная жена. Когда закончится срок службы, легионер получит свое золото, земельный надел — и может узаконить отношения и усыновить детей, прижитых во время лагерной жизни. Многие так и делают. Другие забирают деньги, оставляют жену и детей на произвол судьбы и уезжают куда глаза глядят. Иногда — к старой жене, к женщине, на которой юный новобранец успел жениться еще до военной службы.
Начинает темнеть.
Медленно, как обычно на севере.
Вся эта огромная сверкающая железом, громыхающая и сквернословящая змея легиона ползет по лесной дороге. Утопает в грязи, шумит на тысячи голосов, ругается, сопит, воняет портянками и потеет.
В авангарде движется Семнадцатый Морской легион, следом — Восемнадцатый Галльский, последним — Девятнадцатый Счастливый. Дальше — бесконечная вереница повозок.
Дорога вьется между огромных деревьев. Она утоптана сотнями ног.
— Гемы! — орет кто‑то.
Я поворачиваюсь и вижу: они бегут.
Летят дротики. На мгновение зависают в воздухе, в апогее, затем они начинают путь вниз…
Негромкий, нарастающий свист. Смертельный.
— Щиты! — орут центурионы. — Тестудо!
Кто‑то не успевает закрыться, вопит раненый легионер. Меня щитами прикрывают рослые преторианцы. Бух, бух. Бух. Ничего так припечатало…
— Приготовить пилумы! — ревет центурион. — Огонь!
Ответный ход Семнадцатого легиона.
Сотни дротиков взлетает по дуге к солнцу… на несколько ударов сердца замирают там, в высоте серого неба… и начинают падать.
Германцы все ближе, ближе…
Дротики летят. Гемы орут.
«Ти — ваз! Ти — ваз!»
Удар пилумов сносит первые ряды бегущих. Воздух наполняется стонами и воплями. Оставшиеся в живых гемы перепрыгивают через мертвецов и раненых, бегут дальше.
К нам.
Они все ближе.
У них круглые деревянные щиты разных цветов. Германцы раздеты по пояс, голые торсы, несмотря на холодный день.
Железная масса «мулов» подается назад и упирается в землю. Центурион, как обычно, орет хриплым голосом, то ли подбадривая, то ли накручивая своих солдат.
Я вынимаю из ножен гладий и делаю шаг вперед. Преторианцы синхронно шагают со мной, прикрывая с двух сторон щитами. Словно я хожу в окружении маленькой личной «черепахи», тестудо. Драться они тоже за меня будут?!
Смешно.
Я расталкиваю преторианцев, чтобы видеть, что происходит.
За несколько мгновений до того, как столкнутся варварская полуголая масса с бронзовой змеей легионов, я поднимаю голову и смотрю вверх. Глубоко вдыхаю, медленно выдыхаю. Серое пасмурное небо с ледяным запахом… Запомнить на случай, если меня убьют сегодня.
— Делай, как я! — командует центурион. — Коли! Коли! Коли!
Это всего лишь проверка.
В последний момент, когда для строя наших щитов остается всего ничего, гемы вдруг замедляют шаг, в мгновение ока разворачиваются и — отступают. Бегут, как последние трусы. Пятки так и мелькают.
«Мулы» выкрикивают им вслед оскорбления и непристойности. Показывают жестами, кого видят перед собой.
Хохочут.
Я говорю:
— Это все, Тит? Как‑то слабовато для знаменитых германцев.
Старший центурион щурит глаза, затем поворачивается к лесу.
— Смотрите внимательно, легат.
— Что?
И тут понимаю: они собираются снова. Разрозненные людские ручейки, там, недалеко от кромки леса, сливаются в единый поток. Никаких следов паники, ничего. Отступление? Это был маневр, хорошо подготовленный и слаженный, а не результат нашего натиска.
Я дергаю щекой. Однако.
— То есть… они нас испытывают?
— Да, легат. Пробуют на зуб, — он кивком показывает на германцев. — Сейчас опять начнется.
Мой Семнадцатый Морской Победоносный перестраивается в боевой порядок. Заминка, потому что при перестроении сцепились две когорты. Центурионы руганью и ударами наводят порядок — центурии двигаются на свое место в строю.
Пращники и лучники выходят из рядов центурий, открывают огонь. Несколько германцев падают. Раненые гемы продолжают оставаться в строю, не ломая порядка.
У нас на глазах стрела пробивает молодому германцу голое плечо. Гем обламывает древко. Истекает кровью, но стоит, не шевелясь.
Боевой дух германцев впечатляет. Молодцы.
— Это основной боевой порядок гемов, — говорит Тит. — Клин. Видите, легат, как они разбиваются на отряды? Это они встали по родам. Родичи с родичами, плечом к плечу, военный вождь впереди. Он — острие клина. Поэтому у германцев кто самый большой и крутой мужик — тот и главный.
Атакующие волны набегают на железный берег легиона — одна за другой. Вопящие и рычащие, они вгрызаются в стену наших щитов так, что летят щепки. А когда устают, разворачиваются и убегают, чтобы отдохнуть и перестроиться. Это у варваров в порядке вещей. Никакого переживания, никакой паники, просто маневр.
На смену уставшему клину спешит другой, свежий.
Бой продолжается.
Здесь бьются легионы Рима и дикие орды варваров.
— Вперед! — приказывает Эггин. И делает знак буцинатору. Тот поднимает свою «G» — образную трубу…
Резкий медный звук. От этого звука у меня сводит зубы.
Когорты дрогнули и двинулись вперед. Размеренно и спокойно. Раз — два, раз — два. Мы идем по Африке, мы по Галлии, мы идем… Холодная железная уверенность против брызгающей слюной ярости варваров.
Я стою и смотрю. Холодная золотая птица летит над моей головой, раскинув крылья. Орел легиона.
А еще выше, над ней, медленно плывет серое пасмурное небо. Клубятся облака.
* * *
Квинтилий Вар, пропретор провинции Великая Германия, сейчас был вне себя. Обычно флегматичный, спокойный, сейчас он готов был рвать и метать.
Гемы восстали. Восстали гемы!
Неблагодарные ублюдки. После всего, что он для них сделал!
Вар остановился, немея от ярости. Ударил кулаком по борту повозки. Еще раз. Резкая боль в запястье.
Пропретор зажмурился, снова открыл глаза. Судя по звукам боя, марсы продолжали атаковать боевые порядки легионов.
А тут еще проклятые заложницы.
Какие еще племена, кроме марсов, восстанут против Рима, когда заложниц у римлян больше нет?!
«Скажи мне, Вар. Что их теперь удержит?»
* * *
Отсюда, с опушки леса, было хорошо видно растянувшуюся по дороге колонну римлян. Серое и блестящее тело — змея, усталая и все же смертельно опасная. Ее тело извивается между коричневых холмов, болотных кочек, бежит вперед в окружении фиолетовых вересковых пустошей, всхлипывающих луж. Под некоторыми из таких луж — бездна. И до дна еще никто не достал.
Каегорум нахмурился. Передовые отряды римлян, их сейчас уже не видно, они в голове колонны, далеко впереди — рубят деревья, чтобы сделать гати. Римляне прут через болота и лес, они идут быстрее, чем предполагалось, они опытные и упрямые.
Друз когда‑то не отступил перед ночью, дождем и болотами. Его солдаты шли практически вслепую, держась только русла реки — и им удалось победить. Друз под проливным дождем шагал вместе с легионерами. Настоящий воин.
«Они вырвались из окружения и наваляли нам так, что до сих пор вспоминается». Каегорум поморщился.
А потом был хитрый — хитрый Тиберий. Он тоже побеждал.
Но теперь, когда Друза больше нет, рядом бунтуют Иллирия и Паннония, а царь маркоманов Маробод собирает и тренирует войска на римский манер, у римлян куча проблем.
Ведь ведет их далеко не Друз и не Тиберий.
Каегорум махнул рукой. Его воины приготовились. Сейчас!
Он прыгнул вниз со склона и побежал. Под ногами осыпался песок. В правой руке — тяжелая фрамея, в левой — круглый щит. И если копье ты потерять можешь, то утрата щита для воина означает неминуемый и несмываемый позор.
Даже не глядя, Каегорум знал, что за ним бегут его воины. Многие обнажены полностью — это почетно, драться без всякой защиты. Это признак настоящего мужества.
Каегорум бежит. Позади — мерное дыхание воинов.
Страха — нет.
Кровь гулко стучит в висках. Бух, бух, бух. По затылку бегут мурашки. Все вокруг замедляется — знакомое ощущение перед боем. Бух.
Через два удара его вдруг обгоняет один из его воинов — Эрманн Кривой. Вот сын хромого зубра, как он бежит! Только пятки мелькают.
Каегорум дышит. Размеренно, ровно, чтобы не сбить дыхание до столкновения с римлянами.
Римляне вдалеке поднимают головы. Это воины, которые заняты рубкой чахлых деревцев — болотных, кривых. Воины, которые рубят лес топорами, как рабы! Не понимаю, Каегорум морщится. Римляне — непонятные люди. Воины, а воевать не любят. Один на один германец всегда одолеет римлянина! Но при этом римляне побеждают раз за разом. Необъяснимо.
Каегорум бежит.
Вязкие топкие кочки. Бег замедляется. Вода сразу же попадает внутрь сапог.
Раз, два. Римляне растеряны. Но вот они уже бросают топоры и вооружаются… Резкая команда — это их центурион! И они начинают сбегаться в строй. Быстро, очень быстро.
Не успеваем…
Каегорум кричит: готовься! И замахивается фрамеей. Она тяжелее римских дротиков и летит не так далеко, но бьет гораздо сильнее.
— Бей! — кричит он.
Воины дружно кидают копья. Свист воздуха…
Грохот щитов. Крики раненых.
Римский строй едва не разваливается, в нем зияют дыры… Надрывный крик раненого. Центурион пытается командовать, но прилетевший камень ударяет его в лицо.
Замешкавшийся легионер замахивается топором. Каегорум на ходу берет левее и правильно — лесоруба убивает Эрманн. Короткое «хэк». И готово.
Кровь.
Раз! Лесоруба отбросило ударом фрамеи назад. Он упал. Воин выдернул из трупа копье, не останавливаясь, побежал дальше.
Каегорум вытянул из ножен меч. Немногие из германцев могут похвастаться, что у них есть такое оружие. Меч — хороший меч — это дорогое удовольствие.
И им нужно уметь владеть. Это не короткие полуножи — полумечи римлян, годные только для боя в плотном строю.
Это меч, достойный вождя. Им можно располовинить человека.
Каегорум бежит.
Строй синих щитов с молниями — все ближе.
— Ти — ваз! Ти — ваз! Тиииии — ваз!
— Барррраааа!
* * *
Раз, два! Раз, два!
Мы идем по Африке… Мы идем по Греции… Мы идем…
Поток гемов набегает и откатывается, теряя людей. Грохот страшный. Легионы холодно и сдержанно огрызаются. В походной колонне трудно отражать нападение, поэтому нам приходится останавливаться, перестраивать порядки, чтобы отбить очередную атаку, затем снова — перестроение в походную колонну, и вперед.
Хорошо еще, местность здесь открытая.
Пока мы еще не вошли в чащу леса.
Пока у нас есть преимущество.
* * *
Окровавленный Каегорум предстает перед ним. Вождь поминутно сплевывает кровь, передние зубы шатаются. На лице — отпечаток. Кто‑то из чертовых римлян заехал Каегоруму в лицо краем щита.
— Потери, — говорит Каегорум хрипло. — Около сорока моих воинов отправились к Тивазу. У меня много раненых. Я уже атаковал римлян восемь раз… сколько еще?
Равнодушный блеск серебра.
— Еще раз, — приказывает человек в серебряной маске. — Атакуйте еще раз. И еще.
* * *
Мы — атомы. Мы сталкиваемся, но наши соударения не меняют будущего.
Я качаю головой. Усталость поселилась в плечах, в пояснице, в свинцовых икрах, даже в веках… кажется, сейчас я вырублюсь и усну на тысячу лет.
Знакомый конь выносит всадника прямо к нам. Я смотрю на него снизу вверх.
— Марк?
Всадник салютует — коротко и четко. Это Марк Скавр, декурион Восемнадцатого Верного. Тот самый, что привел меня в деревню, где погиб мой брат.
— Разведка докладывает, легат. Впереди — гемы.
Киваю.
— Отлично, Марк. Что еще?
Всадник щурится. Жеребец переступает, фыркает.
— Позади гемы, легат.
Я поднимаю брови.
— Еще?
— Справа и слева — тоже гемы, легат.
Что ж… Похоже, эта прогулка будет не такой легкой, как мы думали.
— А где гемов нет? — спрашиваю я.
Марк усмехается, показывает вверх:
— Возможно, там. Но я не уверен, легат.
— Потому что на небе обычно живут боги?
Марк тянет повод. Жеребец под ним приплясывает, мотает головой. Глаза с поволокой. Красивая скотина.
Всадник ухмыляется. У него сейчас совершенно мальчишеское, озорное лицо.
— Потому что небо я еще не проверял.
Глава 13. Акулы
Эгейское море, вблизи острова Родос. Некоторое время спустя
Весла опускаются в лазурную, неправдоподобно яркую, словно залитую краской, воду.
Ветер развевает волосы.
— Это акула — бык, — говорит старик — грек. Он коричневый и тощий, словно высушенный солнцем финик. — Она бросается на все, что шевелится. И рвет зубами, как вцепившийся в противника пастуший пес. Видите, как она кипит от ярости, префект? Она никогда не успокаивается, никогда не устает. Никогда не отступает. У нее черная кровь. Рассказывают, что если съесть ее мясо, хер будет стоять, как медный столб — всю ночь напролет. До звона. И никакая сила в мире не сможет его согнуть.
Квинт Деметрий Целест смеется, показывая отличные зубы. Это высокий светловолосый римлянин. Голубые глаза. Большинство матросов смотрят на этого великана снизу вверх.
Грек говорит:
— Вон, дальше, видите — акула с длинными плавниками. Видите? Словно крылья. Она точно летит под водой. Это акула — падальщик, она следует за кораблями, день за днем, ночь за ночью, пока с теми чего‑нибудь не случится… и убивает тонущих моряков. Она — самая опасная, префект. Опаснее для моряка нет никого. Даже акула — бык… даже она.
Пока мы на корабле — опасности нет. Пока мы сильны и здоровы — опасности нет. Но стоит оказаться в воде… ослабеть… испугаться… Пиши пропало.
Она убивает выживших после кораблекрушения.
Старик — грек качает головой. Он триерарх, капитан корабля. Почти вся его команда, матросы, гребцы и стрелки — это греки с островов и восточные эллины, из Египта и Александрии, плюс парочка финикийцев и один силач нумидиец. Вольнонаемные. Флот считается вспомогательными войсками. И только морская пехота набрана из римлян, командует ими центурион. А Квинту подчиняются оба — и триерарх, и центурион. По личному приказу Августа, он — префект флота. Очень смешно — флот из одного корабля.
И они гоняются за пиратами. Хотя, как подозревает Квинт, минимум половина его матросов, включая капитана и кормчего — бывшие пираты.
Впрочем, так даже веселее.
Квинт опускает ногу в море, смотрит, как вода бурлит сквозь пальцы. Хорошо идем. Скоро будем у Родоса.
Слышен глухой стук барабана. Барабан дает ритм. Ритм заставляет гребцов делать слитные движения. Слитные движения дают скорость.
Скорость дает вскипающие пузырьки между пальцев.
В прозрачной синей толще скользят вытянутые акульи тела. Квинт ежится.
Опасность приятно щекочет нервы.
Словно опять сидишь за игрой. И летящие над столом кости скоро остановятся и изменят твою судьбу.
Он хмыкает. Раскрывает письмо брата, начинает читать.
За кормой либурны исчезает белопенный след.
* * *
«Приветствую, Квинт!
Когда ты получишь это письмо, я буду уже далеко».
К концу дня легионеры едва стоят на ногах. Бесконечные перестроения, походный марш, ложные атаки гемов, которые нужно отражать, потому что они в любой момент могут превратиться в настоящие…
Ад и Преисподняя.
Мы несем потери — самые большие в легкой пехоте и кавалерии. Всадники турм, входящих в состав легионов, едва не падают из седел от усталости. Я вижу серые лица эквитов. За целый день у них не было ни минуты покоя. Кони тоже утомлены, но их хотя бы меняют регулярно — у каждого всадника по две — три сменных лошади. Но кто сменит самих всадников?
Гемы нас вымотали. Надо признать — у них получается.
Их тактика изменилась. Теперь они постоянно используют ложные атаки, заставляя легионы принимать оборонительное построение, а затем — убегают. Просто убегают, без всякого сражения.
Растворяются в лесу.
Нам чудовищно не хватает конницы. Просто чудовищно. Сейчас вдоль дороги — полно пустошей, редколесья, где всадники могут противостоять быстроногим германцам.
Легковооруженные легионеры несут потери. Их убивают. Град камней, прилетевший из кустов — обычное дело. Наши лучники сбили пальцы, отстреливая отдельных смельчаков, пытающихся подобраться к нашей колонне.
И что хуже всего: скоро начнется дождь.
* * *
Солнце сияет в вышине ярко — голубого неба.
В лазурной воде видны пенные следы.
Квинт лениво перебросил ноги через брус, вытянул их — босые и загорелые — и уперся ладонями в нагретый солнцем настил палубы.
«…Туснельда, дочь германского царя Сегеста. Мы собираемся пожениться», — прочитал он. Письмо брата в этот раз поистине полно открытий.
Квинт Деметрий Целест, младший из братьев Целестов, улыбнулся и кивнул. Гай. Брат. Женится?
Хоть что‑то в этом мире происходит правильно.
* * *
Легионы умирали на многих полях сражений. От края до края мира лилась римская кровь. Впитывалась в растрескавшуюся от жажды землю Иудеи, в сырую, мутную от болотной жижи землю Галлии, в мокрый соленый песок Понта, в красную твердую равнину Египта…
В вересковые пустоши Германии.
Мы пришли навсегда.
Только одно мы несем на остриях мечей, на железных концах наших пилумов. Одну истину.
Не связывайтесь с Римом.
Не надо.
* * *
Вересковые пустоши тянутся вдоль леса. Когда поднимается ветер, по ним пробегают фиолетовые волны.
Огромные буки качаются, желтая листва летит нам в лица.
Осень.
Полуголые германцы пешком или на низкорослых конях выскакивают из ниоткуда, наносят удар и исчезают прежде, чем мы успеваем ответить. Их задача даже не навредить нам, а обессилить.
Еще один военный совет. Очередной.
Нумоний, командир Восемнадцатого. Его наполовину седая голова со шрамом белеет в полутьме.
— Они нас изматывают, пропретор. Напрасно мы отпустили германские когорты. Легионная конница не справляется — тем более что она разделена между отдельными когортами. Всадников слишком мало, они действуют малыми отрядами. Даже пешие германцы легко им противостоят.
— Что вы предлагаете, легат? — у Вара болезненный вид. Исходящий от пропретора запах шиповника — словно крик о помощи.
— Первое: свести всю конницу легионов в единую единицу, — говорит Нумоний. — Под единым командованием. Это даст нам необходимую мобильность и ударную мощь. Мы сможем противостоять их комариным укусам. Второе… — он медлит, затем продолжает: — повернуть легионы и вернуться по своим следам обратно, к летним лагерям.
— Что? — Вар поднимает брови. — Вернуться сейчас? Вот так? С поджатым хвостом?!
— Это будет лучше. Простите, пропретор, но это так.
— Великий Август…
— Великий Август далеко, а германцы близко.
Тяжелое молчание.
Я представляю, как акулы плывут вслед изуродованному штормом кораблю. И то одна, то другая, перевернувшись на спину — видно белесое брюхо — атакует, оставляя на веслах расщепленные следы зубов. Крак! Кракк!
«Думаешь, они слижут кровь у нас с пальцев?»
Очень сомневаюсь.
— Я согласен с легатом Валой.
Вар поднимает голову, смотрит на меня без выражения. Лицо обвисло на костях черепа, точно старый потрепанный плащ.
— Что?
— Нам нужно возвращаться.
В воздухе нарастает напряжение. Трибуны переглядываются.
— Гай Деметрий Целест, — говорит Вар медленно, словно забыл, как это делается. — Как вы смеете мне такое предлагать?
Он забыл добавить: уважаемый легат.
— Мы едва тащимся, пропретор. Если так пойдет и дальше, нам придется зимовать во владениях марсов.
— Есть и третий вариант, — вступает Нумоний.
— Какой?
— Если префект Арминий со своими когортами вернется, мы сможем продолжить движение. Ауксиларии прикроют наши фланги, позволят легионам не тратить время на разворачивание походной колонны в боевое построение. Мы увеличим скорость до двадцати миль в день. И рано или поздно гемам придется принять решительное сражение.
В котором легионы их раздавят.
* * *
Наше тело всегда испытывает боль. Не бывает такого, чтобы мы ее не испытывали. Жизнь — это боль. Удобство — не отсутствие боли. Это временное равновесие между приятными и неприятными ощущениями.
Равновесие между раздражением и… раздражением.
Смешно.
Наше тело, если перестает испытывать любой, хотя бы странный сигнал боли, начинает тревожиться. Тело начинает думать, что уже мертво.
Я хмыкаю.
Предпочитаю быть раздраженным, чем мертвым.
А сейчас я чувствую, как ноет в желудке — когда смотрю на то, как отряд наших всадников играет вперегонки с конными германцами. Их смешные желтые кони… Куда им до отличных испанских коней наших эквитов?
Вперед, эквиты!
Молодец, Метелл!
Они вырываются вперед. Мчатся, опережая гемов на половину стадия. И отрыв между эквитами и германцами все увеличивается…
— Метелл! — ликуют в рядах легиона. — Так их!
Молодой префект легионной конницы. Красавец и умница. Хвастун, щеголь, бабник, но — отличный наездник.
Его лошадь — прекрасная белая кобыла — мчится, словно выпущенная из лука. Мы видим, как за ней со всех сторон срываются в погоню конные германцы. Проклятье.
Но куда им? Все, что они могут сейчас видеть — спина Метелла и круп его лошади.
Метелл вырвался.
А значит, вести дойдут до адресата.
Только бы Арминий успел.
Брат, нам нужна твоя помощь…
Потому что легионы уже изнемогают.
* * *
— Легат?
Я говорю:
— Мой префект сумел прорваться.
Квинтилий Вар поднимает голову, лицо его вдруг оживает. Конечно, это выход.
— Он найдет Арминия?
— Думаю, да. Метелл — надежный человек. А три когорты — слишком большая сила, чтобы не затеряться просто так. Он их найдет. И приведет сюда.
Когда я отъезжаю от палатки, меня догоняет командир Восемнадцатого Галльского.
— Мы идем в западню, — говорит Нумоний. — Ты ведь это понимаешь, Гай?
— И?
— Теперь они нас погонят со своей земли. Мы захватчики, помнишь? — говорит Нумоний Вала.
Некоторое время я молчу. Захватчики — римские убийцы — убивать без жалости. Логическая цепочка.
— Нет, — говорю я. — Не помню.
* * *
Матросы начинают кричать.
Квинт поднял голову, ветер теребил светлые волосы на лбу. В его руках — письмо. Сверху появилась смуглая голова, совершенно разбойничья с виду.
— Что там?
— Акулы, префект.
Он выпрямился.
— Вижу.
Темные следы в воде. Пенные росчерки. Черные треугольники плавников.
— Приготовьте мясо.
Принесли ведра. Особая мясная вонь от них, Квинт прищурился. Выбрал ведро и погрузил руки, вытянул несколько кусков. Поднял. С кровавой вырезки стекали по предплечьям и падали вниз капли. На палубе осталась цепочка красных пятен.
Квинт размахнулся и швырнул кусок мяса далеко в море.
Он медленно пролетел по дуге и упал в воду. Плюх!
Либурна набирала ход.
Весла поднимались и опускались в волны под удары барабана. Белая пена захлестывала деревянные лопасти, вскипала.
Черные плавники резали лазурную гладь.
* * *
— Легат! Из леса выходят всадники. Похоже, в римских доспехах…
— Где?!
И вот — долгожданная помощь. Сюда идут германские союзники!
Наконец‑то.
Они все ближе. Спасены! Спасены, думают римляне. Ликуют, предвкушая поражение германцев. Арминий, Арминий идет нам на выручку!
— Арминий! Арминий идет нам на помощь! — кричит Тит Волтумий. — Метеллу все‑таки удалось. Теперь мы погоним гемов, как шавок.
Всадники приближаются. Уже можно рассмотреть алые вексиллы и зеленые щиты вспомогательных когорт.
Это германские когорты Арминия.
Помощь.
Интересно. Получается, брат провел свои когорты напрямую через лес, не по дороге…
Которая все равно забита нашим обозом.
— Отлично, — говорю я. — Теперь повеселимся.
* * *
Длинное, хищное тело выгнулось на узкой палубе между рядами гребцов. Зубы, острые как зубья, сомкнулись. Рядом с босой ногой префекта…
Квинт мгновенно отскочил — с хохотом.
Матросы закричали, зааплодировали. Им нравится их новый командир. Им нравится его бесстрашие. Им нравятся его причуды. Им нравится даже его рост.
Квинт, прозванный Гумилием, наклонил голову на плечо.
Длинные плавники акулы (не соврал грек), действительно похожи на крылья. Это акула, которая шла за либурной как на привязи — уже два дня.
— Гарс, — сказал Квинт. Центурион кивнул и бросил ему меч. Квинт легко поймал, наклонился…
С силой воткнул гладий в белесое брюхо. Акула забилась.
Пасть акулы раскрывалась, закрывалась… снова раскрывалась.
Огромные зубы в несколько рядов. Чудовищные. Острые.
* * *
И тут они швыряют это. Круглое.
Пока оно летит, я провожаю его взглядом. Круглое летит на фоне серого неба.
Круглое падает на землю, ударяется, отскакивает и подкатывается к ногам кобылы.
Останавливается.
Это голова Метелла.
Мертвые глаза смотрят на меня из‑под запекшихся век. Один глаз больше другого, словно даже после смерти префект конницы мне подмигивает.
«В другой раз получишь по шее»
«Да, легат».
Тишина.
И тут все сдвигается. Начинает двигаться на бешеной скорости, несется вскачь.
В рядах легионеров раздается полувой — полустон. Нарастающий, как волна.
Кобыла встает на дыбы и едва не сбрасывает трибуна к чертовой матери. На мгновение я вижу его лицо — белое, без кровинки.
Метелла, с которым я фехтовал на деревянных мечах, больше нет. Его убили. Наши союзники убили.
Я внезапно вижу перед собой лицо Арминия… Луция… Арминия…
Мой брат убил.
«Разве можно доверять варварам?»
— Семнадцатый! — ору я. — Морской! К бою!
Резкий, пугающий звук буцины разносится над легионами. К бою.
* * *
И все равно мы не успеваем перестроиться.
Удар. Столкновение.
Грохот такой, что вот — вот лопнут барабанные перепонки… Я открываю рот и ору вместе с легионерами, чтобы не оглохнуть.
Аааааа! ААААааааААа!
Скрежет металла. Вопли раненых.
Квинтилий Вар, мимо которого бегут легионеры. Лицо Вара — с наползающей на него тенью орла.
* * *
Акулы рвут тело человека, выброшенного за борт. Бурлящая вода, в которой расплывается облако крови.
Разорванные конечности. Истрепанные, белесые обрубки плоти.
Квинт задумчиво смотрит на это, перевесившись с борта либурны. Да, это отличается от того, чтобы бросить в воду куски козлятины. Не сильно, но отличается.
— Пираты, — подходит триерарх, чешет подбородок. — Совсем недавно прошли. Этот, наверное, лишний был. Больной или бедный.
Недавно?
— Тогда почему мы их не видим? — спрашивает Квинт.
Грек пожимает плечами. Квинт щурится. «Как будто ты не знаешь. Ты же сам — такой же пират», думает он.
* * *
Гемы на отличных конях. Стена всадников приближается.
Я уже вижу бронзовые пряжки конской сбруи.
Я вижу — движутся мышцы под лошадиными шкурами. Оскаленные пасти, из которых капает слюна.
Серые комья грязи летят из‑под копыт.
Огромные и страшные, они приближаются. Один из всадников вырывается вперед… Скачет перед строем.
Я сглатываю. Проклятье!
Предчувствие пронзает меня, пробегает как разряд молнии — от затылка до пяток.
На всаднике — маска римского кавалериста. С детским выражением на отполированном лице. Серебряная маска.
Это Арминий.
Убийца брата. Брат. Римлянин. Варвар.
Германцы скачут стеной. И вроде бы стена уже должна сбавить ход, чтобы не раздавить первые ряды легионеров… но она не сбавляет. Совсем. Кони роняют пену. Варварские лица в шлемах римского образца — но дешевых, бронзовых — кажутся жестокой шуткой.
Сверкают клинки. Всадники вдруг опускают копья. Нестерпимый блеск металла.
— Легат! — кричат мне. — Осторожнее! Легат!
Коричневая шкура лошади.
Еще немного и меня снесет, раздавит копытами…
Удар.
* * *
Поток конской массы. Тысячи ног. Тысяча лошадиных морд. Тысяча морд не лошадиных.
Германцы — светловолосые и рослые, с яростными светлыми глазами.
Они на крупных испанских лошадях. Которых дали им мы, римляне — вместо германских коней, плохих и низкорослых.
Великаны.
Пешие германцы бегут рядом со всадниками, держась за гривы коней. Такая хитрость увеличивает ударную мощь когорты в два раза минимум. Только гемы на такое способны.
Кровь хлещет и пенится. Удар конской массы сворачивает когорты. Стон и грохот.
Проклятье!
В полной тишине я вижу летящие от копыт комья грязи. Разверстые пасти коней и людей. Клочья пены.
Беззвучно храпящих коней.
Момент, когда все зависло на волоске и сейчас все рухнет.
Момент необратимости.
Ethos Аристотеля. Выражение незрячих глаз Язона — за миг до того, как на него обрушится старый «Арго»…
Кажется, мгновение назад все еще можно было исправить. Что варвары, приближающиеся к нам на хрипящих и роняющих пену конях — идут к нам на помощь.
А не убивать нас.
Копыта бьют. Грязь летит — крупными комьями, я вижу, как они плавно летят в неподвижном стеклянном воздухе.
Глухота.
Мой кошмар наяву. Тогда, после пожара в бабушкином доме, когда меня задело упавшей с неба горящей доской, я лежал в затемненной комнате. Руки замотаны бинтами, пропитанными желтой мазью.
И я ничего не слышал.
Совсем.
* * *
Германские когорты врезаются в ряды легионов, сминают наш строй, опрокидывают фланг. Кровь льется. Легионеры падают под копыта, словно подкошенные. Гемы топчут их конями.
Нас предали.
Германцы вопят. «Ти — ваз! Ти — ваз!» Не ожидавшие предательства, легионы дрогнули, начали терять единство и уверенность.
— Спасайся, кто может! Предательство! Окружили, окружили!
Война — это беспомощность.
Я стою и смотрю, как наши союзники (бывшие!) разламывают, топчут наш строй. Гемы орут. Они осмелели. Даже те, что недавно бежали от наступающих когорт, возвращаются и нападают снова.
Легионеры умирают.
«Мулы» дрогнули и побежали.
Ужас вокруг.
* * *
Я не знаю, почему так происходит.
Никто не знает, думаю.
Вот жил себе человек. Римлянин. Достойный человек, любой скажет. Соблюдал обряды, чтил богов, не обижал жену и детей, заботился о родителях.
И вдруг — перестал быть достойным.
Вот так, мгновенно. Сорвался. Был достойный римлянин, и не стало. Гай Марций Кориолан был настолько обижен народом Рима, что при всей своей чудовищной гордости переметнулся к вольскам и вместе с ними пошел на родной город.
Предательство.
Откуда это в людях?
* * *
Кровавая баня продолжается. Это, видимо, момент намазывания на тело оливкового масла… прежде чем его соскрести — только в этом случае его сдирают вместе с кожей.
У меня перед глазами: море, полное трупов. Клубы крови, в которых мелькают оторванные руки, ноги, головы… тела.
И темно — белесые, стремительные тени проносятся, пронизывают красноватую мглу.
Акулы.
Острые ряды зубов. Смертоносные конусы. Равнодушные, стеклянные глаза…
Легионы едва держатся. Только многолетняя выучка не позволяет им разбежаться в панике. И тот факт, что отступать нам некуда.
Мы — в самом центре Великой Германии.
Это какая‑то ошибка, думаю я. Это не Арминий. Это не мой брат.
Мой брат — римлянин.
А не это кровавое чудовище с серебряным лицом.
Глава 14. Паника
Мы умираем.
Чтобы понять это, не нужно хорошего образования или чтения древних философов на ночь…
Вполне достаточно смотреть и — видеть.
Чрево Юноны, не нужно даже гаданий!
Мы ждем. Древние буки тянут к нам корявые черные ветви.
В деревьях спрятались и ждут нашей крови гемы с иссиня — белыми лицами и мертвыми серебристыми глазами. Выходцы из Преисподней.
Великаны.
Мы умираем.
Что ж… вся ночь впереди. У нас еще будет время поумирать.
* * *
— Приготовиться! — орет центурион. Я вздрагиваю, поднимаю взгляд. Повожу плечами.
Холодно.
— Равняйсь! Смирно! — центурион идет перед когортой, оглядывает «мулов». Голова у него забинтована, багровое пятно расплывается на грязновато — белой ткани. — Выпрямиться, коряга. Ты — выше щит! Ты — шаг назад, держи ровнее… Ты — меч подними, локоть ниже. Да — да, тебе говорю, кодекс коринфский!
«Кодексом» в Риме называют глупого человека, а коринфский — это, видимо, собственное изобретение центуриона.
Он доходит до крайнего в первом ряду, разворачивается на пятках. Орет:
— Молитву! Начи — най!
— Это мой меч, — гудит строй. Привычные слова успокаивают, дают уверенность. — Таких мечей много, но этот меч — мой.
* * *
Слова «молитвы меча» действуют и на меня.
Мне гораздо лучше.
— …мой меч — это мой брат, — повторяю я вслед за «мулами». Меня пронзает насквозь, словно гигантская ржавая игла, во все небо прошла сквозь мое сердце — и теперь болтается. Задевает что‑то внутри. И каждый раз меня словно заново пронзают насквозь.
Луций. Арминий. Брат.
Предатель.
Стискивает горло.
Чтобы отвлечься, я пытаюсь думать о другом.
— Откуда взялась эта молитва? В других легионах, насколько знаю, ничего подобного нет.
Тит кивает.
— Был один центурион… Очень крутой. Мы его называли Цербером — потому что у него на спине была татуировка адского пса. С противной такой мордой, почти как у него самого. В шипастом ошейнике. Цербер очень гордился этой псиной. Там еще надпись «semper fi». Всегда верен.
— Была?
Тит Волтумий пожимает плечами.
— А он пропал года два назад. Странно как‑то, словно испарился куда. Кто‑то утверждает, что его гемы убили. Другие — что Цербера зарезали в драке в лупанарии. А кто‑то видел, как он входил в священную рощу гемов… ну, это уж полная чушь. Там, мол, еще голубой огонь был… Враки, по — моему. Цербер был далеко не дурак. Он бы в рощу не сунулся. А центурион он был стоящий, жаль, если погиб.
Тит Волтумий говорит, не глядя на меня.
Я уже не слушаю.
Потому что игла в сердце снова шевельнулась.
* * *
К вечеру цари и посланники царей покинули деревню.
Они увезли с собой дочерей и сестер, бывших римских заложниц. Осталось только несколько девушек.
Тиуториг поковырял ногтем в зубах, сплюнул.
— Всеобщий заговор германских племен, значит? Свободная Германия? Интересно, интересно…
Серебряная маска повернулся:
— Слышу в твоих словах иронию.
— А я и не скрываю.
За серебряной маской хмыкнули.
— Вижу, что не скрываешь. Это мне в тебе и нравится. Так что ты об этом думаешь? На самом деле, без иронии?
— Всеобщий заговор? — Тиуториг почесал затылок искусственной рукой. — Звучит хорошо, но что из этого — правда?
Человек в серебряной маске поднял голову от карты. Деревянные орлы, изображающие римлян, и зубры, изображающие германцев.
— Ты не веришь, что возможен всеобщий союз?
Однорукий хмыкнул. Ярко — голубые глаза смотрели, не мигая.
— Верю. Но не верю, что среди этой толпы нет ни одного предателя.
Человек в серебряной маске выпрямился. За гладкой поверхностью серебра не разглядеть выражения лица, но, казалось, маска улыбается.
— А я надеюсь, что хотя бы один есть. Иначе все представление было напрасным.
Тиуториг расхохотался.
— Так вот чего ты добивался! А я‑то думал…
— Доносчики полезны. Они распространяют нужную информацию.
— А какой в них толк, если ты всем уже все сказал открытым текстом?
Серебряная маска покачал головой. Блики сместились — вправо, влево.
— Здесь были далеко не все племена.
— Не все?
— Для начала восстания достаточно трех — четырех племен. А дальше все пойдет гораздо веселее. Скоро остальные народы Германии присоединятся к нам. Но, конечно, при одном условии…
— Каком?
Тиуториг плавно переместился на другой край стола, перетек, словно расплавленный свинец. Взял в руки фигурку римского орла, хмыкнул. Очень похоже сделано. Гордый птенчик. Только свастики не хватает.
Серебряная маска повернулся, глаза — щелки смотрели на однорукого в упор.
— Что мы будем побеждать.
* * *
Гемы отхлынули. Семнадцатый Морской устоял.
«Мулы» переглянулись. Этот шум — далеко позади, на дороге. Где‑то в хвосте римской колонны. Это…
Легионер побледнел. Не может быть!
— Обоз, — сказал он. Слово прозвучало как гром среди ясного неба. Железное такое слово. Отточенное.
Словно топор палача, падающий на шею.
— Что?!
— Гемы взяли наш обоз.
Гул, крики, стоны, вопли — чудовищные звуки резни.
Некоторые легионеры развернулись и побежали к хвосту колонны. У них там жены… дети…
— Стоять! — заорали центурионы. — По местам! Приказа не было. Стоять, я сказал!
— Куда, солдат?! — старший центурион заступил бегущему дорогу.
Легионер замер, глаза — словно провалившиеся в череп.
— Там моя жена… и мои дети!
Тит Волтумий покачал головой. А внутри — чудовищный провал, пропасть, в которую летишь и даже кричать от ужаса не можешь. «Рыжая, рыжая». И при этом стараешься говорить правильные вещи.
И, главное, делать правильные вещи.
— Ты им так не поможешь, солдат.
Это правда. В затылке — озноб.
Это проклятая, проклятая, проклятая, к воронам правда!
«Мул» посмотрел на центуриона, задергался, не отпуская края плаща. Из глаз легионера выкатились слезы. Он начал вдруг сползать, оседать, цепляясь за руку Тита Волтумия. Ноги не держали.
Подбежал легат. Лицо перекошенное. «Жалеешь, небось, что не убил тогда этого Арминия?», подумал Тит. «И тебя он обвел вокруг пальца, Гай. И пропретора. Всех нас обвел. Вот тебе и варвар».
Рыжая, снова прихватило у сердца. Она в обозе.
Легионер посмотрел на Гая снизу и начал выть.
— Где всадники?! — кричит «мул». — Почему они…
— Отставить! — легат холоден и спокоен. — Там Девятнадцатый легион, они разберутся. А мы выступаем по команде.
Легионер воет. Раздирает себе щеки ногтями.
Как плакальщица на похоронах.
— Возьмите его, — приказал легат. — Префекта Эггина ко мне! Живо!
* * *
Девятнадцатый ведет бой. Он — в конце колонны, обоз на его попечении.
Германцы врубились между когортами Девятнадцатого легиона, вбили клин — и расширили, разломали, словно рычагом, железное тело легиона. Шестая когорта, охраняющая обоз, оказалась отрезана. А вместе с ней — жены легионеров и все припасы. Девятнадцатый Счастливый дрался на узком фронте, стиснутый с двух сторон лесами и болотом, а на головы его «мулов» без остановки летели камни и копья.
Варваров тысячи. Похоже, они собрались сюда со всей Германии.
Марсы и ангриварии, херуски и бруктеры, лангобарды и фризы, трементины и герарии.
Все вдруг неожиданно и дружно ненавидят римлян!
Среди полуголых германцев бьются бритые и коротко стриженные гемы в римских лориках. С римскими же гладиями, пилумами и зелеными щитами вспомогательных когорт. В дешевых бронзовых шлемах, которые положены солдатам второго сорта.
Бой идет до остервенения.
Несмотря на огромные потери, Девятнадцатый Счастливый выжимает гемов из узкого горлышка. Еще немного и…
Мы идем по Африке.
Мы идем по Галлии.
Мы — идем.
Внезапно строй римлян прогибается. Глухие удары. Крики и вой. Во фланг наступающей центурии врезался новый отряд варваров. Гигант — германец с молотом разносит строй — одним ударом убивая по два — три человека, проламывая щиты и доспехи. Он невероятно, чудовищно силен. Люди такими не бывают.
Рет Септимий, оптион Девятнадцатого Счастливого, орет и колет, колет и орет. Это работа. Горло уже хрипит так, что слова вылетают оцарапанными.
— Баррраа! — гремит над лесом.
Гемы наседают. Кричат, накручивая себя, и лезут на стену щитов. Для них война — развлечение и показуха, для римлян — тяжелый труд. Но мы делаем свое дело. И делаем его хорошо.
«И это, к воронам, наш обоз!»
Септимий колет.
Внезапно в оптиона словно плеснули кипятком — левая щека горит. И мокрая. Септимий дергается, с края шлема падают красные капли. Кап, кап. Германцы взрываются криком. И легионеры тоже кричат — но по — другому. В ужасе. Оглушенный, оптион падает на колено. Рядом валится тело в лорике — и с чем‑то непонятным вместо головы. Жуткое месиво. Точно голову легионера расплющили вместе со шлемом.
Септимий моргает. Начинает подниматься… Ничего, сейчас мы все исправим. Во всем разберемся…
— Рет, осторожней! — кричат ему.
Прежде чем умереть, оптион поднимает взгляд и видит гиганта — германца с оплывшим, бессмысленным лицом. Из уголка рта сползает ниточка слюны.
Молот взлетает…
У гиганта — глаза разного цвета. Зеленый и голубой. Они едва заметно косят.
Молот опускается.
* * *
Нет ничего хуже, чем ждать.
Легионы молча стоят. Звуки боя почти стихают.
Внезапно ряды солдат начинают расступаться — без всякой команды. Образуется широкий коридор, словно дорога почета для триумфатора. Тишина.
Невысокая фигурка в лохмотьях — бредет по коридору. Женщина. Судя по всему, италийка или гречанка.
Женщина говорит:
— Где мне найти мою девочку?
Безумие в ее глазах. Серый опрокинутый мир с выпущенными кишками и запекшейся в детских волосах кровью.
Легионеры молчат. Отводят глаза.
— Вы не видели мою девочку? — спрашивает женщина. Ей не отвечают. Застывают молчаливой стеной.
Она бредет между ними, легионеры расступаются, опускают головы.
Женщина начинает бормотать. Солдаты молчат.
Она протягивает к ним руки. На руках — кукла, завернутая в рваные тряпки. Это обычная детская игрушка — тряпичная кукла, сшитая из цветных обрезков ткани.
Кукла в крови.
Я стискиваю зубы.
Девятнадцатый Счастливый не справился.
* * *
Как в нас рождается трусость?
В какой расщелине она живет?
Ты думаешь, что ты — утес, замшелый камень. Что ты гора, сложенная из огромных вулканических плит, что в твоей сухой, пористой, прокаленной туше нет места склизкой, забывшей про свет, змее. Ты считаешь себя неустрашимым. Ты проходил через ужас раз и другой, ты проходил сквозь боль, голод и накал битвы. Склоны твоей скалы опалены огнем вулкана…
Ты не боишься ничего и никого.
А червь живет глубоко внутри. Растет и ползает. Ты даже не чувствуешь его шевеления… нет, изредка чувствуешь. Как будто кто‑то касается тебя белесыми влажными кольцами. Но ты сразу забываешь про это. И живешь. И снова дожди, грозы, разряды молний, ураганный ветер, огонь, вода, удары волн — все, что угодно. Ты стоишь. Ты смеешься.
Посмотрите на него. Он ничего не боится. Он суров и непоколебим.
Ты такой. Ты уверен, что так все и есть. Твои склоны суровы и обветрены.
А червь внутри все шевелится. Живет. Собирает влагу, что просочилась сквозь мелкие трещины, безгубым ртом заглатывает плесень и мелких насекомых.
Растет.
И вот однажды оказывается, когда идет очередной ураган, что внутри тебя есть другой.
Тот, что боится.
Червь.
Белесо — розовый. Ритмично извивающийся. Зачем ему ураган? Урагана он не хочет.
Он боится.
Тебя нет, но есть червь.
И червь боится за вас обоих.
* * *
Обоз умирал. Разбитый и выпотрошенный, со вспоротым брюхом, волоча вывалившиеся кишки, оставляя широкий кровавый след, он полз еще некоторое время, сопротивлялся, но все же — изнемог.
И началась резня.
Рыжая закрыла глаза на мгновение. Нельзя поддаваться панике! Нельзя!
На ее глазах гемы кололи копьями стариков и детей, убивали беспомощных, даже не пытающихся спастись рабов, насиловали женщин и тут же рубили им головы, резали глотки и вспарывали животы. Опьянев от крови, словно зрители на арене, видевшие смерть сотни гладиаторов, они превратились в единого беспощадного, бессмысленного кровавого зверя. Белеют клыки. Льется кровь. Тела, сотни тел. Тысячи тел. Кишки, мозги, отрубленные руки и ноги. Маленькие и большие.
Большие и маленькие.
Это уже неважно.
В грязь Великой Германии вливается римская кровь.
* * *
Рыжая. На латыни — Руфина.
Она схватилась за нож. Германец расхохотался. Огромный и страшный, со светлыми жестокими глазами, он обдал ее едким запахом пота, болотной тины и звериных шкур.
— Женщина, ложись и раздвинь ноги! — грубый варварский выговор резал уши.
Честь шлюхи, да?
Она полоснула его ногтями, целясь в глаза.
Германец взвыл от внезапной боли. Схватился за лицо. Кровь закапала у него из‑под пальцев.
— Шлюха!
Рыжая рассмеялась — гибкая и опасная, как пламя. Вытащила кинжал. Клинок в ее руке полыхнул огнем — отражение волос. Кровь из лопнувшей от удара губы размазалась по щеке.
— Приди и возьми честь шлюхи, красавчик! Приди и возьми.
* * *
— Эй, рыжая! Брось нож, а то порежешься, — сказал германец насмешливо. Он улыбался. Кровь текла с рассеченного ее ногтями лба, капала с брови, но гем словно не замечал этого. Мужчина. Руфина смотрела в его лицо и видела знакомое выражение довольного, уверенного в собственной безнаказанности, урода. Он никуда не торопился. — Ложись лучше.
Он жестом показал «ложись на спину». Кинжала в ее руке он словно не замечал.
На мгновение она задохнулась. Я ношу ребенка. Как не вовремя, Руфина. Как не вовремя…
Вся жизнь моя — именно так. Не вовремя.
Не с тем. Не так.
Она фыркнула, жестом показала германцу — сейчас, сейчас… Попробуй меня взять. «А потом я отрежу тебе твое хозяйство».
Рыжая приготовилась, словно невзначай отвела руку назад, за бедро. Нужно, чтобы он не видел ножа до последнего момента, до удара. Чтобы увидел только короткий блеск железа. Только тогда у нее будет шанс против настоящего воина. И остановилась… «Если ему надоест со мной возиться, меня просто убьют».
Тит за меня отомстит. Кому? Всем этим германцам?!
Любимый, сильный. Неуклюжий и смущенный.
Нет.
Она будет жить. Среди германцев. Среди убийц. Ради него, ребенка любимого мужчины. Мерзавца и сволочи.
Жаль, что о сыне он никогда не узнает.
Но зато она расскажет мальчику об отце. Мальчик вырастет сильным и красивым, он…
От удара кулаком в лицо Руфина на мгновение потеряла сознание. Вспышка света. Темнота. Падение.
Когда очнулась, то лежала на земле. Все тело болело, лицо ныло.
Германец грубо раздвинул ей ноги. Шершавые ладони, с твердыми, как коровье копыто, мозолями…
Пальцы. Она закричала:
— Нет! НЕТ! Не надо!
Германец вдруг дернулся, замер, сгорбился. И рыжая увидела над его головой взлетающую палку — темное, очень древнее дерево, отполированное ладонями.
Палка опустилась.
БУМ. Отскочила от крепкой светловолосой макушки.
Рядом стояла старуха — древняя, как стены Рима. Палка снова взлетела и снова опустилась. Бум. Бум. Словно из германца выколачивали пыль.
А гем даже не думал защищаться. Странно. Пальцы убрались из нее, рыжая вздохнула.
Гем заморгал — беспомощно.
Старуха закричала на него:
— Пошел прочь, дурак! Думкопф! Отойди от нее! Она с требухой! Не видишь, что ли?! Дубина!
Звероподобный, огромный гем послушно поднялся. Отошел, как побитая собака. Даже взгляд похож. Интересно.
— Вставай, девочка, — сказала старуха по — германски. — Успеешь еще належаться.
Руфина послушно поднялась. Старуха — древняя, седые растрепанные волосы, кожа словно буковая кора — оглядела ее, хмыкнула.
— Надень ей веревку, — приказала она германцу. — И перестань пялиться, бесстыдник.
— Да, великая мать, конечно, великая мать, — забормотал великан. Опустил глаза. Казалось, крошечная старуха имеет над ним чудовищную власть.
Власть?
Рыжая улыбнулась.
Старуха внимательно посмотрела на нее… и вдруг кивнула. Одобрительно.
* * *
Начинается дождь. И идет, не переставая, несколько часов. Дорога раскисла, тетивы луков отсырели, доспехи стали тяжелее раза в два.
Холодно.
Легионы просят огня, думаю я.
Прометей, похитивший огонь, чтобы сделать людей людьми…
Где ты, человеколюбивый титан? Легионам нужен огонь!
Нам бы согреться. Хотя бы чуть — чуть.
Пар дыхания поднимается в остывшем, влажном после дождя воздухе. Что ж… хотя бы такое напоминание, что мы еще живы.
— Обоз, — начал легионер и замолчал. Говорить тут не о чем.
— Да, — кивнул Марк. Вспоминать об этом не стоило. Что сделали разъяренные варвары, «фери», с женщинами и детьми легионеров…
Лучше бы нам не знать. Не видеть.
И не думать. Не думать, солдат.
Марк закрыл глаза. Влага оседала на разгоряченной после скачки коже. Марк провел рукой — лоб был чудовищно холодным, словно кусок льда. Декурион вздохнул. Странно, что я могу сейчас об этом думать. Мне бы не думать совсем, а упасть и вырубиться. Года на два. Точно. Или лучше на три.
— Есть что пожевать? — спросил Марк.
Ему передали зачерствевший кусок лепешки. И полоску сушеного мяса.
От голода он чуть не потерял сознание.
— Спасибо, — он вонзил зубы, оторвал кусок, начал жевать. Рот наполнился слюной. Жуй, жуй, велел он себе. Проглотить всегда успеешь.
В животе заныло. Марк остановился, пережидая внезапную боль.
Потом снова стал жевать.
* * *
Я вижу: Квинтилий Вар ранен. Смертельная бледность покрывает его лицо. Главный легионный хирург перебинтовывает бедро пропретора, рядом — его помощник, тоже хирург, накладывает повязку на оцарапанное веткой лицо префекта лагеря Цейония.
Похоже, в этот раз война коснулась и тех, кто на самом верху.
— Нам нужно решить, что делать дальше, — говорю я.
Цейоний улыбается. Жаль, что ветка не выцарапала его бородавку. Без нее лицо префекта было бы чуть менее омерзительным.
— Послушаем этого, несомненно, очень опытного воина! — говорит он.
Я кладу ладонь на рукоять гладия. Один удар — и участь бородавки будет решена безвозвратно.
Улыбка Цейония тускнеет.
Вар поворачивается ко мне:
— Что же ты молчишь, Гай Деметрий Целест?
Резкость Вара объяснима. У него руки трясутся так, что даже лицо подергивается.
— Что с обозом? — говорю я.
— Обоза больше нет. Девятнадцатый легион почти полностью уничтожен, легат. Его орел потерян.
— Но…
— Германцы его захватили.
Потеря орла — наивысший позор для легиона. Это означает, что легиона больше не будет. Никогда. Значит, уцелевшие солдаты Девятнадцатого уже могут считать себя мертвецами. В лучшем случае их вольют в другие легионы.
— Гай, — говорит Квинтилий Вар, — я принял решение. Оно мое и только мое. Я не могу предстать перед Августом с вестью о позорном поражении… я не вынесу…
— Что вы задумали, пропретор?
Молчание. Тяжелая густая тишина. Понятно.
Квинтилий Вар поднимает голову. Он сегодня небрит, черты лица заострились.
— Для настоящего римлянина может быть только один выход…
— Сражаться до конца? — говорю я с издевкой. — Понимаю, пропретор, и полностью вас поддерживаю.
— Деметрий Целест, хватит шуток, пожалуйста!
Я молчу.
Вар подразумевает, что в его случае броситься на меч — путь, достойный настоящего римлянина.
— Вы собираетесь покончить с жизнью? Отличный способ вдохновить свои войска, пропретор! Даже странно, что Юлий Цезарь и Сципион Африканский так редко им пользовались…
— Нет! — кричит он. — Нет! Что ж вы… вы не понимаете, легат! Гай!
О, теперь ему внезапно понадобилось мое понимание.
Смешно.
Я поворачиваюсь и иду. Прочь отсюда. Подальше от яда поражения и отчаяния.
Его солдаты сражаются из последних сил, а он собирается покончить с собой.
Нет, не с собой.
Со всеми нами.
Что ж, выпустить себе кишки — лучший способ вселить в своих солдат веру в победу.
Нумоний выходит из палатки вслед за мной.
— Гай, послушай…
Я резко поворачиваюсь. Легат Восемнадцатого поднимает брови.
— Я отдам вам всю мою конницу, легат Вала, — говорю я. — Мне нечем будет прикрывать свои фланги, но я сделаю это.
Нам нужно время. Нам нужно заставить германцев принять генеральное сражение.
Свести вместе остатки легионной конницы, прибавить к ним всех, кто способен сидеть на лошади — Нумоний мыслит правильно. Нам нужна мобильная группа, чтобы прикрывать нас с флангов, уничтожать легкую пехоту германцев, этих голозадых ублюдков, бегающих налегке и бросающих копья нам на головы.
— Я отдам всех, — говорю я.
Нумоний кивает:
— Легат.
* * *
Мы усаживаем на лошадей всех, кто хоть как‑нибудь может ездить верхом.
Будь у нас ученая обезьяна, мы бы и ее посадили на коня.
Конница разворачивается в линию. Наш шанс выжить.
Нумоний кивает мне. Он сидит в седле, держа в руках шлем с высоким гребнем из конского волоса. Наши легионы — изначально морские. Поэтому туники, раскраска щитов, гребни — все это цвета морской глубины.
Синие.
— Удачи, Нумоний. Вытащите нас из задницы, я очень прошу.
* * *
В первый момент всадники решили, что новый начальник конницы знает, что делает. Во второй — что это хорошо. Они врезались в конный отряд ангривариев и рассеяли германцев. Часть перебили на месте, еще часть — пока те бежали. Паршивые у гемов кони. Мелкие, как собаки. Словно германцы оседлали собак. Ха — ха. Марк почувствовал, что не готов сейчас смеяться, но все равно смеется.
— Командир, ты чего?
— Ничего. Весело.
Мир вокруг начал кружиться.
Суки, сказал кто‑то рядом. Потом закричал. Конная масса врезалась в ряды германцев. Вот они стоят, клином, слитной массой, закрывшись щитами — один род. Мужчины. И женщины. Женщины?!
Спата опускается, разрубает тело… германка падает. Белые волосы захлестывают лицо. Копыто жеребца ударяет рядом, летят брызги грязи…
Вперед, вперед, вперед.
Марк внезапно проснулся. Ветка хлестнула его лицу, он не успел уклониться. Твердый сучок задел и расцарапал лоб.
Марк выпрямился в седле. Обхватил коленями бока жеребца — плотнее, еще плотнее. От бешеной скачки под шкурой Сомика ходили мышцы. С конских губ срывалась пена.
Твою варварскую мать, колени уже сводит.
— Вперед!
* * *
Нумоний Вала, легат Восемнадцатого легиона, а ныне — префект конницы, хмуро улыбается.
Бессонная ночь. Убийства, разгром, трупы. И вопли варваров — насмешливые. Время беды, время отчаяния.
А сейчас светло, он снова контролирует ситуацию, и мы видим гемов, и у него под командованием мобильная и мощная сводная когорта. Около восьмисот всадников — уже неплохо. Они отличные солдаты, он — отличный командир.
Казалось бы, что еще нужно?
Легионы огрызаются, ползут, как раненый удав, втягиваются по узкой дороге. А здесь оперативный простор, здесь конница может показать себя. Легионы сейчас похожи на огромную змею с разорванным брюхом. Смерть рядом.
Всадники смотрят на него. Все те, кто уцелел в бойне последних двух дней. В их глазах — преданность.
Трудно быть надеждой? Да, Нумоний?!
Трудно. Нумоний Вала чувствует, как тяжелый плащ, подшитый свинцовыми грузами, лежит на его плечах, клонит к земле.
Конница смогла дать израненной колонне легионов передышку. Всадники рядом — деловитые, бодрые. Как мало нужно солдату, оказывается. Только знать, что ты небесполезен. Почувствовать себя тем, кто что‑то может в этой зияющей беспомощности…
«Вар — идиот», вот что говорят эквиты. «Сразу надо было Нумонию командовать. Но он честный солдат. Поэтому не преступил приказ».
Нумоний снимает шлем, касается старого шрама на голове. От потертостей на висках и на затылке остались твердые, грубые места. Он чувствует их кончиками пальцев. Сколько лет я воюю? Уже больше двадцати?
Нумоний Вала, честный солдат.
«Я пережил три военных кампании. Но четвертой, похоже, мне не пережить».
Он смотрит вперед, на вересковые пустоши, простирающиеся до змеи легиона. Легионеры бредут. Бесконечная, без начала и конца, серая колонна. Передышка, которую он вырвал для них, оплачена кровью эквитов.
Но всадники — он чувствует это усталой спиной, ему даже не нужно оборачиваться — гордятся собой и им, Нумонием. Война — это чудовищное ощущение собственной беспомощности. Почти всегда. И те минуты, когда ты понимаешь, что можешь что‑то изменить, стоят дороже любой награды. Всадники теперь чувствуют себя сильней, чем сто титанов.
Нумоний прикрывает глаза, чтобы не видеть колыхание вереска перед собой. Легата подташнивает.
Всадники. Мои всадники.
Только они не знают, что это всего лишь временный успех. Нумоний желчно усмехается. Просто гемы отошли и могут отдохнуть. Чтобы затем снова навалиться на легионы со всех сторон, со свежими силами.
Стоит местности чуть изменить рельеф, и его конница окажется бесполезна.
Здесь, где есть вересковые пустоши, мы можем что‑то сделать. Когда вереск закончится…
Тогда конец.
Озноб пробегает по затылку.
Нумоний Вала гладит кончиками пальцев гладкий нарост шрама на голове. Он получил этот шрам в богами забытом месте, в схватке с сарматами. Теперь и сарматы служат Августу. Знали ли они тогда, что рубят будущего своего союзника? Отметина до сих пор болит по ночам и ноет в сырую погоду. Словно кончик сарматского клинка застрял в кости черепа и — острый, холодный, как лед — задевает в такие минуты мозг.
— Легат, на левом крыле движение.
«Началось», думает Нумоний Вала. И вдруг будущее сворачивается в трубу, узкую и темную. Будущего почти не видать. Маленькое круглое пятно где‑то вдалеке.
В этот раз мне не проскочить, думает Вала. Кончилось мое военное счастье.
— Легат, это гемы! Они опять лезут в атаку!
Осколок сарматского клинка пронзает его болью — насквозь, до пяток.
Почему я всегда должен исправлять чужие ошибки?!
— Приготовиться к атаке, — говорит Нумоний Вала. Трибун кивает, лицо озаряется верой и радостью. Он машет рукой сигнальщику. Через мгновение резкий, утробный звук кавалерийского рожка разрывает сырую туманную тишину, разносится над фиолетовыми вересковыми пустошами, над темным германским лесом.
Турмы подаются вперед, всадники насторожены, кони нетерпеливо переступают. Нестерпимый, яростный блеск клинков.
Нумоний вытягивает меч из ножен. Что ж…
Время уходит. Время почти кончилось.
Он поднимает руку.
«А, может быть, не кончилось». Что, если… Нумоний Вала мотает головой, отгоняя непрошеную мысль.
Об этом не стоит даже думать.
Возможность.
«Я вижу возможность. Кто меня за это осудит?» Кто?
— Легат? — спрашивает один из декурионов.
Нумоний Вала медленно обводит взглядом все это. Эту окровавленную долину, по которой ползет змея легионов. Эту чащу, набитую гемами, словно соломенный топчан — клопами.
Этот лес полон оскаленных зубов.
Германцы смотрят на нас из‑за деревьев и смеются. Твари.
Еще немного и… и станет поздно.
Мы — в западне.
Нумоний Вала, легат Восемнадцатого легиона, выдыхает сквозь зубы. Он принял решение.
Теперь нужно довести его до победного конца…
До какого угодно конца.
* * *
В последний момент декурион Марк Скавр нагибается, чтобы собрать с ветки в ладонь дождевой воды.
Умывает горящее лицо.
Капли застревают в бровях, холодят кожу.
Гемы внизу все еще ползут, собираются в кучки. Сейчас мы их сомнем, думает Марк. Его снова начинает потряхивать, лоб горит, ладони ледяные — скоро приступ лихорадки.
Надо бы успеть до него. Пожалуйста.
Ну же! Давайте команду!
Общий гул нарастает. Нумоний Вала поднимает руку — гул смолкает.
Яростное, нетерпеливое ожидание.
— Вперед! — рука опускается.
Резкий, утробный, сводящий нутро медный звук трубы разрывает тишину.
В атаку. В атаку!
Наконец‑то.
* * *
Голубые яркие глаза. Безумие.
— Ты спрашивал, что я здесь делаю? Хорошо, я скажу тебе. Я жду.
— Чего ждешь? — человек в серебряной маске повернул голову. Он высокого роста, в римской одежде. И у него тоже светлые волосы и голубые глаза. Теперь ему нет смысла скрываться, теперь его лицо знают все.
Арминий. Герцог германцев. Вдохновитель и вождь восстания.
Тиуториг помедлил. Усмехнулся.
— Наверное, самого важного события в истории человечества.
— Вот этого… — Арминий показывает на змею легиона, которую терзают германцы. С переменным успехом. Атакующая конница римлян проходит и валом опрокидывает отдельные отряды германцев. Хороший ход с конницей, думает Арминий, но — запоздалый. Потому что ловушка уже готова и пути назад нет.
Скоро дорога втянется в узкую полоску, зажатую с одной стороны лесом, с другой — болотами. И вот там…
— Ты этого ждешь? — повторил Арминий.
Тиуториг жестко усмехнулся.
— Нет, конечно. Это всего лишь одна из мелких войн на окраине империи.
Серебряная маска помедлил.
— Даже так?
— Извини, — сожаления в голосе однорукого не слышно.
— Какое же событие достойно твоего внимания? Очень интересно узнать. Или это секрет?
Однорукий усмехнулся.
— Одного человека распнут.
Арминий поднял брови.
— Всего‑то? Кто это будет?
— Римляне, кто же еще.
— Нет, тот, кого распнут… Кто он? Царь, консул, военачальник… — Арминий помедлил. — Может быть, это я?
Тиуториг усмехнулся.
— Успокойся, не ты. Это будет один иудей. Сын плотника. Всего лишь.
Арминий побарабанил пальцами по столешнице. Интересно. Самое важное событие в истории? Правда?
— И ты этого ждешь? Распятия какого‑то сына плотника? Но почему?
Однорукий смотрел в сторону. Отвечать он, похоже, не собирался.
— Тиуториг?
— Просто жду.
Да, большего от него вряд ли добьешься. Арминий вздохнул, оглядел карту, разложенную на столе. Вот Рений, вот Визургий, вот Ализон. А вот маршрут Вара. Вся Германия под рукой — это удобно.
— Это ты так ждешь? — с иронией осведомился он. — Участвуя в заговорах, убивая людей и устраивая разгром великих армий?
Тиуториг равнодушно пожал плечами.
— А что? Назовем это активным ожиданием. Это… забавно. Нет?
* * *
— Это наш единственный шанс, — говорит Нумоний Вала. Словно разговаривает сам с собой.
— Командир?
— Неважно, декурион. Прикажите людям построиться. Подождите… Вы верите мне?
Декурион моргает. У него выжженные солнцем ресницы и серое от усталости лицо. Но в глазах есть главное…
Надежда.
— Да, легат. Мы вам верим. Вы — настоящий.
«Я не спасу всех. Но спасу лучших».
Я уведу конницу в Ализон, думает Нумоний.
* * *
— Что он делает? Что происходит? — Вар смотрит, как всадники продолжают удаляться. Их почти не видно. — Кого они преследуют?
Конная лава римлян исчезает из виду. Они скачут напрямую через редкий здесь лес.
Вар не может поверить глазам.
Долгое время они стоят и смотрят им вслед. Далекий топот копыт скоро уже будет не слышен.
— Эквиты, где они? Почему их нет?!
Вокруг — серая грязь, перемешанная тысячами ног. Картина разгрома. Легионеры — словно дети, оставшиеся без присмотра.
— Он нас бросил! Оставил умирать! Будь ты проклят, Нумоний!
Легионеры Восемнадцатого кричат и плачут. Другие просто угрюмо молчат. Один солдат садится на землю, и его не могут заставить подняться. Центурионы пытаются навести порядок, палки из виноградной лозы гуляют по спинам — тщетно.
Восемнадцатый Верный, он же Восемнадцатый Галльский перестал существовать как легион.
Потому что солдаты видели, как их командир, их любимый легат и отличный воин, бросил своих «мулов».
— Конница ушла, пропретор, — говорит трибун. Голос безжизненный.
Вар крутит головой. Это какая‑то ошибка… недопонимание. Сейчас все разъяснится…
— Они сейчас развернутся… перестроятся…, не знаю, сделают какую‑то штуку, какую обычно делает конница… и вернутся? Правда?!
Лицо трибуна напоминает погребальную восковую маску.
— Сомневаюсь.
Глава 15. Лагерь обреченных
Тит Волтумий, 43 года, старший центурион Семнадцатого легиона
— Вперед, обезьяны, или вы хотите жить вечно?!
Мы умираем здесь, посреди германских болот и лесов. Среди варваров. Лучшие легионы Рима — дайте нам море, мы покажем, как умеет драться морская пехота! — но сейчас нам приходится идти туда, где ноги вязнут в мокром песке, доспехи мешают, где германские дротики летят с небес каждую минуту…
Где чертовы командиры не способны ни на что, кроме барахтанья в грязи, как свиньи.
Где варвары — торжествуют.
Я не сдаюсь. Встать, командую я. Поднять оружие! Я, Тит Волтумий, старший центурион, первый манипул второй когорты Семнадцатого легиона… первая германская кампания, вторая германская, имею награды. Встать!
Я говорю: вперед, зелень! Подтянись, милит! Двигай жопой, арматура!
Я кричу: четче шаг, сукины дети.
А когда снимаю шлем, чувствую пальцами влагу на подкладке.
* * *
Гаю Деметрию Целесту от Квинта Деметрия Целеста.
Радуйся, брат!
Дорогой брат, надеюсь, ты скоро получишь это письмо.
После похорон Луция, в глубокой печали, я вернулся в Равенну, где, как ты знаешь, находится стоянка нашего флота. Дел у меня по горло. По приказу Божественного Августа, да продлят боги его дни, я принял под командование либурну «Харон». Оцени название. И гонясь на ней за пиратами.
Это весело.
Ты знал, что пираты неистребимы? Хуже того — они неуловимы. Когда пират сходит на берег, он уже неотличим от местных. А любой местный, ступив на палубу пиратского корабля, сразу начинает выглядеть, как пират. Так что мой успех в борьбе с пиратством пока довольно сомнителен.
И еще, чуть не забыл: из‑за моего роста — я выше их всех наголову — матросы прозвали меня Гумилий, то есть Короткий. Меня это скорее забавляет. Матросы народ не слишком образованный, но меткий в словах и наблюдательный, они замечают все. Ни один дурак или подлец не сможет скрыться от их глаза. Как я уже упоминал, меня они прозвали Коротким. Как ты думаешь, не оставить ли мне это прозвище как часть имени? А, брат?
Квинт Деметрий Целест Гумилий — звучит!
Впрочем, что все это шутки. Как ты там, в дикой Германии? Есть ли там прекрасные женщины, ради которых стоило ехать в эту глушь?
Или ты, как обычно, обходишься «волчицами»?
С приветом,
Квинт
ПРОВЕРЕНО СЛУЖБОЙ СПЕКУЛАТОРОВ Б. АВГУСТА
* * *
Мы все — лишь те, кто встречает рассвет под проливным дождем. Нет больше страха, суеты, исчезли сомнения, и уже не пью. Любовь больше не жжет меня изнутри. Я хочу жить — развлекаться и делать глупости. Теперь я понимаю Квинта — оболтуса, моего младшего брата.
Я вспоминаю письмо и улыбаюсь.
Гумилий? Выдумает тоже, верзила.
Смешно.
У Восемнадцатого Галльского легиона остался цел орел, но нет командира, моральных дух его «мулов» чудовищно низок. Солдаты Восемнадцатого чаще других идут сдаваться гемам — и делают это целыми контуберниями. Мы не всегда успеваем их остановить. А если успеваем, толку от них, как от солдат, немного. Увы. Предательство Нумония Валы, в которого они верили и которым гордились, уничтожило легион надежней, чем череда поражений.
У Девятнадцатого Счастливого нет ни орла, ни командира. Его солдаты влиты в ряды двух оставшихся легионов (в основном, конечно, в Семнадцатый). И только мой Семнадцатый Морской сохраняет некое подобие порядка. И будет сохранять…
Пока есть я, Гай Деметрий Целест, последний легат, стоящий под золотой птицей.
Пока я улыбаюсь.
Льет дождь. Мы медленно продвигаемся вперед — к Ализону. Раскисшая грязь чавкает под калигами и сапогами, застревает между пальцев ног…
Теперь на стороне гемов еще и погода.
* * *
Бертхильда, германка, дева — воительница, 23 года
— Чужие боги, — говорит старая Альбруна. — Они пришли, чтобы погрузить наш мир в лед и холод. Навсегда.
Когда наступит время, они поднимут мертвецов. Заморозят всю воду в мире. Тогда, чтобы человеку напиться, придется грызть ее зубами и растапливать осколки в израненном рту. И у всей воды будет привкус крови…
Ваны. Вот как их зовут, чужих богов. Когда‑то давно, на западе отсюда, была их земля. Огромная земля, окруженная океаном. Но однажды асы сделали так, что океан поглотил эту землю.
Теперь ванам нужен Ледяной Волк. Потомок чудовищ и богов, не мертвый и не живой.
Наполовину ван, наполовину ас.
Волк превратит всю землю в ледяной мир Ванов.
Сейчас с юга пришли люди огня. Римляне. Они служат Локи — тому, кто принес пламя из подземного мира. Люди огня называют его Титаном или Прометеем.
Слышишь, Берта?
Берта слышит.
На самом деле ее полное имя Бертхильда: от берт — медведь и хильда — битва. Еще в детстве, маленькая, розовая и пухлая, она была очень сильной. Чудовищно сильной. Как маленький медвежонок. Дочь хунно, мать умерла при родах. Однажды Берта схватила ручкой грудь кормилицы и сжала. И не отпускала, пока на крик несчастной кормилицы не сбежались люди и не примчался сам хунно — сотник, глава нескольких деревень. С трудом взрослые мужчины смог разжать хватку семимесячной девочки.
Грудь у кормилицы посинела. Затем почернела, пошли пятна, началось заражение и горячка.
Кормилица умерла через несколько дней в страшных мучениях.
«Ты сжимала ее грудь и звонко смеялась, — сказал хунно, когда Бертхильде исполнилось семнадцать лет. — „Никогда не забуду твое лицо в этот миг“.
Кажется, он так и не научился видеть в ней свою дочь.
Он видел только маленькое чудовище, сжимающее грудь красивой молодой женщины.
— Такая сила не бывает человеческой, — решили старейшины. — Девочка посвящена богам.
И маленькую Бертхильду отдали старухам, в священную рощу.
Теперь она воин. В отличие от других девушек, отданных в обучение к великим матерям, ее не учили гадать, ее учили сражаться. И убивать.
— Римляне думают, что мы их убиваем, — говорит вредная старуха. — О, нет. Мы их не просто убиваем. Мы приносим их в жертву.
Старуха щурится. Корявые пальцы с распухшими суставами берутся за жертвенный нож, сжимают рукоять. Старая Альбруна очень сильна, несмотря на внешнюю дряхлость. Иначе как бы она могла приносить жертвы?
Жертвы, думает Бертхильда. Она смотрит, как старуха перебирает круглые плашки с рунами, ссыпает их в кожаный мешок. Затем Альбруна снова начинает возиться с ножом — лезвие из черного стекла, обсидиана, отсвечивает в тусклом свете. Кажется, на ноже навсегда застыла кровь, а внутри переливающихся черных граней живут души мертвых.
Руны всегда дают ответ, но его нужно проверить гаданием по птицам. Другое надежное гадание — с помощью коней.
Ослепительно белые кони, живущие в священных рощах. Их запрягают в колесницу и объезжают на ней вокруг рощи. Фырканье коней и будет ответом. Его только нужно уметь растолковать…
Но можно гадать и на внутренностях пленных врагов. Это надежнее всего. Бертхильда пожимает плечами. Особенно, когда врагов так много, как римлян.
— Асы когда‑то завоевали и сделали своим мир Ванов, — говорит старуха. — Теперь он называется Асгард или Верхний мир. Мы же живем в Миддгарде — Среднем мире.
Бертхильда терпеливо кивает. Это знают даже дети.
— Ваны проиграли в прошлый раз. — старуха не умолкает. — И Ваны хотят обратно свой ледяной мир. Они снова хотят дышать льдом и туманом. Они мечтают превратить наш мир в свой замерзший Вангард.
Бертхильда смотрит на старуху сверху вниз. Она высокого роста, крепкая, с длинными белыми косами.
Как у любого воина, ее лицо в шрамах. Их даже слишком много — для молодой женщины, которой бы давно пора замуж.
Но — нет. Она умрет девственницей. И умрет — в бою. Так предназначили боги.
Тиуториг, думает Бертхильда невольно.
Глядя на него, ей хочется плакать.
Про него говорят, что он сам отрубил себе руку. Теперь она служит ему, как собака. Бегает по ночам и приносит добычу.
А еще ночью эта рука подползает и душит его врагов.
Поэтому никто из германцев не рискует связываться с Тиуторигом.
Однорукий воин, обладающим даром впадать в священное воинское безумие. И еще он — колдун.
Потому что от одного его взгляда у Берты тянет внизу живота и слабеют колени.
— …но, боюсь, — говорит старуха, — пытаясь отсрочить явление Ледяного Волка, мы незаметно для себя начали его подкармливать.
Волк уже вырос, Берта.
Он огромен, и злобен, и вонюч.
И он воет, Берта. Слышишь?
Берта кивает. Хотя и не слышит.
— Мне нужно идти, Великая мать.
Альбруна поднимает голову, смотрит на нее с хитрецой.
— Что, опять к своему Сияющему?
Берта чувствует приступ раздражения.
Тиу — это имя бога сияющего неба. А „ториг“ означает, что этот человек из дружины Тора, бога с молотом. Бог яркого неба из людей Тора.
— Мы воюем с римлянами, — говорит Бертхильда.
— О, я не забыла, девочка.
* * *
Сотни разноцветных круглых щитов. Правильный строй.
Похоже, в этот раз гемы решили дать нам серьезное сражение. Это то, чего мы добивались от них долгие два дня.
Очень вовремя. Когда от нас осталось полтора легиона, измученных долгим маршем, непогодой и постоянными стычками, и совсем нет конницы.
Тит Волтумий стоит рядом со мной.
— Кто это? — говорю я.
— Хатты. Отличная пехота. Из германцев, пожалуй, что и лучшая. Видите первый ряд, легат?
Я прищуриваюсь.
— Вижу. А что это у них у всех блестит? Цепи?
Центурион кивает.
— Железные цепи, верно. Знак позора, который превратился в знак доблести. Самые храбрые юноши хаттов надевают на себя железную цепь — знак пленника, раба — и носят ее, пока не убьют первого врага. Но самые отчаянные продолжают носить такую цепь до старости. Цепеносцы всегда стоят в первом ряду фаланги хаттов. Это лучшие и самые опасные воины. Их храбрость беспредельна. Я не шучу, легат. Вообще, пехота у хаттов отличная, а первый ряд — самый страшный и умелый в сражении.
— А всадники? — я показываю на отряд, выезжающий из‑под прикрытия рощицы. Их человек двести.
Тит Волтумий приглядывается. Чешет затылок.
— Это, видимо, тенктеры. Их конница — лучшее, что может выставить Германия. Хотя кони у них неважные, говорят. Наши испанские гораздо лучше.
Испанские кони — у когорт Арминия. Мы сами их ему дали.
Я сжимаю зубы.
— Хавки?
— Хавков тут нет.
Верно. Сегест, царь хавков — союзник Рима.
— А вон тот отряд, дальше к лесу, это кто?
— Херуски. Это народ Арминия.
— Говорят, царь гемов должен сражаться в первых рядах?
Тит прищуривается. Затем смотрит на меня внимательно.
— Говорят.
* * *
Мы сталкиваемся. Грохот от столкновения слышно на пол Германии.
— Они размолотили вторую когорту в прах, легат!
— Легат, они смяли наше левое крыло!
— Легат, они повсюду, легат!
— Легат! Быстрее! Прикажите…
— Легат! Они прорвали фронт шестой центурии!
Вести теснятся, толкают друг друга локтями, раскровавливают носы и дергают меня за полу военной туники.
Кажется, пора.
— Эггин? — говорю я. Префект лагеря хмуро смотрит на меня.
— Я справлюсь. Идите.
Легат! Легат! Легат! — летит по рядам.
Там, где иду я, мулы подтягиваются и сражаются так, что хваленая хаттская пехота гнется и отступает. Мы медленно продавливаем строй варваров.
Как оказывается, многого стоит личное участие!
Все то, чему меня учили изрубленные, уродливые, но живые и заслужившие свободу старые гладиаторы, вдруг пригодилось.
Я живу.
Я убиваю.
„Идущие на смерть приветствуют тебя, Цезарь!“
Германец взмахивает фрамеей. Поздно.
Я выдергиваю гладий из его тела. Иду дальше.
* * *
Однорукий.
Мы оказываемся напротив, лицом к лицу.
И некоторое время с удивлением разглядываем друг друга.
Какие у него удивительно неживые глаза. Ярко — голубые, словно выложенные кусочками цветной мозаики.
— Эй, римлянин, — говорит однорукий гем. — Ты ничего не забыл?
— Это мой меч, — говорю я.
Гем усмехается.
— Логично. А это — мой.
Мы идем навстречу друг другу. Я вижу окровавленную спату в его левой, живой руке. И скрюченные, розоватые пальцы другой руки — мертвой.
* * *
Темнота.
— Легат!
ЛЕГАТ. ЛЕГАТ. ЛЕГАТ.
Сотни голосов.
Тысячи тысяч голосов.
* * *
Гонец, пошатываясь, вошел в палатку. Шлем в крови, голова забинтована. С трудом выпрямился…
Отсалютовал.
— Семнадцатый, пропретор!
Вар похолодел.
— Что Семнадцатый?
Гонец покачнулся, но устоял. Помедлил.
Вар не выдержал:
— Что там?! Говори, как есть!
— Гай Деметрий Целест убит, — доложил всадник. — Орел Семнадцатого легиона захвачен варварами. Гемы побеждают, пропретор.
Квинтилий Вар бледен, как тень недавно умершего. Словно его лицо — открытая рана, откуда вытекла вся кровь.
— Мы погибли, — сказал пропретор шепотом. — Теперь все. Все кончено.
Один к одному, думает Вар. Неудача за неудачей. Боги отвернулись от нас.
Нумоний предал нас, бросил на растерзание. Почему он так сделал? Почему?! Может, он еще вернется? Он же храбрейший воин! Может, это всего лишь маневр, чтобы усыпить бдительность германцев и нанести им неожиданный удар?
Гай Деметрий Целест убит. Мальчишка посмеялся над его решением броситься на меч — и где он теперь? Погиб.
Квинтилий Вар закусывает губу. Желудок ноет нестерпимо. Рана в бедре пульсирует, словно в ней все еще осталось железное острие германской фрамеи…
Гемы — побеждают.
То, что казалось просто небольшим возмущением варварского царька, крохотным ручейком, теперь напоминает бурный грязевой поток, что сметает на своем пути все.
Все.
* * *
Темнота шевелится, дышит красным, черным. Резкий запах паленого. На меня падает горящая доска — я вижу язычки пламени вокруг обуглившихся краев. Я отдергиваю голову. И просыпаюсь.
— Убит?
— Да не знаю я.
Голоса.
Я открываю глаза. Это не так сложно, как я думал.
— Легат! Вы живы?
— Кажется… да.
Голос словно чужой.
Я сажусь, вытираю рукой со лба пот. Ладонь становится мокрой и красной. Зато хоть что‑то вижу. В брови щекочет.
Подходит Тит Волтумий, смотрит на меня с прищуром. Глаза его расширяются. Затем он ругается — грязно и длинно, разными словами. Я жду, пока центурион закончит.
— Медика сюда! — кричит Тит. — Быстро! И пусть возьмет клещи!
Клещи? Зачем? Я улыбаюсь центуриону — все в порядке, Тит. Я уже в норме. Только голова немного болит… но это ерунда. Кажется, только волосы защемило.
Я моргаю. Это почему‑то больно делать. Едва не теряю сознания.
— От шлема что‑нибудь осталось? — говорю я.
Тит оглядывает меня, не меняясь в лице.
— Нет.
Подбегает хирург с помощниками. Меня дергают, наклоняют, тормошат — так, что я пару раз снова проваливаюсь в темноту. Наконец, с меня стаскивают это — словно отдирают половину черепа.
От моего легатского шлема с высоким гребнем осталось нечто смятое, перекошенное и окровавленное. А этот однорукий очень крут. Очень. Как он меня… одной левой.
— Мне нужен другой шлем, — говорю я. В правом ухе звенит все сильнее.
Центурион молчит.
— Тит, мне нужен шлем.
— Да, легат. Как прикажете, легат.
Центурион оборачивается и кивком головы показывает Виктору — займись. Легионер медлит, глядя на меня.
— Иди, — говорит Тит Волтумий. — Слышишь?
— Понял, цен.
Некоторое время я наблюдаю, как Виктор задумчиво бродит среди трупов. Затем он приседает на корточки, протягивает руку… что‑то там ворошит.
Тит не выдерживает и орет:
— Виктор, ради всех богов, дай ему шлем!
Легионер задумчиво:
— В этом чья‑то голова…
* * *
В палатке Вара — уныние и мрак.
— Центурион, я прошу: одолжите мне ваш меч.
„Одолжите“. Какое мерзкое слово, подумал Вар. Вот так неудачно выберешь слово и…
Какая уже разница?
Центурион посмотрел на пропретора с усмешкой, которую даже не пытался скрыть.
Все равно неловко, подумал Вар.
— Центурион?
Тот вынул гладий из ножен и протянул пропретору.
В первый момент Вар едва не выронил его. Тяжелый. Удивительно, как такая небольшая вещь может быть такой тяжелой.
Странно.
Она не выглядит убийственной. Она выглядит… уютной, что ли.
Вар усмехнулся. Деревянная рукоять, темно — коричневая от долгого использования.
— Как с ним нужно… — пропретор не договорил. Центурион взял гладий из его руки, небрежно показал, куда нужно упирать и как падать на меч. Вот так, грудиной на острие.
И вложил гладий в ладонь Вара.
— Это просто, — сказал центурион. У Вара от звука его голоса едва не пропала решимость. Все это превращается в какой‑то фарс, подумал Вар. Нужно поскорее заканчивать.
Он протянул меч центуриону. В горле застыл ком, Вар сглотнул. На языке ощущался проклятый привкус шиповника.
— Я прошу: помогите мне.
Центурион помедлил. Кивнул.
„Как хочется вина“, подумал Вар. Напоследок. Хотя бы глоток…
— Подождите… Вино, — он обернулся к трибунам. — У кого‑нибудь есть вино?
Короткий переполох.
— Нет, пропретор. Простите, вина нет совсем.
Обоз утрачен. Легионы утрачены. Все утрачено. Вар поджал губы. И даже вина теперь нет.
Центурион вышел на короткое время и сразу же вернулся. Вручил пропретору солдатскую кожаную фляжку.
— Что это?
— Попробуйте.
Вар сначала даже не смог выдернуть пробку. Ему помогли. Из горлышка — резкий запах.
— Что это? — повторил Вар. От странного, кислого до сведения скул, напитка ударило в голову. Все вокруг слегка закружилось. И стало не так страшно. И даже — Вар удивленно поднял брови — почти весело.
— Поска, — объяснил центурион. — Солдатское пойло. Четверть светлого вина на три четверти воды — и шагай до заката. Вам еще повезло, пропретор, вместо вина там мог быть уксус. Ну что… начинаем?
Вар в последний раз оглядел палатку, трибунов и слуг. Допил поску — до капли. Выпрямился. Странно, даже желудок не болит, подумал он. Хотя от такой бурды должен болеть обязательно…
Центурион ждал. Тусклый блеск солдатского клинка в его руке.
— Начнем, пожалуй, — сказал Вар спокойно. — Я… я готов.
* * *
Я иду медленно, чтобы лишний раз не взбалтывать то, что у меня уже взболтано под черепной костью. Голова болит так, что меня подташнивает. Но шагаю твердо. Расступитесь! Легат Семнадцатого идет. Тит пытается помочь, подставить руку… Я с раздражением выдергиваю локоть.
Перед палаткой Вара я выпрямляюсь. Навстречу мне выходит центурион. Я не помню, как его зовут, он, вроде бы, из Восемнадцатого… или я путаю.
Центурион салютует.
— Легат? — кажется, он удивлен. Что‑то в нем не так.
Я говорю:
— Центурион? В чем дело?
— Вам лучше поспешить, легат. Хотя… — он медлит. И от этой заминки мое сердце переходит на ускоренный бег.
— Что? Что случилось?!
Он качает головой.
— Думаю, все равно уже поздно.
И я внезапно понимаю, что он забрызган кровью — с головы до ног.
* * *
Я расталкиваю людей, стоящих у входа в палатку Вара.
— Наведите порядок, — приказываю охране. Тит Волтумий кивает. „Будет сделано“. Теперь вместо преторианцев, которых я, как всадников, отдал Нумонию, у меня охрана из простых солдат моего легиона. Как была у моего брата в день смерти.
Смешно.
— Пропретор!
Я вхожу в палатку. Я останавливаюсь.
Я — опоздал.
Некоторое время продолжаю смотреть, затем поворачиваюсь на пятках и выхожу прочь.
Перед глазами все еще маячит растерянное лицо Вара, с кровью, запекшейся в ноздрях.
Трус и слабак. Сбежал.
Кажется, мне все еще мерещится жуткий запах шиповника, витающий над всем этим побоищем. Интересно, болел ли у Вара желудок в последние мгновения перед смертью?
Надеюсь, что нет.
— Выставить стражу у входа, — приказываю я хрипло. — Никого не впускать, никого не вы…
Я вспоминаю бездыханные тела. Два трибуна, префект лагеря Девятнадцатого легиона и четыре центуриона — мертвы. Вряд ли кто‑то из них захочет на свежий воздух.
— Никого не впускать, — говорю Титу. — Все.
* * *
Самоубийство — это как чума. Стоило легионерам узнать о гибели Вара, как еще несколько центурионов Восемнадцатого Верного падают на свои мечи. Потом тоже делают два десятка легионеров. Затем еще несколько. И еще.
— Эггин? — говорю я.
Префект лагеря Семнадцатого легиона хмуро поворачивает ко мне багровое лицо:
— Не дождетесь.
Падающий на трупы снег. Огромные хлопья падают — тяжелые, мокрые… падают на моих солдат.
Я моргаю. Снег исчезает. Почудилось?
Мой Семнадцатый легион в тяжелом состоянии. Потерял половину состава минимум. Когда я упал от удара однорукого, мы едва не утратили даже нашего орла… а Восемнадцатый легион — утратил. Именно его орла вестник принял за орла Морского Победоносного. И донес пропретору.
Квинтилий Вар мертв. Самоубийство.
Нумоний Вала предал легионы и бежал со всей конницей.
Гортензий Мамурра, легат Девятнадцатого, убит в бою. Мне рассказал об этом один из уцелевших центурионов Счастливого легиона. Мамурра возглавил атаку, пытаясь пробиться к обозу и любой ценой спасти женщин и детей.
Герой?
Как ни странно.
Изнеженный городской хлыщ в отличие от Вара выполнил свой долг до конца.
Он умер в бою. Сделав все, что мог — и даже больше.
Кстати… Я потираю лоб.
Теперь я командую римской армией в провинции Великая Германия.
Я один.
Какое нелепое и страшное повышение.
— Какие будут приказания, легат?
Я оглядываюсь. Какие еще приказания? О чем вы? Все кончено…
— Легат!
Я поднимаю голову и вижу Тита Волтумия. Центурион смотрит на меня в упор. В глазах — плавятся мед и золото.
— Тит, что ты…
— Какие будут приказания, легат? — настаивает он. „Ну же, легат!“
„Ты слишком импульсивный, Гай“.
Я усмехаюсь.
— Снимаем лагерь, — приказываю я. — Идем до заката и строим новый. А завтра вырвемся из окружения и поубиваем всех гемов. Ты это хотел услышать, центурион?!
Тит Волтумий медленно кивает.
— Именно это, легат. Разрешите выполнять?
— Выполняйте.
* * *
Холод. Меня трясет так, что зуб на зуб не попадает. Пар дыхания вырывается, рассеивается в воздухе облаком. Когда я пытаюсь подняться, ноги подкашиваются. Словно на моих плечах — груз свинца.
Пламя. Огонь.
Вот что нам нужно.
Где вы там, боги?! Слышите нас?!
Легионы просят огня.
И тут я вспоминаю… Не главное, но — важное.
— Сложить костер, — приказываю я. Центурион кивает. — Соберите все, что может гореть. Все.
И что не придется отжимать. Дождь идет и идет, превращая наш лагерь в садок для угрей.
— Тела пропретора и… остальных, не должны достаться варварам.
Центурион кивает.
Я наклоняюсь к нему. Его небритая щека оказывается совсем рядом.
— Когда костер догорит, соберите все, что останется, и закопайте. Лично.
Центурион вздрагивает, отшатывается и расширившимися глазами смотрит на меня.
— Да, центурион, да. Вы сделаете это. Тайно закопайте, чтобы указать место захоронения могло как можно меньше человек. Вы лично этим займетесь. И ответите передо мной. Действуйте.
Когда он уходит, я пытаюсь почувствовать хоть что‑то, кроме усталости. Бесполезно.
Публий Квинтилий Вар, пропретор Великой Германии.
Трус, говорю я сквозь зубы, чтобы разозлиться. Трус и подлец!
Не получается. Он всего лишь оказался не на своем месте.
Доверенный человек Августа, его родственник, военачальник, усмиритель Иудеи…
Сбежал. Оставив легионы умирать здесь, посреди проклятой Германии…
Возможно, к рассвету мы уже будем мертвы.
Какая приятная перспектива.
— Легат!
Передо мной стоит человек с непокрытой головой. Изможденное лицо. Седые волосы развеваются, как у безумца.
— Легат! Это архив легиона. Канцелярия и все важные бумаги. Их нужно обязательно спасти. Обязательно!
Я смотрю на него, не понимая, что он от меня хочет. Потом, наконец, понимаю:
— В огонь все! Пускай Вар летит в Эреб на долговых расписках.
— Но легат!
Прости, старик.
Вар. „Сукин сын“. Будь ты проклят. Сбежал, оставив легионы умирать в одиночестве.
Самое время.
Странно, никогда не думал, что Вару достанет храбрости броситься на меч.
Иногда такая запоздалая храбрость — хуже предательства.
Когда пламя взвивается над неудачливым правителем Великой Германии, с треском разбрасывая искры и облизывая оранжевым языком темноту, я чувствую только одно…
Тепло. Блаженное, желанное, долгожданное тепло.
Мулы идут ближе к костру, выставляют руки, чтобы согреть ладони. Лица в багрово — красных отсветах.
Есть ли надежда для легионов?
Надежда — это сон наяву, говорил Аристотель. Что ж… дайте нам хоть немного поспать.
* * *
— Легат, спать нельзя. Легат!
До чего противный голос. Я вздергиваю голову — жуткая невероятная усталость клонит ее обратно.
Но спать нельзя.
Не… спать. Не… льзя.
Я проваливаюсь в черноту, падаю, падаю… И тут меня безжалостно выдергивают наверх.
Сердце замирает.
— Легат! Вставай, твою мать! — голос знакомый.
— Тит?
В первый момент я думаю, что они все — мертвы. Что я остался один.
Вместо рядов легионеров — поле, усеянное телами. Люди лежат вповалку, пар дыхания почти не виден, словно поле окутано прозрачным туманом. А некоторые уже и не дышат, может быть. Не знаю. Я уже ничего не знаю.
Мы шли до упора.
Мы убивали. Нас убивали.
А это — привал.
Темнеет. Хмурые тучи над Германией и не думают расходиться. Дождь зарядил надолго. Проклятый мелкий дождь оседает на железе, на грубой шерсти плащей, на небритых серых лицах. Если так и останется, ночью нас перережут всех до одного.
* * *
— Строить лагерь. Колья вбивать! Слышите?!
Они молча сидят. Никто не шевелится.
Я беру лопату и втыкаю в землю. Тяну на себя.
От усталости сводит пальцы. Туман в голове. Сквозь этот туман проскальзывают редкие звуки — словно незваные гости.
Ничего не хочу.
Просто лечь и уснуть.
Ноги не держат. Я заваливаюсь, падаю на колени — в грязь. Лопата стоит рядом, воткнутая до половины лезвия.
Что, легат?! Тяжко?
Встать, легат. Встать.
„Время империи заканчивается, когда граждане вместо того, чтобы…“
Встать!
„…умирать за нее лично“, — слышу я негромкий голос Луция.
„…нанимают для этого варваров“.
Встать!!
Меня шатает, и весь мир кружится вокруг меня. Сворачивается в клубок вокруг моей головы.
Глаза закрываются. Одно веко опережает другое.
ВСТАТЬ, ГАЙ.
…варваров. Варваров. Вар…
Холод.
Я мотаю головой. Лоскутья тумана застряли в моей голове, словно осколки стекла. Держаться.
— Ты… вставай, — говорю я „мулу“. Он поднимает голову и смотрит на меня стеклянным равнодушным взглядом. Затем снова опускает голову.
— Ах, так!
От вспышки ярости я почти просыпаюсь.
Иду на непослушных столбах вместо ног, передвигаю их силком, рывками… нахожу и нагибаюсь, чтобы поднять.
Падаю в грязь. Рычу от ярости. Встать, встать, встать.
Встать, легат!
Ряды легионеров — моих „мулов“ — сидят, серые и безучастные. Идет дождь. Я вижу, как капли разбиваются на помятом железе шлема сидящего рядом легионера.
В грязи лежит деревянный кол для частокола.
Я снова делаю попытку. И только усилием воли могу сомкнуть ледяные пальцы вокруг колышка.
Вверх. Еще чуть — чуть… не торопится.
Есть.
— Не так, — говорит чей‑то голос. У меня из руки вынимают кол и упирают в землю. Затем следует удар деревянным молотком. Раз! Раз! Раз! И колышек вбит.
— Теперь я, — мои губы едва шевелятся.
Я строю лагерь.
Мы строим.
* * *
Закат алеет над черным лесом.
Мы строим полевой лагерь. Под градом камней, дождем и наскоками гемов.
Гемы атакуют постоянно — словно с цепи сорвались. Волна следует за волной. Порой солдаты не успевают схватить мечи. Отбиваются мотыгами и лопатами, кольями и камнями, затем — продолжают копать. Вокруг лежат трупы римлян и гемов.
Темнеет. Скоро я перестану видеть даже свои руки — на расстоянии фута уже не разглядеть ничего.
Этот лагерь — последнее, что мы смогли построить. Каждый фут рва, каждый кол в частоколе полит нашей кровью. Кровью Рима.
Я — не Вар.
Я сражаюсь.
* * *
— Римляне заперлись в своем лагере. Утром мы возьмем его штурмом, — Арминий лаконичен.
— Что делать мне?
— Ничего. Ты мне здесь больше не нужен. Я отправляю тебя в Ализон. Скажи фокуснику, что… впрочем, ты сам знаешь.
— Ты спрашивал, зачем мне это? — Тиуториг понюхал вино, но отодвинул чашу в сторону. Как обычно. Он никогда не пьет. — Хорошо, я отвечу. Но сначала — почему тебе нужно знать, чего я хочу?
— Мотивы — это важно.
— Почему мотивы важнее человека?
— Ну… — Арминий улыбнулся. — Считается, если знать, чего человек хочет, то можно понять, что он в итоге сделает. Я хочу знать.
Тиуториг усмехнулся в ответ. Жесткие голубые глаза смотрели равнодушно. Арминию стало не по себе. Этот однорукий пугает. С ним наедине все время — как в клетке с диким зверем.
— Человек — это очень неординарная тварь, — сказал Тиуториг. — Часто он желает совсем не того, к чему стремится. Мы порой делаем зло, причиняем боль… и сами не понимаем, почему. Я думаю: ярость всегда обитает где‑то внутри нас, в самой глубине души.
— Поэтому ты ненавидишь римлян?
Тиуториг поднял брови.
— Ненавижу?
— Но…
— Я их просто убиваю. Без ненависти. Ты удивлен?
— Пожалуй.
Тиуториг усмехнулся.
— Ты не очень любишь людей, верно? — мягко спросил Арминий.
Однорукий пожал плечами.
— Это моя природа, — как если бы сказал: птицы летают. — Там, откуда я родом, нас учили видеть в людях хорошее. Учили быть смелыми, и честными, и верными слову. Учили, что есть на свете настоящая правда и настоящая справедливость. Забавно, правда? Если прошлое можно вывернуть наизнанку, как старый мешок, то в чем смысл самого понятия „прошлое“? Раньше я считал, что прошлое — это то, что уже прошло. И не может быть изменено. Основное качество моего прошлого — неизменность и постоянство. Но его больше нет. Неизменности — нет. Постоянство — вы смеетесь?!
Век вывихнул сустав…
И я рожден, чтобы исправить вывих этот.
Но вместо этого я вывихнул свои мозги. Прошлое исчезло. Совсем.
Чтобы управлять чьим‑то будущим, нужно уничтожить его прошлое…
Какой‑то Оруэлл просто.
— Оруэлл? — переспросил Арминий. Но знал, что пояснений не дождется. Странного все же помощника выбрал для него Пасселаим.
Тиуториг схватил чашу с вином и выпил, не отрываясь. Кадык дернулся вверх — вниз.
Пот выступил на шее. Тиуториг допил.
Перевернул чашу, встряхнул — ни капли.
С грохотом стукнул ей по столу. Чаша отскочила. Упала со стола и со звоном откатилась куда‑то под лавку.
Тиуториг выпрямился. Глаза горели.
Человек в серебряной маске словно услышал отчетливый щелчок. Миг — и лицо однорукого изменилось.
— Я все сделаю. Кстати… — он остановился на пороге, повернул голову. — Я не убил его. Как ты и просил.
Когда Тиуториг ушел, Арминий, он же человек в серебряной маске, покачал головой.
Какой интересный человек, этот однорукий. Необычный.
И… и…
И все‑таки жаль, что в этот раз яда в вине не было.
Глава 16. Атака Быка
— Легат, вы должны это видеть.
— Что такое, Тит? — я замолкаю. Оглядываюсь. Мда.
Раннее утро, солнце еще не взошло. На валах и кривом частоколе лагеря сидят серо — коричневые нахохлившиеся птички.
Молча.
Неподвижно.
Их тысячи. Центурион присвистывает. Воробьи равнодушно смотрят на центуриона.
От болот, обтекая островки деревьев, тянется белесый туман. Наплывает волнами, клубится…
— Не нравится мне это, — голос Тита Волтумия хриплый и надсаженный. — Что они делают?
Вчера центурион орал команды так, что птицы на лету глохли и падали на землю. Сегодня он говорит чуть тише обычного. И чуть более хрипло.
— Ждут.
— Чего? Они же не вороны…
Я качаю головой. От усталости и недосыпа перед глазами — марево. А, может быть, от вчерашнего удара по голове.
Вороны? Было бы смешно, если бы у меня оказалась фигурка Ворона. Они известные любители трупов…
— Верно. Воробьи — не падальщики. Воробьи — проводники душ.
Тит Волтумий оглядывает птичье воинство и говорит:
— Много же их.
— Это точно.
От болот доносится запах застоявшейся воды и мха. И крови. Я слышу торопливые шаги.
— Легионер Виктор! — докладывает "мул".
Я мгновенно поворачиваюсь.
— Что Виктор? Где он?
— Гемы его утащили, легат.
— Что — о?! Куда?!
…Сигнал единственной уцелевшей буцины разносится над лагерем. Общее построение.
Я оглядываю легионеров. Посеревшие, небритые, осунувшиеся лица.
— Приготовиться к вылазке, — говорю я. — Я возьму вторую когорту.
Вторая — это когорта Тита Волтумия. Вернее, то, что от нее осталось. Человек триста.
— Разумно ли это… — начинает Эггин, но я обрываю:
— Нет.
* * *
Два с половиной месяца назад. Рим, форум.
— Ваш брат… — говорит посланец.
Я поворачиваюсь.
— Что он опять натворил?
Раб молчит, лицо странное. Ну же, что ты молчишь?
В глазах раба я читаю ответ за миг до того, как его губы раскрываются и произносят:
— Он умер.
Вокруг меня кружится и танцует пыль. Со всех сторон нависает громада прокаленного солнцем города. Полдень. Рим. Июльские иды. От мраморных колонн идет легкий вежливый холодок.
Да уж… хуже он ничего придумать не мог.
— Как это случилось?
— Его убили.
Я молчу.
Вечно с братом какие‑то неприятности. Похоже, предсказание старухи — сарматки все‑таки сбылось.
— Квинт, как он… погиб?
— Это не Квинт.
Мгновение я не могу сообразить.
— Тогда кто? О, чрево Юноны! Луций?!
Никогда не думал, что со старшим братом может что‑то случиться. Просто в голову не приходило.
— Да.
* * *
Секст Виктор, легионер Семнадцатого Морского, около 30 лет
— Виктор! — кричат откуда‑то издалека "мулы". — ВИКТОР!
Он слышит их словно сквозь плотную завесу. Гемы, думает он. "Как же я так сплоховал?"
Он напрягает память. Боль в голове усиливается, а воспоминания ускользают. Нет, все смутно. Не ухватить.
Старуха, германская жрица, поднимает каменный нож. Виктор разглядывает его со спокойным, холодным интересом.
На грубо сколотом куске обсидиана запеклась кровь. Прилип темный волос.
— Хоть бы нож помыла, дура, — говорит Виктор хрипло. Веревка сдавила горло, она шершавая, жесткая и врезается под кадык. — Совсем, проклятая карга, обленилась.
Старуха оскаливает остатки зубов. Шипит и машет руками перед носом легионера.
— Всего… заплевала. — Виктор с трудом переводит дыхание. — Ну, у тебя… и характер. Муж‑то, небось, сбежал? Бедненькая.
Нож поднимается. Виктор напрягает мышцы — так, что чуть не теряет сознание. Виски вот — вот лопнут. В голове красный туман, веревки натягиваются, скрипят, но не поддаются. Еще, еще. Давай, Секст!
Еще!
— Вперед! — орут "мулы", — Виктор! Виктор! За Виктора!
Спасение близко. Наверное.
А старуха улыбается.
Виктор поворачивает голову и видит "мулов", привязанных к соседним деревьям. У каждого вскрыт живот и перерезана глотка. И все это сделала одна старуха! Виктор хмыкает. Крепкая карга, однако. Что‑то вроде его тещи.
В следующее мгновение каменное лезвие входит легионеру под ребра. Глубже, глубже. Старуха страшно сильна. Виктор задирает голову и хрипло кричит. Боль такая, что он бьет ногами по дереву, к которому привязан, и пытается разорвать веревки.
Бесполезно.
Легионеры вопят. Они все ближе. Шум боя теперь — совсем рядом. Старуха скалит уцелевшие зубы. Красотка, твою мать.
— Как вы меня достали, бабы. Никакого от вас покою, — говорит Виктор. И закрывает глаза. Как я устал…
Как я…
Мир вокруг кружится и плавится черным огнем.
— Виктор! — доносится издалека.
Страшным усилием он открывает глаза. Ведьма что‑то шепчет, водит пальцами.
— Ну, ты и… страшная… — Виктор едва шепчет. Силы оставляют его. — Внучки у тебя… нет хотя бы?
Старуха взмахивает другим ножом — кривым, как ее судьба. Удар.
Брызжет кровь.
* * *
Мы наступаем. Вопя, как бешеные, мы крушим и ломаем германский строй. Не выдержав натиска озверевших "мулов", гемы отступают.
Мы торопимся. Даже отсюда мы видим за спинами гемов дерево с привязанным к нему Виктором. И старуху рядом.
Мы орем:
— Баррраааа! За Виктора! За Рим!
Мы не успеваем. Когда мы добираемся до цели, Виктор уже мертв. Горло перерезано. Он стоит, обвиснув на веревках, голова свесилась на грудь. Из‑под ребра торчит нож, рукоять замотана тряпками.
Легионера Секста Виктора принесли в жертву диким варварским богам.
Будьте вы прокляты, гемы!
Где старуха? Старуха исчезла.
— Виктор, — говорю я негромко. — Проклятье, как же…
Тит стоит рядом со мной. И молчит. Забрызганная кровью лорика, шлем во вмятинах и царапинах, синяя туника разорвана на плече, гладий неровный от постоянной работы. Тит кажется воплощением римского солдата. Гребень на шлеме центуриона срублен ударом меча, осталась только бронзовая шишка.
Я вдруг вспоминаю, что я могу сделать.
Именно я.
И только я.
Подхожу к Виктору. Обвисший на веревках, так, что они врезаются до черноты в руки, он выглядит… странно. Словно легионеру жмут веревки, да и бук выбран не по размеру.
Все будет хорошо…
Даже если — не будет.
Для начала надо извлечь нож.
Я берусь за рукоять. Пальцы скользят. Шнур, которым перемотана рукоять, от грязи почти черный.
Я сжимаю пальцы. Раз, два, три. Давай! Нож выскакивает из раны. Остается у меня в руке.
Кровь темная. Она тонкой струйкой, лениво, стекает по голому торсу Виктора. Несколько мгновений я смотрю на нож, покрытый кровью, затем бросаю его на землю.
— Снимите его.
Веревки обрезают, Виктора кладут на землю. Какой он все‑таки огромный.
— Отойдите все, — говорю я хрипло. Тит Волтумий медлит, внимательно глядя на меня, затем кивками велит "мулам" повиноваться. Мы остаемся наедине — я и мертвый легионер, спасший мне жизнь.
Пьяница и нарушитель дисциплины. Храбрец и громогласный смутьян.
— Что, Виктор, не пригодилась тебе пенсия?
В горле — комок. Я сглатываю. Надеюсь, хоть золотой аурей тебе пригодился, солдат…
Я кладу руку на плечо Виктора. Оно еще теплое. Отнимаю ладонь и нащупываю у себя на шее шнурок. Вытягиваю фигурку…
Я поклялся больше не возвращать мертвых.
Я солгал.
Взять ее с первого раза не удается — пальцы скользкие от крови. Наконец, я зажимаю Воробья в ладони.
Выдыхаю. Надо собраться. Держаться, легат! Держаться. Твой солдат ждет.
Как тихо вокруг. Я слышу шевеление вереска, шорох песка, сдуваемого ветром… потрескивание влажных иголок.
Вернись. Я — приказываю.
Ледяная молния пронзает меня с макушки до пяток и уходит в землю.
От внезапной слабости я едва не теряю сознание, перед глазами мелькают черные точки. Подступает тошнота. У меня внутри все выжжено ледяным огнем.
— Виктор, слышишь меня? — хриплю, словно от горла ничего не осталось.
Тело Виктора дергается… раз, другой. Ну же!
Я почти вижу, как душа возвращается обратно… Воробей взмахивает крыльями… Вспышка, разряд молнии — прямо сквозь мое тело. Волосы на затылке становятся дыбом.
Раньше такого не было. Проклятье! Я моргаю.
Словно с той стороны потянулась рука и в последний момент выдернула душу Виктора у меня из ладони.
На миг я увидел людей в белых одеждах, стоящих у металлических сооружений… в каком‑то храме? Каменный свод, холодный свет. Что‑то вроде египетского символа солнца, только на красной вексилле. Затем все исчезло.
Тишина. Какая здесь тишина.
Мертвый Виктор остается мертвым.
Ничего не вышло. Воробей впервые подвел меня.
Я поднимаюсь на ноги. Меня качает. Словно вокруг — штормовое море.
— Встать, — приказываю я. — Встать, солдат! Слышишь?!
— Легат! — кричит Тит Волтумий. — Надо уходить… Легат!
* * *
Два месяца назад. Рим, Палатинский холм, дом семьи Деметриев.
Вонь разложения смешивается с сильным ароматом роз.
Замотанное в саван тело белеет, плывет в утренней полутьме атриума. Я не хочу его видеть, но я должен… В атриуме слышен гул голосов — это собираются клиенты и друзья дома. Рабы выносят каждому воду и вино. Посетители по очереди подходят и заглядывают в мертвое лицо того, кто был моим братом, что‑то говорят. Прощаются.
Сейчас мне придется с каждым поздороваться, каждого поблагодарить за то, что пришел. За то, что выносит этот жуткий аромат разлагающихся роз.
Один из гостей подходит ко мне.
— Сенатор, — начинает он.
Высокого роста, крепкий. Небритый подбородок, обтрепанная, застиранная одежда.
Легионер из бывших. Я киваю. Тарквиний, мой старый раб и воспитатель, кряхтя и ворча, проводит его за толстую красную занавесь — в мой кабинет, таблиний.
У стены — отделанный бронзой ящик для деловых бумаг. И для денег. Сквозь квадратное окно, ведущее в перистиль, падает неяркий свет. В кабинете царит красноватая полутьма. Уютно.
Тарквиний выходит, шаркая. Мы остаемся наедине.
Я поворачиваюсь к бывшему легионеру.
— Кто вы?
— Тулий Сцева, — говорит он. Кулак ударяет в грудь и взлетает вверх и вправо. Салют легионера.
— Вольно, — говорю я. — Что привело вас сюда, гражданин?
Он моргает, опускает руку. Да, теперь он уже не воин, он гражданский. Надо бы побыстрее разобраться с ним, у меня еще куча дел. Похороны — это еще та проблема.
— Я служил с вашим братом в Паннонии, — он поднимает голову. — Пятый Македонский, первая центурия… я был оптионом.
— Спасибо, что пришли отдать дань уважения моему брату… — начинаю я.
— Сенатор, — говорит он. — Я не за этим пришел… вернее, за этим, конечно. Но не только.
Молчание.
— У меня семья, — говорит солдат.
— Очень рад, но…
— Сын, ему девять. Две дочери, двенадцать и четырнадцать. Их нужно кормить. Им нужно приданое.
Логично, ничего не скажешь. Аристотель бы не сказал лучше… о, Дит подземный! Вот он о чем.
— Ваш брат был хорошим командиром, — продолжает легионер. — Солдаты его любили. Он достоин того, чтобы ему… чтобы его память почтили — по — настоящему. Понимаете, сенатор? По — настоящему.
Снова молчание. Я смотрю на бывшего легионера, стоящего посреди таблиния. Намек ясен, куда яснее.
Ветеран заканчивает жизнь самоубийством на погребальном костре, не в силах пережить разлуку с любимым военачальником. Что ж… так делали легионеры Цезаря, так делали даже солдаты Мамурры… И если в искренность солдат Цезаря я верю, то жертвы за Сапера вызывают определенное сомнение.
Интересно, сколько наследникам последнего пришлось заплатить вдовам самоубийц?
Но это было — впечатляюще. Ничего не скажешь.
Разве мой брат не достоин подобного?
Мой умный старший брат.
Мой мертвый старший брат.
Я могу обеспечить семью Тулия. Вдова получит столько, что хватит вырастить сына и выдать дочерей замуж — с неплохим приданым. Пусть даже это будет купленная жертва, не настоящая… Зато я увижу лица друзей и врагов брата, они будут впечатлены.
Разве мой брат не достоин?!
И тут я возвращаюсь на землю.
— Вы италик, Тулий Сцева?
Солдат смешался.
— Да, я родом из Самнии. Но… какое это имеет значение?
Кажется, я начинаю понимать.
— Мой брат служил в Паннонии, — говорю я. — Действительно. Но он командовал там двенадцатой когортой. Когортой… ауксилариев.
Ауксиларии — вспомогательные войска. Обычно их набирают из союзников — федераторов. Командование когортой — один из первых шагов, чтобы получить под свое командование легион.
Вся хитрость в том, что в ауксиларии не набирают римских граждан. Граждане служат в легионах, там плата выше, а служба почетней. А Самния — это полноправная римская территория.
Легионер молчит. Я вижу, как в его лице сменяются выражения досады, злости… стыда.
Я негромко говорю:
— Вы никогда не служили с моим братом, верно, Тулий?
Его лицо искажается, отчаяние. Но он усилием воли берет себя в руки.
— Нет, сенатор, — он внезапно охрип.
— Я стал сенатором два месяца назад, Сцева. Так что я очень молодой сенатор… но кое‑что я все‑таки понимаю. Вам нужны деньги? Именно поэтому вы хотите продать свою смерть?
Бывший легионер делает шаг вперед, замирает. Стоит, шатаясь. Я слышу, как за стенами кабинета гудят голоса.
Луций.
Бывший легионер выпрямляется. Гордо.
— Простите, сенатор, что отнял у вас время. Мне пора.
Я смотрю, как он поворачивается и идет. Прямая спина. Бывший легионер из последних сил передвигает ноги. Как он дошел до такой жизни?
Впрочем, о чем я? В Риме богатые становятся богаче, а бедные — беднее. Все просто.
— Так у вас есть семья, Тулий? — говорю я в спину бывшего легионера.
Он делает еще два шага, потом до него доходит.
Он поворачивается:
— Сенатор…
— Отвечайте на вопрос, солдат!
Эхо гудит в кабинете. Тулий Сцева моргает, затем вздергивает подбородок. В глазах у него блестят слезы.
— Да, сенатор.
Молчание.
— Мне нужны птицы, Тулий.
— Что? — он поводит головой, еще не веря.
— Птицы, — говорю я. — Или это чересчур сложно для бывшего солдата?
* * *
Птицы. Я с трудом разлепляю глаза. Проклятые птицы.
После смерти Виктора и нашего возвращения в лагерь я не видел ни одного воробья. Может, они сейчас заняты?
Твари.
Душ‑то вон сколько надо перетащить в Эреб. Замахаешься крыльями работать.
Клапан палатки распахивается…
— Тревога! — кричит "мул". Повязка на его голове пропитана кровью. — Они прорвались! Гемы прорвались!
Я вскакиваю. Сердце колотится так, что временами замирает совсем. В коленях слабость, мир кружится и норовит упасть набок. Дыхания почти нет.
Встать, легат!
Хватаю перевязь с гладием и выбегаю из палатки.
Останавливаюсь.
Мимо меня бегут "мулы". Не туда, где шум боя. В противоположную сторону. Легионер с окровавленным лицом невидяще бредет, оступается, снова бредет. Меч волочится за ним на оборванной перевязи. Кажется, "мул" совсем забыл про оружие.
— Воин! — кричу я. — Ко мне!
Он поворачивает голову. Во взгляде — только мутный туман, никакой мысли. С этим солдатом все кончено.
"Мулы" бегут. Я кричу: стоять! Бесполезно.
Тит Волтумий оказывается рядом со мной. За собой он тянет аквилифера, орлоносца. В руке у того знакомое древко. Орел! Закрытый кожухом, орел Семнадцатого легиона почти незаметен на сером фоне неба.
— Снимай! — командует центурион. — Ну! Живее!
Аквилифер наконец понимает, чего от него хотят. Опускает древко на колено, быстро освобождает орла из кожуха. И снова поднимает его. Упирает древко в землю.
Золотой орел Семнадцатого Морского смотрит с высоты. На свой лагерь, на своих детей…
Гордо смотрит.
Реет над Германией.
"Мулы" вдруг начинают останавливаться… Некоторые с недоумением вертят головами, словно не понимая, где оказались и что с ними. Смотрят на орла, словно видят его впервые.
— Воины! — кричу я. — Ко мне!
— Стройся! — кричит Тит Волтумий хрипло и мощно, — Что встали, сукины дети?! Стройся!
Я выхватываю щит у растерявшегося легионера, встаю рядом с Титом Волтумием. Мы стоим плечом к плечу — двое. За нашей спиной — орел легиона. А мимо нас бегут "мулы".
Что ж… неплохой финал для моей карьеры легата.
Появляются гемы. Бегущий первым германец вскидывает руку с копьем. Я вижу длинный железный наконечник. Тусклый блеск. Фрамея, вспоминаю я название. Острие в чем‑то буром…
Германец кричит и бьет. Бух! Я едва успеваю вскинуть щит.
— Делай, как я! — командует Тит и делает шаг. Бух! Ударом щита сбивает гема с ног. Коли! Коли! Коли! Тит делает еще шаг и точным движением втыкает в лежащего гладий. Заученным движением отступает на место, в строй.
Раз, два. Выпрямляется.
Мы снова стоим вдвоем — щит к щиту.
— Баррра!
— Ко мне! — призывает Тит Волтумий. — Ко мне! Стройся! Орел! Орел! Семнадцатый! Морской!
— Морской! — ору я. — Ко мне!
Долгое мгновение я думаю, что получиться. Но потом вижу — нет, ничего не вышло.
Тогда я делаю шаг вперед. Поднимаю гладий над головой.
— Легат, назад! Осторожно! — кричит Тит.
— Это мой меч, — говорю я. — Слышите! Тит, помоги мне!
Центурион медлит, затем кивает.
— ЭТО МОЙ МЕЧ, — гремят голоса единым, слитным потоком, словно некий великан пробует силу голоса. — ОН ТАКОЙ ЖЕ, КАК ДРУГИЕ МЕЧИ, НО ЭТОТ МЕЧ — МОЙ. Я БУДУ УБИВАТЬ ИМ СВОИХ ВРАГОВ.
Выстраивается ряд, другой. Вот уже центурия в полном составе. Семнадцатые, восемнадцатые, девятнадцатые… все вперемежку. "Мулы" очнулись. Теперь мы можем драться.
Мы деремся.
Мы наступаем.
Мы убиваем своих врагов.
Но положение наше незавидное. Гемы прорвались в лагерь, и их намного больше, чем нас.
— Мой меч — это мой брат, — говорю я устало.
— По центуриям, по манипулам — стройся! — командует Тит. — Подровнять ряды!
"Мулы" становятся. Ровняют ряды.
От вала с западной стороны, который гемы забросали связками хвороста, к нам приближается волна цветных щитов.
* * *
Палящая, невыносимая, душная жара легла на город, придавила его к земле всей своей тяжестью. Мраморные колонны скрипят по ночам, словно на них давит нечто громадное.
Капли стекают с края бронзового бокала. Вино со снегом — холодное. Снежное. Испарина выступила на округлом металлическом боку. Я стираю ее пальцем — холод бронзы, сбегающая капля — затем подношу бокал к губам.
Птицы, думаю я.
Слегка терпкий, отстраненно — ледяной вкус светлого вина — на языке.
Я один. Квинт отправился обратно, в Равенну, на флот — гоняться за пиратами. Вместе с ним уехал Фессал, бывший гладиатор и учитель гладиаторов, ныне — свободный человек. Он добровольно охраняет Квинта от всяческих бед…
И стоит это недорого.
А я собираюсь в Германию. Как хорошо вовремя выпущенные птицы влияют на настроение принцепса! Знамение. Воля богов. Август увидел сотню летящих над крышами голубей и сделал меня легатом.
Хотя, может быть, просто оценил мою предприимчивость и посмеялся. И все‑таки сделал меня легатом.
Что ни говори, Август — чудовищно умный человек. Его мотивы сложно понять.
Зато теперь я смогу найти убийц брата. И — покарать.
Обязательно покарать.
У меня осталось слишком мало братьев, чтобы позволить убивать их безнаказанно.
* * *
Удар германцев страшен. Грохот. Грохот такой, словно обрушилась подземная кузница Вулкана.
— Там, там! — кричит "мул". Он не договаривает, но я уже вижу сам.
Великан германец взмахивает молотом. Это примитивное оружие, очень тяжелое, для него нужна огромная физическая сила…
У гема она есть.
БУМ.
Медленно летят ошметки плоти… осколки костей… Смятый железный шлем с оторванными ремнями падет в грязь и катится. Брызги грязи.
Кричат мулы.
От каждого удара великана падает легионер. И больше не встает. Стон и грохот, вопли покалеченных. Германец наступает. В нашем строю — брешь. И все это сделал один человек… Один!
Меня вдруг осеняет.
Это Стир.
Человеческое чудовище с фигуркой Быка. Разноцветные глаза, которые сильно косят. Я помню: оторванная рука в пыли арены… Когда я только приехал сюда, в Германию, Стир дрался на арене как доброволец.
И голыми руками убил гладиатора.
Да, это он.
Гигант — германец разносит наши ряды в кровавую пыль.
Каждый удар молота — примитивного, варварского — крушит доспех, ломает кости…
БУМ.
Удар. Брызги крови. Следующему "мулу" молотом сносит половину черепа. Я вижу, как почти безголовое тело медленно валится на землю, в грязь…
Легионеры кричат. Они подаются назад, в стороны… ломают строй. Фронт центурии прорван. Мы на грани паники.
Стир. Германский великан — безумец. Я сжимаю рукоять гладия. Вот где бы нам пригодились военные машины! Скорпион, потерянный вместе с обозом. Его гигантской стрелы хватило бы и на этого великана.
Но машин у нас больше нет.
Время застывает.
Один миг — и все снова начинает двигаться. Молот взлетает — я вижу насечки на бронзе…
Наши ряды расколоты. В образовавшуюся брешь вливаются гемы… которые сами стараются держаться подальше от Стира. Отлично. Гемы смирились со своим прирученным чудовищем, своим выродком… И сами же его боятся.
Гигантомахия.
Когда дети Титанов и Людей, гиганты собрались штурмовать небо, против них встали боги.
И эта битва стала последней.
Эта легенда мне всегда нравилась. Боги, ростом с обычных людей, против гигантов ростом с пятиэтажный дом.
— Дайте мне пройти, — говорю я. — Ну же! Быстрее!
Вместо того чтобы расступиться, моя охрана смыкает передо мной ряды.
— Тит! Что за?!
Тит Волтумий качает головой. В висках — седина, от носа идут скорбные линии. Центурион усмехается, в уголках глаз собираются насмешливые морщины.
— Я не знаю, как должны умирать старшие центурионы, легат. Но очень надеюсь: быстро.
— О чем ты говоришь, Тит?!
— Вам нельзя. Мне можно. — Он разворачивается и идет. Солдаты не дают мне протиснуться за ним. Что за ерунда?!
— Разойтись! Пропустите легата! — кричу я на них. Но "мулы" стоят как стена.
— Тестудо! — орет другой центурион, не Тит. Легионеры мгновенно смыкаются в черепаху.
Эта "черепаха" ползет к великану — германцу.
Стир замечает ее и рычит. В разноцветных глазах плещется безумие — пугающее, явное, сбивающее с ног.
Один из гемов поворачивается и пытается убежать.
Стир хватает его за шкирку левой рукой, поднимает в воздух и — швыряет в "черепаху". Я моргаю. Невероятная сила! Грохот. Люди разлетаются в стороны, как игорные камни. Стоны. Крики.
"Держать строй!" — орет центурион. Другой, не Тит. "Держать!"
Наши больше не рискуют нападать на Стира. Он медленно поворачивается, как огромный медведь в окружении собак. Вокруг него пустое пространство. И — мертвые тела.
— Легат, смотрите! Легат!
Я вижу: Тит Волтумий, склонив голову, идет на чудовищного германца. В руке старшего центуриона — простой солдатский гладий.
— Эй, помнишь меня? — говорит Тит негромко.
Тишина.
Кажется, все мы — и римляне, и германцы — смотрим сейчас только на этих двоих.
Стир поворачивает голову — и ищет взглядом, не понимая. Глаза разного цвета косят еще сильнее, чем раньше. Затем Бык видит центуриона и кричит — глухо и страшно. Безумец. Огромный молот в его руках взлетает и снова опускается. Глухой удар по трупу легионера у его ног. Брызги крови…
Центурион идет. Привычным солдатским шагом. Меч у правого бедра…
— Тит! — кричу я.
* * *
Я закрываю глаза и вижу: Тит Волтумий, наклонив лобастую голову, идет на чудовищного германца. В руке центуриона — короткий гладий из плохого железа.
Он идет.
Бык кричит — глухо и страшно. Безумец. Огромный молот в его руках взлетает и опускается в очередной раз. БУХ. Глухой удар. Брызги крови взлетают и…
Центурион идет. Клинок у правого бедра.
Я вижу.
Снова и снова.
* * *
— Осторожно!
Молот опускается рядом с центурионом. БУХ! Центурион чуть приседает, прищуривается…
Тит молниеносно колет гладием — в руку великана.
Еще раз и еще. Порезы быстро наливаются кровью. Молодец, Тит!
"Сложное сделать — простым".
Молот, наконец, выпадает у Стира из рук. Плюхается в грязь — огромный, помятый, убийственный.
Мулы кричат так, что слышно богам на Олимпе.
Стир обхватывает центуриона своими ручищами, сжимает. Отчетливый, страшный хруст костей. Проклятье! Я кричу. Тит Волтумий выгибается и тоже кричит, но продолжает вгонять в великана гладий. Раз за разом.
Еще и еще.
Наконец, они падают. Клубок разваливается. Вытянувшись, спокойный и величественный в смерти, лежит Стир — Бык, глаза его широко раскрыты и смотрят в небо.
Теперь они — одинаковые. Серо — голубые. В них больше нет безумия.
Окровавленный ком рядом с великаном германцем — Тит Волтумий.
Я не знаю, как должны умирать старшие центурионы.
* * *
Снег падает на поле битвы. На трупы моих "мулов".
— Арминий! — кричу я. — Арминий!
Он выныривает из тумана. В опущенной руке — спата.
Царь херусков отстегивает маску, открывает лицо.
Некоторое время мы смотрим друг на друга.
— Сдавайся, брат, — говорит Арминий. — Я смогу сохранить тебе жизнь. И даже больше. Ты станешь первым моим советником. Ты будешь легатом.
Меня передергивает.
— Я уже легат, — говорю я. — Ты забыл, брат?
Я поднимаю меч. Но, прежде чем начать схватку, я должен задать вопрос.
— Зачем ты это делаешь?
Глаза Луция — Арминия — ярко — голубые. Лихорадочные.
Знакомые глаза на чужом, бледном лице, обрамленном светлой щетиной.
— Рим — это прошлое, Гай. Будущее за ними, — Луций — Арминий показывает на своих германцев. Каждый из них ростом с пятиэтажную инсулу. — Видишь? Ты стоишь двумя ногами в прошлом, Гай, а они — уже давно в будущем. Скоро Рим рухнет под напором свежей крови. Нашей крови. Почему ты усмехаешься?
— Риторика, — говорю я и поднимаю гладий. Он весит тысячу фунтов. — Как я устал от риторики, брат.
Я кричу и бегу на строй белоснежных великанов.
* * *
Возможно, через много лет один из выживших в этой мясорубке посадит на колени внука и расскажет, как было дело.
— И тогда Нумоний Вала развернул конницу и пришел на выручку легионам? — спросит внук.
Нет, покачает головой старый легионер. Нет.
Не развернул.
* * *
Конница ушла, оставив легионы на произвол судьбы. И ножницы сестер Парок заработали без отдыха, отсекая нити жизней.
Тысячи душ потоком хлынули за Ахерон. Там теперь сумятица, в загробном мире.
— Возвращаемся, — сказал Марк. — Я никого не держу. Но там умирают "мулы" Семнадцатого и Восемнадцатого легионов. А эти тупицы и неумехи без нас, всадников, даже задницу себе подтереть не в состоянии. Но они дерутся.
Так что я возвращаюсь. Все, кто желает, может пойти со мной.
— Ты болен, — сказал Галлий, словно это все объясняло.
Декурион кивнул. Верно.
— Да, я болен. Пирексея фебрис, болотная лихорадка. От меня не так уж много осталось. Но все, что от меня осталось, пойдет в бой. Я, Марк Скавр, декурион, вторая турма Восемнадцатого Галльского легиона, возвращаюсь к своему легиону. Что делаете вы — решайте сами. Но делайте это, ради всех богов, побыстрей!
Всадники переглянулись. Он видел сомнение и страх на их лицах.
— Командир, я… — начал Галлий и замолчал. Тишина повисла над поляной — невыносимая, мертвая тишина. Германская.
— Понятно, — сказал декурион.
Марк развернул Сомика и поехал шагом. Обратно — туда, откуда доносился грозный глухой гул сражения. Словно ревел огромный разбуженный медведь с железными когтями и зубами. Туда, где неумело умирали легионы.
Сомик против обыкновения, шел спокойно и не артачился. Молодец.
— Декурион! Марк… да подожди ты!
Сомик фыркнул, замотал головой. И тут же получил кулаком от Марка. Балуешь, сволочь.
— Держи равнение, сволочь.
— Марк! Командир!
Он оглянулся.
Всадники его турмы смотрели на него. Все одиннадцать человек, что от нее остались. Галлий был бледен, Фимен, наоборот, раскраснелся, как после бани.
— Ну и рожи у вас, — сказал Марк. — Что, решили идти со мной? Ну, вы и придурки, если честно. Никогда бы не подумал. Ну и рожи у вас… Спасибо.
* * *
Я моргаю. Брата нет. Весь разговор мне почудился. Правда? Ведь правда?!
Нарастающий вой. Низкий, чудовищный.
Германцы. Их все больше. Они затапливают мой лагерь.
— Смотрите! — кричат легионеры.
Скомканная окровавленная груда, некогда бывшая старшим центурионом Титом Волтумием, шевелится. И вдруг — начинает подниматься.
У меня волосы шевелятся на затылке.
— Смотрите! Смотрите!
Тит Волтумий встает. С переломанными ребрами и костями. С половиной лица, превратившейся в кровавое месиво.
Это невозможно.
Но это — так.
Я уже бегу.
— Тит!
Он поворачивает ко мне изуродованное лицо. Я отшатываюсь.
— Тит? — говорю я. — Это ты?
У него уцелел только один глаз. Но и этот глаз — вместо обычных для Тита Волтумия меда и золота — горит голубым ярким огнем. Что?! Тит усмехается — и протягивает мне руку. Я опускаю взгляд. На ладони у него — окровавленная фигурка Быка.
— Сложное сделать — простым, — говорит Тит и сжимает пальцы.
…Мы орем так, что кажется, нас снова двадцать тысяч. Мы орем за все три наших легиона.
— Вперед! — кричу я. — За Виктора и Тита. Рим! Рим! Рим!
— БАРРРРААА!
Мы врезаемся в германскую массу, рубим, колем, давим, душим голыми руками. Тит идет впереди. Ему даже не нужно наносить удары. Там, где он, гемы становятся мягкими, как воск. И мы их убиваем.
Мы идем.
Германцы не выдерживают натиска. Отступают. Впервые я замечаю в них страх.
Внезапно Тит Волтумий останавливается и начинает падать. Проклятье!!
Я нагибаюсь над центурионом.
— Тит?!
Он усилием переводит взгляд на меня. Левый глаз черный от лопнувших сосудов, правый по — прежнему яркий. Мед и золото постепенно возвращаются, вытесняя из глаза голубой цвет. Кажется, Тит потерял фигурку.
— Ле… гат…
— Держись, Тит. Медиков сюда! Живо!
Центурион качает головой. Я не представляю, какую боль он сейчас испытывает.
— Гай… — он снова называет меня по имени, как в тот день в германской деревушке. — Когда я… я умру…
— Тит, нет!
— Верни меня, Гай. Мне… нужно… с вами.
— Тит, я не могу. Это… так нельзя!
— Надо, — говорит он отчетливо. И застывает. Ярко — медовый глаз продолжает смотреть на меня, но жизни в нем больше нет.
Тита Волтумия больше нет.
Я не знаю, как должны умирать старшие центурионы…
Но я очень надеюсь — быстро.
Прощай, центурион.
Я достаю Воробья.
* * *
Я не говорю: вернись.
Я говорю: живи.
Я говорю: лети вперед, Тит.
Туда, где ты будешь счастлив. Счастлив ради нас всех, погибающих в этот час в грязи проклятой Германии.
Удачи, центурион.
Может, еще увидимся.
Хотя… вряд ли.
* * *
Марк наклонился. Его вырвало. Он вытер рот ладонью, выпрямился и пошел вперед. Декуриона качало, словно после недельной пьянки.
Марк огляделся. Перед ним на поляне лежали его всадники. Мертвые. Галлию разрубили голову. Фимена пронзили дротиком. Остальным повезло не больше. Кажется, Кезону удалось уйти… а, нет. Вот и Кезон.
Декурион дохромал до жеребца, лежащего на боку посреди поляны. Сомик был мертв. Над лиловым глазом кружили мухи. Как они так быстро появляются? Марк остановился рядом со старым товарищем.
— Вот ты сволочь, Сомик, — сказал он, в горле дрожало что‑то. — Вечно я из‑за тебя мучаюсь.
Только сейчас, глядя на мертвого жеребца, Марк понял, что они все‑таки проиграли. Декурион отогнал мух. Сомик, скотина. Ну, укуси меня! Что же ты! Или сделай еще какую гадость, а?
Жеребец не шевелился. Мухи летали. Жизнь продолжалась.
— Эй, римлянин! — окликнули его с жестким акцентом.
Декурион поднял голову. К нему приближались гемы.
А ведь могли и проскочить, подумал Марк с сожалением. Не проскочили.
…Они почти добрались до легиона, когда повстречались с тенктерами. Их было человек тридцать, римлян — двенадцать. И те, и другие — опытные воины. В первой же стычке турма Марка потеряла половину состава. Галлия стащили с седла — Марк видел, как тот падает под копыта. А больше ничего не видел — потому что рубил и кричал, как сумасшедший. Колени свело.
А потом Сомик споткнулся, и Марк полетел через его голову.
Удар.
И наступила темнота. Тихо. Красноватая, пульсирующая темнота. Темнота, прорезанная красными молниями кровеносных сосудов.
Затем Марк открыл глаза, но все было кончено.
Теперь вот — германцы.
Кашель едва не убил его на месте, без боя. Внутренности разорваны в клочья, в груди болит так, словно там ничего целого не осталось. Никаких больше легких, Марк. Оставим это другим. Потому что у тебя внутри — кровавая жижа, наполненная битым стеклом и ржавым железом.
Он поднялся. Пошел.
Вдыхаешь, и воздух словно полон ржавых иголок.
А потом ты их выхаркиваешь…
Декурион плюнул на ладонь. Сгусток крови. Отлично. Просто отлично.
Не глядя, вытер ладонь о край туники. Синей, морской. И грязной, как черт знает что.
Марк потянул из ножен спату. Что ж, если пришло время умирать…
Сделаем это по — настоящему.
— Сволочи, — сказал Марк. — Ну, кто первый?!
Но их было слишком много для него, оглушенного падением.
Следующий удар выбил оружие у него из ладони. Гем наступил на клинок спаты ногой. Марк оскалился, приготовился прыгнуть. Надеюсь, у меня кровь на зубах, подумал он мимолетом. Так страшнее.
Гем засмеялся. Красивый, сволочь, и наглый. Так и хочется вбить ему смех в глотку…
Топот копыт. Кто‑то спрыгнул с лошади и шел теперь к ним.
— Развлекаемся?
Гемы обернулись, готовые драться. И тут же расслабились.
Марк от бессилия хотел застонать.
Однорукий! Здесь!
— Тиуториг? Что тебе надо? — спросил один из германцев. — Этого мы взяли.
— О! Я его знаю, — сказал Тиуториг. Помедлил, глядя на Марка весело. — И он, вроде как, мой приятель.
— Что?!
Однорукий выхватил меч. Два гема упали, не успев даже открыть рты.
Последний попытался бежать, однорукий с легкостью достал его в затылок острием спаты. Гем упал, забился, заливая кровью пожелтевшую траву. Однорукий подошел и пригвоздил его к земле, выдернул меч.
Марк ловил ртом воздух. Что происходит?!
Однорукий усмехнулся.
— Что, разведка, не ожидал? Сюрприз.
Латынь у него была хоть и с акцентом, но очень правильная, грамотная. Марку так никогда не заговорить.
Окровавленный меч в единственной руке Тиуторига дымился на холоде. Из живота мертвеца поднимался легкий дымок — Марк почувствовал во рту привкус крови и сплюнул.
— Зачем ты убил своих? — спросил он странного гема, за которым гонялся по всей Германии.
Гем продолжал скалиться. Это была страшная улыбка. Словно лежалый мертвец пришел с того берега Стикса. Выбрался из черных болот Коцита, убежал от адского пса Цербера. Теперь он здесь.
Однорукий вытер длинный — галльский — клинок о рубаху мертвеца.
— Они мне не свои, — сказал он. — Плевать я на них хотел, разведка. Если честно.
— Ты из Парфии, — догадался Марк. — Шпион. Правильно?
Гем расхохотался.
— Из Парфии, из Парфии… Бери выше, разведка.
Куда выше? Марк закашлялся, сплюнул. Потом понял.
— Ты что — бог?
Гем засмеялся. Ярко — голубые глаза горели безумием.
— Почти. Я — комсомолец. Ну что, разведка, поиграем?
Он бросил ему его, декуриона, спату.
Комсомолец? Каких только народов на свете не бывает, подумал декурион. Впрочем, какая разница…
— В честь сената и народа Рима, — сказал Марк. Поднял спату — хорошая ты моя. — Готовься к смерти, комсомолец.
— В честь императора и Рима, — передразнил однорукий. Мягким быстрым движением, как сгусток ртути, перетек на другую сторону поляны. — Готовлюсь к смерти, разведка.
Марк аккуратно перешагнул труп. Безумный однорукий гем… сейчас мы узнаем, из чего ты сделан.
"Или узнаем, из чего сделан я".
Из мяса и кишок.
Из мужества и чести.
Из дерьма и крови.
Из…
Обмен ударами. Блеск железа. Какой быстрый! Марк выдохнул. Однорукий был как молния. Быстрее декурион никого не видел. Никогда. К воронам! Будь ты проклят!
…Из ярости и боли.
"Ну и рожи у вас".
Из ненависти. Из любви.
Марк бьется. Клинок со скрежетом ударяется в другой клинок. Всадник чудом избежал ответного удара.
Гем улыбнулся. Так, что у Марка озноб пробежал по затылку.
Теперь он меня убьет, понял Марк. Он слишком хорош для меня. Даром, что у него одна рука, а у меня две…
Однорукий шагнул влево и остановился.
Вместо того чтобы атаковать, гем отступил к лошади. Поводья были намотаны на ветку…
— Стой! — заорал Марк. — Куда?!
Однорукий уже оказался в седле, наставил на Марка острие меча. Лошадь заплясала на месте.
— Не надо, разведка. Меня так просто не возьмешь.
Однорукий сжал коленями бока лошади, повод намотал на мертвую руку. Марк видел ее жесткую, гладкую поверхность. Сияние полусогнутых пальцев. Откуда он взял новую руку?
— Беги, разведка, беги, пока можешь, — гем говорил спокойно и доброжелательно. — Скоро всех ваших перебьют. Беги туда, где ваши города. Тогда ты можешь выжить. Если повезет. Беги за Рейн.
— Куда? — всадник опешил.
— Тьфу, черт. За Рений беги, разведка.
Марк покачал головой.
— Не хочешь? — однорукий поднял брови. — Понимаю.
Марк опустил меч. Дыхания не было совсем. Он усилием воли заставлял себя вдыхать и выдыхать, легкие словно вырезали ножом.
— Живи, разведка! Может, еще встретимся! — гем ударил коня пятками. Всхрап, удар, комья грязи… Через мгновение Марк остался один.
Живи?
Он огляделся. Живой — в окружении мертвых, изрубленных тел римлян и германцев.
Он сел на землю и завыл.
Глава 17. Прорыв
Сегест, сын Ингвиомера, царь хавков, 54 года
Римляне так и не научились нас понимать. Они зовут меня "rex", что значит — царь. Для них я — повелитель хавков, германцев. Они думают, что именно я, Сегест, сын Ингвиомера, делаю хавков союзниками римлян — лично, своей волей…
Нет, римляне так ничего и не поняли.
Сейчас, здесь, в темной тишине моего царского дома, я сижу за столом и жду, пока моя жена — одна из моих жен — принесет мне тарелку с похлебкой. Мой обед на римский манер. Свекла. Капуста. И немного мяса. И много воды. И чеснок. Фракийская похлебка, которая выглядит так, словно в миску плеснули свернувшейся крови. Хорошо, что здесь темно, от света у меня начинают болеть глаза и затылок. На свету мне придется решать, за кого я — за себя или за римлян.
Римляне считают, что именно я, Сегест, своей волей могу повернуть народ хавков против остальных племен…
Смешные люди.
Рекс — это не титул. Это всего лишь сочетание звуков, которое что‑то означает только для римлян. Для германцев "rex" не стоит ничего. В Риме все решает Август, здесь решает общее собрание. Когда соберется толпа крикунов, называющих себя свободными воинами, я должен убедить всех — и каждого! — что то, что я делаю, правильно и умно. Римляне называют себя политиками, но настоящий политик здесь только я.
Политик, который ждет, пока жена принесет ему похлебку, которой стоило бы кормить свиней. Римское блюдо. Рим — это будущее. Будущее, в котором я не должен выслушивать каждого крикуна. Рим — это будущее, которое вот — вот станет прошлым… спасибо Арминию, будь он проклят!
Прекрасное будущее для моих детей.
И ради этого я готов жрать даже пойло для свиней.
Туснельда. Мне сейчас трудно произнести это имя. Девочка моя, девочка. Я — счастливый человек. У меня есть сыновья, которые заменят меня, когда я ослабну. Крепкие, сильные, умные… И одна девочка, ради которой я живу, ради которой рассорился с Арминием.
Арминий — Германн. Будь ты проклят. Ты отнимаешь у меня мою девочку.
Мою маленькую, прекрасную, нежную девочку.
Крошечные ладошки, лежащие на моих глазах. "Угадай, кто". Я смеюсь. Я плачу. Я отец.
Я помню исцарапанные коленки. Смешные, угловатые. Помню, как ты жаловалась на братьев, помню, как стояла, наклонив голову на плечо… и говорила серьезно, как большая.
И крошечные пальчики, трогающие мои жесткие волосы…
Моя маленькая, моя красивая. Мой свет. Моя маленькая девочка, которая больше никогда не будет моей.
Ублюдок Арминий.
Она где‑то там, моя девочка. Далеко. Там, с этим ублюдком, которого выбрали герцогом всей Германии.
Где эта чертова жена с тарелкой овощной похлебки?!
Сколько можно возиться?! Неужели даже свиньи… или римляне! — готовы столько ждать?!
Германн. Гнусный вор. Как хорошо, что здесь темно. Иначе моя голова взорвалась бы от боли.
* * *
Когда жена, наконец, появилась, Сегест посмотрел на нее исподлобья тяжелым, бесцветным взглядом.
Жена вздрогнула и остановилась. В глубокой миске медленно колыхалась жидкость цвета свернувшейся крови.
Сегест, сын Ингвиомера, царь хавков, выпрямился.
— Вылей это дерьмо свиньям! А мне дай мяса.
* * *
Как легко быть на стороне "духов". Тот, кого теперь называют Тиуторигом, перекатился в сторону, под прикрытие куста, и поднял потертый армейский бинокль. Единственная ценность, что осталась от их несчастной экспедиции. Не считая блевотной пластиковой руки и "калаша" без патронов.
Мы были разведчиками в этом мире.
В этом времени.
Теперь мы все мертвы.
Тиуториг перевернулся на спину. Я, в общем‑то, тоже мертв.
Мелкий дождь крошечными каплями оседает на лице. Хорошо. Прохладно. До подхода римлян к склонам Ловушки — еще несколько часов. Им сейчас нелегко там, в их лагере. К ним подтягиваются те редкие счастливчики, что смогли вырваться из леса. Раненые, изможденные, потерявшие надежду…
Этот караван римляне точно не доведут. Тиуториг представил сухую афганскую жару, синее горное небо, высохшие травинки, красную пыль в воздухе, поднимающуюся от гусениц "коробок" — от нее свербит в носу и хочется чихать. И сидишь весь в этой пыли, как в дерьме.
Он тогда сидел на броне и чихал. Идиотизм.
А потом раздался выстрел. Из гранатомета. В головной БРДМ.
Головной БРДМ превратился в факел. Столб пламени и черного дыма.
Отрывистый стук пулемета. От впередистоящей "коробочки" летят щепки… руки… головы.
"Теперь мы знаем, что чувствовали немцы в Белоруссии", говорили офицеры. Черный армейский юмор.
Если над всем этим не смеяться, можно сойти с ума. Да и сходили.
Подсаживались на выпивку, на гашиш, на травку. Кололись.
Война — это огромное сумасшествие.
"Иногда я даже жалею, что я не сумасшедший". Тиуториг покачал головой. Еще нет.
* * *
Многие умрут. Это будет жестокая и страшная участь. Чудовищные потери.
Снег, падающий на трупы легионеров.
Холодный рассвет. Белые хлопья опускаются на трупы. Искалеченные тела "мулов". Изломанные, обобранные, оскверненные…
Покой.
Я моргаю. Снега — нет.
* * *
Я, Гай Деметрий Целест, патриций, сенатор Рима, легат Семнадцатого Победоносного Морского легиона, пишу в этот утренний час свое последнее письмо. Туман заполняет лес. Их лес. Проклятые варвары, они повсюду. Они все ближе.
Гемы.
Но сейчас все будет по — другому. Пришло время кое‑что изменить.
Наша кровь уже пролилась…
Теперь их очередь.
Мы придем.
И ничего не останется. Никаких правил и условностей.
Никакой политики.
Только мы и они.
* * *
Мы готовимся к наступлению.
Ко мне подводят раненого солдата. На нем посеребренный панцирь центуриона — весь избитый и помятый. Левый глаз воина закрыт повязкой…
Большинство моих солдат уже ранены.
Кто не ранен, тот простужен.
Кто не простужен, тот голоден.
Кто не голоден, тот в страхе.
Кто не в страхе, тот, скорее всего, уже мертв.
Не знаю, как мертвые, но — раненые, больные, голодные или испуганные — они все пойдут в бой.
— Префект лагеря Эггин, — узнаю я наконец.
Он выпрямляется. Небрежно салютует.
— Легат.
По крайней мере, обычной своей грубости он не потерял.
— Вы возглавите левое крыло. Я хочу, чтобы строй был ровный и выдержал следующую атаку. Делайте что хотите, но вы должны стоять. Даже если вас будут терзать половина войск германцев. Да хоть все гемы на свете. Строй должен стоять.
Эггин молчит. Единственный глаз смотрит на меня.
— Вы меня поняли, префект?
— Да, легат. Могу я идти?
Я киваю.
— Еще одно… — говорю я. Префект лагеря замирает, поворачивает голову.
— Легат?
— Вы не обязаны меня любить, префект.
Он хмыкает.
— Да, легат. Не обязан.
— Удачи, префект. Я на вас рассчитываю.
Он медлит. Затем поворачивается ко мне и салютует. На этот раз — совершенно искренне. Мы смотрим друг на друга — окровавленные, израненные, измотанные, голодные и смертельно уставшие. Бывшие враги. Военная косточка и "тога", гражданский.
— Сила и честь, легат, — говорит Эггин.
Я киваю.
— Сила и честь, префект. Сила и честь.
Дальше. Так много дел и забот в этот последний час моей жизни.
Иногда звон в голове становится таким сильным, что мне приходится садиться на землю и ждать, пока он станет тише.
— Где наш аквилифер?
Аквилифер — орлоносец.
— Убит, — говорит рыжий. — Вон этот его пока заменяет.
Парень сидит и держит орла Семнадцатого легиона. Голова его склоняется к древку… он дремлет. Все мы устали. Я кашляю. Парень тут же вскидывает голову, хватается за меч. У него знакомое лицо.
Очень юное лицо.
Я говорю:
— Как тебя зовут, солдат?
— Ф — фурий… Фурий Люпус, легат. — Он смотрит на меня круглыми глазами. Сколько ему лет? Шестнадцать? Семнадцать? — Вы меня не помните?
Возможно, не будь этого сводящего с ума звона в голове, я бы вспомнил.
— Фурий, — киваю я, словно что‑то помню. — Сколько орлов у нас осталось?
Некоторое время легионер смотрит на меня юным, беззащитным взглядом. Хлопает ресницами.
— Один, легат.
— Очень хорошо, аквилифер.
Мгновение он не может понять.
— Но… я не думал, что стану когда‑нибудь…
— Теперь стали. Сейчас начнется бой, аквилифер. У нас один орел. И я хочу, аквилифер, чтобы — чем бы этот бой ни закончился — чтобы к концу боя у нас оставался один единственный орел. Ни больше, ни меньше. Справитесь?
Он салютует. Глаза пылают. Мальчишка. Волчонок.
— Так точно, легат!
— Молодец.
Иду дальше. Так много дел в этот последний час.
— Легат, — салютует мне солдат с перевязанным лицом. Как он вообще что‑нибудь видит?
— Кто вы?
— Оптион Тиберий Силва, легат. Помните Ализон?
Я, наконец, вспоминаю. Тот оптион, что неудачно погнался за одноруким на рынке.
— Что вы хотели сказать мне, оптион Тиберий Силва?
— В этот раз я не подведу вас, легат, — негромко говорит Силва, выпрямляется. — Обещаю.
* * *
Легион построен. Ровные железные квадраты манипул. В наш состав влились остатки Девятнадцатого и Восемнадцатого легионов.
С этого момента они все — Семнадцатый Морской Победоносный.
Теперь я должен произнести речь.
Надо бы сказать, что судьба Рима и всего цивилизованного мира лежит сейчас на весах истории. Покажем им, ребята, как умирают настоящие римляне! Рим ждет, что каждый исполнит свой долг! Чтобы они, уроды, знали, что им предстоит по ту сторону Рения. Только они не узнают. Потому что нас чудовищно мало.
Семнадцатый Победоносный. Морская пехота.
Мой легион. Все, что от него осталось.
Вместо этого я говорю:
— Покажем им, как наступает Семнадцатый Морской.
Я не знаю, как должны умирать последние легаты…
Буцинатор подносит к губам медную трубу — и резкий утробный звук разносится над германскими полями и лесами. Вперед.
— Вперед! — ору я. — За Виктора! За Виктора и Рим!
— Баррраааа!
Мы выходим из лагеря. Четкими, ровными колоннами, печатая шаг.
* * *
Мы идем. Земля стонет и прогибается под нашими калигами. Мы мокрые, грязные, голодные. Мы — злые.
Рим — это мы.
Мокрый песок скрипит под нашими ногами. Вереск бешено пригибается под порывами ветра. Струи дождя хлещут по лицам. Разрозненные германские отряды пытаются нас остановить…
Напрасно.
Мы идем.
Выстраивается германский клин, сбегается, стекается со всех сторон, как поток мутной рыжеватой воды. Клин — основная единица варварской армии. Лучшие воины — германцы во главе с вождем стоят в первых рядах…
Смешно. Семнадцатый Морской легион слитным ударом сминает их клинья в кровавую кашу, идет дальше. Раз, два. Раз, два. Мы идем по Африке! По идем по Греции… Мы идем.
Мне кажется, что вместо рыжего центуриона рядом со мной держит строй Тит Волтумий, старший центурион. Подтянись, левый край!
Четче шаг, сукины дети.
Следующий отряд германцев. Теперь их больше. Разноцветные круглые щиты, выставленные вперед железные острия фрамей. Гемы даже похожи на непобедимую македонскую фалангу…
Шаг, еще шаг. Удар!
Кровавая каша. Мы идем. Я поднимаю щит, бью щитом, колю… Снова делаю шаг, поднимаю щит, бью им набегающего варвара, вонзаю меч, выдергиваю, делаю шаг. Мы — идем.
— Еще немного! — кричу я. — Вперед! Вперед, вперед!
Прорываем и этот заслон. Ноги вязнут в мокром песке.
Вперед!
Легионеры падают от усталости. Некоторые больше никогда не встанут.
Ноги — точно свинцовые столбы. И я ими шагаю. Вколачиваю свинец в мокрый песок.
Раз, два. И раз, и два!
Мы идем по Африке. Мы идем по Галлии. Мы — идем.
— Арминий! — кричу я. — Арминий!
Германский лес сумрачно смотрит на меня.
Арминий не откликается. Его здесь нет. Или моему умному старшему брату наплевать на то, что о нем подумает глупый средний брат.
У него теперь много дел. Он герцог германцев. Ему нужно завоевать мир.
* * *
Арминий, царь херусков, герцог всех германцев, поднял взгляд. Многие отшатнулись, шепот побежал по толпе.
Глаза у герцога всех германцев были неживые, льдистые.
— Неудачников никто не любит, — сказал Арминий негромко. — Все, кто сейчас колеблются, пристать к нам или не стоит, при первых же наших успехах перейдут на нашу сторону.
А кто не перейдет из желания, перейдет к нам из страха.
Это уже происходит.
Он помедлил.
— Впустите Сегеста, — приказал негромко. По толпе вождей пошел гул. Сам Сегест, верный друг римлян, здесь! Что происходит?
Седовласый германец вошел в покои, склонил голову. С трудом, словно у него закаменели мышцы шеи.
— Сегест.
— Арминий.
Царь херусков помедлил.
— Что привело тебя к нам?
— Рим проиграет?
— Да.
Сегест выпрямился. Остро взглянул в глаза герцогу всех германцев.
— Я пришел предложить свою верность герцогу. Тебе.
— Как вовремя, — съязвил Алларих, царь тенктеров. Арминий поднял руку, и царь тенктеров замолчал. Движение было настолько властным и естественным, что Сегест удивился. Rex. Вот он, настоящий "рекс", который так нужен римлянам…
Только он теперь на другой стороне.
У Сегеста от гнева задергалось веко. Арминий молчал, без выражения глядя на царя хавков.
— Отлично, — сказал он наконец.
Лицо Сегеста покраснело, шея вздулась от сдерживаемой ярости. Глаза бешеные.
— Я принимаю твою верность, — сказал Арминий. По толпе вождей снова пошел гул. — Кстати, твои воины нужны мне сегодня. Прямо сейчас.
Сегест, помедлив, кивнул своему человеку. Тот выбежал прочь.
Сегест прочистил горло.
— Туснельда… моя дочь…
— Теперь она — моя жена.
Молчание. Лицо Сегеста пошло багровыми пятнами.
— Но, конечно, — Арминий холодно и учтиво склонил голову. — Ты в любой момент можешь ее увидеть. И будущих внуков, когда настанет такое время, конечно, тоже.
— Она… Туснельда выбрала тебя?
— Тебя это удивляет? Хочешь, чтобы она сказала это сама? — тон Арминия — самый благожелательный. — Я прикажу позвать ее… и ты услышишь все лично.
— Нет!
Молчание.
— Арминий, — произнес наконец Сегест. Кажется, больше ненависти вложить в одно слово невозможно.
— Я слушаю, царь хавков.
Римское "rex" прозвучало как издевка. Кадык на шее Сегеста дернулся.
— Следи за своей женой, Арминий. Хорошенько следи, — глухо произнес Сегест. Грузное тело внезапно одряхлело, обвисло, словно из него вынули все кости. — Предала отца… предаст и мужа.
Арминий молчал.
Сегест, царь хавков, шаркающей стариковской походкой вышел из дома. Он словно постарел на двести лет.
— Продолжим, — Арминий, герцог всех германцев, выпрямился. — Кто следующий?
* * *
Семнадцатифутовая земляная стена преграждает нам путь. На ней возвышаются темные фигуры. Гемы. Их тысячи. Их тысячи тысяч.
Когда они успели построить эту стену?!
Я приглядываюсь. Так вот в чем дело.
Слева — болото, справа — песчаные холмы. На холме тоже выстроена земляная стена, чтобы мы не смогли обойти преграду с фланга.
Арминий завел легионы в западню. И не оставил нам ни единого шанса.
Я молчу.
Почему я не убил его, когда мог? До того, как он повесил мне на уши эту чушь про ожившего брата?!
— Легат?
Я говорю:
— Приготовиться к атаке. Центурионов — ко мне! Быстро!!
* * *
Общее собрание гудит, спорит и звякает железом.
Воины не понимают:
— Так мы идем помогать римлянам? Или бить их?
— Там решим.
— Тихо вы! Сегест будет говорить!
Голоса смолкают. Сегест выходит и начинает говорить.
* * *
Мы увязли — как увязает острие копья в твердой и гибкой древесине ясеня. Мы бьем и бьем, а нас отбрасывает и отбрасывает. Трупы моих солдат устилают склон перед валом. Во рву лежат друг на друге остатки трех легионов.
— Вперед! — кричу я в очередной раз. Если мы преодолеем эту преграду, мы выиграли. Мы прорвались. Я взбираюсь на вал…
Краем глаза замечаю движение.
Я даже успеваю повернуться… вскинуть руку…
Удар.
Я проваливаюсь в темноту.
ЛЕГАТ. ЛЕГАТ. ЛЕГАТ.
Тысячи голосов. Тысячи тысяч.
С трудом выныриваю. Голова раскалывается, руки словно в огне. И такое ощущение, что меня пропустили через жернова для зерна.
Я чувствую себя… перемолотым.
— Что это было, Тит?
— Свинцовый шарик, — говорит он. — Из пращи запустили. А потом по вам прошлись гемы, потом наши, а потом ребята вас вытащили. Только я не Тит.
А кто?
Сквозь звон я силюсь разглядеть лицо солдата.
— Тит?
— Старший центурион Тит Волтумий погиб, — отвечают мне. — Разве вы не помните?
Интонация кажется мне знакомой.
— Виктор, ты?
Фигура медлит и качает головой: нет.
Жаль.
— Марк Скавр?
Пауза. Какая‑то очень длинная. В целую вечность…
— Их больше нет, легат.
Падающий на трупы снег…
— Да, конечно. Я помню. Что случилось?
Потом вспоминаю. Мы вышли из лагеря. Мы прошли с боем сквозь варварские войска.
Мы уперлись в стену. Почти прошли ее. И какие‑то новые германцы раздолбали нас в пух и прах.
— Кто это был? — спрашиваю я. — Те, новые гемы?
Солдат наклонился и сплюнул.
— Хавки, — нехотя сказал он.
— Хавки? — я переспрашиваю. Значит, Сегест предал своих союзников римлян.
Предал нас.
Мне помогают сесть.
Я смотрю, как к германским укреплениям на склонах подходят все новые воины. Их много. Их тысячи. Это идут хавки.
Я готов кричать…
Я молчу.
Сегест только что перекрыл нам единственный возможный выход.
Глава 18. Римская слава
К восходу лошадь пала. Марк коленями почувствовал уходящую вниз пустоту — и успел соскочить с падающего жеребца.
Некоторое время он стоял, не в силах пошевелиться, глядя на тяжело поднимающиеся бока лошади. Встряхнулся и пошел дальше.
Ализон. Водяные ворота были распахнуты. Около створок, раскинув руки, лежал мертвый легионер. Похоже, его перед смертью пытали… Декурион поморщился….и кастрировали.
Марк пошел по улице.
В Ализоне — своя война. Разграбленная таверна "Счастливая рыба". Мертвые рабыни. Повешенный на вывеске толстяк. Легионеры шутили, что вывеску хозяин рисовал с себя — теперь можно сравнить. Воочию.
Гемы — практичные люди.
Германцы успели войти в город, понял Марк. Значит, помощи он здесь не найдет. Возможно, даже живых римлян он здесь больше не встретит. Что ж… бежать ему все равно не на чем. Больше у него нет лошади. Сомик мертв.
Над трупом легионера склонился гем. Блеск железа. Остальные расположились вокруг, болтали и смеялись.
"Ну и рожи у вас".
Марк ускоряет шаг…
Толчки крови в висках.
Германец вскакивает. Марк, не замедляя шага, бьет его спатой сверху вниз. Н — на! С оттяжкой. Брызжет кровь. Медленно разлетается черными брызгами. Марк моргает, когда кровь попадает ему в лицо. Полуразрубленный, германец падает и дергается, пачкая вокруг красным — судороги.
Марк перешагивает его и идет. Спата приятно отягощает ладонь. Варвары жмутся к стене, один пытается выпрыгнуть за круг досягаемости спаты — но не успевает. Оседает, заливая кровью мостовую. Марк опускает клинок. В груди у него — словно рвется что‑то.
— Ну, кто следующий? — говорит всадник хрипло.
* * *
Драка перегородила узкую улицу. Тиуториг выругался — сегодня его весь день задерживают. Какой‑то римлянин, чудом уцелевший в мясорубке мятежа, рубился с германцами. Те были, судя по характерным узлам из волос на затылке — из свебов.
Черт!
Тиуториг повернул коня, сжал колени. Похоже, эта скачка его доконает. Культя уже горела огнем. Надо бы снять протез, чтобы рука наконец отдохнула. Чертовы ремни врезались в кожу.
А тут драка. Придется в объезд. Пока они прикончат этого упертого римлянина, пока разделят добычу. А скоро римляне возьмут Ализон под контроль — они это умеют.
— Черт!
Тиуториг повернул коня, сжал колени. Это не моя война. Тут вообще все — не моя война.
* * *
Это всего лишь окраина маленького военного города, здесь ничего толком не происходит. Скучно. Пора отсюда уезжать. Тиуториг кивнул сам себе.
"Я заберу тебя с собой, на теплое море".
"Выкупишь у хозяина?"
"Нет, просто заберу. Так будет…"
Он остановил коня.
"…забавнее".
На закопченной вывеске медленно раскачивался повешенный хозяин. Толстое синее лицо. Вывалившийся черный язык. Мухи вьются над телом — облаком. Тихий, едва слышный скрип веревки.
Тиуториг смотрел. Потом медленно слез с коня, пошел вперед. Конь с недоумением покосился на брошенный повод…
Разгромленная таверна. Черепки посуды. Разбитые, изрубленные столы.
Трупы. Толстуха лежала, раскинув крупные ноги. Ее изнасиловали и задушили. Еще одна служанка — рабыня, лежала лицом вниз. Ее убили ударом молота, вокруг раны на затылке запеклась кровь…
И — еще одна фигурка. Тонкая. Смертельная бледность проступила сквозь смуглую кожу. Темные волосы собраны в узел на затылке, открывая изгиб шеи.
Тиуториг стоял, опустив руки. Между пальцев пластиковой искусственной руки свистел ветер.
Посеяв ветер — пожнешь бурю. Так, кажется, говорится?
Тот, кого здесь называют Тиуториг, опустился на колени перед лежащей фигуркой. На голом бедре девушки темнел огромный синяк. Глаза широко раскрыты. В них застыл ужас. И боль. Много боли.
"У тебя много жен?"
"Хочешь быть одной из них?"
Тиуториг выпрямился.
Кажется, это и есть моя буря, подумал он. И я ее пожинаю.
Город вокруг, все эти улицы, мостовая, покрытая слоем грязи, все эти колонны и — все поплыло в хрупком слое хрусталя, с отчетливым хрустом пошло ломаться и опадать. Плиты хрусталя отламывались — одна за другой — и обрушивались на мостовую…
Разбивались.
Тысячи осколков. Тысячи тысяч.
За ломающимися стенами открывался другой слой. Нет, не слой.
Черная дыра.
Ничего не остается устойчивого. За соседним поворотом. Тиуториг знал, если повернуть за тем домом налево, он найдет тот маленький кишлак. Там лежит на земле убитый старик, ветер шевелит его растрепавшийся тюрбан. Алексей прямо видел эту картину. Шальная пуля, сказал сержант Голя. Алексей видел его ухмыляющуюся рожу, пулемет РПК, лежащий на сложенных руках.
Сволочь.
Из‑за угла появился отряд германцев. Человек двадцать. Все — рослые и шумные блондины. Пара рыжих. И один — вылитый сержант Голя.
Тиуториг шагнул вперед, положив руку на рукоять меча. Он даже не удивился, откуда в Афганском кишлаке германцы — херуски.
— Эй! — позвал он. — Эй, Голя!
Германец, что шел впереди, остановился. Озадаченно посмотрел на Тиуторига. Сделал шаг в сторону… и оказался рядом с фигуркой девушки. Тиуториг вдруг заорал:
— Отошел, ур — род!
Мирца.
Огромный германец отступил, сбитый с толку этой вспышкой ярости.
Тиуториг выпрямился.
— Зачем девчонку трогал? — спросил он. — Я тебя, б. дь, русским языком спрашиваю?
Германцы попятились. Алексей покрутил шеей, услышал, как щелкнули позвонки.
И пошел на них.
Холодно и равнодушно, словно робот.
Шел и чувствовал, как глаза мертвыми телами лежат в пустых глазницах. Хорошо.
Германцы переглянулись, потянулись за оружием.
Тиуториг улыбнулся свебу со шрамом на щеке:
— Мне понравилось в Афгане. Рассказать, почему?
* * *
— Ааааа!
Германец раскрыл рот и закричал.
Тиуториг выдернул спату.
Он загривком почувствовал, что следующий германец заходит к нему со спины. Уже зашел. Алексей мгновенно упал на колени, перекатился в сторону, понимая, что все равно не успевает. Даже с его скоростью…
Свист. Короткое "хэк". Тиуториг мгновенно развернулся и вскочил на ноги.
Гем падал. На лице застыло недоумение.
Позади него стоял тот римлянин. Всадник… Марк, кажется. Кровь стекала у него по лицу и груди. В опущенной руке всадника была окровавленная спата.
Марк, точно.
Перекошенный от потери крови.
— Разведка, ты? — Тиуториг сначала даже не понял, откуда всадник взялся.
— В расчете, — хрипло сказал Марк Скавр.
Тиуториг помедлил. Кивнул. В расчете, так в расчете.
И вдруг расхохотался.
Он смеялся над телом хрупкой девушки с распластанными по мостовой волосами.
Тиуториг наклонился и коснулся шершавой ладонью ее волос. Кровь запеклась на лбу девушки, осыпалась ржавой трухой.
Странно, что он больше ничего не чувствовал. Пустота.
— Кто она? — спросил Марк.
Германцы окружили их толпой. Человек двенадцать. Тиуториг их словно не замечал.
— Женщина, — сказал он. — Просто женщина. У меня их много.
Он повернул голову, словно только сейчас заметил германцев вокруг.
— Ну что, разведка, пошли? — сказал Тиуториг.
Глаза однорукого горели лихорадочным огнем.
Марк выпрямился и кивнул. Спата привычно лежала в ладони.
Почему‑то этот страшный гем, который не совсем гем, казался теперь родным.
Германцы смотрели на них с удивлением. Здоровенные и длинноволосые, в выделанных шкурах и с оружием в руках.
— Пошли, гем.
И они пошли. Веселая прогулка по забитому гемами городу.
— Двинулись! Веселей, веселей, братва! — кричал однорукий. — Лучше день потерять, потом за час долететь!
Раз, два. Раз, два. Мы идем…
Марк думал, что сейчас упадет. От потери крови все вокруг стало нереальным.
— Хмельная и влюбленная, зарей озарена… — заговорил нараспев Тиуториг. — В шелках полурасстегнутых и с чашею вина. Хмельной задор в глазах ее, тоска в изгибе губ…
Марк никогда не видел такой невероятной скорости. Гем двигался быстрее, чем смазанная жиром молния. Блеск клинка размазывался, так, что глазу не уследить. Гемы засуетились, задергались. Начали умирать.
— Зачищаем кишлачок. — Тиуториг орал на каком‑то варварском наречии. — Ну, что, духи? Вешайтесь!
Белобрысый гем повернулся к всаднику, блеснул зубами в улыбке:
— Эй, разведка! Помнишь? Сначала входит граната, затем ты.
Марк не понял, но все равно кивнул. Какая разница, что именно говорит однорукий, если он говорит правильные вещи?
— Орлы шестого легиона! — орал однорукий Тиуториг. Он поднялся — страшный, залитый кровью. Оскалился. В левой, здоровой руке у него блестел клинок. — Все так же реют! В небесах!
Германец выскочил из‑за угла. Ударил.
Лезвие на мгновение выглянуло из спины однорукого, исчезло. Осталась только красная полоска.
— Вот сволочь, — сказал Тиуториг без всякого выражения. С усилием вырвал меч из тела германца.
Повернулся и прошел несколько шагов. Остановился.
— Ты идешь, разведка?
Марк покачнулся. Споткнулся раз, другой. Голова стала легкой — легкой…
— Бывай, гем. Я… все.
— Бывай, разведка. Похоже, я тоже, — однорукий гем пошел дальше, пятная кровью мостовую.
Марк закрыл глаза. Как я устал. Как устал…
Вдруг он почувствовал тепло.
…он скакал на Сомике вдоль моря, без седла. Ветер трепал тунику. Ветер пах солью и домом. Серо — зеленое штормовое море катило на берег волны, убегало в пене.
Где‑то там, дальше по берегу, стоял его дом, его двенадцать югеров земли, и ждала его прихода жена. И дети. Конечно же, дети.
Марк улыбнулся жене. Ударился плечом о стену дома, постоял, словно утомленный путник, и сполз вниз. Тепло окутывало его, убаюкивало. Сомик, сволочь, ткнулся теплыми губами в шею, защекотал. Марк оттолкнул его и откинулся назад.
Застыл, глядя открытыми глазами на морской берег.
* * *
Арминий, думаю я. Или Луций? Кто из них?!
Все время он вел нас — туда, куда ему было нужно.
Незаурядный полководец.
Вот они, склоны, которых нам не одолеть.
Разве ради этого мы рождаемся — чтобы умереть здесь, в сырых лесах Германии? Умереть здесь, проваливаясь по колено в топь? Умереть здесь, чувствуя, как мокрый песок останавливает натиск наступающей когорты?
Мы — Рим.
Великая Германия. Провинция, залитая кровью легионов. Варвары везде, насколько хватает глаз.
Я иду в легион.
* * *
Гай Деметрий Целест, 28 лет, легат Семнадцатого Морского
Два дня лил дождь, а сегодня падает снег. Застилая трупы, застилая лица, застилая слезы.
Сегодня умирают лучшие легионы Рима. Мое правое ухо ничего не слышит. Мои пальцы почти не гнутся, я пытаюсь взять меч… Он выскальзывает из пальцев и падает на землю. Тит Волтумий наклоняется и поднимает его… но Тит мертв. Я моргаю и вижу: передо мной другой центурион. Совсем не похож. Рыжий как… Их осталось немного, моих центурионов. А сегодня остается последний легат.
— Старший центурион, прикажите легиону построиться.
Рыжий с удивлением вздергивает подбородок. Странно, он все еще способен удивляться — после всего, что мы выдержали. Центурион моргает:
— Легат?
— Теперь вы — старший центурион.
— Но…
— Выполняйте приказ, — я думаю, подняться мне или нет. Потом все же поднимаюсь. С козырька солдатского шлема срываются капли, летят вниз… падают в грязь. Кап. Кап. Кап. Вот и заканчивается моя служба. Недолго я был легатом. Да и был ли?
— Чего вы ждете, старший центурион? — я смотрю на него, он моргает; смешной, рыжий. — Особого приглашения? Или мне повторить приказ?
Центурион выпрямляется, отдает честь.
Сто тысяч лет этого не видел. С основания Рима. С того момента, как некая волчица выкормила двух засранцев — голых и крикливых, наглых и маленьких голоногих волчат. Которых она почему‑то — почему? — пожалела.
По легенде, мы, римляне, вскормлены волчьим молоком. Только вот ощущение, что у меня внутри — огромная дыра, куда все это молоко вытекло. В голове звенит, и весь мир обрушивается на мой погнутый шлем…
— … — говорит центурион.
— Что?! — говорю я. — Громче, я ничего не слышу.
Глухой легат, что может быть лучше.
Когда‑то я боялся оглохнуть. На мгновение мне представляется, что вокруг — тишина. И цветут луга, и где‑то вдали журчит ручей, и я снова в Италии. И еще живы отец и мать. И брат Луций. И где‑то далеко отсюда жив центурион Тит Волтумий, задница — центурион, гроза легионной зелени. И громогласный хвастун Виктор еще не получил свое прозвище. И жив весь Семнадцатый легион.
И все три легиона живы.
— Громче! — говорю я.
…говорят, мы многое понимаем, когда теряем слух. Потому что нас больше ничто не отвлекает.
Почему только я слышу писк, этот чудовищный писк?
Не хочу умирать глухим.
— Семнадцатый Морской построен! — орет рыжий в ответ. Я смотрю в его лицо, усталое, с ввалившимися щеками, в рыжей щетине, и скорее угадываю, чем слышу его слова.
Ничего.
— Прекрасно, — говорю я. Поворачиваюсь.
Они стоят и смотрят на меня. Весь Семнадцатый Морской Победоносный в полном составе. Нас около двухсот человек. Мы охрененны.
Уроды, инвалиды, раненые и больные. Глухие, вроде меня и слепые, вроде вон того, в середине строя — его поддерживают с двух сторон товарищи. Даже если он сейчас умрет, они будут его держать — плечами.
В жизни наступает момент, когда все остальное становится неважным.
Кроме этого плеча слева и этого плеча справа. Которые будут держать тебя даже мертвого.
— Отличная работа, старший центурион, — говорю я.
Рыжий выпрямляется еще больше.
Я шагаю к ним в полной тишине, и только писк в правом ухе висит надо мной, отражается от серого свода неба. Снег пошел. Огромные мягкие хлопья кружатся и падают на землю. Я спокоен. Пальцы на правой руке, сведенные судорогой, изуродованные, больше не гнутся.
В общем, все при деле.
Пока я иду, ступая так, словно на главной площади лагеря, неторопливо и четко, они молча смотрят на меня — две сотни лиц. Две сотни, оставшихся от двадцати тысяч. Вар, верни мои легионы! — вот что скажет принцепс.
Я говорю: Арминий, верни мой легион.
Я иду. Два шага. Пять. Когда до строя остается всего несколько шагов, они начинают кричать. Я не слышу, но чувствую раскаленную волну: мне обжигает лицо, снежинки тают на моих небритых скулах, как на раскаленном железе. Я вижу открытые рты, вижу, как они кричат. Я иду в легион. Как бы я хотел их слышать…
Боги, говорю я. Дайте мне еще немного сил.
Я подхожу; лицо пылает.
Звон не становится громче. Только ощущение грозного гула, накатывающего на меня, все сильнее и сильнее.
— Семнадцатый! — кричу я. — Победоносный! По манипулам, по центуриям стройся!
— Приготовиться, — говорю я. Я не слышу своего голоса, это так странно, что я даже повторяю: — Приготовиться.
Центурион повторяет мою команду; орет так, что я чувствую, как даже звон вокруг меня слегка колеблется, точно дым под порывом ветра.
Они выпрямляются: словно мои команды — сорванным хриплым голосом, им хорошо понятны.
Правая сторона лица уже горит. Прикладываю руку и чувствую горячее и мокрое. Горячее течет из‑под шлема. Вот теперь точно — все. Слуха больше нет.
— Воины, — говорю я. — Братья! Мы последний легион в этой части Германии. И, думаю, ни скажу ничего нового… Мы погибнем.
Кажется, я не зря учился ораторскому искусству.
Я говорю только правду. Я делаю паузы. Я держу ритм.
Цицерон мог бы мной гордиться!
— Братья, я смотрю на вас и вижу перед собой лучший легион Рима…
Гипербола? Нет, правда.
Все‑таки жаль, что я сейчас себя не слышу.
Потому что, судя по их лицам, я сегодня в ударе. Я убедителен. Я — красноречив.
Смешно.
Надо же. Я умудрился пропустить собственную триумфаторскую речь.
— Дайте мне меч.
— Легат, — говорит рыжий, — ваши руки… они…
И замолкает.
Пальцы не слушаются. Гладий выпадает из моей руки и втыкается в землю.
Руку свело судорогой. Врешь, сволочь. Врешь! Левой рукой я обхватываю кисть и пытаюсь разогнуть пальцы. Бесполезно. Их свело так, что завязался узел. Часть пальцев размозжена ударом. Вот теперь я точно калека. Однорукий.
Смешно.
— Легат, не получится.
— Что? — мне снова приходится угадывать. Впрочем, я всегда могу прочитать по губам. Что еще мне остается?
Надо что‑то делать с изуродованной рукой. Как мне держать меч? Без пальцев?! Интересная задача. Я немного думаю, затем говорю:
— Привяжи его.
Центурион несколько мгновений смотрит на меня, моргает. Раз — другой… затем кивает. Понял. Приматывает несколькими слоями ремней.
— Крепче! Туже затягивай! Еще!
— Легат, — он пытается остановить меня. — Застой крови…
— Крепче, центурион! Крепче.
Все будет хорошо.
Даже если — не будет.
* * *
— Арминий! — кричу я, вызывая брата. — Арминий!
Вокруг ревет и шумит битва. Грохот железа, стук щитов. Выкрики, скрип кожи, крики ярости и боли. Стоны раненых. Последние вздохи умирающих…
Все здесь. Только я ничего не слышу.
Для меня вокруг — тишина.
— Арминий!
Мы пришли на север.
— Я здесь, Гай.
* * *
Мы встречаемся на ничейной земле.
Мы ведем переговоры.
Наедине.
— Думаешь, что знаешь римлян, варвар?! — говорю я. Арминия передергивает. — Ты видел нас только во время побед. Чтобы узнать римлян, нужно увидеть их во время поражения. Мы не самый умный, не самый храбрый народ… даже не самый отважный или воинственный. Но мы — самые упрямые.
Мы будем вставать с земли каждый раз, как нас на нее уронят.
До последнего человека.
Чтобы выиграть сегодня, тебе придется убить всех нас.
И все равно мы вернемся.
Смешно.
— Гай…
— У нас не было ни единого шанса, верно?
— У вас не было ни единого шанса, — повторяет он, словно эхо.
— Ты сам привел нас сюда, к этим склонам. Ты — великий вождь и великий полководец, Луций. Тебя будут помнить… ах, да. — Я усмехаюсь. Странно, что до сих эта мысль не приходила мне в голову. — Нет, тебя не будут. Помнить будут варвара Арминия.
Лицо Луция на мгновение застывает.
— Кажется, ты хотел остаться в веках, брат?
Серая грязь проваливается под ногами. Холодно.
Мы молчим. Капли дождя текут у меня лицу.
Я плачу по брату.
Нет, не плачу. Дождь плачет за меня.
— Просто отдай мне предмет, Гай, — говорит тот, кто когда‑то был моим братом. — Отдай Воробья. Все еще можно изменить.
Смешно.
— Что? — говорит он. — Ты мне возражаешь?
— Нет, брат. Я просто качаю головой.
— Гай, если ты сдашься… — увидев мое лицо, он замолкает.
— Ты сам меня учил, брат. Командир остается со своим легионом до конца.
Арминий морщится.
— Гай… подумай. Сейчас не время для красивых поз и героических жестов. Послушай, что я скажу… — и он начинает меня убеждать. Очень горячо, красноречиво, и, видимо, чертовски убедительно. Я не знаю.
Я говорю:
— Говори в другое ухо, пожалуйста. Я плохо слышу.
Арминий замолкает. Лицо его внезапно, на несколько мгновений, становится лицом Луция.
— Ох, Гай.
Это я слышу.
— Ничего, брат, — говорю я. — Прорвемся.
* * *
— Честь и слава! — говорю я хрипло. Поднимаю меч, привязанный к руке. У меня осталось не так много центурионов, поэтому я встаю на правый фланг, занимая место одного из них.
— Честь и слава! — орут легионеры. Мой Семнадцатый мать его так Морской Победоносный легион.
"Что должен делать легат?"
Командовать?
"Для этого у тебя есть центурионы".
Тит Волтумий и Эггин. Они стоят в призрачном строю — рядом, плечом к плечу — и кивают мне. Легат. Легат. А где‑то за их спинами улыбается мне легионер Виктор.
Мои центурионы.
— Тогда что?
Луций — мой брат Луций — тот самый, что сгорел в пламени погребального костра, улыбается сквозь огонь.
— Твой легион идет в атаку — ты стоишь, отступает — ты стоишь. Бежит или разгромлен — ты все равно стоишь. Умирает — ты стоишь и умираешь. Это твоя работа.
Некоторое время я молчу.
— Так в чем же смысл?
— Ты должен стоять и улыбаться. Как положено легату.
Мой умный старший брат.
Мой мертвый старший брат.
Я на мгновение закрываю глаза. Солнечный свет проникает через окна и ложится на пол комнаты. Мальчишеская рука с обгрызенными ногтями. В ней зажат…
"Смотри, Гай. Кузнечик".
Открываю. Поворачиваюсь к легиону, смотрю на своих "мулов".
— По манипулам, по центуриям — стройся! — орет за моей спиной центурион. — Смирно! Тишина! Слушай мою команду…
Арминий опускает на лицо серебряную маску римского кавалериста. С гладкого красивого лица смотрят на меня две черных дыры. Глаза маски.
Нет, это не мой брат.
Мой брат умер в германском лесу полтора месяца назад. Он умер как воин и гражданин Рима.
Так — было.
Иначе, будь мой брат жив, он стоял бы сейчас рядом со мной под сверкающим орлом Семнадцатого легиона.
В это я верю.
Да, кое‑что я все же знаю о своем брате.
— Легат, — кивает Арминий.
— Царь, — я киваю в ответ.
Мы расходимся. В разные стороны, как и положено смертельным врагам.
Я стою под орлом Семнадцатого мать его так Морского Победоносного легиона…
Я улыбаюсь.
"Я не знаю, как должны умирать старшие центурионы", сказал Тит Волтумий.
Сложное сделать — простым.
Ревущая толпа варваров идет на нас, бежит в едином жутком потоке, выкрикивая на ходу ритмичную боевую песнь.
Я поднимаю гладий, привязанный к искалеченной руке. Эх, будет потеха!
Я не знаю, как должны умирать последние легаты…
Но очень надеюсь: быстро.
Эпилог. Земля Германии
В лавке темно и холодно. На столе — светит единственный огонек в красном масляном светильнике.
Ученик повертел в руках фигурку крошечной птички, пожал плечами. Бросил ее в ящик с другими украшениями. Ничего интересного. Это даже не серебро, похоже. Эти варвары хватают все подряд, а ты разбирайся.
Ученик — худощавый, невысокого роста юноша.
— Господин? — говорит он глухо, простуженным голосом.
— Собирай вещи, — торговец поправил черный завиток у виска. — Грузи повозку. Завтра мы уезжаем. Здесь нам больше нечего делать. За нас здесь все уже сделали…
Торговец огляделся. Лавка забита под завязку. Гора украшений и фалер, оберегов и серебряной посуды — все, скупленное у германцев по дешевке. Под конец цены упали так низко, что золото отдавали на вес, а серебро рубили ножами.
И часто вещи были в плохо отмытой крови.
Германцы — шумные и веселые. Часто пьяные. Кричали и хвастались, рассказывали взахлеб, как убивали римских солдат. Три римских легиона уничтожены. Просто не верится, торговец покачал головой. Говорят, по эту сторону Рения не осталось ни одного римлянина. Германия снова обрела свободу.
Ходят слухи, сейчас Арминий — херуск — Германн, сын Сегимера, герцог всех германцев, ведет свои орды на штурм Ализона, последнего оплота Рима в этих землях.
Что ж… Арминий времени даром не теряет.
Может быть, когда‑нибудь то же самое сделает Иудея? Восстанет против власти Римского цезаря и обретет свободу? Правда?! Хотелось бы верить. Иудей покачал головой. Он давно разучился верить в детские мечты.
— Нам нужно ехать, — сказал иудей помощнику. — И лучше поторопиться… пока они не взялись за нас. С победителями всегда так — сначала они радуются и пьют, потом вспоминают, что во всем виноваты иудеи.
— А куда мы едем? — ученик поднял голову.
— В Вифлеем, — помедлив, ответил торговец. — Я давно не был дома…
Он вышел из лавки. Запрокинул голову — сырой, холодный ветер донес запах падали. Еще не скоро он исчезнет с этих полей. Со всех просторов Германии.
Очень не скоро.
Двадцать тысяч римлян — всемогущих, страшных римлян уничтожены. Три легиона! Даже трудно себе представить… Иудей покачал головой. Очень трудно.
Казалось, вся лавка пропиталась трупным запахом.
Он прошел во двор, вдохнул, выпрямил спину. Как трудно снова привыкнуть стоять прямо, когда ты полжизни провел в полусогнутом состоянии. Где‑то далеко выли собаки… От порывов холодного ветра — сразу заслезились глаза.
Левий бен Ицхак, торговец стеклом и переводчик, поднял голову. Ветер овевал измученное лицо.
Над ним плыло серое германское небо. Вечер. Сплошные облака, перетекающие друг в друга — медленно, устало.
Над всей Германией — облачное небо.
А какое небо над Иудеей?
Он вздрогнул. На мгновение… меньше, чем на мгновение, Левию бен Ицхаку показалось, что он видел призрака. Высокого человека, словно сделанного из прозрачного дымчатого стекла.
* * *
Тиуториг открыл глаза. Еще жив? От потери крови кружилась голова. Над ним — пасмурное небо Германии девятого года от рождества того, кто еще никем не стал.
Но — станет.
Заделаться, что ли, в волхвы? Он с трудом усмехнулся. Запекшиеся губы лопнули. Почему нет? Осталось набрать даров. И можно в Вифлеем. Или в Назарет… или где он там живет?
Этот сын плотника.
Человек, с которым лучше бы познакомиться лично.
* * *
Он видел все.
Как падающие от усталости, израненные, изможденные люди штурмовали стены, выстроенные варварами — раз за разом наступая и откатываясь. И снова шли в атаку.
Как упал легат.
Фурий видел, как клинок появляется из спины легата… Мелькнул и исчез.
Гай Деметрий Целест умер. Фурию казалось, что легат до последнего улыбался.
Над его телом сразу образовалась свалка. Оставшиеся в живых легионеры Семнадцатого отбивали тело своего командира. Германцы, ревя от ярости и победного азарта, пытались добраться до него…
Фурий держал древко.
"У нас должен остаться один единственный орел".
А потом умерли и последние из легиона.
"Уходи, парень", — приказал Марк Целий, последний уцелевший центурион.
Он отрубил древко. Гладий врезался в дерево, крошил позолоту… и никак не хотел перерубать. Фурий бил и бил. По щекам катились слезы.
Наконец древко треснуло.
Мальчишка поднял орла. Теперь они остались вдвоем: он и золотая птица. Пока орел не потерян, легион продолжает сражаться…
Семнадцатый Морской Победоносный.
Волчонок спрятал орла под туникой, на груди. Тот был холодный и суровый. "Мальчик, — словно говорил орел. — Ты достоин?"
Фурий залег среди трупов. От голода и усталости он едва не задремал, веки слипались…
Вождь варваров что‑то резко приказал. Тело легата вынесли и положили перед германцем. Светловолосая девушка, что приехала с вождем, вскрикнула и отвернулась.
Германец опустился на колено перед мертвым римлянином.
Германцы собрали огромную гору из веток и стволов деревьев. Сверху положили тело легата, завернутое в римскую тогу. Ниже уложили изуродованные тела — одних римлян, похоже. Солдаты Семнадцатого уходили в последний путь со своим командиром.
Германец держал факел.
Порывы холодного ветра рвали пламя, дергали германца за волосы.
Пламя охватило погребальный костер. Огромный. Такого не постыдились бы и в Риме…
Последний легат Семнадцатого легиона уходил на небо вместе со своими "мулами". Взлетал в серое, затянутое облаками небо Великой Германии.
Позже.
Кочка поддалась и мягко спружинила, когда Волчонок поставил правую ногу. Фурий вытянул левую — ямка уже наполнилась коричневой болотной водой — и шагнул дальше, на следующую кочку.
Он сам не понял, как ему удалось забраться в такую глубь болота и не утонуть. Вокруг были мягкие кочки, наступаешь и уходишь вниз. И вокруг ступни выступает коричневая вода. Запах торфа. Испарения болот.
Он нашел и собрал ртом мелкие красные ягоды. Они были горьковато — сладкими, от них сводило скулы — и все же они были бешено, невозможно вкусными. Фурий поискал еще ягод. Нашел и собрал в ладонь. Успел обрадоваться, что ягод так много…
И тут нашли его.
* * *
Габриэль снова пропустил момент появления прозрачного.
— Гай Деметрий Целест мертв, — сказал Пасселаим. В полумраке комнаты его голос звучал словно шепот призрака — тихо и отстраненно.
— Жаль. Он мне нравился. А его брат захватил власть над всей Германией, — задумчиво сказал Габриэль. — Интересная все‑таки штука — справедливость.
Пасселаим поднял белесые брови.
— С чего ты решил, что это его брат?
— Разве это не Луций?
— Разумеется, нет.
Габриэль почесал руку.
— А как же — душа вернулась?
— Воробей не возвращает души. Это невозможно. В данном случае использовались два предмета: Воробей и Голубь.
— Разве это не одно и тоже?
Прозрачный усмехнулся.
— Нет. Голубь делает копию человеческой мозга в себя, как ксерокс, и стирает оригинал. Человек остается с пустой головой. Никакой долговременной памяти, только примитивные навыки и животные рефлексы. Считается, что Голубь забирает души. На самом деле, конечно, никакой мистики. Если применить Воробья после Голубя, мы получим нынешнего герцога Великой Германии.
— Стираем мозг? — поднял брови Габриэль.
Прозрачный помолчал. Казалось, что беседа ему не особо интересна.
— Мне трудно объяснить это на доступном вам уровне. Наши технологии ушли так далеко, что уже перестали быть технологиями. Это магия.
А теперь я скажу: "фокус — покус"! Габриэль сохранил невозмутимое выражение лица.
— Магия? Серьезно?
— Любая технология на достаточно высоком уровне развития становится магией.
Прозрачный посмотрел на Габриэля:
— Впрочем, магия она лишь для того, кто смотрит на нее снизу вверх.
— А если по — человечески объяснить? — Габриэль сохранил спокойствие. Государственная тюрьма в Заире любого научит быть сдержанным. Запросто. Если бы тогда не началась вспышка холеры, а единственный врач в тюрьме не оказался белым французом, а врачу не понадобился грамотный и не пугливый помощник… Неизвестно, где бы сейчас был святой отец Габриэль, он же фокусник Острофаум, он же Странник. Может, в яме за тюрьмой, засыпанный слоем извести. Бог знает.
"Но именно Бог привел меня сюда".
Пасселаим словно озадачился. Впервые вижу, чтобы прозрачный выглядел смущенным, подумал Габриэль.
— Прости, я забыл, что ты не человек. И все же — что там с Голубем и Воробьем?
— Голубь создает информационную копию личности. Электрический слепок мозга. Грубо говоря, это совершенно разные предметы. Голубь — это ксерокс. Воробей — радио. Он ловит нужную волну и транслирует ее.
— А откуда он… берет волну?
Прозрачный посмотрел на бывшего священника и пожал плечами.
— Информация никуда не исчезает. Это давно известно. Один ученый, гораздо позже, назовет это "ноосферой".
После использования Голубя остается чистый, подготовленный для записи мозг.
И трансляция Воробья через такой мозг оставляет четкий отпечаток. Полностью идентичный умершему оригиналу — с поправкой на некоторые помехи и ошибки записи.
Ты знаешь, что такое граммофон?
Фокусник кивнул. Он продолжал перегонять монету с костяшки на костяшку. И обратно. Вечная практика. И для хирурга полезно.
— А ты знаешь, как записываются пластинки? Обратный процесс. Не вибрация иглы рождает звук, а наоборот — звук, попадая в раструб граммофона, заставляет иглу вибрировать. И пластинка нарезана. Дальше болванку запекают в специальной печи — для отвердевания. И все, пластинка готова, теперь с нее можно слушать запись.
То же самое происходит, когда используют Воробья сразу после Голубя.
В чистую голову германского варвара записали воспоминания, все то, что составляет личность благородного римлянина Луция.
Личность Луция была записана через Арминия. Луций вызвал свою информационную копию из Вселенной, пока еще был жив. Воробей нашел ближайший приемник — и это был спящий молодой германец. Так что личность Луция, все его воспоминания, увлечения, обиды и радости, все осталось в голове Арминия.
Габриэль моргнул.
— О! Так вот зачем Луцию понадобился морфий! Ты просил меня дать ему ампулу…
— Он думал, что это яд, — сказал прозрачный. — Очень смешно.
Габриэль помедлил. Интересные у прозрачных понятия о смешном.
— Очень.
* * *
Высокий, как все германцы. Беловолосый и бледнокожий. С красивым, но каким‑то неприятным лицом. У гема в ножнах — римский меч. Гладий.
— Мальчик, — сказал гем на неплохой латыни. — Иди сюда. Я ничего тебе не сделаю.
От ласкового тона варвара Фурия едва не стошнило.
— Я — аквилифер, — сказал он едва слышно. Голоса не было, пропал. — Аквилифер Семнадцатого Морского.
— Что ты там говоришь, мальчик? Я тебя совсем не слышу. Подойди ближе. Пожалуйста.
Гем наклонил голову и сделал шаг к Фурию.
— Покажи мне, что ты прячешь под рубахой, мальчик.
Глаза у него были не голубые, как обычно у германцев, а зеленоватые, словно туда плеснули болотной воды.
— Я тебя не обижу. Нет. Меня зовут Хлодриг. А тебя, мальчик?
Золотой орел расправил крылья. Гордо и независимо.
Германец замер, рот приоткрылся.
— Так вот он какой…
В следующее мгновение Фурий отчаянным усилием опустил древко.
Орел легко коснулся головы высокого "гема". Отпрянул. Словно всего лишь клюнул — на бреющем полете.
Тишина. Неумолчный зуд комаров, шелест осоки. Фурий видел, как качаются коричневые верхушки камыша — это воспоминание осталось с ним навсегда.
Гем моргнул. Сделал шаг вперед, к Фурию… в густых светлых волосах вдруг набухла и пробилась струйка крови — потекла по лицу. Один глаз гема был почти вдавлен в череп.
Второй, зеленоватый глаз варвара был широко открыт.
— Орел, — сказал варвар, словно сам себе не веря. — Выклюет…
Германец упал.
Орел Семнадцатого Морского Победоносного легиона размозжил ему череп. Фурий посмотрел на золотую птицу — морда орла была в крови и мозговом крошеве. Орел выглядел хищным и непобедимым.
Как сам великий Рим.
— У, ты моя лапочка, — сказал Фурий орлу. — Ты у меня… умничка.
И — опустился на землю. Ноги не держали.
* * *
Два месяца спустя к пограничной крепости римлян вышел заросший и худой как щепка, оборванец. Мост через реку был поднят. Ждали нашествия грозного и страшного Арминия, царя варваров, уничтожителя легионов. Ждали с ужасом и страхом.
Оборванец долго махал руками, прежде чем его заметили.
Они выходят — отряд солдат во главе с центурионом.
Оборванец выпрямляется. Салютует свободной рукой — неожиданно четко и резко. Центурион поднимает брови.
— Ты солдат? — центурион все никак не может поверить. — Из легионов Вара?
Оборванец улыбается. И вдруг сдергивает тряпки с шеста, что у него с собой.
Вспыхивает огонь.
Центурион открывает рот. "Не может быть…"
Лес озаряется золотым сиянием.
Закатные лучи отражаются в раскинутых крыльях легионного орла.
— Фурий Люпус, — чеканит оборванец. — Семнадцатый Морской Победоносный, первый манипул второй когорты. Третья германская кампания. Легат — Гай Деметрий Целест.
Центурион поводит головой, словно фокала натерла ему шею.
— Кто ты?
— Я — аквилифер.
Орел реет над Рением, несущем свои тяжелые воды, окрашенные в молочно — розовый, на север, к далекому холодному морю…
К стране морозов и вечного льда.
* * *
1980 год, Советский Союз, Москва, Лубянка 38, Комитет Государственной Безопасности
Свиридов продолжал:
— Теория "плавающего будущего" или "дрейфа времен". Согласно этой теории, существуют неизменные, фиксированные куски времени — "материки" или "айсберги". Их изменение невозможно. Поэтому Гитлер до сих пор жив — в своем историческом периоде. И Берия тоже. А Кеннеди разнесли пулей череп. Но эти куски "твердого времени" словно бы плавают в среде "жидкого времени"… и вот тут‑то мы можем кое‑что сделать. Если захотим, конечно.
Американцы, похоже, захотели. Для противодействия их группе, засланной в прошлое, было принято решение о посылке нашей. Для этого была сформирована специальная группа, куда вошли военнослужащие из состава Ограниченного контингента Советских войск в Афганистане и сотрудники комитета Государственной Безопасности. Группе был придан научный сотрудник, специалист по данной исторической эпохе. А так же проводник по "линзам", в просторечии — Странник.
— Правда, что у него… ну, нет руки? — спросил генерал.
— Только правой кисти. Боевое ранение.
Генерал пожевал мощными, как у крокодила, челюстями.
— И где же твоя группа, капитан?
Свиридов помедлил.
— Исчезла. На связь не выходит. В условленных местах сообщений не оставлено. Никаких следов группы — в том числе в исторических источниках, нами обнаружено не было.
— Говоря прямо, это провал?
Свиридов выпрямился, руки по швам.
— Я с себя вины не снимаю, товарищ генерал.
— Не снимай, — согласился Крокодил. — Для этого есть я. Итак, поехали. Первое: группу считать потерянной в ходе боевого поиска на территории Народной Республики Афганистан. Офицерам похоронки, женам — пенсии. Рядовому составу — "пали смертью храбрых" и воинский салют. Вечная слава. Проследи сам.
— Сделаю, — Свиридов кивнул.
— Второе: давай‑ка сюда погоны.
Свиридов замер. Потом с треском вырвал капитанские погоны, бросил на стол. "Вот я уже и не капитан", подумал он с легкой горечью. "Куда мне теперь — в лейтенанты? Или сразу в управдомы?"
Крокодил смахнул его погоны в ящик стола, не глядя. Затем выложил на стол новенькие — с одной звездой на каждом. Прищурился.
Свиридов склонил голову на плечо, затем перевел взгляд на генерала. Крокодил улыбался.
— Не понял, — Свиридов позволил раздражению прорваться: — За удачные операции меня черт знает сколько лет держали в "пятнадцатилетних капитанах", а единственный провал, пропали люди — и я уже майор? Как так?!
Генерал вздохнул, пожевал челюстями.
— Илья, ты что, первый день замужем? Это — Советская армия. А теперь иди, займись своим Мохтат — шахом, наконец… Сколько можно? Хватит этому душману мертвых поднимать.

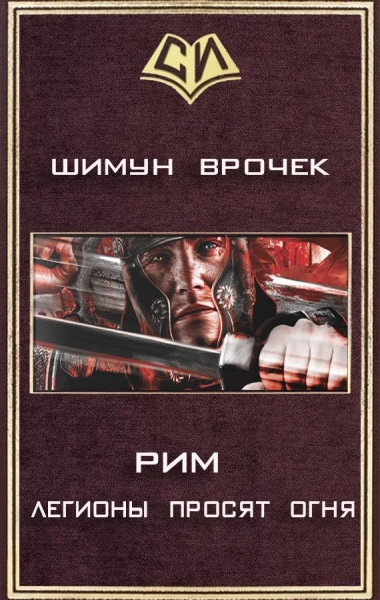

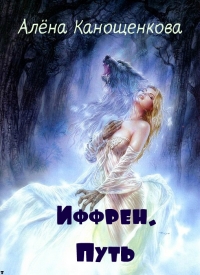
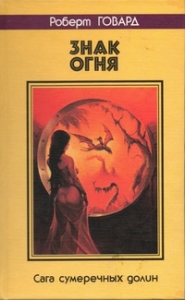
Комментарии к книге «Легионы просят огня», Шимун Врочек
Всего 0 комментариев