Александр Геннадьевич Карнишин Настоящее фентези (сборник)
Тайная служба короля
— Скажите, дорогой наш, зачем вы ходили к горшечнику?
— Это уже допрос? Какое вы имеете право?
— Мы имеем, имеем такое право. Королевство и закон — вот наш девиз. Так что, право у нас есть. А вот вы…
Рыцарь надменно выпрямился на тяжелом деревянном стуле с высокой.
— Я дворянин, и не обязан давать отчета никому, кроме короля.
— Король… А вы считаете, что король должен вас выслушать? Вы что-то такое делаете, что-то знаете, что королю будет интересно?
В полутемной комнате свет лампы, висящей слева на столбе, подпирающем потолок, не освещал, а казалось, наоборот, скрывал черты того, кто сидел за столом. Вокруг стола было так темно, что не видно было стен. Хотя, комната не могла быть очень большой. Сидящий напротив был облачен в какую-то бесформенную серую хламиду, скрывающую фигуру. Видны были только худые бледные руки, спокойно лежащие на столе. Лицо наполовину скрывалось в тени низко надвинутого капюшона. Тонкие губы кривились в усмешке. Но при этом тон был вежлив, и обидеться пока было не на что.
— Рыцарь Темного пламени… Дети играют в вас и ваш отряд, вы знаете? Вы уже легенда королевства. Скоро о вас начнут писать сказки.
— Почему же — сказки? А может, всю правду?
— А вот всю правду будем знать только мы.
— Вы? — выразительно приподнял брови и осмотрелся как бы в недоумении рыцарь.
Кольчуга его блестела, начищенная песком и смазанная маслом. Меч под левой рукой, кинжал — под правой. Раз с оружием — значит, свободен. Значит, не страшно, а только как-то нудно и немного противно. Но это уж сам виноват. Зачем согласился "зайти на минутку"? Да, и насчет "страшно" — разве можно чем-то в этом мире напугать рыцаря?
— Да, мы. Всю правду знаем только мы. Я и король. Вернее, король и я.
— Хм, — недоверчиво хмыкнул рыцарь.
— Вот только обидно бывает, когда вся правда достается нам с потом и кровью. Так редко выпадает счастье разговаривать с честным человеком!
Пауза в разговоре как будто вынуждала что-то сказать, как-то подтвердить честность. Ну-ну… Специалист, сразу видно.
— Так все-таки, что вы, рыцарь, делали у горшечника?
— За мной следили? — надменно приподнялась вверх правая бровь, углы рта чуть опустились.
— Да какой смысл за вами следить? Вы же такой весь из себя честный и прямой, как буйвол какой-нибудь. Только прямо, только вперед, не оглядываясь, да еще и с шумом. Тут хочешь, не хочешь, а услышишь и увидишь. Мы тут даже поспорили, что вы ответите: мой помощник предположил, что у вас там просто небольшая интрижка…
Рыцарь молчал, не подтверждая и не отрицая.
— Другой заявил, что тут наверняка кроется какая-то государственная измена. Ну, он у нас всегда во всем видит измену.
Рыцарь молчал,
— А я вот решил просто поговорить с вами. Не гадать, а просто и прямо спросить. Итак, что вы делали у горшечника? Рыцарь и горшечник — странное сочетание, не находите?
— Чего же странного, — медленно вытолкнул слова рыцарь. — Мы старые боевые товарищи.
— Вот видите! Вот все сразу и разъяснилось! А эти-то, помощники мои — чего только не придумают! Измена, измена… Не такая, так этакая. Все бы им измену искать.
— Ну-у, с изменой тоже бороться надо. Так что я даже понимаю их, как мне кажется. Ну, в общем, не сержусь я на них…
— И это просто великолепно! Еще бы вы сердились! Это скорее нам надо сердиться — столько с вами проблем. Вот не было вас — не было проблем. А приехали — тут все проблемы сразу и посыпались нам на голову. А если король узнает? Нет, он узнает, конечно. Король знает все. Но — в свое время.
— И это время назначаете вы? — усмехнулся рыцарь.
— И это время определяю я. Назначить я не могу. Назначает король. А вот определить время, когда нужно спросить, и кому нужно ответить — это уже я.
Они снова помолчали.
— У вас все ко мне? — спросил рыцарь, уже готовясь встать.
— Всего я у вас просто не спрошу. Нам не хватит никакого времени. Вас же ждут гости, так? Рыцари, герои, защитники королевства, бойцы с нечистью… Поэтому еще совсем немного вашего внимания… Я очень прошу, — он прижал худую руку к груди, закрытой серым сукном, достал из стола пачку исписанных листов, покопался среди них.
— Вот! Итак, горшечник — ваш боевой товарищ. А что вы скажете о трактире "Золотой конь"? Ну, том, что на Королевском тракте?
— Там вкусное пиво!
— Да-да, именно пиво… А гостиница "Морской ерш", что в славном портовом городе Ньюпорте? Известна вам такая?
— Я вижу, за мной все-таки следили…
— А я вам уже второй раз говорю, что следить за вами нет никакого интереса. Вы проламываетесь сквозь тишину королевства, как бык через орешник. За вами такая тропа остается… Такие следы…
Рыцарь казался задумавшимся. Он уже никуда не торопился. Сел посвободнее, откинулся на спинку стула, посмотрел с прищуром:
— Я не вижу ваших глаз.
— А зачем вам мои глаза? Вы лучше вспомните о сторожке лесника. Вспомните паромщиков на переправе. Вот еще…
— Все-то вы знаете, везде-то вы были.
— Не все и не везде. И не я лично. Просто мне стало интересно: какой смысл? Зачем все это? Один мой помощник решил, что…
— Измена? Ну, вряд ли я могу изменить своему господину.
— Ну, а красоток малолетних там просто не было. Значит, не измена телесная, плотская, не измена политическая государственная. Но тогда — что?
— Но я, правда, всего лишь завернул в трактир, чтобы перекусить.
— И сразу после вашего визита трактир сгорел дотла.
— В гостинице я просто переночевал.
— Одни косточки среди угольев…
— Паромщики… Что, кстати, паромщики?
— Троих нашли ниже по течению. Упали неудачно в воду все трое и случайно утонули. Вот такая незадача. А где, кстати, четвертый? Их же четверо было? Сидеть!
Серый хлопнул ладонью по столу, а на плечи рыцаря, подобравшегося для прыжка, легли тяжелые ладони. Он хохотнул, напрягся, было, привставая с места, и снова упал на стул.
— Ну-ну, рыцарь Темного пламени, сэр Дрю. Мои помощники очень сильны. Очень-очень. Вырваться не получится. И оружие не поможет — вы уж не дергайтесь так, не мучайте сами себя. Итак, мы остановились на паромщиках. Где же все-таки четвертый? И насчет лесниковой дочки нам тоже интересно. Кстати, не она ли живет в мансарде у горшечника? Сидеть! Не то я прикажу вас связать. Это будет гораздо неприятнее, поверьте.
— Кто ты, тварь? Покажись, — рвался, извивался, теряя последние признаки принадлежности к человеческому роду, бывший рыцарь.
— Тварь — это ты. А мы храним спокойствие и порядок королевства, — откинув на спину капюшон, ответил спрашивающий. — Это мы наблюдаем за дорогами. Это мы выделяем места для кормления. Это мы приструнили черных монахов. Это мы, а не ты и такие как ты храним традиции. И это мы принимаем решения.
— Ты — наш! — как выплюнул.
— Нет, это ты — наш, сэр Дрю. Вернее, был наш, пока не обезумел от крови. И теперь ты умрешь на рассвете, как это и положено по нашим законам. По законам нашего королевства. И все будут смотреть, как ты будешь корчиться с первыми лучами солнца, прикованный за ноги и руки к крепостной стене. И вот это король узнает быстро, уже сегодня. Увидит, как умирают дикие вампиры, бывшие честные рыцари. И поймет еще раз, насколько же нужна наша служба. И снова поощрит нас своим доверием.
Он помолчал, подвигал массивной челюстью, которая, кажется, не принадлежала этому сухому лицу.
— Вяжите его, братцы. До рассвета у нас всего четыре часа, а есть еще несколько адресов, куда стоит заглянуть. Кстати, и к горшечнику этому…
Граница
Гармат отсчитал сколько-то шагов. Всем было видно, что он считает, но сколько — не понятно. Он встал на пригорке, где с одной стороны заканчивался лесной массив и потом большой зеленый луг, а с другой — желтые дюны, переходящие потом в какое-то подобие выжженной солнцем степи, откуда пахнуло полынью, и густо зазвенели кузнечики.
— Здесь. Вбивай.
Дружинник сбросил с плеч вязанку кольев, выбрал один и вогнал его в землю у загнутых носков сапогов командира.
Пока кол забивался и укреплялся приваленными вокруг камнями, Гармат огляделся вокруг, посмотрел на небо, прикинул расположение солнца, и начал считать дальше, в сторону, как раз между песком и травой.
— Здесь. Вбивай здесь.
За ними вдоль границы зеленого и серо-желтого тянулся ряд белых ошкуренных кольев.
…
— И быть, тебе, Гармат, первым пограничником нашего лесного государства. Первым и потому самым лучшим, Гармат! Цени доверие.
— Благодарю, князь, — упал на колено Гармат. — Высока честь!
— А что там делать — это тайный дьяк объяснит. Ты теперь с ним будешь связываться. От него и ко мне новости с границы придут. И всему народу — тоже.
…
Тайный носил колпак из темного холста с дырками для дыхания и для глаз. Узнать его было нельзя. И это правильно, подумал Гармат. Если тебя знают в лицо — какая же тут тайна? Тогда никакой тайности не будет. А нет тайны — нет страха. Без страха же многие прожить просто не могут.
— Ну, что молчишь, пограничник?
— Жду, тайный. Князь сказал, что ты все расскажешь.
— Расскажу, расскажу. Слушай слово князя: граница учинена для защиты княжества от врагов. Враги те живут за границей. Никто не может пройти через границу без ведома князя. А если будет идти враг — тебе его останавливать.
— Это понятно. А кто враг-то? Там же степь — и нет никого!
— А вот это не твоя забота. Ты, главное, границу храни. А врага мы тебе найдем, — глухо рассмеялся под своим колпаком дьяк. — Как будешь службу нести?
— Днем все на постах будут. Ночью сокращенные караулы. А остальные — спят. Потому что из степи, если кто и придет, так днем непременно.
— Ну, верно, пожалуй, думаешь. Однако, если вдруг пойдут из леса?
— Это же наши? Из леса? Ну… Днем — прогоню назад.
— А ночью? У тебя караулы малые. Костры видны. А они ползком, ползком…
— Ну, так… Пусть ползут? Так?
— Не так. Сделай еще одну, тайную заставу. В степи. Из доверенных. И всех, кто в степь будет уходить, чтобы та тайная застава перехватывала. И казнила с лютой жестокостью. А потом тела подбрасывала чтобы к самой границе. Ты меня понимаешь, пограничник?
— Нет, — честно сказал воевода. Он не понимал. Он даже придумать не мог, в чем смысл сказанного тайным дьяком.
— Тогда слушай еще голос князя твоего. В степи и правда врага нет. Никого там нет. Но народ наш нельзя сплотить и подчинить закону, если никакого врага нет. Князь велел: врагу быть. Вот твоя тайная застава из тайных пограничников будет врагом для всего леса. Чтобы знали: враг есть, он жесток, хитер, зол. И тогда будет порядок в лесу. Теперь ты понял?
— Понял, дьяче… Слово князя выслушано и понято. Граница — на замке. Враг не пройдет!
— Вот теперь вижу, что понял. А чтобы легче тебе было, в тайную заставу дам тебе для пользы дела своих тайных. Подьячих своих. Они в пытках и убийствах привычные, не то, что простые вои.
Здесь живут чудовища
— Тю! Это ж Грашка со свалки! Вы ей не подавайте, у нее и так все есть! Лучше нам дайте!
Загорелый дочерна мальчишка дергал за рукав мундира капитана Лосса, задумчиво глядящего на девочку лет тринадцати, худую и такую же прокопченную солнцем, как и все здесь. Тут вообще было не место для мундиров. Белый горячий песок, яркое даже не синее, а в бирюзу больше — море. Выцветшее небо светло-голубого оттенка. Жгучее белое солнце. И поджарые просмоленные прокопченные какие-то местные жители, бегом носящиеся по мосткам, перетаскивая на "Алпару" груз.
— Вам, значит, надо, а ей — нет? — присел на корточки капитан, по-прежнему смотря в сторону девочки.
— Так есть у нее все, есть! И платья разные, и еда, и дом вот там, за свалкой! Ей ведь ничего не нужно — только бы в кораблики поиграть!
И правда, девочка ничего не просила. Она даже не обращала внимания на сошедших на берег моряков. Просто стояла в короткой тени таможни у беленой известью стены и рассматривала их корабль. Внимательно рассматривала, склоняя голову то к левому, то к правому плечу.
— Ну, вот вам на сладкое, — кинул монету пацанам капитан и медленно, потому что быстро тут ходить не получится, двинулся в город.
Город, как город. Наверное, вырос когда-то из простой рыбацкой деревушки, устроившейся в удобном месте. А то, что место удобное, было видно сразу. Жили тут богато. Деревянные дома были обиты темными досками мореного дуба. Стена вокруг города, тоже деревянная, буквально блестела на солнце — ни тебе плесени или гнили, ни проломов каких. На крепких воротах — отчищенные до золотого блеска бронзовые барельефы. Магазинчики со всякими редкостями чуть не на каждом шагу. И пиво в кабаках, как потом хвастались матросы, свежее и холодное.
Капитан прошелся по центральной улице, посидел в прохладе ресторана, выпил чуть-чуть местного бренди, чтобы, как говорил по этому поводу боцман, "уравнять температуры". Нет, все же тропики — это слишком. Правда, это все равно лучше, чем высокие широты, где солнце не греет, а вымораживает кровь, и пить надо там не бренди, вроде как для уравнивания температур, а густой тяжелый ром, чтобы добавить в кровь южной жары.
— Нравится? — спросил он у девочки, неслышно подойдя сзади. Она, выходит, так и стояла тут, все смотря и смотря на его корабль.
— Ага, — кивнула она, даже не вздрогнув и не повернувшись. — У меня такого еще не было. Четыре мачты!
— Моя "Алпара" — барк, поэтому у нее две грот-мачты. Хотя, это тебе не интересно, наверное?
— А стаксели вы ставите?
— Пока не приходилось. Ветер был попутный, парусов и так хватает, скорости особой никто не требует…
— А со стакселями, наверное, прямо как облако… Краси-иво.
Она обернулась и посмотрела прямо в глаза Лоссу:
— А вы кто — капитан?
— Капитан и хозяин. Это мой корабль. Полностью мой.
Солнце пекло сверху, давило на плечи и голову, прикрытую широкополой шляпой. А девчонка как будто не чувствовала жары. Она снова повернулась к морю, снова посмотрела на корабль:
— У мены такого нет. Краси-ивый.
И убежала. Вот была — и вот нет ее. И к чему с ней было заговаривать? И что она имела в виду?
— Эй, кто тут у вас
Тут же подскочил пацаненок, черный, как из печной трубы:
— Да, сэр?
— Расскажи мне про эту Грашку. Я тебе монетку дам.
— Может, две?
Наглый, конечно, но куда деваться, раз что-то втемяшилось в башку капитана?
— Хорошо, пусть будет две. Но только если все расскажешь, с подробностями.
Они тут говорят, как в театре артисты играют. Машут руками, представляют в лицах. Вот и Грашку эту в лицах представили. Она живет на свалке, вот там, по берегу. Это свалка разбитых кораблей. Где им тут биться? Да дело не в том, где, а — как. Грашка, когда ей приспичит, выходит ночью к морю и начинает петь. И она так поет, так поет, что слышно не только в городе, а по всему-всему морю. В городе мамки закрывают двери и окна, загоняют всех в постель и следят, чтобы никто из детей не вылез на улицу. А в море — тут как уследишь? И на ее пение начинают сворачивать корабли. Но море большое, а кораблей в нем все равно мало. Поэтому обычно только один. Ну, два было разок, так об этом весь город помнит. В общем, Грашка поет, корабль поворачивает на ее пение и прет через бухту вот туда, к свалке. И там уже по-разному выходит. Она с кораблями будто играет. Поднимает руки, и корабль как бы между ладонями оказывается. Она — хлоп! И нет корабля. И никого вообще нет. Одни обломки. Или хватает за нос и корму и разламывает посередине. А иногда не трогает, а продолжает петь, пока корабль на полном ходу не врезается в мель. А когда она устает, или если наиграется когда и спать ложится, тогда уже все городские бегут сюда к морю и собирают обломки и все, что осталось. А если почти целый корабль, так весь его обирают, а моряков по семьям забирают. Она своим пением у них просто всю память отбивает, и они нигде больше не хотя жить, кроме как здесь.
— Ей вроде мой корабль понравился.
— Ну, значит, ночью будет петь, если вы отчалить успеете. А нет, так завтра, значит.
Получив свою плату, пацаненок убежал. А капитан долго смотрел на свой корабль, кладя голову то к левому, то к правому плечу.
Наутро Грашка опять стояла в тени таможни и смотрела, как матросы занимаются уборкой перед отчаливанием.
— Нравится? — капитан опять подошел бесшумно.
— Ага. У меня такого не было. Большой, красивый.
— А хочешь покататься? Мы сейчас груз отвезем, а потом опять вернемся сюда же с заказом. И потом уже — домой. Могу взять тебя с собой.
— Мне нельзя, наверное…,- неуверенно проговорила Грашка. — Я тут нужна.
— Так я же и говорю: туда — и обратно. За неделю обернемся по любой погоде. Что тут за неделю сотворится? Ну? В полдень отчаливаем. Давай, решайся!
Лосс как будто видел маленькие шестеренки и рычаги, крутящиеся и щелкающие в голове у девчонки. Неделя — это же немного совсем. А потом, будет ли еще возможность покататься?
— Я приду! — и унеслась сквозняком за угол и к себе куда-то туда по берегу, по укатанному волнами твердому белому песку.
Ровно в полдень барк "Алпара" отчалил. Экипаж стоял по местам. В связи со слабым ветром подняты были почти все паруса. Грашка стояла на корме и смотрела, как паруса надуваются и начинают толкать парусник все быстрее и быстрее вперед в открытое море.
А потом был обед в кают-компании, где ей представились, как взрослой даме, все офицеры корабля. И на десерт — сладкое мороженое, после которого так сильно захотелось спать…
…
— Тащи, тащи! Да потихоньку, что мы — звери какие, что ли. На камнях положишь, фляжку рядом оставишь. А больше-то ей ничего и не надо.
Суета. Лязг кабестана. Приглушенные команды. Шлюпка на воде. Весла, без брызг, почти бесшумно окунающиеся в темные воды.
Капитан Лосс, дождавшись доклада первого помощника, лично командовавшего матросами на шлюпке, отметил на карте, тщательно вымеряв координаты:
"Остров сирены".
Пометил знаками опасности и осторожности. Написал сбоку:
"Мореплаватель! Остерегись проплывать возле этого места! Здесь живут чудовища!"
Пора было рассчитывать новый курс.
Его барк никогда не заходил дважды в один и тот же порт.
Чесотка
Он проснулся от боли. Во сне от немилосердной чесотки чесал и чесал руку и плечо, пока не расчесал до крови, до мокрого под ногтями и до полного пробуждения. Чесалось ужасно, до головокружения, до горячего лба, потной спины и потемнения в глазах. Терпеть такое было просто невозможно:
— Нянька! — крикнул, задохнувшись спросонок. — Квасу мне! Холодного!
— Все скубешься, скубешься, — ворчала нянька, поднося ледяного, из сеней, квасу. — И чего бы ведуна не позвать? Давно бы вылечил…
Не огрызался, как обычно. Пил жадно, вливая в себя кислое. До холода в животе, до холода в спине — пил, пил, пил…
Все равно чесалось.
А и то — по каждому случаю ведуна звать? Так княжеской казны на воев не хватит. Будет тут ведун, как приклеенный, только кидай ему монету за монетой, чтобы лечил, да разъяснял. Самое-то обидное, что никто не виноват, кроме самого же себя.
Третьего дня в ночь, как обычно, пошел проверять караулы. Конечно, воевода за оборонным делом смотрит, но на что тогда нужен князь, если сам не проверит? А князь теперь он, Ясень, потому что папка полег в последнем походе. Соседи дракона выставили против пешцев — тут даже и не убежать, дракон все равно быстрее. Все там и полегли.
Ясь уже подходил по стене к крайнему в ряду посту, когда услышал тупой удар. Именно услышал сначала, тупое и с хрустом такое, а потом его рвануло вперед, и потекло горячее по груди. И только после этого вдруг вспыхнула, как встающее солнце, дикая боль, замутившая сознание и подкосившая, заплетшая ноги. Он тогда так и свалился под ноги вскочившему с лязгом часовому. Тут же тревогу подняли, воевода набежал с руганью и с ближними своими. Смотрели следы, щурились в тьму за стеной, прикидывали, откуда кинули стрелу, что насквозь пронзила мышцы чуть выше левой ключицы.
— На ладонь если бы ниже — и все, — сказал поутру воевода, кусая зло и одновременно раздумчиво длинный рыжий ус. — И знаешь, княже, похоже — из двора стрелили. Вот так, смотри, ты шел, а вот так тебя, значит, кинуло…
Он сам прошел, как будто вдоль стены, потом крутнулся как от удара, свалился под дверь.
— Видишь, да? Сзади удар был. Из тени, так что никто ничего просто не видел. Да ты и сам виноват.
— Я? Я, что ли, сам себя? — возмутился князь, приподнимаясь на ложе.
— Мы даже подчасков заставляем в броне ходить. А тебе, выходит, можно по стене в рубашке бегать? А был бы ты в кольчуге…
— И что? Вон, гляди, насквозь прошла, дырка круглая… Так и кольчуга бы не сдержала.
— Да кто ж знает… Может, и сдержала бы. А теперь вот — лечись и думай, кто мог на тебя покуситься, и кому польза от того.
За день кровь присохла. За второй почти совсем зажило, только рукой двигать больно и щит не удержать. На третий рана совсем закрылась.
Но как же чешется!
Ясь сжимал челюсти до хруста зубовного, кулаки — до следов от ногтей на ладонях. Чешется же! Ну, как удержаться?
— Это хорошо, хорошо… Чешется — значит, заживает! — успокаивал лекарь, что лечил воев.
Да ведь зажило уже! Почти зажило! А чешется так, что хоть на стену лезь. А если чуть расслабишься, придремлешь, так обязательно правой рукой за левое плечо — и чесать, чесать, чесать до крови, до боли, до воспаления уже по всей руке.
Говорили, что от ран хорошо баня помогает. А тут после бани еще хуже стало. Сукровица выступила, да яркая такая, желтая, пачкающая простыни. И чешется теперь не вокруг шрама, уже вполне сформировавшегося, на звезду чем-то похожего, а и вся левая рука, и грудь, и спина — а спину-то как достать? Да так чешется, что не почесаться если — до головной боли доходит. До дрожи в руках, как после пьянки хорошей. А почешешься — потом весь сукровицей истекаешь, и кожа вся ноет, и будто даже кости — тоже…
— Все! Не могу больше! Черт с тобой, посылай за ведуном!
Молодой еще князь-от… Давно уже послали, до его команды. Иначе — что ж, с больным-то князем много не навоюешь.
Только ведун не торопился, хоть и денег пообещали. Все спрашивал обстоятельно посланного за ним:
— Стрелу не нашли ли? А рана зажила ли полностью? А сукровица из раны либо из расчесов? А цвет желтый ли такой, как вот у чистой серы? А вдоль расчесов шишки растут ли? Чешутся и лопаются? А подсохнув, как чешуя? Зеленым на солнце отдают?
— Да пойдем уже, дядька Евсей! Воевода меня запорет!
— Авось, не запорет. Авось, сдюжу я с болестью княжей…
Княжий терем пропах болезнью да травами. Князь лежал в перинах, как драгоценный камень в коробке на подушке. Лежал и стонал тонко, нервно почесываясь, и вдруг срываясь и раздирая кожу до крови.
Уже и на живот перешла злобная чесотка. До пупка почти.
— Их, их, их, — стонал, закатывая глаза, расчесывая тело, молодой князь.
— Вовремя я пришел, вовремя, — кивнул, смотря на болячки, еще не старый ведун. — Собирайте князя. Ко мне повезем. Медленно повезем, сторожко. А чтобы не мучился он в дороге, я ему вот, отвару приготовил. Будет спать, не будет чесаться.
Тремя повозками о двуконь выехали. На двух пешие вои ехали. На той, что посередине, князя везли. Да вокруг еще шестеро дружинников конно. Вроде и по своей земле идут, да мало ли что — вон же, вон, стрела-то прилетела. Значит, смотреть надо в оба, прислушиваться ко всему.
В первой же деревне ведун отозвал в сторону старосту, передал ему золото, а взамен получил девчонку лет двенадцати. Продали сироту. А на что она селу? Так-то все же с пользой обоюдной: обществу деньги, а князю прислуга.
— Вяжите князя, — скомандовал ведун. — За руки и за ноги к бортам. Чтобы до мяса себя не расчесал. Я ему буду отвар вливать сонный, а ты, девка… Как тебе? Зорька? Как корову, что ли? Ты, девка, чеши его, чеши. Вот этой щеткой, только ей. Везде, где шишки проступают, где зелень ползет — чеши, делай ему послабление в болезни. Ну, попробуй… Да крепче, крепче.
Князь вдруг задергался, напрягся, выгнулся дугой на привязанных руках и ногах, и разом упал на дно, в перины, блаженно улыбаясь и закатив глаза.
— Ой! Чего это он, дяденька?
— Чего, чего… Зачесала, как кота. Он теперь спать будет долго и хорошо. А там, может, и развяжем уже.
Ехали медленно. На мягкой лесной дороге не слышно было почти никакого шума, только позвякивали удила, да всхрапывали изредка лошади. К вечеру князя отвязали, да он и не помнил, что ехал связанным, поводил удивленными глазами, вспоминая, как он тут очутился.
— Вот, княже, — объяснял, присев рядом с ним ведун. — Есть душа наша, или еще ее разумом зовут, а есть организм. Ты в столице в зверинце зверя облезьяна видел? Вот, он почти как человек, только мохнатый. Ну, дак у нас в Синявке мельник такой же зверовидно заросший. Ему жена спину причесывает, не поверишь! В чем разница того облезьяна и человека? Не в том, что руки длинные у него, и не в шерсти, а в отсутствии души, сиречь разума. И вот если поранится облезьян в природе своей, то слезает с дерева, где живет, ищет подорожник, жует его и прикладывает жвачку к ране. И тем выздоравливает. А если болит брюхо, то нюхает травы, и находит нужную, и ест ее — и выздоравливает. Кто же ему рассказал про подорожник? Они же не разумные твари, бездушные, говорить не могут. Кто? Сам организм подсказывает. Мы же, люди, сильны разумом. Мы думаем, мы говорим, пишем. И не слушаем организм — ну, только когда совсем уже он разболеется. Да и тогда не организм слушаем, а ведуна зовем.
— Ты это к чему ведешь? — трудно, как будто вспоминая слова, спросил князь.
— Тот отвар, что я тебе давал, княже, он не совсем снотворный. И вовсе не от чесотки. Он должен твой разум гасить, оставляя организм бодрствовать. И тогда сам он, твой организм, найдет нужную траву, нужную лекарству. Понял ли?
— А человек без разума — он как облезьян, выходит? — медленно понимал князь. — И ты, что ли, из меня такого облезьяна сделать хочешь своим отваром?
— Я, княже, хочу видеть тебя сильным и здоровым. Ты нам с воеводой таким нужен — сильным и здоровым, — серьезно отвечал ведун, спрыгивал с повозки и шагал быстро вперед, показывая на открывшуюся справа полянку.
Устраивались привычно. Ночи стояли сухие, поэтому шатров не раскидывали. Разложили костры квадратом, положили на перине князя, девка это со щеткой все чесала, да сметала пыль белую кожную с плеч его и спины. Есть он не стал, снова упав в бессознание. Остальные же перекусили всухомятку, да разлеглись кто где. Горячее было обещано в ближайшем селе — завтра примерно к обеду, если вовремя выехать.
— Ты, княже, зря себя сдерживаешь, — осматривая больного, твердил ведун. — Ты отпусти, отпусти душу-то на волю. Дай организму самому решить, что ему надо. Вот тут чешется ли?
— Везде чешется. Ой, как чешется! — рычал князь, уткнувшись в подушку, а девка тут же начинала чесать, чесать, чесать плавными движениями, постукивая щеткой по борту повозки, сбрасывая пыль кожную.
На третью ночь ведуна разбудил встревоженный часовой.
— Чего это он? — тыкал пальцем в опушку леса, вдоль которой, неуклюже подпрыгивая, прохаживался на каких-то слишком коротких ногах совершено голый князь.
Ведун смотрел, загородившись рукой от углей костра, улыбался чему-то. Князь то прыгал боком, то переступал короткими ногами, а руки у него вдруг вытянулись, легко доставали до земли, но он держал их в стороны, как орел, присевший на жертву.
— Ай, молодца, — шептал ведун. — Отпустил душу. Яся, Яся, Ясюшка, иди сюда, иди ко мне… Иди, я тебе спинку почешу..
Князь… Да князь ли? Смотрел недоверчиво, наклоняя голову, приближался с опаской.
— Ай, красавец, ай, молодец какой, маленький… Яся, Яся, — подманивал ведун.
— А девка-то его где? — вдруг встрепенулся дружинник.
— Девку он схарчил, пока ты дрых у костра. Они завсегда девками питаются. Оголодал, маленький…
— Да как же это… Сказки это все! И какой — маленький? Князю уж за двадцать!
— Дурак ты, Федька. То князю уже за двадцать. А Яся наш, Ясюшка, маленький наш — он только что… И теперь надолго, если не навсегда.
— А что это? — палец указывал на то, что приблизилось к костру. Не князь, да и не человек уже. Весь в зеленой чешуе, кое-где покрытой еще остатками кожи. Зубы, острые, как ножи, золотой глаз с поперечиной…
— А это, Феденька, дракон. Ну, иди ко мне, Яся!
Ведун достал щетку, постучал ею по повозке, а потом начал размеренно чесать подкравшегося дракончика, закатившего в неге глаза.
— Вишь, малой совсем. На крыло еще не встал. А где у Яси шрамчик от стрелы? Нету у Яси шрамчика. Говорил я князю, что заживет — и зажило… Вот откормится — мы ему еще девку купим, если надо. А там и домой можно, в крепость. И будет у нашего воеводы свой боевой дракон.
…
— Ну, как, воевода, отработал я свое?
— Хорош, — восхищено смотрел в небо воевода. — Князем-то был дурак-дураком, а драконом — ей-богу хорош!
— Это он еще малой совсем, а как в полную силу войдет… Ого-го!
— Да то я знаю. А драконицу ему не сыскать? Было бы не скучно ему.
— Не бывает у них дракониц. Вот только так, через кровь размножаются. Жаль вот только, что стрелу нужную ты потерял.
— Чего это — потерял. Вот она, бери. У нас все в целости и сохранности.
— Ну, воевода, ну, молодец! В общем, зови, если что опять надо будет.
— Да теперь-то, с драконом, мы и сами от кого хочешь отобьемся.
Черный колдун
Друзья — это самое главное в жизни. Кто-нибудь напомнит еще про любовь, семью и родственников, но Ян знал точно: друзья и настоящая дружба — главнее всего. Поэтому он и собрался в свой поход. Не то чтобы он очень уж любил подраться, или там бойцом был великим, нет. Он и рыцарем-то не был на самом деле. Родители держали небольшую гостиницу почти под самой городской стеной, а он учился в местной академии, как полагается сыну почтенных родителей. Там, в академии этой, он и подружился.
Сначала с огромным Рашем. Раш был высок, широк, имел выдающийся вперед живот, в который можно было бить кулаком со всей силы, как в огромную подушку, а он и не чувствовал ничего. На уроках боя он пользовался палицей, да так ловко, что мог двух мечников осилить.
Раш после очередной студенческой заварушки в каком-то кабаке приволок на себе Чингиза. Заросший черным курчавым волосом до самых глаз Чингиз учился на антимагика, а в бою действовал легким клинком и кинжалом. Учителя его хвалили за воздушную легкость в бою и скорость. И ругали за взрывной характер.
Так их стало трое: Ян, Раш и Чингиз. Никто не сказал бы, глядя со стороны, кто тут у них главный. Потому что никаких таких главных не было. Они просто дружили — такие разные и совершенно не схожие по характерам. Огромный увалень Раш, от которого отлетали любые даже самые обидные шутки, потому что он и сам был рад подшутить над собой. Худощавый и гибкий Чингиз, хватающийся за кинжал при каждом смешке в его сторону. Белобрысый длинный флегматичный Ян…
Ян учился на учителя. Вообще-то на всех факультетах учили преподаванию своих дисциплин, но Ян сразу пошел именно на педагогический. Он и друзьям объяснял, что все беды в жизни — это просто от плохих учителей. Поэтому так выходило, что они встречались только на общих потоковых лекциях, да после учебы, если выпадала минутка. Ну, или часок.
Иногда, когда было совсем туго с деньгами, они втроем заваливали к Яну, вернее, к его родителям. В гостинице внизу был маленький трактир — вот там их мама Янова кормила и поила, вздыхая и жалея. Но никогда не ругала. Она понимала, что это — друзья. А без друзей в жизни трудно.
Потом вдруг пропал Чингиз.
Ян заметил это примерно через неделю. Ну, там три дня — это еще куда ни шло. Так бывает — мало ли что. Но когда неделю не виделись, и на лекциях не пересекались…
— А что случилось? — спросил Ян у Раша.
Тот пожал могучими плечами, вздохнул отчего-то и потребовал еще пива. Еще он был мрачный какой-то. Раш и так-то был не очень разговорчивый. Спокойный такой, чуть медленный. Казалось, он всегда двигается осторожно, чтобы не зашибить кого ненароком.
А потом пропал и Раш.
Ян ходил по коридорам академии, потом по кругу заглядывал во все кабаки, где, бывало, гуляли студенты, шел домой, где каждый час, а потом и чаще выглядывал на улицу: по летней поре окошко держал он в комнате распахнутым, чтобы не так жарко было. Друзья все не появлялись.
Зато появились их подруги. Они пришли вдвоем, решительно и с напором. Пробились через маму, через папу, достучались до Яна…
И вот теперь он ехал, сгорбившись, по проселочной дороге. Сгорбившись, потому что тяжело: рубаха, потом безрукавка стеганая, потом кольчуга длинная, еще кираса, наручи, поножи, шлем с клювом, длинное копье в правой руке, меч под левой. Как еще их лошадка, что таскала обычно тележку с продуктами с рынка, везла теперь на себе такую тяжесть? Со стороны поглядеть — чисто рыцарь в полном вооружении.
Ян вообще-то так и учился. Он садился в манеже на коня, потом разгонялся по длинной дорожке, усыпанной белым песком, и тыкал тяжелым копьем в мяч, насаженный на кол. Если промахивался, поворачивал, мелкой тряской рысью доезжал до старта, и по команде преподавателя снова летел вперед.
А теперь не летел, а плелся шагом. Жарко, тоскливо…
Подруги сказали, что Чингиз, как студент-антимагик, подписал контракт на черного колдуна в недалекой деревушке. Деньги по контракту могли помочь ему продержаться лишний год в городе, а там и диплом совсем близко. Карту ему дали, описание полное, мешок кожаный для головы того колдуна. Ушел Чингиз — и не вернулся.
Через неделю засобирался за ним Раш. Потому что друг, и потому что контракт они подписывали вдвоем, в кабаке, подвыпив. И там же и решили, что прибыль пополам, но подвиг — наособицу. Каждый сам хотел побить черного колдуна из недалекой деревушки Рыски.
Вот, выходит, и очередь Яна пришла.
Он-то контракт не подписывал, и на черного колдуна ему, честно сказать, было совершенно наплевать. Он же учителем хотел стать, а не рыцарем и не борцом с нечистью. Вот только дружба…
Дружба!
Ян выехал на опушку леса и посмотрел сверху от холмов на деревушку Рыску.
Ну, вот… И где там друзья-то? Он толкнул пятками лошадь, и та, осторожно ступая, двинулась вниз. Пятками он ее пихал, потому что наотрез отказался надевать высокие рыцарские сапоги со шпорами. Во-первых, в такую жару в сапогах было просто неприлично и неудобно, а во-вторых, как же это, живое существо — шпорами?
У околицы он слез, пыхтя и отдуваясь, свалил в кучу копье, меч, шлем, кирасу, налокотники, поножи, кольчугу, из которой еле выпутался, стеганую безрукавку. Отпустил лошадь пастись, а сам пошел, загребая горячую пуль босыми ногами, по деревушке. Легкий ветерок сушил мокрую рубаху, играл с белесыми вихрами.
Рыска была именно деревушка, не деревня и тем более не село. Всего и было четыре дома квадратом и площадка небольшая посередине. Там сидел пацан лет десяти и играл в песке. Он что-то бормотал себе под нос, водил руками, передвигал с места на место игрушки. Ян подошел и стал смотреть. Ему дети нравились, он детей любил. И играть с детьми он умел. Еще через полчаса они уже вдвоем сидели в белой пыли и играли в солдатиков, передвигая их, заходя во фланг, атакуя и отступая. Наконец, глянув на начавшее опускаться солнце, Ян с сожалением встал. Глядя сверху на мальчишку, спросил:
— Слушай, тезка, — а паренек был тоже Яном, что обнаружилось в ходе игры. — Ты таких не видел здесь?
И он подробно и красочно описал своих друзей, даже показывая, как сутулится немного Раш и при этом ходит пузом вперед, как не сутулится, а опасно пригибается Чингиз…
— Кровники твои? — понимающе переспросил Ян-маленький. — Убивать их будешь?
— Да ты что? — замахал руками Ян-большой. — Это же друзья мои! Я друзей своих ищу!
— А-а-а… Друзей, — понимающе шмыгнул носом малец. — А не колдуна?
— А зачем мне колдун? — искренне удивился Ян. — Мне друзья нужны. Я соскучился уже.
— Ну, забирай, выиграл, — кивнул пацан и убежал, ушлепал, поднимая пыль, куда-то за дома.
— Что забирать? — поднял к затылку по привычке руку Ян. А в руке — оловянная фигурка бойца с палицей. В другой руке — вторая. Там присевший бородатый воин с саблей и кинжалом.
…
В город они вернулись уже втроем, хотя Чингиз и Раш еще двигались плохо. Все суставы щелкали и скрипели, и слабость была, и спину ломило. Потом немного откормились, попили пива, и опять ходили везде втроем — Ян, Чингиз и Раш. Только теперь слушали они Яна, прислушивались, переглядываясь иногда и кивая.
А он еще раз пригодился — настоящий друг! Это когда вытаскивал их из тюрьмы, где они сидели в ожидании суда. Встретился им опять тот странный человечек, что контракт подсовывал на черного колдуна. Встретился и подошел сдуру выяснить, как там, мол, дела? Ну, и побили они его, натурально. А кто бы не побил?
Иногда, когда друзья были заняты или у него самого было свободное время, Ян ездил в деревушку Рыску и там играл в солдатиков с Яном-маленьким. Только больше никак не удавалось выиграть.
Тиран
— Свобода и совесть! — рявкнули внизу так, что на миг не слышны стали топот, лязг и суета, поднявшаяся с первым криком охранника на входных дверях. По голосам, прикинул король, спокойно поднимая руки и принимая на плечи тяжелую кольчугу, не меньше пятидесяти человек. Внизу обычно дежурили десять охранников — простых кнехтов. Черные рыцари держали посты, начиная со второго этажа. Кнехтов, думал король, позволяя слугам опоясать себя широким кожаным поясом в железных скобках, не смогли срубить сразу, те успели поднять шум — значит, в самом дворце предателей нет.
Значит, атака врага снаружи. Но как они прошли через ворота? Там же тоже стояла охрана? Во дворе была тишина, и если бы не крик того, что стоял у дверей, нападавшие могли пройти незамеченными по широкой лестнице сразу на второй этаж. Если кто-то из солдат останется жив, обязательно и щедро наградить, — подумал король, шевеля плечами под стальными наплечниками. Так наградить, чтобы все видели, чтобы завидовали честной службе.
— За короля! — ухнуло внизу гулко, как из бочки. Черные рыцари вступили в бой. Это уже второй этаж, выходит. Быстро идут.
Черные никогда не снимали на людях свои черненые доспехи и огромные, похожие на перевернутые ведра, шлемы с черным конским хвостом. Элитное подразделение. Лучшие и вернейшие из лучших. Вот только мало их, вернейших. А внизу топот — к нападающим подходят и подходят подкрепления. Давят массой.
Король повернулся к стойке с оружием.
Что взять? Огромный двуручник? Он для поля, чтобы крутиться в толпе, чтобы рубить по ногам, чтобы отсекать наконечники копий. В помещении им не помашешь. Хотя, солидная вещь. И старинная…
Парные из далекой страны на Востоке? Легкие, как кинжалы, чуть изогнутые. Король взял два парных клинка, покрутил "мельницу", когда каждая рука как бы по очереди, как крылья мельницы, ударяет сверху вниз и уходит чуть в сторону. Красиво. Но не эффектно.
А нужно именно эффектное и эффективное. Чтобы видели — сам король в бою. Вот, пожалуй, старый боевой полуторник, который помнят многие, бывшие с ним в боях. Простой прямой меч, начищенный до зеркального блеска, прямая же, крестом, гарда, туго оплетенная кожаным ремешком рукоять. Он позволит взять на левую руку один из щитов. Вот тот, для мечного пешего боя, с гербом, чтобы видели и знали.
Что-то гулко упало на парадной лестнице.
Шкаф с подарками, похоже. Огромный шкаф стоял на виду в коридоре, чтобы все, приходящие к королю на прием, могли видеть драгоценности, подаренные соседями и не соседями, а очень даже далекими королями, князьями, герцогами… Даже два царя отметились здесь. Под каждым подарком — табличка, чтобы было ясно, кто, за что, когда. Не проданы, не переплавлены в монету, не заложены ростовщикам. Вот они, подарки, все могут видеть! Вернее, все могли видеть. Теперь-то не увидишь.
— За короля! — и хрип…
Это уже здесь, неподалеку совсем. Все-таки давят своей численностью. Хорошо, что дворец строился так, что лучникам тут было неудобно. Сплошные повороты коридоров, изломы лестниц. А то давно бы утыкали стрелами защитников. А так им приходится пробиваться. Тратить время.
А время работает на нас, подумал король. Время — оно нужно, чтобы поднять гвардейцев и привести их от казарм к дворцу. Еще бы хоть с четверть часа продержаться. Гвардия успеет. Гвардия справится.
— Свобода и совесть!
Что за дурацкий пароль? Что они орут какую-то чушь? Какая свобода, кому, от чего? И какое отношение свобода имеет к совести? Если есть совесть — нет никакой свободы. Это же ясно даже выпускнику гимназии. А тут — взрослые люди… Что за дешевый романтизм? Кто это, кстати?
Король повернулся к двери. Две створки. Вышибут быстро. Надо было хоть в спальню делать маленькие двери. Тогда — еще пять минут. а если бы оковать железом, да железный же засов — так и все полчаса.
Двери рухнули с грохотом, поднимая белую каменную пыль.
— За короля! — жидковато, жидковато…
Трое выступили вперед. Смертники. Последние из черных. Последние верные. Личная охрана. Король сам шагнул вперед, плечами оттеснив в стороны рыцарей.
— Ну, и кто это тут пришел к своему королю? — спросил он вроде бы тихо, но слышно было всем. Король не надел шлем, седые кудри стояли облаком, подсвеченные сзади горящими факелами.
— Время-то неурочное, неприемное, утреннее…,- хэкнул, отбивая щитом первый удар копья.
Копья — это плохо. Умелый копейщик в строю всегда сильнее мечника. Тут надо сразу ближе пробиваться, вплотную, чтобы они друг друга прикрыть не могли. Подставив щит под уколеще одного хищно прянувшего к нему острия, сияющего красным, он сделал широкий шаг в полуприсяде и не глядя ткнул мечом снизу вверх. Тут же слева и справа поддержали черные, слитно шагнув и оттеснив к дверям нападающих. В дверях бы их сдержать. Все же тут трое в ряд — максимум. А если пустить в комнату, то придется биться с десятком одновременно. Сомнут. Где же гвардия? Пора бы уже…
Отбить удар, пропустить над головой второй, подпрыгнуть, опять закрыться щитом, рубануть сверху, отгоняя.
Долго им так не простоять.
Слева вскрикнул и отшатнулся, зажимая плечо, рыцарь. Его место заступил последний, держащийся до того сзади.
— Свобода и совесть! — раздалось вдруг мощно и слаженно из коридора.
И обороняющуюся троицу, как пробку, вышибло напором тел из двери. Ну, вот и все. Теперь — каждый сам за себя. Король крутнулся на месте, стуча мечом по подставленным щитам, сделал шаг назад, еще один, увидел, как падает последний черный, почувствовал за спиной мелкое плетение окна. Ну же, гвардия! Где ты, гвардия? Он окованным локтем вышиб стекло, махнул перед собой резко сверху, тут же снизу и опять сверху… Глянул быстро через плечо.
Руки опустились бессильно. Это не враг. Это кто-то свой. Заговор!
Гвардия в полном порядке стояла парадным строем во дворе. Со знаменами и офицерами впереди. Она стояла и ждала. Чего? Смерти его ждала? Ах, ты, нечисть какая…
Еще мечом, толкнуть щитом, чтобы место было для замаха… Не толкается. Тесно. Давят со всех сторон. Уже и руку не поднять для удара.
Король выронил меч, дернул тут же из-за пояса кинжал, ткнул вперед, но кто-то уже кинулся в ноги, со всех сторон толкнулась толпа, качнулась, давя… И вот уже только ноги вокруг. Ноги и щиты, которыми давят, жмут. Выдирают кинжал из руки, снимают с руки щит, режут ремни и скидывают доспехи.
Король хрипел в ярости и ненависти. Дергался под неподъемным весом… Даже сапоги сдернули. Боевые сапоги с кармашками для ножей, со стальными клювами спереди…
Все. Теперь — все.
Он расслабился, уступая силе.
Упустил. Просмотрел что-то… Сам виноват.
Запах крови и смерти туманил голову. Воздуха не хватало. Ну, чего ждут?
— Свобода и совесть, — сказал кто-то негромко. Толпа расступилась, пропуская к королю…
— Карл? Ты? — узнал король своего племянника.
— Выйдите все. Караулить двери. Гвардии занять посты, — команды раздавались четко и так же четко исполнялись. Отходили люди, становилась стража у дверей, от строя гвардейцев отделялись патрули и двигались на свои посты по боевому расписанию…
— Ну, дядя, вот и все…
— Что за детский лепет? Что это такое вы кричали? Что еще за свобода и к чему тут приплели совесть? — недовольно ворчал, поднимаясь медленно с пола, король. Переворот уже удался, а раз так — хоть немного поговорить, протянуть хоть немного. Все равно не жить. Потому всех и удалили. Король не может умереть от рук простолюдина. Король умирает своей смертью. Или не своей. Но — от рук короля. И никак иначе.
— А как ты хотел, дядюшка? Народ хочет настоящей свободы и хочет, чтобы правили им по совести. По совести и по закону, а не по велению и хотению сумасшедшего тирана.
— А сумасшедший тиран — это я, выходит?
— Да. Ты. Такие, как ты, не должны жить на земле. Если просто посчитать, сколько людей, самых честных и отважных рыцарей, ты уничтожил…
— Я — уничтожил? — мальчишке удалось изумить короля. То есть, бывшего короля.
— Как только появлялся смелый человек, который не боялся спорить с тобой, так сразу…
— Что — сразу? Мальчишка, ты видел казни? Хоть кто-то в мире видел казни и расправы в нашей столице?
— Уж лучше бы их казнили при людях, на свету, чем так — расправляться втихомолку. Где граф Рейнольд — честнейший из честных, поднимавший свой голос против тебя? Где рыцарь Осс? Где храбрый Бэр, получивший за сражение на перевале дворянство? Где они? Ты убил всех! Это знает каждый в стране…
Король засмеялся, заперхал, стуча кулаком по груди…
— Да-а… Вот как я все устроил хорошо… Это ты убил их всех, мальчик. Ты сегодня убил их всех. Граф Рейнольд командовал моими черными рыцарями. Рыцари Осс и Бэр были моей личной стражей. Вон их тела. И все остальные, лучшие из лучших, кто мог спорить со мной, кто не боялся "сумасшедшего тирана и деспота" — они все были моими самыми верными защитниками и друзьями. Они все были черными рыцарями…
— Не верю! А где же их дети, их семьи?
— Их семьи вывезены в дружественные страны. Их дети учатся в лучших университетах… Пойми, чем страшнее выступить против — тем честнее выступивший. А честность требует награды. Все честные теперь лежат на втором этаже. Честные устилают своими телами парадную лестницу. Мои честные… А теперь, выходит так по всему, честные — это ты и твои бойцы. Ну, заканчивай, мальчик, свое дело. Одно скажу напоследок. Восстанови отряд черных рыцарей. Сразу восстанови. И тогда тебя будут бояться враги, тебе будут верны друзья, и бояться ты будешь — только совестливых родственников…
Через минуту тело короля упало на площадь из окна третьего этажа.
— Король умер! — протяжно возгласил с высокого крыльца герольд в церемониальном ярком наряде.
— Да здравствует король! — слаженно рявкнула гвардия, вглядываясь в окно, из которого смотрел вниз новый король, обещавший всем свободу и правление по совести.
Король Кунц
Он гордился.
Он так гордился, что чуть не лопался от такой явной своей гордости. Гордиться помогало то, что ему внимали. Внимать, если кому не понятно, это слушать со вниманием. Если бы он был тут среди всех начальником, то мог бы еще сказать, что его "ели глазами". Да только какой он тут начальник, откуда бы?
— Опять расселся тут, бездельник, — прошипел над его ухом хриплый голос.
Прошипел, потому что с уважением. Чтобы не все слышали, значит, а только он. А хриплый голос оттого, что двери здесь все время настежь. Так и машут деревянным крылом, загоняя в уютный плотный, пропитанный пивом и запахами капусты и мяса, теплый зал холодный ветер с улицы. Вот и хрипит почти всю зиму кабатчик хромой Михей.
Охромел он еще пять лет назад, когда по такой же вот примерно погоде сверзился, поскользнувшись на разлитом да и замерзшем потом пиве, в собственный же глубокий подвал. Болел тогда долго. Потом еще ходил по кабаку с палкой подмышкой. Теперь вот хромает и все косится сердито на очередного посетителя, медлящего закрыть дверь.
— Ну, — снова захрипел он в самое ухо.
Кунц даже не поморщился, только повернул медленно чуть в сторону голову, приподняв гордо бороденку, будто только сейчас заметил Михея, человеком-горой возвышающегося в своем коричневом кожаном фартуке, пропитанном жиром.
— А, это ты, дружище Михей! Извини, не сразу заметил. Рад тебя видеть, старина. Как нога? Ну, неси, неси нам на всю честную компанию. Так ведь, мужики?
Мужики, внемлющие до того рассказчику заграничных небылиц, закивали согласно головами.
Время было вечернее, морозное. Дверь, хоть и обита специально полотном поверх пучков соломы, вся промерзла и закрывалась от этого неплотно. А по самому низу, где Михей прибил ржавую железяку, чтобы ногами пинать можно было, уже висел плотный слой льда. И тянуло от двери так, что снимать кожух совсем не хотелось.
Но даже этого сквозняка не хватало, чтобы разбавить хлынувший из кухни запах от только вскрытого бочонка с кислой капустой. На запах этот, правда, почти никто внимания не обращал, нос откровенно не кривил, потому что знали все, что нет ничего лучше, чем вот такая кислятина, слегка промытая, а потом выложенная в огромную сковороду, в старый свиной жир, расплавленный и плюющийся по сторонам. И туда же хозяин, наверное, прикажет покрошить пару колбас, что зависелись у дымохода над печью аж с серпеня, как кололи свинью у Франка, который вовсе и не Франк на самом деле, а просто так — Франтишек. То есть, раньше он был просто Франтишеком. Да только после службы в армии загордился он невесть отчего и велел всем называть его коротко, но с уважением, как иноземца какого. Вот с той самой свиньи две колбасы еще оставались, но никто их уже не брал, потому что зимой свежатинка всегда есть.
А в капусту если такую покрошить — самое оно получится.
Когда все покоричневеет, просолится, проперчится, прожарится — вывалит Михей-кабатчик, не жалея продукта, на большое деревянное блюдо, что в полстола, принесет мужикам, бросит на стол деревянные же ложки тем из них, кто свои не приготовил.
Правильный-то мужик ножик и ложку всегда с собой носит. Летом — за обмоткой онучевой, а зимой — за голенищем высокого валяного сапога. Валенки, да кожухи, да штаны суконные — это же самая лучшая по зиме одежда. А запаха этого от тех валенок, что как псина мокрая, его и не слышно совсем, потому что капуста перебивает все.
А еще, по запаху, что с кухни потек, в сало Михей щедро покрошил луку да чеснока. Вот теперь уже запахло вкусным и острым.
— Ты пока нам выпить неси, Михей! — крикнул вдогонку кабатчику тщедушный Кунц, довольный новыми слушателями, и опять закивали мужики, ожидая продолжения рассказа.
Выпить вечером субботы после тяжкой трудовой недели не находил для себя зазорным никто. Говорят, даже герцоги разные и графы — и те по субботам себе позволяли.
В кабаке у хромого Михея подавали по холодному времени казенную прозрачную и чуть маслянистую на вид палинку, которую проверяли, специально поджигая и нюхая запах от нее. Да еще наливали в тяжелые глиняные кружки густое черное зимнее пиво, валившее непривычных с ног посильнее той палинки. Честно говоря, то же самое подавали и летом, в самое пекло.
Ну, не умел Михей варить правильное светлое. Выходило оно у него всегда мутное, с запашком, как будто дрожжевым. Так он придумал называть его "живым", и с проезжих за то брал в полтора раза больше. А проезжим — что? Им лишь бы диковину какую. Заезжие эти про "живое" пиво от Михея и разнесли по всей дороге.
Вот только местные, свои, пили у него только темное. Потому что знали. Темное-то пиво у Михея было правильным, с настоящим хлебным вкусом, с квасным запахом, бьющее в голову и в ноги, греющее зимой и охлаждающее, утоляющее жажду и даже голод летом.
— Дак, чо дальше-то? Ты говори, говори, — бормотали мужики наперебой, обхватывая большими корявыми ладонями выставленные перед ними кружки.
И Кунц продолжил свой рассказ, всплескивая руками и тряся жидкой бороденкой:
— В столице, говорю, девки-то спят в специальных костюмах из прозрачного шелку. Называют его "пэжам". Слово иностранное, откуда пошло — никто не знает, а сами эти пэжамы — донельзя смешные. Меня тоже учила одна красавица-купчиха, чтобы ночью — только в пэжаме. Но я такого не выдержал и сбежал, хоть и просила она остаться и обещала даже мне купить не кабак, как у Михея, а самый настоящий трактир, с комнатами и конюшней. Обещала поставить трактир на хорошем перекрестке. А еще в той столице моются постоянно.
Он обвел мужиков горящим вдохновением взглядом и добавил для крепости:
— Не меньше двух раз в неделю! Во как!
— Ну, положим, два-то раза в неделю я бы выдержал, — пожевал губами самый здоровый и бородатый мужик. — Оно противно, конечно, но ежели за трактир — можно и потерпеть.
— Это ты, ты же вон какой здоровый, — захихикал мелко Кунц. — А глянь на меня? Ась?
— Это да, — прогудел добродушно мужичище. — Тебя, дак, вовсе смылить можно. Если по два-то раза…
— Это что! А вот был я еще в южной стране Юразии, так там бабы в постелях спят натурально вовсе без всего! Совсем, значит, голые!
— Как же это? — засомневался кто-то, запуская пятерню в затылок.
— А вот так! Жарко там у них, в южных странах. Они даже не прикрываются ничем, так и лежат. А мужчина там может иметь три и даже больше жен. Если, конечно, прокормить может — так и все семь можно. И вот, представьте, все семь спят нагишом! У меня там, правда, всего одна была, но красивая такая, заводная, да молодая! Она не так просто с улицы — дочка князя ихнего. Дворец, понимаешь, все дела, как положено. Она и меня научила спать безо всего. А что?
Кунц поднял кверху палец, обвел вокруг себя, потом сложил кукиш и ткнул им напоказ в темный угол.
— Да вот, а что такого? Нормально! И нечего вам ржать! А ежели еще вдвоем, так и вовсе приятно даже! Эх, любила же она меня страстно. Предлагала остаться навсегда. Да. Но не могу я, не могу на одном месте. И однажды просто сбежал. Была погоня, но мой конь был быстрее. А стрелять они не стали, потому что не убить меня хотели, а женить. На княгине.
— Ух, ты-ы-ы…
— А в северных странах мужики спят так же, как и бабы. В длинных, в пол, толстых таких рубахах. С рукавами, — добавил он, подумав мгновение. — И на голову надевают колпаки специальные теплые с ушами. Потому что мороз у них стоит такой, что лед не только на двери, как у Михея, но и по всему полу лежит. Красиво там, все такое гладкое и блестит.
— А ходить-то как? По льду?
— А так и не ходют они. Катаются на коньках. Маленькие такие конечки, железные, блестящие. Я там правда совсем недолго жил, потому что морозов сильно боюсь. Я ж худой, сразу кости мерзнуть начинают. А вот толстым там очень даже хорошо. Не жарко. Да, и женщины, что интересно, у них очень красивые. Белые такие, высокие, волосы почти до полу…
— Они-то высокие, а ты маленький, — засмеялся сбоку и закашлялся, подавившись, кто-то из приезжих. — Небось, там-то, на северах, никто тебя такого мелкого не любил, да?
— Отчего же, — приосанился Кунц, задрав бороденку уже чуть не к потолку, масляно блестевшему в слабом свете лучин. — Очень даже любили. Прынцесса местная была в меня просто влюблена. Был бы я сейчас северным прынцем. Да только вот не сложилось у нас. Война у них там началась, и пошел я за них воевать. За них и за прынцессу эту, значит.
— Ну, ну? И что там дальше было? Как воевал?
— Что дальше, что дальше… В плен попал. Раненый, — со значением поднял он снова палец. — За героизм меня величали враги на своем языке багадуром.
— Это каким дуром-то? Насмешничали, что ли?
— Багадуром, балда! Это богатырь и герой по-ихнему. А когда я выздоровел, то положила на меня глаз сама их цариня. У них там, понимаешь, женщины правят, потому что мужики все время в деле — на войне, в походе…
— Ну, это, пожалуй, правильно, это и у нас почти так, — закивали, переглядываясь, мужики.
— …Да сбежал я, — продолжал заливаться Кунц. — Не выдержал в плену быть. Ненавижу, когда притесняют. За мной, конечно, гнались, да. Но я пробился в степи, а там мне каждый кустик — товарищ. я же маленький. Меня и не видно. Сошелся с племенами кочевыми. Там у меня тоже была любовь. Такая любовь…
Он закатил глаза, поцокал языком, покрутил в немом восхищении головой:
— Вам, мужики, не понять. У них девки, понимаешь, на конях скачут во весь опор — без седла. И без порток, — добавил он тут же, заметив, что отсутствие седла не вызвало оживления.
— Да-а… Ух, ты-ы… Ляжки такие, знать… Как зажмет, видать…
Опять хлопнула дверь, впустив волну морозного воздуха, заколебавшего пламя над поставцами.
— Кунц! Ты где тут опять? А ну, пошли домой! Хватит тут из пустого в порожнее с проезжими. Делом заняться пора! — сурово пробасила от порога высокая женщина в богатой шубе и в восточной шапке с ушами, завязанными под подбородком.
Кунц тяжело вздохнул. Еще раз вздохнул со значением, мол, как он устал от этих женщин. Даже ойкнул немного от старания. Потом медленно поднялся, чтобы не терять солидности перед слушателями, поклонился всему обществу и молча вышел.
— Это кто же был? — дернул кто-то Михея за фартук.
— Кто-кто… Баба его. Не видно, что ли? Жена законная. Королева евонная и наша, Феодора…э-э-э… восьмая, что ли… А он, стало быть, наш подлинный король Кунц. Как есть — король. Вот так и живем с ними, королями, — прохрипел сквозь внезапно напавший кашель Михей. Откашлявшись, смахнул рукой слезы, выступившие от натуги на глазах, и быстренько скрылся на кухне.
— А хороший у них тут король, мужики!
— Да-а… Нам бы такого! Все повидал, все знает. И женщины, что главное, его любят. Сразу видно — справный король!
Задумались каждый о своем.
Затихло в кабаке.
Справедливый суд
— Ваша честь, подсудимых привел, кого велено!
В дверь сунулась широкая красная морда стражника. Судья графства, сухонький старичок неопределенно старого возраста, поднял голову от разложенных на темном дереве стола бумаг и молча уставился ему в переносицу блестящими черными глазами.
— Э-э-э… Прошу прощения, привели, значит, ваша светлость! — уже тише повторил стражник.
— К судье графства обращаться надлежит просто и без чинов — "судья". Говорить ему надобно "ты", но вежливо и с соблюдением достоинства, — наконец, недовольно проскрипел, будто прочищая горло, седой судья. — Ты понял меня, стражник?
— Э-э-э…,- тот тяжко сдвинул брови вместе и наморщил лоб. — Точно так. Я… тебя… понял, судья!
— Тогда вводи.
— Так, которого же из них-то?
— Вводи обоих. И сам заходи с ними вместе. И моих ребят позови там со двора — пусть посидят тут в углу, послушают.
Стражник буквально вбросил, как два куля с тряпьем, изломанных и покрытых сажей и собственной кровью подсудимых. Они тут же с явственным стоном рухнули на пол.
— Перестарались, что ли? — приподнялся обеспокоено судья. — Слушать и говорить могут?
— Могут, могут! Они теперь такие разговорчивые стали, не то, что поначалу-то.
— Ну, это, — махнул судья своим, присевшим на лавки в темных углах комнаты, освещаемой только свечой на столе судьи. — Посадить, значит, напоить, придерживать.
Быстрое почти неслышное движение, несколько стонов, гулкие глотки, когда в разбитый рот полилась вода из поднесенного медного чайника.
— Готовы? Ага… Итак, подсудимые, горемычные мои, дело разбирается судьей графства, а не мировым судьей, потому что… А кстати, что я вам буду рассказывать. Это вы сейчас мне и поясните, почему меня к вам прислали, оторвав от всех важных дел графства. Законы, как я гляжу по допросным листам, вы изрядно знаете.
Он помолчал, смотря на каждого по очереди, склоняя голову то к левому, то к правому плечу, будто выбирая.
— Ты. Говори, сидя. И я буду сидеть тогда, а не дергаться.
— Судья графства привлекается когда речь идет об оскорблении словом или делом графских служащих.
— Так, да. Но с добавлением: для соблюдения истинной справедливости в делах между графскими служащими и городскими жителями. Запомнил? Вот потому, значит, я здесь сейчас, а не в столице. А ты, выходит, и есть тот самый графский служащий. Так?
— Я — квартальный надзиратель. Зовусь Ян Короткий, — привычно отбарабанил левый из двух.
— А ты, значит…,- судья переложил несколько бумажек на столе, поднял глаза на правого.
— Ремесленники мы. Шорник. Тоже Ян. Ян Длинный.
— Ну, вот, и познакомились, процедуру соблюли. Теперь у нас с вами будет так: вот тут у меня все написано, что вы говорили под честной пыткой. Я буду задавать вопросы, а вы так же честно отвечать, чтобы я уяснил то, чего не понятно может быть из написанного. А если не честно, то я опять отсылаю к палачу. Все понятно? Возражения?
Стражник молча навис сзади над подсудимыми, придерживая их за плечи огромными ручищами.
— Все ясно…
— Да. Понятно.
Судья опять помолчал, что-то черкнул в подложенных бумагах, а потом задал совсем немного вопросов, на которые получил от обоих честные и развернутые ответы.
Ян Короткий, квартальный надзиратель, давно уже никак не мог поймать ловкого вора, который грабил дома граждан, когда те уходили по своим ежедневным делам. Ювелиров грабил. Портного грабил. Кузнеца, когда тот был в кузнице. Ян бесился, и потому стал искать, как учили в столице — кому выгодно. В его квартале остался нетронутым только дом шорника Яна Длинного. Но Ян был всегда на людях, за работой. Вот только был у него сын, который все больше бездельничал и шатался по улицам в компании таких же малолеток. Надзиратель взял сына прямо на улице, увел его к себе в канцелярию, порол ремнем и кнутом до крови, и сын шорника во всем сознался. Но когда квартальный надзиратель повел его в тюрьму, чтобы передать дело мировому судье, как-то пацан этот извернулся и убежал. Ян Короткий гнался за ним, но был слишком тяжел и ноги коротковаты — ушел, разбойник.
Ян Длинный, шорник, спрятал сына от стражников, а потом пошел к канцелярии, дождался вечера и побил квартального надзирателя. Крепко побил. При большом скоплении народа. И все радовались, потому что был народ недоволен Яном Коротким. Тот всегда распускал руки, и у многих дети были биты, а некоторые даже выкупали своих за большие штрафы уже из тюрьмы.
— Ну, что же, — сказал удовлетворенно судья, переворачивая второй раз песочные часы. — Теперь я все знаю. Ты, квартальный надзиратель, нарушил закон, когда схватил невиновного — молчи, молчи! Он не виновен, пока судья не скажет иного. И пороть мог только дознаватель, а не ты. Закон нарушен, причем, как говорят, не в первый раз.
Он повернулся всем телом, левой рукой растирая поясницу, ко второму подсудимому:
— Ты, городской шорник, напал на графского служащего, бил его, валял, и тем умалил графское достоинство. Молчи, молчи… Правильно бил, знаю. За собственного сына я бы тоже — ух, убил бы, наверное…
Он потер руки, потряс ими, чтобы отдохнули немного, потом поставил последний росчерк и убрал в футляр, тщательно протерев, редкое стальное перо.
— За работу, ребятки, взяли мне всех троих! Поставили!
Из всех темных углов выступили сразу "ребятки" в черном сукне и коже, которых привез судья с собой из столицы. Они ловко перехватили у стражника подсудимых, вздернули их на ноги, придержали так. Двое же заломили руки самому стражнику, ошарашено молчащему и только вертящему головой в полной своей непонятливости.
— Я, судья графства, заслушав показания подсудимых и изучив суть дела и настроение в городе, вынес сего числа и сего часа приговор. Яна Короткого, квартального надзирателя, разжаловать с лишением всех выслуг и пенсиона, лишить имущества, а самого казнить для примера всем остальным графским служащим и для успокоения народа.
Он повернулся к заулыбавшемуся той стороной лица, что была видна из-под грязи и засохшей крови, шорнику.
— Я, судья графства, заслушав показания подсудимых и изучив суть дела и настроение в городе, вынес сего числа и сего часа приговор. Яна Длинного, шорника, лишить покровительства графства, лишить имущества, которое будет отписано в пользу суда, сына его направить на казарменное обучение в столицу, а самого Яна казнить с жестокостью для примера всем, на графских служащих умышлявшим, и для успокоения народа.
Ян Длинный подавился улыбкой и обмяк в руках черных прислужников суда.
— Я, судья графства, заслушав показания подсудимых и изучив суть дела и настроение в городе, вынес сего числа и сего часа приговор. Стражника, имя сейчас впишу, да оно и не важно, по делу шорника и надзирателя казнить тоже примерно и с жестокостью вместе с двумя вышеозначенными подсудимыми.
— За что же меня-то? — бухнулся на колени, вырвавшись на миг, стражник. — Судья, я же свой! Меня — за что?
— А для порядка и истинной справедливости. Пусть все видят, весь город, что у нас нет тут своих и чужих. Приговор привести в исполнение немедленно на городской площади перед ратушей. Подпись, печа-а-ать, — он растопил на свечке палочку сургуча, капнул на край листа, приложил вынутую из кармана медную печатку с щитом и двумя мечами, обвитыми змеями.
— Ну, а потом свободны до утра, — кивнул своим, собирая бумаги. — Завтра поедем домой.
Загрохотали сапоги, хлопнула дверь.
Справедливый судья графства дунул на свечку.
Расправа
— Едут, едут! — поднимая белую пыль босыми ногами, по самой середке улицы к дому старосты бежал Хведька-пастушок, загодя поставленный у деревенского плетня, чтобы вовремя упредить.
— Ну, — выдохнул староста. — Вот, значит, и дождались… Гостей дорогих. Доигрались, мать вашу, прости господи со всеми апостолами… Ну, пойдем, деды, встретим гостей дорогих.
Между поспешно раздвинутыми козлами в деревню медленно втягивался обоз. На телегах сидели хмурые бородатые мужики, посматривая остро по сторонам. Пять телег не смогли въехать на утоптанную площадь перед домом старосты, где обычно собирался деревенский сход, растянулись по единственной улице. Мужики поспрыгивали с них, потягивались, приседали, разминая ноги и спины, копались в сене, доставали тяжелые кожаные куртки, хищно изогнутые сабли, высокие бердыши с широким лезвием. Двое облачились в красное сукно и теперь набивали неспешно длинные фузеи, подсыпая порох из рогов-пороховниц.
Староста и двое местных старейшин, седых и согнутых временем, стояли в растерянности, не понимая, к кому нужно обращаться.
А понаехавшие мужики уже разошлись по деревне, встали караулами на въезде и выезде. И те, что с огневым боем, разделились, встали с разных концов единственной настоящей улицы. Теперь из деревни никто не сможет выйти.
Только после этого от самой задней телеги, прихрамывая на правую ногу и морщась недовольно, подошел заросший черной бородой чуть не до глаз крупный человечище:
— Здорово, деды!
— И вы здравы будьте, — поклонились все трое в пояс.
— Не ждали, небось, хитрованы? Ишь, вырядились в старье… А налоги кто платить будет?
— Дак, разбойники у нас… Грабют…,- забормотали старики.
— Ага. Разбойники, они самые. И на нас напасть пытались. Только вот интересно… Кто к вам еще ездит-то?
— Ась?
— Ездит к вам кто? Кого тут грабить? Церковь у вас есть?
— Дак, нет церкви-то, деревня мы…
— Кабак тогда, может, есть богатый? Народ съезжается пиво пить?
— И кабака нету. У нас же не проезжее тута место. В лесу сидим, крайние.
— Ярмарки тоже нет, что ли?
— Нет, господин, — решил староста умаслить приезжего обращением.
— Ну, так кто же тогда тут разбойничает и над кем? Чем живут благородные разбойнички? Вот в чем вопрос. И мы этот вопрос разрешим сегодня к общему спокойствию. А пока, деды, организуйте поселить и накормить всех наших. Я буду у старосты. Как солнце дойдет до крыши, так начинайте по одному приходить на разговор. Все, кто может говорить. От самого мала и до велика — все. К утру закончим, думаю, — почесал он голову под кожаным круглым подшлемником.
Деревня угрюмо зашевелилась. По домам повели приезжих мужиков. Печи специально стояли горячие с утра, потому щами с давленым чесноком и зеленым луком перьями накормили всех. Мяса в хлебове по летнему времени не было, за что извинялись перед городскими, но те кивали понимающе, благодарили, и снова шли на улицу, присматриваясь к окружающему.
К вечеру городские оживились, забегали скорее, стали, как овчарки с овцами, сгонять всех жителей на площадь. Тычками и командами выстроили подобие очереди, в которой непривычно для общества первыми стояли дети малые, да женщины. Как только солнце коснулось крыши, первый из пацанов мелких шагнул, заметно трясясь от страха, на крыльцо. Обратно он уже не вышел. Обратно всех поднимавшихся на высокое, в четыре ступеньки, крыльцо проводили сразу на зады, чтобы не советовались с другими. И там сажали их прямо на мягкие грядки старостова огорода под присмотром городских.
Ночь наступала теплая, но деревенским было холодно от ожидания решения приезжих. Разговаривать не хотелось и не моглось. Сидели, покачиваясь, как от боли, вспоминая, а что, собственно, спрашивал страшный чернобородый?
Хведьку он спросил, не разбойник ли он. Посмеялся на разинутый в изумлении щербатый рот и отправил на огород.
Машку спросил, сколько ей лет. И все. И правильно ли она сделала, что ответила?
Олешна так и не поняла, что спрашивали. Очень сложное что-то.
…
Старосту ввели последним, когда он уже еле дышал, и черные точки плавали перед глазами.
Уже светало.
— Ну, что, староста, готов помочь государству и раскрыть преступные замыслы?
— Я-то?
— А кто еще? Ты — и кто еще? Сын твой? Или вон Хведька, щербатый этот? С чего он щербатый? В бою зуб выбили?
— Э-э-э…
— Так и запишем.
— Но, господин…
— Все, староста. Иди, иди, готовь людей к расправе.
Старосту вытолкнули на крыльцо. Людей погнали с огорода и согнали снова на площадь. Староста пересчитал всех глазами и дребезжащим голосом завел:
— Общество! Приказано нам на рассвете стоять здесь и ждать, значит, суда и…
— Ты так ничего и не понял, старик, — раздалось за его спиной. — Мы тебе не суд и не королевская жандармерия со следствием. И не церковная сотня. Мы, дед, Расправа. Наша задача, по наставлению древнему, от отцов и дедов данному — поиск невиновных и наказание непричастных. Чтобы впредь никому неповадно было. Так что готовьтесь люди. расправа вам будет…
Чума
В эту простую полотняную палатку-шатер — столб посередине и выцветший парус куполом — очередь не стояла.
Очереди были туда, где показывали бородатую женщину и крокодила, тварь лютую в воде, но на суше вызывающую смех. Очередь была в большой цирк, где сегодня обещали призы победителю первого циркового силача. Призы были немалые. По расчетам выходило, что если кто из горожан сможет справиться с этим неохватным в плечах оглоедом, то полученных призовых хватит на целый год безделья. Год! За это стоило попытаться хотя бы. Попытка стоила всего один золотой. Тоже не дешево, конечно. Но и приз главный такой, что окупал все потери на много дней вперед.
Очередей к ларькам с едой тоже не было. Но не потому, что не вкусно готовили или плохо обслуживали. Совсем наоборот. Там суетились маленькие нездешние смуглые люди, повязав по поясу белые фартуки чуть не до земли. Ты еще только поворачивал в их сторону, а они уже заворачивали в большую лепешку овощи и мелко порубленное жареное мясо, поливали все соусом — красным или белым — посыпали перцем, и когда покупатель останавливался перед прилавком, ему уже с улыбкой вручали получившийся съедобный сверток. Те, кто не боялся купить нездешнюю пищу, ели осторожно, заранее сморщившись, но потом задумчиво кивали, и медленно обсуждали с толпящимися и заглядывающими в глаза любопытными: да, мол, неплохая еда. Совсем не наша, конечно. И острая. Но под пиво домашнее такое пошло бы. Опять же и экономия какая выходит. Если чистое мясо делать, так гораздо больше его уйдет. А тут вот тебе и лепешка вместо хлеба, и овощи для сытности и сочности. Нет, совсем даже неплохая еда. Да попробуйте сами!
Одни отходили, другие подходили и получали тут же эту нездешнюю еду, кусали, морщась поначалу, потом улыбались — вкусно.
Палатку, стоящую почти у входа на рынок, старались не замечать. Глаза отводили, задумчиво глядя по сторонам, как бы невзначай обходили по кругу, издали. Вроде и нет тут никакой палатки. Пустое место, только неудобное — вот и обходили.
Но если кто-то замедлял шаг, вчитываясь в табличку над входом, или направлялся туда, чуть не весь рынок замирал и наблюдал за ним. Вот он шагает. Вот стоит, читает табличку. Скребет в затылке, сдвигая шапку на нос. Роется в карманах. Считает мелочь.
Заходит!
Все ждали.
А еще через минуту или две из палатки вылетал раскрасневшийся селянин и кидался тут же к прилавкам с напитками.
Пиво тут было плохонькое. Городское, свое, в каждом кабаке было разное. Но всегда вкусное, плотное, крепкое. А тут — вода водой. Но зато у них еще были вина и разные напитки из нездешних фруктов и овощей, что на виду у любого протирали, заливали тем же вином, взбалтывали, процеживали и наливали в глиняные кружки всем желающим.
Нет, хорошая ярмарка была, хорошая. Нечего бога гневить. И погода стояла сухая и теплая, хоть и осень уже давно.
Вот только эта палатка…
— Там у вас при входе написано…
— Вы умеете читать? Похвально. Заходите, присаживайтесь. Приятно пообщаться с грамотным человеком.
— Я хотел спросить…
— Вот и спросите. Что же вам стоять?
— Погодите, но там сказано — десять серебряных? А за что, собственно?
— И за что — написано, вы же прочитали, верно?
— Но это как-то странно даже. Разве дано нам, людям, знать такое?
— Я повторю, что сам же и написал на табличке: за десять серебряных я готов сообщить вам точную дату вашей смерти. Точную. Могу и причину смерти назвать. Если я ошибусь, вы получите свои деньги обратно.
— Вы смеетесь? Я выйду, меня за углом местные пырнут ножом, и кто получит с вас мои деньги?
— А кто вам сказал, что я не сообщу вам именно сегодняшнюю дату? И не приведу причиной смерти — нож? Ну же? Вы зашли поговорить? Или будете платить деньги?
— Жулики! Все равно — жулики!
Хлопнул брезентовый полог, быстрые шаги протопали по утоптанной до каменной твердости площади.
— Учитель, — выдвинулся из темного угла худой черноволосый мальчишка. — Но он же прав? Нельзя знать дату своей смерти?
— Во-первых, можно. Нет такого запрета на людях — знать. Все знания хороши и благородны. А во-вторых, никто пока да этого вопроса не дошел, ты обратил внимание? Они все боятся. А я ведь им просто напоминаю: все мы смертны. И они — тоже смертны. Но вот только думать-то об этом не хотят…
Кто-то потоптался у входа и откинул, наконец, полог, всматриваясь с солнечного дня в полусумрак палатки.
— Есть тут кто?
— Заходи, заходи, странник.
— Откуда ты знаешь, что я — странник?
— Прости меня, но твоя одежда, твои сапоги, твое оружие — все не местное. Ты издалека.
— Да-а, я издалека. И у меня много разных дел в этом городе. Но я специально зашел к тебе, пройдоха, как только увидел табличку. Ну-ка, скажи, когда я умру? Попробуй, обмани меня…
— Зачем мне тебя обманывать? Я скажу тебе совершенно бесплатно. Мне не нужны твои деньги, странник. Ты умрешь завтра до захода солнца.
— Я и не думал давать тебе денег, старик! Знаю я вас, шарлатанов… Но ты сказал, а я услышал. Завтра на заходе солнца я вернусь и погляжу тебе в глаза.
Он так и не вошел, брезгуя. Весь разговор прошел на пороге палатки. Опять закрылся полог. Опять простучали мимо каблуки. А старик, сидящий в центре, под световым пятном из отверстия вверху, вдруг встал и начал командовать:
— Собирай вещи. Складывай палатку. Мы уходим прямо сейчас.
— Учитель, ярмарка недавно открылась, мы еще можем заработать здесь много денег!
— Денег? Хочешь заработать денег? Оставайся. Скоро в этом городе будет очень много денег. Ничьих, свободных, лишних… Я ухожу.
— Да, учитель, мы уходим. Конечно. Не сердитесь на меня. Я уже собираюсь. Только ответьте мне, неразумному, почему? Почему сначала вы два дня сидели здесь и ничего не заработали. А теперь, когда к вам стали заходить, вы решили уйти, хотя ярмарка будет длиться еще долго?
— Сначала я просто предупреждал их, что все они смертны. Я не зарабатывал на этом. Заработаем мы потом, когда уйдем из города и пойдем по деревням. Так я думал сначала… А теперь. Ты видел его одежду? Видел его оружие?
— Да.
— А видел ты его лицо, его глаза, его шею?
— Я не обратил внимания, учитель.
— Вот поэтому ты ученик, а я учитель. Поэтому. Он умрет завтра до захода солнца. Я его не обманул. А за месяц вымрет весь город. Чума пришла на ярмарку с этим караваном. И они еще смеялись надо мной…
Непобедимый
Принц Аджах был непобедимым борцом на поясах. Весь год до обязательной ежегодной очередной войны с очередным врагом он только и делал, что разъезжал по стране, выискивал в каждом городе борцов и обязательно боролся с ними на поясах. И всегда выигрывал, укладывая огромного местного силача аккуратно плашмя на спину. После этого всенародного действа под громкую музыку и возбужденные вопли толпы был пир на весь мир — это тоже была традиция. Поэтому во всех городах и селах ждали с нетерпением, когда же принц Аджах приедет к ним. Побороть его никто и не мечтал, но вот пир… Пир — это да! И еще — разве просто побыть рядом с великим силачом, то есть, с величайшим силачом и непобедимым борцом, да еще и принцем — разве одно это не счастье?
Ваньо был простым пастухом в своем селе. Но он тоже мечтал о приезде принца. Для этого Ваньо каждый день делал зарядку, а потом бегал по холмам и лесам за баранами и овцами, иногда специально пугая их, чтобы бежали резвее. Еще он поднимал тяжести. Целыми днями он поднимал встречающиеся валуны, или таскал на спине молодого барашка. А иногда, поднатужась, взваливал на плечи опоясанную ремнем тушу старого барана-вожака и тащил его на себе под неумолчное баранье "бэ-э-э". Отара слышала голос вожака и бежала, куда вел их Ваньо.
Вечером, сдав скот владельцам, Ваньо обливался холодной колодезной водой, надевал праздничную рубашку, вышитую красными крестиками по вороту и рукавам, и шел к месту сбора всех селян, к харчевне, стоящей на выезде из села. В ней всегда останавливались проезжающие через село купцы, потому что пиво у них тут варилось вкусное — это из-за воды, наверное — и еще потому что это была самая последняя "сельская" харчевня. Дальше начинались места, которые относились к городу, и там почему-то такая же еда и такая же постель стоили уже гораздо дороже.
У харчевни Ваньо снимал рубаху и похаживал по вытоптанному до каменной твердости двору, пошевеливая плечами, напрягая руки и покрикивая, что готов сразиться на поясах с любым желающим, обещая напоить пивом того, кто победит. Пиво в селе любили. И развлечение такое — тоже. Потому каждый вечер Ваньо боролся. Он уже не раз кидал через себя или аккуратно укладывал перед собой всех сельских силачей. И даже кузнец признал, что хотя на руках он бы Ваньо быстро обставил, но вот спина у Ваньо крепче, потому на поясах он и выигрывает.
Долго ли, коротко, близко ли, далеко, но заехал в село по своим королевским делам и какой-то гвардеец. Он пил пиво, отирая пену с длинных черных усов, касающихся его мощной груди, если он чуть наклонял голову, смотрел рассеянно в окно на закат, думал о чем-то своем. А Ваньо опять похаживал по двору и звал селян сразиться с ним на поясах. И клал одного за другим всех, кто выходил против него.
Заинтересовался гвардеец, потом подозвал хозяина, переговорил с ним негромко, узнал имя борца, а утром, молча и неспешно собравшись, легкой рысью ускакал на своем невысоком коньке дальше. Наверное, в столицу.
А через месяц староста получил извещение, что принц Аджах заедет в село на пути из столицы к границе.
После письма сразу наехали столичные. Они бродили везде, все трогали, все измеряли и все что-то морщились. Потом потянулись подводы. На них везли разобранный по бревнышку походный дворец принца. На каждом бревнышке был свой номер, поэтому молчаливые опытные рабочие быстро собрали на луговине, где до того всегда пасли коров, высокий с острой крышей, похожей на наконечник гигантского копья, дворец.
Подводы приходили и уходили.
Были заполнены все кладовые дворца — вино, еда для будущего пира, как поняли селяне, наблюдающие всю эту суету.
Наводнившие село и окрестности рабочие быстро вырубили лес на сто шагов в каждую сторону, чтобы подлый враг не подполз и не ужалил принца.
Потом рабочих увели, а вместо них пришел полк солдат, быстро раскинувший походные шатры на тех местах, где раньше был лес. Часовые встали цепочкой, перекрикиваясь днем и вечером и сменяясь каждые четыре часа. С этого дня сельский скот остался взаперти. Даже накосить травы, чтобы покормить скотину, не удавалось. Сначала скармливали старое сено, потом даже солому давали, тягая по пучку с крыш, а потом уже начали резать жалобно блеющую и мычащую скотину.
На дворе стояло лето, было жарко, а соли, как обычно, не было. Чтобы не пропало мясо, его ели, давясь и уже ругаясь. Отец старосты помер от переедания. Еще несколько селян были при смерти от того же.
Наконец, дошло дело и до Ваньо.
Он проснулся оттого, что на него кто-то внимательно смотрел. Попытался вскочить, но крепкие умелые руки тут же бросили его обратно на жесткий травяной матрац, прижали, полезли под подушку, приподняли лоскутное одеяло, потом прижали его за плечи и за ноги. Люди в черном — Тайная стража королевства — стояли вокруг Ваньо и смотрели на него холодными змеиными глазами.
— Ты будешь Ваньо-пастух?
— Я, — кивнул Ваньо.
— Не дергайся, а слушай внимательно и исполняй в точности. Завтра приедет принц Аджах. Он будет бороться с тобой. Времени у него мало. Значит, сначала ты встанешь на колени на счет раз-два-три, а потом он положит тебя, не кидая через голову. На счет раз-два-три-четыре. Понял?
— Нет, — честно сказал Ваньо. — Я сильный, я хочу побороть принца Аджаха.
— Запомни, пастух: принц Аджах есть непобедимый борец на поясах и символ нашей армии, непобедимой в боях. Никто и никогда не может его побороть…
— А если я смогу?
— А если ты сможешь, то все жители села будут убиты, дома сожжены, дорога перенесена в сторону, и принц все равно останется непобедимым. Ты понял? Ты борешься завтра не за победу, а за жизнь всего села. И жизнь село получит только в том случае, если ты, пастух Ваньо, на счет раз-два-три упадешь на колени, а на счет раз-два-три-четыре ляжешь под ноги принца.
Сказали и исчезли, как будто и не было черных воинов Тайной стражи королевства. Но они были, потому что Ваньо очень хорошо запомнил этот серый и сухой голос, монотонно заученно твердящий ему "раз-два-три" и "раз-два-три-четыре".
На другой день к обеду приехал с небольшой свитой принц Аджах.
На вытоптанную луговину перед походным дворцом принца вывели умытого и обрызганного цветочными водами Ваньо и поставили напротив принца. За принцем стояли двое в черном, внимательно смотря на Ваньо.
Принц и пастух сошлись, взялись крепко за пояса друг друга.
Ваньо посмотрел в глаза принца и увидел там скуку и лень. И ему тоже стало скучно.
На счет раз-два-три он рухнул на колени. А на счет раз-два-три-четыре — упал на спину.
— А говорили, силач, — лениво процедил принц, отряхивая руки. — В пехоту его, рядовым.
Подскочившие тут же сержанты с цветными нашивками на кожаных шапках дубинками подняли на ноги Ваньо и погнали бегом к шатрам охранного полка.
— Все парень, ты свое дело сделал. Теперь будешь в армии служить!
Сзади уже скрипели подводы, на которые клали бревна от разбираемого дворца. На бывшую луговину выставили столы. Еды было по счету — ровно по числу живущих в селе. Только никто не толкался и не рвался к дармовому угощению: все и так объелись мяса. Потому сидели тихо, пили пиво и покачивали головами в неспешном разговоре:
— А силен наш принц-то! Как он Ваньо грянул о землю… А ведь мог и через себя кинуть, поломал бы парня. Силен и добр наш принц.
…
В армии Ваньо научили ходить строем, держать тяжелое копье и тяжелый щит, колоть мечом, бить двуручной секирой. Бойцы вокруг него все были крепкие, как на подбор, перевитые сухими жесткими мышцами, как канатами. По вечерам они боролись на поясах. А по ночам переговаривались почти неслышно у своих костров.
Ваньо с ужасом узнал, что все его товарищи тоже легли на счет раз-два-три-четыре…
— Но как же так? Тогда принц, выходит, не самый сильный? Но тогда перед сражением его победит любой принц со стороны, и мы проиграем войну?
— Ну, ты даешь, паря… Точно, пастух. Думаешь, их принцы по-другому борются? И потом, есть же еще мы, армия. И чужому-то принцу объяснили, небось, что если на счет раз-два-три-четыре не ляжет под нашего, то мы, армия, сожжем и сотрем с лица земли его королевство, и убьем всех жителей, и перенесем границы… А так, все же — по мирному почти. Ну, посчитает — раз-два-три-четыре — ляжет под нашего-то. И мирно-спокойно вольется в наше королевство. Будет в друзьях у принца. В ближних, может, даже. И будет всем рассказывать, какой наш принц есть непобедимый борец. Так что спи, деревня! Спи и славь даже во сне непобедимого принца Аджаха!
Вампиры
— Все на самом деле настолько просто, что даже смешно иногда читать эту вашу ненаучную фантастику!
— Э-э-э… Фентези? Это называется иногда — фентези.
— Все это в итоге одно — фантастика. И то фантастика, и это — фантастика. На самом же деле и было и есть все не так, как пишут эти писаки…
— Простите?
— Да я не о вас, сидите уж… Стал бы я приглашать вас, чтобы устроить тут… как его… разгон?
— Разнос?
— Да, да, раз-нос! Для этого есть почта. Есть телефон, наконец.
Хозяин огромного кабинета, напоминающего сразу и библиотеку, и химическую лабораторию, встал из-за старинного дубового письменного стола с резными ножками в виде звериных лап, прошелся по мягкому ковру, провел пальцем по ближайшим книжным корешкам.
— И пишут, понимаешь, и пишут… А подумать? Ну? Хоть немного подумать? Не так же все было!
Автор приободрился. Ругали все-таки не его. Он даже попытался выдавить язвительную ухмылку. Покивал, как бы соглашаясь. А потом спросил с усмешкой:
— А вы, значит, знаете, как было?
— Я? — глаза в глаза, до дрожи, до непроизвольного поворота головы в сторону, как от судороги, до… Бр-р-р, автор мотнул головой, прогоняя навалившуюся сонную одурь. Погода, что ли, меняется? А? Что он говорит?
— …Да вы не слушаете меня, вижу?
— Простите, душно…
— Тогда я повторю. Вы мне нравитесь. Ну, ну… Не смущайтесь. У вас простой и ясный слог. Вы не украшаете текст вензелями и финтифлюшками, не имеющими отношения к делу. Поэтому я решил: печатать вас мы будем. Но только после существенной правки. Поменьше фантастики, прошу вас!
— Извините… Как это? У меня же роман о вампирах? — у автора мелькнула мысль, что его перепутали с кем-то из "почвенников", из "производственников".
— Именно, именно о них! Просто писать надо о реальности, понимаете?
— Э-э-э… Не совсем. Вампиры… Реальность… Как это?
— Я вам помогу. Это очень просто.
На стол перед автором грохнулся атлас.
— Давайте подходить ко всему, как к реальности. Попробуем. Представьте, что вампиры были на самом деле. Итак, чего боятся вампиры?
— Чеснока?
— Ну, положим, тут не боязнь, а скорее отвращение. Вы пробовали целовать женщину, поевшую сырого чеснока? Вот, то-то… Но все же, возьмем за основу. Итак, ареалы распространения чеснока, хотя бы примерные. Именно там могли видеть вампиров, иначе бы мы не знали этих сказок о чесноке, как лекарстве от них.
— Ну, — автор почесал карандашом бровь. — Наверное, вся Евразия?
— Обводите. Теперь пошли дальше. Чего еще боится вампир, если верить этим фантазиям?
— Ну, как это… Осина, говорят, осиновый кол.
— С точки зрения биолога скажу вам, что осина ничем совершенно не отличается по разрушительности действия любого другого дерева. Вбейте в грудь человека кол и посмотрите, что получается. Отличаются опять же области сплошного осинника, где что ни кол — то и осиновый. Понимаете меня? Именно там, где осина — оттуда эти фантазии. Там видели и там…э-э-э… ликвидировали, да, так, вампиров. Ну? Вот в вашем круге чесночном ищем осиновые области.
— Наверное, вот так? — автор обвел карандашом всю Европу до Уральского хребта. — Вроде, Сибирь — она больше хвойная?
— Ну-ка, ну-ка, — наклонился хозяин кабинета к карте. — Не забудьте еще, что вампиров просто не может быть там, где нет людей. Чем ниже плотность населения, тем ниже вероятность, что там есть вампиры. Следовательно, Европа. Пусть так. Но дальше…
— Серебро! — вскинул голову автор. Он уже понял, как и что надо делать.
— Вот-вот. Ищем серебро.
— Но это всего лишь вот тут, тут и здесь вот?
— Ну, и Урал все-таки покажите. Старые выработки, конечно, но ведь было когда-то…
Высокий и худой хозяин кабинета отошел к камину, протянул руки к низкому огню, постоял, согнувшись, потом с кряхтением распрямился, держась за поясницу, вернулся к столу:
— Вот, видите? Это уже не фантазия пустая, а реальность. Это — карта. И на ней вы кое-что нарисовали. А теперь еще раз: вампиры живут среди людей. Не в пустыне и не в тайге.
— А-а-а! Понял! — автор отметил в выделенных карандашом областях крупные города.
— Видите, как становится все меньше и меньше от сказки? А теперь вспомним, где в Средние века действовала инквизиция. Ну? Ведь именно ее трудами было покончено с вампирами во многих областях.
— Это что же получается? — автор откинулся на спинку стула, смотря на получившееся.
На карте оставался только один город, соответствующий описанию.
— Ну, вот. А эти "фантасты"…,- презрительно выделил хозяин кабинета, — Они же только о загранице и умеют придумывать.
— Но как это? Это же наш город!
— Именно, наш.
— Но…
— А вы почитайте статистические сборники, полистайте медицинские отчеты. Где у нас малокровие, а? Здесь, — палец ткнул в заштрихованный кружок. — Где исчезновения людей? Здесь. Где, наконец, при настоящем экологическом бедствии, отравленной воде, дымном небе — масса долгожителей? Тоже здесь. Надо меньше придумывать, но больше думать. Тогда вам поверит читатель. Тогда будут тиражи. Тогда будет хороший гонорар. Я понятно объясняю?
— Но как же… Почему читатель должен поверить? Ведь вампиров нет?
— А вот пока вы пишете о том, чего нет, вам и не верит никто. Пишите о том, что есть. Думайте, думайте. В общем, вот ваша рукопись. Мы ее не будем сжигать. Лучше я вам ее верну, а через месяц вы мне принесете первый переработанный вариант. Считайте, что у вас уже есть заказ, понимаете? Я буду вас печатать. Но на таких условиях. Ясно?
— Я попробую.
— Не попробовать, а ровно через месяц. Здесь же. Вот, отмечаю в календаре. Жду вас здесь в полночь через месяц.
Когда за автором закрылась дверь, хозяин кабинета зябко передернул плечами:
— А заодно пусть наши почитают. А то чуть что — диаспора, диаспора… А сами даже книжек новых не открывают. Безграмотный вампир — мертвый вампир! Пусть с детства учатся таиться и скрываться. Пусть знают, что их можно легко вычислить. А мальчик этот хорош… Если не догадается, если не испугается, если придет через месяц — будет с нами.
Последний дракон
— Зачем тебе это? Ты же всем мешаешь.
— Тебе не понять.
— А ты попробуй объяснить.
— Да что там объяснять…,- хмурый рыцарь сидел перед единственной кружкой пива — крестьянским пойлом — и раз за разом надоедливо и громко шоркал точильным камнем по своему мечу, лежащему на коленях. Иногда он поднимал меч, смотрел уныло вдоль кромки, трогал пальцем, качал головой, и снова — ш-ш-шик, ш-ш-шик, ш-ш-шик…
— Прекрати, а…
— Молчи, смерд, — неуверенно вполголоса сказал рыцарь.
— Я не смерд, я купец.
— Ну, тогда — молчи, купец.
— Я и молчу. Это ты все ширкаешь, да ширкаешь. На кого собрался, рыцарь?
— Да какой я теперь рыцарь? — ш-ш-шик, ш-ш-шик, ш-ш-шик. — Рыцари — они подвиги совершают, драконов убивают, принцесс спасают… Ну, или просто девиц, которых драконы страсть как любят, — ш-ш-шик, ш-ш-шик, ш-ш-шик. — А я сижу тут какой уж день…,- ш-ш-шик, ш-ш-шик, ш-ш-шик. — Пиво это вот пью. Фу, гадость какая… Деревенщиной скоро пропахну.
— Ты скрести-то свою железяку перестань, да объясни, в чем дело!
— Дело, спрашиваешь? А нет больше никакого дела. Кончились драконы.
Ш-ш-шик, ш-ш-шик, ш-ш-шик…
— Так зачем тебе меч тогда? Что ты к нему привязался-то?
— А без меча я вовсе не рыцарь. Что я за рыцарь — без меча?
— Ну, знаешь ли… Рыцарь без меча — это практически то же самое, что рыцарь с мечом, — пожал плечами купец. — Только без меча…Если он рыцарь.
Купец обстоятельно закатал рукава, наклонился, понюхал напоказ поставленную перед ним закопченную доску с ароматной коричневой горкой жареного седла молодого барашка под хреном со сладкой горчицей, отрезал кусок, подцепил его двузубой вилкой, макнул в острый пахучий соус, положил в рот и замер. Глаза его подернулись слезами, одна даже скатилась по гладко выбритой щеке и затерялась в роскошных усах, достающих кончиками до бакенбардов.
— М-м-м… Хорошо как, — прошептал купец. А потом, уже нормальным голосом, спросил:
— Так что, выходит, вы, рыцари, сами себе жизнь испортили?
— Как это?
— Ну, махали этими своими железяками, головы рубили — вот и не стало драконов. Так? Логично?
— Логично, — грустно кивнул рыцарь, макнув кончик длинной, заплетенной в плотную косицу, бороды в кружку с пивом. — Логично, да не исторично. Нас, рыцарей, всегда было столько, сколько нужно. Одни погибали, другие приходили им на смену. Иногда погибал дракон, но всегда находилась новая тварь. И принцессы ведь не перевелись в мире…
— А что же тогда с драконами?
— Последний умер у меня на руках. Понимаешь? Он умер! И я вот этими самыми руками закрывал его глаза! Огромные золотые глаза умнейшего из чудовищ в мире!..Я не убивал его! Нет! Он умер сам. И он был последним… Рыцари есть, а драконов нет — представляешь себе эту картину? Зачем теперь рыцари? С кем драться? От кого спасать принцесс? Разве только — друг с другом? Пока не перебьем сами всех, и не сойдутся в последнем бою два последних рыцаря?
Ш-ш-шик — шоркнул он опять камнем по лезвию и отложил его в сторону, разведя руками в извинении.
— Хм…,- поковырял в зубах вилкой купец. — А чего ж они все умерли-то? Всегда же были — а вдруг и не стало? Что, всех? Всех… Хм… Вроде, и звезда новая не загоралась, и морозов очень уж сильных не было… Может, съели что не то? Кстати, барашка рекомендую — очень у них сочно и забористо получается.
— Съели не то? — вскричал рыцарь, вскакивая с места. — Съели не то? Драконы — съели не то? Да ты знаешь, чем кормились драконы?
— Ну, там… Кого поймают, того и едят, наверное. Дикие звери, одним словом. Иногда коровку унесут, иногда — быка.
— А еще? Ну? Вспоминай, купец, вспоминай! Кого отдавали драконам, чтобы не хулиганили, чтобы не разоряли села? Чтобы коров и быков не таскали? А?
— Девок красивых, — причмокнул купец жирными губами. — Но это ж легенда — нет?
— Легенда… Девок… Девственниц ему отдавали. Понимаешь, дев-ствен-ниц. Драконы — они же не нашего мира, они мясом не питались. И разор устраивали только с одной целью — чтобы девственниц приводили им…
— Так они, э-э-э… того-с?
— Дурак ты, купчина, хоть и грамотный. Драконы питались самой девственностью. И девушка, которую отдали дракону, росла с ним рядом, а он кормил и оберегал ее. Если принцесса — тут мы приезжали, рыцари. Был честный бой. Отбор был, понимаешь? Самые умные, самые сильные — выживали. И жили они себе, и жили… Красивые. Золотоглазые. Летучие. Умные. Пока рядом с ними была девственность…
— А-а-а… Дак, у нас же это… Как его там… Сексуальная революция. Вот.
— Вот и не стало больше драконов. Вместе с девственностью. И не станет скоро рыцарей.
Ш-ш-шик, ш-ш-шик, ш-ш-шик…
Принцесса
Все принцессы — прекрасные.
А чтобы не забывал об этом окружающий народ, принцессы всегда носили небольшие легкие короны о трех зубцах, украшенных бриллиантами, красиво сверкающими в солнечном свете. Сама корона делалась из витой серебряной проволоки, а кроме бриллиантов еще по ободу вставляли несколько крупных рубинов, но ни в коем случае не изумрудов, чтобы отблески на принцессины щеки были розовыми и красными, но никак не зелеными.
Вторыми по прекрасности во всех королевствах были всегда матери принцесс. Корону они не носили, а надевали на голову поверх стандартного цветного однотонного шелкового платка красивую диадему с огромным изумрудом посередине.
Отцы принцесс были храбрыми рыцарями в юности, а в зрелом возрасте именовались мудрейшими мужами. По королевской своей должности они носили тяжелые золотые короны в виде верхушки крепостной башни, изукрашенные самыми разными каменьями. Но это только во время официальных приемов. Обычно же они покрывали голову легкими бархатными шапочками, стараясь только, чтобы они не были похожи на береты. Береты были признаком вольных профессий, бедных и безобразных в своей бедности.
Все женщины в королевствах всегда носили головные уборы. Непокрытая голова вызывала брезгливую оторопь и поиск взглядом ближайшего стражника — что за непонятное такое тут ходит? Именно непонятное, потому что как было понять, насколько красива женщина, если нет на ней установленного обычаем и законом головного убора?
Вот видишь ты еще издали трехлепестковую корону в бриллиантах, и можешь сразу хвататься за сердце (за свое, дурак!), закатывать глаза и шептать, что она, носительница короны, прекраснейшая в королевстве. Никогда не ошибешься.
Видишь диадему — и можешь начинать светский разговор с похвал прекрасной дочери.
Если простой серебряный обруч удерживает расшитый плат — это красавица.
Если заморский головной убор со смешным названием "кика" — любезная взгляду.
Если короной связаны косы и покрыты сверху сеткой с мелкими жемчужинами в узлах — простушка, но очень симпатичная.
Все ясно с самого первого взгляда.
А что можно сказать вон о той, стоящей у кареты с непокрытой головой? Ну? Что это такое — на голове ничего, кроме своих волос? Густых рыжих волос, отливающих в свете утреннего солнца начищенной медью. Даже с искрой, как у начищенной меди. И глаза. Вот только и видно — глаза и волосы. Волосы — в медь, глаза — в изумруд. Зеленые, прозрачно-темные, как морские волны, как глубина, в которую затягивают русалки неосторожных мореходов. И кожа. Белая кожа с маленькими коричневыми пятнышками…
Уродка! Самая настоящая уродка. На что тут смотреть? На фигуру только если?
Ну, рост средний, руки крепкие и тоже белые, не загорелые, высовывающиеся из коротких рукавов платья. Ног не видно под подолом, но и они должны быть крепкими — ишь, как движется. Прямо как наш мастер боя!
И ведь не стыдно же ей на люди с таким… Может, слепая просто? Или из самой глухой провинции, где еще не научились ценить прекрасное? Но разве же можно так — в столичный город с таким уродством.
А-а-а… Наверное, родители везут ее в монастырь. У нас тут есть строгий женский монастырь как раз для тех, кому незачем показываться на людях, чтобы не пугать народ своим внешним видом. Бедняжка… Это на всю жизнь. Это не лечится.
— Ваше высочество, ваше высочество!
Что? Что они тут кричат такое? Бегают, суетятся, шумят…
— Ваше высочество, наденьте немедленно!
Трехлепестковая корона! Бриллианты пустили радугу. Голова с тяжелой рыжей копной преобразилась — другой человек, это же совсем другой человек!
— Прекраснейшая! Позволь быть твоим провожатым на пути к дворцу! — упал на одно колено стоящий неподалеку рыцарь.
Книга Смерти
— Здравствуйте! Вы знаете эту книгу? — улыбка и открытый взгляд в глаза. Улыбка не наша, не губами, а так, чтобы все зубы (зубы, кстати, хороши, не чета моим) были видны. Раздражает очень этим.
— Да, я знаю эту книгу, знаю…
И тут же, не давая ему вставить ни слова, потому что хорошо знаю все эти их подходы-отходы и приемчики, добавляю, так же широко улыбаясь и показывая побитую жизнью щербатую челюсть с желтыми зубами:
— Это Книга Смерти!
Его улыбка "схлопывается". Как будто с щелчком выключили громко орущий телевизор. Он неуверенно поворачивает голову и смотрит на книгу в своей правой руке, которую держал у плеча, показывая мне.
— Видите, видите? — показываю я. — Она же черная!
— Вы ошибаетесь…
— Что? Вы хотите сказать, что она не черная? — распахиваю пошире глаза в изумлении, убираю улыбку, заменяя ее тревогой и мучительным сомнением.
— То есть, по обложке черная, конечно, но это совсем не то, что вы думаете…
— Вы умеете читать мысли? — восхищаюсь я.
Продолжаю наседать на беднягу, не понимающего, на кого он попал. У меня есть время и настроение, потому что магазин еще закрыт, а сидеть просто так — скучно.
— Откуда вы знаете, о чем я думаю?
Он совсем скис и попытался улизнуть. Не тут-то было! Меня понесло вдохновение:
— Ну-ка, дайте.
Буквально вырвал книгу у него из рук, полистал для вида:
— Ну, точно. Это она самая — Книга Смерти! Тут же все — о смерти. О том, что бесполезно что-то делать, потому что все равно умрешь. И кто бы ты ни был, царь там какой или пророк, или даже сын бога — все равно кончается смертью. Вся книга только об этом. Как готовятся к смерти, как предрекают смерть, как умирают… А вот тут, — открыл я Откровения Иоанна. — И вовсе умирают все и сразу. Скажите, а вы не сатанист случайно? Что это за культ смерти у вас такой? И на книге, смотрю, знак смерти, как на могилах ставят… А-а-а… Я догадываюсь! Вы, наверное, тайный некромант?
Он побледнел сразу, на лбу выступил пот, глазки забегали. Страшно, конечно, кто спорит. Сейчас вот крикну громко, что некроманта поймал, так разорвут же на части, не дожидаясь полиции. Народ только-только вздохнул немного после недавнего бунта, когда зомби шатались по улицам и ломились в двери.
— А-а-а, отдай, сука! — он вырвал у меня из рук библию и странными прыжками, будто ожидая выстрела в спину, кинулся в ближайшую подворотню, вжав голову в плечи.
— Ну, куда же вы? Мы же не поговорили почти! — смеялся я, смотря ему в спину.
А потом открылся магазин.
Черные свечи я купил заранее в хозмаге напротив. А тут, в продуктовом, мне нужно было свежее бычье сердце. Во-первых, в сердце сохраняется кровь, а она нужна, чтобы рисовать пентаграммы, а во-вторых, я хотел попробовать вставить его в грудь покойника. Вроде, должен получиться настоящий боец. Сильный и неутомимый.
Да, а Книга Смерти у меня лежит посреди комнаты на пюпитре. Открываю я ее, только надев перчатки. Каждый раз — свежие. Не потому что опасно касаться, а просто белая она, книга эта. Совсем белая. Сияющая.
Гаврюша и Миха
Мы пошли на рынок — нас мама послала. Утром, говорит, пораньше, чтобы не слишком жарко. В каникулы подняла в девять утра — и на рынок послала. Хорошо еще, что не меня одного. Вот тогда было бы по-настоящему обидно. А вдвоем совсем почти не обидно. Потому что жарко обоим. И не выспались оба, хмурые с утра поэтому. Но мама не стала ничего слушать. Она у нас — ого-го! Ее даже папа слушается, когда она так говорит. А она сказала:
— На рынок! Быстро! А то вернется отец, а у меня не готово ничего!
И мы даже забыли ответить, как обычно:
— Ну, ма-ам, ну, прямо в каникулы, ну, ты чего…
А просто повернулись и пошли. Вдвоем. Вот так она сильно сказала, что даже и не подумали спорить — а повернулись и пошли. Даже без завтрака.
Когда уже повернули за угол, Миха дернул меня за рукав:
— Чего молчишь?
Миха младший. Я старший. Это все знают. Правда, ростом мы одинаковы, а некоторые даже путают в лицо, но все равно я родился раньше, и значит, по закону, все хозяйство останется мне. А Миха может остаться со мной, а может идти в службу. Но я думаю, что ему можно будет остаться. Потому что — ну, как я без брата? Вот сейчас на рынок идти в одиночку было бы гораздо обиднее. А вдвоем, вроде, нормально.
— Ну, чего молчишь?
А чего говорить, когда вон он — рынок. Я дал Михе корзину, а сам считал деньги. На самом деле, Миха считает ничуть не хуже меня. Честно говоря, даже лучше. Но я старший, а поэтому деньги у меня. И спрос потом с меня будет, если что.
Мы купили круглый хлеб у пекаря, потом густой желто-белой сметаны, еще крынку свежего молока — папа любит молоко — и кусок сыра. Тут уже Миха мне подсказывал, какой лучше. Я люблю сладкий, коровий, а Миха всякий сыр любит. Он про сыры много знает и на вкус сразу определяет время созревания. Он сказал, чтобы взяли сегодня козий, белый с голубыми прожилками. Ну, правильно. Такой родители как раз любят. Но зато мы еще поторговались, пока по сырам ходили, и осталось чуть денег. Мы переглянулись с Михой молча, и пошли опять к пекарю. И он нам дал по сладкому маковому бублику. Это было справедливо, я считаю, потому что завтрака у нас не было. Хоть и каникулы…
Потом мы побежали домой, потому что солнце уже было высоко, а это значит, что папа скоро вернется, и его надо кормить. Мы успели как раз вовремя. Только отдали корзинку маме, как сзади свирепым зверем завыло, заскрипело, заухало, а потом как накинулось! Страшно и смешно до визга. Это папка так всегда шутит. Он большой и сильный. Он может взять коромысло на плечи, и когда мы ухватимся за концы, раскрутить лучше любой городской карусели. Еще он может подкинуть меня, ну и Миху тоже, высоко-высоко, а потом поймать, когда уже сердце закатывается от испуга. Он веселый и добрый.
Я поливал ему из ведра, а Миха носился рядом и не знал, что бы еще сделать. Потом он сбегал к крыльцу и принес полотенце. Но папа еще долго мылся, отфыркиваясь и отплевываясь от мыльной пены. Он снял с себя все, кроме исподних штанов, и я лил из ведра прямо на спину, на голову, на затылок. А он громко ухал, разбрызгивал воду, подпрыгивал даже босыми ногами.
А потом мы все вместе пошли завтракать.
На завтрак мама приготовила нам кашу пшеничную. Вернее, эта каша была не на завтрак, а стояла с вечера в печи, упревала. Еще были вареные яйца, совсем горячие. Ими можно было стукаться. А папа научил бить яйцом в лоб, чтобы раскалывать сразу. В лоб больно, как от щелбана, но не обидно, потому что сам. Еще были толстые пышные и дырчатые блины, которые мама намазывала густо свежей сметаной, и горячий чай с медом, что принес медоноша на той неделе.
Мы так наелись с Михой, что не могли вылезти из-за стола. А папа посмотрел на нас хитро и сказал, чтобы шли гулять, потому что вечером он нас ждет на площади.
Мы, конечно, пошли. Потому что когда папа так говорит — это не каждый день и даже не каждую неделю. Это праздник просто такой получается. Да еще и каникулы, и лето. Мама тоже сказала, что нам можно гулять до вечера, и отрезала краюху черного хлеба на двоих. Вот мы и пошли. А они остались, потому что папе спать после ночной смены.
Летом хорошо. Можно просто гулять по улицам и на всех смотреть. Можно выйти за ворота и дойти до леса. Можно играть во дворе. Там играли в ножички. Рисовали большой круг, как царство. Делили пополам. А потом играли в ножички, отрезая по куску то там, то здесь. Если умеешь в ножички — можно долго играть. Мы даже рубахи сняли, потому что было жарко. Но не кричали и не шумели, а то папа проснулся бы, а мама бы стала ругаться.
А когда уже нагулялись и наигрались, съели весь хлеб, а из полей потянуло прохладой — вернулись домой. Папа уже ушел, но напомнил про площадь маме. И она нас покормила, а потом туда отправила, потому что каникулы, и не каждый день такое бывает, и даже не каждую неделю.
А на площади уже было людское море, но нас пропустили к самой середине, потому что узнавали.
— О! — говорили в народе. — Гаврюша с Михой! Проходите ближе, пацаны!
Гаврюшей они меня звали. Вообще-то я Гавриил, а Миха, конечно, Михаил. Как старшие архангелы. Только все равно я старше, и дом с хозяйством — мне.
Мы протиснулись в самую середку. Там был такой помост со столбом и ступеньками с двух сторон. Вокруг стояли стражники в форме. А с помоста громко кричали — читали обвинение. Потом вывели нашего бывшего директора гимназии. Мы его никогда не любили — он слишком строгий был и злой на всякие шалости. А тут, выяснилось, что был он кроме того в сговоре с врагами и даже хуже того — еретик.
А потом вышел папа. Он был в красном колпаке с дырками для глаз, целиком закрывающем голову, но мы-то знали, что — папа. Мы это чувствовали. И вот он раздел до пояса директора. Вернее, теперь уже бывшего директора. Потом уложил его на бревно и ловко и усело замкнул специальными цепями руки и ноги. А потом ходил вокруг и махал руками всем, чтобы кричали. Вся площадь кричала, и мы тоже кричали:
— Смерть! Смерть! Смерть!
Папа взял большой лом и сломал директору руки и ноги. Тот стал кричать, но мы кричали сильнее:
— Смерть! Смерть! Смерть!
Потом снова вышел герольд и громко огласил, что за такие преступления положено сжигать заживо на медленном огне, но князь наш добр и дает поблажку.
— Да, точно, таких только сжигать и надо, — кивали в толпе. — Ишь, какая зараза выросла!
А поблажка для директора была такая, что папа взял большущий топор, поплевал на руки, взмахнул им — все замерли сразу и даже директор больше не кричал и не стонал. А потом — раз! Тупой стук, и покатилась голова. Губы еще кривились и глаза открывались — я видел!
Но папа-то был каков — с одного удара!
Потом он спустился с помоста, снял свой колпак, бросил его на помост, обнял нас обоих за плечи, и мы пошли домой. К маме.
— Ну, что, дети мои, — спросил папа. — Учиться когда начнем? Дело-то семейное бросать нельзя.
Я сказал солидно:
— Мне нельзя. Я старший — на мне все хозяйство. Это вон, Михее в службу идти придется.
А Миха подумал, подумал, а потом сказал, как взрослый:
— Через месяц, пап. Вот дай от этой гимназии отдохнуть — а потом учи.
Вокруг шумела площадь. папу хлопали по спине, приглашали в гости, кланялись вежливо, махали издали руками. Но он мотал головой и говорил, что обещал сегодня дома быть. Вот, с сыновьями будет ужинать и о жизни говорить. И все кивали уважительно. Потому что кто еще о жизни мог знать больше, чем городской палач?
А еще существует поджанр "городского фентези", где действие происходит не в придуманном Средневековье, а в наше время. Но чуть-чуть волшебства.
Колокольчик
— …А тебе, добрый молодец, я подарю вот такой очень полезный и очень волшебный подарок.
Заказанный по телефону огромный, пахнущий коньяком и почему-то немного рыбой, Дед Мороз в красном атласном халате, подпоясанном золоченым шнуром, отодвинув в сторону бороду, полез куда-то глубоко во внутренний карман и достал простой блестящий колокольчик с выбитой по краю надписью "2000". Вообще-то его позвали к детям, и он свое отработал на полную катушку, до пота и до восторженного визга младшего — "Папа, Дед Мороз самый настоящий!".
А вот подарки родителям как-то не предусматривались программой. Жене он вручил футлярчик с кольцом (это Пашка заранее, еще впуская в квартиру, сунул ему в карман и сказал тихонько, как и кого звать). А самому Павлу Игнатьевичу Морозову, двадцатисемилетнему системному администратору рекламной фирмы, протянул какую-то побрякушку.
— Папка! Он волшебный! Скажи скорее "спасибо"! — глаза сына требовали.
А чего ж не подыграть?
— Спасибо тебе, Дед Мороз! Что же за волшебство кроется в твоем подарке?
— Правильно ты понял, молодец. Именно — волшебство. Просто позвони, если что. Понял? Позвони…
— …Ага, и ты сразу примчишься на помощь? — скепсис звучал в каждом звуке.
— Нет, у меня очень много дел. Но — должно помочь. Ты только позвони…
…
Колокольчик Павел бросил в карман рабочего пиджака, чтобы рассказать какую-нибудь волшебную историю на работе. Или любовную. Девушкам рассказать — они это любят, когда про любовь. Например, можно рассказать, что это колокольчик с выпускного вечера, и как там танцевали и с кем и что… О-о-о… Паша умел рассказывать!
…
Первые рабочие дни после длинных выходных заканчивались всегда поздно. То одно вылезало, то другое. Приходилось задерживаться, а потом бежать, согнувшись под морозным ветерком с колючими снежинками в лицо, по темным дворам, сокращая путь от метро к дому.
Вот в таком вот дворе его и прищучили.
— Эй, мужик, закурить нет?
— Нет, — на ходу крикнул Паша, прибавляя шаг.
— А если поискать? — этот голос был уже спереди, то есть бежать-то было некуда.
Тени сгустились, запахло пивом и табаком, стало сразу тесно и неуютно под темной аркой. Вот черт, никогда они тут лампочку не вворачивают! "Они" — это были те, которые всегда не выполняли свои обязанности. Кто они и где они Паша не знал, но знал точно, во всем виноваты именно они.
Кто-то уже охлопывал его снаружи по куртке, чьи-то руки полезли в карманы.
— Да ты не дергайся, мужик… Мы не быдло какое. Возьмем, сколько нужно — и все. И вали домой. Ну? Что это у нас тут?
В темноте зазвенел над ухом колокольчик.
— О! Какую игрушку носит!
Щелкнула зажигалка:
— И у меня такой же точно есть. Как раз двухтысячного года. Какую школу заканчивал, земляк?
— Триста шестьдесят шестую.
— Точно — земляк! А Ваську знал? Ну, рыжего такого? Он тоже в двухтысячном закончил.
— Мы с ним не дружили, дрались даже, — вспомнил рыжего Павел.
— Вот и я с ним как раз в этом дворе, за сараями — не раз сталкивался. Мужики, наш он. Пусть идет. Все же в одном году выпускались, — и колокольчик еще раз зазвенел.
— Что, мля, ностальгия?
— Ну, типа того, ага…
…
Дома его ждал холодный ужин и жена, спящая носом в угол, утепленный недавно цветным ковриком, купленным на рынке.
Утром можно было не вставать рано, и Паша воспользовался этим на полную катушку. Он спал и спал. Просыпался и снова засыпал под стук посуды на кухне, негромкие переговоры жены с детьми, поскрипывание полов, щелчки замка, стук дверей…
Он проснулся в полной тишине. Наверное, из-за тишины и проснулся. После какого-никакого шума — вдруг такая тишина.
Паша полежал с открытыми глазами, потом выполз на кухню. За столом спиной к двери сидела жена.
— Доброе утро! — сказал Паша громко и звонко, как диктор в телевизоре.
— А в ответ — тишина, — сказал он после паузы уже на полтона ниже.
— И что у нас плохого? — спросил он уже обычным голосом, присаживаясь рядом.
— А что хорошего? — взорвалась Маргарита. — Что у нас хорошего? Ты целыми днями на работе. Приходишь ночью, уходишь утром. Даже в выходной не можешь погулять с детьми. Что ты вообще делаешь дома? Спишь? И ты спрашиваешь, что у нас плохого? Все — плохо!
Паша молча встал и вышел. Он никогда не спорил с женой, а тем более, когда она начинала кричать. Он просто прошел в комнату, убрал постель, застелил диван покрывалом и сложил его. Убрал развешанную по стульям одежду в шкаф. Разобрал бумаги на столе. А потом сел, подперев голову рукой, и уставился куда-то за окно, ничего не видя. Вот тебе и выходной…
Рука сама нашла в кармане колокольчик. Вот еще штучка.
Паша поднял его к глазам, еще раз прочитал "2000" сбоку. Потом тряхнул рукой — чистый звон поплыл по комнате. Еще раз. Еще. Буддисты так медитируют, вроде. Дзенькнут — и молчат потом, о своем думают, об общемировом и своем личном…
— Ну, ты что не идешь завтракать? — обняла его сзади жена. — Я кофе сварила. Как ты любишь, с перцем и солью. И рыбка красная осталась с праздников. Пошли, Паш, не грусти! Это просто у меня настроение такое с утра.
…
После завтрака они вместе готовили обед. Вот такие моменты Паша любил. Когда вместе — какое-то дело. Деля на двоих всю работу. Он, скажем, чистил лук и резал его, а Марго чистила картошку. Он шинковал морковку, а она уже пробовала бульон. Он резал хлеб, а в коридоре уже толкались дети, о чем-то споря, и Марго уже кричала, чтобы мыли руки и шли за стол. Хорошо, что у них кухня большая — все сразу могут сесть.
А после обеда Маргарита сказала ему:
— Поговори с дочкой. Она взрослая совсем.
Дочка была совсем взрослая. Ей было уже семь лет. Вернее, надо говорить — будет восемь. И о чем он может с ней поговорить? Вот малой Сашка, всего четырех лет, был гораздо понятнее. Маленький, но — мужик!
Пока жена о чем-то разговаривала с сыном, моя посуду, Паша зашел в детскую. Дочь сидела за столом, что-то записывая в толстую тетрадь. Обернувшись, сразу сунула ее в стол и как-то… Не ощетинилась, нет. Но — напряглась. Не комфортно ей стало. Не приятно. И это было действительно плохо.
Не думая ни о чем, Паша вынул колокольчик и тот зазвенел, заиграл, а Паша заговорил вдруг, как будто давно хотел рассказать, да никак не мог начать:
— Вот такие колокольчики нам давали всем на выпускном вечере. Прикалывали на лацкан пиджака, а девочкам — на платье. И мы ходили и звенели все время. И даже такие же цифры были выбиты для памяти. Я тогда как раз танцевал с твоей мамой в первый раз. Она была нарасхват, потому что очень красивая. Прямо как ты. И вот мы танцуем, а колокольчики вокруг…
И он опять потряс маленьким колокольчиком, вызывая малиновый звон. А потом, как что-то толкнуло его:
— Тань, а возьми его лучше себе. У меня же все есть — мама, вы двое. А тебе пригодится. И если что — ты позвонишь, и все!
— И ты придешь?
— Я постараюсь. Ты только громче звони.
Когда Маргарита с сыном добрались до детской, отец с дочкой сидели в обнимку на диване и о чем-то тихо перешептывались.
— А теперь — в кино! — сказал Паша, увидев всю семью в сборе.
— Ура! В кино! А в какое?
— В любое. Вместе — в кино! Все — марш одеваться!
А Таня смеялась и звенела волшебным колокольчиком, поддерживая звоном каждое слово.
Я — здесь
Он подошел сразу ко мне, одиноко пьющему свой дежурный кофе за стеклянной витриной придорожной "Шоколадницы". Зал для некурящих был пуст утренним часом, но он подошел именно ко мне. Будто мест не хватало… В этом дурацком зеленом пальто. С лысиной во всю голову. С розовыми старческими щечками. Да, и еще у него было малиновое шелковое кашне, завязанное на шее хитрым узлом.
— Позвольте?
Я никогда не мог отказать, раз человек имеет право. Ну, выбрал он именно этот столик. А может, он завсегдатай здешний, и это я как раз на его месте сижу?
— Прошу…,- повел рукой, стараясь не смотреть ему в глаза, не вызывать на разговор.
— Холодно сегодня.
— Да, не по-весеннему…
— А вы у нас впервые?
Я заглянул в чашку, допил, стараясь не глотнуть муть, которую никак нельзя было принять за гущу. Сосед не унимался:
— Я все понимаю. Пришел тут какой-то… В зеленом пальто… Вопросы задает… Неприятно. Да?
— Нет-нет, что вы! — все-таки вбили в меня с детства уважение к старикам.
— А я вовсе и не старик.
— Что?
— Да это я так просто, развлекаюсь, мысли ваши читаю. Вас же иначе ничем не пронять, атеистов последовательных. Так?
Сумасшедший? Хотя, сколько книжных историй начиналось вот так, с кафе, случайной встречи.
— Да-да, совершенно случайной — я это специально подчеркиваю — встречи, — тут же озвучил он мои мысли, расстегивая пальто и развязывая кашне. — Ладно вам, не замирайте, как лягушка перед удавом! Мало ли, чего в жизни случается. Особенно, если ваша точка зрения на бесконечность верна. А?
— А? — ой, как же глупо я, наверное, выглядел…
— Ага, дурак-дураком… А ведь с двумя высшими. Ой, прошу прощения, с двумя с половиной.
— Послушайте…
— Что мне от вас надо? Ну, ничего оригинальнее вы не придумали. Мне от вас ровным счетом ничего не надо. Вот вам от меня…
— Мне?
— Ну, не ему же! — махнул он в сторону официанта, подносящего ему высокий бокал с торчащей из него соломинкой с цветным веселеньким зонтиком.
Официант молча поставил бокал и так же молча растворился в тумане входа в зал для курящих.
— Ну, так как? Будем говорить? — уже смеялся неожиданный сосед.
— Будем…,- начал было я отшучиваться.
— Отвечать? — закончил он за меня и рассмеялся в голос. — Знаете что. У вас есть время. У меня — настроение. Ну? Чего вам терять?
У меня действительно было еще почти два часа, которые я совершенно не знал, как провести. Пить кофе больше не хотелось. Что покрепче — рано. И вообще… Действительно, что мне терять? Тут тепло. Никто не гонит. И дедок не вредный такой, занимательный, а сама встреча загадочная и интересная.
— Вот и славненько. Главное — ваше личное согласие.
— Но я же молчал!
— А что, молиться или обещания давать или еще что — только вслух надо? С чего вы это взяли, молодой человек?
— Ну, там еще…
— Ага, договор на пергаменте и кровь на подписи. Как же, читали. Вот же идиоты — эти ваши писаки. Но ладно, хватит болтать. У вас — время. У меня — настроение. А не потрудиться ли нам, джентльмены!
Он взмахнул руками, рукава странного пальто как-то вдруг оказались даже слишком широкими, закрыв мне весь свет…
…
Я с отличием закончил политехнический институт и попал по распределению в Нефтеюганск. В начале девяностых правильно вложился, взял в долг, отдал, потом еще и кое-что купил, а кое-что продал. Потом был период напряжения, когда приходилось ходить с охраной и дергаться на каждое резкое движение… А потом было богатство и деньги, которые, казалось, сами шли к деньгам. Бизнес развивался. Весь мир, так казалось, был у моих ног… Пока однажды охрану не оттеснили в сторону форменные фуражки, а меня не проводили в камеру.
Теперь я был знаменит. Мои письма публиковали в популярных изданиях. На беседу со мной приезжали издалека.
А я шил рукавицы. Выполнял норму и считал, сколько дней осталось до свободы.
…
Ха! Я все-таки вылетел из того института. Ну, не могу я понять этой теоретической механики. Не мое это. Молчи, мама, армия — это совсем не страшно!
Потом Омск, срочная, контракт на сверхсрочную в ближнем Подмосковье. А потом наступил декабрь 1979 года, и мы, несколько молодых и умелых в своем деле идиотов, писали рапорта с просьбой направить нас туда, куда нельзя посылать молодежь.
Направили. Ранение. Орден. Второй контракт. Опять ранение. Легкое, остался в строю. Дали Героя.
Триумфальное возвращение на Родину. Личное знакомство с самим Громовым. Назначение сначала начальником службы безопасности. Потом — предвыборным штабом. И — сам в списках в первой двадцатке.
Партия. Политическая деятельность. Депутат. Заместитель председателя Думы.
— А что, Геннадьич… А если мы тебя в президенты толкнем?
— Вы меня знаете. Я службу знаю, а добро помню.
— Вот-вот… Помни.
Президент.
На втором году работы инфаркт. Спасти не смогли.
…
Рапорта мы писали, но их не принимали — не тот профиль, говорили. У меня была заочная учеба. Истфак. На глазах менялась наша история. Начал писать записки.
После окончания МГУ не остался в армии, уволился и тут же пошел в образование. Учитель, завуч, директор крупной школы. Методички с моим именем. Потом — толстое учебное пособие, учебник. Защита. Приглашение в пединститут. Старший преподаватель, доцент. Защита. Доктор. Профессор. Завкафедры.
Перед пенсией — орден.
Спокойная обеспеченная старость в кругу большой семьи. Трое детей, шестеро внуков. Правнуки.
…
Неожиданное предложение поехать в Никарагуа. Учителем истории, по специальности. И по партийной линии заодно.
Бросил все и поехал. Джунгли. Стрельба. Болезни. Жить более или менее можно только на побережье. Школа для посольских. Конец контракта. В своей стране черт знает что. Отказался от гражданства, сдал паспорт. В американском посольстве приняли, поговорили, передали дальше. Гринкарта. Бедность, похожая на советское богатство. Рассказы. Сатирические рассказы о парткомах и райкомах в местной русскоязычной газете. Первый сборник. Предложение читать курс советологии. Книга. Степень. Вторая книга — уже с прогнозами и вариантами. Нас ведь хорошо учили: если дашь в прогнозе три-четыре варианта — наверняка один раз, да попадешь точно. Признание. Деньги. Там признание — это всегда деньги. Первая поездка домой, как турист. Могилы родителей. Знакомых нет. Возвращение и работа над новой книгой.
Старость. Здоровая и долгая старость. Поездки по миру. Чтение лекций. Приглашение в Москву, в МГУ. Выступление перед студентами в той аудитории, где когда-то бывал сам.
Слава. Известность.
…
Когда начался суд над КПСС, выступил с серией статей в защиту партии. Был замечен, приближен, обласкан. Попал в партийные списки. Депутат трех созывов. Автор книг и статей. Один из авторов новой программы партии. Ученики и последователи. Когда в очередных выборах сошлись демократы против коммунистов, обдумав все, предложил свои услуги президенту. Вице-президент.
Слава, известность. Ордена.
Поездки по всему миру.
Блин, но как же плохо мы все-таки живем! Все просрали опять. Все раздали буржуям!
Поддержал антипрезидентскую группировку.
Попытка переворота. Бои в Москве. Раскол страны. Меня вывезли на Урал, сделав знаменем тех, кто откололся.
Война.
Смерть и посмертная слава.
…
Когда закончил второй ВУЗ, и одновременно закончилась та страна, в которой жил раньше, бросил все, плюнул на деньги и ушел в фантастику.
Писал рассказы. Ругань дома: где деньги, как кормить семью? Повесть. Работа в газете. Первый роман. Не заметили. Второй, третий. Расписался.
Вдруг, как пробило. Одновременно публикуют три романа. Уволился. Пишу одновременно еще четыре.
Кино по моему роману.
Слава.
Развод. Жена не выдержала.
Книги пекутся, как хлеб в автопечке: закидываюсь мыслью, а на выходе — тысячи строк.
Полки в книжных магазинах с моей фамилией. Горжусь.
Поклонники и почитатели.
…
— Ну, как?
— Что? — не понял я.
Вот он махнул рукавами — а потом что было-то? Я же прожил все эти жизни?
— Прожил, прожил… Вернее, мог прожить. А еще вернее — можешь.
— То есть…
— То есть, все можно повернуть. Настроение у меня такое сегодня, понимаешь? Вот сейчас ты говоришь мне: я прошу того и того… И все. И ты — там. На той точке поворота, с которой пришел сюда, а не туда, — сосед ткнул большим пальцем себе за спину. Опять взметнулись ярко-зеленые рукава. Закружилась голова.
— Итак, требуется только формальное согласие — и ты будешь там!
Я молчал, собирая мысли, а он смотрел с интересом, эти же мысли читая.
— Не понял… Так что, какое место?
— Это, извините. Я — здесь.
— И кто ты здесь? Кому ты такой здесь нужен? Кто тебя здесь знает? А можешь быть богат, знаменит, умен… Ну, умнее чем сейчас-то, во всяком случае… Весь мир — у твоих ног!
— Нет!
— Что, совсем — нет? И совсем ничего попросить у меня не хочешь?
— Можно, я это просто опишу? Ну, нашу встречу?
— Какую встречу? — удивлено спросил подошедший ко мне со счетом официант…



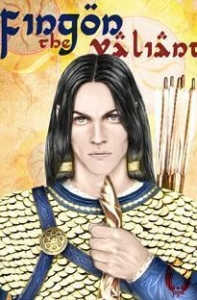


Комментарии к книге «Настоящее фентези», Александр Геннадьевич Карнишин
Всего 0 комментариев