Александр Прозоров ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА
Пролог
К острову лодка подошла поздно вечером со стороны открытой Ладоги. Князь Сакульский не хотел, чтобы его заметили послушники, и ради этого не поленился сделать крюк в несколько верст по темным высоким волнам. Четкий черный отпечаток креста на светлом небе подсказывал гостям путь: где-то за ним, под Змеиной горой, находилось древнее святилище, к которому и стремился ученик древнего волхва.
— Странное название для святого острова: Змеиная гора, — пробормотал Зверев. Андрей знал, что ползучих тварей на этом участке земли нет ни одной. Любимицы Чернобога, они не выносили близости к алтарю всемогущего Велеса, магической силой мало уступающего самому Сварогу.
Дубовый киль зашуршал по песку, заставив путников качнуться вперед. Корабельщики, одернув ветровки, принялись торопливо сматывать парус. Князь Андрей Сакульский широко перекрестился на далекий купол Казанского скита, первым перемахнул через борт и кивнул холопам, тихо приказав:
— Несите.
Под присмотром Ильи шестеро служивых, удерживая за края дерюгу с лежащим на ней Пахомом, перебрались на узкий пляжик под обрывом. Андрей, показывая дорогу, прошел где-то с полсотни саженей вдоль берега до низины, свернул влево, пересек недавно скошенный монахами лужок и уверенно нырнул в прозрачный, терпко пахнущий смолой сосновый бор. Дороги он не знал — тем более от случайного места, к которому вынесло десятивесельный струг. Но он чувствовал его — он чувствовал древний алтарь, как весенние грачи чуют дорогу к родному гнезду, как выброшенный из воды угорь тянется к живительной влаге. Да и само святилище, рядом с которым впервые за долгие века появился посвященный, звало его бесшумной жаждой, пробуждаясь от сна.
День закончился. Но здесь, на ровном песчанике, лишь слегка присыпанном хвоей, в пронизанном бледным светом полной луны редколесье, путников это ничуть не смущало. Провалиться тут в звериную нору или не заметить упавшего дерева, налететь на низкий сук или забрести в колючий кустарник было совершенно невозможно.
Наконец в лицо дохнуло влажностью, между соснами как-то сразу появилось множество елей, и за этой стеной открылся камень — холодный, белесый и громадный, как амбар жадного новгородского купца.
— Он, никак, светится? — изумленно шепнул кто-то из холопов.
— Это луна бликует, — пресек подозрения князь. — Кладите здесь, возвращайтесь на струг. На рассвете вернусь, пока отдыхайте. Костра токмо не разводите, монахи на такую вольность серчают сильно.
— Как скажешь, княже, — коротко, с достоинством поклонившись, за всех ответил Илья. — Понадобимся — крикни громче, вмиг примчимся.
— И не думай, — покачал головой Зверев. — Это святой остров, тут с честным человеком плохого случиться не может. Коли кто и закричит, так скорее это настоятель послушников на молебен сзывать станет. Так что нечего пугать отшельников, тихо себя ведите. Выстави охранение для порядка, да спать ложитесь. Все, ступай.
Андрей присел рядом с дядькой, поправил овчину, в которую тот был завернут, поправил раненому голову. Уже почти год, как Пахом, закрыв собой его сына, получил резаную рану чуть ниже затылка. По уму — ничего, кроме мягких тканей, татарский меч не порезал, и очень скоро старый служака должен был подняться на ноги… Но нет. Кожа на шее зарубцевалась, однако голову холоп не держал, заваливалась она из стороны в сторону, словно держалась на тонкой ниточке. Пахом не мог встать, часто терял сознание, с трудом владел руками, не попадая даже ложкой в рот, а уж про ноги — и говорить не стоило. Дядька умирал. И для князя Сакульского это было чуть ли не страшнее, чем расставание с отцом. Ведь отец, пусть и родная кровь здешнему Андрею, виделся с сыном лишь временами, когда на службе не был занят да когда хлопот в имении не случалось. Растил же барчука Пахом, не расставаясь с ним почитай что ни на день, обучая и грамоте, и ратному делу, закрывая собою в кровавых стычках и хлопоча с обыденными заботами в мирную пору. Потерять верного холопа для Зверева было равно как руки лишиться или даже половины тела. Такого он себе и представить не мог.
Дождавшись, пока слуги скроются в лунных сумерках, князь выпрямился, обошел гигантский камень, формой своей удивительно похожий на конскую голову. Насколько он помнил, сию игрушку скотий бог Велес отобрал давным-давно, много веков назад, у полуночного демона — на валуне даже остался след когтистой пятипалой лапы чудовища, что пыталось камень удержать. Именно там, под следом лапы, волхвы и возносили свои молитвы великому богу, в почитание одной из его побед приурочивая самые торжественные службы к полуночи — часу Велесова торжества. И уж конечно, самые главные празднества случались в час полнолуния — ибо полнолуние издревле является часом перемен, когда многие, многие силы мира достигают пика своего развития и начинают слабеть, как бы отдыхая, съеживаясь вместе с ночным светилом, уменьшаясь, почти впадая в спячку — чтобы воспрянуть снова в час новолуния.
След демонской лапы нашелся очень быстро — размером с половину сажени, он глубоко впечатался в камень чуть выше княжеского роста со стороны, противоположной лошадиному «носу». Андрей кивнул, подтянул дерюгу с раненым дядькой ближе, еще раз поправил голову холопа и обнажил косарь. Для обряда волхвования не имеет значения, чем нанесены линии — краской, мелом, кровью или же просто проведены железом по земле. Главное — чтобы фигуры исполнены были правильно, и руны поставлены верные, в правильных местах.
Древнее святилище, уже забывшее звучание голосов мудрых волхвов, забывшее запах благовоний и тепло жертвенных подношений, забывшее слова молитв, звуки ритуальных танцев и хвалебных песен — вновь оказавшись в центре священной пентаграммы, задышало, зашептало непонятные древние слова, мертвенно засветилось белыми неровными бликами, перемещающимися по траве, деревьям и камню, меняющими очертания, сплетающимися в причудливые формы и снова рвущимися на части.
Князь поднял глаза к небу, определяя время, потянулся к заплечному мешку, достал деревянную миску, что самолично вырезал из липы, коротая время в постоялых дворах. Пусть и неказистая — но зато без посторонних благословений, чистая, всю судьбу которой он знал от начала и до конца. Проверил пробки на двух бурдюках, опять поднял глаза к небу. Луна, по его мнению, уже поднялась достаточно высоко, чтобы знаменовать наступление полуночи.
Князь поднял чашу, поклонился на четыре стороны:
— В твой дом вхожу, великий Велес, с чистой душой, уважительным словом, доброй мыслью, искренним подношением. Прими мой дар скромный, повелитель всего живого, услышь мое слово, ответь моей молитве… — Князь Сакульский открыл теплый бурдючок, перехватил его за дно и до краев наполнил чашу еще совсем свежей кровью.
Андрей знал, что по обычаю жертвоприношение желательно начинать у алтаря, а не производить его за тридевять земель. Однако помнил ученик старого волхва и то, что русские боги не принимают в качестве подношения чью-то жизнь. Им не нужны человеческие души, они не наслаждаются видом смерти, муками обреченного существа. Они принимают от волхвов угощение, а не зрелище, и скорее удовольствуются искренне подаренным букетом цветов, нежели согласятся на жертву невинного первенца. Хотя, разумеется, как и всякий нормальный человек, листику салата предпочтут сочный и толстый бифштекс. Тем более — Велес. Скотий бог не Полель, его букетиками не уважишь. Кровь любит. Но проще привезти кровь с собой, чем тащить на небольшом струге брыкающегося увечного мерина.
Зверев поднял чашу, поднося ее к следу лапы на камне, чуть наклонил, роняя на землю драгоценные капли. Ему был нужен знак. Знак того, что его услышали, что обряд проводится правильно и древний бог богатства и жизни слышит его.
На миг показалось, что камень испуганно содрогнулся, дохнул мертвенным холодом, потянувшись вперед. Резко и неожиданно, до кашля, до рези в легких запахло едкой, старой, перегорелой золой, зашипела земля, впитывая подношение. Святилище, уже больше двух веков не знавшее языческих обрядов, готово было простить новоявленному жрецу любые ошибки в волховских правилах, лишь бы опять, пусть хоть ненадолго, возродиться к былой жизни, силе, славе.
Но это было не то. Намоленное сотнями поколений славян капище уже давно жило своей, независимой жизнью, имело свою душу, свою волю, свою силу. Андрей же желал достучаться до бога, добиться его воли в возвращении сил раненому холопу.
Чаша снова наклонилась, скупо проливая темную жидкость на след демона, заставляя его пульсировать и чернеть, пропитываясь лошадиной кровью.
— В твой дом вхожу, великий Велес, с чистой душой, уважительным словом, доброй мыслью, искренним подношением. Прими мой дар скромный, повелитель всего живого, услышь мое слово, ответь моей молитве, — терпеливо повторил Андрей.
Воздух задрожал, словно над самой головой бесшумно прошел тяжелый грузовой вертолет. Начертанный окрест камня круг вдруг стал хорошо виден вместе со вписанной в него пентаграммой, на остриях звезды выросли темные фигуры призванных рунами существ — крупных и мохнатых, как медведи; четверолапых с крыльями за спиной, похожих на грифона; низких плечистых и рукастых, как лешие; грудастых птиц, пугающе напоминающих чаровницу Сирин. Это не была свита Велеса — только лишь тени, слабое подобие могучих древних духов. И совсем не страшным на их фоне показался ворон, что опустился на самую макушку камня и многозначительно кашлянул, чуть повернув голову и глядя на гостя сверху вниз. Птица была столь черна, что хорошо различалась даже на фоне ночного неба, глаза же ее и вовсе казались провалом в потустороннюю бездну.
— Великому Велесу мое уважение… — Вызубренные слова древних заговоров неожиданно начисто вылетели из головы Зверева, и он просто склонился перед ночным вестником, опустошая свою чашу: — Прими мой искренний дар и снизойди к просьбе моей о помощи…
Кровь заструилась по камню, наполнила линии рисунка, коснулась земли, ненадолго превратив тени Велесовых слуг в сочные и яркие образы. Однако ученику Лютобора было сейчас не до них. Он торопливо выдернул из мешка второй бурдюк, снова наполнил чашу старательно приготовленным зельем из густого терпкого ежевичного вина, сдобренного настоем из девясила, болиголова и сон-травы с пастушьей сумкой, заговоренного на перекрестье четырех дорог. Здесь было и седьмое яйцо белой несушки, и клык матерого волка, и лунная вода, и росинка плакучей ивы. Андрей сделал для дядьки все, что только было в его силах, испробовал все средства, о которых только успел узнать от старого чародея. И теперь оставалось только одно: дать зелью силу благословением древнего хозяина жизни.
— Сделай милость, великий Велес! — Князь отбросил бурдюк и с поклоном поднял чашу двумя руками. — Снизойди к смертным, великий бог, раздели с нами братчину хмельного вина. Будь братом нашим на этом скромном пиру. Почти родичей своих по свароговой крови. Признай родство наше в служении земле русской.
Ворон, словно в раздумье, затоптался на макушке Конь-камня, приоткрыл и снова закрыл свой клюв. Случись это днем — Зверев подумал бы, что птица ожидает, пока, наконец, люди уйдут прочь, чтобы насладиться вкусом пролитой крови. Но над святым островом царствовала ночь — а ночью обычные птицы не покидают своих укрытий.
Андрей опустился на колено, приподнял Пахому голову, поднес чашу к его губам, дал просочиться в рот нескольким каплям, потом отпил немного сам и поднял чашу вверх. Ворон каркнул и затоптался. Склонил голову набок, вглядываясь просителю в самую душу.
Зверев знал, что ведет себя по языческому канону невероятно нагло. Нагло до несказанности. Предложить богу признать себя равным ему — за такое ведь во гневе и испепелить могут враз высшие силы. Или превратить в труху, в вечный полуживой лишайник, дабы знал свое место. Но с другой стороны — если Велес признает Пахома равным, если осушит с ним общую братчину, то от раненого должны отступить все недуги и боли, немощь и слабость. Ибо равный богу не может быть — не способен оказаться слабым и больным. Воля Велеса — сильнее любой лихоманки. Если он захочет — все болезни уйдут, все раны исцелятся.
Прочие способы лечения своего воспитателя Зверев уже испробовал, и без особого успеха.
Ворон топтался на камне, то отворачиваясь, то вытягивая шею и поглядывая вниз, словно колеблясь: карать или миловать? Заслужили смертные деяниями своими право разделить с ним трапезу или зазнались безмерно и нуждаются в наказании?
— Ну же, Велес… — нервно пробормотал Зверев. — Разве мы с тобой не из одного рода внуков Свароговых? Разве не на одной земле живем, разве не за общую отчину у нас сердце болит? За землю русскую кровь он свою пролил. Не за злато, не за славу, не из страха перед волей моей. За Русь святую живота не жалел. Нечто не прощает кровь, им пролитая, тех прегрешений, что у любого из нас найдутся? Дай ему еще хоть несколько лет достойной жизни, Велес. Раздели с ним чашу братскую. Дай ей свое благословение, верни ему силу в жилы и саблю в руки. Не ради жалости, ради земли и рода нашего, дабы снова мог он грудью свободу русскую защищать, да чужаков подлых, что с законами чужими к нам идут, в землю нашу навек и дальше укладывать.
Ворон каркнул, упал с камня вниз, лишь на краткий миг расправив крылья, сел на край чаши, неожиданно оказавшись совершенно невесомым, клюнул вино, вскинул голову, проглатывая угощение, слетел дальше вниз.
— Получилось! — обожгло радостью Андрея. — Мы разделили братчину с Велесом!
Он торопливо присел к дядьке, поднял его голову, поднес чашу к губам. Несколько скупых капель перекатились через край — и холоп вздохнул. Ворон оглушительно каркнул совсем рядом — оказывается, он успел подобраться к самой подстилке и стоял рядом с ногой князя. Зверев опустил чашу, давая ему возможность глотнуть, но ворон мотнул головой, недовольно отступил, чуть расставил крылья и пригнулся, словно собираясь взлететь. Требовательно каркнул.
— Ах да, — сообразил Зверев. — Братчину положено пускать по кругу…
Он опять поднес миску к губам, сделал пару глотков, опустил. Ворон быстро и резко клюнул вино и тут же взлетел, описал над Конь-камнем четыре круга и скользнул в северную сторону. Тут же все вокруг изменилось: зашелестела под слабым ветерком листва осин, что росли вдалеке за тропинкой, пахнуло свежестью и травой. Пентаграмма бесследно исчезла вместе со свитой скотьего бога, снова мертвенно застыл громадный валун с отпечатком когтистой лапы — чистый, серый, без единого следа пролитой на него крови.
— Зря стараешься, княже… — устало простонал Пахом. — Видать, стар я уже стал. Не зарастает шкура-то. Пришло время о душе думать, а не о походах. Уж прости, но ты теперь как-нибудь сам.
— Да? — Зверев, изумленно глядя на совершенно пустую миску, пропустил его слова мимо ушей. — Куда же вино-то все делось? Вроде как не проливал.
И тут миска внезапно вспыхнула прямо в его пальцах. От неожиданности князь вскрикнул, отбросив ее прочь.
— Что случилось? — вскинулся и Пахом.
Андрей оглянулся на него, и тут же забыл про свою неказистую поделку, догорающую меж мшистых кочек: встревоженный дядька приподнялся на локте и осматривался с той знакомой цепкостью во взоре, что всегда отличала его в дальних ратных походах.
— Ничего не случилось, — ответил он. — Хватит валяться, простудишься. К стругу пошли. Домой пора возвертаться.
По иронии судьбы, именно в эту ночь и в этот самый час в тысячах верст от святого острова Коневец, в далеких горах Трансильвании два десятка невольников как раз закончили расчищать вход в пещеру, доселе скрытую густыми зарослями боярышника, заложенную валунами и обозначенную двумя волчьими черепами, вмурованными в старую, замшелую стену. Под присмотром нескольких янычар в дорогих шелковых халатах рабы выбивали кирками раствор, раскачивали валуны, откатывали их в сторону. Когда проход оказался достаточным для прохода одного человека, плеча десятника коснулся скромный худощавый старец, одетый лишь во власяницу, потертую феску и деревянные туфли.
Янычар почтительно поклонился, хлопнул в ладони:
— Прочь! Пошли прочь, гяуры!
Не дожидаясь повторения, невольники подхватили кирки и поспешили по тропе вверх по склону. Старец же, чья одежда выдавала в нем суфия, поддернул полы власяницы, наклонился и бодро нырнул в темную дыру.
— Факел! — спохватился десятник. — Афанди, отнеси ему факел!
Янычар, получивший приказ, полез в складки широкого атласного пояса, достал кожаный кисет, вытряхнул огниво, слегка размял трут, высек искру, привычно раздул, подсунул пучок сухой травы, подул сильнее, а когда растопка занялась, торопливо выдернул из приготовленной охапки факел, наложил его сверху. Пахнуло горелой шерстью и прогорклым жиром. Воин поднял разгорающийся факел, одной рукой неуклюже запихнул огниво в кисет, зубами затянул узел, спрятал его в пояс. Факел чадил и потрескивал, но языки пламени становились все выше и выше. Прочие янычары стали разбирать остальные факелы, зажигая их от первого. Десятник, нахмурясь, кивнул в сторону пролома. Воин по прозвищу Афанди, поправив рукоять ятагана, шагнул туда — но тут суфий выглянул наружу и уверенно кивнул:
— Это она. Ведите сюда девственниц.
— Слушаю, шейх Саид, — поклонился ему десятник.
— А, факел, — прищурился на весело скачущее пламя суфий. — Это хорошо. Идите со мной.
Янычары переглянулись, но перечить не рискнули и один за другим стали пробираться в узкий проем. Стоило первому факелу оказаться внутри — как вперед с громким треском покатилась огненная волна. Испуганные воины тут же шарахнулись назад, шепотом взывая к милости Аллаха — но это была всего лишь густая паутина, тут и там свисающая с потолка длинными седыми гроздями, облепленная пылью и невесомыми летучими семенами одуванчиков, кленов и тополей.
— Сюда, — пальцем поманил их суфий, словно и не заметивший огненной волны. — Отодвиньте эти камни.
— Я позову невольников, — предложил Афанди, водя факелом из стороны в сторону. Время от времени огонь касался еще уцелевших паутинных гроздей, и те короткой вспышкой превращались в пепел.
— Нет. Гяурам не нужно этого видеть, — возразил шейх.
— Они никому не расскажут, — осклабился воин.
— Расскажут, — покачал головой суфий. — Мертвые куда хуже хранят тайны, если умеешь правильно спрашивать. Тот, кто догадается, о чем спросить, наверняка умеет задавать вопросы даже мертвым. Двигайте камни, если не хотите узнать тяжесть султанского гнева.
Янычары недовольно поморщились, но и теперь ослушаться не посмели и один за другим оттолкнули три крупных валуна из центра пещеры к ее краю. Снизу открылась гранитная плита со сбитыми буквами, утопленная на глубину примерно в три пальца.
— Нам ее не выковырять, — покачал головой янычар, проведя факелом вдоль края. — В эту щель даже нож просунуть невозможно.
— Эту дверь я открою сам, — кивнул суфий. — Ступайте, вы и так увидели слишком много.
Воины обрадованно ринулись к выходу, забыв оставить старцу хоть один факел. Впрочем, тот ничуть не обеспокоился наступившей темнотой. Он даже прикрыл глаза и о чем-то заунывно запел, слегка разведя руки и вращаясь возле странной плиты, медленно переступая ногами. В тихом шелестящем танце прошло несколько минут, прежде чем снаружи послышался шум, решительные окрики. Вскоре через пролом внутрь протиснулась упитанная девушка, одетая в длинные юбки и кофту, цвет которой в сумерках было не различить. Следом стал забираться и десятник янычарской стражи, но шейх, не останавливая вращения, легко скользнул к нему, тихо скомандовал:
— Жди снаружи. — А пламя факела погасло, словно задутая свеча.
Воин не заставил себя уговаривать — тут же попятился, пару раз громко чихнул. Девушка ощутимо вздрогнула от резкого звука, тихонько заскулила.
— Не бойся, — ласково коснулся ее руки старец. — Тебе ничего не угрожает. Иди сюда. Осторожнее, не оступись. Еще шаг, — провел он невольницу через темную пещеру к плите. — Наклонись и постарайся удержать равновесие…
Мягким стремительным движением суфий коснулся ее горла. Девушка захрипела, вниз хлынул поток крови, заливая плиту от края и до края. Старец нежно обнял ее за талию, не давая упасть, и опустил к камням только тогда, когда из вен упали вниз последние тягучие капли. Плита тем временем начала медленно проседать вниз, потом вдруг задрожала, чуть подпрыгнула, резко сдвинулась в сторону. Из ямы — неуклюже, пошатываясь — поднялся широкоплечий человек, встряхнулся, прокашлялся, вытянул руку в сторону старца:
— Имя! Отдай ее имя!
— Тебе не нужно его знать, Черный Иблис, — покачал головой суфий. — В час нового полнолуния, когда эта кровь отравится смрадом и станет бесполезна твоему телу, я приведу тебе новую девственницу, чистую и непорочную. И призову старую кровь наружу.
— Имя! Отдай имя! — снова потребовал иблис, с силой сжимая пальцы в кулак.
— Твоя сила велика, Черный Иблис. — Суфий вскинул левую руку, пошевелил пальцами, и в них вдруг возникли холодные нефритовые четки. — Именно потому великий султан и решил поднять тебя из небытия и призвать на службу. Против твоей воли не способен устоять ни один смертный. Посему ты станешь повелевать, купаться в роскоши и наслаждениях, развлекаться своим любимым зрелищем. Но при этом ты не должен забывать, кому ты служишь, и неукоснительно исполнять волю великого султана.
— Имя! — повысил хриплый голос иблис.
— Твоя сила велика, Черный Иблис, — улыбнулся суфий, — но она ничто пред волей преданного слуги Аллаха, очистившего плоть и мысли, постигшего милость Всевышнего и познавшего тайны демонов. В твоем теле течет чужая кровь, Черный Иблис, и только я знаю ее имя.
— Я раздавлю тебя, как насекомое, жалкий смертный! — снова сжалась в кулак рука восставшего из ямы существа.
— Тогда некому будет позвать твою кровь, когда наступит день полнолуния, Черный Иблис, — невозмутимо защелкал четками старец. — Она останется в твоем теле и отравит тебя гнилью. Лишь я один знаю, как вызвать старую кровь и сменить ее свежей. Ты можешь убить меня. Но тогда мы умрем вместе. Хочешь остаться в мире живых — дай клятву верности султану. Служи ему честно, и тогда каждый месяц я буду приводить к тебе свежую кровь.
— Ты хочешь сделать Черного Иблиса своим рабом, жалкая таракашка? — зарычало существо.
— Я уже сделал это, — ничуть не дрогнул суфий. — Но у тебя будет достойная цель и великая власть, которой позавидует половина мира. Тебе не стоит бояться позора. Твою тайну знаю я один — величие же увидят все.
— До нового полнолуния еще много дней. Я успею раздавить тебя, погулять вдосталь и умереть свободным.
— Ты насладишься свободой в полной мере и останешься жив, если принесешь клятву верности, — ответил старец.
— Твои слова слишком заманчивы, чтобы быть правдой, — наконец опустил руку Черный Иблис. — Я не верю тебе, смертный.
— Я оживил тебя. Разве может быть что-то хуже могильной ямы?
— Позор хуже небытия, — твердо ответил иблис. — Лучше быть мертвым, чем оказаться обманутым слугой смертных.
— Загляни в мои глаза. Разве ты не способен распознать обман? Великому султану нужен союзник. Сильный, как ты, и верный, как…
— Как собака на коротком поводке, — закончил вместо него Черный Иблис. — Хорошо, смертный, я поверю твоему слову. Но едва настанет день полнолуния, я подниму свою сестру. Она станет следить за мной и тобой, смертный. И если ты предашь свою клятву, она придет на мою могилу и напоит меня свежей кровью. После этого я снова встану, смертный. Я встаю уже не первый раз. Я встану и буду помнить только о мести. И она будет страшна.
— Пока ты будешь верен султану, тебе не о чем беспокоиться, — улыбнулся суфий. Угрозы иблиса не произвели на него особого впечатления. — Идем, тебя ждет новое имя, горячая вода и мягкая постель.
Чудотворец
— Мне удалось это, Лютобор! — довольно похвастался Зверев стоящему над речным обрывом волхву. — Я исцелил Пахома! Он ныне здоров, весел, ест за четверых, дрова все в усадьбе переколол, един троих холопов гоняет, за девками, ровно юнец, ухлестывает. Крепок и силен пуще прежнего!
— Вот как? — покосился на него чародей, залитый ослепительным рассветным солнцем. — Ты оказался более умелым учеником, нежели я ожидал. Нашел лекарство, о котором не слышал даже я. Что это за зелье?
— Я нашел святилище Велеса, вызвал его и предложил испить братчину.
— Я ошибся, — все тем же спокойным тоном произнес волхв. — Ты не умнее, а куда глупее, чем я думал. Ты хотя бы жив?
— Конечно, — пожал плечами Андрей. — Он согласился. Сделал два глотка. И мы с Пахомом тоже. А потом чаша иссушилась и сгорела.
— Велес сделал это, чтобы к напитку не прикоснулся кто-то еще, — пояснил волхв. — Значит, ты тоже вкусил это зелье?
— Это же была братчина! Ее положено пить всем, по кругу.
— Ну ты-то ладно, ты совершил эту глупость по своей воле и своему недомыслию. Но твой слуга — он хоть немного понимает, чем ты его наградил?
— А чем я его наградил? — насторожился Зверев. — Я вернул ему жизнь. И он теперь здоров. Разве этот обряд не исцеляет смертных от любой болезни?
— Исцеляет, — согласно кивнул волхв. — Стать побратимом бога — это великая честь и благословение. Велес признал ваше равенство себе и тем проявил свою волю. Наградил тем самым равенством, что вы искали. Теперь вы не будете болеть. Ведь боги не болеют.
— Ты хочешь сказать, мы стали богами? — не без замешательства переспросил Андрей.
— Чтобы стать богом, мало иметь здоровье, — улыбнулся Лютобор. — Когда твоей воле станут подчиняться звери, птицы и растения, когда твоего взгляда станут опасаться грозы и камни, когда твое знание превысит круг возможных тайн мирозданья, а разум сможет превращать это знание в земные деяния, — только тогда смертные начнут ставить алтари в твою честь, воскуривать для тебя благовония и просить о милостях. Пока же, чадо, ты просто здоровущий балбес. Чурка деревянная. Чурка, она ведь тоже не болеет. Стоит крепкая и сухая и на здоровье свое не нарадуется.
— Но ведь я смог его вылечить! — возмутился Андрей. — Я хотел исцелить Пахома, и я это сделал! Что же ты меня так честишь, колдун?
В этот раз Лютобор на «колдуна» не обиделся, ровно не заметил. Оперся на высокий посох обеими руками, положил на них подбородок, поджал губы:
— Видать, пришла пора зарок свой исполнять. Слово произнесено и вернуть его не сможет ни топор, ни снадобья, ни уговоры. Молитва вознеслась, и Велес сделал свой новый выбор. Пора…
— Ты о чем? — забеспокоился Андрей, но тут образ старого чародея распался, разлетелся в клочья, исчез вместе с ярким тихим рассветом, и вместо него на Зверева обрушилась ярая воронья стая. Отбиваясь, он в отчаянии замахал руками и… проснулся.
Бревенчатый потолок, жаркая перина, небольшое наборное окошко возле изголовья, образ Николая-угодника по левую руку, с Полининой стороны. Это означало, что в этот раз он находится дома, в своей усадьбе, в своем дворце, в своем княжестве. Князь Сакульский, как и всякий служилый боярин, просыпался в своей постели настолько редко, что каждый раз это казалось ему маленьким чудом. Андрей потянулся, опустил ноги на пол, нащупал тапки, подошел к окну, выглянул. По ту сторону стекол качались в сумерках какие-то невнятные тени. То ли ночь светлая, то ли утро хмурое — поди, разберись.
С тихим шипением на густо смазанных салом подпятниках провернулась дверь, внутрь заглянул Пахом:
— Никак встал, княже? То-то, слышу, шаги наверху.
Зверев только улыбнулся наивной хитрости холопа: в то время, когда дядька вышел из людской, он еще дрых без задних ног.
— А тебе чего не спится, дядька?
— На утреню собираюсь, княже. Ты как, пойдешь на службу?
После чудесного избавления от раны Пахом очень сильно беспокоился о спасении своей души и стал куда как набожнее прежнего, надеясь отмолить грех невольного участия в волхвовании. Андрей подозревал, что старый вояка даже покаялся в том на исповеди — уж очень сумрачно поглядывал на князя отец Ион, сменивший недавно прежнего, почившего батюшку в деревенской церкви.
— Пойду, — кивнул Зверев. Ложиться обратно в постель смысла больше не имело. Лютобор уже проснулся и вновь встретиться с волхвом для разговора не получится. Да и мысли тревожные почивать спокойно не дадут. — Конечно, пойду. Вели ферязь красную подать. Ту, что без шитья золотого. В храме меня пусть лучше скромность украшает.
Андрей помнил про зарок старого мудрого волхва. Лютобор намеревался уйти из жизни, дабы не видеть погибели рода русского, земли святой, всего того древнего мира, частью которого он был. Событие сие по пророчеству предполагалось на ближайшие годы, когда на Русь разом обрушатся с трех сторон орды османские, польские и казанские. Страшное было пророчество, угрожающее… Но с того часа, когда услышал его совсем еще юный барчук, минуло четверть века. За это время — не без стараний Андрея, спасшего ненавистного своевольным боярам царя Иоанна и старательно подталкивающего его в принятии решений, — ханство Казанское стало частью Великой Руси, и татары его храбро сражались в русских ратях, Османская империя жестоко умылась кровью в жестокой многодневной битве у Молодей. И даже Польша, увидев неодолимую мощь восточного соседа, не просто присмирела — она призвала русского государя Иоанна на свой престол,[1] освободившийся после смерти Сигизмунда Августа, случившейся на удивление как раз перед эпической битвой двух сильнейших государств мира. И хотя польская знать пыталась вместо прославленного «покорителя ханств» протащить на трон малоизвестного французского принца Генриха Анжуйского, князь Сакульский не сомневался, что магнатам придется уступить мнению худородной, но многочисленной шляхты.[2]
Теперь, когда Руси больше уже ничто не угрожало, зарок мудрого волхва потерял всякий смысл — но вот поди же ты, не забыл про него чародей, продолжают посещать Лютобора давнишние нехорошие мысли.
С мыслями о своем учителе и простоял Андрей Зверев всю службу в отстроенной на проклятом когда-то холме бревенчатой церквушке, пропустив мимо ушей всю службу, лишь крестясь машинально и кланяясь в те моменты, когда так поступали все вокруг. Он даже не сразу заметил, что отец Ион вдруг решил дополнить службу горячей проповедью, пересказывая и без того известную всем беду с очередным неурожаем, обрушившимся на Русь и не миновавшим его княжество.
— Господь кару на нас обрушил, люди православные, хлеба нас лишает насущного, знак о недовольстве своем подает…
Это было правдой. Ни рожь, ни тем более пшеница год за годом не желали вызревать в его владениях: вымерзали из-за слишком поздних и слишком ранних холодов, урезавших и без того не жаркое лето всего до пары месяцев в году. Смерды перебивались с брюквы на репу да с капусты на гречку. Ну и, словно в насмешку, в теплых ямах, выстеленных навозом и прикрываемых на ночь рогожами, на редкость щедро уродились огурцы. До них ночные заморозки, убивавшие хлеб, не добирались. Днем же солнце сияло, словно на южном курорте — и огурцы перли, как опята на перегнившем березовом пне.
— …отвернулся Вседержитель небесный от земли русской, на коей многие забыли о жертве его, вновь идолам поганым кланяться начали, волхвование вспомнили, веру истинную отринули… — продолжал горячее обличение батюшка, и Андрей начал понимать, в чей адрес бросает он свои намеки.
— Истинно так, братья! — громко и решительно прервал он попика. — Лишения Господь посылает нам для испытания твердости веры нашей и готовности следовать заветам его не токмо в час сытости, но и в дни бедствований. Учил нас сын Божий возлюбить ближнего своего, как самого себя, не только о своем брюхе думать, но и о том, чтобы единоверец твой не голодал. Посему, следуя завету сему, объявляю: всем смердам, у кого недоимки в казну мою из-за неурожая случились, недоимки сии прощаю полностью! Тех же, за кем недоимок не числится, от оброков всех на сей год освобождаю! Пусть лучше амбары мои пустыми останутся, но дети в домах православных сыты зимой этой будут!
Смерды от такого известия громко ахнули. Ближние кинулись целовать князю руки, дальние, прослезившись, крестились и читали молитвы. Облегчение от такой щедрости должна была испытать каждая семья, что обитала в княжестве, каждый дом и двор. И очень многих она избавляла от нужды запекать по весне горькую лебеду, корни лопухов и листья одуванчиков.
— Восславим князя нашего православного! — радостно провозгласил Пахом. — Помолимся за здравие его и долгие лета!
Батюшка на глазах скис, но, пусть и понурившись, молитву за княжеское здоровье вознес вместе со всеми прихожанами, хорошо поставленным голосом подсказывая правильные для такого случая слова. Закончив же, первым подошел к Андрею.
— Деяние твое мудрое и доброе, княже, — похвалил он Зверева, — однако же к исповеди ты уже третью неделю не подходишь.
— Да как-то нет в душе моей такой потребности, батюшка, — развел руками князь. — Я ведь намедни с Пахомом обитель Рождество-Богородицкую посетил на святом острове Коневце. В храме, самим преподобным Арсением поставленном, Господу нашему молитвы искренние вознес, там же образ святого Николая получил, в монастыре освященный, и с собой привез. На душе моей после сего паломничества тихо и благодатно стало. Не вижу как бы, в чем каяться…
Самым приятным во всей этой истории было то, что она являлась правдой от первого до последнего слова. После обряда у Конь-камня, когда князь с Пахомом вышли к берегу, то вместо струга они обнаружили лишь многометровые волны, яростно штурмующие обрыв. Догадавшись, что спастись от шторма корабельщики могли лишь с подветренной стороны, Андрей повернул к монастырю, в тихой бухте у которого и нашел своих холопов. А раз уж все равно они оказались в обители — то все вместе и службу в храме отстояли. Языческая душа ученика чародея не имела ничего против того, чтобы вознести молитву распятому богу. Ведь богов — много, и отказывать кому-то из них во внимании неправильно. Еще обидится, прогневается — чего же в этом хорошего? Помолиться во славу Христову — в этом ничего постыдного нет. Постыдно, коли при том от родовых богов отречешься — а Зверев такого предательства совершать не собирался. Посему князь и службу отстоял, и к причастию подошел, и на строительство обители серебра толику пожертвовал, приняв взамен образ без оклада, монахами тамошними с тщанием и молитвами написанный.
Князь вздохнул, сунул руку в поясную сумку и достал серебряный новгородский рубль, протянул слегка опешившему от такой отповеди попику:
— Вот, отец Ион, тебе на храм. Хочу, чтобы и ты по следу моему в обитель сплавал и для храма новый образ привез. А то уж больно скромно церковь моя выглядит.
Андрей намеренно сказал «моя», а не «наша», дабы батюшка вспомнил и то, кто именно строил здешний храм, кто привозил в него колокола и заказывал убранство. И, похоже, сумел-таки развеять у настоятеля последние подозрения.
— Благодарю за щедрость, княже, — прибрал монету батюшка. — Да пребудет с тобой милость Господа.
— Помолись за спасение души моей, отец Ион, — попросил Зверев. — Пусть простит мои прегрешения, вольные и невольные. Он милостив, он поймет.
Попик осенил его крестом — Андрей послушно склонился к его руке, мысленно пребывая уже совсем в других местах, и сделал вид, что поцеловал.
Будущие потери князя Сакульского от прощения оброка были, конечно, велики. Однако же они не очень беспокоили Андрея. С собранным урожаем требовалось разумно, по-хозяйски распорядиться, и оставить все на волю здешнего старосты — привычный, но не самый разумный способ. Что-то продаст, что-то украдет, что-то сохранить не сможет. Крестьяне же свой собственный урожай уберегут куда рачительнее и прибытка с него получат больше. Прибыток этот не пропадет, в хозяйствах останется. От него и дворы в будущем крепче станут, и смердам от голода по весне пухнуть не придется да детишек слабых хоронить. В будущем доход больше выйдет, ныне — князю за доброту и заботу слава и любовь от подданных. Что же до княжеского достатка — так зимовать в усадьбе Зверев не собирался, а потому по поводу своего пустого погреба сильно не волновался. Пусть еда лучше людям достанется, чем в загашнике сгниет.
После завтрака князь, взяв с собой всего трех холопов, поднялся на борт струга и вышел по реке в озеро, пугающее корабельщиков крупной зыбью. Волны волнами — но свежий ветер позволил тут же поднять оба паруса и бодро погнал небольшое суденышко на север. Весла понадобились только ближе к вечеру, когда лодка повернула в устье полноводной Вуоксы. Еще до сумерек струг подвалил к торговому причалу Корелы, и корабелы принялись выгружать мешки с упакованными в связки по сорок штук горностаями и соболями, привезенными князем из своего далекого удела на лесистой реке Свияге. Были тут, конечно, и бобровые меха, и рысьи шкуры, и медвежьи — но немного, взятые без счету у тамошних промысловиков для округления итоговой суммы до пяти рублей. Здесь, на общем со шведами торгу, князь рассчитывал получить как минимум трехкратную прибыль — а заодно узнать про самые удобные пути в далекую Гыспанию, где дожидалась его благословения старшая дочь и тосковала остальная семья.
Меха — товар дорогой, но не тяжелый, а потому Андрей забрал их с собой на постоялый двор, велев сложить в снятой для холопов обширной горнице, а сам вселившись в скромную светелку. Так выходило даже дешевле, чем платить за ночлег слуг в людской и отдельную кладовую для товара. Выпив перед сном немного сладкого хмельного меда, он нетерпеливо забрался в постель и закрыл глаза, спеша погрузиться в сон.
Как назло, в голову дружно полезли дурные мысли по самым разным поводам. Про то, что волхв старик упрямый, вполне способен натворить глупостей; что родителей он давно уже не видел, и непонятно, когда сможет обнять: меньше чем за два месяца в усадьбу Лисьиных обернуться не выйдет, а столько времени ему в обозримом будущем выкроить никак не получится. Про то, что отец Ион, переждав волну благодарности смердов к своему хозяину, вполне способен опять начать настраивать людей против князя; что, по новому разряду, за холопов он перед государем больше не отвечает, новой росписи разрядная изба так и не прислала, и что теперь делать — непонятно, а обвинить во всем безалаберные подьячие попытаются его, в своей лени каяться не станут; что неурожаи случаются все чаще, и коли так и дальше пойдет, то недолго и вовсе разориться…
Поняв, что никакой силы воли для очистки сознания ему не хватит, Андрей решительно откинул одеяло, встал, натянул штаны, сапоги, влез в рубаху и опоясался.
— Коли не помогают молитвы, кружка пива всегда выручит, — передернул плечами князь, на всякий случай опустил в поясную сумку кистень и решительно вышел из светелки.
В трапезной было шумно, пахло дешевым вином и жареным мясом, наваристыми супами и кислой капустой. Войдя в обширную горницу, князь в задумчивости остановился: свободных столов не было, за каждым шумели и веселились компании гостей. Холопы княжеские, совсем некстати, сегодня решили проявить скромность и в трапезной не гуляли, места для себя не заняли. К купцам иноземным Андрея не тянуло, веселиться с румяными шумными новгородцами тоже не хотелось. Все, что ему требовалось — это четверть часа и пара полных кружек чего-нибудь хмельного, но не забористого: чтобы уснуть, а не отравить свой разум. Князь даже подумал приказать, чтобы заказ принесли ему в светелку — но тут увидел за дальним столом двух опрятных рыжебородых мужиков. Судя по одежде, люди они были зажиточные: у одного на кафтане пуговицы янтарные в два ряда, у другого рубаха шелковая да пара перстней на пальцах. Вели они себя тихо и спокойно, что-то неспешно обсуждая, из угощения возле них стояло лишь блюдо с пряженцами да один кувшин. Зверев поколебался и направился к ним:
— Доброго вам вечера, православные. Не помешаю, коли посижу рядом недолго?
— Присаживайся, сделай милость, — ответил тот, что постарше. — Хороший человек не помешает. Ты, вижу, тоже на печи не сидишь, жизнь в пути проводишь?
— Так заметно? — удивился Андрей.
— Еще бы, — потянулся за пряженцем бородач. — Лицо, вон, обветренное все и загорелое, руки крепкие, взгляд твердый. Сразу видать, не молитвами хлеб свой зарабатываешь, и не грамоты земельные в светелке строчишь. Из колец токмо обручальное носишь, браслетов и цепей золотых нет. Стало быть, не боярин знатный. Но рубаха на тебе и пояс ценою в корову. На службе боярской таких одежд не скопишь. Стало быть, из нашего племени человек, гость торговый.
— Ну, то, что не боярин, это ты прав, — с усмешкой подтвердил знатоку дедуктивного метода Зверев.
— Вот скажи, добрый человек, далеко ли тебе плавать приходилось? — продолжил расспросы купец.
— Коли на запад, то округ шведов раза три ходил, — прищурившись, припомнил Андрей, — на юг же до самой Кафы доплывать приходилось.
— Ответь честно, добрый человек, прибыток где получить проще, возле дома своего промышляя али в дальних землях, в портах иноземных?
— Чего тут думать — конечно, в иноземных городах промышлять доходнее, — охотно подтвердил Зверев, вспоминая, как славно разграбил с казаками все ту же османскую Кафу несколько лет назад. Кивнул подскочившему служке: — Меда хмельного принеси. Но токмо не вареного, а выстоянного, липового.
— Вот и я говорю, нужно в Сантандер отправляться, — повернулся купец к своему более молодому собеседнику. — За один поход втрое получим супротив вологодского торга!
— Что за Сантандер такой? — полюбопытствовал князь.
— Торг такой, сказывают, в Гышпании, — ответил купец. — Вроде как мы о товариществе с гостем оттуда сговорились. Но для прибытку хорошего надобно самим туда сходить, а не на честность немца Фуертоса надеяться.
— Фуертос — это гышпанец? — не веря своим ушам, уточнил Андрей.
— Ну да. Товаром мы тут обменялись удачно. За сделку хорошую пир затеяли, да вроде как и сговорились складами пользоваться по-товарищески, да и причалы свои давать безвозмездно, и ночлег заимообразно тоже. Но зато и прибытком делиться в две сороковки, и товар во первую руку товарищу предлагать, — похвастался купец. — Вот и решаем с братом, снаряжать ладью в незнакомое море али на гышпанскую честь надеяться, а торг токмо здесь держать.
— Попутчиков до Сантандера возьмете?
Купцы переглянулись:
— Что за попутчики? Откель возьмутся?
— Четыре души, четыре рубля, — с ходу предложил Зверев.
— Да мы вроде пока и не решили, — покачал головой старший из братьев.
— Шесть рублей, два в задаток, — невозмутимо поднял ставку князь. Не воспользоваться столь удачно подвернувшимся попутным судном было бы глупо. Скакать в далекую страну посуху выйдет куда как накладнее и опасней, чем идти морем. А корабли от здешних причалов ныне отправляются в такую даль не часто.
— Мы еще и товар не собрали… — задумчиво произнес младший купец.
— Шесть рублей за дорогу, два в задаток, и мой товар я через вас весь сбыть обязуюсь, — еще чуток подзадорил братьев князь. — У меня там одного соболя пять сороков. Да горностай, да рысь.
— Эка ты вдруг заторопился, мил человек, — мотнул головой старший. — Дай хоть поразмыслить маленько. Товар наличный счесть, судно наше проверить.
— Думайте, — согласился Зверев и, словно в задумчивости, снял с ворота купца упавший волос. — Но не затягивайте. Коли мне другая оказия подвернется, я медлить не стану.
Служка подбежал с большой деревянной кружкой, отер стол полотенцем, поставил темный пенистый мед:
— Угощайся, княже.
— Княже?! — разом охнули братья.
— Да уж не боярин, это ты верно подметил, — подмигнул им Андрей, поднял кружку, осушил крупными глотками и с грохотом опустил обратно: — Хорошо! Ну, думайте, люди торговые. Не буду вам мешать. У меня еще одно важное дело на сегодня осталось…
В светелке Андрей открыл походную шкатулку, достал изящный серебряный половник, давно уже купленный специально для такого дела, кинул в него воск, растопил над масляной лампой. Кинул внутрь волосок, снова поднес к огню, давая вытопиться жиру и смешаться с воском, потом разлил в две низкие плошки с уже вставленным в держатели фитилем.
Князь имел дело с купцами не первый раз и отлично знал главное правило их ремесла: никогда не платить за то, что можно взять силой, и никогда не ограничиваться малой платой там, где можно взять все. Торговые гости, столь милые и приветливые в своих лавчонках, оказавшись без присмотра, вдали от изб Разбойного приказа и боярских вотчин, запросто могли разграбить беззащитное поселение, пустить ко дну встреченный в море корабль, перегрузив к себе товары из его трюмов, продать в рабство отправившихся в путь доверчивых пассажиров. И только вид ухоженных пушек в портах или амбразурах, или близость воинского дозора местных властей могла принудить их к честным сделкам… По ходу которых ухо тоже стоило держать востро.
Открыв крышку шкатулки со вделанным в нее небольшим венецианским зеркалом, князь поставил быстро застывающие свечи по сторонам от него, запалил их от подобранной у печи щепки, привычно нашептал заговор Стречи, ночной богини, вгляделся в открывшееся в будущее окошко, быстро проглядывая судьбу старшего купца на ближайшие недели. Было оно весьма предсказуемым и незамысловатым: море, палуба, палуба, море, и опять волны, и опять серый выцветший парус… Бухта, порт, подозрительно долгое, многочисленное и почтительное прощание с князем… Нет, ничего: Андрей и холопы все же сойдут на причал без споров и стычек, решительно уйдут в сопровождении подобострастного младшего купца… Потом будет разгрузка, склады, меха, пирушка, пересчет серебра… К князю это уже никак не относится. Путешествие пройдет без проблем.
Зверев задул свечи, выбил воск из формочек, забросил в ящик сундука: для ворожбы они больше уже не годились. Разве только любопытно станет глазами купца на мир посмотреть. Коли преставится — можно, конечно, свечи эти в качестве «мертвых» запалить. Да только когда это еще будет? Проще готовые из запасов старых использовать, а эти просто для света, когда понадобится, зажечь.
Закрыв шкатулку, князь сладко потянулся, скинул одежду и снова забрался под одеяло. Хмельной мед, растекшийся по жилам, сделал свое дело: почти сразу Андрей заснул, и едва осознав это — представил себе сурового Лютобора с посохом и корзиной, в которую тот собирал травы, окутал волхва облаком, вошел в него, проникая в сон учителя. И увидел чародея: с посохом и лукошком, которым сам же его наградил, в длинной светлой рубахе поверх темно-синих шаровар. Седые волосы опоясывал тонкий ремешок.
— Что же ты, чадо? — укоризненно покачал головой древний колдун. — Плетушку дал, да ничего в нее не положил. Хоть бы яблок каких насыпал, коли грибов жалко.
— Хоть ананасов могу придумать, — пожал плечами Зверев. — Это же сон. Какая разница, что в нем увидишь?
— Сон не сон, а желание старика порадовать ты, чадо, не выказал. От голода я здесь, само собой, не умру, ан все едино ничем ты хорошим не озаботился. Да и примета плохая, с пустым-то лукошком остаться.
— Перестань, учитель, какие приметы? Ты ведь сам завсегда определяешь, что хорошо, а что нет. И не до ананасов мне, когда ты намеки такие при расставании отпускаешь… Какой зарок, куда тебе пора?
— А то не знаешь, отрок? — посмотрел на корзинку чародей, и она медленно растаяла, не оставив даже дымка. — Век мой долгим был, пора и честь знать. Отдохнуть от хлопот земных, от сует житейских, от обязанностей многих. Утомили…
— Да как же так, Лютобор, окстись! — Андрей приблизился к нему, встал перед лицом. — Ты же сказывал, увидеть не желаешь погибели земли русской. Так не будет ее, погибели! Управились мы вместе с бедой предреченной. Так чего тебе опасаться ныне?
— Это хорошо, что управились, — согласно кивнул волхв. — Коли в земле родной все в порядке, то и уходить с нее легко. С чистым сердцем, со спокойной душой.
— Перестань, волхв! Зачем уходить, почему?!
— Устал я, чадо. Устал. Все, что мог, увидел. Все, чего хотелось, испытал. Все, что мог, исполнил… — Древний колдун закрыл глаза. — Все повторяется, повторяется, повторяется. Одно и то же, раз за разом, год за годом, век за веком. Одни и те же хлопоты, одни и те же труды, одно и то же старание, один и тот же итог. Зачем все это? К чему? Я перестал радоваться успехам, чадо. Я принимаю их как должное, без волнений и трепета. Меня не тревожат беды, я знаю, как избавиться от любой. В жизни моей не осталось ни горестей, ни радостей, ни слез, ни счастья. Последняя тревога была за отчину родовую, но и от той ты меня избавил. Пусть живет и процветает. Тебе за сие поклон. Но смотрю я в годы грядущие — и не понимаю, к чему они мне нужны? Копать, сушить, заготавливать, варить, мерзнуть и маяться от жары, гонять комаров и месить слякоть. Мне остались лишь тяготы, чадо. Я слишком знающ и опытен, чтобы встретиться с неожиданностью или испытать удивление, я пережил все радости, которые возможны для смертного. Для меня невозможны ни любовь, ни ревность, мне не нужно выдавать замуж дочерей и ходить в сечу бок о бок с сыновьями. Все ушло, ушло, ушло. Я стал похож на старый трухлявый пень. Пусть он старше и мудрее всех в лесу, но внутри его лишь червоточины, труха и плесень. И его больше не радует даже почтение юной поросли, ибо и к нему он давно, давно привык и принимает как должное. Разве это жизнь? Нет, чадо, больше я этого не хочу. Мне пора уходить.
— Перестань, Лютобор! — горячо возразил Зверев. — Все еще только начинается! Мы спасли Русь, и теперь у нее будет новая, бурная и веселая история! Я познакомлю тебя с детьми, я покажу тебе новые крепости и города. Ты просто скуксился в своей лесной норе, вот и ноешь. Тебе нужно вдохнуть свежего воздуха, окунуться в новую жизнь!
— В тебе бурлит молодость, чадо, — покачал головой чародей. — А для меня все это уже было. И не раз. И с каждым разом восторга от «глотка свежести» становилось все меньше и меньше. Ты не понимаешь самого главного, отрок. Уходить нужно тогда, когда ты всего лишь устал, а не тогда, когда эту жизнь ты начинаешь ненавидеть. Ненависть плохое чувство. Из твоего учителя я могу стать врагом всего живого. И тогда тебе придется не познавать мою мудрость и мой опыт, а сражаться против них, дабы убить меня, как порождение мрака и смерти.
— Ты не можешь стать врагом всего живого, Лютобор! Не поверю в это никогда в жизни!
— Это потому, что сейчас во мне совсем мало ненависти, отрок. Но если из жизни уходит радость — то что может появиться вместо нее? Не хочу. Эту сторону жизни я познавать не хочу. Потомкам великого Сварога не пристало купаться в крови девственниц, пытать слабых и бояться смерти. Это удел демонов и поклонившихся им негодяев. Человека русского завсегда справедливость и доброта от прочих племен отличала. Коли из души уходит радость, трудно быть русским. Иным же становиться не хочу.
— Это нечестно, Лютобор! Ты нужен мне, нужен всем тем бабам, что к тебе за советами бегают, нужен детишкам, коих от лихоманки спасаешь, нужен смердам, что от засухи или холодов страдают.
— Я знаю, чадо, — кивнул волхв. — Раньше это было для меня важнее моей усталости. Теперь же больше нет. Я начинаю меняться, чадо. И отнюдь не в лучшую сторону. Я вижу это. Заметил уже давно. Но я ничего не могу изменить. Разве знание о скором наступлении зимы способно предотвратить ее приход?
— Я не хочу, чтобы ты уходил, мудрый волхв, — склонил голову Андрей.
— Это хорошо, — улыбнулся колдун. — Было бы хуже, если бы ты этого хотел. И все же уходить нужно, когда тебя желают удержать, а не проклинают. Прости меня, чадо, но мне действительно пора. Мой час пришел. Отныне ты останешься один.
Чародей ударил посохом оземь, и совсем рядом стало подниматься из-под земли непривычно огромное, ослепительное рассветное солнце. Волхв, словно юному мальчику, погладил Андрею голову, потом повернулся и ушел прямо в нестерпимо яркий свет. И Звереву не осталось ничего другого, кроме как проснуться.
Князь поднялся, в задумчивости запалил лампу. Душа его рвалась и металась, звала прыгнуть в седло и мчаться, мчаться, чтобы попытаться успеть на Козютин мох еще до того, как мудрый волхв совершит непоправимое. Но опыт взрослого служилого человека осаживал. Ведь посуху на Великие Луки дороги нет. Стругом же через Ладогу от Корелы не меньше двух дней пути, да еще дня три вверх по Волхову, да через Ильмень-озеро, да вверх по Ловати еще дня три. Пока доберешься — почти две недели пройдет. За это время, коли уж Лютобор решился, раз десять за Калинов мост уйти успеет. А коли передумает — нечего и панику разводить.
В дверь постучали.
— Кто там? — громко поинтересовался Зверев, отойдя к брошенному на скамье поясу с саблей. — Открыто!
Створка медленно поползла внутрь, за ней стали видны знакомые лица.
— Прости, княже, не признали тебя намедни, — облизнув губы, осторожно начал тот, что старше.
— Ерунда, — отмахнулся Андрей. — Кабы обидное чего сотворили, я бы вам на месте голову отсек. А что не признали, так мы вроде и не знакомились.
— Купцы мы олонецкие, — скинув шапки, один за другим просочились в светелку вчерашние знакомцы. — Житоложины по отцу будем. Он Юрий, я же Михаил. Ушкуй добротный недавно справили о двух мачтах. Почитай, тыщу пудов взять может…
— Каюту мне отдельную отведите, — наклонившись к поясу, расстегнул сумку Андрей. — Товар мой в соседней горнице. Объемный, но легкий. Вы ведь, коли олонецкие, железо, небось везете? Скобы-гвозди, клинки да топоры разные?
— Оно как бы так… — забеспокоился младший, который именем Михаил, и схватился за бороду.
— У железа вес большой, а места занимает немного, — кивнул Зверев. — Так что меха к нему в трюмы добавить — самое милое дело. И на пеньку еще место останется.
— Ревень у нас в бочках, — полушепотом признал старший Житоложин. — На торг покамест и не выкатывали.[3]
— Раз трюмы полны, тогда в путь нужно отправляться. — Князь кинул купцам две монеты. — Обещанный задаток. Меха заберите. Как готовы отчалить будете — известите. Я пока здесь обожду. Знаю я корабельные каюты. Все они с воронье гнездо размером. Еще успею в тесноте насидеться.
— Дык, коли плыть, — переглянулись братья, — так оно хоть завтра. Солонины и капусты квашеной в дорогу купить — да и двигаться. Сказывали же, мы в Кореле еще не разгружались. Вчера как раз думу думали: дальше плыть али здесь на торгу выставляться. Ну а как ты, княже, слово свое сказал, так мы и решили: знак сие нам от Николая-угодника. Коли прибыток получить хочешь, рисковать надобно.
— Быть по сему, — кивнул Андрей. — На рассвете буду у вас на борту. Ныне же, коли расклад такой случился, распоряжения мне оставить для слуг надобно.
— Слушаю, княже, — поняв намек, попятились к выходу купцы. — Не станем отвлекать.
Хлопот у князя Сакульского на самом деле было совсем немного. К путешествию он готовился давно, и все нужные приказы были отданы еще месяц назад, надежные толковые холопы расставлены старостами и приказчиками, амбары и погреба опустошены, для московского подворья отправлено серебро на неизбежные в столице расходы. Все, что требовалось — это отпустить струг да наказать рыбакам, чтобы упредили в княжестве о его отъезде. Изначально ведь он только через неделю в путь собирался, через Новгород. Но грех не воспользоваться случаем, раз уж подвернулась такая удачная оказия…
* * *
Олонецкий ушкуй мало уступал по размерам обычной новгородской ладье и имел примерно десять шагов в ширину и около тридцати в длину. С ладьей его рознили в первую очередь куда более стремительные обводы. Если первая напоминала половину бочонка со слегка скругленными формами, то ушкуй походил на веретено: борта плавно расходились от носа к середине корпуса, а потом сходились обратно на острие. Скорость — выше, но трюмы — увы, меньше.
Вторым отличием была знаменитая ушкуйная двуносость: нос и корма корабля были срублены совершенно одинаково, имели высокий бушприт и место для крепления рулевого весла. Благодаря этому ушкуй мог с одинаковой легкостью плыть в любую сторону — достаточно лишь руль перенести да парус перекинуть. На море это, может быть, достоинством и не являлось — но зато позволяло купцам смело заплывать в любую реку на любое расстояние, не боясь оказаться в ловушке. Как только берега становились слишком узкими, ушкуй просто останавливался, рулевой переходил с места на место — и через несколько минут путники могли спокойно плыть обратно. Разворачиваться для этого корабельщикам не требовалось.
Надстроек на нем тоже было две, совершенно одинаковых: треугольной формы, пяти шагов в длину и трех в ширину, да еще и высотой Андрею от силы по плечо. Соответственно, пользоваться ими можно было только двумя способами: или сидеть за столом — кушать, писать или читать, — или спать на узкой постели. Помимо кровати и стола, места хватило только на сундук с двумя врезными замками. В него князь даже не попытался заглянуть — походную чересседельную сумку и небольшой сундучок велел просто положить сверху.
Убедившись, что вещи и оружие сложено, Андрей вышел на палубу. Над Вуоксой как раз начинало светать, вокруг крепости по протокам полз осторожно туман, словно надеялся, что его не заметят. Дозорные на единственной башне скучали, опершись на рогатины, и, вполне может быть, даже дремали.
Купеческие ушкуйники, отчаянно зевая, сдернули с «быков» причальные канаты. Течение тут же развернуло глубоко сидящий корабль и, ласково покачивая, понесло к совсем близкой Ладоге. Старший Житоложин огляделся, принюхался, прошелся от борта к борту и наконец решил:
— Парус прямой ставьте. Ветерок слабый, но вытянет. Успеем еще веслами намахаться.
Корабельщики засуетились, разбираясь в паутине снастей, что-то отвязали, что-то подкрутили, дружно, все шестеро, взялись за канат — и на передней мачте быстро вырос большой белый прямоугольник, рахитично попытался выпятить грудь, но без особого успеха. Однако за бортом тут же зажурчало — пусть и слабую, но какую-то тягу он все же давал. А когда ушкуйники подняли парус на вторую мачту — ускорение судна стало заметно даже простым глазом.
Прибрежные наволоки, украшенные сонным, полурастворившимся в дымке табуном, побежали назад, промелькнули над головой три крупные вороны, каркнули, и тут же вместо них появились такие же большие чайки.
— Хорошая примета, — оценил знак Похвиста купец и широко перекрестился. — Кабы такой ветер да все время — так за полмесяца бы и дошли.
Ушкуй выкатился в Ладогу, повернул нос на юг, легко и непринужденно разрезая пологие волны. Ушкуйники, закрепив канаты, натянули между мачтами потрепанный полотняный тент и развалились на палубе, не подстелив даже тюфяков. Вскоре все они дружно засопели.
— Моряк спит, зарплата идет, — усмехнулся Андрей. — Вот работнички. Пахом, вы тоже себе спальное место возле моей каюты организуйте. Внутри места так мало, что к себе пустить не смогу, даже если бы и захотел.
— Ничто, княже, — кивнул дядька. — Чай, не зима на улице. На воздухе токмо свежее.
Под попутным ветром ушкуй еще до вечера домчался до Невы. Однако в темноте входить в реку с быстрым течением купцы не рискнули, переночевали под грозными стенами Орешка. С рассветом посадили шестерых корабельщиков на весла, вышли на стремнину и уже через полдня вышли в Финский залив. На мачту взметнулись все паруса: два прямых, два косых и еще два мелких треугольника перед самым бушпритом. Ушкуй весь напрягся, задрожал и стремительно, словно на рысях, помчался на запад.
Кормчий — опоясанный красным шелковым шнуром седовласый сухощавый старик с длинной белой путаной бородой, в серой рубахе, коричневых шароварах и лаптях — непрерывно шевеля губами, поглядывал то на небо, то по сторонам, время от времени записывал угольком что-то неведомое на борту рядом с собой. Периодически подзывал одного из корабельщиков, и тот, бросив за борт веревку, отсчитывал узелки. Старик согласно кивал, опять что-то записывал, считал. Его профессионализм стал понятен только тогда, когда берега разошлись в стороны, скрывшись за горизонт, и тем не менее кормчий продолжил спокойно и уверенно вести судно, не имея вокруг ни единого ориентира. Правильность выбранного направления подтверждали острова, что временами появлялись то справа, то слева. Будь курс неверным — кормчему пришлось бы подправлять.
Северный летний день долог — сумерки сгустились только поздней ночью. Старик велел спустить паруса и отдать якорь и лег спать прямо там, где стоял — под рукоятью руля, прижавшись спиной к борту. Князь ушел в свою каюту, а когда утром вышел на палубу — ушкуй уже мчался по высоким волнам, с хищным посвистом прорезая гребни.
Который был час, Андрей определить не смог, но вскоре после завтрака по левую руку показался похожий на плесневелую краюху, бледный и почти совершенно безлесый берег.
— Муху-Вяйн,[4] княже, — сообщил старший Житоложин, подойдя ближе.
— Хорошо, — одобрительно кивнул Андрей, хотя это название ему ни о чем не говорило.
— Коли ветер таким останется, завтра ввечеру к датским берегам доберемся.
— Отлично, — снова кивнул князь, облокачиваясь локтями на борт. В этом круизе делать ему было абсолютно нечего. — Откуда ты все знаешь, Юрий, коли вы с братом никогда в чужие земли на торг не плавали?
— С братом не плавали, ан с отцом ходили, царствие ему небесное, — перекрестился купец. — Славный был хозяин, умелый. Пути все знал, языки чужие понимал без толмача. Да мы, балбесы несмышленые, тогда сего не разумели. Пока учить пытался, гуляли да веселились, а как слег, так и опыт весь пропал, и знакомства отчие, и связи торговые. В Персию уплыл с товаром крепкий и здоровый, веселый, румяный. Вернулся же сухой, как щепка, и с лица почерневший. Ладью на зимовку вытащил, ввечеру в постель лег, да больше и не встал уже. Месяца не прошло, отпевать пришлось. Э-эх… — Житоложин снова осенил себя знамением. — Ты скажи, княже, как ныне у нас с датчанами, вражды нет? Может, нам через проливы их ночью, тайком пробраться?
— Нет вражды, — покачал головой князь Сакульский. — Наоборот, союзники мы ныне, друзья крепкие и даже родственники. Государь наш Иоанн Васильевич племянницу свою три года тому за датского принца замуж отдал и всю Ливонию здешнюю в приданое подарил. Так что…
— Ну и слава Богу, — перевел дух купец. — Проливы у них больно узкие, токмо зазевайся в потемках — моментом на скалы налетишь. А коли в друзьях они ныне, так оно, знамо, на свету куда как покойнее…
Грустная Муху-Вяйн осталась позади, ушкуй снова пошел через открытое море без берегов. До обеда Андрей бродил по палубе, а подкрепившись пирожками и запив их разбавленным вином, решил немного полежать и неожиданно для себя уснул. Уснул мертвецки крепко, даже никаких снов не увидел, и поднялся только новым днем. Судно к этому времени шло боком к ветру. Половину парусов пришлось убрать, дабы уменьшить крен, и ушкуй уже не летел по волнам, а переваливался по ним, часто и глубоко зарываясь носом. По небу ползли темные тучи, угрожая добавить к качке еще и дождь.
Ушкуйники сидели под навесом потные и усталые, трое из его холопов висели возле борта с зелеными лицами. И только Пахом, увидев князя, поднялся, указал на полотняный сверток:
— Солонины не желаешь, княже? Пироги закончились, ныне токмо солонина да капуста одна из припасов осталась.
— Наемся еще, — отказался Андрей.
— Да, кашки бы сейчас горячей, — вздохнул дядька. — Да где огня возьмешь?
Где они находятся, Зверев спрашивать не стал. И без того понятно, что до заветного Сантандера еще плыть и плыть. Убедился, что кормчий стоит на своем посту с прежней невозмутимостью, берегов не видно, а ушкуй двигается вперед — и ушел обратно в отведенную ему конуру. Вытянулся на постели, раз уж стоять все равно было невозможно. Закрыл глаза. Сундук мерно поскрипывал, шелестел за дверью ветер, мерно покачивалась постель — и вскоре к Андрею снова стала подкрадываться дремота. Но в этот раз он смог удержать сознание в достаточной ясности, чтобы уловить границу реальности и сна, и уже в который раз вызвал образ Лютобора, окутал его облаком, вошел внутрь…
— Здравствуй, мудрый волхв. Рад видеть тебя в добром здравии.
— А когда ты во сне меня другим замечал? — улыбнулся чародей, крутя в руках ярко-красное наливное яблоко.
— Я рад тому, что ты передумал, Лютобор, — поправился Зверев. — Что не стал уходить. Честно, очень рад.
— Вот тут ты ошибаешься, чадо, — возразил колдун. — Нет меня больше. Пещера заросла, тропинку водой залило, воду тиной затянуло, и нет больше ко мне хода ни конному, ни лешему, ни летом, ни зимой. Закрылся накрепко, спрятался надежно. Где жил, там почившим остался.
— Почему же я тебя вижу? — не поверил Андрей.
— Не все так просто оказалось, — раскрыл ладонь старик, и яблоко вспорхнуло с него пухлым снегирем. — Так много я всего здесь сделал, так старался, что пропиталась духом моим вся земля окрест. В каждом дереве крохотная частица зацепилась, в каждой живности некая толика, а в памяти людской — еще больше. И выходит, чадо, что телом я вроде и мертв, ан дух мой живет на свете, ровно и не изменилось ничего.
— Вот видишь, — вздохнул Зверев. — Говорил же я, не надо!
— Нужно было, отрок, нужно. С плотью капризной многие хлопоты и надобности исчезли, что донимали меня прежде. Посему горести многие душу мою более не занимают. Тяготы ушли, радости остались. А коли на душе радость одна, так чего печалиться? Таким, как ныне, можно и пожить.
— Рад за тебя, волхв, — кивнул Андрей. — Жалко, зелья ты теперь сварить не сможешь, али заговор нашептать.
— Почему не смогу? — засмеялся колдун. — А ты на что? Твоими руками могу смешивать, твоим языком наговаривать. Ну-ка, чадо, вспоминай, каким зельем да с каким наговором дожди вызывать надобно? Говори немедля, пока не разозлился!
— Всю мою здешнюю жизнь ты меня учишь, чародей. Когда же закончится твоя школа?
— Никогда! Мудрость бесконечна. Ты от вопроса не увиливай! Вспоминай давай, вспоминай!
— Чего тут вспоминать? — пожал плечами Зверев. — Три раза пробовал во время засухи прошлогодней. Ни разу не помогло.
— Значит, ошибся в чем-то. Какими обрядами пользовался?
— Ну, реку пахал…
— Великий Сварог, позор моим сединам! — схватился за голову волхв. — И это мой ученик!!! Реку пашут женщины, только женщины! И токмо обнаженными! Для пробуждения спящего женского нутра в небесах сие проводится, мужикам при сем действе делать вовсе нечего!
— А как я их заставлю? — развел руками Зверев. — В наше время про Триглаву с Похвистом токмо помяни — по монастырям с покаяниями затаскают.
— Нечто не мог мужской обычай применить? Могилы людей славы, например, полить?
— Поливал. И наговор поклонный для Похвиста читал.
— Почему для Похвиста? Это ведь на темные силы обряд, на Чернобога, на Стречу, на Мару… Ты еще скажи, что не в полночь могилу поливал, а светлым днем!
— Ты же сам сказывал, волхв, что для самого сильного наговора рано утром натощак в открытое поле выйти надобно, утренней росой умыться, до земли на все четыре стороны света поклониться, встать лицом на восток к восходящему солнцу…
— Тебя послушать, глупец, так и порчу нужно не темной ночью на перекрестье дорог творить, а под приглядом Хорса жизненосного! Чем ты голову свою забил, коли простейших вещей не помнишь?!
— Порохом, пищалями, бердышами и гуляй-городом, — нахмурился Андрей. — Пять лет семьи не видел, из седла не вылезал, от похода до похода выспаться не успевал. Али забыл, как сам меня османами непобедимыми пугал. И где теперь эти османы?
— Ишь, возгордился, чадо, — скривился чародей. — Гордость — это хорошо, право на гордость ты заслужил. Однако же и мудрость, богами данную, забывать не след! Ты землю оборонил, они же ее создали. Дождя надежнее всего у Перуна просить. С наговором на «тринадцать вихрей». «Тринадцать ветров вызываю, тринадцать вихрей закликаю, тринадцать бесов от сна пробуждаю. Поднимите, бесы, тучу из-за гор. Из-за гор поднимите, сюда приведите. Дуйте ветры, вихри крутите, все на своем пути ворошите. Гудите, пылите, веселитесь, играйте, людям спокойно жить не давайте…» Помнишь еще такой?
— «Слюна в землю, дождь на землю. Жабьим языком накликаю, слюной вызываю. Затянись, заволокись, тучей заклубись, дождем изойдись…» — забормотал в ответ Зверев.
— И это тоже ночной заговор, — отмахнулся колдун. — Перун на него не откликнется, токмо Стреча али нежить болотная. Но от нее большого дождя не жди. Разве туман густой натянет, да росой густой землю промочит. Давай, чадо, освежи разум. Вспоминай, отрок, вспоминай!
Поневоле Андрей Зверев вдруг окунулся в первые свои месяцы пребывания в этом мире — дни, когда выдернувший его из будущего чародей методично вбивал основы магии в еще смятенный переменами ум. Телесная смерть словно освежила чародея, и он взялся за ученика с новыми силами. Того же в долгом пути не отвлекали никакие посторонние мысли и хлопоты, и он покорно внимал словам древнего колдуна.
Сон опять оказался долгим и выматывающим, на целый день. Князь поднялся из постели голодным, как волк, и с пересохшим горлом. Не обращая внимания на качающийся пол, он вышел на палубу, повернул к Пахому. Встряхнулся, получив в лицо порцию холодных соленых брызг. Огляделся.
Сегодня ушкуй не летел по волнам и не зарывался в них. Он кувыркался в пенных брызгах, как щепка в водопаде. Мокрый до нитки, но все такой же невозмутимый кормчий стоял на корме, привязанный за пояс к штырю, крепящему рулевое весло, на мачтах вместо парусов дрожали от натуги всего два небольших алых треугольника. Команда ушкуя жалась к бортам и тоже обвязалась веревками.
— Штормит? — задал риторический вопрос князь, подойдя к Пахому. — Ты про солонину в прошлый раз поминал. Осталась еще?
— Прости, Андрей Васильевич, ввечеру еще доели, — прохрипел тот. — Ушкуйникам отдал, дабы не мокла. Волнами несколько раз заливало.
— Чего шепчешь-то? — удивился Зверев. — Никак осип?
— Молюсь… Вестимо, сгинем все ныне. Ни могилы, ни отпевания.
— Ерунда, ничего не случится, — отмахнулся князь. — Проливы-то датские прошли али еще нет?
Дядька только непонимающе тряхнул головой. Андрей перевел взгляд на кормчего, но в последний момент все же решил его не отвлекать и повернул к носовой каюте, под изумленными взглядами ушкуйников ловко ловя ногами палубу — резко качающуюся и прыгающую, заливаемую по-змеиному шипящей и пузырящейся водой. Толкнул дверь, пригнулся, шагнул внутрь.
— Доброго вам дня, торговые люди, — кивнул князь. — Чего-то я заспался последнее время, от реальности оторвался. Мы как, прошли проливы или еще нет?
— Прошли… — слабым голосом ответил бледный младший Житоложин. — И понесла нас нелегкая сюда, в темные воды, теперь сгинем все безвестно заместо прибытка. Ни поминок, ни креста.
— Да не боись ты, купец, — успокоил его князь. — Ничего с вами не случится. Доплывет ушкуй до Сантандера целиком и полностью, даже мачт не поломает. Вы лучше вспомните, что пассажиров кормить надобно, а не только укачивать. У вас тут перекусить ничего не найдется? А то брюхо совсем подвело.
— Как ты о еде в такой час мыслить способен, княже? — Юрий Житоложин выглядел ничуть не лучше брата. — О душе пора беспокоиться. Всяко видно, не прожить нам, грешным, до восхода нового. В пучину уйдем со всем товаром. А у меня жинка на сносях…
— Говорю же, не случится с вами ничего, не бойтесь, — повторил Андрей. Подумал и пояснил: — Икона у меня с собой чудотворная, Николы-угодника. С холопами своими из святого Коневецкого монастыря везем. Пока она на борту, святой Николай нашей погибели не попустит. Так что успокойтесь наконец и придумайте чего-нибудь поесть. Не дрова везете, чтобы в трюме запереть и забыть. Давайте, давайте, шевелитесь. Хватит помирать, в другой раз преставитесь.
Он чуть выждал, махнул рукой, развернулся, вышел под удары волн и ветра, пересек ушкуй, пританцовывая на ненадежной палубе, и занырнул к себе, в конурку хоть и крохотную, но закрытую от ветра и воды. Присел к столу, поводил пальцем по плотно подогнанным лакированным доскам, вздохнул, перешагнул к постели, лег, закинув руки за голову, закрыл глаза. Но сон, естественно, не шел.
Неожиданно Андрею померещился стук в дверь. Зверев приоткрыл глаза.
— Дозволь, княже? — Младшего Житоложина качало так, что он бился плечами то об одну сторону косяка, то о другую, да еще регулярно попадал головой о потолок. В руках купец сжимал узелок, из которого многообещающе выглядывало горлышко бутылки.
— Давно пора! — Князь Сакульский бодро сел. — Давай сюда, а то улетит со стола-то.
Юрий Житоложин послушался и тут же жалобно спросил:
— Дозволь на икону глянуть, княже? Нечто и вправду чудотворная?
— Еще какая! — после короткого колебания подтвердил Андрей, дотянулся до сумки, подвинул ближе, нащупал прямоугольный сверток, достал на свет, с осторожностью откинул края тонкой и мягкой войлочной кошмы. В купца тут же уперся суровый взгляд святого, сжимающего в левой руке Библию, а правую поднявшего для благословения.
По счастливому стечению обстоятельств чудотворец, столь любимый Полиной за покровительство детям, помимо этого считался еще и защитником моряков. И для успокоения перепуганных морским штормом ушкуйников подходил донельзя лучше.
— Многих рыбаков икона сия от погибели спасла, — решил еще немного соврать во благо Зверев. — Куда она смотрит, там никто из плывущих погибнуть не может. На Ладоге знаете какие шторма случаются? А в бухте Коневецкой никогда ни одного утонувшего не случалось. Насилу я ее у монахов выкупил. Да вот видишь: оклада все же не дали. Как реликвию у себя оставили.
— Господи, смилуйся над нами, — перекрестился купец, наклонился к лику, коснулся губами высокого лба. — Не дай пропасть в пучине.
— Не даст, — уверенно подтвердил князь, спрятал лик и взялся за узелок с едой. Внутри оказались большой шмат сыра, крупные ржаные сухари и где-то с горсть кисловатых сушеных яблок. Не успел он закончить трапезу, как дверь снова приоткрылась. Внутрь заглянул молодой, еще безусый корабельщик, шмыгнул носом:
— А правду сказывают, княже, икона у тебя с собой чудотворная?
Князь Сакульский недовольно вздохнул, но все же снова потянулся к чересседельной сумке, достал доску с ликом, развернул с подобающей осторожностью:
— Вот, убедился? Пока он с нами, ничего ушкую не грозит, пусть хоть небеса на море обрушатся. Он нас спасет. И хватит, больше никому не покажу. Неча тут экскурсии устраивать.
— Велик Господь и милостив, — торопливо закрестился юноша и скрылся за дверью.
— Выручит… — Андрей прикусил губу. Он вдруг вспомнил, что зеркало Велеса уже предсказывало и общую погибель русскую, и смерть ему лично, однако же цела и Русь, и сам он в полном здравии…
Хотя, с другой стороны, будучи упрежденным, он долго и упорно трудился, чтобы предсказанного не допустить. Шторм же, в отличие от дел человеческих, стихия вольная, ее ни отодвинуть, ни задержать нельзя. А раз так — то с ним заговор на подглядывание в будущее ошибиться не мог. И про непогоду должен был знать, и про то, что ушкуй в ней не пострадает…
— Скалы-ы-ы!!! — Истошный вопль перекрыл шум урагана и пробился сквозь стену каюты. Зверев, так и не выпустив иконы из рук, кинулся наружу.
— Вот черт… — Правая рука его сама собой поднялась и сотворила знамение. Слева по борту, совсем уже недалеко, всего в паре сотен шагов, из пенистых шапок, вздымая высокие фонтаны, то выглядывали, то снова исчезали под водой остроконечные черные уступы. Причем ветер и волны прямо боком с невероятной скоростью тащили судно именно туда.
— Туда, князь!!! — увидев его, истошно закричал молодой корабельщик, тыкая пальцем в сторону рифов. — Образ туда!
И Андрей совершенно безотчетно, просто потому, что ничего другого сделать был не в силах, двумя руками поднял над головой икону, направив взгляд святого чудотворца к рифам. Ушкуй взметнулся на высокой волне, зависнув над хищными гранитными клыками, покатился с водяной горы вниз. Палуба дернулась — это молчаливый кормчий переложил руль, поворачивая судно носом на камни.
Князю показалось, что мир наполнился тишиной — исчезли звуки волн, вой ветра, скрип снастей. Корабль ухнулся в пропасть, влетая в расселину меж двух изрезанных трещинами скал. Сердце медленно отсчитывало последние мгновения жизни — вот-вот камни должны были вгрызться в борта сразу с двух сторон… Как вдруг новая волна, нагнавшая ушкуй, стала быстро поднимать его вверх, одновременно вынося из расселины. Взметнулись фонтаны из врезавшейся в препятствие воды, скрипнул снова переложенный руль, мелькнула справа еще одна мокрая стопка валунов, волна ушла, роняя ушкуй вниз. Люди затаили дыхание — но предательского удара в днище так и не последовало. Скальная гряда осталась позади.
— Она чудотворная! — Андрей даже не понял, кто это выдохнул. — Она воистину чудотворная!!!
Корабельщики, купцы, холопы, попадали на колени, ползя в его сторону, постоянно крестясь и кланяясь. Зверев перевел дух и наконец-то снова услышал шум ветра и плеск волн, ощутил на лице холодные брызги. Высоко поднятые руки затекли, он опустил икону вниз. Подобравшиеся ушкуйники один за другим принялись целовать образ, крестясь и отступая.
— Всё! — отрезал князь, когда этот обряд исполнили все и собрались было подходить по второму кругу. — Беречь его надобно, беречь. Господу молитесь! В его власти души и судьбы наши. Его милостью уцелели.
Он аккуратно завернул икону в тряпицу и унес в каюту. Спрятал, сел на постель, переводя дух. Сердце колотилось, как сумасшедшее, руки подрагивали, кожа порозовела. Он ощущал себя так, словно только что мчался в копейную атаку и внезапно оказался ссажен с коня. Только через несколько минут, слегка успокоившись, он смог снова выйти на палубу. Князь поднялся на кормовую надстройку, остановился возле кормчего, глядя ему в лицо. После затянувшейся паузы тот сказал:
— Мы в море. Скал больше не встретится.
— Не обидно? Мастерство твое, а вся слава иконе досталась.
— Мастерство вещь важная, — спокойно ответил рулевой. — Ан без Божьей помощи тоже не обойтись.
Андрей подумал, полез в сумку, нащупал две монеты, протянул старику:
— Вот, возьми…
— Два рубля? — мельком глянул на награду кормчий. — Это все, во что ты ценишь свою жизнь?
Зверев растерялся. Разумеется, жизнь свою он ценил куда выше… Но выплатить такую награду не смог бы при всем желании.
— Успокойся, князь, — смилостивился над его сомнениями кормчий. — И убери серебро. За это денег не берут. Найди для них тот товар, который меряется в рублях, а не в душах.
— Спасибо тебе, отец, — смирился с отповедью князь Сакульский и застегнул сумку. — Бог даст, сочтемся.
— Не нужно, княже, — покачал головой старик. — Мы же не язычники, дабы счеты все лишь меж собой вести. Мы с тобою братья во Христе. Не нужно считаться со мной. Сделай добро другому. Ты добро сделаешь, он добро сделает, третий добро сделает, четвертый. Глядишь, и до меня сей ответ доберется. И я от кого-то радость бескорыстно получу. И еще кому-то тоже дело доброе сотворю. Так меж христианами принято. Делай добро другим — и не считай, кто и что тебе за него должен.
— Трудно так жить, без счета все раздавая, — поежился Зверев. — Себе тоже получить чего-то хочется.
— Коли веру Христову принял, неси крест с достоинством. Будь достоин того, кто собой пожертвовал, грехи общие на себя принимая.
— Не тяжел этакий обет для простого смертного? — задумчиво спросил Андрей.
— А ты попробуй, — предложил старик.
— У меня не получится, — пожал плечами Зверев. — Я милостью Божией князь Сакульский, я награду в задаток получил. Что бы ни делал, ан выходит это лишь доказательство того, что награды сей я достоин. Что звание свое ношу по праву.
— Сочувствую, княже, — кивнул кормчий. — Но изменить сего лиха не в силах.
Андрей рассмеялся, кивнул, положил ладонь ему на плечо:
— Спасибо тебе, отец. Постараюсь, чтобы дело твое доброе зря не пропало.
Князь оглянулся на оставшиеся уже далеко позади скалы, перекрестился еще раз и пошел вниз.
Шторм метал ушкуй еще целый день, после чего стремительно, в считаные часы, развеялся, напоминая о себе лишь крупной беспорядочной зыбью. Еще день кормчий спал — и никто из команды не рискнул побеспокоить своего уставшего рулевого. Но на рассвете третьего дня его зычная команда погнала ушкуйников к снастям: корабль раскрасился парусами и бодро заскользил через безбрежные воды.
Вдали от суши они плыли целых четыре дня, по мере сил экономя воду и солонину. Не зная, куда вынес судно шторм, кормчий на ночное плаванье не решался и с наступлением сумерек приказывал спустить паруса и ложиться в дрейф. Однако к середине пятого дня впереди показалась земля. Рулевой отвернул влево, вглядываясь в далекую темную полоску, и шел так не меньше двух часов, прежде чем лаконично сообщил купцам:
— Выбрались. Теперича сушу по правую руку ждем.
Обещанная суша появилась утром, и кормчий окончательно успокоился, уверенно ведя ушкуй примерно на равном расстоянии от берегов. Андрей, вспомнив общие контуры школьных карт, понял, что они идут мимо Англии, по Ла-Маншу.
Погода свежела, но легкие облака не внушали опасения. Просто ветер стал немного крепче, задувая со стороны континента. Из-за слишком большого крена опять пришлось снять часть парусов, и ушкуй пошел даже медленнее, чем раньше.
Через день скрылся за горизонтом английский берег, а потом и французский. Кормчий явно недолюбливал лишнее внимание и старался выбирать путь вдали от чужих глаз и оживленных судоходных путей. Еще четыре дня пути исключительно по узелкам на лаге и угольным отметкам на борту — и ушкуй вдруг резко повернул строго на юг. Вскоре впереди медленно проявилась из дымки длинная волнистая линия. Андрей даже сразу не понял, что это и был холмистый берег долгожданной Испании. Сбросив все паруса кроме одного, на передней мачте, судно поползло вдоль берега — видимо, выбирая место для причаливания. Там, между скалистыми уступами, то и дело открывались золотистые пляжики, однако кормчему все они почему-то не нравились. Внезапно он хлопнул в ладоши:
— Вот и Сантандер! Спускай парус, якорь за борт. Неча ввечеру в чужом порту толкаться. Утром в бухту войдем. Дозволь отдыхать людям, Юрий Степаныч. Пусть бодрыми завтра будут.
— Да, да! — согласился старший купец. — Двойную порцию всем сегодня, и вина по чарке. Воды пейте кто сколь пожелает, завтра свежей наберем. Милостью Божьей, ан все же добрались!
На рассвете ветер опять потянул с берега, и потому ушкуйники выпростали на воду весла и уже под ними обогнули мыс, войдя в огромную, просторную бухту, способную принять не то что купеческую ладью, а пяток авианосцев. На этаком раздолье порт Сантандера выглядел насмешкой: полсотни бревенчатых причалов под холмом в глубине залива. Половина их пустовала, и кормчий уверенно подвел судно к тому, что находился в центре порта. Старший Житоложин перемахнул борт, потрусил искать хозяина, чтобы получить разрешение на стоянку и узнать ее стоимость, корабельщики привычно развалились на отдых, князь же стал не спеша собираться. Хотя чего там собирать? Кошель и сумку проверить, одежду поправить, саблей опоясаться — всего и делов. Вот только уйти не расплатившись князь, естественно, не мог. Приходилось ждать, от безделья лениво перебирая знакомые вещи.
Купец прибежал примерно через полчаса, замахал руками:
— Отваливай! Вон к тому причалу идите, второму с краю. Он дешевле аж втрое выходит.
Почему так, Андрей интересоваться не стал. Пока ушкуйники снимали с деревянных «быков» канаты, он тоже сошел с судна и махнул Житоложину рукой:
— Постой, Юра! Давай сочтемся ныне, да я дальше двинусь. Мне еще лошадей купить нужно, помыться где-то. Застревать тут надолго не хочу, и так уже целую вечность до Аранхауса доехать не могу.
— Дай мне хоть полдня времени, княже! — взмолился тот. — Я же цен здешних не проведал еще, приказчика сотоварища нашего не отыскал, склада не видел. Как же мне за товар твой платить, коли расклад здешний непонятен?
— А-а, я и забыл про него, — хлопнул себя по лбу Зверев. — Хреновый из меня купец. Ладно, узнавай. Заодно про дорогу в Аранхаус поспрошай и лошадей, коли выйдет, присмотри.
— Сделаю, княже, — кивнул тот, привстал на цыпочки, наблюдая за маневрами ушкуя, почмокал губами и снова убежал.
В этот раз его не было довольно долго, но вернулся Житоложин вальяжный и довольный, как объевшийся сметаной кот. Причем от него явно припахивало хорошим виноградным вином.
— Отец сотоварища нашего здесь, оказывается, пребывает, — расчесывая пальцами бороду, сообщил купец. — Обо всем упрежден сыном своим, лавки имеет в городах многих. Готов хоть ныне за весь товар расплатиться. По его словам, сам к полутора у нас тут прибыток выходит. Но я так мыслю, коли окрест походить, цены проведать, так и поболе сторговаться можно.
— Поздравляю, — нахмурился Зверев.
— Все испросил княже, будь уверен, — спохватился купец. — Лошади будут добрые, их в счет товара спишем, бань у них тут, вестимо, и в помине не имеется, с Аранхаусом же непонятно вышло: про такой город купец не ведает, однако же известен ему богатый и знаменитый Аранхуэс, в коем короли здешние изволят отдыхать часто в знойные месяцы лета.
— Это он! — уверенно кивнул князь.
— Путь к нему прямой и понятный, от главной площади через ворота по тракту. И сказывал гышпанец, коли по самой широкой и ухоженной дороге ехать, то аккурат до него и доберешься. Бургос и Мадрид, города большие, по пути встретиться должны. Это дабы не заплутать. Коли о них спрашивать, любой раб дорогу укажет.
— Далеко?
— Десять дней пути, коли дожди не начнутся.
— Хорошо. — Это было все, что требовалось знать князю Сакульскому. — Давай сочтемся, и я поеду.
— Дык как же я сочтусь за товар твой, княже, пока покупатель его не осмотрит и задатка не даст? Опять же тебе, вестимо, здешние монеты надобны, а не русские.
— Вот, проклятье, — сплюнул Зверев. — Не одно, так другое. Да, ты прав, серебро мне надобно здешнее… Ладно, жди своего сотоварища. Я пока с холопами место поищу, где искупаться можно. Коли бани нет, хоть освежусь немного.
Найти место для купания возле портового города труда не составило. Большая часть берега в бухте представляла огромное количество небольших пляжиков, перемежающихся скалами. Места, не пригодные ни для выпаса скота, ни для земледелия, а потому — совершенно безлюдные. Андрей под присмотром холопов с наслаждением искупался в прохладных волнах сам, избавляясь от многодневного пота, переоделся в чистое, потом загнал в воду холопов. Немного погрелся на солнышке, любуясь с камней проплывающими под пышными россыпями парусов каравеллами, и отправился в город.
Здесь команда с помощью плечистых испанских амбалов уже опустошала трюмы ушкуя, перегружая на запряженные волами возы дубовые бочки и сальные рогожи с разнообразным железом.
— Эй, купец! — окликнул старшего Житоложина Зверев. — Вижу, дело у тебя ладится.
— Как есть ладится! — встрепенулся наблюдающий с кормы за работой Юрий. — По-доброму все идет, по-доброму. Иду, княже, иду. Все как есть, без обману…
Он засуетился, словно не зная, как спуститься, неуклюже спрыгнул, пробежал по палубе, выскочил на причал.
— Вот, все здесь, все здесь… — Он полез за пазуху, достал небольшой, но тяжело позвякивающий замшевый мешочек, взвесил в руке и протянул Андрею: — За меха. Семнадцать дублонов — это золотые рубли такие здешние — и девять эскудо. Они вроде как половинка от дублона каждый. Кони же — вон, на краю площади дожидаются, дабы погрузке не мешали. Четыре резвых скакуна с упряжью.
— Мой долг за путешествие уже вычел?
— Не беспокойся, княже… — Купец глянул куда-то ему через плечо.
— Пахом, — повернувшись, приказал Зверев. — Вещи мои из каюты забери.
Дядька кивнул, вспрыгнул на борт, шагнул внутрь. Князь же, скользнув по причалу взглядом, отметил, что ушкуйники, оставив бочки и рогожи, замерли, выжидающе глядя на своего хозяина.
«Нечто придавить и ограбить тут задумали? — мысленно удивился Зверев, высвобождая рукоять сабли из-под полы кафтана. — Посреди города? На глазах десятков свидетелей?»
— Тут дело такое, княже… — замялся Житоложин и снова сунул руку за пазуху. — Вот еще десять дублонов от нас с братом. И люди все от доли своей отказываются, то еще десять дублонов выйдет. Сделай милость, уступи образ чудотворный.
— Да как же я его уступлю? Жене я его везу! Подарок из отчей земли.
— Уступи, княже, смилуйся над людьми грешными, — перекрестился купец. — К чему он тебе на суше? Нам же в море буйное опять отправляться. Да и не раз туда еще уходить. Пожалей семьи наши, детишек малых. Животы наши пожалей. Уступи икону, век за тебя Бога молить будем.
— Уступи княже, уступи! Пожалей! Смилуйся! — Корабельщики, оставившие свои дела, один за другим начали опускаться на колени, истово креститься. — Оставь ушкую нашему покровителя небесного, пожалей!
— Вот те раз… — изумленно пробормотал Андрей, никак не ожидавший такого поворота. — Вот и еще одно чудо сотворилось.
Впрочем, ученик волхва знал не только то, что икона в нынешнем ее виде все еще остается просто картинкой на куске доски. Он знал, что чудотворными любые предметы становятся благодаря вере, чувству, молитвам, долгому и искреннему поклонению. Пропитанная добротой и надеждой, намоленная смертными икона рано или поздно действительно станет тем, чем ее считают: чудотворным целительным и спасительным образом, способным стать на пути беды, остановить ее не своей — а той силой, что вложили в него сами люди.
— Веруйте, и воздастся вам по вере вашей, — прикусил губу князь. Мотнул головой, вздохнул: — Не мне перечить высшей воле. Видно, судьба. Пахом! Сумку мне дай.
— Слушаю, Андрей Васильевич! — перебрался на причал дядька. Чересседельная сумка лежала у него на плече. Зверев откинул клапан, достал заветный сверток. Хотел было развернуть — но вдруг передумал и отдал купцу как есть, в войлоке:
— Вот, он ваш!
— Свят, свят! Слава князю! Слава Господу нашему! Вседержителю и промыслу его! — со всех сторон радостно заголосили ушкуйники.
— Благодарствую тебе, Андрей Васильевич, — прижав икону к груди, низко поклонился ему старший Житоложин. — Век помнить будем. По гроб жизни молить. Вот, княже, возьми. Двадцать дублонов тут, как уговаривались.
— С ума сошел? — отшатнулся от протянутого кошеля ученик колдуна. — За чудо плату не берут! Ваша икона отныне. И долг за нее на вас. Она вас спасать станет — и вы сирых и слабых помощью своей не забывайте. Как это у вас… у нас… У нас, христиан, принято.
Его оговорки никто не заметил. Кланялись, благодарили, норовили поцеловать руку.
— Все, хватит, хватит! — попятился Зверев. — Вы люди добрые, и пусть море будет к вам добрым. Купец, лошади мои где?
— Вон, княже, коновязь возле часовни каменной, — указал подбородком Житоложин, крепко удерживая в объятиях драгоценный подарок. — Их там всего четыре и есть.
— Бывай тогда, человек торговый, — кивнул ему Андрей. — Бог даст, свидимся.
Холопы уже шли вперед. Проверили подпруги, узду, перекинули через холки сумы со скромными походными припасами. Самого высокого скакуна подвели князю, Пахом придержал стремя.
— Ты бы меня еще подсадил, как старого деда, — беззлобно попрекнул его Андрей, выпрямляясь в седле. — Значит, путь наш через главную площадь должен идти. От моря, через площадь к воротам, и за ними по самой накатанной дороге.
— Послушай, мил человек, — обратился Пахом к какому-то лавочнику в короткой суконной куртке и широкополой треуголке. — Где тут главная площадь у вас?
Тот непонимающе развел руками и поспешил дальше, громко стуча деревянными туфлями. Илья попытался расспросить другого горожанина, но и он только пожал плечами. Здесь, на западном краю континента, в самом дальнем тупике обитаемой земли, вдали от человеческой цивилизации, русской речи не понимал, похоже, вообще никто.
Князь Сакульский поднялся на стременах, прищурился, вглядываясь в просвет улицы. Там, саженях в ста, на широкой виселице вяло покачивались несколько мертвых тел.
— По коням, — приказал он. — Я ее нашел. В Европе где виселица стоит, там и главная площадь. За мной!
И он дал шпоры коню.
Без каких-либо сложностей князь с холопами пересек городок и выехал за ворота, охраняемые двумя сонными копейщиками в кирасах и пышных панталонах. От Сантандера узкая и пыльная дорога потянулась вверх, перевалила пологий гребень горы, и море вместе с городом скрылось из глаз.
Путь через Испанию отличался от привычных русских трактов, как небо от земли. В первую очередь, конечно, быстро утомили непрерывные подъемы и спуски извилистой дороги. Вроде бы и горы вокруг высокими не казались — так, холмики немногим выше обычного, ни снежных шапок, ни крутых отрогов. Однако же прямого участка, пусть даже короткого, князю за весь день встретить не удалось. Странной и неудобной оказалась узость дороги, временами превращающейся в тропу, еле способную пропустить один возок. То и дело холопы цеплялись стременами и терлись сумками, пока, наконец, не вытянулись в колонну по одному. Зато тракт все время был усыпан каменным щебнем и плотно утрамбован. Случись дождь — не раскис бы, не расчавкался. Правда, из того же щебня были сложены и сами холмы, и долины между ними, им были засыпаны русла ручьев… В общем — все вокруг.
Но самым изумительным оказалось то, что на сем щебеночном покрытии росли леса. Причем довольно густые. Правда — чистенькие, словно подметенные. Под кронами привычных сосен и странных лип с плоскими ветвями не валялось не то что обыденного на Руси валежника, но и даже тонких веточек хвороста. И травы, кстати, тоже — практически не росло.
Андрей, поначалу предполагавший ночевать лагерем, благо везде тепло и сухо, понял, что шансов развести костер и что-нибудь приготовить нет никаких — за полным неимением дров. Князь смирился, что останавливаться придется в постоялых дворах. Или, как их тут называют — в тавернах. Одно хорошо — таких дворов на пути попадалось превеликое множество. Мелкие деревеньки из пяти-шести домов, сложенных из плоских камней без всякого раствора, встречались буквально каждый час, а через два на третий — селения побольше, с часовнями и кабаками. Достаточно большими, чтобы поставить несколько лошадей и приютить пару путешественников.
В отличие от Руси, здешние дворяне жили особняком, в стороне от крепостных. Кто — в суровых, вознесенных на скалы башнях или замках, кто в домах попроще. Отличить их от жилья простонародья было очень просто: по виселице. Точнее даже — по числу виселиц. Четыре стояли перед замками. Две или три — возле укрепленных башен. После этого уже нетрудно догадаться, что в одиноком домике, пусть скромном, но с украшенной петлей перекладиной на акации недалеко от входа тоже обитает какой-нибудь идальго, пусть нищий — но все же не простолюдин.
По всей видимости, виселицами объяснялось и то, что крестьян и торговцев навстречу путникам не попалось ни одного — увидев знатного господина, с оружными слугами и с саблей на боку, прохожие предпочитали не просто свернуть с дороги, но и отступить куда подальше, дабы и на глаза не попадаться вовсе. Трактирщики здешние тоже оказались преувеличенно почтительны и подобострастны. Речи князя и холопов не понимали — однако комнаты, в которые Андрей тыкал пальцем, освобождали мгновенно, угощения подавали обильные и вкусные, денег брали столько, сколько дают, и не перечили.
Правда, и сдачу отсчитать тоже ни разу не попытались.
Красивы города здешние или нет, князь Сакульский пока не знал. Те, что встречались на пути, он объезжал, дабы зря не платить за вход, а снаружи все крепости одинаковы: каменные стены из крупных валунов, да башни со смотрящими навстречу друг другу бойницами. А вот редкие каменные мосты сразу привлекли внимание понятной, но забавной особенностью: все они начинались и заканчивались небольшими укреплениями с толстыми стенами, способными укрыть в себе не меньше двух десятков солдат. Бойницы, крыша, зубцы — все честь по чести. В любом из них Зверев с холопами от сотни-другой татар отбился бы запросто.
Накатанный тракт вел его дальше и дальше через горы и перелески, оливковые рощи и до боли знакомые густо-зеленые гороховые поля. О пути князь не спрашивал и просто отсчитывал дни, решив не беспокоиться, пока не минет две недели. И словно по уговору, именно на четырнадцатый день извилистый тракт, перевалив пыльные и жаркие каменистые холмы, внезапно вывел их в просторную и зеленую долину, дохнувшую в лицо приятной прохладой.
Издалека долина показалась разделенной на три неравные части. От подножия серого каменного холма, с которого спускались путники, примерно до середины долины тянулись нарезанные на небольшие прямоугольники поля, часть которых густо алела какими-то цветами, а часть — зеленела от густо посаженной капусты, моркови и клубники. За полями по правую руку просторно раскинулся городок, не ограниченный в своем росте никакими стенами. По левую зеленел парк, культурное назначение которого выдавали купола, то тут, то там поднимающиеся из крон, и колоннады, кое-где проглядывающие сквозь зелень.
— Вот и столица, — уверенно кивнул Зверев. — Больше ничего подобного нигде не попадалось. Да и по времени пора.
Лошади, словно почувствовав близкий отдых, сами пустились широкой рысью, всего за четверть часа пронеслись остаток пути и перешли на шаг уже в тени городских улиц.
Аранхуэс по виду и архитектуре удивительно напоминал османские города, которые князю Сакульскому довелось разорять в Крыму: высокие стены из грубо колотых камней, дома в два-три этажа с глухими стенами, никак не украшенные ворота, толстая черепица крыш, плотно утоптанные немощеные пыльные улицы. Причем улицы на удивление пустынные — ни расспросить кого, ни хотя бы просто поздороваться.
Пару раз вдалеке на перекрестках показывались горожане — путники поворачивали лошадей, пускали их вскачь, но прежде чем успевали настигнуть туземцев, те бесследно исчезали, как сквозь землю проваливались. После нескольких таких погонь Зверев собрался уже было постучаться в первую попавшуюся дверь, как вдруг услышал издалека радостные крики:
— Княже! Княже приехал! Андрей Васильевич!
В этот раз им махали руками люди, одетые в шаровары и длинные белые рубахи, опоясанные кушаками. Князь Сакульский потянул повод, поворачивая к ним, и вскоре узнал своих холопов:
— Степка! Кирьян! Откуда?
— Да на двор ранда нашего гышпанцы постучали, — поймали коня за уздцы запыхавшиеся, но радостные холопы. — Сказывали, иноземцы вида знакомого горожан по улицам гоняют. Саблю кривую углядели — и сразу к нам, жаловаться. Здесь, окромя как у Ермолая Андреевича, таких мечей нет.
— Ну так показывайте, куда скакать! Чего застыли? — улыбнулся в ответ Зверев.
Холопы провели его назад, почти к самому въезду в город, застучали в ворота на краю не самого опрятного, но длинного забора. Створки поползли в стороны. Князь по русскому обычаю спешился и…
— Отец! Батюшка! Андрей! Отец! — Он и понять ничего не успел, как выбежавшие наружу женщины сжали его в объятиях, покрыли поцелуями, потащили внутрь. Когда после первого жаркого порыва объятия чуть ослабли, Зверев отступил, смог разглядеть среди лиц Полину, привлек, крепко поцеловал в губы, в щеки:
— Как же я соскучился, любимая моя!
Жена молча прижалась к его груди, зарывшись лицом в бороду. Андрей же перевел взгляд на детей и… И вдруг понял, что никого не узнает.
— Великий Боже, как же вы все выросли!
Больше всех изменился сын. Уплывал с матерью и сестрами одиннадцатилетний мальчишка, теперь же перед ним стоял пятнадцатилетний высокий и широкоплечий юнец, которого хоть сегодня в новики записывай! Если к этому добавить темно-коричневый бархатный камзол с пышными рукавами и прострочками желтого шелка, суконные чулки, остроносый берет с пером… Встреть Андрей его на улице — не узнал бы ни за что!
Дочери изменились меньше, да и платья их казались куда привычнее, мало отличаясь от русских одежд. Но все равно — обе заметно прибавили в росте и фигуристости. Стали настоящими женщинами. Причем — весьма привлекательными. Князь только головой покачал, не зная, что сказать.
— Да ты же с дороги, господи! — спохватилась княгиня. — Идем же, идем. Откушаешь, воды вскипятить велю, ванну примешь…
— Ванну? — удивленно вскинул брови князь.
— Прости, батюшка, нет тут ни у кого бань совсем, — развела руками Полина. — Дрова, сказывают, больно дороги. Вот и не ставят.
— Коли бани нет, можно и просто водой ополоснуться, — отмахнулся Андрей. — Жара-то какая стоит! Только в удовольствие выйдет.
— Так сейчас, батюшка, — закрутила головой княгиня. — Это дело недолгое. Аккурат, пока на стол накрывают, и успеете… Лукерья! Агафья! Исподнее чистое приготовьте! Вертун, Ждан: бадейки берите да бегом за водой!
Водой путники ополоснулись за домом, возле небольшого птичника с цесарками. Розовым мылом, пахнущим жасмином и лавандой, смыли с себя пыль и застарелый пот, переоделись в чистое и пошли к столу.
По здешним обычаям, угощение было накрыто не в доме в трапезной, а на улице, под просторным навесом возле бассейна, в котором плавали упитанные карпы с широкими, как у бобра, спинами.
Изнутри дворец испанского гранда выглядел куда роскошнее, нежели снаружи. Дом поверх штукатурки был расписан батальными сценами в духе рыцарей в сверкающих доспехах, храбро поражающих длинными пиками огнедышащих чешуйчатых рыб, зачем-то отрастивших короткие толстые лапы. Вдоль всего второго этажа тянулось широкое гульбище — здесь почему-то называемое балконом. Его поддерживали резные столбы, на них же опиралась и крыша.
Большую часть двора занимали цветочные клумбы и просторный лабиринт из кустарника. Правда, кустарник, при всей его густоте, на высоту поднимался от силы по колено, и потому заблудиться в лабиринте могла разве что забредшая в него ленивая кошка. В нескольких местах над зеленью возвышались скульптуры из белого мрамора. Еще одна, но темно-зеленая, выглядывала из центра выложенного мелкой керамической плиткой бассейна, столь обширного, что, случись осада, воды из него хватило бы полусотне коней на две недели. От бассейна веяло прохладой — в этой прохладе и стоял невысокий помост со столом на полтора десятка человек. Напротив, по другую сторону, тоже была заплетенная плющом беседочка. Но — только на двоих.
— Ну, как ты без нас, батюшка? — участливо спросила княгиня, наполняя вином высокий серебряный кубок. — Ладно ли у нас на стороне? Чем ныне Русь православная живет? Как дома, все ли спокойно? Что в Москве, как государь, чем с басурманами беда завершилась?
— Пока у нас на Руси царь такой, как Иоанн Васильевич правит, так и опасаться нечего, — поднял бокал Зверев. — Побили басурман милостью Божьей. Всех начисто вырезали, никто к себе в Османию сбежать не сумел. Надолго теперича дорогу в русские пределы забудут. За государя нашего, за Иоанна!
Вино было красным, густым, чуть сладким и с небольшой горчинкой. Приятное. Отставив кубок, Андрей взялся за целиком запеченную птицу с поджаристой корочкой. Спохватился, поняв, что тарелку с пичугой княгиня придвинула к нему одному. Все остальные вяло раскладывают по тарелкам какое-то странное месиво из гороха, капусты, шкварок и мелких кусочков мяса в густом кровавом соусе с помидорными косточками.
— У вас тоже голодно? — с подозрением спросил он.
— Не беспокойся, батюшка, — замахала руками Полина. — Нет таких печалей. Откель нам знать, что ты сегодня появишься? Оттого к обеду лишь одну цесарку и запекли. Кушай, не беспокойся. Паэлья тоже вкусная и сытная. Ты с дороги, тебе нужнее.
— Если вкусная и сытная, то я тоже хочу, — усмехнулся Андрей, вынимая косарь.
— Спасибо, батюшка, не нужно! — предупредила Арина, невесть откуда взявшимся легким движением поправила выбившийся из-под заменяющей платок легкой вуали локон и тут же по-детски почесала кончик носа. — Кушай сам, правда. Мы сыты.
— Я что, выгляжу тощим и некормленым? — Привычно нарезав птичку на несколько частей, глава семьи разложил ножки и бока не ставшим перечить Ермолаю и Пребране.
Княгиня же упреждающе вскинула руку и спросила:
— Так, сказываешь, голодно ныне на Руси?
— Беда странная с погодой, — вздохнул князь Сакульский. — То морозы середь лета ударят, то на Рождество теплынь, трава зеленеет, коров на выпас из стойл смерды выгоняют. А как озимые всходить начали, их — хлоп! — снегом снова и накрыло! Сама понимаешь, все пашни пересевать никаких рук не хватит. Бояре многие сами пахали, родовитость презрев, холопов в поля выводили. В итоге же все их труды заморозком июньским убивает. И так — через два года на третий. Плохо с хлебом, в общем. Капуста родится, она холода не боится. Репа, брюква не пропали. Огурцы, понятное дело, в ямах… Мне легче, мы в своих северах тепла и не ждем никогда, хлеб растим мало. Округ Москвы же совсем беда. Иные бояре, сказывают, столь обнищали, что холопов своих обученных на волю отпускают, ибо прокормить не в силах. На зерно ведь все больше рассчитывают, на хлеб. Пшеница же, известное дело, капризна. Кабы знали наперед про погоду-то, тоже, мыслю, капустой могли погреба забить.
— Ужас какой! — разом охнули Полина и Пребрана.
Ерема и Арина шептались о чем-то своем.
— Да уж, испытание Господь послал немалое, — перекрестился князь Сакульский. — Однако же с Османской Портой управились, и с неурожаем справимся. Трава растет, сена для скота вдосталь, соленья-квашенья тоже у каждого найдутся. Как-нибудь переживем. Вы про себя лучше расскажите! Как добрались, как устроились? Хоромы, вижу, у вас богатые, однако же хозяина не видать. Чьи они, откуда?
— Жениха моего дом сей, батюшка, — вдруг зарделась Пребрана. — Гранда Альба Карла Фердинанда Игулада-де-Кераля.
— Ого! — охнул Андрей. — Так и называешь: Альба Карлом Фердинандом Игулада-де-Кералем? Язык не ломается?
— Карлом зову, — опустила голову девушка и покраснела еще сильнее.
— Не гневись, батюшка, — положила ладонь ему на руку княгиня. — Понимаю я, что непотребно девице незамужней у жениха в доме проживать. Однако же, дворец сей родом грандов Игулада-де-Кераль нам в полную свободу для проживания предоставлен, и посему приличия соблюдены в полной мере. Жених сюда лишь в гости наведывается и до темноты завсегда дом покидает. Ой, наконец-то! Дядюшка вернулся!
Полина резко встала, взмахнула рукой:
— Дядюшка, дядюшка, Андрей приехал!!!
Князь Юрий Семенович Друцкий внешне изменился мало. Та же тощая борода, тот же быстрый взгляд, те же постоянно шевелящиеся пальцы. Только чуть похудел, да кожа сморщилась еще сильнее, словно ссохлась, напоминая кору старого дуба. По возрасту он превосходил Андрея уже, поди, вдвое — но по-прежнему был хитер и энергичен, явно принадлежа к тому типу людей, которые живут благодаря молодости душевной, а не телесной.
— Андрей Васильевич! Как же я рад! Заждались, заждались…
Андрей вышел навстречу самому близкому родственнику своей жены, крепко его обнял, и они вместе вернулись под навес, уселись рядом. Княгиня, жестом отогнав прислугу, сама налила им вина.
— За встречу, друг мой! — с улыбкой поднял кубок Юрий Семенович. — Ну, рассказывай, князь, рассказывай! Как ныне Москва, как бояре с голодом справляются, отошли ли от сечи великой, много ли земель новых государь победителям нарезал?
— Много, княже, много, — ответил Зверев. — Почитай, на триста верст черту засечную на юг сдвинул. От Рязани и Тулы до самого сердца Дикого поля, от Оки и аж до Северного Донца.[5]
— А как друг твой, Михайло Воротынский? Цел ли? Живым ли из сечи вышел?
— Не беспокойся, Бог милостив к храбрым, — кивнул Зверев. — Ни одной царапины нет на воеводе.
— Славно, — перекрестился князь. — Имя сего славного витязя даже здесь многих в дрожь бросает.
— Это потому, что они еще не знают про опричного воеводу князя Дмитрия Хворостинина, — злорадно усмехнулся Андрей. — Он тоже един десяти стоит. Именно он сечу при Молодях и начинал, с горсткой детей боярских на орду несчитанную кинувшись. Он себя еще покажет. От одного взгляда нехристи драпать будут.
— Хворостинины — это отрасль князей Ярославских? — прищурившись, моментально сориентировался князь Друцкий. — Которые от Михаила Васильевича Хворостина род ведут? Если отец князя Дмитрия Иван, так мы с ним по матери родичи совсем близкие выходим, он мне вроде как внучатый племянник! Славно, славно. А князь Салтыков как, здоров ли?
— В Москве при пожаре угорел, — перекрестился князь Сакульский.
— Жаль, — вздохнул Юрий Семенович. — А я как раз грамотку ему отписать собирался… Царствие ему небесное… А Шереметевы ныне не в опале?
Князю Друцкому пришлось пересказывать все события последних лет довольно долго и подробно — несмотря на то что о многом дядюшка и так откуда-то хорошо знал. Пересказывать в мелочах: кто где погиб или возвысился, на кого наложили опалу, кого одарили поместьями, кто на ком женился, кого куда выдали замуж, кто вывел своих сыновей в новики и как отозвался на это Иоанн Васильевич. Причем, когда Зверев признавался, что не в курсе семейных праздников каких-то дальних родственников или не способен точно указать, к какой ветви одной и той же фамилии относится опальный боярин, — Юрий Семенович проявлял хорошо различимое неудовольствие — пусть и не выказываемое вслух. Расспросы продлились до сумерек. То есть не только до ужина, но и позднее, после чего дядюшка в задумчивости удалился, а Андрей оказался вымотан настолько, что даже не догадался в свою очередь расспросить князя Друцкого о его собственных семейных делах.
В покое и тишине Зверев просидел всего несколько минут. Не успел он допить и одного бокала, как под навесом появилась Пребрана, накинувшая на плечи пушистый и белоснежный пуховый платок. Она неуверенно задержалась у края стола, потом бесшумно, словно скользя над полом, дошла до отца, осторожно присела на самый краешек скамьи, опустив взгляд к столешнице. Прошептала:
— Карл сказывает, коли венчаться станем, я веру свою должна сменить.
— Вот как? — Андрей ощутил, как его губы расползаются в невольную улыбку. — И это все, что тебя волнует?
— Но ведь от веры православной отречься надобно! — недоуменно вскинула голову девушка.
— Я думал, ты кричать станешь: нелюб он мне! Страшен, противен! Не хочу, не буду! Лучше в монастырь! — откинувшись на столб за спиной, допил вино князь. — А ты сказываешь токмо, что с обрядом венчания нелады. Остальное все, стало быть, по душе?
Пребрана зарделась и снова потупила взгляд. Андрей вздохнул:
— Верует ли жених твой в Господа нашего, Иисуса Христа?
— Верует, — согласилась девушка. — Токмо они ведь схизматики. Католики то есть. Крестятся они неправильно.
— Тебя тревожит, что твой жених неправильно крестится? — вернул кубок на стол князь Сакульский. — Это так опасно?
— Странные ты речи ведешь, батюшка, — покосилась на него Пребрана. — Ровно и разницы меж верами нашими нет никакой.
— Есть! — немедленно согласился Зверев. — Только не помню, какая… Не подскажешь?
— Filioque,[6] — со странным акцентом тут же ответила дочь. — Вопреки постановлениям Второго и Третьего Вселенского Соборов католики ввели в восьмой член Символа Веры добавление об исхождении Духа Святого не только от Отца, но и от Сына.
— Ох ты ж ёкарный бабай, — аж крякнул от резанувшей ухо казенщины Андрей. Где она этого только нахваталась? — Ох уж эти еретики! То есть теперь Господу нашему Иисусу Христу они больше не молятся?
— Молятся. Но они сказывают, что благодать Божья не токмо от Бога-Отца, но и от Бога-Сына исходит.
Похоже, получившая в детстве хорошее монастырское образование Полина не преминула поделиться знанием с детьми.
— Ужас, — притворно охнул князь Сакульский. — Они оскорбили Иисуса?
— Наоборот, — загорячилась девушка, — они возвысили его до Бога-Отца!
— А разве Бог не триедин?
— Но благодать-то, дух святой даруется токмо Богом-Отцом, но не земным воплощением!
— Земное воплощение — это Иисус? — уточнил Андрей. — И значит, ему молиться не след?
— Иисус это тоже Бог, он искупление за грехи наши на себя принял! Как же ты этого не понимаешь?!
— Во многом знанье многие печали, — пожал плечами князь. — Если хочешь найти различия, то ты их обязательно найдешь. Если бы мне довелось вести своих холопов на штурм этого городка, то поверь, милая, я привел бы им куда больше доводов о различиях наших вер, нежели ты способна придумать. Если же мне пришлось бы оборонять его вместе с грандом Игулада-де-Кералем, я бы просто сказал, что мы помогаем нашим братьям-христианам. Было бы желание — а нужный ответ всегда можно обосновать легко и быстро. Поэтому, милая, давай вернемся к самому началу. Возможно, между поклонением Господу нашему Иисусу Христу и Господу нашему Иисусу Христу есть настолько страшная и непреодолимая катастрофа, бездонная пропасть, что ее и вправду невозможно преодолеть. Скажи мне, доченька, ты действительно хочешь добыть истину и ужаснуться этой разнице? Или, может статься, они просто крестятся неправильно, да и все?
— Но ведь это будет обман… — шепотом сказала Пребрана.
— Кого? Надеюсь, ты не думаешь, что можно обмануть Бога? Что для Бога правильное движение руки важнее искренности твоих молитв или праведности твоих поступков? Насколько я помню, среди его заветов есть «не убий, не укради, не прелюбодействуй», но нет ничего о форме крестов, высоте шпилей или количестве пальцев для правильного знамения… Хотя, конечно, если кто-то, кого я еще не видел, страшен, как болотный леший, и вызывает у тебя отвращение — мы можем обсудить важность этих тонкостей в богослужениях.
Девушка прикусила губу. Мотнула головой. Наклонилась и быстро поцеловала Андрея в щеку:
— Спасибо, папа… — вскочила и убежала.
— Надеюсь, это не звучало, как благословение?! — попытался окликнуть ее Зверев. — Я ведь его еще даже не видел!!!
Однако Пребрана его не услышала. Князь Сакульский пожал плечами и налил себе еще вина. Его долгое, почти месячное путешествие в неизвестность наконец-то закончилось. И мысль о том, что уже никуда не нужно скакать, торопиться, задумываться о ночлеге и раннем подъеме для нового перехода, все еще никак не могла уложиться в его сознании. Чистое южное небо перемигивалось звездами, в бассейне неслышно передвигались упитанные тени, на зеленую мраморную голову слетались белые бабочки с длинными пушистыми усиками. Кто-то вкрадчиво шуршал в лабиринте — видимо, ленивая кошка для него все-таки нашлась.
На плечи неожиданно легли ладони:
— Ты спать-то собираешься, батюшка?
Князь склонил голову, коснулся щекой ее руки:
— Я чуть не забыл, как звучит твой голос, Полюшка моя. Надеюсь, теперь мы больше уже не расстанемся. Никогда.
— Если никогда, тогда пойдем, — взяла его за запястья жена и повела за собой.
Гранд Альба Карл Фердинанд Игулада-де-Кераль
Утром князь и княгиня провели в постели времени намного дольше обычного, и когда вышли на воздух — их встретила неожиданная изнуряющая жара.
— Как у них только клубника растет в таком пекле, — удивился Зверев, отступая обратно в тень гульбища. — Давно завялиться вся должна.
— Сейчас еще ничего, не так знойно. Бывает, так и не выйти на свет вовсе, — ответила Полина. — Дети, вон, токмо по вечерней прохладе гуляют.
— Гуляют? — заинтересовался Зверев. — Интересно, где, куда?
— Знакомцев завели немало. Чай, дело молодое, — расслабленно отмахнулась княгиня. — Пребрана с женихом прогуливалась, Ерема с Ариной тоже не раз с ними выходили. У Карла здесь родичей и знакомых в достатке, через него со многими сошлись, на балах много раз бывали, на охоту выезжали, на купание, в иные места.
— В «иные» — это куда? — еще больше заинтересовался Зверев.
— Четы королевской ныне в Аранхуэсе нет, — спокойно объяснила Полина. — Король Филипп выразил недовольство теснотой здешнего замка и повелел его перестроить. Второй год строители стараются, а его величество лишь дважды изволил побывать, дабы осмотреть, как они работают. Посему приемов в здешнем королевском дворце теперь нет, однако же в парк знатных особ пропускают невозбранно. Здесь преизрядно летних домов у самых достойных родов. Пусть без короля в городе не так многолюдно, но есть с кем повеселиться. Опять же, до Толедо всего день пути на рысях. На королевский бал, коли поутру отправиться, легко можно поспеть. И на королевскую охоту по приглашению вовремя явиться. Нет-нет, не смотри так на меня, батюшка! Все приличия наши дочери соблюдают. Коли где и веселятся, то токмо в присутствии брата своего или моем, да и я сама на балах лишь в сопровождении дядюшки, родича моего старшего, появляюсь. На купание же али охоту и вовсе не езжу. И с женихом наедине Пребрана никогда не остается. Не беспокойся.
— Все равно как-то буйно слишком все это выглядит, — передернул плечами Зверев.
— Нравы здешние несколько от наших отличаются, батюшка. Хоть и дики, но не хочется белыми воронами казаться. Ты не думай, скромность и целомудрие гышпанцы чтут не меньше нашего. Но коли девушка скромная с родственниками гуляет али в иные места на люди выходит, то пошуметь, повеселиться, поговорить с кем, даже танец провести ей не в укоризну.
— Танцы?! — изумился Зверев, уже давно подзабывший это слово среди величавых хороводов и скоморошьих присядок.
— Ты не гневайся, ты на них взгляни хоть раз поначалу, — опять испугалась супруга. — Это всего лишь basse danse, или estampie, королевская павана. Они вполне благочинны и пристойны. Не допускают никаких вольностей.
— Если ты говоришь, что пристойны, — кашлянул Андрей, — стало быть, так оно и есть. Не сомневаюсь.
Знала бы милая, чудесная воспитанница монастыря, с кем разговаривает и каковы танцы были в детстве ее супруга! Зверев кашлянул еще раз и мотнул головой:
— Вина!
— Лукерья, вина князю немедля! — потребовала княгиня и зачем-то добавила: — Разбавленного! Ты не беспокойся, княже, это не лихоманка, это воздух тут такой, сухой больно. А хочешь, пойдем с тобой у реки погуляем? Хворь как рукой снимет!
Князь Сакульский еще немного прокашлялся и согласно кивнул:
— Пошли.
Но отправиться на реку они не успели. По лестнице, ведущей с гульбища вниз, дробно простучали пятки, и рядом возник веселый князь Друцкий в замшевом коричневом колете и пухлом берете того же цвета, низко поклонился, изобразив что-то рукой на здешний манер.
— А я слышу, голоса доносятся. От и помыслил, что голубки это наши наконец-то проголодались и объятия свои разжать решили. Так и знал, так и знал. Оттого и повелел приготовить легкий херес и гаспаччо,[7] которое снимет легкий голод, но не отяжелит живот, оставив силы для новых деяний, — дядюшка весело подмигнул. Наверное — понимающе, но получилось у старика как-то неестественно. — Полюшка, подгони холопок своих, все уже приготовлено, в погребе остывает. Пусть несут.
— Да, дядюшка, сейчас, — согласно кивнула княгиня, отошла в дом, а Юрий Семенович тут же поймал Зверева за локоть, торопливо прошептал:
— Совсем забыл упредить тебя, княже! Коли примчится гранд де Кераль и заторопятся они с Пребраной твоей благословения просить, ты его сразу не давай. Сошлись на усталость. Скажи, подумать надобно…
— Это так срочно? — не понял Андрей.
— Ай, — отмахнулся князь. — По два, по три раза на неделе прилетает сорванец юный. Кабы не приличия, так и вовсе у ее ног бы поселился. Взбалмошные они все, гышпанцы эти. Видать, голова на солнце перегревается постоянно. Эвон как припекает.
— Постой, Юрий Семенович, — окончательно запутался Зверев. — Ты же сам обо всем сговаривался? Сладил все чин по чину еще сколько лет тому, обговорил все до мелочи. Что же тогда ныне крутишь?
— Да есть опаска у меня, княже, — оглянулся в сторону дома Юрий Семенович. — Не хотел племянницу сим раньше времени беспокоить.
— Это как-то связано с объявлением войны одним из грандов испанской короне?
— Ты знаешь? — изумился князь Друцкий. И тут же сообразил: — Ну конечно же барон Тюрго! Столь занимательная история не могла пройти мимо его ушей. Он же тебе благоволит и, мыслю, готов помогать без всякой корысти, коли это не повредит интересам его крохотной Швеции.
— Так это был Карл де Кераль?
— Его отец, — со вздохом признал Юрий Семенович. — Пока гранд чудил, его величество к сему относился снисходительно. Когда же смех иссяк, излишне непокорный дворянин стал казаться ему подозрительным. Мы же не хотим передать Пребрану в семью опальных? Ныне…
Князь запнулся, услышав шаги, — однако это была всего лишь прислуга, выносящая блюда, кувшины и посуду, и Юрий Семенович закончил:
— Ныне я проведать пытаюсь, сколь глубоко недовольство короля и как далеко оно способно зайти, нет ли надежды на милость. Все же дети явно приглянулись друг другу и не хотелось бы столь грубо рушить их надежды. Но коли Филипп окажется непреклонен, род грандов де Кераль окажется нам совсем не ровней. И в таком… О, наконец-то, Полинушка! А мы тебя уже заждались. Идемте к столу, идемте.
— А дети где? — оглянулся Андрей.
— Соскучились они, соскучились, — утешил дядюшка. — Да токмо дело молодое… Как дома усидишь, коли столько веселья вокруг?
Андрей перевел взгляд на жену.
— Еремушка с ними. В обиду не даст, непотребства не допустит, — тут же напомнила Полина. — Да и сами, может статься, встретим. Наверняка у воды дети. Вон как жарко ныне опять…
За завтраком темы для разговора не нашлось. Андрей думал над словами дядюшки и вспоминал вчерашний разговор с Пребраной — но Полину тревожить не хотел. Князь Друцкий тоже поглядывал на племянницу и молчал.
Поев, Зверев переоделся, опоясавшись саблей прямо поверх шелковой сорочки и накинув на плечи плащ — больше от солнца, чем от холода. В голове крутилась мысль, что носить броню в таком климате — самоубийство. Коли не убьют в первый же час — сам запечешься, словно рак в собственной скорлупе.
К счастью, королевский парк находился от дворца грандов де Кераль всего в получасе ходьбы, и вскоре супруги оказались в тени могучих лип и кленов. Здесь действительно было очень красиво: ухоженные широкие дорожки, живые изгороди, пруды и каналы, обложенные благородным ломаным камнем, решетки с вазонами на каждом столбе, много фонтанов — пусть и неработающих, но демонстрирующих хороший вкус королевской четы. Ведь каждый был украшен скульптурой Бахуса, Афины, Медузы, Геракла или иного античного героя. К тому же в чашах фонтанов сохранялась чистая прозрачная вода, и Зверев чуть не из каждой отирал влагой лицо и гладко выбритую по русскому обычаю голову.
К дворцу они не пошли — оттуда доносились звуки стройки: крики, стуки, скрип, поднималась пыль. Вот только пылью дышать в такую жару не хватало! В других же краях сада не то что своих детей — вообще гуляющих не встретили. Вернулись домой к обеду — и там вдруг оказались среди шума и веселья! Под навесом стол стоял накрытый, причем в основном бутылками и кубками, вокруг него несколько молодых людей с завязанными глазами пытались поймать каких-то девушек — но, само собой, все время захватывали только друг друга. Еще один ухарь пытался пройти через лабиринт. Причем тоже — с завязанными глазами, следуя лишь командам одетой в легкое сатиновое платьице Арины. Правда, юбка у платья была довольно пышной и скрывала ноги до пят. Но зато лиф почти полностью открывал грудь.
— Ермолай! А вот тебе глаза завязывать не следовало! — громко посетовал князь Сакульский.
— Батюшка?! — Один из кавалеров, играющих под навесом, метнулся из стороны в сторону, оступился и шумно рухнул прямо в бассейн. Только там он догадался сдернуть повязку, вскочил, оказавшись в воде по грудь. Остальные гости тоже засуетились, снимая повязки, оправляясь, подбирая и нахлобучивая на голову береты и шляпы. Девушки попытались незаметно убрать бутылки, пряча их вниз и прикрывая юбками. На столе оставались вазы с фруктами и множество кубков. Видимо, родителям следовало догадаться, что в них давили сок.
— Батюшка, батюшка! — От дома подбежала Пребрана, ведя за руку раскрасневшегося паренька. — Батюшка, прости, не уследили. Батюшка, это он. Хочу представить тебе гранда Альба Карла Фердинанда Игулада-де-Кераля. Прости, это должен был сделать дядюшка Юрий Семенович, но он, вестимо, в отъезде. А Карл, узнав о твоем приезде, так торопился представиться, что… Его не оказалось дома.
Гышпанец, поняв, что говорят о нем, чуть присел, склонился, отработанным жестом попытался поймать край головного убора — но, как и прочие гости, оказался простоволосым. Тем не менее гранд не смутился, быстро и изящно изобразил рукой несколько уважительных движений, выпрямился, вернув руку к груди.
— И тебе не хворать. — Князь поклонился в ответ: спокойно и с достоинством, в подбородок и без циркачества.
От навеса снова послышался громкий плеск: Ерема, попытавшись вылезти, соскользнул с мокрого камня, ограждающего бассейн, и бухнулся назад.
Гранд де Кераль о чем-то быстро заговорил, кивая и улыбаясь.
— Он очень счастлив тебя видеть, батюшка, — пояснила Пребрана, явно пытаясь переводить. — Он выражает тебе всяческое уважение и восхищение. Еще он меня очень хвалит… — Она зарделась.
— Так он тобой или мной восхищается? — скривился Зверев.
— Ты не прав, батюшка, — мотнула головой девушка. — Гышпанцы о твоих подвигах зело наслышаны. И про набег на сарацин с казаками, и про сечу под Казанью, про мудрость твою огненную. Про поход Литовский.
— Гышпанцы знают про мой поход против ордена крестоносцев? Очень, очень должно быть, добрые у них обо мне отзывы.
Молодые люди перекинулись несколькими словами, и гранд де Кераль снова поклонился.
— Карл говорит, что доблесть и отвага достойны уважения даже у врага. Но ты сражался супротив сарацин куда чаще, нежели против воинства христова. Они считают тебя достойным и важным союзником.
Подбежавший молодой дворянин сунул в руку гранда шляпу с распушенным петушиным пером. Де Кераль надел ее и чуть приосанился, слегка отведя ногу.
Паренек Андрею понравился. Чем-то напоминал он горностая: остролицый, остроносый, темноглазый, поджарый и игривый. Подрастет — заматереет, какие его годы. Веселость пропадет, когда ответственность на плечи свалится. Кто в детстве оболтусом не был? Храбрые витязи, что на Молодях, под Казанью или Юрьевым насмерть стояли, живота не жалея, тоже когда-то и юбки девкам дворовым задирали, и медом хмельным в стогах баловались, и от монастырской грамоты на Ивану Купалу из окон сбегали. Однако же когда Русь на поле ратное призвала — не осрамились ни разу.
Во дворе снова плеснуло, послышался девичий хохот: теперь в бассейне барахтались уже трое кавалеров, поднимая высокие волны. Вода выхлестывала наружу, туда-сюда носились перепуганные карпы, разбивая морды о стены. Похоже, Ермолаю решили помочь, но не рассчитали то ли своих сил, то ли скользкости камня.
— Вы там хоть пару рыбешек на ужин поймайте, коли уж все равно влезли, — предложил Зверев. — Надеюсь, хозяин не возражает.
Гранд, с трудом сдерживая смех, закивал.
— Надеюсь, у них есть водопровод? — поинтересовался князь. — Бассейн, похоже, придется заполнять снова.
Пребрана сказала пару слов жениху, тот ответил, и девушка мотнула головой:
— Карл говорит, они не так ленивы, как в Сеговии.
— Не понял? — вздернул брови князь Сакульский.
— Это давешняя легенда, батюшка. — Дочь сделала пару шагов влево, и они с гышпанцем как бы случайно взялись за руки. — В Сеговии, сказывают, служанка когда-то жила. Ленивая донельзя. Приказали ей как-то хозяева воды в дом натаскать. А ей так не хотелось носить тяжеленные кувшины по крутым городским улочкам! Взяла она да сдуру и предложила дьяволу свою душу, если раньше, чем прокричит петух, нечистый сделает так, что вода сама собой придет к ней в дом. Дьявол услышал, примчался, согласился тут же и принялся за строительство. Девица же, поняв свою ошибку, кинулась истово молиться, взывая к Всевышнему, чтобы не дал дьяволу закончить его работу. И вот бес в поте лица своего возводил акведук, сделав уже половину, как вдруг Господь обрушил на него сильнейшую грозу, мешающую таскать огромные камни. Работа замедлилась, и когда прокричал петух, дьявол издал крик ярости: он не успел положить на место всего один камень, чтобы закончить работу. Служанка, едва рассвело, тут же покаялась в своей вине горожанам. Те долго спорили, но все же ее простили. Затем все вместе поставили на место последний недостающий камень, который дьявол не успел донести, и по акведуку в город пошла вода. Так до сих пор и течет исправно. А на многих камнях того водопровода даже следы когтей бесовских остались. Горожане их приезжим завсегда показывают.
— Ловко устроились, — согласился Зверев, мысленно отметив, что парень еще и не дурак, коли с юмором. — Мы с матушкой пойдем отдохнем после прогулки. Надеюсь, ваши гости останутся к обеду? Может статься, и Юрий Семенович вернуться успеет. Хотя, наверное, это уже не имеет значения.
Перед обедом все прошло уже чинно и благородно: когда князь с княгиней вышли к столу, гранд Карл де Кераль, как человек уже представленный, по очереди подвел остальных гостей:
— Гранд Беренгер Алькала-де-Энарес, наш сосед, — указал он на прыщавого юнца с непропорционально толстыми губами.
— Дон Хуан Вальдес-и-Базан, мой друг, — представил гранд де Кераль другого товарища, похожего на хомячка на толстых ножках из-за штанов-пуфов, похожих на два шарика, и широкого плаща. — Его сестры Августа и Изабелла.
Девушки, явные ровесницы Арины, одновременно присели.
— Альфонс Фарнезе, племянник победителя голландцев, великого воеводы Александра Фарнезе, — во всяком случае, таковым юный безусый Альфонс все еще в мокрых штанах стал в переводе Пребраны.
— Дон Фредерико Гравина, мой друг, и его сестра Изабелла. — Вот Фредерико, бедолаге, с оспой явно пришлось несладко: вся кожа на лице его была бугристой, причем эти бугры полностью сожрали левую бровь. Сестре, прячущейся под густой вуалью, наверняка тоже изрядно досталось.
Как понял князь, те, кого гранд называл друзьями, скорее были детьми боярскими, свитой знатного господина. А вот гранд и бледный, как от малокровия, «племянник воеводы» с Карлом действительно дружили. Во всяком случае — вместе развлекались.
— Рады видеть вас, гости дорогие, — выступила вперед княгиня Полина, — прошу всех к столу. Просто удивительное совпадение! Только вчера батюшка наш Андрей Васильевич приехал, ан и вы тут кстати оказались, вместе сможем порадоваться. День пути до Толедо. Дядюшка Юрий Семенович, мыслю, токмо-токмо туда подъезжает, дабы вас об этой радости упредить. А вы уже здесь.
Пребрана и Карл переглянулись и одновременно приопустили головы, пряча улыбки. Зверев сразу понял, каким образом случилось такое «совпадение». Похоже, молодым людям каждый лишний день, проведенный порознь, казался в тягость. И действительно, при первой же смене блюд гранд де Кераль заговорил.
— Род Игулада-де-Кераль искренне рад, что такой известный воевода посетил нашу страну, — отложив ложку, перевела Пребрана. — Карлу не терпится представить тебя своим родителям. Ты сможешь посетить их завтра?
— В уме ли ты, доченька?! — не выдержала Полина. — Отец, почитай, токмо с седла спешился, духа не успел перевести, а вы его уже опять в путь зовете!
— Ничего, — остановил ее возмущение князь. — Для меня седло место привычное. Не валяться же с боку на бок в безделье? Отчего бы и не познакомиться с родичами будущими, с коими о помолвке издалеча сговаривались.
— Да! — обрадовалась Пребрана.
— Подожди, — покачала головой княгиня. — Как же ты поедешь, коли Юрий Семенович в столицу отъехал?
— Да не пропаду, наверное, без дядюшкиного пригляда, — улыбнулся Андрей. — Чай, не дитя.
— Но речи-то ты здешней не знаешь. Кто толмачить тебе станет? Я дом пока оставить не могу. Да и не сильна все еще в словах гышпанских. Карл, хоть и славный боярин, но с нашей речью незнаком.
— Да, прости, — согласился Андрей. — Совсем из головы вылетело. Одному мне тут вовсе ни с кем не поговорить.
— Я могу перетолмачить! — тут же вызвалась Пребрана. — Я ныне хорошо все понимаю. И сказать, коли понадобится, смогу.
— Как же ты… — попыталась возразить княгиня, но с ходу никаких причин назвать не смогла.
— Так ведь с батюшкой! — с готовностью опровергла девушка.
— И то верно, — согласно кивнул князь. — Завтра хотите отправиться али прямо сейчас?
Дочка замялась, взглянула на жениха и все-таки не стала перегибать палку:
— Конечно, завтра, батюшка. Отдохнете — и поедем.
Гости заночевали во дворце. Андрей не стал ни о чем спрашивать, полагая, что жена, уже успевшая здесь освоиться, сама проследит за соблюдением необходимых приличий.
На рассвете у ворот путников ждали уже оседланные скакуны. Князь выбрал себе в спутники Пахома и Илью, с грандом собрались двое его «друзей». Разумеется, каждый со слугой, и еще двое крепких, но почему-то унылых парней маячили возле де Кераля. Пусть и без оружия: только с саблями и мечами — но отряд собрался немалый, такой любая разбойничья шайка предпочтет стороной обойти.
— Карл предлагает отправиться, пока прохладно, батюшка, — предупредила дочь. — Позавтракаем, когда солнце поднимется. Али ты желаешь сперва покушать?
— Ни к чему, — отмахнулся Зверев. — Здешние люди свой климат лучше знают. Коли считают, что удобнее с пустым брюхом скакать, поскачем так. Нам не привыкать.
Выехав в распахнувшиеся ворота, гранд тут же пустил коня в рысь. Зверев, решив, что тот знает, что делает, поступил так же. Он мчался вторым, как самый родовитый, почти рядом скакала Пребрана, сидя боком в специальном «дамском» седле. От дорожной пыли ее спасала вуаль, наброшенная поверх платка, платье она тоже выбрала из золотистого алтабаса,[8] да еще с замшевыми вошвами чуть ниже плеч и на животе. В таком можно не очень беспокоиться за себя в любую непогоду. Следом заняли позицию холопы. Возможно, боярским детям гранда де Кераль это и не понравилось, но перечить они не стали, подгоняя скакунов вместе со слугами.
Вскачь путники быстро миновали город, втянулись в расселину с серыми гранитными стенами высотой с трехэтажный дом, но уже через полверсты мимо деревеньки из трех домов выбрались на холмистое плоскогорье, засаженное оливковыми и апельсиновыми деревьями — слева от дороги одни, справа другие. Еще час скачки, и гранд де Кераль наконец-то перешел на шаг, давая отдых коням. Дорога же примкнула с самому отвесу из серого гранита, на высоте двух десятков сажен плавно закругляющегося вверх, и нырнула в тень. В прохладе они проскакали версты две, когда Карл де Кераль оглянулся, что-то сказал.
— Отец, он спрашивает, вы хотите трапезничать или потерпите еще немного?
— Пока не так голоден, чтобы ради этого спешиваться.
Пребрана перевела, гранд кивнул и вскоре на развилке повернул в сторону от селения с церквушкой и трактиром. Дорога опять раздалась, пересекая разделанную на вспаханные участки долину, обогнула пологую гору, сваленную из мелкого щебня, стала плавно заворачивать на закат, скользнула под кроны густого соснового леса, а когда снова вынырнула на свет — гышпанец перешел на широкую рысь. Скалы, камни, затянутые переплетением трав тенистые провалы, пара ручьев — и они вдруг оказались на довольно широком и наезженном тракте. Широком для здешних земель — за время долгого пути от Сантандера князь уже научился разбираться в дорогах и тропинках. Путники повернули, и Андрей уже сам увидел впереди прилепившийся к огромной скале замок с тремя тощими башнями подросткового вида и стенами из крупных гранитных блоков. Где-то с высоты третьего этажа в стенах шел ряд остроконечных готических окон, доказывая, что это не просто укрепление в горах, но еще и чье-то жилье.
Ворота у основания одной из башен начали открываться еще до приближения гостей и, выбив копытами звонкую чечетку по подвесному мосту, всадники прямо на рысях влетели под низкую арку — Зверев даже голову пригнул, чтобы лоб о камни не расшибить.
В тесном дворе их встретили, приняли поводья, помогли спуститься. Гранд де Кераль спешился первым и успел принять в свои руки Пребрану. И ведь всего лишь помог — не придерешься. Молодые люди опять сцепились руками, но ненадолго: жених, спохватившись, повернулся к гостю, поклонился, указал в глубину двора:
— Карл желает представить тебя матери, пока слуги готовят пир, — передала его предложение Пребрана. — Ему сказали, что отец обещался вот-вот вернуться. Ему очень жаль, что он не успел предупредить родителей о столь желанном госте.
— Еще бы, все в таких торопях происходит, — покачал головой князь Сакульский, шагая вслед за женихом по узким коридорам и закрученным спиралью лестницам. — Не успел приехать в Аранхуэс, сразу обратно. Немудрено, что никто ни к чему подготовиться не успевает. Нет чтобы по обычаю: сперва гонцов послать, о встрече согласиться. Опосля уговориться о дне, о месте. Собраться чин чином. Глядишь, уже через месяц все бы со всем почтением и собрались. А может статься, и раньше. Позавчера еще токмо в ворота дворца въезжал…
Пребрана, естественно, не то что не отвечала — но и вообще его слов как бы не слышала. Видимо, принимала всерьез. Месяцем раньше, месяцем позже — в этом мире особой задержкой не считалось. Это только для влюбленных каждый час — вечность.
Но тут Андрей увидел такое, что всякие прочие мысли мгновенно вылетели у него из головы: распахнув двустворчатую дверь, юный гранд пропустил князя вперед — и тот оказался в просторной зале, где-то сажен пять на пять, выложенной чистейшим, белым и полупрозрачным, словно лед, мрамором. Два узеньких окна, в две ладони каждое, пропускали достаточно солнца, чтобы мрамор искрился и переливался, подсвечивая снизу обнаженных нимф из красного порфира, замерших у двери с полотенцами и одеждами в руках. В самом центре залы стояла продолговатая кадка из тонких дубовых реек, через ее борта свешивались края простыни. Внутри же, в кадке, в хлопьях пены, сидела женщина лет сорока со смотанными на затылке черными волосами.
Князь вздрогнул от громких слов за спиной, резко обернулся. Пребрана торжественно перевела:
— Донья Каталина Игулада-де-Кераль!
Андрею ничего больше не оставалось, как повернуться к хозяйке замка и отвесить ей вежливый поклон. Женщина в ответ тоже приподнялась в кадке — да так, что из пены выглянули отнюдь не обвисшие крупные груди с коричневыми сосцами — и величаво склонила голову.
— Очень рад знакомству… — окончательно обалдев, промямлил Зверев.
Донья что-то длинно ответила, взмахнув кистями рук и, к счастью, опустила свои прелести обратно в воду.
— Н-н-нда… — кашлянул князь. — Возможно, после долгого путешествия я излишне поторопился со встречей… Э-э-э…
Он оглянулся. Двери были плотно прикрыты — наверное, чтобы не впускать холодок из каменных коридоров. Гранд Альба Карл Фердинанд Игулада — де-Кераль куда-то пропал. А вместе с ним бесследно исчезла и юная княжна.
— Вот так сюрприз… — пробормотал Зверев, обращаясь к женщине.
Она мило улыбнулась, опять расслабленно заговорила, указывая рукой то на окна, то на потолок, сделала кистью непонятный жест, кивнула.
— Да вижу, вижу, — согласился князь. — Слухи о нечистоплотности здешних дворян оказались несколько преувеличены. Это хорошо. Это приятно. Не такие уж вы и свиньи, как всем думалось.
Донья Каталина рассмеялась, плеснула ладонями по пене, потом распустила волосы, сказала что-то еще.
— Надеюсь, ты не зовешь меня к себе в корыто? — уточнил Андрей. — Только этого мне не хватает на чужой стороне при живой жене и дочери за стеной.
Женщина свела ладони, покрутила одну вокруг другой, чуть приопустилась, потом приподнялась, опять мельком продемонстрировав грудь, что-то проговорила, кивнула.
— Вот ведь нечистая сила, как попался, — пожал плечами князь. — То ли в полон взяли и выкуп требуют, то ли самого соблазняют, на милость отдаваясь. Правда, экспериментировать не хочется. Все же почти родственники.
Хозяйка тоже произнесла что-то длинное и согласно закивала.
Таким хитрым способом они беседовали довольно долго, когда двери наконец-то распахнулись, внутрь вошли две служанки в легких платьицах и полотняных фартуках. Одна принесла кувшин воды и тут же перелила его в кадку, вторая принялась за волосы госпожи. Андрей же, пользуясь тем, что дверь осталась приоткрытой, предпочел ретироваться — сперва, естественно, вежливо улыбнувшись и поклонившись.
В коридоре оказалось темно — хоть глаз выколи. Осторожно ступая и расставив руки, Зверев прокрался по коридору, пока не различил впереди светлое пятно. Это оказалась торцевая стена с небольшой бойницей — даже головы не просунуть. Однако вид из нее открывался роскошный: остроконечные скалы напротив, изгиб дороги вдалеке, просвет зеленых полей в ущелье. В полусотне саженей внизу узкий стремительный ручей врезался в камень и разбивался в пену, в мельчайшие брызги. Множество мелких солнечных радуг, перемежаясь яркими цветами, плыли в этом водяном облаке на старую плакучую иву с огромной кроной.
Вот только прохода через окно никуда не было.
Андрей отступил, осматриваясь — и увидел, что падающий из окна свет вырывает из сумрака деревянные ступени. Князь, за неимением выбора, пошел по ним вверх и вскоре столкнулся лицом к лицу с мальчишкой лет двенадцати в зеленой суконной куртке, таких же штанах и в остроконечном колпаке. Зеленом. Мальчишка сказал что-то непонятное.
— Расслабься, ратник, — ответил Зверев, шагнул мимо него к зубцам.
Он находился на одной из башен. Отсюда прекрасно обозревались и вся дорога, и ущелье с ручьем, и долина вдалеке, а также отрог по обратную сторону замка — серый, каменистый, совершенно безжизненный, если не считать отдельных проплешин травы. Двор замка отсюда тоже просматривался великолепно — но там ничего не происходило.
— Ладно, продолжай нести службу, — разрешил князь и стал спускаться обратно.
После спуска по темной лестнице коридор, в который он вышел, показался не столь уж непроглядным — окошко в торцевой стене пропускало достаточно света, чтобы привыкшие к сумраку глаза различали и пол, и стены, и двери по сторонам. Не то что после ослепительной ванной с белой отделкой. Князь без особого труда прошел до следующей лестницы, поднялся на вторую башню, невозмутимо кивнул караульному.
— Не отвлекайся, по сторонам смотри.
Отсюда были видны не только дорога, но и обширная зеленая долина по ту сторону гористой гряды — на горную она все-таки не тянула. Что там росло, на таком расстоянии было не разобрать, но зато хорошо различались крыши пары мелких деревенек примерно в пяти верстах. Наверное, будет заметен и сигнал, если местным жителям понадобится помощь — факел там или яркий флаг.
— Хорошо обосновались, — одобрил Зверев. — Верст двадцать округ надежно с одного места перекрывается. У вас тут, наверное, даже татей никаких нет? Хотя, с другой стороны, кого тогда у каждого замка вешают? Здесь вон, тоже четыре петли. И ни одной свободной…
Караульный указал вперед и что-то пролепетал. Андрей посмотрел в указанном направлении, но ничего не увидел. Если, конечно, гышпанец указывал не на крест, высеченный в скале через ущелье.
— Классная штука! — на всякий случай одобрительно кивнул князь, перекрестился и пошел вниз, к коридору, с третьей попытки наконец-то нашел ступени, уводящие вниз, а не вверх. Из любопытства выглянул в проход этажом ниже — но увидел только стены и двери. А еще на этаж ниже вход и вовсе был заперт толстыми створками с двумя бойницами в каждой: ствол или лезвие в узкую щель протиснуть еще можно, но вот руку — уже вряд ли.
Снизу показался поднимающийся навстречу слуга в простой полотняной одежде. Увидев князя, всплеснул руками, низко поклонился, заголосил, опять поклонился, стал отступать, маня за собой. Андрей кивнул, зашагал следом, спустился на два этажа, свернул в очередной коридор, прошел до конца, повернул направо — и аж зажмурился, оказавшись в светлом просторном зале.
— Батюшка! Куда же вы пропали? Мы так беспокоились!
— Это ты-то беспокоилась?! — возмутился князь. — Кто меня у хозяйки в ванной одного бросил?
— Карлу надобно было о пире побеспокоиться, распоряжения нужные отдать! Я ему помогала, как могла, пока ты с доньей Каталиной беседовал.
— Как я мог с ней беседовать, если она ни слова на нашем языке не понимает, а я по-ихнему?! Ты зачем со мной сюда отправлялась?
— Ой, прости, батюшка, — испуганно прижала ладони ко рту Пребрана. — Забыла совсем…
— Да ладно, чего теперь, — отмахнулся Зверев, которого сейчас куда больше интересовал совсем другой вопрос.
Он окинул взглядом обширную трапезную со сводчатым кирпичным потолком, высокими, никак не застекленными окнами наружу и крохотными — во внутренний двор, большой стол, вокруг которого бегала челядь «друзей» гранда, о чем-то живо беседующих с господином, потом взял дочку за локоть и отвел к ближнему окну, выглянул наружу. Здесь обрыв уходил на глубину саженей этак в полтораста, даже журчание ручья не доносилось. Никаких шансов для штурма, даже если стену пушками разбить. Немудрено, что именно в этом крыле замка хозяева позволили себе парадный зал и большие окна.
— Ну, прости меня, батюшка, прости, — снова заныла девушка. — Не со зла.
— Скажи лучше, почему меня здешняя донья голышом принимает, да еще и в корыте. Я что, похож на банщика, или от меня каких-то доблестей особых для такого случая ожидали?
— Нет, нет, батюшка, ничего дурного, — замотала головой Пребрана. — Здесь, в Гышпании очень многие дамы так поступают. У них и комната для омовения, ровно шкатулка с драгоценностями отделывается, очень дорого. И большие они, дабы много гостей вместить могли. Да ты же сам видел! Самые знатные доньи посетителей к себе на омовение пускают и беседы с ними ведут, дела иные решают. Коли кто чего чурается, так, стало быть, серебра ни на комнату омовений, ни на воду горячую для купаний скопить не способен. Кто же может, часто приемы сии назначают…
— Я и забыл, — признался Зверев. — Дрова дороги. Нечто настолько?
— Так дороги, что иные идальго за всю жизнь токмо дважды и моются, — шепотом пояснила Пребрана. — Один раз при крещении, а другой — перед похоронами.
— Не может быть! Тут такая жара, что хоть каждый день в реках да озерах купайся!
— Гышпанцы верят, что опасно зело сие развлечение. Сказывают, сомы в здешних водах столь велики вырастают, что взрослого человека глотают целиком, он и крикнуть не успевает. Посему бабы здешние белье в проточной воде полоскать боятся. А коли и полощут, то токмо числом большим, да на отмелях. И то, сказывают, что ни год, нескольких сомы утаскивают. А коли королевское купание затевается, то рыбаки загодя сетями реку загораживают, да и само русло по несколько раз бреднями проходят. Я и правда не раз видела, батюшка, как сомов больше меня ростом на торг притаскивали. И Карл с друзьями, коли такое баловство удумают, велят озеро или пруд загодя сетками проверить. В реках же они с друзьями и вовсе не купаются.
— Купание всеобщее, оно у вас тоже голышом?
— Почему голышом, батюшка? — не поняла девушка.
— Ну, донья Каталина как-то особо при купании не смущалась.
— Нет, что ты, батюшка, — замахала руками княжна. — Она чиста и целомудренна. Сие заблуждение из-за обычаев здешних. Здесь дамам грудь свою мужчинам показать не срамно. Вот те крест, не срамно. А вот ногу показать, хоть самый краешек туфельки — это вроде как раздеться донага считается. Никак ни полкрошечки показать нельзя. Токмо мужу али самым близким кавалерам. Забавно, правда, батюшка?
— Забавно, — с усмешкой согласился Зверев.
— Но ты не думай!.. — моментально спохватилась дочь.
— И в мыслях не имел, — остановил ее объяснения князь Сакульский.
Наконец слуги угомонились и выстроились вдоль внутренней стены. Гранд де Кераль со своей свитой отступил к другой стене. Князь с дочерью, по общему примеру, повернулся спиной к окну. Резко распахнулась дверь, в залу вошла донья Каталина Игулада-де-Кераль, в глухом коричневом платье с широким жабо. Края ее широкой юбки и правда скользили по полу, разлохмачиваясь о камень, но зато скрывая ноги целиком и полностью от нескромных взглядов. А вот собранные в высокий конус угольно-черные волосы удерживались лишь небольшой резной шапочкой из тисненой кожи. На Руси подобную модницу моментально сочли бы «простоволосой бесстыдницей».
Все склонились. Князь Сакульский из вежливости тоже опустил голову, а княжна красиво присела, расправив юбки. Хозяйка замка царственно прошествовала во главу стола, опустилась в кресло — кстати, почему-то одно. Второе находилось на другой стороне, напротив доньи. Там, где по русскому обычаю считался «низ» стола, куда сажались самые худородные из гостей, а иной раз, на богатом пиру — и вовсе пускались нищенки с улицы. Теперь Андрей застыл в недоумении. Если пустующее кресло напротив хозяйки закреплено за грандом — где тогда «низ»? И куда ему следует садиться, чтобы не попустить бесчестия?
Между тем Карл де Кераль уже подошел к столу, остановился. Почтительно указал на высокие стулья напротив. Андрей после короткого колебания решил, что оскорблять и принижать его здесь, пожалуй, не станут — не для того приглашали, — и занял указанное место. Все сложили руки перед собой, закрыли глаза и замерли — молились. Потом хозяйка вдруг резко вздохнула и взялась за нож. Заговорила, глядя на гостя.
— Донья Каталина очень довольна вашим диспутом и хотела бы встречаться чаще, — перевела Пребрана. — Ты показал себя… Она сочла тебя весьма разумным, образованным и интересным собеседником. Правда, не очень поняла твое недовольство… Плутархом… Чего именно, по-твоему мнению, не хватает его «Сравнительным биографиям»?
— Мадеры,[9] — мрачно ответил Зверев.
Донья Каталина Игулада-де-Кераль звонко рассмеялась и хлопнула в ладоши.
«Наши люди, — понял Андрей. — Общий язык найдем».
На ночлег гостей разместили в гостевых комнатах прямо над трапезной — в небольших опрятных светелках, в коих, кроме постели под балдахином, шкафа и сундука, ничего не имелось. Все было настолько опрятно и девственно, что сразу становилось понятно — никто тут не живет, никто ничем не пользуется. Княжеские окна выходили во двор, Пребрана же разместилась напротив, и у нее открывался прекрасный вид на изломанный скалами пейзаж. То ли Карл для невесты постарался, то ли хозяйка для успокоения отца разместила девушку так, чтобы окна ее находились над пропастью, а дверь — под родительским присмотром. Не проберешься.
Укладываясь, Андрей и правда невольно прислушивался — не прозвучат ли в коридоре шорохи крадущегося человека? Не скрипнет ли дверь?
Дверь действительно скрипнула. Но прежде чем князь Сакульский успел решить, что ему делать — дочь скользнула в его светелку, прокралась к постели и села на ее край:
— Ну как, батюшка? Спокойна ли твоя душа? Что ты решил?
— Замок сей, спорить не стану, крепок и могуч, внушителен. Он один куда как больше будет, нежели все мои, вместе взятые: и вотчинный двор, и московское подворье, и даже свияжское. Однако же, помни, все наше я един за несколько лет отстроил. Замок же сей род жениха твоего целыми поколениями поднимал. Людишек в нем и полсотни не наберется, кстати. И ведь сие все не Карлу де Кераль принадлежит, а отцу его. Тебе на богатство это рассчитывать не стоит. Пусть иные наследники и не объявятся, однако же все едино родители Карла крепки душой и телом, дай им Бог долгие лета. Он от всех богатств разве отрез малый получить может…
— Перестань, батюшка! — хлопнула она ладонью по одеялу. — О доходах семьи сей ты с самого первого дня знал, когда дядюшка сватовство затевать начал! Отчего теперь попрекать удумал? Мы тебя, почитай, два года ждали, дабы благословение получить… Когда ты волю свою объявишь? И Карла ты ныне знаешь, и гнездо их родовое видел. Люди они открытые и благородные. И не нищие, хоть от приданого не откажутся. Нечто средь всего этого тревоги у тебя какие остались?
— Коли, едва приехав, я тебя на замужество благословлять буду, люди подумают, что мне от дочери избавиться невтерпеж, — памятуя предупреждение князя Друцкого, осторожно ушел от ответа Андрей. — Чего же в этом хорошего? Опять же, с отцом суженого твоего я еще не знаком. Мало ли чего… Где он, отчего скрылся?
— Никуда он не скрывался! Бал королевский объявлен через полмесяца. Гранд Гильермо де Кераль отправился к королю из-за него.
— Это так важно? Просто бал, который к тому же случится еще нескоро.
— Не знаю, батюшка, — пожала плечами дочь. — Наверное, важно, коли так внезапно ускакал.
Семье князя Сакульского приглашения привез дядюшка. Семье — приглашение, самому Андрею — высочайшее соизволение на личную аудиенцию на то же утро. Именно из-за нее гости из далекой Руси отправились в столицу накануне, никуда особо не торопясь.
Между Аранхуэсом и Толедо пейзаж вокруг удивительно напоминал окрестности Рязани: безлесые пологие холмы от горизонта до горизонта, местами распаханные под хлеб или овес, местами заросшие люцерной, местами разгороженные ровными линиями плодовых деревьев. Все бы как дома — если бы не жуткая, изнуряющая жара. Женщины прятались от нее под навесом коляски, князь Друцкий мужественно терпел. Андрей с сыном, презрев опасность сомов-людоедов, аж два раза за полдня пути искупались в Тахо, в теплой, как парное молоко, воде.
Столица открылась неожиданно. Только что вокруг возвышались каменистые отроги, вдоль реки поднимался камыш и чахлый ивняк, вилась из-под копыт тонкая, как мука, пыль. Как вдруг, сразу после поворота перед излучиной, по сторонам обнаружились стены, в лицо дохнуло влагой, зашумела через перекаты река, над которой выгнулся длинный изящный арочный мост, подковы зацокали по каменной мостовой, а над головой взметнулись к небу острые шпили четырех башен королевского замка Алькасар. За крепостной стеной, на скалистом правом берегу, сложенные из грубо колотого камня дома жались друг к другу так плотно, что коляска еле-еле протискивалась между стенами. Зато — прямо поверх всей улицы на высоте второго этажа здесь был натянут бесконечный полотняный навес. В его тени путники наконец-то перевели дух и благополучно доехали до богатого трактира, в котором предусмотрительный князь Друцкий заранее заказал комнаты для всех.
Наверное, это небольшое путешествие и еще один постоялый двор из многих сотен, в которых ему пришлось останавливаться, не запомнились бы князю, если б не пустяк: он впервые узнал, почему в европейских городах так много узких улиц. Между трактиром и домом напротив улочка была тоже всего в три шага шириной. На нее выходили окна здешней трапезной. Когда Андрей увидел, как служка выливает ведро с помоями из кухни прямо за ставни, он встал и выглянул наружу. Оказалось — проулок намертво загорожен с обеих сторон, и в нем бегает не меньше трех десятков мелких поросят и крупных откормленных хрюшек, подбирая объедки.
— Хорошо хоть, наши окна в другую сторону выходят, — сказал он, возвращаясь к столу. — Скажите хозяину, мы будем трапезничать в комнатах. Пусть отнесут угощение туда.
Остаток дня был посвящен покупкам. Шить какие-либо наряды было уже поздно, однако женщинам, как всегда, все равно нашлось что прикупить: платочки, сережки, колечки, заколки и прочую чепуху. Андрей же твердо решил под туземцев не подстраиваться и для визита к королю Гышпании выбрал парадную, шитую золотой нитью и украшенную янтарными пуговицами зеленую ферязь, которую накинул поверх шелковой рубашки, зеленые же атласные шаровары и тонкие сафьяновые сапоги. Головного убора надевать не стал, оставил только тафью. В общем, пошел налегке: жарко. Саблю по совету дядюшки брать не стал — все равно с оружием до королевской четы не допустят.
От постоялого двора до замка они дошли пешком, благо было недалеко. Столица поразила Андрея обилием и разнообразием камня. Здесь были и крупные валуны в десятки пудов, которыми обычно обкладывали углы зданий, и мелкая крошка, словно заваленная в каркас вперемешку с раствором, и кладка полигональная, когда камни словно сплетаются в кружева, «затекая» один в другой, и обычная ровная кладка из гранитных прямоугольных кирпичей.
Но королевский дворец, как ему и полагалось, был уникален. От всех прочих зданий он отстоял на расстоянии мушкетного выстрела и возвышался на своей, отдельной скале. Форму он имел идеального квадрата, словно задумывался памятником Евклиду, основателю геометрии. Стены — бледно-розовые, из мелких камней. Угловые башни с шатрами в виде пик — чисто-белые, из ровных многопудовых блоков. Удивляли окна — слишком большие для замка. Имея хорошую лестницу-в них заберется даже ленивый толстый боров. Впрочем, возможно, окна предполагалось использовать как пушечные амбразуры. Единственная дань разуму — повернутые ворота, подставляющие желающих выломать створки под кинжальный огонь из башен и окон сверху.
Многочисленная стража в начищенных кирасах пряталась, естественно, в тени. Но даже здесь они имели вид сонных мух и на гостей не обратили ни малейшего внимания. Впрочем, князь Друцкий ориентировался в Алькасаре весьма уверенно, и больше того — несколько раз раскланивался со встречными грандами. То есть — его здесь знали. Успел, однако, освоиться.
Как-то незаметно — ни стражи, ни дверей — они оказались в задрапированной тяжелым бордовым бархатом зале, наполненной людьми. Дядюшка оглянулся на Андрея, начал не спеша пробираться вперед, остановился, снова оглянулся на спутника. Зверев подступил ближе.
— Сейчас выйдем вперед и низко поклонимся их величествам, — предупредил Юрий Семенович. — Рук им целовать не нужно, ближе пяти шагов подходить тоже.
— К кому? — не понял князь Сакульский.
Но тут послышался громкий стук и хорошо поставленный голос произнес:
— Knyaz' Yurii Druckii, knyaz' Andrei Sakul'skii!
Свою фамилию Зверев узнал, вместе с дядюшкой прошел меж расступившимися гышпанцами в центр залы, почтительно поклонился — не в пояс, разумеется, как только царю кланяются, но достаточно низко, выпрямился, только теперь получив возможность спокойно рассмотреть королевскую семью.
Король Филипп был гладок лицом, носил совсем коротенькую черную бородку и усы. Его простой черный пурпуан то ли прикрывал широкие плечи, то ли превращал в такие те, что есть. Бархатный берет с павлиньим пером подчеркивал овал лица. Вот только глаза властителя здешних земель показались Андрею грустными и усталыми.
Ее величество тоже была одета в черное. Но чернота ее платья лишь подчеркивала блеск серебряных пуговиц, украшенных изумрудами[10] и серебряных же бляшек схожего рисунка, идущих вокруг талии и от плеч вниз, образуя стрелку, указывающую куда-то вниз. С ее шеи свисала двойная жемчужная нить, жемчугом же украшался и чепец, укрывающий волосы. Лицо королевы Елизаветы было бледным и хрупким, словно выточенным из слоновой кости: тонкий нос, тонкие губы, острый подбородок с ямочкой, изящно изогнутые брови, аккуратные ушки с крохотными изумрудными капельками на мочках.
Король кивнул, о чем-то заговорил:
— Он много слышал про тебя, про Русь и про нашего государя, — кратко передал князь Друцкий. — Удивляется…
Он перешел на местное наречие, о чем-то довольно долго говорил, кивнул, расшаркался.
— Что ты говоришь? — спросил его Андрей.
— Потом объясню, — с улыбкой снова расшаркался перед королем дядя.
Тот вскинул подбородок, поджал губы, произнес еще несколько слов. Юрий Семенович повернулся к Звереву:
— Не беспокойся, княже. Никакого урону ни твоей чести, ни чести государя Иоанна Васильевича я не допущу.
— О чем вы хоть говорите?
— Про выборы польские, коли коротко.
— Об этом я только краем уха слышал. Да и то давно, еще до отъезда из Москвы.
Юрий Семенович согласно кивнул, повернулся к королю, заговорил. И опять — долго. Тот пару раз кивнул, откинулся на спинку трона, указал на Андрея пальцем, задал вопрос.
— Его величеству интересно, сколько городов ты спалил при набеге на османов.
— В Крыму, что ли? Не знаю даже. Два или три. Как считать. Крепость большая, но не заселенная, это как?
Князь Друцкий кивнул. Коротко перевел. Король вскинул брови, поощрительно несколько раз похлопал в ладони. В разговор вступила ее величество. Дядюшка почтительно закивал.
— Юрий Семенович, что ты там наговорил?
— Потом…
— Как потом?! — зашипел князь Сакульский от злости и бессилия. — Я хочу знать, чего вы там про меня говорите!
Юрий Семенович, склонил перед королевой голову, повернулся к князю:
— Я перевел в точности, как ты и сказал. Что не можешь ты счесть эти города. Сжег несчитано.
— Но я… — опешил от такого известия Зверев.
— Покажи королеве, Андрей Васильевич, какой длины у тебя сабля?
В первый миг Зверев потянулся к поясу, но спохватился и просто развел руки примерно на нужную ширину.
Ее величество Елизавета вскинула изящную ладошку ко рту. Произнесла несколько слов.
— Что теперь? — повернулся к дядюшке Зверев.
— Потом расскажу.
— Юрий Семенович! — Князь начал терять терпение.
— Молчи, Андрей Васильевич. Короли не должны ждать. Сперва отвечу, потом объясню… — И он снова повернулся к ее величеству, перейдя на гышпанский, с минуту что-то объяснял. Королева милостиво внимала, перенесла ладонь на руку мужа, тот тоже кивнул, сказал несколько слов.
— Вот мы и приглашены на бал, — перевел дядюшка. — Кланяемся и уходим.
Андрей послушался. Но когда они оказались за спинами прочих гостей, решительно повернулся к родичу:
— Что ты там про меня наговорил, Юрий Семенович?!
— Про тебя, почитай, и ничего. Токмо про отвагу твою пару раз напомнил. Ты не горячись, Андрей Васильевич. Ты меня, старика, слушай. Королям нельзя перечить. Королей нельзя заставлять ждать. Им нужно говорить то, что они хотят услышать. И тогда ты всегда будешь в фаворе.
— И чего же ты им промолвил и зачем меня спросили про саблю?
— Ой, Андрей Васильевич, — тяжко вздохнул князь Друцкий. — Поперва он интересовался, как столь славный витязь, как ты, служит такому господину, как Иоанн Васильевич.
— Чем ему не нравится наш царь?! — повысил голос Зверев.
— Я же пояснил его величеству, что ныне в Польше выборы случились. Ляхи меж четырех государей самого лучшего себе на трон выбирают. И за самого лучшего все честные шляхтичи, само собой, Иоанна Васильевича считают. И посему сторонники других кандидатов великое множество самого разного вранья про него придумывают, дабы своих неудачников возвысить. Врут всего преизрядно: и что казнил многие тысячи людей виновных без разбора, и что города дочиста разорял, и что хмельные вина пьет беспробудно и кровавые оргии устраивает, и что жен у него аж целых семь исхитрились придумать и много еще всякой разной наиглупейшей всячины. Но такой мудрый король, как Филипп, всему этому больному бреду верить, конечно же, не должен. Желая трон получить, про более достойного соперника еще и не такое вранье придумать могут.
— То верно, — согласился, успокаиваясь, Зверев. — Это ты правильно объяснил, Юрий Семенович. Я бы, пожалуй, так с ходу все разложить по полочкам и не смог. А саблю мою зачем показать было нужно?
— Тут странник какой-то, сказывают, из краев наших вернулся, — тихо засмеялся князь. — Сказывал, живет в море возле Астрахани страшный зверь с двух драконов размером. Когда проголодается, кидается на людей и сожрать пытается. Телом же он столь велик, что, из моря выходя, волну громадную перед собой гонит. Посему жители наши поволжские запруды всякие строят. Когда зверь выходит, волна в запруду захлестывает, а потом стекает. Рыба же остается. Люди рыбу эту собирают и тем живут. Ну а кто зазевается, того зверь сей глотает. Иногда целые лодки с людьми прямо целиком.
— Что за чушь? — фыркнул Андрей.
— Хорошая чушь, — не согласился князь Друцкий. — Чем страшнее чудища в наших землях и реках, тем меньше желающих в них заплывать. Зачем нам чужаки? Пусть через нас с персами, бухарцами и китайцами торгуют. Лишний прибыток ни казне, ни нам с тобой не помешает.
— И ты, Юрий Семенович, сказал королеве то, что ей хотелось услышать больше всего… — обреченно кивнул Зверев.
— А ты, Андрей Васильевич, показал, какого размера клыки у этого зверя.
— Ох, дядюшка, дядюшка, — покачал головой князь Сакульский, но уже без всякой злости.
— Зато теперь мы считаемся умными, интересными и полезными собеседниками, имеем приглашение на бал, о котором ранее токмо намекалось, и уже явно можем воспользоваться благожелательностью их величеств, если не станем просить слишком многого. Однако же я не вижу гранда Гильермо. Неужели его не допустили ко двору? Это будет весьма печально…
На обед князья оставаться не стали. Иначе их дамам пришлось бы отправляться на бал без сопровождения мужчин, что выглядело бы не очень хорошо. К тому же дядюшка хотел еще и переодеться. Гости из далекой Руси подкрепились, после чего дамы затянулись в корсеты, нырнули в рубахи, поверх которых надели жесткие, как рыцарские доспехи, тяжелые платья.
В этот раз до дворца добирались в коляске — как из приличия, так и потому, что в бальных платьях дамы были не самые лучшие ходоки. Солнце уже садилось, но зной все еще висел в воздухе, и потому все они облегченно вздохнули, оказавшись в прохладном полумраке каменного замка. Князь Друцкий не растерялся и в этот раз: пара поворотов, подъем на этаж, уверенная прогулка по гульбищу внутреннего двора — и они попали в просторный зал, освещенный сотнями свечей. Примерно по десятку на каждого из собравшихся гостей.
Исключая князя Сакульского в ферязи и шароварах, все прочие мужчины были одеты примерно одинаково: туфли с бантиком, суконные чулки, пухлые пуфы на бедрах и короткий камзольчик. Различия заключались только в расцветках и степени пухлости оных пуфов: у кого-то они напоминали туго надутые круглые воздушные шары, у кого-то — обвисшие и полупустые чересседельные сумки. В дамских платьях встречалось куда больше разнообразия. Одни женщины носили пухлые жабо, другие — плотно облегающие горло стойки, у кого-то рукава были из толстых тканей с разрезом сбоку, как на московских русских шубах. Через разрезы доньи просовывали руки в легких ярких рукавах, другие дамы предпочитали платья без тяжелых верхних рукавов, но при этом нижние имели немалую пухлость. Иные имели валики на плечах разного размера. Кое-кто предпочитал крой с покатыми переходами. Однако все, все до единого платья, помимо широкой низкой юбки, объединяло еще две черты: глухо закрытый лиф и рукава ниже запястья.
— Ты же говорила, здешние красавицы скрывают ноги, но открывают грудь? — повернулся Зверев к дочери.
— Это придворный этикет, — вместо нее ответил дядюшка. — Филипп, как и его отец, истовые католики, не допускают и малых вольностей. Даже государь Иоанн Васильевич рядом с ними покажется вольнодумцем. Посему, что допустимо в иных местах, при дворе карается со всей строгостью.
— Несчастная королева Елизавета, — сочувствующе добавила Пребрана. — Зело страдает от сих тягот. При французском дворе она была великой модницей, примером для подражания. Здесь же заперта, ровно в панцирь. Чего токмо и смогла добиться, так разрешения на купания по французскому обычаю, прогулки увеселительные на лодках да самоцветы прилюдно показывать.
— Иные дамы хоть на своих балах али в замках вольны лучшей моде следовать, — поддакнула Арина, — она же этикетом связана с утра до ночи, ни единого просвета или роздыха.
— Бедная девочка, — подвела итог Полина.
— Вы бы потише все-таки ее величество жалели, — посоветовал дядюшка.
— Да какая разница? — с детским легкомыслием отмахнулась Арина. — Все едино тут никто речей наших не разумеет.
За такими спорами они ухитрились упустить момент выхода их величеств в зал и спохватились только, когда Филипп и Елизавета начали бал величественной паваной: взявшись за руки, они чуть сходились, расходились, двигались по кругу. Иногда танцоры позволяли себе взмах руки или поворот головы — и ничего более. Полина была совершенно права: подобными танцами до бесчестья или пошлости опуститься невозможно.
Вслед за королевской четой настала очередь сразу нескольких наиболее знатных пар. И тут, увы, князь Сакульский ничего не мог поделать. Несмотря на свой высший среди окружающих титул — танцевать он просто не умел. На третий тур оказались допущены уже все. Ермолай неожиданно оказался в самой гуще выстроившихся пар рядом с какой-то девушкой; Арину, спросив разрешения, увел подтянутый аристократ, в котором князь далеко не сразу узнал недавно представленного ему Альфонса Фарнезе.
— Многообещающая партия, — вполголоса просветил Зверева князь Друцкий. — Не самый знатный, но весьма богат. Близок к трону, король ему благоволит. От родителей ему досталось немало славы, и он весьма умело пользуется этим наследием. А вот из дома Игулада-де-Кераль мы не видим никого вовсе. Похоже, его величество непреклонен и твердо решил подвергнуть их опале. Бунтари не любы никому, даже в виде скоморохов.
— Может статься, они просто не смогли.
— Королевский двор не то место, где бывают случайности, а королевский бал не тот праздник, который возможно проболеть, — нравоучительно ответил князь Друцкий. — Король может кого-то покарать, но не прогнать. Коли наказанный попал на бал — значит, милость от него не отвернулась. Король может не наказывать, но при этом не допускать. Это намного хуже. Это значит, что король не желает тебя видеть. А когда король тебя не видит — ты не можешь ничего у него испросить, ты не получишь никаких наград или поручений, ты не сделаешь карьеры. Если тебя нет при дворе, то ты почти что мертв. Пока гранд Гильермо допускался ко двору, меня не особо беспокоила даже война, объявленная им Филиппу. Но теперь… Но теперь все меняется. Если дом Игулада-де-Кераль в опале, то Карл не то что высокого назначения получить, он даже простого известия Филиппу передать не сможет! В лучшем случае он будет призван мелким сержантом вместе с полусотней своих копейщиков. И никто даже имени его не вспомнит, пусть даже он окажется среди победителей в самой славной войне. Воеводой ему не стать уже никогда. Королевскую милость невозможно заменить ничем, Андрей Васильевич. Даже деньгами. Хотя денег в роду Игулада-де-Кераль ныне тоже не особо водится.
— Может, все же помешало что-то? — неуверенно повторил Зверев.
— Сразу всем? — скривился Юрий Семенович. — Донья Каталина не захотела похвалиться новым платьем, гранд Гильермо не захотел предстать пред королем, который обещал ему дело, достойное его меча, а Карл де Кераль не пожелал вывести на павану свою невесту? Так вот вдруг обезумели всей семьей? Попомни мое слово, уже завтра ты не увидишь рядом с грандом де Кераль ни единого из прежних его друзей. Ведь их отсутствие заметил отнюдь не я один. Они в опале… Хотелось бы узнать, насколько сильной. Король ведь не шутил, обещая ему достойное поручение. Королевское слово слишком ценно для этого. Значит, все уже решено. Эх, писаря бы спросить. От них за пару гривен завсегда тайну на сто дукатов купить можно. Да токмо не зовут таковую прислугу на королевские балы… О, вот кто может проговориться, — встрепенулся князь Друцкий. — Дон Альба!
И он стал не спеша, с улыбками и поклонами, пробираться вдоль стены.
— Карла отправят в ссылку? — с тревогой спросила побледневшая Пребрана.
— Не бойся, никуда твоего суженого не сошлют, — без всякой уверенности ответила княгиня. — Дядюшка ведь сказал, что назначение достойное его отцу король Филипп приготовил. Ссыльных же постами достойными не награждают.
Андрей благоразумно промолчал, провожая Юрия Семеновича взглядом.
Павана сменилась скользящим бас-дансем, бас-данс — эстампидой, похожей на прощупывание минного поля пальцами ноги, эстампида — курантой. Князь Друцкий не возвращался. Затем ведущий снова объявил павану, и на этот раз Пребрану пригласили: какой-то престарелый дон с тонкой, словно заточенной на клин бородкой. Он же танцевал с княжной и бас-данс, после чего, к облегчению Пребраны, бесследно исчез.
Князь Друцкий вернулся только к самому концу бала, перед уходом их величеств, и с разрешения Андрея вывел Полину на прощальную куранту. А вернувшись, кратко объявил:
— Его величество не желал видеть гранда Гильермо, дабы не портить праздника. Свою волю ему он объявит на будущей седмице, когда двор развеется после сегодняшних торжеств.
Истинность утверждений дядюшки о дружбе князьям проверить не удалось: в ближайшие дни гранд де Кераль на отданном невесте дворе в Аранхуэсе не появлялся. Зато знатные соседи гранд Беренгер Алькала-де-Энарес и Альфонс Фарнезе с сестрами заходили, вызывали княжон на прогулки. С ними, разумеется, уходил и Ермолай, но без особого восторга. Видать, эти красавицы его сердца тронуть не смогли.
Страшное известие привез, понятно, князь Юрий Семенович. Именно он проводил при гышпанском дворе куда больше времени, нежели с родственниками. Говорить много не стал. Испив с дороги разведенного вина, просто и прямо сообщил:
— Род де Кераль изгоняют. Его величество объявил, что направляет гранда Гильермо наместником в южные колонии, полвека тому основанные грандом Педро де Мендоса. И тогда же заброшенные. Это так далеко, что королевского двора ни гранду, ни его сыну, мыслю, больше уже не видать. Они должны будут жить на краю света, исполняя его волю. Это конец. Они потеряют свои связи и знакомства, их замок потихоньку приберут себе родичи. Пройдет лет пять, и здесь о них не вспомнит уже никто. Зачем просить короля о помиловании, рискуя навлечь на себя его гнев, за тех, кого не видишь и не слышишь и от кого невозможно ожидать ответного заступничества? Пребрана дома?
— Нет, гуляет с гостями, — покачала головой Полина.
— Помолвку надобно разрывать. Такие родичи нам ни к чему. С княжеским приданым и познатнее найдем.
— Нехорошо как-то, — неуверенно ответила княгиня. — Сговорились вроде как честь по чести, дети наши друг другу по душе пришлись. И вдруг рвать все разом и забывать все обещания.
— А коли Пребрана женой каторжника окажется, сие хорошо будет? — решительно отрезал дядюшка. — У нее ведь вся жизнь прахом пойдет, новой же Господь не подарит. Да и нам какой прок от родичей таких, что по влиянию своему десятника из дальнего гарнизона не превосходят?
— Ну, насчет каторжанина, Юрий Семенович, ты, конечно, загнул… — возразил Зверев.
— Что нам за дело — каторжанин али надсмотрщик при каторге? — пожал плечами князь Друцкий. — Все едино не постельничий, не виночерпий и не воевода. Кабы простой идальго был… А знатному человеку от такого поста никакой чести.
— Куда, сказываешь, их ссылают, Юрий Семенович? — переспросил Зверев.
— За море, в некие южные земли, — ответил дядюшка. — Сказывают, туда токмо плыть больше месяца выходит. Гран Педро де Мендоса открыл сии края далекие полвека назад, срубил поселение первое, окрестные места описал. Однако же вскоре попытался вернуться и на обратном пути преставился. Иные же корабли, в тот край отправленные, токмо развалины нашли. Посему более они корону не беспокоили. Ныне же его величество гранда Гильермо Игулада-де-Кераль вдруг решил наместником послать. Места более дальнего и дикого, знамо дело, ныне не сыскать. Вестимо, специально подбирал прочим бунтарям в назидание.
— Да уж, постарался, — согласился Андрей.
— Дон Альфонс хорошая партия… — Дядюшка снова припал к разбавленному вину, утоляя жажду, оторвался: — Токмо неясно, у него и вправду интерес серьезный к княжне Арине имеется, али мысли у них токмо амурные и ничего более?
— Как Пребране сказать, даже не представляю, — вздохнула княгиня и обняла Андрея. — Она уж сколько мыслей о свадьбе с Карлом пересказала, не счесть. Жалость-то какая.
Молодые люди вернулись незадолго до заката. Гышпанцы остаться на ужин отказались, откланялись. Княжны же еще долго вздыхали, витая мыслями где-то в облаках. Пока они успокоились, пока переоделись, пока прислуга накрыла на стол — ужинала княжеская семья уже при свете факелов, придававших воде в бассейне зловещий красноватый оттенок и заставляющих тени выплясывать на стенах двора зловещий дикарский танец. О гранде де Кераль разговора случайно не зашло, специально о нем никто вспоминать не стал. Посему к себе в светелку Пребрана ушла, так и не узнав о резком изменении своей судьбы. Вслед ушли Арина с Ермолаем. Князь и княгиня еще задержались, неспешно допивая легкую сладкую сангрию. Однако разговор не задался. Не то у всех было настроение для праздной болтовни.
— Нет! Не-е-ет!!! Почему?! Ну почему? Не хочу! Не хочу!!! Все равно! Все равно! — Когда Пребрана влетела в княжескую опочивальню, она уже была вся в слезах. И, похоже, даже не заметила, что отец стоит полуголым: Андрей как раз переодевался после утреннего купания. — Батюшка, почему? Ну за что?!
— Так о тебе ведь заботимся… — Князь понял, о чем идет речь, без дополнительных пояснений. — Не желаем, чтобы ты в нищей семье, в прохудившейся хибаре с детьми голодала…
Зверев ответил — и сам же понял, что в своих эпитетах очень и очень сильно погорячился. При всей своей небогатости и при всей королевской опале семья грандов де Кераль явно не относилась к тем, кому не хватит золота на корку хлеба или пары сантимов на особняк в богатом городе. Шиковать шелками на холопах или самоцветами на упряжи они, может статься, и не способны — но уж прокормить не только себя, но и несколько десятков слуг им по силам. Либо — с помощью этих нескольких десятков обеспечить припасами себя.
— Он меня не из-за денег любит! — ударила кулаками его по груди Пребрана. — Люб он мне, ты слышишь, люб! Не пойду за другого! Я с ним убегу! Я в монастырь постригусь! Я царю в ноги кинусь!
Она опять бессильно заплакала, и Андрей смог обнять свою дочку, погладить ее по голове.
— Не пойду! Не пойду, — всхлипывала она уже вовсе непонятно о чем. И вдруг жестко заявила: — Я убегу!
— Не делай глупости, — посоветовал Зверев, который, прижимая к себе вздрагивающую девочку, на время забыл о принятом накануне решении. — Пока вместе, всегда что-нибудь придумать можно. Одна совсем беззащитной останешься. Счастья не найдешь, жизнь покалечишь.
— Ты выдашь меня замуж за Карла? — моментально вскинула голову дочь. — От слова не откажешься?
— Как у тебя все быстро! Подумать нужно. Вдруг выход какой и найдется.
— Отдашь за Карла? — Она всхлипнула, но уже не так влажно.
— Я пока еще думаю, — покачал головой Андрей.
— А дядюшка не против будет? — неуверенно спросила она.
— Ну, положим, отец тебе все-таки я, а не он, — возмутился Зверев. — И к тому же еще ничего не решено!
— Я люблю тебя, батюшка! — окончательно повеселела Пребрана и выскочила прочь.
Князь Сакульский, уже понимая, что наговорил лишнего, не спеша влез в легкую шелковую рубашку, холодящую кожу, опоясался саблей, напялил на голову модный в здешних краях широкий берет, прикрывающий от солнца не только голову, но и лицо. Мысленно пожалел, что до сих пор никто еще не изобрел длинного козырька, и вышел на солнце.
Дядюшка уже бегал недовольно под навесом, то и дело задевая пустой стол, Полина сидела на скамеечке и говорила ему что-то утешительное. Зверев подошел ближе — Юрий Семенович вскинул голову и, даже не поздоровавшись, спросил:
— Никак забыл, княже, о чем мы вчера беседовали?
Видно, разозлился не на шутку.
— Любовь зла, — пожал плечами Андрей. — Сегодня калеными щипцами вырвем — на всю жизнь в душе дыра кровоточащая останется.
— Я ей что, любить запрещаю кого хочется? Пусть любит! Токмо замуж за голодранца гышпанского княжну отдавать нельзя.
— По роду-то ведь знатен, — напомнил Зверев.
— Род — он при дворе да в обществе важен. В земле же дикой, как в бане, все равны. Туда он, кстати, и отправляется!
— Может, Юрий Семенович, мы его тогда к себе заберем, в отчину? — осторожно предложила княгиня. Материнское сердце, видно, тоже дало слабину при виде детских слез.
— А проку там от него? Приживалкой держать? — зло ответил князь Друцкий. — Нечто вам холопов мало? У него же, окромя меча и гордыни, и нет ничего! Копейщики отцовские с хозяином за море поплывут, содержание ему никто не определит, им тут самим концы с концами не свести. У нас при дворе государь на службу его по местническому обычаю разве в писари возьмет Посольского приказа. Хотя нет, и туда не годен. Речи русской не разумеет. Вот разве боярским сыном при Андрее Васильевиче. Почитай, холопом и есть! Княжну Сакульскую за холопа замуж отдать! Это вы так ее, стало быть, любите, отец с матушкой?!
За воротами заржали лошади, кто-то спешился, и через миг на двор вбежал самолично гранд Карл де Кераль, словно прослышавший, что речь зашла о нем. Пребрана, вскрикнув, выбежала из-под гульбища и уже совсем откровенно кинулась в объятия. Жених прижал ее к себе, поцеловал в глаза, взял за руку и вместе с нею направился к навесу.
— Разрывай помолвку, — приказным тоном посоветовал князь Друцкий. — Самый момент. Он признается, что в опале, ты же, коли так, откажешь ему в руке княжны. Пожалей дочь свою, Андрей Васильевич. Погрустит, поплачет, опосля сама же благодарна будет.
Гышпанец остановился перед помостом, скинул шляпу, заговорил.
— Он понимает, что ныне положение его рода не самое почетное, — перевела Пребрана. — Но он просит не отказывать ему в руке… Ему не нужно приданого. Он лишь… — Девушка сбилась с перевода и зарделась, перевела дух и продолжила: — Он согласен на все, что только пожелаете, если помолвка не разорвется. Совсем на все!
Последнюю фразу она, похоже, добавила от себя.
— На что ему соглашаться, коли он гол как сокол? — отвернулся от гышпанца князь Друцкий. — Прогоняй его, Андрей Васильевич, прогоняй. Токмо в приживальщики ныне и годен. Мы для Пребраны более солидную партию подберем.
— На что он готов ради твоей руки? — спросил Андрей. — Ну же, Пребрана, переводи: что он готов сделать ради того, чтобы ты стала его женой?
Гранд де Кераль ответил горячо и страстно.
— Он готов отдать за меня свою жизнь! — не менее гордо перевела дочь.
— Ради твоей руки он готов оставить тебя вдовой? — скривился Зверев. — Стоит ли тогда начинать наш разговор?
Молодые торопливо начали что-то обсуждать, пока, наконец, Пребрана не передала его ответ:
— Он готов согласиться на все, что вы потребуете…
— Не густо, — подвел итог князь Сакульский. — На все согласен, ничего не может.
— Я готова с ним хоть простой крестьянкой остаться! — решительно заявила княжна, хватая жениха за руку. — Лишь бы рядом быть, никакого злата не надобно!
На щеку девушки выкатилась искренняя слеза.
— С детьми разговаривать бесполезно, — вздохнул Зверев. — Ладно, долго шли к венчанию, не станем спешить и с разводом. Полина, кто тут лошадьми заведует? Вели седлать, поеду с грандом Гильермо познакомлюсь. Может, хоть он чего внятного ответить сможет. И смотри, Пребрана, — твердо добавил он, — коли и отец его только умереть будет готов… Переводить не надо.
— Я с тобой поеду, батюшка, — еще крепче вцепилась в жениха девушка. — Ты же языка не разумеешь. Я переведу.
— И я поеду, — решилась княгиня. — Ум хорошо, а два лучше.
— Меня возьми, отец, — предложил, выйдя из дома, Ермолай. — Сестра, вон, еле на ногах стоит. Помогу, да и глаголить по-здешнему не хуже Пребраны умею.
— Ну, тогда уж и я, — деланно закряхтел князь Друцкий. — Уважьте старика, не бросайте при сем любопытном деле. Авось, и мой совет на что сгодится.
— Арины не слышно, — обернулся к дому Зверев.
— Да, батюшка, я тоже! — ответил ее голос из темноты приоткрытой двери.
По такому случаю пришлось закладывать коляску, и все равно — лошадей не хватило. Ведь изрядно загнанных скакунов гранда и двух его холопов пришлось оставить на отдых. Поэтому к родовому замку жениха отправились вовсе без прислуги. Токмо Пахом, раз уж седла не хватило, невозмутимо занял место на козлах, сдвинув с них хозяйского конюха.
Коней путники гнали не жалеючи, и потому в ворота родового гнезда Карла де Кераль гости влетели задолго до сумерек. Хозяева, понятно, встретить их не успели. Дворовой человек обмолвился, что в трапезной гранд горюет — и князья, княжны и княжичи поднялись все вместе в пиршественную залу.
Гранд Гильермо Игулада-де-Кераль сидел во главе стола в гордом одиночестве. Если не считать, конечно, за собеседника большой серебряный кувшин, покрытый тонкой чеканкой, в которой легко угадывалась арабская вязь. Ну и кубок того же рисунка, разумеется. Внешне отец жениха удивительно походил на короля Филиппа: тот же овал лица, те же губы, брови, глаза. И одежда очень похожая: просторный колет с надставными плечами. Мельком глянешь — король испанский и есть.
В первый миг Зверев подумал, что хозяин замка от печали изволил напиться, но когда Карл, кинувшись к отцу, о чем-то заговорил, тот отвечал ему вполне внятно и уверенно, лишь иногда ненадолго задумываясь или колеблясь.
— Сказывает, нет у него ничего больше, — не поленился шепотом перевести Звереву на ухо дядюшка. — Всех своих копейщиков до единого придется ему взять с собой, ибо без ратников в диких землях не обойтись, замок и окрестные земли никому он передать не способен, ибо они майоратные,[11] прочее же добро, виллы и дворы, вестимо, им придется продать, дабы расплатиться с долгами и достойно снарядиться в дорогу. Я же говорил, они совершенно бесполезны. Опала совершенно послала их по миру.
— По миру, по миру… — буркнул Зверев. — По миру — это куда?
Карл и Пребрана обернулись на его голос, перемолвились и крепче схватились за руки, во взгляде их появилась какая-то отчаянность.
— Так куда вас король отсылает, сказать можете? — повторил вопрос князь.
— За море, — ответила Пребрана.
— Куда именно?
Дочь переспросила жениха, он отца, гранд неопределенно махнул рукой — и его ответ вернулся по той же цепочке:
— Далеко за море…
— Вот лешие с русалками, — недовольно буркнул Зверев, осмотрелся, сходил к камину, вернулся с угольком, быстрыми движениями начал рисовать на столешнице: контур Африки, мысок Европы над ним, затем — длинный американский континент с тонкой талией в будущей Панаме. Отличником по географии он никогда не был, но глобусы и карты мира в его детстве так часто мелькали перед глазами, что общее представление о том, что где и как находится, Андрей все-таки сохранил: — Смотрите! Вот, сейчас мы находимся где-то здесь. Если от Гышпании идти за море на юг, вот сюда, то это Африка. Негры и жара. Если вот сюда, тоже за море, то это Северная Америка. Земли вроде и хорошие, но там англичане местное население оспенными одеялами травят, за скальпы охотникам платят и разбоем занимаются. В общем, там грустно: смерть, нищета и слезы.
Гранд Гильермо встрепенулся, заговорил.
— Он согласен, англичане бандиты из бандитов, умеют только грабить, — перевел Юрий Семенович. — Пиратов привечают, как лордов, дают звания и приближают к королеве. Сами британцы по дикости ничего создать не способны, и все, что у них есть, это награбленное их пиратами в трюмах испанских кораблей, перевозящих из далеких земель плоды тяжелого труда честных людей.
— Да кто бы сомневался, — только плечами пожал Зверев.
— У гранда Гильермо Игулада-де-Кераль, — напомнила Пребрана, — на одном из кораблей, утопленных англичанами, погиб брат.
— Мне очень жаль, — кивнул Зверев. — Англия на весь мир известна своими пиратами, равно как Испания известна тем, что ее грабили чаще всего. Но вернемся к карте. Англичан нет и никогда не будет вот здесь, это север Южной Америки. Он тоже за морем. Но это уже совсем экватор. Джунгли и жара. Перемещаться там большая проблема. Южнее, — он опустил руку на место будущей Бразилии, — джунгли Амазонки, места вовсе непролазные. И это тоже за морем. Если же сместиться дальше, то будет Аргентина. Климат там ближе к русскому, лесов хватает, но и степи тоже имеются. В общем, передвигаться там на большие расстояния не так трудно, населения сейчас почти нет, очень мало. Тоже «за морем». Ну, про запад этой земли вспоминать и не стану. Сплошные горы. Хотя и это тоже «за морем». Посему я хотел бы все же узнать, что означает королевское «за море», если просто ткнуть пальцем в конкретное место?
— И откель ты столько знаешь, Андрей Васильевич? — изумился князь Друцкий. — Надо же, ерунду такую заучил, а родичей своих половину припомнить не в силах. Зачем тебе все это?
— Оглянись вокруг, Юрий Семенович, — посоветовал Зверев. — Деревня на деревне, дом на доме, поле за поле через шаг цепляется. Здесь все уже давно поделено, обжито и размечено. А там, — кивнул он на стол, — там храбрый и умный человек мечом и добротой с легкостью себе империю размером с Гышпанию и Францию, вместе взятые, выкроить способен. Если не за королевский ласковый взгляд стараться станет, а ради чести своей и благополучия детей своих, всего своего рода. Если думать будет не о том, как нахватать побольше дешевых безделушек, серебра да золота и сюда обратно в крохотную норку увезти, а о том, как твердой ногою встать на обширных новых землях. Как их освоить, поля и сады разбить, города поднять и порты выстроить, дороги проложить. Как с туземцами тамошними сдружиться и помочь им жизнь свою улучшить. Не из жалости, а чтобы в трудный час не в спину стреляли, а рядом в общий ратный строй вставали, страну общую защищать. В общем, так себя вести, как у нас на Руси принято. И шанс такой имеется только здесь и сейчас. Потому что уже через сотню лет там тоже все окажется огорожено, поделено, крепостями защищено и тысячами копейщиков прикрыто. Счет идет на годы. Вчера было легко, сейчас еще можно, через десять лет новые покорители обломаются, как швед под Полтавой. Теперь или никогда.
— Швед? Под Полтавой? — недоуменно приподнял брови Юрий Семенович.
— Да это османы наняли кучку норманов по своему обычаю, — торопливо затер оговорку Зверев, — а воевода Петр Романов их у Полтавы всех в пух и перья и распотрошил.
— Это не который Захарьиным родич по матери?
— Он самый, — подтвердил Андрей и поспешно вернулся к главному вопросу: — Есть хорошая возможность вровень с королевскими дворами нашим родам встать. Грех упускать.
— Это верно, возможность изрядная, — задумался князь Друцкий, подходя ближе к столу. — А ты куда прозорливее, княже, нежели я мыслить привык. Широко замахиваешься. Однако же ради такого прибытка и рискнуть по-крупному не грех.
Гышпанцы перешептывались, Пребрана торопливо переводила.
— Так куда, в какое место и за какое море посылает вас его величество Филипп?! — уже в который раз переспросил князь Сакульский.
Гранд Гильермо громко хлопнул в ладоши, что-то приказал подскочившему слуге. Тот умчался. В зале повисла тягучая тишина. Наверное, только через четверть часа в трапезную вошел скрюченный на левый бок старик с обветренным лицом, поклонился, выслушан хозяина замка, повернулся к столу. Долго вглядывался, потом поднял руку и неуверенно ткнул пальцем в берег Аргентины.
— Хоть с этим повезло, — вздохнул Андрей, кивнул на старика: — Он там был? Местность знает? Моряк?
— Художник здешний. Карты за малую толику перерисовывает, — перевел ответ князь Друцкий.
— Но ведь у вас, гранд Гильермо, помнится, родственники там, за морем имеются? — повернулся к хозяину замка Зверев. — Кто это, где?
— Его брат женился на дочери местного знатного правителя, — неторопливо перевел Юрий Семенович. — Когда король Филипп приказал изгнать правителя и его народ с исконной земли, он вступился за брата, его семью и родственников. После указа о мирном уговоре брат отправился за море вслед за сим известием. Но вскорости стало известно, что его корабль утопили английские душегубы.
— Так и где эти родственники? Местные союзники очень пригодятся!
— За морем, — лаконично ответил гранд Игулада-де-Кераль.
— Батюшка… — тихо и осторожно перебила князя Пребрана. — Так ты решил?
— Еще не знаю… — ответил Андрей, подошел ближе, посмотрел в глаза дочери: — А ты, ты сама уверена?
— Да, — ответила она и опустилась на колени. Князь Сакульский перевел взгляд на молодого гранда. Прикусил губу, размышляя и подбирая слова. Потом спросил:
— Согласен ли ты, сын мой, забыть о желаниях прославиться при дворе гышпанском и искупить вину перед королем здешним, а посвятить себя построению нового королевства на новых землях? Клянешься ли ты построить для моей дочери город и поставить в том городе прекрасный дворец для нее и назвать ее королевой новых земель? Согласен ли ты на это — или плата сия слишком тяжела для твоих плеч?
Карл де Кераль что-то ответил, преклонил колено и склонил голову.
— Он клянется, отец, — сказала Пребрана, не поднимая головы. — Я стану его королевой. И у меня будет свой дворец и свой город.
— Больно легко согласился, — не поверил Андрей. — Пусть поклянется в этом на Библии… И тогда я дам вам свое благословение на брак.
Молодые люди вскочили, Карл что-то сказал, они торопливо умчались. Андрей закрутил головой, ища переводчика.
— Они побежали в замковую часовню, — объяснил Юрий Семенович. — Мыслю я, княже, задумка твоя и впрямь много стоит. Взять в руки целое царствие заместо того, чтобы милость здешних властителей искать. Пока руки сильных мира сего до столь дальних краев дотянутся, там и впрямь столь прочно обосноваться можно, что и осаду получится выдержать, и атаки отбить. Сами мы сих успехов, верно, уж не увидим, однако не для себя ведь, для детей живем. Мы сгинем, потомки же на троне прочном останутся. И все же… Уверен ли ты в воле своей, Андрей Васильевич? Гышпания ныне центром мира по общему мнению считается. Могущество ее бесконечно, богатства невообразимы, пред ее волей трепещут все государи Европы, флот несчитан, несмотря на все происки британских татей и проходимцев. Недаром именно здесь я намереваюсь обзавестись прочными связями. Разумно ли отрекаться от такого господина? Разумно ли ссориться с ним, рискуя навлечь его гнев? Ладно дети, Амуром злосчастным застреленные и разум утратившие. Но мы ведь взрослые и опытные люди. Верно ли решение твое? Не пожалеешь ли ты о сем требовании к юному гранду? Не погубит ли оно судьбы его и его жены?
— Филипп велик и могуч, сила Гышпании бесконечна, — сильно понизив голос, ответил Зверев. — Но кто все мы пред волей Господа? Что ты ответишь, дядюшка, коли я предскажу, что лет этак через десять его величество решит наконец избавиться от шкодливой разбойницы, соберет самый великий и могучий флот за всю историю Европы, посадит на него самую сильную армию из самых лучших и храбрых людей и пошлет их покарать Англию, захватить и привести ее к порядку?
— Скажу, что могущество Гышпании с того часа возрастет многократно, и она станет править миром.
— Когда же флот сей поплывет выполнять свою священную миссию, — невозмутимо продолжил Андрей, — сильнейший шторм разметает его по морю, переломав и утопив половину кораблей, изрядно попортив другую, покалечив немало людей и выморив большую их часть голодом и жаждой, так что даже малая толика уцелевших и вернувшихся людей еще долго будут нуждаться в лечении, не в силах ходить в походы. На берег же Англии так и не высадится ни один из снаряженных для этого его величеством Филиппом храбрых ратников.
— Да ты что?! — опешил князь Друцкий. — Верно ли известие сие?[12]
— Все в руках Господа нашего Иисуса Христа, — широко перекрестился в ответ Андрей.
Гранд же Гильермо тем временем, отставив вино, обогнул стол, облокотился на него локтями, рассматривая карту и негромко о чем-то переругиваясь со стариком. Тональность разговора потихоньку возрастала, пока, наконец, картограф не отступил с поклоном и не поплелся к выходу.
— Гранд Игулада-де-Кераль выразил свое недоумение, — ухмыльнулся князь Друцкий, — отчего с него спросили пятьдесят дукатов за великую тайну, которую любой приезжий с легкостью угольком на столе рисует. И кажется, цену весьма изрядно удалось сбить.
Хозяин замка уважительно поклонился Звереву, указал на карту:
— Ты хорошо знаком с тайнами дальних пределов мира, Андрей Васильевич, — перетолмачил дядюшка. — Легко указываешь, где земли, каковы они и каковы их обитатели. Обстоятельный план для освоения сих мест предлагаешь. Вестимо, Андрей Васильевич, ты и сам намерен в сем предприятии участие принять?
— Сам? — настала очередь серьезно задуматься и Андрею.
Отправиться на край света в неведомые земли, начать из ничего новую жизнь. Нужно ли ему это?
— Да, батюшка, да! — горячо кинулся к нему Ермолай. — Отрежем себе мечом новое королевство! Стократно супротив княжества! Города срубим, замки построим!
— Ну, старое наше княжество тоже совсем не плохо, — пожал плечами Зверев. Хотя, конечно, и понимал: еще два-три поколения, и от звучного титула княжеского только название и останется. Коли пару раз земли меж двумя-тремя наследниками поделить, то у каждого богатства лишь на крестьянский двор в итоге. А будет ли еще царская милость и награждение землями, али нет — неведомо. Пути Господни неисповедимы: сегодня награждает, завтра отворачивается. Дочерям же и вовсе только приданое собирай, их государь уж всяко поместьями не наградит.
— Матушка, ну скажи! Свет белый посмотрим, себя покажем! Нечто лишней будет земля заморская в прибавку к русскому владению?
— За море? В Америку? — вздохнул, колеблясь, князь Сакульский. — Нечто мы перекати-поле из края в край метаться? Хотя… С другой стороны… Империю Османскую мы отогнали, кровью накрепко умыв, теперь долго не сунется. Со свенами мир полюбовный, с датчанами мир, браком скрепленный, в Польше Иоанн Васильевич и вовсе на трон ныне садится. Мыслю, мир для отчизны мы на одно-два поколения ужо добыли, и сабли наши там ныне ни к чему. Во дворцах и думах сидеть я не привыкший, в имении на печи киснуть тоже дело не княжеское. Может, и правда, махнуть через море-окиян, удаль да сноровку показать? Что скажешь, Полинушка?
— Земли дикие языческие мне вовсе ни к чему, — покачала головой княгиня. — Но коли дети наши на глазах останутся, то и сердцу материнскому спокойнее выйдет.
— Едем! — обрадовался княжич. — Едем, Юрий Семенович, непременно едем!
Гранд Гильермо степенно кивнул, поняв все и без перевода. Снова заговорил.
— Раз ты знаешь больше всех и достаточно знатен, то ты, вероятно, пожелаешь возглавить экспедицию? — повторил за ним князь Друцкий.
Сомнения гранда были понятны и обоснованы. На приказы своего короля он теперь ссылаться не мог — раз уж намеревался пойти вопреки его воле. Армия для освоения новых земель должна была выбрать предводителя, который устроил бы всех. Но кто будет старшим — тот, понятно, и окажется правителем новых земель. И перед всеми знатными людьми немедленно вставал вопрос будущего наследования и местничества.
— Как мудро заметил Юрий Семенович, — тщательно подбирая слова, ответил Андрей, — сами мы вряд ли успеем насладиться благами своего труда. Они достанутся детям. Дети Карла и Пребраны — мои внуки. Дети Пребраны и Карла — твои внуки. Не будем с самого начала затевать лишних сложностей. Изначально сочтем за главного воеводу гранда Карла де Кераль. Себя же назначим его помощниками. Коли новые земли мы собираемся добывать для детей, пусть они сразу и становятся их полновластными владетелями.
— Да, это мудро, — на этот раз ответ гранда Гильермо был ясен без перевода. Ведь предложенный вариант устраивал отца жениха точно так же, как и Андрея.
Распахнулась дверь, в зал буквально ворвалась донья Каталина де Кераль, сдержанно поклонилась, заговорила — видимо, извиняясь за опоздание. На этот раз она была одета строго, по королевскому этикету, в глухое бальное платье. Перевода гости не получили — вслед за ней появились полубегом молодые люди с тяжелой священной книгой. В зале они перешли на шаг, водрузили тяжеленный томик на край стола. Гранд Карл де Кераль вдруг заметил матушку, поклонился. Оглянулся на отца. Тот кивнул. Юный гранд приосанился, осенил себя крестом, положил руку на Библию, торжественно произнес клятву, после чего еще дважды перекрестился и поцеловал Писание.
— В точности все сказал, — на этот раз перевел оказавшийся ближе Ермолай. Дядюшка о чем-то шептался с Полиной.
Гранд протянул священную книгу Андрею. Опустился на колено. Рядом опустилась и Пребрана.
— Сам Господь избрал вас друг для друга и озаботился, чтобы вы не потеряли друг друга. Быть по сему. Живите в любви, согласии и счастии… — Князь Сакульский перекрестил Библией сперва одного, потом второго и закончил: — Благословляю.
К молодым подошел гранд Гильермо, забрал у князя Писание и, наверное, повторил примерно то же самое, перекрестив детей. Они, раскрасневшиеся и счастливые, поднялись и тут же попали в объятия княгини и несколько растерянной доньи — которая, понятно, еще не понимала, что именно переменилось и почему.
Хозяин замка громко хлопнул в ладоши, издал громкий воинственный клич.
— Похоже, грядет шумный пир, — предположил князь Сакульский.
И ничуть не ошибся.
Дальнейшие месяцы были наполнены множеством хлопот. Прежде всего, Пребрана приняла католичество и была наречена именем Фелиция, что значит — «счастливая». Уже через две недели в Кафедральном соборе Толедо состоялось пышное венчание, на котором присутствовало несколько знатных гостей. По большей части — родственников. Королевская опала и вправду отпугнула прежних знакомых Карла де Кераль. На пиру чужаков оказалось совсем немного. Кто из них был из числа детей боярских грандов Игулада-де-Кераль, а кто оказался истинным другом жениха — Андрей просто не знал. Правда, и в храме, и на пиру присутствовал Альфонс Фарнезе. Но он столь откровенно крутился возле Арины, что о силе его дружбы речи не шло. Коли он и не убоялся королевского недовольства — то совсем по другим причинам.
Дон Фарнезе еще не раз появлялся в замке. Князь Сакульский смотрел на его старания сквозь пальцы. Все же — хорошая партия. Так отчего бы детям и не сойтись? Юрий Семенович уже начал куда-то ездить и с кем-то знакомиться, чтобы более ясно ценить такую возможность.
Между тем у Андрея хлопот хватало. Если у гранда Гильермо имелись копейщики, какие-никакие родственные связи и изрядное количество крепостных, к которым тут относились хуже, чем к рабам — но оплачивалась подготовка к экспедиции по большей части из княжеской казны. И Зверев совсем не обирался тратить их попусту.
Прежде всего он отверг попытку своего свата нанять для завоеваний побольше наемников. Ведь наемников интересует только золото, с которым они потом захотят вернуться обратно домой. Их мало беспокоит, какое отношение останется к переселенцам у местных жителей, у них нет желания надежно обустроиться, пахать землю, строить дома. После долгих споров Зверев уговорил гранда Игуладу-де-Кераль вместо воинов взять с собой побольше простых смердов из малоземельных семей, пообещав им большие наделы. Пара крепких молодых парней с современным оружием после небольшой подготовки вполне заменят собой опытного копейщика. Чай не в Европе против опытных латников воевать, а с полуодетыми племенами — но зато сражаться будут практически бесплатно, и потом не убегут, а осядут рядом с хозяином, будут строить, пахать, кормить. Да и агрессивности в них меньше — мелкие ссоры предпочтут миром решать, грабежом развлекаться не станут. А хорошие отношения с тамошними соседями — главный залог безопасности.
Кроме того, он не стал особо тратиться на предметы роскоши и обихода — кресла, столы, постели, посуду, предпочтя им лемехи, топоры, пилы, столярные инструменты и, разумеется, оружие. А также, разумеется: стеклянные бусы, маленькие зеркальца, колокольчики и прочие дешевые, но блестящие побрякушки. Пригодятся, коли товары местные не отнимать, а выменивать. Или подарки туземцам делать. Заказ оказался столь велик, что местные ремесленники обещали исполнить его только через три месяца.
Среди крепостных рода Игулада-де-Кераль нужного количества переселенцев не набралось — пришлось рассылать вербовщиков по всей Гышпании, смущать неокрепшие умы будущим богатством и звать их в Лиссабон, где гранд Гильермо готовил корабли и набивал склады. Кроме того, с собой требовалось сманить как можно больше женщин. Ведь страна из одних мужчин больше одного поколения вряд ли протянет — а у местных девушек вряд ли имелся опыт в ведении современного хозяйства.
Хлопоты, хлопоты, хлопоты: с одним торговаться за заказы, с другим расплатиться, третьего заставить поменять товар. Учесть, сколько людей набралось, пристроить на время до отплытия к работам. За делами почти незамеченным проскочило известие о том, что на Польский стол шляхтичи избрали все-таки французского принца, а не мудрого Иоанна Васильевича. Все-таки ушаты безумного вранья, вылитого на голову русского царя, смутили умы несчастных ляхов. А потом пришло известие о том, что француз, приехав в Польшу, так ужаснулся дикарству этой страны — что тут же удрал обратно к Луврам, Фонтебло и Версалям, к утонченным дамам и аромату цветочных духов. Выборы были назначены снова — и русский царь опять оказался самым желанным из кандидатов.
Общими усилиями намеченное дело начинало обретать реальные черты: четыре тяжелых вместительных галеона и один шустрый русский ушкуй должны были переправить через Атлантический океан две с половиной тысячи переселенцев, из которых около трехсот были воинами — холопами самого гранда де Кераль или его восьми менее родовитых слуг. Кроме того — на путешествие удалось уговорить почти пять сотен женщин. Для всех этих людей в достатке было припасено и плугов, и топоров, и мотыг, и копий. Вот с лошадьми все оказалось куда как хуже — в трюмы их умещалось всего четыре десятка. Но князь Сакульский очень надеялся первое время как-нибудь обойтись без скота: побольше охотиться и строиться, разведывать местность, осваиваться, обживаться… А там, глядишь — и табуны расплодятся.
Отплытие компаньоны-родственники наметили на Рождество. Точнее — на утро после святого праздника. Все сошлись во мнении, что такой день должен привлечь милость Божью на всю экспедицию. Андрей, покопавшись в памяти, не припомнил никаких бед и катастроф в тысяча пятьсот семьдесят восьмом году от дня рождения Христа — за составлением сотен договоров князь Сакульский уже привык считать года по здешнему календарю. Зеркало Велеса тоже не показало никаких бед в будущем Пребраны и ее мужа. О подробностях ученик чародея сказать не мог: за несколько ночных часов всю жизнь не просмотришь. Но то, что дети не погибнут, не утонут и жизнь окончат отнюдь не в нищете — он знал в точности.
Однако, когда до отправления в путь оставалось чуть меньше двух недель, во дворе замка спешился всадник в зеленом зипуне и высокой горлатной шапке и, следуя указаниям дворни, поднялся в светелку князя Сакульского. Оценивающе глянул, сбил шапку, поклонился в пояс:
— Здрав будь, княже. Боярский сын Вакулин я, из Посольского приказа вестник. Грамоту тебе государеву велено передать.
Запыленный гонец достал из поясной сумки деревянный туесок, вытянул из него туго скрученную грамоту, протянул Андрею. Тот принял.
— Как государь ныне, боярин? — спросил кстати случившийся в светелке князь Друцкий. — Здоров ли, весел ли, не во гневе?
— Государь Иоанн Васильевич извечно в хлопотах, в делах и раздумьях, — ответил вестник, и даже Зверев заметил, что от ответа о здоровье он уклонился.
— Принял ли он польскую корону? — поинтересовался уже сам Андрей.
— Обманули ляхи, — мотнул головой боярин Вакулин. — Раба османского на шею себе предпочли.
— Это как? — спросили уже хором оба князя.
— Да просто, — пожал плечами гонец. — Накануне избрания примчался гонец от османского султана да привез грамоту, что султан Мурад велит им, полякам, принять к себе на правление его слугу. А иначе он войну большую начнет и всех накажет. Ляхи же, знамо дело, не храбрецы. Перетрухали изрядно. Ну а новым днем себе на царствие наместника турецкого и избрали.
— Это кого? — опять хором переспросили князья.
— Батория Стефана, уроженца Трансильвании. Есть в Османии таковая волость.
— Первый раз это имя слышу, — удивился Юрий Семенович. — Из какого он рода, с кем знаком, где бывал?
— Не знает о сем никто, — развел руками боярин. — Привезен невесть откуда, языков человеческих не ведает и завсегда с толмачами османскими везде ходит, про род сей никто не слышал, родичей не сыскали, с сотворения мира никто невест сему роду не посылал, и сам невест не выписывал. Сказывают, может статься, на сестрах своих бояре рода его женились и чужих к себе не допускали. Сказывают еще, болезнью странной новый король страдает. Чернеет прямо каждый месяц и плох становится. Но сии приступы быстро его отпускают. Вестимо, аполепия Батория мучает.[13]
— Вы, смотрю, замучили совсем человека, — вступилась за гонца Полина. — А он с дороги, уставший, голодный. Идем со мной, боярин, велю стол тебе накрыть и место отдохнуть найдем. Пошли.
— Хитро султан придумал, — мотнул головой князь Друцкий. — В наместники такого слугу посадить, дабы наречий местных не понимал. Такому, знамо дело, со шляхтой супротив хозяина уж точно никак не сговориться.
Андрей кивнул, соглашаясь, покрутил в руках грамоту. Проверил печать, сломал, развернул свиток. На довольно большом листе было начертано только три слова: «Ты мне нужен».
Князь покрутил грамоту в руках, еще раз глянул на печать — но нигде более не нашел ни намека на тайный смысл то ли приказа, то ли просьбы. В желудке остро засосало: после того как в организацию похода на край света, за Атлантический океан вложено невероятное количество сил и серебра — вот так, просто, бросать все сделанное и возвращаться в Москву очень, очень не хотелось. Однако Зверев понимал и то, что ехать — надо. Не так просто было государю Иоанну найти его средь чужих и диких стран, снарядить особого гонца, своею рукою написать письмо нелюбимому слуге — возникшая внезапно надобность явно не была обыденным пустяком. Похоже, его присутствие на Руси оказалось сейчас очень и очень важно. И как бы ни манило князя Сакульского новое, наверняка прибыльное приключение — но Русь стократ важнее Испании и Америки, вместе взятых. Государь Иоанн Васильевич был тем правителем, который прямо сейчас, у всех на глазах, создавал из ничего великую и могучую державу. Если ему вдруг потребовалась помощь Андрея — отказать в ней царю было бы по меньшей мере гнусно.
— Не езди, — словно бес-искуситель, посоветовал из-за левого плеча дядюшка. — Не езди. Все планы прахом пойдут.
— Не могу, — отпустил письмо Зверев, и оно моментально скрутилось обратно в свиток. — Я клялся ему в верности. Обманывать не стану. Не по совести это выйдет.
— А детям, жене чего скажешь? Сам же их в путь за море уговорил, свершения великие пообещал, теперь же назад увезти хочешь?
— Коли бесчестно себя поведу, тогда как жене и детям мне в глаза смотреть? Какой пример своей подлостью им подам? Тогда еще хуже выйдет!
— Королю испанскому изменить убедил — тут совесть твоя не дрогнула?
— Какая же это измена? — пожал плечами Зверев. — Он сам род де Кераль отринул, в ссылку послал. По его повелению туда, куда указано, родичи наши новые и отправляются. И мы с ними за компанию. И, заметь, никто из нас его величеству Филиппу на верность не присягал. Можем по своему разумению в неведомых землях ничейных поступать. Иоанну же я клятву верности дал. И он меня не отвергает, он меня зовет. Да и раньше, пусть и не люб я ему, но напраслины на меня не взводил, недовольством не пугал. Негоже и мне предательством имя княжеское пятнать. Я, чай, не Курбский Андрей. Славы выродка после себя оставить не желаю!
Надо сказать, ни в мыслях, ни в желаниях князь не был настроен столь же решительно, как в словах. Где-то внутри остро и горячо плескалось сожаление, что гонец не опоздал хотя бы на несколько дней, когда берега Гышпании уже остались бы за кормой ушкуя и уже никто ничего бы изменить не смог. На поверхности же ворочалось огромное желание плюнуть на все — и уплыть. Царь далеко, прочие люди про его грамотку и не узнают ничего. Уплыл с семьей — и концы в воду.
Однако же вслух русский боярин ничего подобного сказать, разумеется, не мог. Не таковы русские люди, чтобы от отчины своей бежать, коли в них нужда потребовалась. И поступить так, как хочется — тоже не мог. Не мог он опуститься до такой низости.
— Пошли в трапезную здешнюю, Юрий Семенович? — вздохнул Зверев. — Велю слугам созвать всех для сего известия. Ждать, увы, мне некогда.
Уже через полчаса в главной зале замка собралась вся большая семья, родившаяся после свадьбы русской княжны и испанского гранда. Не понимая, в чем дело, молодые тревожно переглядывались, и Андрей поспешил внести ясность, кинув на стол свиток со сломанной печатью:
— Государь меня отзывает. Соскучиться не мог, не так уж сильно любит. Стало быть, правда нужен.
— Батюшка, а как же наши приготовления, экспедиция, планы общие?! — вскинулся Ермолай.
— Положим, сестра твоя, моя дочь, — склонил он голову в сторону Пребраны, что стояла, как всегда, крепко сжимая ладонь Карла, — свой путь избрала, обет верности в храме давая. Что до остального… Сил в дело общее и вправду вложено немало. Посему… Ты, сын мой, в новики не вписан, клятвами не связан. Сам решай, со мной помчишься о беде государевой узнавать али за делом нашим последишь моим именем?
— Я? — вскинул голову княжич. — Я, батюшка… Не знаю даже.
— Не понимаю тебя, сын. Настал час выбора, и я не хочу делать его вместо тебя. Тебе уже шестнадцать. Ты мужчина. Пришло время самому принимать решения, от которых зависит твоя жизнь.
Ермолай сглотнул, облизнул мгновенно пересохшие губы. Андрей не торопил его, понимая, какая жестокая буря желаний, мыслей, надежд и страха бушует в его разуме. Наконец княжич Сакульский кивнул:
— Прости, батюшка… Столько сил в поход наш вложено, столько с ним надежд. Трудно мне разом от всего отказаться. Опять же, и Пребране тоскливо будет ни единого знакомого лица рядом больше не видеть.
— Ну почему «прости»? — подошел к нему Зверев. — Все верно. За сестрой присмотреть, дабы обиды не было. За тем, чтобы серебро наше зря не разбазарили, чтобы род князей Сакульских долю достойную от побед будущих получил. Ты все решил правильно. Все правильно, сын.
Князь обнял ребенка, с этого часа вступающего на стезю взрослого мужа. Пользуясь паузой, прокашлялся князь Друцкий:
— Я так мыслю, Андрей Васильевич, спешка у тебя в деле твоем великая?
— Да уж, придется поспешить, — обернулся к нему Зверев.
— В скором да дальнем пути от женщин тягость одна, княже. Я так мыслю, тебе самым разумным будет жену и дочь младшую покамест здесь оставить, самому же обернуться быстро да узнать, в чем нужда царская случилась. Коли дело долгое, так они за тобой опосля неспешно поплывут. А коли хлопот немного выйдет, так ты сам возвернешься, да вы все вместе вослед гранду Гильермо Игулада-де-Кераль за море отправитесь и там все воссоединитесь в семье и в делах.
— Да, батюшка, — встрепенулась Арина. — Истину дядюшка глаголет, одному тебе куда как легче управиться будет!
Мысли и желания обоих князь Сакульский понял отлично и согласно кивнул:
— Верно. Одному мне будет проще.
Гранд Игулада-де-Кераль высказался последним, резко кивнул головой.
— Что? — повернул голову к сыну Андрей.
— Он желает выразить свое уважение твоей чести, батюшка, — пересказал Ермолай. — Клятва верности священна для каждого дворянина. Он горд иметь своим братом столь беспорочного человека и с нетерпением будет ждать твоего… Как это сказать? Когда вы с ним, и мы все тоже снова окажемся вместе.
Путь домой
Прощались долго и тяжело. Все же расставание было нежданным и зло рушило общие планы. Андрей лихорадочно пытался донести до сына, внезапно оказавшегося старшим со стороны князей Сакульских, как нужно вести намеченное дело, чтобы и владения расширить, и от местных жителей преданности добиться, а не вражды. Как добром закупленным распоряжаться. Старался урвать как можно больше минут близости с женой, запомнить надолго уплывающую старшую дочь, призвать к уму-разуму дочь младшую. Но разве вместишь в пару дней все то, чему нужно посвящать годы?
Через два дня после получения грамоты вместе с Пахомом, Ильей и одним из слуг гранда он выехал из ворот замка. Знающий местные дороги и язык слуга проводил их до Кордовы. Лошадей путники не жалели и промчали этот путь всего за пять дней. Слуга с еле переставляющими ноги скакунами повернул назад, а князь с холопами поднялись на ушкуй, к счастью полностью снаряженный и готовый в путь. Вниз по-течению Гвадалкивира корабль промчался со всей стремительностью, на которую был способен, и уже через день вышел в море.
Испания разбаловала князя извечным теплом, однако он помнил, что на Руси как раз сейчас трещат убийственные морозы, а все реки и прибрежные моря скованы толстым прочным льдом. Поэтому править приказал не к дому, и не в лапы осман, успевших прибрать в свои руки все Черное и половину Средиземного моря, а на север. Туда, где, если верить полузабытым учебникам детства, течет теплый и довольно быстрый Гольфстрим. Разумеется, уходить далеко от берега было решением рискованным — однако в открытом море не нужно бояться скал, мелей, внезапного поворота берега. А значит — можно смело мчаться под всеми парусами не только днем, но и ночью.
Поначалу путешествие шло удачно, словно сами боги морей благоволили ученику древнего чародея: тепло, чистое небо с редкими облаками, свежий попутный ветер. Однако уже дня через три ветер сделался не просто свежим, а весьма напористым, поднимая крупную волну, и вдобавок переменился, задув сбоку. Ушкую, чтобы не лечь на бок, пришлось почти втрое ужать единственный косой парус, затянув его специальными веревками, но корабль все равно нырял в волны под изрядным углом к горизонту. Двигались они теперь уже не со скоростью скаковой лошади, а немногим быстрее бегущего человека. Вниз — вверх, вниз — вверх, без малейшего перерыва. Андрей, вечером попытавшись лечь в постель, только чудом тут же не скатился на пол и после нескольких попыток найти удобное место в конце концов просто привязался за пояс к угловой стойке.
Он был уверен, что не привыкнет к этой пытке никогда — но уже на третью ночь чувствовал себя вполне нормально, не замечая качки и равномерных рывков ремня. Посему Андрей наконец-то смог хоть немного расслабиться, лечь на спину и раскинуть руки, привычно изгоняя из сознания все посторонние мысли. Тревоги, беспокойства, воспоминания, размышления плавно стекли из центра его внимания к самому краешку сознания, задержались там на некоторое время и, не получая поддержки, истаяли, превратившись в ничто. Сознание ученика древнего волхва больше не отвлекалось ничем и ни к чему не было привязано: ни к разуму, ни к телу. И, оставшись без внутренней опоры, просто вытекло за пределы тела, за борта ушкуя, расширилось во все стороны, становясь бескрайним и легким, прозрачным, эфемерным, принимая в себя воды и облака, морское дно далеко под килем и берега далеких земель по левую руку. Из глубины сознания, из самой неощутимой его бездны личность Андрея Зверева мимолетно отметила сходство очертаний замеченных берегов и силуэтов Англии и Ирландии, сохранившихся в памяти из далекого детства — и облегченно растворилась в небытии.
Он вернулся в реальность только через несколько часов — бодрым и хорошо отдохнувшим. Вышел из каюты, поднялся к рулевому веслу, хлопнул по плечу Риуса, за минувшие годы заматеревшего, раздавшегося в плечах, отпустившего изрядную бороду, но по-прежнему огненно-рыжего и хваткого:
— Право руля немного дай, вот где-то так, — показал рукой Зверев.
— Как скажешь, княже, — не стал спорить кормчий, давно не сомневавшийся в колдовских способностях хозяина, и навалился на весло.
Ушкуй качнулся, выправляясь, встал почти ровно вдоль гребней, впервые за долгий срок перестав раскачиваться и, слегка наклонившись, прочно засел в выемке между двумя волнами, правым бортом почти касаясь одного из гребней, с шелестом заскользил по воде.
— И долго так править?
— Мыслю, еще дней десять, — прикинул князь Сакульский. — Послезавтра сверюсь… с картой…
Риус от греха не стал задавать уточняющих вопросов. Андрей немного потоптался рядом, а потом спустился обратно к себе в каюту. Его бодрость и силу на борту ушкуя приложить было совершенно не к чему. Только что и работы — бока на топчане пролеживать.
Через два дня он опять сверился с окружающим миром и понял, что они идут довольно далеко от берега, но уже почти напротив Скандинавского полуострова. Примерно половина пути оставалась позади.
— Господи, тоскливо-то как! — вздохнул ученик чародея. — Нечто нельзя подогнать ушкуй как-то побыстрее?
И Бог откликнулся на его молитву. Уже через несколько часов ветер переменился на попутный и задул с такой силой, что корабельщики, с трудом удерживая канаты и реи, торопливо убрали парус и накрепко привязали его вдоль борта, чтобы не оторвало и не унесло. Однако даже без него мачта аж потрескивала от напора, вынуждая кораблик то и дело зарываться носом, черпая волны и перекатывая их через себя. Мокрые до нитки корабельщики вычерпывали воду, пытались натянуть запасной парус от надстройки до надстройки, чтобы хоть как-то уменьшить захлестывание, а волны тем временем вырастали все больше и больше, пока их гребни не оказались выше мачты.
— Вяжите! Вяжите все, что видите! — закричал от руля Риус, уже успевший принайтовить себя к кормовому веслу. — Сами крепитесь!
Волны дали всем спасительную передышку. Они оказались слишком огромны, чтобы захлестывать через борт, и подбрасывали ушкуй целиком, словно крохотную щепку, тиская беспорядочной рябью, что гуляла поверх самих волн, и забрасывая ледяной и холодной пеной.
Команда поспешила исполнить приказ. Разматывая свободные концы, люди опоясывались ими и привязывались кто к мачте, кто к крепежным отверстиям для снастей вдоль бортов. Волны поднимали ушкуй, опускали, поднимали — пока вдруг одна из них не оказалась слишком высокой и крутой. Кораблик нырнул с нее почти вертикально вниз, врезался носом в воду, утонув почти по самую дверь в княжескую светелку, начал заваливаться кормой вперед, но в какой-то миг носовая часть, словно поплавок, выпрыгнула вверх, моментально выровняв ушкуй. Команда едва успела с облегчением перекреститься — однако уже новая водяная гора вскинула их высоко, тут же швырнула вниз, снова вскинула.
— А-а-а-а… — взвыли корабельщики, видя, что снова рушатся по отвесному склону, Риус навалился на руль, отворачивая в сторону, и ушкуй заскользил не прямо, а боком, уходя от опасности снова воткнуться носом. Однако на этот раз его положило на бок. То есть — совершенно мачтой вдоль воды. Опять гибель показалась неминуемой — но по ту сторону водяного ущелья волна вздыбилась, приподняла мачту и позволила судну снова выпрямиться на прямой киль. И опять забросила его на вершину новой горы.
Некоторое время Риус вполне успешно преодолевал подобные ловушки, скользя под углом, удерживая кораблик так, чтобы тот и носом не зарылся, и на борт больше не лег, но в какой-то момент шторм все же поймал его на ошибке, снова зацепил водой нос, но на этот раз толкнул в корму с такой силой, что ушкуй совершил полный кувырок. Мачта, которая и от ветра уже гнулась, словно луговой колосок, удара о воду не выдержала и лопнула с ледяным звоном, словно ножка хрустального бокала. Корабль вынырнул уже без нее, удерживая только на снастях, словно сломанную конечность на обрывках сухожилий.
— Все, — громко выдохнул Риус.
Это означало, что шансов больше нет: без той небольшой тяги, что давала мачта, ушкуй стал совершенно неуправляем. Радостные волны закрутили его, плеснули с одной стороны, с другой, крутанули меж пенных ладоней, перекинули друг другу, воткнули носом в основание целого водяного хребта, залив по самые борта, приподняли, снова крутанули через киль — но на этот раз вода из кораблика уже выплеснулась, хотя и с частью груза. Заметно полегчавший ушкуй опять легкой бабочкой заплясал по гребням пенных валов, временами ныряя в самую бездну, но потом неизбежно взлетая обратно в высоту. Обозлившиеся волны что есть сил били его со всех сторон, так злобно, что местами даже доски разошлись, а борта стали сочиться — однако храбрый кораблик не сдавался, а проникающая внутрь его вода от особо сильных толчков сама же вылетала обратно в холодный океан.
Шторм оборвался так же быстро, как и начался: ветер переменился и стих, вместе с ним буквально за час исчезли волны. Море стало тихим и почти гладким, и над всем этим благообразием гигантскими цветастыми всполохами празднично засияло полярное сияние.
— Господь милостив, — перекрестился Риус и осел на палубу. — Услышал наши молитвы. Всем переодеться в сухое, пока не заледенели. Всем переодеться — и спать.
По такому случаю князь разрешил корабельщикам и переодеться, и улечься на отдых в своей каюте, куда так и не смогли прорваться буйные волны. Семеро человек быстро надышали крохотную каморку так, что даже пришлось приоткрыть дверь, настолько показалось влажно и тепло.
Поутру же путники принялись подсчитывать убытки. Корпус потек. Да так лихо, что поутру вода плескалась выше колена и ее пришлось вычерпывать несколько часов. Затем корабельщики подтянули ломаную мачту, кое-как примотали верхнюю часть к торчащему из палубы пню. Перетянули ванты по новой высоте и наконец-то смогли поднять, а точнее — приподнять парус. Ветерок по морю тянулся слабый, почти неощутимый, но вода за бортом все же зажурчала, ушкуй начал слушаться руля.
— На юг, — махнул рукой князь Сакульский. — Если что, хоть на берег сможем выйти.
Однако вскоре — наверное, на следующий день, ибо в темноте полярной ночи определить это было сложно, — вскоре стало ясно, что дела не так уж плохи. Один человек при постоянном вычерпывании вполне успешно справлялся с сочащейся водой, огрызок мачты надежно удерживал парус, а слабый ветерок позволял успешно двигаться дальше к родной земле. Когда в свете звезд и небесных сполохов впереди стала различима полоска берега, Андрей приказал повернуть влево и идти вдоль нее, сам же долгими выходами сознания из тела пытался нащупать впереди хоть какое-нибудь жилье. Он был уверен, что селения здесь есть. Не может быть, чтобы на незамерзающем морском берегу не поселились русские рыбаки или китобои. Или хотя бы местные — а уж они и к русским деревням проводят. И в конце концов ему это удалось — не увидеть, а ощутить некой толикой своего сознания присутствие далеко впереди живых душ, людей и по этому ощущению вывести искалеченный ушкуй в глубокую длинную бухту, затерянную среди обледенелых каменных уступов и заснеженных гор.
Сама бухта оказалась больше чем наполовину скована льдом, однако на чистой воде стояло несколько коротких причалов, возле которых, на берегу, дожидались сезона пяток крупных поморских кочей с характерными лыжами на днище.[14]
— Свои, — облегченно кивнул Зверев. Ушкуй, не без труда опустив парус, медленно подкатился к самому дальнему причалу. Риус налег на кормовое весло, поворачивая судно, и оно мягко привалилось бортом к причалу.
От стоящих на возвышении домов к ним уже бежали люди.
— Здравы будьте, православные, — осенил себя крестом князь Сакульский, сразу и однозначно демонстрируя свою принадлежность к русскому миру. Остальные члены команды, скинув шапки, последовали его примеру. Подбежавшие тоже закрестились, но не так чинно и размашисто. Да и одеты были больше по-лапландски: глухие малицы до колен с отороченными песцом капюшонами и высокие меховые сапоги шерстью наружу, уходящие куда-то под подол. Однако заговорили они по-русски:
— Мир вам, добрые люди! Кто такие будете, откуда путь держите?
— Князь Андрей Сакульский имя мое и звание, — представился Зверев. — Дело у меня срочное к государю. В Москву спешу.
— Потом, потом о делах, княже! — оборвали его местные. — Ныне в баню первым делом, после моря отогреться! Вина горячего выпить, перекусить, опосля речи будешь сказывать.
— Где мы хоть находимся, люди добрые? — поинтересовался Риус.
— Териберка[15] сие, погост новгородский. Берег же Мурманский.
Баня у местных промысловиков оказалась уже жарко натоплена. Проводивший до нее лопарь только всего и сделал, что залил огонь да закрыл продых над дверью, из которого выходил дым. Указал в угол:
— Кадки с пресной водою там. В котле соленая. Как отмоетесь, опосля сполоснуться не забудьте.
— А почему… — закончить вопроса Риус не успел. Дверь захлопнулась, и путники стали торопливо раздеваться.
Только здесь, в жарко натопленном срубе, обложенном снаружи камнями и занесенным снегом, стало ясно, насколько продрогли за последние дни корабельщики. Стынь выходила из тел долго и нудно, и даже уже порядком пропотевшие люди все равно ощущали холод в коленках, плечах, в хребтине. Наверное, прошло не меньше часа, прежде чем они окончательно согрелись и стали уже нормально намываться, не жалея щелока и воды.
Местные жители, похоже, отлично знали, как долго вернувшийся с моря корабельщик приходит в себя — как раз где-то через час внутрь заглянул уже другой промысловик, с заиндевевшими усами и бородой, поставил кувшин, кинул охапку безразмерных малиц:
— Вот, в теплое оденетесь опосля. Как готовы будете, но тропинке во второй дом идите. Там накрыто.
В кувшине оказался густой вареный мед. Князь приложился к нему первым, передал Риусу, и дальше угощение пошло по кругу, завершившись на самом молодом из корабельщиков. Андрей же, ополоснувшись, первым стал одеваться — от намека на накрытый стол у него тут же подвело в животе. Его примеру последовали и остальные. Одевшись, они один за другим пробежали по улице, на этот раз встретившей обжигающим холодом, и нырнул в указанный дом.
Дома заполярного поселка были сложены из крупных камней, щели между которыми строители замазали глиной, перемешанной с камушками помельче. Деревянными оказались только крыша да стропила. Впрочем, чего удивляться? Камней вокруг несчитано, а дерева ни одного не видать. Вестимо, и дрова, и строительный лес возить издалека приходится. Посему и пользуют его токмо там, где иначе не обойтись. Печь, а точнее — большой очаг, обложенный валунами — занимала не меньше трети жилища. Дым уходил куда-то наверх и исчезал в невидимом продыхе. Топил хозяин хорошо, жарко. Дороги дрова, не дороги — однако не жалел. Стол тоже был длинным и широким, из березового теса.
— Ты здесь за старосту, что ли? — догадался Андрей.
— Старшим считаюсь, княже, — кивнул коренастый мужик с окладистой рыжей бородой и густыми усами. Несмотря на седину в голове, выглядел он лет на тридцать, не больше. — Никитой родители нарекли, из купцов Рогиных мы.
— Баню вы что, постоянно топите? — поинтересовался Риус. — Вроде как никто париться не спешит, а жару там, ровно банный день.
— Соль мы там потихоньку варим, — пояснил старший промысловик. — Как на рыбном промысле да без соли? Аккурат перед приходом вашим воды свежей наносили. Ну а коли не рассол, так и не жалко. Еще из залива зачерпнем. Мы завсегда, коли кто с моря приходит, так его первым делом туда. Для сего дела кадки с речной водой там всегда стоят. Пока не отогреешься, оно ведь как и не вернулся, верно?
— Это точно, — согласился Зверев. — Однако мне в Москву, к государю срочно прибыть надобно.
— Нет, княже, до Холмогор ныне хода нет, — покачал головой Никита Рогин. — Лед на Белом море. Весны надобно ждать.
— Не бойся, тяглом напрягать не стану, — успокоил его князь, отлично понимая опасения промысловика. — Плачу полтину. Нужно в Холмогоры. Срочно.
— Не знаю, — задумчиво расчесал пальцами бороду старший. — Разве только лопари к Варзуге по земле вывезут? Зима ныне малоснежная, сани пройдут. В Варзуге подворье монастырское от Соловецкой обители имеется, зимник к большой земле пробит. Токмо хлипкие у них упряжки, у лопарей-то. Им всех не увезти.
— Меня с холопом одним везти нужно. Люди же прочие пусть ушкуй ремонтируют. А как сделаете, Риус, ждите тепла и в княжество идите, туда приказы новые отошлю. С ними обратно поплывете, к княгине. А может, и со мной, коли повезет.
— Сделаем, княже, не беспокойся, — кивнул за всех Риус. — Боюсь, токмо, времени сие займет немало. Коли борта потекли, так это, выходит, весь ушкуй перебирать надобно.
— Борта у вас вгладь, я видел, — вмешался в разговор купец Рогин. — Пристучать их просто киянками да стопора на шипах проверить. Ну и проконопатить да просмолить опосля. Новым от сего корабль ваш, знамо, не станет, однако же течь остановится, держаться станет крепко. На совесть исполнить, так еще лет десять-двадцать суденышко побегает. За пару месяцев управитесь, а там, глядишь, и лед на море поломает. Хоть до самой Москвы, коли не торопясь, добраться сможете. Вы угощайтесь, не смотрите на меня. Для вас сие запекалось. Я же покамест до лопарей сбегаю, о дороге проведаю.
— Благодарствую, хозяин, за лакомство, — придвинул к себе один из глиняных лотков князь Сакульский. — Пахнет соблазнительно.
Под румяной верхней корочкой в лотках оказалась целиком запеченная семга — с морковью, репой и сельдереем. Такая нежная, что таяла во рту. Гости и не заметили, как опустошили посуду.
Тут как раз вернулся и старший промысловик, легкими движениями оббил с усов сосульки, кивнул:
— Согласны лопари, двоих довезут. Полтину токмо вперед просят. Али хоть показать, что есть.
— Как повезут, так и покажу, — рассмеялся в ответ Зверев. — Что, часто обманывают бедолаг?
— Нурманы раньше часто приходили. То стада силой отберут, то обманом. Дрались с ними когда-то лопари. Столько крови пролили, сказывают, что по всей земле алые камни разбросаны. То кровь человеческая в них впиталась. Ныне же не приходят больше, пищалей наших боятся. Ан страх к чужакам в лопарях остался.
— Ладно, — полез в поясную сумку князь Сакульский, развязал кошель. — Риус, вот тебе пять рублей, но чтобы к лету ушкуй отремонтирован был и снаряжен полностью. И стоял, где велено. Еще два тебе, старшой Никита Рогин. За привечание и одежды новые. И за людей моих задаток. Сделай милость, приюти и на кошт общий прими, пока дело делают. Ну а полтинник, вот он. Отложу показать, коли так просят. Когда отправляемся? Утром?
— Утро здесь тоже токмо через два месяца будет, — хмыкнул промысловик. — Оленей лопари ловят. Как запрягут, так и поедете. Ты ведь поспешаешь, как я мыслю?
— Это верно, — признал князь. — Тороплюсь.
Где-то часа через два он уже сидел, поджав ноги, на санках, запряженных четверкой мохнатых, как лайки, оленей, лишь немногим превышающих тех же лаек ростом. Полозья санок выгибались дугой, удерживая грузовую платформу на высоте полусаженей от наста. И ширину они имели ту же полсажени. Помещались на одних только двое — возничий и пассажир. Да и то с трудом. Пахом точно так же теснился на второй упряжке, на третьей были сложены немногочисленные вещи и припасы, а на четвертой — те, что не поместились на предыдущей.
В отсутствие дня и ночи путешествие тянулось в странном и непонятном ритме. Упряжки ползли через широкие долины между гор до тех пор, пока лопари вдруг не решали, что олени устали. Они тут же останавливались, выпрягали своих рогатых рысаков, споро собирали каркас из слег и шестов, обтягивали пологом из шкур, поверх которых наматывали длинную ленту парусины. Потом разводили огонь, щепетильно выкладывая его из взятых в путь веточек, топили снег, кидали в него заварку из чая пополам с какими-то травками. Строгали тонкими ломтиками вымороженную до звона рыбу на широкое деревянное блюдо и тут же, не оттаивая, ее поедали.
В первый раз князь таким угощением побрезговал, но когда узнал, что другой провизии просто нет — был вынужден есть то, что дают. По примеру лопарей быстро откусывал от свернутой в колечко рыбьей стружки небольшие кусочки, немного катал по языку, согревая, слегка мял зубами и глотал. Вкус строганины особого восторга у него не вызвал, но, надо отдать должное — уже после двух-трех ломтиков тело стремительно согревалось, словно кто-то внутри подбрасывал в неведомую топку охапку свежего хвороста, а после пяти-шести ощущалась приятная сытость. Если съесть десяток ломтиков — начинало откровенно клонить в сон.
Впрочем, чум к этому моменту всегда был уже готов — забирайся и спи.
Одна беда — невыпитый перед сном чай к моменту пробуждения превращался в льдинку. Пить его сразу после рыбы тоже было невозможно — уж больно горячий. Вот и приходилось, отчаянно борясь с дремотой, дожидаться чуть не по полчаса, пока лопари начнут разливать ароматный напиток. Чаще побеждала сила воли. Но иногда — и вкрадчивый бог Морфей.
После шести таких переходов из снежных сугробов по сторонам тропы стали выглядывать деревья. Поначалу — низкие и уродливые, словно отравленные ядом. Потом стволы окрепли, выросли, и очень скоро караван из упряжек ехал уже средь густых еловых и сосновых боров, расползающихся по холмам. Вместе с лесами возник и день — если так можно назвать время, когда небо на несколько часов становилось чуточку светлее обычного.
Еще через несколько переходов из-за горизонта впереди, в расселинах между холмами, стало проглядывать и само солнце. А потом вдруг оказались они на наезженной дороге и через несколько часов въехали в обширное селение.
Лопари остановили сани перед одношатровой рубленой церковью с высокой островерхой звонницей, кратко сообщили:
— Варгуза! — И тут же потребовали: — Серебро давай.
— Даю, даю, — поспешил успокоить их Зверев, слезая с саней и расстегивая сумку: — Вот, держите, не бойтесь.
Возчики, припрятав плату, сняли княжеские чересседельные сумки и повернули назад. Задерживаться в поселке им явно не хотелось. Князь перекрестился на икону, что красовалась над дверью, но в храм заходить не стал. Огляделся. Поселок был не просто обширен, а огромен: не меньше полутора сотен домов. Внизу, в белом поле, стояли десятки причалов, а за полем снова поднимались поросшие густым лесом склоны холма.
— Пахом, — попросил Зверев. — Загляни в храм, спроси у священника, как нам проще оказию до Холмогор найти. Со старостой государевым словом договариваться, али кто так, за малую копейку отвезет?
Князь Сакульский был уверен, что за реальную плату добраться до цели получится куда быстрее и с большим комфортом, нежели требуя именем царя бесплатного «ямского тягла». И оказался прав: спустя несколько минут Пахом вышел на крыльцо с упитанным и розовощеким местным батюшкой.
— Отец Иннокентий сказывает, надобно ему перед игуменом соловецким отчитаться. Намеревался через неделю ехать, так и нас прихватить согласен.
— Некогда нам неделю ждать, отче, — покачал головой Зверев. — Государь меня срочно к себе истребовал. Посему поспешать надобно изо всех сил.
— Мыслю я, княже, игумен Филарет не осерчает, коли я пораньше немного пред очи его предстану, — степенно ответил батюшка. — А служба государева есть долг святой пред Богом и людом православным. Раз нужда такая, можем и завтра тронуться. У меня дома переночуете, отогреетесь после ночного зимника, да с Богом и в путь. Вам ведь в Холмогоры, не на острова Соловецкие надобно? Тамошний путь накатан, резво покатимся.
— Коли завтра, то по рукам, отче, — согласился Андрей. — Скажи, а отчего у вас в селении только у половины домов дым из труб идет?
— Дык, Басаргин правеж недавно случился, — вздохнув, перекрестился отец Иннокентий. — Опричники наезжали, людей побили, разорили все…
— Ты ври да не заговаривайся! — повысил голос князь Сакульский. — Это когда такое случалось, чтобы опричники государевы понапрасну кого-то били да грабили?! Почему приезжали, когда?
— Десять лет тому правеж случился,[16] — вздрогнул поп. — Басарга Леонтьев отряд детей боярских привел. Они и буянили.
— А почему прислали его? — потребовал ответа князь.
— Тати какие-то на обоз людей двинских напали. Разбойничали, разорили все добро. Увезли, что было, до хвостика. Четверых купцов убили вусмерть.
— Вот, значит, как? — ухмыльнулся Зверев. — Стало быть, не просто так приехали, грабеж расследовали случившийся? Ну и как? Татей нашли?
— Дык, откупщики-то двинские озверели совсем! Как можно тягло свое на чужие тони перекладывать, серебро втрое супротив государева требовать! Купец Бачурин сам хуже татя любого! Гореть ему в аду в самом пекле гиены огненной!
— Татей, стало быть, опричники нашли, — сделал верный вывод из его тирады князь Андрей Сакульский.
— Штраф на весь поселок опричники наложили, — признал поп. — За душегубство и грабеж указали весь убыток двинским людям выплатить. Тысячу семьсот шестьдесят четыре рубля. Деньги-то непомерные, княже, сам понимаешь. А кому охота тягло лишнее на себе тянуть? Посему все, кто мог, и разбежались. Токмо приписные люди и остались. От правежа государева все едино не скрыться. Плачут слезами горючими, да тянут. Однако же ныне хоть с тяглом государевом легче. Государь подьячего своего вернул подати в казну собирать, посему лишнего более не требует.
— А до этого кто собирал? — уточнил Зверев.
— Дык, государь-то наш всемилостивейший дозволил всем, кто тягло без надзора царского платить согласен, самим себе из люда местного судей избирать, старост да сборщиков, — напомнил отец Иннокентий о преобразованиях, сделанных Иоанном Васильевичем еще в середине века. — Государь наш, знамо дело, в мудрость народа русского, православного, верит и посему без кнута воеводского жить позволяет, по справедливости и по совести.
— И? — не понял смысла столь долгого вступления князь.
— Волость-то наша от Холмогор считается. Ну, тамошние люди после такового дозволения из своих купцов откупщиков выбрали, да все тягло на окраинные земли и переложили. Вот купец Бачурин, один из откупщиков двинских, и стал с Варгузы втрое супротив прежнего тягло требовать. За то его с людьми и побили. Ну а государь Иоанн Васильевич, как про сии безобразия прознал, так и повелел Варгузу нашу в опричные земли отписать да тягло взимать прежним порядком, без откупщиков.
— Как интересно, — хмыкнул Зверев. — Значит, лишнее тягло с вас потребовали люди двинские, зарезали вы их сами, а виновными в итоге опричников называете? Так выходит, отче? За то, что порядок навели, в деле разобрались и порядок восстановили?
— Дык… ведь… княже… — с запинками ответил поп. — Тыщу семьсот шестьдесят четыре рубля штрафа! Откель в Варгузе такие деньжищи? Эвон, как разом деревня обнищала-то. Пятый год ни единого вклада в храм никто не делает. Токмо на откуп все и трудятся…[17]
Отповедь князя изрядно испортила настроение отцу Иннокентию: с гостями он больше почти не разговаривал, смотрел в сторону, на вопросы отделывался ответами односложными. Наверное, больше всего ему теперь хотелось указать защитникам опричнины на порог — но желание заполучить хоть немного полновесного серебра при общем окружающем обнищании таки пересилило: батюшка князя с холопом и накормил, и спать положил, и даже помывку устроил. Правда, не в бане — ту разогревать бы слишком долго пришлось, а в обширной топке русской печи, стоящей у него дома. К вечеру она остыла аккурат так, что жар оставался, но не такой сильный, чтобы обжечься. Выпрямиться в печи было невозможно, но один человек сидя умещался. Намылиться и облиться — получалось.
Поутру переодевшийся в малицу и меховые штаны отец Иннокентий ошарашил князя видом трех собачьих упряжек, привязанных у крыльца. Одна была уже нагружена, две другие дожидались пассажиров.
— Однако… — только и крякнул Зверев, но задавать вопросы обиженному батюшке не стал. Просто сел, куда указано, и накрылся пологом из двойной оленьей шкуры. Каюры встали на полозья — и нары понеслись.
Уже через час все вопросы отпали сами собой, прежде всего, мчались запряженные веером псины почти вдвое быстрее, нежели лошадиная повозка, только встречный ветер хлестал путников по лицу. Широкий накатанный наст зимника улетал под полозья со скоростью мчащегося рысью скакуна. Но если скакуну уже через час следовало давать роздых — собаки темпа не сбрасывали ни на миг. Время от времени каюры, правда, делали небольшую остановку. Но лишь для того, чтобы обойти собак, осмотреть им лапы и проверить ремни и шлейки. А потом опять — гонка во весь опор.
Второй сюрприз ожидал князя поздно вечером, когда каюры остановились-таки на ночлег. Они наскоро собрали кожаный чум, перекидали туда с нарт меховые пологи, после чего покормили собак, бросив каждой по крупной мороженой рыбине, похожей на лососину. Уж кто-кто, а князь Сакульский, уже который десяток лет не выбиравшийся из походов, знал, что лошади в походе нужно на день никак не меньше пуда сена, либо полпуда и изрядную тору овса. Чтобы резво тянуть сани примерно такого же веса, как нарты, меньше чем парой не обойдешься. А лучше — запрячь тройку. Однако даже пара слабых рысаков слопает вдвое больше корма, нежели досталось собакам. На каждую упряжь из десяти псин — примерно пуд рыбы. Всего половина мешка! В дальних же ратных походах вес и размеры фуража — главная головная боль для любого воеводы.
Но и это еще не все! Собаки разгрызли свой ужин в считаные минуты — и, довольные, принялись укладываться спать. Лошади же подолгу жуют свое сено, каждый день отнимая по несколько драгоценных в дальнем походе часов!
У Андрея в голове тут же взорвалось громадье планов по переводу всех обозов русской армии с лошадей на собак. Это ведь и размеры обоза можно сократить почти втрое, сэкономив на одном только фураже многие сотни повозок, это и скорость переходов можно увеличить в два-три раза! Мир дрогнет и тут же падет к ногам русского царя, не рискуя противостоять столь стремительной и маневренной рати, не отягощенной неповоротливым балластом!
Так, в мечтаниях, он и заснул. А когда проснулся, подкрепил силы несколькими глотками вина и большим бутербродом с салом. Нарты уже снова были запряжены, и гонка по прямому, как стрела, зимнику через Белое море продолжилась. Собаки мчались как заведенные и ввечеру впереди показалась темная полоса берега. Накатанный путь уверенно вывел их к устью Северной Двины, упряжки помчались по речному льду и уже через час остановились между высокими стенами и низкими длинными причалами Холмогор.
— Изумительные у вас упряжки, отче, — похвалил собак князь, расплачиваясь с попиком. — Быстрые, как ветер, и сильные, как волы. Даже не понимаю, почему все вокруг не ездят только на собаках, почему лошадей предпочитают?
— Дык, понятно почему, княже. — Щедрая похвала и тяжелая серебряная монета растопили обиду священника. — Лошадь, коли она без надобности, я на луг пустил, да и пусть пасется. Али сена ей на том же лугу могу накосить. Собаку же, нужна не нужна, ан все едино каженный день мясом али рыбой накорми обязательно. И гонять в упряжке ее каждый день надобно, иначе навык потеряет.
Хрустальная мечта князя Сакульского рухнула оземь и разбилась в мелкие брызги. Попытка представить себе, что хотя бы половина лошадей его княжества будет съедать каждый день по свиному окороку, курице или крупной щуке, не выдержала испытания рассудком. А ведь собак для равных упряжек понадобится вдвое больше, чем лошадей; ведь еще нужно будет выращивать молодых ездовых псов для замены старых или раненых; а ведь на отбракованных собаках пахать не получится, кругляк из леса они выволакивать не смогут, да и для других многих работ их не приспособить. И в атаку на вражескую орду верхом на собаке, пусть даже самой лучшей, витязю никак не помчаться. Вот и получается, что как бы ни были хороши стремительные собачьи упряжки для лихих пробежек, ан ленивая прожорливая коняга — все равно лучше. Одно дело — одинокий северный охотник, каждый день проверяющий ловчие снасти или речные ставни и всегда имеющий запас нетоварного мяса и рыбы для десятка собак, и совсем другое — большое хозяйство богатого знатного князя.
И все же острое желание завести у себя в княжестве хотя бы одну упряжку таких вот умных, ловких и быстрых «рысаков» запало князю в душу. Он даже клятву себе мысленную дал: купить ездовых собак, когда управится с делами. А дела торопили дальше в путь. Отдохнув в Холмогорах на постоялом дворе, князь там же купил у хозяина четырех верховых меринов и с рассветом поскакал с Пахомом одвуконь вверх по Северной Двине.
Скакуны шли, может, и не так ходко, как голодные коротконогие псы, но верст по пятьдесят за день вымахивали. В немалой степени помогало путникам то, что каждое утро они пересаживались на другого коня, давая прежнему отдых — а потому могли не тратить времени на дневки. А также то, что Двинский путь был наезженным и оживленным, и потому на удалении примерно в половину дневного перехода друг от друга по берегам здесь имелись удобные обустроенные стоянки, куда смерды из окрестных сел подвозили на продажу кто сено, кто овес, кто снедь из своих закромов. Скакать можно было налегке — но при этом в сытости и на сытых лошадях.
Через неделю они все-таки задержались на день в широко, вольготно раскинувшейся на много верст окрест Кургомене, не признающей оборонительных стен. Дворов тут было, пожалуй, не больше двух сотен — но зато каждый отстоял от соседнего чуть не на полверсты, окруженный плетнями и огородами. Попарившись в бане и отоспавшись в тепле, путники снова поднялись в седло, и не останавливались уже до самого Великого Устюга,[18] древностью мало уступающего Великому Новгороду или даже Старой Руссе. Здесь, после короткой передышки, путники повернули с Северной Двины на Сухону и по ней за две недели добрались до Вологды, оставив позади большую часть пути.
От Вологды до Москвы можно было добираться аж двумя путями: Ухтомским волоком до Шексны, и по ровному речному льду через Углич и любимую государем Александровскую слободу, либо лесным зимником на Ярославль, через Ростов прямо в столицу. Князь Сакульский размышлял над этим вопросом два дня, нежась в мягких перинах и отпиваясь после пара хмельным ставленым медом. Потом сказал Пахому, что у него предчувствие, будто государь Иоанн ныне пребывает в Москве. Последовал еще один переход — на этот раз уже без всяких послаблений, — и вечером десятого дня князь Андрей Васильевич спешился уже на собственном подворье неподалеку от Кремля.
Бывший сотник проявил себя неплохим хозяином: хотя двор и не был убран полностью, к сараям и конюшне шли расчищенные дорожки, дворец не промерз, масляные лампы оказались заправлены, свечи — в светильниках, у каждой печи — охапка дров. Баня, ужин, постель — все оказалось приготовлено быстро и правильно, словно и не отлучался князь Сакульский со своего дворца больше чем на полгода. А ведь лучший слуга, известное дело, не тот, что под ногами постоянно с хлопотами крутится, а тот, которого вроде и не видно — но при нем все всегда в порядке, чисто, вовремя и на своих местах.
Разумеется, прежде чем являться в царский дворец, Андрей намеревался немного отдохнуть, отоспаться, привести себя в бодрый и достойный вид. Однако уже на рассвете в ворота постучался посланник в ярко-зеленом зипуне и такой же суконной шапке со свисающей набок макушкой. Впущенный во двор, поклонился вышедшему на крыльцо Андрею, громко стукнув себя кулаком в грудь:
— Здрав будь, княже! Государь Иоанн Васильевич пред очи свои тебя кличет!
— Вижу, хорошие у царя в Москве соглядатаи, коли он о приезде моем знает, едва я порог дома переступил. Коли кличет, стало быть явлюсь. Ты заходи, служивый, медку испей, подкрепись, отдохни от хлопот государевых.
— Сей же час звать велено, Андрей Васильевич, без промедлений! — громко отказался гонец. — Государь ожидать изволит.
— Пахом, вынеси ему пива, — распорядился князь, — и коня оседлай. Пойду оденусь. Коли так приглашают, придется поспешать.
Спешка оказалась столь велика, что, вопреки обычаю, князя с посыльным пропустили в Кремль верхом. Андрей спешился у крыльца за Грановитой палатой, вслед за гонцом взбежал по ступеням, миновал коридор и пару горниц, вошел в пустую и гулкую посольскую залу. Посыльный громко щелкнул каблуками, привлекая внимание, отступил.
— А-а, князь Андрей Васильевич! — повернул голову к гостю правитель Всея Руси. — Долгонько тебя ждать-то довелось, долгонько.
— Так и путь неблизкий, государь, — склонил голову Зверев. — Поспешал, как только мог.
Царь за минувшие годы изменился, и очень сильно. Щеки его впали, словно от недоедания, кожа стала мертвенно-бледной, небольшая бородка торчала вперед, словно щучий хвост. Иоанн буквально усох, и только глаза смотрели по-прежнему остро и молодо. Вместо монашеской мантии одет он был ныне в длинный кафтан, вышитый серебром, и простенькую парчовую тафью, сшитую из четырех клиньев. На пальцах сверкали несколько крупных перстней, руки сжимали посох с позолоченной резьбой на оголовье. И это не ради пышного приема — в посольской палате перед троном всего пятеро бояр стояло, да один подьячий с пером и несколькими свитками.
— Мог бы жениха и поближе сыскать, — грубовато пожурил князя государь. — Почто на край света к схизматикам упертым подался? Впрочем, дело твое. Отдохните покамест, бояре, поразмыслите. Опосля беседу нашу завершим, после обеда. Яшка, вели амбалам моим явиться. Устал. Иди сюда, Андрей Васильевич, подсоби спуститься…
Зверев поначалу даже не понял, о чем именно просит его Иоанн, но когда тот, болезненно поморщившись, вытянул руку, подскочил, подставил свою:
— Карает Господь меня за грехи тяжкие, — простонал царь, медленно, с усилием, поднимаясь, перенеся вес свой на посох и руку Андрея. — Ты, княже, ты накаркал, когда с митрополитом Филиппом на царствие меня усаживал. Ты, твои уста изрекли проклятие, что все грехи за деяния, для блага царства моего нужные, на меня лягут. Так, оно, видишь, и случилось…
Иоанн медленно, шаг за шагом, спустился со ступеней к обитому красным сукном креслу, на которое Зверев поначалу и внимания не обратил.
— …державе сила и богатство от грехов опричных вышла, мне же — боль и страдания вечные… — С громким стоном он опустился в кресло. — Весь путь Иисусов прохожу шаг за шагом на Голгофу свою. Нет ни дня без муки, ни единой конечностью не шелохнуть без боли. И коли таков путь мой выходит, каково же будет само распятие? Скажи мне, колдун, правду. Нечто вечно мне терпеть это все в геенне огненной?
— Коли ад к тебе на землю спустился, — ответил Андрей, — стало быть, в ином мире ему уже не бывать. Делами своими, милостью и любовью к ближним ты прощение всяко заслужил. Господь наш муку на земле за других принял и тем царствие небесное обрел. Чего тебе опасаться, коли путь его повторяешь в точности?
Он уже понял, что его советам как можно больше двигаться, несмотря ни на что, царь так и не последовал. А ведь баня, согревающие мази и движение вполне могли бы спасти правителя Всея Руси от нарастающего паралича. Впрочем, осуждать больного Андрей тоже не спешил. Легко давать советы, глядя на чужие муки со стороны. Но вот следовать таким советам, когда любое движение причиняет мучительную боль, — отнюдь не так просто.[19]
— А ты не боишься ошибиться, Андрей Васильевич, когда платой за сие заблуждение окажутся муки в вечности? — полуприкрыл глаза, переводя дух, Иоанн и неожиданно протянул князю посох.
От дверей в залу прошли четверо плечистых удальцов из простолюдин: длинные волосы, тафьи на голове нет. За специальные короткие рукояти кресла они подняли царя, понесли его к выходу. Зверев поспешил следом. Спустя несколько минут они оказались все в тех же покоях, в которых царь принимал его уже не раз. Здесь не изменилось ничего: бревенчатые стены, плотно проконопаченные мхом, ковер на полу, несколько сундуков, шкаф и пюпитр. Разве только сваленных охапками грамот стало чуть больше, да потолок успел закоптиться от света ламп и свечей до полной черноты.
— К шкапу опустите, — распорядился Иоанн. — Да, здесь хорошо, ступайте. — Он подождал, пока слуги прикроют за собой дверь, продолжил: — Ты там, в Гышпании своей, вовсе о делах наших позапамятовал, али совесть в сердце все же постукивала?
— Следил, — покачал головой Зверев. — Знаю, в Польшу тебя за сию пору дважды звали на царствие королем тамошним и дважды с тем обманывали, плебеев всяких заместо тебя сажая. Последний раз и вовсе раба какого-то неведомого из лесов трансильванских османы прислали. Его ляхи себе на шею и водрузили с превеликой радостью.
— Да уж, тут ты прав, Андрей Васильевич, — согласился государь. — Откель султан сего странного наместника для шляхты вытащил, ни един лазутчик выведать так и не смог. Сказывали иные люди, в кровосмесительстве он рожден от кровосмесительного рода и потому никто о сем племени никогда не ведал… Но уж больно странно сие — что для басурман, что для людей веры христианской, пусть и схизматиками насаждаемой. Однако же ясно мне с первого часа стало, что не для того пса своего султан в Польше на стол посадить решил, дабы дружбы моей сыскать. Ясно сие, как день: решил он после резни Молодинской, что ты с другами своими басурманам устроил, чужими руками месть державе моей учинить. Сам идти, мыслю, теперича опасается, янычар своих бережет — на ляхов же ему плевать. Пусть хоть все они на земле нашей сдохнут безвестно, султану от того токмо радость. Их кровью воевать и пойдет. Опять же, и в Крымском ханстве есть еще кого в седло посадить. Пусть не десятками тысяч ныне воинам счет ведут, а лишь сотнями и тысячами — ан есть. И средь ногайцев лазутчики замечены, о чем мне тамошние други все чаще отписывают. Смущают степнякам умы, подговаривают нападать снова на рубежи наши, прежние страхи отринув.
— Коли вместе с янычарами вырезать смогли, одних и подавно вырежем, — небрежно пожал плечами Зверев. — А опосля еще и в кочевья их наведаемся, дабы урок прежний закрепить.
— Сами не посмеют, — согласился царь, — после Молодей храбрецов таких средь басурман более нет. Однако же, коли с запада враг сильный на нас навалится, так и они захотят удачи испытать, как же без этого. Таким замысел султанский я и вижу: разом со всех сторон навалиться и опрокинуть одним ударом могучим. Да сотворить сие чужой кровью и чужими руками, дабы свою силу сохранить и опосля по костям держав слабых и разоренных всею мощью пройти, окончательно порядки басурманские утвердить.
Зверев вздрогнул. Ему сразу вспомнилось пророчество Лютобора о погибели общей земли русской. Именно так оно и должно было выглядеть: руками ляхов, татар, османов разом навалиться со всех сторон, задавив числом, утопив в крови, не дав развернуться навстречу кому-то одному, собраться в кулак. Правда, кое-что в планах судьбы ему уже удалось ощутимо изменить. Крымское ханство из врага превратилось в союзника, османским войскам пять лет назад русские устроили жесточайший разгром и теперь они в новый поход не рвутся. Так что начало предначертанного нашествия не только отодвинулось на несколько лет, но и грозило силами куда меньшими, нежели обещал древний чародей. Пожалуй, даже — вдвое меньшими.
— Но беда сия не самая страшная, — размеренно продолжил Иоанн. — Беда истинная в том, Андрей Васильевич, что четыре года подряд лета в землях русских не бывало. Холодные ныне лета, во многих местах и вовсе снег выпадал то в июне, то в августе. Хлеба не вызревают, амбары пусты, люди аки волки воют от голода. Ведомо мне, даже боярские дети до того обнищали, что холопам своим, воинам драгоценным, для сечей и походов выросшим, вольные дают, ибо прокормить не в силах. Да не токмо дети боярские, но и бояре иные так же поступают. Недород хуже набега басурманского народ православный пожирает, почивших уже отпевать не успевают в храмах. Голод же, знамо дело, без мора почти и не бывает. Косит лихоманка черная людишек ослабевших, ровно косой траву луговую. Целые волости у меня обезлюдели, княже, половина земель непаханными стоят. Такая вот беда еще упала на мою голову.
— И что теперь? — Зверев ощутил на спине неприятный холодок, уже догадываясь, к чему именно поворачивает этот разговор. — Ничего не сделать?
— Во власти моей немногое, — через силу, болезненно поморщившись, перекрестился государь. — Земли обезлюдевшие я монастырям, князьям и боярам крепким жалую, дабы поднимали их и заселяли снова. Подати в волостях, в коих голод случился, отменяю вовсе, где на три года, где на пять, где и вовсе на семь. Да токмо рази человека за семь лет вырастишь? Рази купить пахаря за злато али серебро возможно? От ляхов, от немцев смерды к нам бегут — и то хоть какая-то прибыль людская. Но мало, зело мало их супротив сгинувших от мора и недорода долгого.
— Сколько же у тебя людей ныне, государь? — остановил поток жалоб князь Сакульский.
— По ябеде Разрядного приказа последней, сто пять сотен детей боярских они на службу собрать смогли, да тридцать одну сотню стрельцов да казаков. Вот и вся моя нынешняя роспись…
Зверев чуть не застонал от неожиданности. Даже если учесть, что роспись в нынешние мирные годы дается только на тех ратных людей, что призываются от земли на службу «вкруг», и куда больше половины бояр и стрельцов ныне остаются дома, занимаются хозяйством и делами семейными, чтобы потом сменить своих сотоварищей в порубежье или крепостных гарнизонах — все равно такого разорения в стране он никак не ожидал.
— Еще татары есть, — словно в утешение добавил Иоанн. — Казанские, поволжские, касимовские Клятвы своей на верность держатся крепко, в походы идут охотно, недород их разорил мало. Мыслю, сотен двести по нужде в седло поднять можно.
Андрей Зверев только вздохнул: легкую татарскую конницу в лобовую атаку на плотный строй не кинешь, в гарнизоне с пушками и пищалями не посадишь. Они хороши в преследовании, охвате. Стрелами могут закидать. Но для жесткой сечи глаза в глаза — слишком слабы.
— Это верно, — согласно кивнул Иоанн, медленно и осторожно. — Правильно вздыхаешь. Тяжкая ныне напасть пришла на Русь, ох, какая тяжкая. И мыслю я, не иначе как колдовство кто-то злобное творит супротив люда православного. Истребить хочет род русский начисто, под корень, мором, огнем, мечом и голодом.
— Так уж сразу и колдовство? — поежился Зверев от нехорошего предчувствия.
— Оно самое, — со стоном подтвердил Иоанн. — Магия бесовская, черная, проклятущая. Я, как понимать сие начал, молебны во всех храмах указал вести во избавление от волховства поганого. Ибо нет силы, выше Господней. Помнишь, как с Казанью крест святой помог, из Москвы под стены басурманские привезенный? Там тоже чародеи османские напасти грозные на нас насылали, хляби небесные разверзли, дороги все затопили — ни пройти, ни проехать, пороха сухого не найти… А как крест доставили, молебны христианские сотворили, так и кончилась разом сила колдовства басурманского. Разошлись тучи черные, высушило солнце ясное дороги и просеки, и все воинство православное. От и ныне о них же я помыслил, об османах. Оченно они чародейство для дел своих поганых пользовать любят. Для защиты от волховства проклятущего во всех храмах русских от Рождества до Сретения монахи с иерархами всенощные стояли, за избавление от напасти сей молились. И, мыслю я, избавили землю русскую от сей беды. Ибо любима наша земля Господом превыше других, и отринуть наши молитвы он не мог…
Иоанн вздохнул, протянул руку. Андрей вложил в нее посох, царь поставил его между ног, сжал обеими ладонями, распрямился, выгибаясь назад. Князю даже показалось, что послышался хруст позвонков.
— Прости мя грешного… — простонал Иоанн, полуприкрыв глаза. — Но не о том, княже, речь. Земля русская наша ныне молитвами от чар спасена, иных же держав защитить я не могу, ибо веру истинную они отвергли. И чары злобные колдунов неведомых корежат их, ровно одержимых пред иконами. Безумие непостижимое рухнуло на головы соседей наших. Такое творят, будто смерти и мук страшных сами ищут. Свены, с коими со времен святого Александра Невского порубежных споров не случалось, вдруг из-за пустяковой стычки рыбаков, что за тюленями охотились, возжелали войну затеять, к землям ингерманландским сунулись да крепость Орешек неприступную захватить вознамерились. Знамо дело, биты были преизрядно, пощады тем же годом запросили, полон весь вернули до последнего ратника. Своих же, свенских, я им выкупать приказал. Все для казны прибыток, и боярам приятно. Всего три года тому мир они подписали безропотно, поклялись рубежи, святым Александром оговоренные, чтить и не тревожить, однако же ныне, слышал, с ляхами супротив меня снова сговариваются. Разве не безумцы?
Иоанн покачал было головой, но тут же поморщился от боли, чуть передохнул и продолжил:
— Многие века ратники свенские и нурманские верными рабами князей русских были, в дружинах служили, славы имени своему добывая. Ныне же нос воротят и ко мне не идут. На обиду свою ссылаются. А что за обида, коли за дело биты? Они же в земли наши ринулись, не я к ним стучался. В землях немецких тоже служилого люда собрать не вышло. Король ихний Максимилиан о прошлом годе умер, и ныне смута там какая-то затеялась, промеж собой резаться затеяли. Опять же османские лазутчики по землям тамошним шастают, тоже люд служилый на войну кличут и плату изрядную сулят. Мне столько за службу никак не положить. Прежние подати из казны потрачены, в недород их, почитай, и не было, а на будущие годы оных и не жду, ибо сам же волостям голодным тягло свое простил. Не купить мне ныне чужую кровь, княже. Не на что.
Иоанн снова замолчал, о чем-то размышляя. Спохватился:
— Так я о чародействе сказывал, что безумие окрест земель русских насылает. Король ливонский Магнус, токмо руки мне целовавший и за подмогу ратную благодаривший, вдруг клятвы свои отринул и псу османскому присягнул на верность вечную. Ровно и не знает, что басурмане все едино за собаку неверную его считать станут, обещания ни единого не исполнят, оберут догола и на помойку выкинут.[20] Король датский, ровно ослепнув, сей дури не заметил и токмо два острова из всех земель, что я в приданое за племянницей давал, за короной датской оставил. Безумие, князь, безумие обрушилось на умы королевские. Один за другим от земель, волостей и городов своих отказываются в пользу собаки османской и слова поперек ему не говорят… Колдовство это басурманское, княже. Чистое колдовство. Иным ничем сего полоумия объяснить не могу.
— Султан османский на такое способен, — согласился Зверев. — Магрибские колдуны, своим чародейством всему миру известные, ныне среди его подданных. Суфийские мудрецы тоже. Египет, хранящий половину тайн мироздания, тоже в его владениях вместе со всеми его жрецами и магами. Его возможности велики. Так велики, что и подумать страшно.
— И он не погнушался силы сии супротив Руси использовать, — подвел черту Иоанн. — У султана Мурада чародеев много, у меня же лишь един, княже. И одно хорошо, что чародей этот долгой верной службой честность свою доказал и потому опасаться его мне не надобно…
Андрей прикусил губу, но в этот раз Иоанн почему-то решил не называть его имени. Может быть, потому, что раньше намеки на колдовские способности князя Сакульского были обвинениями, кои бросались в лицо. Ныне же царю от колдуна потребовалась помощь. Помощь именно колдуна, а не служилого князя.
— Коли молитвы православные чары над королями-схизматиками развеять не способны, может, хоть колдовством супротив магии управиться выйдет? Может, хоть ведовство исцелит их всех от сего чудовищного безумия? — наконец высказал свое желание Иоанн.
— Порою даже самые разумные люди совершают поступки, которые кажутся необъяснимыми и бессмысленными, — ответил Зверев. — Ведомо мне, оба короля свенских, нынешний Юхан и прежний Эрик безумны от природы. За что прежний от трона слугами своими был отстранен, а нынешний на трон долго не допускался. Что за шутка: ждать верных поступков от несчастных юродивых? Король же Магнус мог просто совершить глупость или быть обманут. Может статься, государь, никакого колдовства и нет вовсе. Просто случайное стечение бед в одну годину.
— Вот ты напасть сию и разреши, Андрей Васильевич, — ответил ему Иоанн. — Коли чародейство — так развей силами христианскими. Коли беда — одолей. У тебя завсегда получалось как раз с неразрешимыми делами управляться. На левом сундуке грамоты возьми. Видишь, которые без шнуров для печатей? Подорожные там лежат. Возьми три. Заполнишь сам. Завтра же в седло поднимайся и в Полоцк мчись. Он ближе всего к сему безумству стоит, на самой границе польской. Далее с чарами и планами бесовскими разберись. Не про тебя сказываю, про тех чернокнижников, что чары свои там творят. Узнай, проведай, отпишись немедля! Коли надобность будет в логово вражье пробраться… Шкап открой и два кошеля возьми с верхней полки. Лазутчиков покупай, слуг, бумаги султанские и королевские, пей со шляхтой, расспрашивай наемников тамошних. Знать мне дай, что за планы реют в землях тамошних и удастся ли безумие колдовское остановить. Все, ступай. Отдохнул уже преизрядно, ныне дней тебе свободных не дам.
С таким напутствием Андрей покинул дворец. В задумчивости прямо у крыльца он поднялся в седло и медленно выехал в город.
Он знал много способов, чтобы определить, наведена ли порча на человека: от взгляда через огонь и голубиное яйцо и до отливки на пчелиный воск — уроки волхва Лютобора крепко сидели в памяти. Но древний чародей ни разу не упоминал ни о сглазе, который наводится сразу на целую страну, ни о поиске чар на людях, о которых неведомо ничего, кроме их имени и высокого поста. Есть порча на короле Дании или нет? Кстати, про этого он не знал даже имени. Как-то не понадобилось интересоваться.
— Хорошо колдуну болотному, к нему прямо в нору с жалобой приходили, — пробормотал себе под нос Зверев. — Посмотришь — и сразу ясно. А вот с какой стороны к этой беде подступиться? И как снять, если найдется? Швеция не девка дворовая, ее воском через взгляд не отольешь.
Единственным возможным советчиком мог быть только сам Лютобор. Но, увы, устав после долгого пути, князь вечером провалился в глубокий сон, едва коснувшись головой подушки, и уловить момент полудремы, взять сновидение под контроль не смог. Ему вроде бы даже и не привиделось ничего — заснул, как сознание потерял, очнулся только на рассвете. Утром же — супротив царской воли не поспоришь — взял Пахома, доскакал до яма у Литовских ворот, предъявил смотрителю подорожную, в которую своею рукой вписал свое имя, добавив «с холопом», и через полчаса вылетел на тракт, с наслаждением подгоняя казенных скакунов в галоп.
Сказочное изобретение — почтовые перегоны. Летишь верхом с такой скоростью, что встречный ветер разве что шапку не срывает и кафтан не рвет, гонишь во весь опор, пулей проскакивая версту за верстой. А где-то через час, когда конь, роняя пену из-под упряжи, вот-вот, кажется, уже захрипит — сворачиваешь в ворота яма, спрыгиваешь с седла, бросаешь поводья дворне, маленько разминаешься, пока переседлывают, после чего поднимаешься в седло свежего скакуна, и опять — бросаешься в стремительный галоп, проскакивая за час столько верст, сколько в обычном пути разве за день проехать успеваешь. Ввечеру они остановились уже в Йоткино,[21] отмахав за день почти три сотни верст, а к концу второго дня пути пронеслись мимо Великих Лук и через несколько верст за ней повернули у знакомого ручейка с тракта на узкий проселок.
У Андрея даже сердце защемило, когда он наконец-то увидел впереди на взгорке обнесенную тыном усадьбу с заснеженными крышами дома и сараев, и крест на остроконечном шпиле церквушки у озера.
У ворот он спешился, жестом остановил Пахома, рвущегося, как всегда, вперед, потом сам, сжав кулак, постучал в запертые ворота. Очень скоро послышались шаги, отворилась калитка.
— Андрей Васильевич! Андрей Васильевич приехал!
От громкого крика незнакомого подворника в усадьбе началась суета, послышался шум шагов. Загрохотал тяжелый брус: князю отпирали ворота полностью, не унижая требованием протискиваться в узкую створку. Андрей с трудом справлялся с желанием расспросить об отце и матери, понимая, что с минуты на минуту увидит их самих и сможет сам расспросить обо всех мелочах.
— Княже! Княже! Князь Андрей Васильевич? Сакульский?
Зверев обернулся к торопящемуся всаднику в зеленом зипуне, спешился, шагнул навстречу:
— Я князь Сакульский, зачем ищешь, служивый?
— Грамоты тебе от государя!
— Грамоты? — удивился Андрей. — Я же с ним разговаривал всего позавчера! Наказ получил, бумаги все потребные… Хотя, конечно, давай! Как же ты нас догнал-то? Не спал, что ли? Как нашел?
— Иоанн Васильевич сказывал, что не преминешь ты, княже, отца с матерью за Великими Луками навестить. И что нагоню, коли ночью, ровно днем, поспешать стану…
Гонец спешился — вестимо, изрядно отбив седалище за долгую гонку, полез в сумку через плечо, достал сразу два свитка, протянул Андрею.
— Пахом, — осматривая печати, распорядился князь. — Проследи, чтобы напоили служивого и спать уложили. Пусть отдохнет, заслужил. Спешить ему более некуда.
Он сломал печать на одной грамоте, развернул. На бумаге ровным каллиграфическим почерком указывалось, что царским именем князю Андрею Васильевичу Сакульскому предписывается проверить готовность крепостей порубежных к ратному делу, меры необходимые для оных приготовлений описать и пред очи царские представить. Еще не очень понимая причины подобной перемены в поручении, он сломал вторую печать, раскатал свиток. Здесь почерк был столь же опрятный, как и в грамоте с назначением, однако речь звучала живая, человеческая, словно писец на слух записывал царские слова, сидя рядом с троном. Похоже, увы, что боль в суставах вынудила Иоанна отказаться от привычки чертать письма своею рукой.
— Что там, Андрей? — спросил с хрипотцой боярин Василий Лисьин, который, не дождавшись сына во дворе, вышел к нему за ворота.
— Король Магнус, присягнувший османскому псу Баторию, в свои города вместо русских гарнизонов польские поставил. Когда же боярские дети и стрельцы наши оружие и склады им отдали, ляхи поганые на людей безоружных кинулись и всех перебили, никто из Ливонии назад так и не пришел, — сгоряча смял в кулаке грамоту Зверев. — Ты ведь знаешь шляхту. В бою труслива, однако над ранеными и безоружными глумиться обожает, хлебом не корми. Такого простить невозможно. Будет война.
Полоцк
Известие об очередной польской подлости сильно попортило настроение всем, а потому встреча с родителями не принесла Андрею ожидаемой радости. Обнял отца и мать, убедился в их здоровье, выслушал вполне ожидаемые жалобы на недород и бегство смердов от бескормицы. Единственное, что радовало старого боярина Лисьина, так это то, что после опричной перемены призывных правил наличие холопов стало головной болью Разрядного приказа, а не его лично. Запустение пашни уменьшало не его личную дружину, оно било только по царской рати. Правда, на боярском роде Лисьиных осталась обязанность содержать в исправности и готовности к осаде одну из башен великолукского кремля. Но с этим после череды неурожаев воевода помещиков особо не торопил.
Утром князь, оставив отцу часть царского золота, снова поднялся в седло. Дальше он скакал без Пахома: Дядька отправился в имение к ушкуйникам — предупредить корабельщиков, чтобы возвертались к княгине без хозяина. Зверев отлично понимал, что в ближайшие годы вырваться с отчизны уже не сможет.
Воеводой Полоцка сидел бывший опричник князь Петр Волынский из рода Гедеминовичей, далекий потомок героя Куликовской битвы Боброка Волынского. Грузный и вялый, с купеческой лопатообразной рыжей бородой, он принял Андрея в жарко натопленной горнице, все стены которой были завешаны коврами и цветастой кошмой, с богато накрытым всякими яствами столом — причем московского посланника за него не пригласил.
Звереву он как-то сразу не понравился и, не разводя долгих бесед, Андрей протянул воеводе царскую грамоту. Князь Волынский свиток развернул, неспешно прощупал глазами, крякнул, поднял черные зрачки на гостя:
— Никак, князь Андрей Васильевич? Тот, что у Молодей стрельцами и пушкарями командовал? Рад видеть, княже, рад. Брат мой двоюродный, Михаил, голову там, сказывают, сложил, наряд твой в сече прикрывая. Баклажкой его други звали, не слыхал?
— Дети боярские меня в те дни много раз от смерти в последний момент спасали, — перекрестился Андрей. — Прости, лично с ним так и не увиделся.
— В сече все равны, — кивнул воевода. — Иной раз и князь собой ради холопа жертвует или заради обидчика былого на пики кидается. А по большей части и не ведает никто, за кого свой живот кладет и кто спасителем оказывается. Что же ты стоишь, княже? Садись, попотчуйся, чем Бог послал. Помянем давай брата моего, слугу верного царского. Садись. Вино у меня фряжское, доброе. Не то что кислятина немецкая. Брат такое любил.
Воевода переставил с другого края стола серебряный кубок, наполнил из кувшина до краев, налил себе. Князья молча выпили, вспоминая друзей и родичей, сложивших головы в ратных походах. Андрей выдернул столовый нож, наколол себе ломоть буженины, отправил в рот. Зачерпнул сочной квашеной капусты с брусникой и яблоками.
— Замаялся, поди, с дороги? На почтовых лететь, знаю, зело как тяжко. Оставайся у меня на постой, отдохни.
— Благодарствую, княже, — кивнул Зверев, — но не для того я на перекладных мчался, чтобы теперь время терять. Государь отчета ждет быстрого.
— Сказывай, в порядке все в нашем порубежье, — лениво предложил воевода. — Чай, не дети тут службу несут.
— Стены, я видел, местами просели у тебя, воевода, на иных башнях шатров супротив дождя нету, северный мост через ров не поднимается.
— Про то ведаю, княже, — согласился князь Волынский. — Однако же, сам ведаешь, недородом нас Господь уж который год карает. Людишек больно мало служилых у меня под рукой. И казна пуста вовсе. Тягло тянуть некому, податей не собрать…
— Тебя спасет сие оправдание, Петр Иванович, когда ляхи на эти стены кривые полезут али по мосту неподъемному в город ворвутся?
— Откуда здесь ляхи, Андрей Васильевич? — отмахнулся воевода. — Поляки, почитай, третий десяток лет с нашими витязями в Ливонии режутся. Здесь же с того самого часа, как государь Полоцк от схизматиков освободил, ни единого кнехта чужого не видели. Не станут ляхи здесь воевать, княже. Не здесь ныне их интересы. Там они, далеко, у берегов морских.
— То, что я командую нарядом и знаком с огненным зельем — это все, что ты обо мне слышал? — Андрей невозмутимо наколол на нож еще кусочек мяса.
— Нет, не только… — По лицу воеводы наконец-то мелькнула тень тревоги.
— Это случится следующим летом, — как можно спокойнее сообщил ученик чародея. — К этому времени тебе нужно подготовить крепость к осаде, вывезти из города все, что только в нем есть ценного, убрать куда подальше женщин и детей, предупредить окрестных крестьян, чтобы уходили в схроны или на восток. Следует позаботиться о том, чтобы даже при самом удачном для османского пса стечении обстоятельств он не получил от своего успеха никакого прибытка.
— Неужели одолеют схизматики? — насторожился князь Волынский.
— У меня плохое предчувствие… Особенно при виде кривых стен и застрявших мостов, — аккуратно подобрав слова, ответил Андрей.
— Не в стенах крепость городов, а в отваге, что бьется в сердцах русских воинов, — зевнул воевода. — И конечно же эту отвагу неплохо подкрепить припасом огненного зелья, двумя десятками пушек и хотя бы пятью сотнями стрельцов вдобавок к сотне моих. Дети боярские отважны, но они куда более привычны к бою в открытом поле, нежели на стенах. К тому же их под моею рукой всего три сотни.
— Я передам твою просьбу государю, — согласно кивнул Зверев.
— И коли все, что ценность имеет, ты мне, княже, советуешь отсель увезти, — задумчиво добавил воевода, — то казну городскую ныне оберегать я не стану и на работы необходимые потрачу. Но и ты, Андрей Васильевич, не обессудь. Коли спрос с меня случится, куда серебро казенное ушло, на тебя ссылаться стану.
— Ссылайся, княже, ссылайся. Но токмо слов моих не забудь. Немощных и малых, а также барахло, что хоть какую-то ценность представляет, из города убери и крестьян окрестных о том же еще с осени упреди. Чтобы от войны прятаться готовились.
— Нечто так уверен ты в этом, Андрей Васильевич? — покачал головой князь Волынский. — Коли ошибешься, как бы головой за такие советы не поплатиться…
— Нам ли с тобой смерти бояться, княже? — ответил размякшему, как амеба, воеводе Зверев. — Нечто ты плечом к плечу с побратимами с рогатиной на свенские полки тараном не мчался, нечто с вертлявыми басурманами один супротив пяти не рубился? Нечто дозором малым в неведомую степь не уходил? При боярском звании нашем за живот свой опасаться не с руки. Пусть смерды боятся. А мы сами кого хочешь испугаем.
— Хорошо сказал, Андрей Васильевич, — согласился князь Волынский, снова наполняя кубки. — Коли со страхом жить — проще сразу в черные сотни податься. Нам же честь родовая завсегда дороже!
От приглашения заночевать в доме воеводы князь Сакульский в итоге отказаться не смог — посидели они с князем хорошо. Однако на рассвете, обтершись для бодрости снегом, Андрей снова поднялся в седло и помчался от города к городу, от крепости к крепости. Сокол, Езерище, Усвят, Велиж, Заволочье, Себеж, Опочье… Раз за разом он въезжал в темные от времени ворота, осматривал стены, после чего ругал, грозил, пугал воевод, пытаясь заставить их привести укрепления в порядок. Десятки лет спокойной жизни оказались просто убийственны для быстро гниющей сырой древесины, которая везде и всюду шла на строительство крепостей. Да и для ратных людей долгий мир казался уже почти что вечным. Всем им на войну нужно было ехать — за много верст, на долгие недели пути. Домашний же покой стал привычным и убаюкивающим.
И каждую ночь, ближе к полуночи, ученик чародея призывал себе в помощь богиню Сречу и открывал зеркало Велеса, заглядывая в будущее. И каждый раз видел одно и то же: кровь, огонь и смерть. Но донести ясность своих видений до местных воевод зачастую был совершенно не в силах. О своей способности к колдовству князь Сакульский открыто говорить не мог, обычные же слова о близости врага на жителей, родившихся и выросших в этой близости, причем вполне безопасной, никакого впечатления не производили.
Месячное путешествие по порубежью закончилось Смоленском, где Андрей впервые вздохнул с облегчением: зеркало показало, что сюда османский пес не доберется. Теперь князь спокойно мог снова подниматься в седло и на почтовых лошадях нестись между стремительно оседающими апрельскими сугробами в Москву.
Царь принял его сразу, едва князь по приезду в Кремль велел рындам доложить о своем прибытии. Те даже спрашивать никого ни о чем не стали:
— В посольскую палату проходи, княже, — сказал один из личных царских телохранителей, отличимых от прочих служилых людей по белому кафтану с высоким воротником и коротким бердышом в руках. — Тебя велено без доклада пропускать, когда бы ни заявился.
— Всю жизнь сие велено, а пускают через раз, — буркнул себе под нос Зверев, поднялся по крыльцу, свернул в Грановитую палату и знакомой дорогой прошел в зал для торжественного приема заморских гостей. Здесь, как ни странно, было пусто и прохладно, не горело ни одной свечи, и только с улицы через слюдяные окошки сочился рассеянный солнечный свет.
Андрей прошел вдоль расписных стен с бесконечной чередой святых, обогнул трон, встал перед ним.
— Примеряешься, княже? — услышал он позади ехидный голос.
— Твой стол токмо тем сладок, кто не ведает, чем за власть платить приходится, — покачал головой Зверев. — За сотни и сотни тысяч душ отвечать, ни днем ни ночью отдыха не зная, под вечным прицелом иных искателей твоего скипетра и державы, среди ложных клятв, воровства и обмана? Нет, государь, благодарствую.
— Это верно, — признал Иоанн. — Ты на службу приходишь и уходишь, в иные дни волен себя и молитвам, и семье, и путешествиям дальним посвящать. Меня же Господь о желаниях не спрашивает. В любой день и час к делам призывает. Однако же бояре многие отчего-то не на тебя, на меня с завистью смотрят и место мое занять хотят.
Амбалы в нарядных атласных рубахах с вышивкой, принесшие царя, поставили его кресло у подножия трона, попытались было взять правителя всея Руси под локти, но он только отмахнулся:
— Потом! Ступайте. Сказывай, князь, кратко и быстро, пока думные бояре меня не нагнали. Я их ныне в трапезной оставил, но долго без меня не усидят, никакие яства не удержат.
— Отчет я составил подробный о надобностях крепостей и городов западных. Почитай, всем ремонт нужен изрядный, и немедля. Давно в осадах не сидели, расслабились, да и казна у воевод опустела в последние годы. Запасы боеприпасов пополнить надобно везде, пушки новые вместо тюфяков старых поставить. Ныне оружие устаревает в считаные годы. Тюфяк, коего под Казанью пугались, ако геены огненной, ныне токмо смех у ворога вызовет.
— И об этом потом, — остановил его царь. — О главном сначала сказывай: узнал ты что о чарах черных, на страну али роды королевские наложенных?
— Чудится мне, — после короткой заминки тихо ответил Зверев, — порча смертная и впрямь на Русь нашу была наложена. Сим колдовством и вправду объяснить можно, отчего десять лет последних у нас мор никак не остановится и ни зимы, ни лета не бывает, озимые хлеба не всходят, а яровые не вызревают. Колдовством нас стремятся истребить, в первую голову колдовством. Прости, государь, что сам не догадался. Я должен был понять это первым и уже давно, приказа твоего не дожидаясь.
— Кто? — кратко спросил царь, сжимая кулаки.
— Имени в сем деле назвать, прости, не выходит, — с сожалением развел руками Андрей, который и сам, не сумев разобраться в тайнах азиатской магии, обращался за ответом к мудрому Лютобору. — Сказать могу лишь, где-то на юго-западе обряды насылания порчи творились. Мне кажется, в Венгрии маги черные сидят, либо поблизости от нее гнездо свили.
— Султан, значится, гадит,[22] — бессильно зарычал Иоанн. — Семя басурманское в честной битве победить не способно, так, стало быть, хитростью и чарами свое взять пытается. Кровью польской и магией магрибской. Османы, османы… Вот и лапландские ворожеи то же самое о местах чародейства сказывают.
— Ты призвал на службу северных шаманов?! — изумился князь Сакульский, отлично зная про набожность Иоанна и отношение православия к ворожбе.
— Да, да, взял грех на душу! — зло признался царь и с некоторым опозданием перекрестился. — Коли душой своей чую, что без бесовских сил в бедах русских не обходится, приходится и чертям кланяться. Гореть мне в аду, Андрей Васильевич, ох, гореть. Карает меня Господь, наказывает. Болью карает, ложью и бедами, ан все едино без греха жить не выходит. И отмолить меня более некому, погубили иуды проклятые единственного человека святого, духовника моего Филиппа. Токмо колдуны и грешники округ и остались.
— Зато преданы тебе эти грешники куда крепче, нежели епископы и митрополиты нынешние.
— Потому и терплю, — отмахнулся Иоанн и тут же скрипнул зубами от боли.
— Терпишь, но не доверяешь. Заместо меня чухонцев каких-то к себе созвал.
— Коли ты по окраинам дальним бродишь — какая же на тебя надежа, Андрей Васильевич? А ну сгинул бы там и не вернулся? С кем бы мне тогда остаться в бедах своих? Так я от дикарей сих хоть какие-то ответы получил. О другом скажи ныне, пока наедине. Возможна ли беда такая, что колдуны османские на воевод моих такое же помутнение разума нашлют, что ныне на королей свенских, датских и ливонских свалилось?
— Возможно, но трудно очень, государь. — В этом вопросе Зверев разбирался уже неплохо. — Для наведения порчи надобно найти хоть что-то, прочно связанное с жертвой. Кровь, волос, слюну, кусочек плоти. Либо след человека подобрать. С королем сие просто. Он один, он известен. След взять легко. А взял — можно сразу проклятие насылать. С воеводой же дело сложнее. Поди угадай, кто из них и куда послан будет? На кого охоту вести, кого портить, а кого не трогать пока? Опять же, порчу ведь и снять можно, коли подозрение такое у человека возникнет. Хочешь, государь, и над тобой сей обряд проведем?
— Не было такого, княже, чтобы при встрече нашей ты не попробовал веры моей смутить и на душу мою не покусился, — скривился в недоброй улыбке Иоанн. — Вестимо, для того ты ко мне дияволом и приставлен, дабы искушениям в тяжкую минуту подвергать. Что же, скажу тебе снова: уж лучше я православным христианином в муках тяжких умру, нежели душу свою продам ради облегчения телесных страданий.
— Ну, исповедь, молитва и причастие тоже неплохую защиту от любой порчи дает, — поспешил загладить неприятное впечатление Андрей, но все же не утерпел и добавил: — И баня до полуночи.
— Все то, что чары колдовские для державы моей ослабить способно, то делай, — твердо ответил Иоанн. — На сей крест я согласен, и коли что для сего надобно — проси. Мою же душу не трожь.
— Пушек надобно хотя бы сотню, по три бочки пороха на каждую и по полста зарядов жребия и ядер чугунных, стрельцов сотен сорок и детей боярских вдвое больше.
— Это чтобы порчу снять? — даже рассмеялся Иоанн. — Хитер ты, Андрей Васильевич, хитер. Половину ополчения моего увести вознамерился!
— А чем людям ратным в Полоцке, Соколе, Велиже или Острове османского пса останавливать, коли там ни людей, ни пушек нету?!
— Ни у кого нет! — отрезал царь. — В Копорье заместо двух сотен всего полтораста человек сидит, во Гдове вместо двухсот всего сотня, да казаки служивые, в Соколе полста вместо сотни, во Пскове, что самой большой опасности ныне подвержен, всего шесть сотен стрельцов собрать удалось да две сотни детей боярских. Нету у меня людей лишних, Андрей Васильевич, нету просто их в листах разрядных! Да и те, что есть, не все по росписи в места сбора приходят, не во всех землях нужное число ратников собирается. В монастырь Соловецкий вместо полусотни стрельцов пришлось всего осьмнадцать отправить. Осьмнадцать! Каждый сосчитан, по именам. А с ними наказ собирать из местных людей и старцев покрепче охотников в дозоры на стены ходить. Старцы там ныне службу ратную несут, Андрей Васильевич, старцы! Нет людей ныне, нету вовсе! Мор и недород половину рати сожрали, многие тысячи самых опытных — вспомни! — в Москве семь лет тому в пожаре угорели, да немало храбрецов на поле Молодинском полегло. За разгром османов цену немалую люди православные заплатили, раны еще не заросли. Да еще этот мор проклятый, да еще недород, — уже в который раз повторился Иоанн.
— Батория словами о недороде не отогнать. Он ведь сему известию токмо обрадуется.
— Ты же бился на поле Молодинском, княже, — прищурился Иоанн.
— Бился, государь…
Позади послышались шаги. Андрей оглянулся: это входили думные бояре в бобровых и горлатных шапках, каждая ценою в лошадь, и тяжелых московских шубах, стоимостью в табун. Впрочем, апрель не лето, в дворцовых залах до жары еще далеко. Так что пока в них было не столько тяжело, сколько тепло и удобно.
— Ныне мы новые засеки за Осколом строим, смердов туда переселяем, подъемные даем. Земли теплые и плодородные, заморозков не знают. Житница там наша будет, княже, житница всей земли русской. Кабы земли сии раньше лет на десять у османов отвоевали, может статься, последнего недорода и не заметили бы мы вовсе. Прокормили бы тамошние пашни всех, кому ныне Бог испытания послал. Коли сейчас, сегодня, пашни сии новые не защитить, стопчут их татары снова, опять Дикое поле пустынное в тех местах раскинется. Там, Андрей Васильевич, там будущая сила русская копится, там она зарождается. На просторах плодородных, бескрайних, непаханых. Сколь смердов, от шляхты и османов бегущих, туда не переселяем, ан все едино как капля в море.[23] Однако ни крепостей, ни рубежей оборонительных там еще нет, и токмо дети боярские крестьянам порука, что ребятишки ихние в полон угнаны не будут, а самих их тати татарские не вырежут. Оттуда боярские сотни убирать нельзя. Иначе кровь, на поле Молодинском пролитая, напрасной окажется.
— Истину глаголешь, государь, истину, — с готовностью согласились бояре, что один за другим подтягивались из трапезной.
— Второй бедой ты верно османского пса назвал, коего султан Мурад в Польшу наместником посадил, — продолжил Иоанн. — Но с ляхами и свенами споры ратные токмо в Ливонии идут. Князь Илья Юрьевич туда по весне отправится. Ляхов за гнусности их безмерные покарать. И князь Палецкий с ним же, шестьдесят сотен детей боярских поведет. Бесчестного кровопролития псу османскому и Магнусу-предателю я не прощу. Засим нет у меня в росписи более свободных сил.
— Ведомо мне, — сухо ответил Зверев, — что следующим летом Баторий намерен силами в пятьдесят тысяч воинов напасть на Полоцк, чтобы отбить его обратно в польские владения.
— Чушь какая! — хмыкнул кто-то из бояр. — Откель у ляхов сила-то такая взяться может?!
— Да и чего делать им возле Полоцка-то? — поддержали его другие длиннобородые «мудрецы», одобрительно стуча посохами. — Спор-то за Ливонию ныне. В Ливонии они пакостили, в Ливонии и воевать будем.
— Ведомо мне, — повторил Андрей, глядя Иоанну в глаза, — будет их не менее пятидесяти тысяч, и придут они под Полоцк.
— Чушь это! Быть такого не может! — опять заголосили бояре. — Обезумел ты, Андрей Васильевич!
Однако государь от слов князя Сакульского призадумался. Повел головой:
— Ну-ка, княже, помоги мне на место должное подняться.
Государь чуть приподнялся, Зверев подхватил его под локоть, помогая подняться к трону, усадил на престол.
— Благодарствую, Андрей Васильевич, — поблагодарил через стиснутые зубы, словно простонал, Иоанн. — Однако же нет у меня ни стрельцов, ни детей боярских, дабы надежды твои успокоить. Пушек сколько-то соберу, так и быть. И порох с ядрами найдется. Они ведь мору не поддаются, голода не боятся. Есть еще в пушкарских дворах крепкие стволы. Татар еще могу прислать поволжских. Пожалуй, что даже пятнадцать тысяч в роспись включить велю. На большее не надейся. Сам слышишь, не верит никто в такое чудо, чтобы османский пес силы столь великие собрать смог[24] и мимо Ливонии в иные земли пошел. Как бы напрасно служивый люд долгие дни у Полоцка не потратил.
— Благодарю, государь, — поклонился Андрей, отступил, но повернуться к дверям не успел.
— Стой! — повысил голос царь.
— Да? — поднял на него глаза князь Сакульский.
— Ты помнишь о том, главном поручении, которое я тебе давал? — с нажимом спросил Иоанн.
— Да, государь, помню. Приложу все силы для его исполнения.
— Хорошо, ступай, Андрей Васильевич… Нет, стой… Хитер ты, знаю, княже. Не раз сие доказывал. Скажи-ка мне, а ты бы как от ляхов бесчисленных оборонялся, коли ни стрельцов бы не имел, ни детей боярских, а токмо сотни легкие татарские?
— Я? — Андрей пожал плечами. — Бандиты они все, хоть и шляхта. На войну за грабежом только и ходят. Стало быть, первое, что сделать надобно, — это добычи их лишить. Людей увести и все ценности забрать или попрятать, какие только в хозяйствах есть. Как от татарских набегов испокон веков оберегались? Хлеб по осени сразу прятали, ничего на зиму не оставляли, да схроны готовили. Как опасность возникала — все ценное забирали да сами скрывались. Только то оставляли, что басурмане и сами не брали, ибо стоит дешево, а тащить тяжело, от и ляхов так же без добычи оставить нужно.
— Нечто ты думаешь, княже, мы схизматиков этих на землю русскую попустим?! — стали возмущаться думные бояре, но Иоанн только кашлянул чуть громче, и шум моментально стих.
— Продолжай, княже, — кивнул он.
— В чистом поле татарами супротив шляхты не устоять, — продолжил Андрей. — Но коли за стеной от нее обороняться, то за каждого павшего витязя ляхи десятком своих горлопанов заплатят. Если не встречать их в поле, а ждать в крепостях, заставлять раз за разом на штурмы лезть, стена за стеной и крепость за крепостью, у Батория за пару лет солдаты просто-напросто кончатся. Воевать будет некем и некем командовать.
— Обезумел ты, Андрей Васильевич! — опять заволновались бояре. — С таким воеводой никаких крепостей не напасешься!
— Без добычи, да кровью умывшись по самое горло, шляхта османского пса сама на пики поднимет, — пожал плечами князь Сакульский. — Если татар не кидать в лоб на польские пушки, а пустить округ по проселкам, чтобы на дорогах обозы грабили, да команды фуражирские вырезали, то без еды и припасов вояки из ляхов выйдут никудышные. Много не настреляют, долго в осаде не просидят. Уж чего-чего, а грабить да опосля удирать без драки, но с добычей, татары умеют. Наплачутся они с таким врагом.
— Это верно, — на этот раз с одобрением зашевелились бояре. — Наплачутся. На своей шкуре не раз проверено, каково со степняками сими дело иметь.
— Ты намерен отдавать османскому псу мои крепости? — с некоторым удивлением переспросил Иоанн.
— Если за каждую заплатят своей шкурой пять тысяч поляков, — снова пожал плечами князь Сакульский, — то после захвата десяти крепостей у Батория не останется армии, чтобы их защищать. Обозников разве в гарнизоны посадит.
Бояре, которых в посольской зале становилось все больше, опять неодобрительно загудели.
— Неправильно ты мыслишь, Андрей Васильевич, ох, неправильно, — покачал головой Иоанн, отчего бояре приободрились и стали поносить князя Сакульского еще громче. — Крепости наши — это твердыни, кои рубежи наши охраняют, и за них чужака пропускать — позор смертный… Однако же мысли твои безумные подкрепления стрельцами и детьми боярскими не требуют, а это ныне самое главное. Мыслю, из слуг моих ты один ведаешь, что делать, коли обороняться нечем, а устоять надобно. Посему поручаю тебе укрепить порубежье державы моей между Смоленском и Ливонией. Коли ошибаешься в подозрениях своих, беды не случится. Коли прав — стало быть, готов будешь. Отпись твою о поездке прочитаю вечером. Каковые припасы и сколько пушек выделить получится, решим с думными дьяками на неделе. Список тебе велю доставить, там уж сам решишь, на какую крепость чего и сколько потребнее. За старание твое тебе поклон от меня и благодарность… И не забывай, Андрей Васильевич, о главном поручении моем! Ступай с Богом. Мыслю, токмо об отдыхе ты ныне и мечтаешь.
Иоанн был прав. Отпарившись вечером в бане — с ароматными можжевеловыми вениками и тягучим хмельным медом, — ночью Андрей спал как убитый, и управляемое сновидение смог создать только следующим вечером. Выйдя через туман на летнюю проселочную дорогу, он быстро нагнал гуляющего под кленовыми кронами волхва, поздоровался:
— Здрав будь, мудрец!
— Да уж не болеют в здешнем мире, чадо мое, — просиял Лютобор, с каждым сновидением становящийся все моложе и моложе. Теперь у него была темная густая шевелюра и окладистая борода, морщины с лица исчезли вовсе, плечи развернулись, придавая гордую осанку.
— Глядя на тебя, иногда хочется поскорее перейти за грань, учитель, — улыбнулся Андрей.
— Да, это и есть главная ловушка мирозданья, — притянул к себе низкую ветку чародей, потер пальцами листок, понюхал. — Самым простым кажется то, чего труднее всего достичь. И поспешный шаг на вершину чаще всего оказывается прыжком в пропасть. Если перейти за грань слишком рано, мир не успеет пропитаться тобой достаточно сильно, а ты не успеешь стать его частью. И наступит пустое небытие.
— Боюсь, Лютобор, прежде чем сливаться с этим миром, его нужно спасти. Ты смог определить, откуда насылается порча?
— Я тебе уже сказывал чадо, оттуда… — махнул он в сторону, противоположную солнцу. Однако Андрей уже проходил этот длинный путь с весьма расплывчатым ответом и повторять его не хотел.
— Ты опять укажешь в сторону немного южнее заката и скажешь, что это где-то не очень далеко?
— Что поделать, мой храбрый отрок, я принадлежу этому миру, а не тому. — Чародей опять сосредоточился на кленовом листке. — Кабы сие творилось на землях русских, частью которых я был всю жизнь смертную и коей остаюсь ныне, я бы указал место столь точно, что стрелу воткнуть сможешь. Ощутил бы боль от порчи, как пчелиное жало, плотью своей. Ныне же ворогов угадываю, ако ветер из двери открытой. Как дует, чувствую. Но точнее указать не могу. Вот когда они в пределы наши войдут, тогда и отдам тебе на растерзание, не сомневайся.
— А они войдут? — моментально навострил уши Зверев.
— Коли дело свое черное до конца довести желают, то войдут обязательно, — отпустил ветку древний волхв. — Рази забыл? Чем дальше тот, кого от порчи исцеляешь, тем труднее сие исполнить. Дабы в душу нужную попасть, не просто образ, а частица плоти нужна. Когда извести кого-то желаешь, правило тем же остается. Подступи ближе, добудь плоти. Вот и разумей.
— Заморозки летние были, неурожаи были, мор был. Выходит, Лютобор, у них порча и на расстоянии выходит неплохо.
— Выходила, чадо мое, выходила, — не спеша пошел дальше по дороге чародей. — Доселе выходила, а теперича нет. Распятый бог не так древен, как боги наши, исконные. Однако много людей ему поклоняются, молятся, верят в него, частицу души своей отдавая. Распятый бог ныне намолен и потому силен…
— Иоанн!!! — хлопнул себя по лбу Андрей. — Как же я забыл! Ну конечно! Он же сказал, что заказал молебны во всех храмах во избавление от черного колдовства. Храмы здесь — маги там. Посему защита от молебнов куда сильнее должна оказаться, нежели порча издалека. Они больше не способны нам навредить! А ты-то откуда знаешь, учитель?
— Ты, чадо, — Лютобор круто развернулся и тоже больно шлепнул его ладонью в лоб, — ты совершенно не слушаешь, о чем я тебе сказываю. Я чувствую все, что на земле моей происходит. Сам чувствую, без чужих рассказок.
— Если они хотят усилить порчу, им нужно попасть сюда… — потирая зашибленное место, сделал вывод Зверев.
— Им нужно войти в наш дом, им нужна наша земля, им нужна наша кровь и плоть. Если они жаждут ударить со всей страшной силой, то каплей в ковшике и щепоткой на ладони не обойтись. Колдунам иноземным зело постараться надобно. Сего будет трудно не заметить.
— Эх, узнать бы место шабаша, да самовар с порохом вкопать, — мечтательно предложил Андрей.
— Ничему ты не желаешь учиться, чадо, — тяжко вздохнул чародей. — Ничему. Самовар, порох… А ведь их можно запечатать заклинаниями, погрузив в вечный плен, из которого не будет выхода ни в свет, ни в жизнь. И они станут ходить в нем по кругу, век за веком размышляя о смысле своих деяний…
— Я не так жесток, мудрый волхв, — развел руками Андрей. — По мне — так вполне достаточно перерезать им горло. И скормить свиньям, чтобы землю русскую своими трупами не загадили.
— А если их дух переселится в животную плоть?
— Не все ли это равно для хорошего копченого окорока?
— Тебе бы только пожрать, — укоризненно покачал головой Лютобор. — Не понимаю, отчего Велес выбрал именно тебя?
— Для чего?
— Чтобы вина выпить. — Волхв наложил ладонь ему на лоб и тихонько толкнул: — Просыпайся, угоришь…
Князь Сакульский вздрогнул и открыл глаза. В опочивальне и правда сильно пахло дымом. Видать, кто-то из дворни испугался, что хозяин замерзнет в выстудившейся к рассвету комнате, и попытался тихонько растопить печь. Но не очень удачно. То ли заслонку забыл отодвинуть, то ли поддувало открыть. Впрочем, пока князь размышлял над этим — топка справилась с чужой ошибкой и басовито загудела. Андрей покосился на окно: за слюдяными пластинками все еще царила тьма. Он подумал, перевернулся на другой бок и снова заснул. Не так уж часто за последние месяцы ему удавалось отдохнуть в глубокой мягкой перине. И еще неведомо, когда он получит такую возможность в следующий раз.
Иоанн сдержал обещание. Ровно через неделю князь Андрей Сакульский получил список припасов, которые смог ему выделить Пушкарский приказ для оснащения западных порубежных крепостей. Вместе с оным он получил грамоту о назначении его думным дьяком Разрядного приказа по надзиранию за вышеупомянутыми крепостями, включая Смоленск и Остров, но за вычетом Пскова и Печор, а также сто пятьдесят казенных рублей на расходы, связанные с сим делом. Назначение в думные дьяки считалось почетным даже для самых знатных родов — однако же не давало воеводского звания и требовало изрядной канцелярщины. То есть считался он среди командиров вроде как самым старшим — однако командовать войсками права не имел. Только следить за действиями воевод и высказывать свои соображения. Этакий политрук от царского двора. За деньги тоже следовало отчитываться, за каждый рубль. Не то что воевода: получил содержание на полк, а куда серебро ушло, как тратилось — победа все спишет. Зато — ратные силы и припасы распределял именно князь Сакульский. В сложившихся обстоятельствах это значило очень и очень много.
— Шестьдесят четыре пушки, — прокручивая грамоту, подсчитывал Андрей, сидя в горнице своего дворца у печи с раскрытой дверцей, — полтораста пищалей затинных, триста пищалей стрелецких, зелья огненного полтораста бочек, ядер чугунных полста, жребия чугунного и свинцового двадцать… Ну, это не страшно, картечи всегда можно на месте из всякого железного мусора нарубить. Надо же, как расщедрился Иоанн. Неужели я его все же напугал своим пророчеством… Вот, проклятье, обманул!
Подвох обнаружился, очень быстро. В Москве на Пушкарском дворе думному дьяку Андрею Сакульскому полагалось получить всего лишь восемь пушек и полста пищалей. Остальные надлежало взять из Нижнего Новгорода, Углича, Костромы, Белоозера, Кириллова и еще десятка крепостей, где по пять, где по две, где и десяток. Так же, по горсти да по щепоти, надлежало собирать и пищали. Означать все это, вместе взятое, могло только одно: дьяки Пушкарского приказа отписали для его нужд самое старые из полузабытых тыловых арсеналов. То, что годилось только на переплавку и предполагалось заменить на новые стволы — вот этот весь хлам ему и всучили. Не считая восьми новых пушек, разумеется.
— С паршивой овцы хоть шерсти клок, — вздохнул князь, выписывая города из списка на отдельную бумажку. — Хорошо хоть в верховьях Волги все, да вокруг Белого озера. На ладье за пару месяцев обернусь.
На Пушкарский двор он помчался уже следующим утром — и оказался лишним. Здесь отряжали для рати князя Сицкого двадцать две чугунные пушки с толстыми цапфами для крепления в передвижном станке — совсем недавнее усовершенствование в артиллерийском деле. Воевода Сицкий командовал большим нарядом в войске князя Булгакова-Голицына, уходящего в Ливонию мстить за вырезанные поляками безоружные гарнизоны. Дело предполагалось долгим и нудным — однако, переговорив с местным подьячим, Андрей узнал еще об одном преимуществе своего нового чиновничьего звания. Дьяк из Разрядного приказа князь Сакульский просто-напросто оставил пушкарям грамоту с указом отправить положенные ему восемь пушек и полста стрелецких пищалей в Полоцк, благо опыт в таких перевозках у Пушкарского приказа имелся немалый.
Справившись с этой трудностью, Андрей отправился к Москве-реке, где после недавнего ледохода купцы только-только спускали на воду свои струги, ушкуи и ладьи, и к вечеру сторговался с одним из них на перевозку ратного снаряжения. Через неделю князь уже стоял на носу груженного порохом и зарядами тяжелого судна, скатывающегося вниз по течению Оки к Нижнему Новгороду. Позади шла еще одна ладья — купец уверил думного дьяка, что на один корабль все припасы не поместятся.
Почти месяц ушел на переходы от крепости к крепости и от города к городу, погрузку тюфяков и пищалей, новые переходы. После каждой остановки суда проседали все глубже и глубже, но корабельщики этим особо не смущались, а потому и сам князь Сакульский не видел причины волноваться.
Последняя остановка была уже в июле в Белозерске. В Белозерске новом, построенном еще дедом нынешнего государя, полным его тезкой: Иваном Васильевичем по прозвищу Грозный — взамен прежнего, полностью, до последнего человека, сожранного черным мором. Под земляными валами высотой с десятиэтажный дом, да еще и с деревянными стенами поверху, даже могучие ладьи казались мелкими муравьишками. Вот только проходя под воротами, Андрей обратил внимание, что стены, грозные и неодолимые издалека, вблизи оказались не то что старыми или покосившимися, а и вовсе трухлявыми. Здесь, в самом сердце русских земель, уже целые века не знавших войн, надежность укреплений, похоже, и вовсе никого не интересовала.
— Надеюсь, князь Волынский не столь ленив, как здешние воеводы, — пробормотал себе под нос думный дьяк. — Не то все мои старания попусту пойдут.
Погрузив последние восемь крупнокалиберных, но короткоствольных тюфяков, корабельщики повернули на север, из Ковжи каналом перешли в Маткозеро, а дальше — только вниз и вниз по течению: по Вытегре в Онежское озеро, из него по Свири — в Ладожское. Здесь Андрей не удержался от возможности сделать небольшой крюк и навестить свое княжество. Но задержался ненадолго: убедился, что ушкуй уплыл в Испанию, обнял Пахома, побродил по пустым комнатам, выслушал торопливый отчет старосты, сводившийся к одной, в общем, мысли: «Дела не так плохи, как все ожидали», — забрал накопившуюся за долгое отсутствие казну и уже вместе с обрадовавшимся дядькой снова поднялся на борт.
Еще через четыре дня они вошли в устье Нарвы.
Разумеется, князь Сакульский знал, что самый простой путь к Полоцку и ближним крепостям идет по Западной Двине — но опасался плыть через земли, на которых шла война, через которые из края в край ходят многочисленные рати, и не только дружественные. Поэтому думный дьяк предпочел подняться по Великой до Опочки, там выгрузил свой груз в подвалы крепости, и уже из нее несколькими обозами вывез оружие и снаряжение в Сокол и Сушу, после чего повернул в Полоцк.
Вид стен князя немало обрадовал: в трех местах зияли широкие проломы, в которых трудились многочисленные плотники, далеко в стороны разносился бодрый стук топоров. У моста, заклинившего по весне, тоже копошились работники.
Второе приятное известие ожидало его в воеводских палатах: развалившийся среди ковров, размякший и довольный, как нашедший уютную лужу боров, князь Волынский сообщил, что пушки и пищали доставлены из Москвы еще месяц назад.
— Тебя, вижу, можно с царской милостью поздравить, Андрей Васильевич? — растянул он в улыбке толстые губы. — Думный дьяк Сакульский в грамоте отправителем указан.
— Царская милость такова бывает, что как бы животом за нее платить не пришлось, — покачал головой Зверев.
— Нам ли смерти бояться, княже? — припомнил гостю недавние слова воевода. — Мы, служилые бояре, что ни лето, завсегда под нею ходим. Нам в своих постелях умирать не с руки. Для сечи рождаемся, не для молитвы. Выпьем, княже? За тебя выпьем, за милость, что на тебя пала, и за государя нашего!
— Но за каждое в отдельности! — на всякий случай уточнил Андрей. — А еще за тебя, воевода, за отвагу русскую и ту славную битву, что нам еще предстоит.
После двухдневного пира князь Сакульский отъезжал из порубежья с легким сердцем. Теперь он был уверен, что гарнизоны тамошних крепостей имеют все нужное для долгой битвы с многочисленным врагом, предупреждены об опасности и готовятся к ней.
В Москву он вернулся в октябре, и как раз успел увидеть, как у рва под стенами Кремля каты прилюдно порют князей Булгакова-Голицына, Палецкого и Щелкалова. В злополучной битве под Венденом в виду польских войск они — вместо того чтобы, как обещали, храбро биться с ляхами и наказать их за подлость — внезапно ушли вместе с полками, бросив большой наряд на произвол судьбы. Пушкари во главе с князьями Сицким и Тюфякиным храбро дрались в одиночку и сдерживали ворога до тех пор, пока не расстреляли все заряды, что были при батарее. Оставшись без пороха, храбрецы попали в плен — и поляки, взбешенные непомерными потерями, тут же повесили всех пушкарей и воевод до единого на стволах собственных пушек.
После этого Иоанн затворился во дворце, никого не принимая и посвятив себя молитвам. Думный дьяк Андрей Сакульский смог добиться встречи только через полтора месяца, перед самым Рождеством.
Государь встретил его наверху, но не в привычных горницах под самой кровлей, заваленных свитками и грамотами, а в богато расписанной светелке неподалеку от опочивальни. Здесь не было ничего, кроме его переносного кресла, двух окон и большой стены изразцов, что на самом деле являлась стенкой горячей печи. Жар хоть немного ослаблял боли у Иоанна Васильевича, который сидел почти вплотную к изразцам, одевшись лишь в полотняную рубаху с вышитым подолом и прикрыв голову белой тафьей с россыпью мелкого речного жемчуга.
— Это ты, Андрей Васильевич? — подняв голову, вздохнул царь. — Спешишь отчитаться? Скажи мне, княже, неужели в этом мире можно верить токмо колдунам и бесам? Лишь они непрерывно крутятся рядом, ни на миг не забывая обо мне и моей державе.
— Колдунам? Бесам? — удивился Зверев. — Кем были князья Сицкий и Тюфякин, первыми или вторыми? Кем были пушкари, что дрались за свою честь и твою славу до последнего патрона и до последней капли крови?
— Они сражались, ты прав, Андрей Васильевич, — кивнул Иоанн. — Но ведь большая часть рати бежала, ако зайцы трусливые!
— Насколько мне ведомо, не бежали, а воеводами своими уведены были. Уж не знаю отчего ныне, но и прежде случалось такое не раз из-за споров местнических или ссоры личной.
— Пред лицом ворога единоверцев своих на погибель бросить, смерти лютой отдать! Как подобная подлость в разумы людские попадает, Андрей Васильевич? Кто хуже выходит: пес османский и ляхи его, безоружных режущие, — али сородичи наши, сие дозволяющие?
— В семье не без урода, государь, тебе ли этого не знать? Князь Курбский, митрополит Пимен, князь Старицкий. Клятвопреступники, предатели, негодяи. На Руси родились, среди нас жили. И вот поди же ты, что из них вместо людей выросло! Случается такое, государь, случается. Стоит ли из-за этого столь рьяно себя корить?
— А если я скажу тебе, княже, что главной бедой моей не предательство сих негодяев стало, а приступы боли столь сильные, что не способен я был думать ни о чем? Лишь об избавлении от беды сей помышлял?
— Боюсь, государь, ты вновь откажешься от моей помощи, — с грустью склонил голову князь.
— От искушения чародейского? Ты прав, Андрей Васильевич, отрину. Но отвергать стараний, на пользу державы направленных, не стану. Ты добился успехов в исполнении моего главного поручения?
— Я вышел на путь, что выведет меня к колдунам, творящим порчу супротив русской земли. Но сейчас, увы, в немалой степени все зависит от удачи.
— Торопись с этим, княже, торопись. Иные поручения другим боярам и людям служивым я передать могу, с этим же, кроме тебя, управиться некому.
— Благодарю за доверие, Иоанн Васильевич, но я бы желал отчитаться и по другому поручению, мне доверенному.
— Сказывай, Андрей Васильевич… — кивнул царь, болезненно поглаживая явно опухшие колени.
— Дабы крови напрасной не проливалось, государь, и чтобы лишней добычи османскому псу не доставить, прошу твоего дозволения увести смердов из земель близ Полоцка, вдоль реки Великой, а также с севера от Смоленска.
— Крепостных? — вздрогнул царь.
— Всех. И черных смердов, что твое тягло несут, и крепостных, что на помещичьих землях сидят.
Иоанн надолго замолчал, вздохнул, медленно покачал головой:
— Невозможно сие никак, княже. Что подумают бояре мои, что решит прочий люд служивый, коли по моей воле с их земли кто-то пахарей сгонять станет? Кто из них после предательства такого от господина своего верность мне сохранит? Нет, Андрей Васильевич, невозможно сие никак. Подобного я позволить не могу.
— Их все равно разорят! Усадьбы будут разграблены, смерды зарезаны али в неволю угнаны. В борьбе с нашествием польским важно никакой добычи им не оставить — дабы ни война, ни злоба их и гнусности прибытка ляхам не принесли.
— Османский пес не станет воевать русских земель, Андрей Васильевич! — стиснул кулак Иоанн. — В боярах моих думных воеводы опытные, жизнь свою в походах провели. Все сказывают: Ливонию Баторий воевать станет, там удара ждать надобно.
— Зачем ему Ливония? Она и так принадлежит ему, подарена Магнусом и королем датским. Ты сам отдал ее в приданое за племянницей! Нечто теперь назад отнимать станешь? Русские гарнизоны ныне отовсюду ушли, клятва твоя сии владения за Магнусом оставляет, он же Баторию присягнул. Магнус, может, и негодяй, но ведь ты все равно не можешь потребовать обратно приданое! Коли подарил, назад требовать негоже. Верно?
— Разве я сказывал, что хочу прослыть клятвопреступником? — недовольно нахмурился Иоанн. — Однако же подлость польская наказания требует. Кровь невинных вопиет об отмщении! Могучие крепости Ивангород и Псков дозволяют рати русской в любой момент наказание сие исполнить. Османский пес это понимает и обязательно попытается их отвоевать. Таков приговор был думы боярской: в Ливонии Баторий воевать станет, первый удар на сии крепости направив. Посему именно их и надлежит укрепить в первую голову людьми и снаряжением.
— Он ударит на Полоцк и попытается разорить окрестные земли. Готов чем угодно в том ручаться!
— Твое слово супротив слова всего совета бояр думских? — Иоанн легко улыбнулся уголками губ. — Я доверяю уму твоему, Андрей Васильевич, знанию и ловкости. Однако же… Одно слово супротив сорока?
— Я уверен, Иоанн Васильевич!
— Да кабы даже и поверил я тебе, княже, все едино отдать приказа подобного не могу. Угонять смердов с земель бояр честных, что верой и правдой, живота не жалеючи, мне служат? Чем я тогда для них лучше того же османского пса окажусь? Он разорять и грабить Русь святую идет — и я тем же самым за спинами слуг своих заниматься стану? Я потеряю всех своих слуг, воинов и дьяков в тот же час!
— Прольются реки крови, государь! Коли не позволишь увести смердов с земель, что разоряться будут, они сгинут, умрут понапрасну. Что за радость тебе от преданности, такой ценой полученной? Души православные спасти возможно, но ты запрещаешь?!
Иоанн опять задумался, шевеля губами, снова покачал головой:
— До беды, коли вдруг случится, ни единого смерда трогать не смей! Начнешь гнать крестьян из поместий — в армии бунт немедля начнется, тут сомнений никаких. Однако все необходимое для ухода их в безопасные волости приготовь. И коли вдруг подозрение твое исполнится… Поперва черных крестьян гони, я возражать не стану. На них глядючи, мыслю, и прочие смерды побегут. Токмо помогать успевай. Ну а уж когда сомнений ни у единого боярского сына в правоте твоей не возникнет, тогда уж всех уводи, до кого дотянешься.
— Слушаю, государь, — склонился князь Сакульский. — До первых выстрелов я буду безмолвствовать.
Но слова своего Зверев не сдержал. Едва приехав по весне в Полоцк, он стал настойчиво советовать всем купцам, ремесленникам, служивому люду и просто обывателям увозить свои вещи, отправлять жен, стариков и детей на восток — в Кунью, Торопец, Порхов, Смоленск, Боголюбово, Духовщину. Первым его послушался князь Волынский, принявшийся собирать и отправлять что ни день целые обозы со своими любимыми коврами, шубами, посудой, мебелью, девками, дворней и холопами. Пример воеводы оказался заразителен: прочие горожане тут же стали увязывать самое ценное, что имелось в доме, и грузить на телеги, каждый день длинными караванами уползающие на восток. К июлю во всем городе и простой ярыга, и знатный боярин ели только из деревянной посуды, спали на травяных тюфяках, носили только стеганые или войлочные одежды, на которые оставалось только накинуть броню.
К чести горожан, бежали далеко не все. Многие крепкие мужи и молодые ребята остались в родных домах, ожидая предсказанного думским дьяком набега, готовые сражаться до конца ради своей свободы. Память о польском владычестве еще не выветрилась из памяти половчан, и возвращения этого кошмара никто не хотел. Примерно при восьми сотнях царского гарнизона таких добровольцев оказалось больше трех тысяч.
Впрочем, Иоанн тоже оказался честен не до конца. Вместо пятнадцати тысяч поволжских татар он прислал таковых всего двадцать сотен под рукой веснушчатого и круглолицего Урук-бека, лицом — ну натурального рязанского паренька. Вместо остальных с опозданием подтянулись донские казаки, числом в сорок сотен, под командой атамана Антона Хохлача и шестьдесят сотен Ченги-хана от Казани. Казакам и казанским татарам Андрей приказал отойти к крепости Сокол, встать там лагерем, окрестных смердов не обижать, а предупреждать их, что пришли защищать местных жителей от польского разбоя.
Буйный норов и казаков, и татар известен всем, и Андрей очень надеялся, что после подобных предупреждений и появления этаких соседей крестьяне сами потянутся на восток.
Ченги-хану и Хохлачу думный дьяк князь Сакульский приказал при нападении польской армии на Полоцк тут же уходить в набег на сопредельные земли, разоряя все, что только можно, и угоняя польских смердов на Русь, суля за них выкуп от русского царя. Урук-бек со своими сотнями расположился от города на удалении в пять верст. Он с началом войны обязан был вырезать отряды польских фуражиров и просто мародеров, что неизбежно потянутся в окрестные селения за добычей.
Теперь оставалось только ждать — бродя по тихим улицам, на которых не встречалось ни малого ребенка, ни честной женщины, пить кислое дешевое вино — ибо дорогое увезли беглецы вместе с прочим скарбом — и отъедая брюхо в воеводских палатах, похожих из-за голых полов, бревенчатых стен и затянутых пузырями окон на дешевый кабак.
— Ну, и где твои ляхи, Андрей Васильевич? — весело интересовался воевода, когда очередной опустевший бочонок из-под вина или хмельного меда улетал в открытую дверь. — Этак сопьешься с тобою раньше, нежели дела ратного увидишь!
Поляки появились только в начале августа, выпустив перед собой стремительную османскую конницу. Присланные султаном в помощь наместнику венгры, появившись на лесных трактах сразу с трех сторон, тут же ринулись к воротам, соблазненные опущенными мостами. Когда они уже совсем вознамерились влететь в город, надеясь на разгильдяйство невидимой на стенах стражи — навстречу им с улиц за воротами ударили заряженные картечью тюфяки. Свинцовые пули, гнутые ржавые гвозди, куски строительных скоб и прочий железный мусор, заботливо собранный в городе, широким веером хлестнул по плотной коннице, перебивая скакунам ноги и пронзая грудь, отрывая всадникам головы и руки. Передние несколько рядов покатились по земле, остальные отпрянули, качнулись, ринулись вперед снова, надеясь, что защитники не успели перезарядить пушки. Однако на этот раз путь им преградили стрельцы и горожане, дав из пищалей залп не менее плотный, нежели вылетел из тюфяков. Третью же волну снова встретил пушечный жребий.
Защитники сражались весело и азартно. Ведь теперь они не волновались за жизнь близких, что прятались где-то за спиной в подполах или схронах, они не беспокоились за свои дома, зная, что самое ценное в любом случае увезено родителями или женой. Коли так — то почему бы и не рискнуть, выманивая врага под выстрелы и истребляя его залпами в упор?
Впрочем, после третьего залпа османы поумнели и на мосты больше уже не совались: крутились на конях в полуверсте и выкрикивали какие-то венгерские ругательства. А когда на дорогах показались плотные ряды немецких наемников, воевода решил более не рисковать и мосты приказал поднять.
Польская армия медленно выползала из леса и, словно гигантский удав, неторопливо скручивалась вокруг города на безопасном удалении. Прибывшие воины и обозники ставили палатки, раскладывали очаги, вкапывали коновязи, расстилали подстилки. Все это походило бы на один гигантский пикник, если бы не обилие мечей, пик и аркебуз. Пушки тоже имелись — но не в таком изобилии. Андрей с башни у северных ворот разглядел всего четыре.
Время от времени с крепостных стен кто-то пытался подстрелить подошедшего ненароком слишком близко врага, изредка на это отвечал какой-нибудь заскучавший аркебузир. Трижды пушкари Полоцка попытались добросить до палаток чугунное ядро — но успеха не добились, и дальше редкого бесполезного перестрела дело так и не пошло.
— Надеюсь, казаки и казанцы стрельбу услышали и уже садятся в седла, — пробормотал себе под нос Андрей Сакульский. — Не гонца же с приказом к ним посылать?
— Садятся-садятся, — ответил ему князь Волынский. — У этих ребят нос по ветру повернут хорошо. Коли граница распечатана, то и они, стало быть, за поживой уже несутся.
— Чего не в броне, воевода? — попрекнул его Андрей.
— А на что она сейчас? — пожал плечами тот и широко зевнул. — Еще дня три ничего не начнется. Пошли лучше вина выпьем. Коли сегодня не побалуемся, опосля может уже и не получиться.
Поляки примеривались к городу четыре дня, копошась и обустраиваясь в своем лагере, прокапывая недосягаемые для пуль и ядер глубокие извилистые траншеи, по которым подтягивали ближе к стенам свои пушки. На пятый внезапно ринулись лавиной со всех сторон. Это случилось столь рано и неожиданно, что первую атаку караульные просто прозевали. Будь стены крепости пониже, так, чтобы по лестнице забраться можно — к середине дня сеча шла бы уже на улицах города. Но, к счастью, осаждающие несли всего лишь фашины и мешки с песком, сбрасывая их в ров сразу в пяти местах. После первого нападения началось второе — но теперь врага встретили уже залпы пищалей и выстрелы из тюфяков. В ответ заговорили польские пушки в земляных укрытиях — сапах, и немецкие аркебузиры. Над стенами густо и часто засвистели пули, ядра начали рвать башни, пытаясь нащупать укрытых внутри пушкарей.
— По фашинщикам бейте, по фашинщикам! — покрикивал, прогуливаясь за спинами стрельцов, князь Волынский, одетый на этот раз в ширококольчатую байдану и островерхую ерихонку. Туго затянутый широкий ремень загнал его обширный живот куда-то глубоко внутрь, на солнечном сплетении сверкало зерцало с языческим ликом Ярила-солнца, плечи в толстом поддоспешнике раздались в стороны. — По фашинщикам! В аркебузиров токмо порох зря изводить. Фашинщиков — они на виду! Чем больше сейчас побьете, тем меньше потом на стены полезет!
Андрей, помня свое звание, пока не вмешивался, а только наблюдал. Но с воеводой был согласен. В засевшего в траншее аркебузира еще попробуй попади — а бегун с мешком весь открыт. Только перезаряжать успевай.
Атака закончилась только к полудню. На земле вокруг Полоцка корчилось либо уже умерло несколько сотен незваных гостей. Но добиться своего им, увы, удалось: в нескольких местах ров вокруг крепости был засыпан полностью, от берега и до берега. Горожане уже пытались бросать вниз горящие факелы, но фашины не занимались. То ли были хорошо вымочены, то ли слишком густо засыпаны сверху землей.
— Теперь им только башню расколотить осталось, пролом устроить, и они внутри, — подвел итог князь Сакульский.
Словно услышав его подсказку, бодро и яростно загрохотали пушки из сап, засыпая ядрами северную и южную угловые башни. Вблизи каждой уже имелось по широкому проходу через ров.
Пушки города ответили не менее рьяно, норовя вогнать чугунные ядра в бойницы сап или хотя бы рядом с ними. От грохота закладывало уши, стены буквально подпрыгивали от попаданий и отдачи, стрельцы, не имея других целей, теперь норовили пробить головы аркебузирам — последние отвечали тем же. Андрей готов был поклясться, что самое меньшее дважды полоцкие ядра попадали точно в цель, куроча земляные брустверы и опрокидывая пушки. Наверняка сейчас оттуда уносили искалеченных артиллеристов, а может, и оказавшихся слишком близко «снайперов».
Правда, современная пушка штука простая и прочная: толстый ствол, дырка для заряда да запальное отверстие. Посему сломать ее, вывести из строя — дело почти невозможное. И вскоре заткнутая было сапа снова оживала и начинала стрелять. Со стен крепости тоже время от времени уносили убитых. Раненых почти не было: прячущегося за толстыми зубцами стрельца пуля если и поражала, то только в голову.
Яростная перестрелка уже через пару часов начала стихать сама собой: обе стороны спалили столько пороха, что и город, и траншеи утонули в непроглядном дыму. И пушкари, и стрелки просто перестали видеть, куда целиться. Иногда порывы ветра сносили дымку, стрельба ненадолго возобновлялась — и белые клубы тотчас перекрывали обзор и своим, и чужим.
— Кажется, на сегодня это все… — понял Андрей. — Такими темпами ляхам ни одной башни за день не завалить. А к утру и поврежденные залатаем.
Пушечная канонада длилась до позднего вечера и этого дня, и следующего, и третьего, и четвертого. После точных попаданий русских ядер из сап уносили увечных, в башнях тоже случались жертвы по несколько раз на дню — но кроме постоянных потерь больше никакого проку усилия поляков не приносили. Похоже, нанятые Баторием где-то в далеких европах артиллеристы просто не понимали, как правильно бороться с деревянными крепостями. Ведь камень от ударов чугунных ядер раскалывается, крошится, стены и башни теряют прочность, трескаются и оседают. В деревянных же стенах ядра оставляют всего лишь маленькие аккуратные дырочки, улетая дальше. Да и те плотники быстро затыкают, укрепляя поврежденное бревно дополнительными упорами и перекладинами. Но даже просвечивая насквозь от множества попаданий — деревянная стена все равно продолжает стоять, не давая осаждающим ворваться в город.
На пятый день европейские пушкари изменили тактику, сосредоточив огонь на основании стен. Получилось еще хуже: ядра лишь уходили с чмоканьем в глубину земляного вала, не нанося никаких видимых повреждений. А может статься — еще и укрепляя его своей чугунной тяжестью.
На шестой день от начала штурма пушечная стрельба поляков утихла вовсе. Только аркебузиры время от времени обменивались пулями со стрельцами. Два дня размышляли нанятые султаном и его польским наместником во всех концах света вояки, как управиться с возникшей трудностью. Затем пушки загрохотали снова, мерно и размеренно.
Андрей, отдыхавший в горнице воеводских палат, сразу, на слух определил, что звук выстрелов изменился и стал вроде как мягче.
— Заряд, что ли, уменьшили? — уселся он на скромной постели из тюфяка и свернутого под головой старого налатника. Он торопливо оделся, полубегом отправился на стены, поднялся на северную башню. Сапа напротив нее как раз рявкнула огнем, башня вздрогнула.
— Сюда, сюда несите! — послышался снизу крик.
Андрей развернулся к лестнице, загрохотал по ступенькам. Из глубины боевой площадки послышалось злобное шипение, из окон вырвались клубы пара. Князь замедлил шаг, прислушиваясь. В башне кто-то громко выругался, потом снова послышалось шипение, на нижние ступени выскочили, махая руками, пушкари.
— Чего там у вас? — спросил Зверев.
— Поганые ляхи ядра каленые малым зарядом мечут. Иные токмо наружную стену пробивают, а иные и вовсе в ней застревают. Водой заливать приходится, чтобы не загорелось.
— Проклятье! — Думный дьяк развернулся и побежал обратно наверх. Он сразу понял, что если в башнях много внутренних помещений и к месту, пораженному ядром, всегда можно оттуда подобраться, то стены — они по большей части изнутри для прочности засыпались землей и камнями. И пожар на них безопасно не залить.
К счастью, горожане и стрельцы без княжеских понуканий сообразили, как бороться с такой бедой. Многие из них, собрав из опустевших дворов деревянные бадьи и кожаные торбы, бежали к Даугаве или Полоте за водой. Другие обматывались веревками и, взяв в руки полные ведра, спускались по наружной стороне, заливали оставленные ядрами пробоины, из которых курился дымок, и в клубах пара тут же взмывали обратно. По этим храбрецам аркебузиры вели яростную пальбу, выбивая пулями щепы из стены справа и слева от них. К сожалению, нередко наемники попадали и в людей. У Зверева на глазах один из тушителей вдруг резко дернулся и обмяк, с него закапала кровь. Стрельцы вытащили погибшего товарища наверх, вместо него, обвязавшись, спустился один из горожан — судя по странному покрою рубахи и туфлям вместо высоких сапог. Он успел залить дымящееся место, но когда уже поднимался наверх — вдруг задергался, закричал от боли, белая его рубаха на левом боку окрасилась кровью.
Тут думный дьяк уже не выдержал — схватил прислоненную к зубцам кем-то из стрельцов пищаль, поверх которой лежал пояс с трутницей и берендейкой, проверил заряд, подсыпал пороха на полку, вставил в зажим тлеющий фитиль, выглянул из-за зубца, ища цель, тут же отпрянул обратно, прикинул мысленно, куда целиться, высунулся уже на несколько мгновений, опустил тяжелый ствол на край стены, направил на щель сапы, в которой кто-то копошился, нажал спуск. Пищаль рявкнула, пнув его в плечо. Князь тут же спрятался обратно за зубец, громко выругался:
— Что за дрянь, отчего заряд такой слабый?
— Оно это, боярин, — отозвался разгоряченный паренек в шароварах, заправленных в высокие сапоги. — Отдача с полным зарядом такая, что и плечо сломать недолго.
Молодой стрелец то ли вернулся со стены, то ли только собирался вылезать наружу, и ругать храбреца у Андрея язык не повернулся.
— Остальные патроны такие же? — кивнул он на берендейку.
— Не, полные, — ухмыльнулся тот. — Сотник проверяет. Может и уши оборвать, коли недосыплешь.
— Правильно сделает, — ответил Андрей, вытягивая из крепления тонкий деревянный шомпол.
Стороной, обернутой тряпицей, он несколько раз шуранул ствол изнутри, чтобы вычистить возможные тлеющие частицы, из берендейки достал березовый туесок патрона, открыл, высыпал порох в ствол, сунул кожаный пыж, тяжелую пулю, второй пыж, вогнал заряд шомполом до упора, хорошо пристучав. Вынул от греха тлеющий фитиль, из пороховницы с тонким носиком насыпал порох в запальное отверстие, примял, насыпал порох на полку. Зло сплюнул, вставляя на место фитиль:
— Вот ведь мороки сколько! И чего я лука с собой не взял? И точнее бьет, и дальше, и быстрее. А этими огнестрелами только дурака валять…
Он выложил ствол на стену, выглянул вполглаза из-за зубца. В сапе внизу как раз шевелилась граненая аркебуза, над ней тускло поблескивал шлем. Князь вышел на свет, припал к стволу, метясь в этот железный блеск, даванул спуск. Пищаль больно — даже через кольчугу и поддоспешник — ударила в плечо. Аркебуза внизу тоже дернулась, задираясь, пальнула в пустое небо. Убил Зверев наемника, не убил — но хотя бы по людям выстрелить не позволил.
— Какой же я все-таки идиот. И почему лука не взял? — опять выругался Зверев, принимаясь за перезарядку пищали.
— Ты здесь, княже? — облегченно перекрестился подбежавший Пахом. — А я уж испугался. Только почивал вроде, а вдруг и нету уже!
— Поищи берендейки с зарядами, — тут же приказал ему Андрей. — А лучше узнай, где они порох и свинец получают, и мне припас хотя бы на полусотню выстрелов принеси.
— Сделаю, княже, — кивнул дядька и потрусил вдоль стены, крутя головой.
Пока холоп вернулся с тремя берендейками, думный дьяк успел сделать в сторону сапы три выстрела и минимум один раз в кого-то попал — тень внутри резко дернулась и надолго исчезла.
— Много побитых сегодня, — с грустью признал Пахом, складывая добычу к его ногам. — И пищалей бесхозных изрядно. Я две отставил, сейчас принесу. Опосля к сотнику ихнему за порохом и пулями готовыми схожу. Не к добру все это, княже. Как бы оставить город не пришлось.
— Как бы не пришлось… — эхом отозвался князь, снова выглядывая наружу.
На этот раз найти достойную цель для своей пули он не успел: от точно вошедшего в бойницу ядра верх сапы вздыбился, брызнул в стороны ошметками тел и опал снова, захоранивая убитых. Но даже это зрелище Андрея ничуть не успокоило. Сегодня впервые за время осады защитники города понесли ощутимо большие потери, нежели осаждающие. Паренек, что не докладывал порох при выстреле, за своею пищалью тоже так за весь день и не пришел.
Вечером, когда канонада наконец затихла, руководители разных участков обороны собрались в воеводских палатах на совет. Андрей, который до сего часа общался лишь с князем Волынским, впервые увидел воевод Телятевского, Щербатого, Ракова и Ржевского, фамилия которого показалась Звереву подозрительно знакомой.
— Сказывайте, други, — кратко предложил воевода.
— Три десятка людей хороших потерял сегодня, — первым ответил князь Василий Телятевский. — Застрелены, когда стену занявшуюся водой заливали.
— У меня осьмнадцать душ сгинуло, — добавил князь Дмитрий Щербатый, — да увечных два десятка.
— Я запретил стрельцам наружу лазать, — хмуро сообщил дьяк Лука Раков. — Коли стрелять обучены, пусть стреляют, пожарников охраняя. На стены токмо охотников из горожан дозволил выпускать. Их и потерял ровным счетом два десятка и трех увечных.
Дьяк Михаил Ржевский промолчал. Видимо, его участку стены сегодня повезло.
— Это верно, — кивнул воевода. — Стрельцов беречь надобно. Ведро воды плеснуть каждый может, с зельем же огненным управляться навык немалый нужен. Пусть стрельцы пищалями занимаются. Да упредите всех крепко, дабы заряды закладывали полностью, пороха мимо не просыпая! Ибо сказывают иные сотники, ратники, отдачи опасаясь, недосыпают пороху при выстреле, отчего пули летят слабо и недалеко. Но сие не самое важное, ради чего я вас всех здесь собрал. Сегодня в город вестник из-за реки перебрался с письмом от князей Шеина Бориса и Шереметева Федора. Указ они получили от государя с ратью к нам в помощь идти. А также послана к нам пушка «Свиток» силы невиданной. Ее недавно выгрузили в Опочке и ныне она на пути к Полоцку, сегодня должна миновать Себеж.
— Это славно! Весть добрая! — повеселели воеводы.
— Нам бы еще неделю продержаться, други. Там силы прибудет, отгоним погань басурманскую обратно в польские земли! Во славу Господа нашего, Иисуса Христа.
— Не посрамим имени русского, — перекрестились воеводы. — Не отдадим город схизматикам и басурманам на поругание!
Служивые люди разошлись, торопясь донести до людей радостное известие. Андрей дождался, пока закроется дверь, и спросил:
— Князь Шеин отписал, сколько у него сил?
— Он отписал, пушка новая столь совершенна, что стреляет далее, нежели на версту, — уклончиво ответил воевода.
— Я угадаю, — предложил думный дьяк. — Верно, у него татары или казаки?
— Казаки, — признал воевода. — Как ты догадался?
— Иоанн признал зимой, что нет у него свободных сил. Каждый человек, службе годный, при своем месте стоит. Исполчить остальные земли столь быстро государь тоже не мог. А вот с татарами и казаками у государя никаких сложностей. Черный мор мимо них прошел. Этих воинов на Руси в достатке.
— Государь мудр. Он придумает, как нас спасти.
— Наше дело не спасаться, княже, — покачал головой Андрей. — Наше дело ляхов истреблять. Всех наемников баториевых. Османских, немецких, польских. Чем меньше их в живых останется, тем легче земле русской, тем меньше бед она переживет. Мы должны их просто убивать. Убивать, пока достанет сил.
— Ты знаешь что-то, чего не знаю я, Андрей Васильевич? — ласково поинтересовался воевода.
— Война будет долгой и трудной, княже. Победа достанется большим трудом и немалой кровью.
— Ты что-то не договариваешь, друг мой, — наклонился к Андрею князь Волынский. — Почему?
— А почему ты не сказал, что государь дал воеводам Шеину и Шереметеву под руку казаков, а не стрелецкие полки и детей боярских?
— Разве это имеет значение?
Но оба князя знали, что эта деталь важна, как никакая другая. И оказались правы. Многочисленные казачьи сотни, направленные князем Шейным на выручку Полоцка — испугались вступить в бой с закаленными в бесконечных войнах немецкими наемниками и безумной в своей храбрости османской конницей, пусть и набранной в окраинной Венгрии. И потому казаки, не дойдя до Полоцка — просто свернули на юг и по польской стороне мимо Смоленска ушли на Дон.
Очередной рассвет оглушил окрестности новой канонадой. Каленые ядра одно за другим впивались в дубовые башни стены города, то тут, то там вызывая возгорания — однако отважные полоцкие охотники, не жалея жизни, каждый раз спускались к дымящим местам и под пулями заливали их водой. Стрельцы, которым запретили участвовать в этом, приноровились собираться по несколько десятков над опасным местом и непрерывным огнем пищалей отпугивали аркебузиров, мешая тем целиться. Пушки в башнях тоже переносили свой огонь на сапы, опасные для пожарников. Общими усилиями потери удалось снизить, но все равно к вечеру в городе стало на четыре десятка убитых больше. Раненых думный дьяк, впервые вмешавшись в воеводские дела, указал сразу увозить за Двину и отправлять в Невель и Остров.
— Еще дней десять, и некому будет тушить пожары, — вечером признал князь Волынский. — У нас просто не хватит людей, чтобы носить на стены воду.
Андрей не ответил, но поздней ночью думного дьяка Разрядного приказа, князя Сакульского, можно было увидеть в траве на берегу Даугавы, у самой воды. Знатный боярин охотился на лягушек. Выудив из ряски и тины несколько жаб, ученик чародея долго кувыркал их в воде, старательно нашептывая ночной заговор: «Слюна в землю, дождь на землю. Жабьим языком накликаю, слюной вызываю. Затянись, заволокись, тучей заклубись, дождем изойдись…»
Было это совпадение или нет, но на рассвете Полоцк плотно обложило тучами, в воздухе повисла нудная и противная холодная морось. Не то чтобы такой дождь смог бы затушить возникший где-то огонь — но во влажном воздухе древесина стремительно намокала, и теперь от раскаленных ядер сперва начинала заниматься изнутри, а потом быстро затухала сама собой, испуская из пробоин плотные облака пара. Да и стрелять в такую погоду было куда сложнее, нежели под проливным дождем. От дождя можно прикрыться — но морось буквально пропитывала воздух, находясь везде и всюду. Порох впитывал влагу, как губка — и, увлажняясь, отказывался вспыхивать. Он шипел, чадил, пыхал мелкими толчками — но стрелять не хотел.
Разумеется, вощеные картузы, навесы, быстрота действий позволяли пушкарям держать зелье сухим — но все же поляки стреляли теперь намного реже. А к полудню, когда поняли, что эффекта от каленых ядер практически нет — вовсе перестали.
Русские пушкари отвечали чаще и дольше — все же в сухих комнатах башен справляться с непогодой куда проще, нежели в земляной норе. Но после полудня они тоже перестали разить опустевшие сапы. Наносить в них урон стало некому.
— Сам Господь вступился за нас, — с облегчением перекрестился князь Волынский. — Сегодня же прикажу отстоять благодарственный молебен. Еще бы неделю такой погоды, и к нам подойдет помощь.
Увы, слабенький заговор на жабью слюну смог сохранить морось всего на два дня. Для обряда большей силы у Зверева не хватало ни нужного зелья, ни места для чародейства. Творить магические обряды на глазах у остальных защитников Полоцка было бы весьма опрометчиво.
Едва на небе появилось солнце, польские артиллеристы оживились, начали стрельбу пуще прежнего. Однако стены все еще оставались слишком влажными, и особого толка захватчики так и не добились. Они сдались к полудню, прекратив огонь вовсе. Аркебузиры и артиллеристы ушли из сап. А вскоре защитники увидели со стен, как к самой большой палатке, украшенной несколькими знаменами и крестом, стали собираться хорошо одетые воины.
— Ляхи смирились, — сделал вывод воевода Волынский. — Видать, собрались поплакаться, да общим согласием осаду снимать… Али хитрость придумать новую. Как мыслишь, Андрей Васильевич?
— Помнишь, княже, я татар ляхам в тыл послал? Они ведь которую неделю разор там творят, какой только могут. Коли османскому псу не вовсе плевать, что десять тысяч разбойников с городами и весями его страны сотворят, ему давно пора развернуться и мчаться земли свои спасать.[25] Либо хотя бы половину войска своего выделить, дабы грабежи эти остановить.
— Это ты мудро придумал, Андрей Васильевич, — согласился воевода. — Надеюсь, что уйдут… Но токмо к отражению штурма велю готовиться. Как бы басурмане не захотели пакости какой напоследок сотворить.
Однако остаток дня прошел спокойно — если не считать того, что в польском лагере происходило малопонятное оживление. Утром же началось непостижимое: османские наемники, с присущим басурманам презрением к смерти, толпами во многие сотни голов сразу по всем проходам через ров ринулись к стенам, неся в руках кувшины, ведра и бурдюки. Стрельцы и пушкари немедленно открыли огонь, торопясь перезаряжать свои пищали как можно чаще, и стреляли, стреляли, стреляли в бесконечную толпу, убивая и калеча спешенных венгерцев сотнями — но те словно уверовали в собственное бессмертие и бежали под пули и картечь волна за волной.
— Что это? — выглянув наружу, принюхался Андрей. — Смолой вроде пахнет.
Османы отхлынули, завалив проходы через ров телами, а следом к Полоцку бросились примерно три сотни наемников с факелами.
— Неужели можно жертвовать жизнью просто ради золота? — восхитился их самоотверженностью Зверев, прикладываясь щекой к горячей от частых выстрелов пищали. Он нажал спуск, когда наемники были на пределе дальности — и один из османцев свалился с ног. Торопливо перезарядил и успел выстрелить еще раз под стену, попав факельщику точно в голову.
Из башен жахнули картечью пушки, заволакивая все дымом. Князь снова заработал шомполом, вбивая свежий заряд, выглянул и ухитрился еще раз пальнуть вслед убегающему врагу. Из примерно трех сотен поджигателей назад в лагерь смогли вернуться не больше сотни — но стена! Стена Полоцка горела вдоль основания почти на всем своем протяжении.
— Вода! Несите воду! — закричали люди сразу со всех сторон. Там, где на случай обстрела калеными ядрами были приготовлены бадьи с водой, ее плеснули вниз сразу. Однако огонь был слишком низко. Если защитники лили под зубцы, вода растеклась по стене длинным влажным пятном, не дотянувшись до пламени. Если плескали — жидкость плюхалась на землю далеко от фундамента. Андрей сразу понял все:
— Пушки! Выносите из башен пушки!
Схватив за руки ближайших стрельцов, князь Сакульский приказал снова:
— Пушки, порох спасайте, пока не полыхнуло! Пахом, направляй всех к башням. Эй, вы, бросайте ведра, бегите к башням! Служивые, стоять! К башням немедленно все! Спасайте пушки!
Он снова выглянул наружу, вниз. Где-то огонь зачах, где-то оседал, но тех мест, где он живо расцветал, ползя вверх по стенам, было намного больше, нежели тех, где он отступал. Одним решительным напором, потеряв не больше тысячи человек. Баторий решил проблему, с которой артиллеристы не могли справиться много дней, и скорее всего — не справились бы вообще. Стена горела на всем своем немалом протяжении. И хотя кое-где защитники отчаянно пытались ее потушить — было ясно, что спасти укрепление уже невозможно.
К счастью, прежде чем башни превратились в факелы, защитники успели вытащить из них большую часть припасов, сложив подальше в глубине крепости. Пламя поднималось все выше и выше, дыша нестерпимым жаром. Стрельцы и горожане, чтобы пожары не перекинулись дальше, раскидали ближние к стене дома, оттащив и свалив обломки поперек улиц. Чтобы спасти соседние строения получившиеся баррикады от искр и горящих обломков, стали спешно забрасывать сверху землей. Когда же огонь вынудил их отступить — стали копать улицы дальше в городе, таская и таская грунт. Многие носили сюда же воду, заливая выкопанную землю сверху.
Стены и башни полыхали половину дня. Ночью северная башня с прилегающими стенами рухнула вовсе.
— Добились своего ляхи! — осыпали проклятиями поляков и их наемников горожане, теперь долбя кирками и лопатами позади догорающих, но все еще горячих обломков, таская глину бадьями и носилками на уже изрядно засыпанные обломки строений. Пушкари выстраивали спасенные тюфяки в ряд, вкапывая их прямо в землю, обкладывая для надежности бревнами и ими же прижимая сверху. Запальные отверстия были бережно укрыты собственными исподними рубахами.
Жители Полоцка и стрельцы трудились всю ночь, прокопав напротив пролома ров глубиной почти в два роста и на десять саженей шириной. Когда на рассвете через раскаленные, местами еще тлеющие, обломки полезли османцы, последние из защитников еще продолжали бить кирками плотный грунт, наполняя им ведра.
— Не спешить! — не утерпев, приказал князь Сакульский. — Из тюфяков бить только по толпе.
Но услышать его удалось немногим: со всех сторон уже грохотали пищали, сбивая противника обратно в полузасыпанный ров и груды углей.
— Ну и ладно, сами не дураки, — решил думный дьяк, приседая на сваленные один поверх другого бревна, снаружи засыпанные землей. — Пахом, пищаль!
Он выхватил у одетого в сверкающий колонтарь и шишак дядьки оружие, проверил фитиль, приподнялся над бруствером, выстрелил в живот усатому венгру — того попаданием словно сдуло с обугленного вала, — присел обратно, привычно берясь за шомпол: прочистить, насыпать порох, прибить его первым пыжом, высыпать поверх горсть тяжелых картечин.
Стреляя на большое расстояние, князь, как и все, использовал одиночную пулю размером с большой палец — такая и летит намного дальше, и поражает сильнее. Но когда до врага всего десятки шагов — проще использовать полтора десятка картечин диаметром с мизинец. Вблизи они поражают не хуже крупных, но, разлетаясь пучком, бьют врага наверняка, даже если особо и не целиться. А нередко — калечат сразу несколько чужаков с одного выстрела.
Он высунулся снова, нажал на спуск, метясь аккурат посередине между двумя османцами. Как он и рассчитывал, свалились оба. Он опять присел, перезаряжая, высунулся и невольно ругнулся: наемников было слишком много, и они, пусть и неся потери, прорвались-таки через старое укрепление и уже бежали по рву.
— Ну-у!!!
Тюфяки словно отозвались на его призыв, изрыгая в упор уже не горсти, а целые ведра картечи. Многие десятки захватчиков, заполнявших ров, в считаные мгновенья превратились в груды изуродованного мяса, тех же, что еще только подступали — смело с остатков старых укреплений всех до единого. Новые наверх уже не полезли. Польская атака захлебнулась.
— Они просто не ожидали, что мы успеем выстроить новый вал обороны, — усмехнулся Андрей. — Думали, входят в беззащитный город, который или сдался, или брошен. Сейчас оклемаются от неожиданности и что-нибудь придумают. Пахом, сколько ты пищалей бесхозных собрать успел?
— Всего три, княже.
— Давай все заряжу. Скоро каждый выстрел будет на счету.
— Хорошо, княже. Только изволь под шелом, поверх тафьи, войлочную шапку надеть. Не ровен час, то по голове али по бармице рубанет.
— Жарко, Пахом!
— Сеча, княже. Надобно надевать. Не ровен час… Что я батюшке твоему скажу?
— Ладно, давай.
Передышка длилась немногим больше часа. Затем над гарью поднялась пыль и дым, указывая, что кто-то приближается к пролому. Стрельцы, выставив пищали, терпеливо ждали. Над краем обугленного вала сверкнули шлемы, следом появились граненые шестигранные стволы, направленные вперед.
— Проклятье! — торопливо пригнулся князь.
Воздух запульсировал от грохота выстрелов, почти слившихся в плотный залп. Справа и слева от Андрея поднялись земляные всплески, на лицо упали брызги крови. Многие стрельцы, пораженные пулями аркебузиров, откинулись назад с размозженными головами. Почти наверняка по ту сторону рва точно так же рухнули назад десятки убитых наповал немецких наемников. Одновременный встречный залп — он смертоносен для всех.
Князь поднялся, сжимая пищаль — но пока ничего не видел среди клубов дыма. От безысходности он сделал несколько шагов вперед, пока не разглядел среди белого марева неясные фигуры бегущих через ров латников с длинными алебардами. Андрей вскинул ствол, выстрелил в сторону ближайших, свалив картечью троих, метнулся назад, громко крича:
— Тюфяки, тюфяки!!! Огонь, они рядом! — Еще он отчаянно молился, чтобы его услышали, но уже мысленно.
Пушкари осознали, что происходит под прикрытием дыма, и послушались: земля опять задрожала от частых выстрелов тут и там. Тюфяки били вслепую, но наверняка находили свои жертвы, добавляя в ров новые десятки и десятки изуродованных тел.
— Пищаль! — протянул руку к дядьке Андрей, бросил взгляд на фитиль, развернулся к сильно загустевшей пелене.
Несколько томительных минут ничего не менялось, но потом из тумана выбежали сразу трое немцев в кирасах, в шлемах с железным гребнем, с копьями и пиками. Князь резко опустил пищаль, нажал на спуск. Целься он в грудь или голову, убил бы одного, но прошедшая низом картечь переломала ноги всем троим. Слева тоже грохнул выстрел, справа послышался лязг железа. Зверев понял, что ров немцы одолели: сзади наверняка напирает новое подкрепление, а горожан против такой массы слишком мало. Он закричал:
— Бердыши! Бери их в бердыши!
— Не посрамим!!! — отозвался где-то совсем рядом князь Волынский.
— Держи, княже! — Пахом сунул ему в руку пищаль. — Последняя.
— Бердыши не потерял?
— Здесь, под рукой!
Из медленно рассеивающегося дыма появились новые фигуры, уже десятки. Князь выпустил последнюю картечь по ногам, чуть попятился, принял у дядьки бердыш, перехватил двумя руками для близкого боя. Немецкий наемник решил иначе: попытался раскроить ему голову ударом издалека, держа алебарду за самый низ древка. Андрей вскинул бердыш над головой, принимая удар на него, сделал шаг вперед и в безопасной близости рубанул своим длинным и широким стальным полумесяцем из-за головы по рукам — бить в кирасу не имело смысла. Немец завыл от боли, теперь только мешаясь своим же товарищам, а князь парировал такой же длинный укол справа, кольнул кончиком бердыша влево вниз, снова отбил правый укол и попятился: он оказался один против троих. Тут попробуй кого достань, самому бы отбиться.
— Пахом!!!
— Я здесь, княже, здесь…
Это означало, что хоть за спину можно не опасаться. Немцы, напирающие на стрельца слева, придвинулись слишком близко, и Андрей, изловчившись, быстрым движением подрезал ближнему икру, едва не поплатившись за это головой — спас вовремя отведший укол дядька. Наемник переключился на холопа — князь, подставив под падающую сверху алебарду лезвие бердыша, быстро и точно ударил немца в глаз подтоком.
Длинное древковое оружие только кажется удобным и безопасным для владельца. На самом деле им удобно лишь колоть, для рубящего удара алебарду разгонять нужно долго и тяжело. Зачем немцы цепляли себе под пику неудобные топорики, Андрей совершенно не понимал. А ведь они еще и рубить такими топорами пытались!
На место каждого убитого или покалеченного кирасира вставал новый, свежий и бодрый. Защитники же, всю ночь копавшие землю, заметно уставали. Уже сгинул дравшийся слева от князя стрелец, вместо него появился горожанин, в одной рубахе и с вилами, продержался с минуту и получил глубокий укол в живот. Такой злой, что алебарда застряла у него в животе, и Зверев успел перерубить оставшемуся безоружным наемнику колени.
Вот тут внезапно над самым ухом и грохнули выстрелы, сбивая немцев одного за другим, мимо с грозным криком ринулись стрельцы — и сеча ненадолго стихла.
— Вы откуда? — наконец-то перевел дух думный дьяк Сакульский.
— Воевода Ржевский прислал. У нас у реки тихо. Вам же, слышим, тяжко приходится.
— Тихо! — Андрей закрутил головой. Выстрелы и звон стали слышались и в южной части города, и в центре. Получалось, поляки проникли уже во все концы. Пытаться отбивать ров бессмысленно. Ляхи просто обойдут стороной и ударят в спину. — У вас тихо, говоришь? Ладно, заряжаем пищали и отходим к реке.
Неожиданно над городом покатился печальный колокольный звон.
— Кто-то в соборе засел, — поднял голову стрелец из числа ржевских. — И выстрелы с той же стороны.
— Дорогу покажешь? — Князь закинул бердыш за спину, в руки взял пищаль, оглядел свое стихийно собравшееся войско: примерно полусотня бодрых стрельцов, только что спасших их от немцев, еще десяток стрельцов усталых и потрепанных, в крови, несколько десятков горожан, вооруженных чем попало. Один вроде даже как с оглоблей. — Пошли!
Они двинулись между плотно стоящими домами, но уже за первым поворотом напоролись на толпу немецких копейщиков, стоящих вперемешку с аркебузирами. Несколько мгновений воины смотрели друг на друга, потом резко опустили стволы. Дробный залп ударил, словно доской по ушам, кто-то больно рванул Андрея за уши, из клубов дыма все метнулись в стороны, прячась за дома. На перекрестке остались лежать в лужах крови почти два десятка человек. Утешало лишь то, что на следующем перекрестке, тоже мгновенно опустевшем, корчилось столько же наемников.
Князь, приходя в себя, даже сам не заметил, как торопливо перезарядил пищаль. Голова думает об одном — а руки сами по себе привычным делом занимаются. Андрей выглянул из-за угла. До собора, что возвышался почти в центре Полоцка, было всего шагов триста. Три перекрестка. На каждом из-за домов точно так же, как он, выглядывали люди в немецких шлемах. А на самом дальнем — еще и стреляли в сторону храма. Князь понял, что шансов пробиться к церкви никаких. Можно со славой погибнуть, продираясь вперед, но вот прорваться…
Между тем в планах думного дьяка значилось, что за каждого убитого русского витязя полякам придется отдать не меньше десяти своих шкурок. Просто сгинуть, забрав каждому всего лишь по одному, по два врага — это путь к разгрому.
Долго размышлять Андрею было некогда: через пролом вливались в город новые и новые сотни захватчиков, которые в любой момент могли оказаться на ближних улицах, за спиной и даже впереди.
— Идем к реке! — приказал он. — Стрельцы последними. Вперед!
Через несколько минут его маленькая рать прошла через Тайницкие ворота к берегу, к торговым причалам. Андрей приказал занимать все ладьи, струги и лодки, готовить к отплытию. Но не отчаливать, пока суда не будут заполнены до упора. Первыми ушли на другой берег горожане — на плотно забитых людьми лодках. Струги тоже оседали с каждой минутой: из Тайницких ворот постоянно выходили по одному и малыми ватажками защитники города, почти все — в крови, посеченные, раненые. Вскоре с двумя сотнями служивых людей на берег вырвался и сам воевода Волынский. Все вместе, одной ладьей, они и отплыли. Но и после них к реке еще выходили и выходили ратные люди, забирались в струги. Только ближе к вечеру из ворот появились наемники в кирасах. Выстрелами из пищалей стрельцы загнали их обратно за стену, после чего и сами ушли на корабли, отчалили. Примерно на версту спустились вниз по течению — чтобы не высаживаться на глазах у врагов — и повернули к берегу.
Примерно так, оказалось, думали и все остальные — уткнувшись в отмель за узким ивняком, стрельцы обнаружили обширный лагерь, в котором приходили в себя бывшие защитники Полоцка. Теперь Андрей мог примерно представить себе, во что вылилась эта трехнедельная схватка. Через Западную Двину вырвались примерно четыре сотни стрельцов и боярских детей и не меньше тысячи самих горожан. А может, вырвутся и еще — издалека продолжала доноситься приглушенная канонада, Потери, получалось, выходили примерно такими же. Четыре сотни служивых, где-то полторы тысячи горожан.
Польская армия потеряла в безумных атаках султанских наемников не меньше трех тысяч воинов и, наверное, что-то около полутысячи немецких. Соотношение не столь хорошее, как хотелось бы, но уже кое-что. Это ведь еще только самая первая стычка.
На юге поднимались к небу клубы черного дыма. Это горел древний город Полоцк, лишь на два десятилетия получивший глоток свободы и опять попавший под гнет польского рабства. Там, в соборе Святой Софии, еще продолжали сражаться горожане и стрельцы, которые погибнут вместе с владыкой Киприаном. В городе остались и все воеводы, кроме князя Волынского, что сидел теперь на берегу с перевязанными рукой и головой.
Однако и захватчикам Полоцк не принес ничего, кроме большой крови и маленького морального удовлетворения. Как писал польский историк Казимир Валишевский: участники похода в своих дневниках с горечью признавали, что не нашли во всем городе ничего ценного, кроме древней Полоцкой библиотеки. Европейские цивилизаторы, превыше всего на свете боявшиеся книг и архивов, библиотеку, разумеется, немедленно сожгли.
Тайна Магрибских колдунов
Урук-бек с полусотней татар нагнал думного дьяка на полпути к Соколу, спешился, пошел рядом:
— Здрав будь, Андрей Васильевич! Чего невесел?
— А чего мне веселиться, бек? Полоцк сгорел, половина людей потеряна, уцелевшие все побиты изрядно. Стрельцы, что со мной, это самые крепкие. Остальные вместе с воеводой Волынским на Великие Луки отправились — раны лечить.
— А мы ляхов побили преизрядно, — похвастался татарин. — Мыслю, в разных местах не меньше полутысячи неверных вырезали.[26] Коней много взяли, доспехов крепких, возком, прочего добра разного. Казаки же который раз обозы из Польши выводят и до дома отсылают. Мыслю, им там ныне весело.
— Будет и на твоей улице праздник, Урук-бек. Дело наше еще не окончено. Так что разбивай людей на сотни и тропинки окрестные, как прежде, сторожите. Коли армия чужая пойдет али полки крупные, то пропускайте. Дозоры же или отряды малые — тех вырезайте под корень. Нечего им по нашей земле бродить.
— Как скажешь, княже! — Татарин ускорил шаг, уже примериваясь к близкому стремени. — Великому государю для нас служить в радость!
Конная полусотня отвернула, через поле умчалась в ближнюю рощу и исчезла под кронами.
— Кому война мачеха, кому мать родная, — вздохнул стрелец, провожая их взглядом.
— Зато смерть у всех общая, — ответил ему Андрей. — Никого вниманием своим не обойдет.
Поздно вечером они добрались до Сокола, вошли в ворота и буквально упали за воротами в заготовленные гарнизоном на зиму сено и солому. Все устали до такой степени, что не могли даже есть и пить, засыпая на ходу.
На рассвете думного дьяка узнал среди стрельцов князь Шеин, с коим Зверев познакомился еще на совете у Молодей. Он был совсем молод, даже борода толком не выросла и больше походила на легкую опушку по подбородку. Острый нос, ярко-синие глаза. И вечный насморк, вынуждающий то и дело подтирать нос. Ныне, правда, бородка загустела и порыжела, но вот носом он хлюпал, как и прежде.
— Андрей Васильевич?! Откуда ты здесь, княже, какими судьбами? Сказывали, тебя государь в Разрядный приказ определил!
— Вот я здесь и нахожусь по делам разрядным, Василий Борисович. По делам разрядным, порубежным, местническим.
— Да, я слышал, — кивнул воевода. — Это ты так ловко татар и казаков разослал, что к османскому псу ни единый обоз за месяц не дошел. Отчего же ты в Полоцк забрался? Нечто с руки думному дьяку самолично саблями махать? Твое дело — пером да бумагой сражаться.
— Вот от такой битвы и утек, княже, — рассмеялся Андрей. — У вас здесь, в крепости, баня есть? Я, почитай, месяц не мылся и не брился. Сам себя у зеркала не признаю.
— Будет, все будет. Баня еще со вчерашнего дня натоплена. Вот токмо растолкать никого не удалось.
— Три дня в сече, да еще и ночь последнюю. Странно, как вообще добраться смогли.
— Ничего, теперича все позади, — утешил его воевода. — Помоетесь, отдохнете, роспись государю составите. То есть, прости, княже: ты составишь. Стрельцы же просто отдохнут. Их дело несложное: ешь, пей, веселись. Да пару раз в год из пищали в ворога постреляй, коли царь прикажет. Никаких забот, ровно у птахи небесной.
Выбравшиеся из Полоцка воины приходили в себя две недели: отдыхали, чинили одежду, проверяли оружие, залечивали легкие раны. Девятнадцатого сентября они опять увидели польские полки, которые подтянулись и сюда, к Соколу, расползаясь, словно плесень, по окрестному жнивью и пастбищам. Османская конница, по своему обыкновению, сразу сунулась к стенам и воротам, но, спугнутая парой выстрелов, отпрянула обратно к лагерю.
Стрельцы и боярские дети высыпали на стены, наблюдая за тем, как бесконечные обозы везут и везут в стан захватчиков припасы, палатки, аркебузы, пушки и бочки с непонятным содержимым.
— Господь всемогущий, — перекрестился князь Шеин. — Сила-то какая! А нас тут и полутысячи не наберется. Не удержим крепости. Ох, не удержим.
— Не боись. Нам не удержать главное, — тихо произнес возле самого его уха думный дьяк. — Нам главное — перебить их как можно более. Хотя бы тысячи три схизматиков поганых в землю вобьем — и можно уходить. Именем государевым клянусь, будет вам за то слава, почет и уважение. Давай, князь, заставим рабов султановых кровушкой умыться. Не крепость важна. Важно, чтобы из всей этой толпы после нынешнего похода возвращаться в Польшу было уже некому. Как все сдохнут, так и война сама собой закончится.
— Ты как… — передернул плечами воевода. — Ты, Андрей Васильевич, прямо как змей-искуситель нашептывать исхитряешься. Верно государь молвит, прямо как бесовским искушением возле тебя веет. Да еще возле уха левого стоишь!
— И все же меня он в думные дьяки Разрядного приказа по западному порубежью поставил, — напомнил князь Сакульский. — Крепость сия, малая и деревянная, — это просто дрова. Будут люди — новую срубим. Посему главное — своих людей беречь, а чужих истреблять как можно более. О сем в первую голову и думай.
— Ты с Иоанном Васильевичем словно по одной книге речи ведете, — ответил воевода, снова поворачиваясь к вражескому лагерю. Сбил шапку на лоб, почесал в затылке. Ухмыльнулся, громко шмыгнув носом и совсем не по-княжески подтерся рукавом.
— Ты чего, Василий Борисович? — удивился странному поведению князя Андрей.
— Ох, задумка у меня есть лихая… Еще в новиках когда был, придумал. Завсегда мечтал сделать, да токмо уж больно неладной показаться может. С нашими тюфяками старыми да приспособой одной в самый раз пошутить над ляхами будет.
— Какой хитростью? — поинтересовался Зверев.
— О хитрости вслух не сказывают, — хмыкнул князь, огляделся по сторонам, отступил от внешней стороны башни, где толпилось много стрельцов, к внутренней. — Не ровен час, услышит кто чужой, али ты сам в полон попадешь. Поляки пленников пытать страсть как охочи и в деле этом самые первые. Все до последнего слова из тебя вытянут, и что знаешь, и о чем не ведаешь.
— Коли в полон и попаду, так токмо вместе с крепостью. А тогда уже все равно будет.
— Нет, Андрей Васильевич, так не пойдет, — замотал головой воевода. — Штуку я замыслил рисковую, всяко может обернуться. Коли не по-моему пойдет, бедой кончится — тогда как? Чтобы меня предательством, как поганого Андрейку Курбского, попрекали? Такой славы мне не надобно.
— Чего же ты от меня хочешь, Василий Борисович?
— Коли в беде ты сгинешь, а я уцелею, то мне по гроб жизни с пятном этим ходить. Вместе сгинем — посмертный позор останется. Хочу я, чтобы ты государю в любом случае поведал, что деяние свое я сотворил в его славу и с твоего дозволения. Посему выпущу я тебя с избранными людьми через тайницкий ход, а уж о том, что получится из замысла моего… То получится. Коли поручение таково, то так его лучше всего исполнить.
— Эк ты ловко сказываешь, — повел плечами Андрей Васильевич. — Дозволь то, о чем знать не знаешь и ни полслова не поведано.
— Честью клянусь, лучшей хитрости и придумать невозможно! — перекрестился воевода. Молодой, горячий. Кабы не знатность, еще бы лет двадцать он до воеводского звания не поднялся.
— Тебе честь, а я трусом беглым окажусь? От жалких ляхов в первый же день сбежавшим?
— Ты, Андрей Васильевич, думный дьяк. Твое дело не с пищалью в крепости сидеть, а государю о деяниях наших сказывать да поручения царевы передавать.
— Эвон оно как! — хмыкнул Зверев. — Да ты, никак, в старики никчемные списать меня вздумал?
— Прости, Андрей Васильевич, коли обидел невольно, однако же, если воеводы заместо холопов в дозоры начнут ходить, кому тогда полки на врага двигать? Тебе от приказа Разрядного надлежит силы даденные в нужные места направлять для блага общего. Мы же здесь и сами сделаем все, что в силах наших, ты в том не сумневайся. Мы тебе защиту чести нашей доверим, ты же нам тоже поверь. Наплачутся ляхи слезами горькими, что с нами связались.
— Ладно, быть по сему, — смирился князь Сакульский. — Командовать в крепости воевода должен, а не дьяк приставленный. От меня тут только и пользы, что стреляю неплохо. Но коли лишняя пищаль тебе не нужна, тогда выпускай. Насильно мил не будешь.
— Но и ты помни свое обещание, княже! Коли выйдет все не так славно, как хочется, пред Иоанном Васильевичем слово за нас замолви. Изменой себя не опозорим, пусть в том уверен будет.
Тем же вечером князя Сакульского вместе с холопом и семерыми недостаточно окрепшими от ран стрельцами один из сотников выпустил через узкую калитку возле основания восточной башни. Хорошо натоптанная тропинка, тянущаяся вдоль стены через бурьян в рост человека, вывела их к узкому спуску. Они миновали вязко чавкающий, но неглубокий, по колено, ров и, закрытые от вражеского лагеря крепостными стенами, спокойно ушли в лес.
Сотник довольно подробно объяснил, как через темный бор выйти на тракт, ведущий к Великим Лукам, но одно дело — объяснять, и совсем другое — идти ногами. Лошадей через потайную калитку протолкнуть было невозможно, поэтому топать пришлось на своих двоих.
До темноты пути не нашли, заночевали в лесу. На рассвете, перекусив салом и хлебом, двинулись дальше. Только к полудню они наконец-то оказались возле местного проселка. Немного пересидев в кустарнике, беглецы убедились, что на дороге никого нет, вышли на нее и повернули к северу. Через две версты, как и было обещано, впереди показалась деревня. Из нее доносились шумы обычной сельской жизни: голоса, ржание лошадей, блеянье овец. Но вот кто занимал селение, угадать не получалось. Один из стрельцов вызвался пойти на разведку. Остальные пока улеглись отдохнуть в высокой траве — и примерно через полчаса к укрытию путников примчались трое всадников с заводными конями:
— Княже! Князь Андрей Васильевич! Князь, ты здесь?
— Свои, — облегченно вздохнул Зверев и поднялся в полный рост.
Еще через час он сидел на крыльце перед большим костром, разложенным прямо возле колодца, ел горячую конину, которую срезал для него полуголый щербатый воин — усатый, безбородый и с богатой перевязью через плечо, на которой висел шляхтичский палаш, — запивая ее разведенным примерно втрое вином. Наверняка трофейным — иначе у татар оно появиться вроде как не могло. Да и не пили они сами, только угощали.
— Это еще кто? — указал думный дьяк на обширную коллекцию висельников, что раскачивались на берегах за поселком.
— А, неверные, — с показной небрежностью отмахнулся Урук-бек. — Как медом намазано, третий раз наехать на деревню собираются. Ну, так мы ведь их издалече слышим. Расходимся тихо, укрываемся, а как заезжают — поперва из луков сечем, кто без брони. А кто в броне — тех по ногам да по рукам, а опосля пикой с седла собьешь, что ценное есть, снимешь, а самих, вестимо, куда — на дерево. Не кормить же их, татей, из общего кошта?
— Правильно, — одобрил Зверев татарскую тактику. — А ты, стало быть, здесь сидишь?
— Здесь, княже. Удобно здесь. И близко, за полдня до вражьего лагеря дозорные добираются, и не так, чтобы врасплох застали. Уйти при опасности легко успеем, коли большой силой неверные надвинутся. Собраться времени хватит. Не бросать же добро добытое им на потеху? Сотники мои на иных тропах и дорогах окрест стоят. Тоже неверных бьют, Дабы по землям нашим не бродили. Весточки каженную неделю присылают. Ты не думай недоброго, Андрей Васильевич, мы смердов здешних не трогали. Сами ушли, когда о ляхах прослышали.
— Значит, у тебя дозоры есть возле польского лагеря?
— А как же без них?! — немало изумился Урук-бек. — В ратном деле догляд за ворогом превыше всего. Близко, знамо дело, не показываются. Насколько глаз хватает — оттуда и смотрят.
— Отлично, — снова похвалил поволжцев князь Сакульский. — Меня в дозор к ним завтра отправь. Увидеть хочу, как крепость наша держаться будет.
Место для наблюдения за захватчиками татары выбрали у корней пышной вербы, нарубив лапника и выстелив им землю на толщину почти в две ладони. На такой подстилке сырость земли не ощущалась даже в дождь, капли которого протекали в глубину, не сильно досаждая дозорным. Прикрывшись же конскими шкурами, поверх которых насыпаны листья, сторож оказывался в уютном теплом укрытии, различить которое человек посторонний не смог бы и с двух шагов. Помещалось здесь всего три человека — остальные, с лошадьми наготове, дожидались товарищей в глубине леса, почти в полуверсте. Так, чтобы и добежать при опасности сил хватило, и ржание лошадей или ненароком произнесенная фраза дозорных не выдала.
Пахом остался с лошадьми, князь же и двое татар аккуратно подобрались к схрону, сменили прежних караульных, аккуратно выползших из-под шкур, чтобы не повредить лиственную присыпку, на которой уже успели сплести паутину местные насекомые и нападать сломанные ветром свежие веточки.
Заняв среднее место, Андрей тяжко вздохнул, вспомнив придуманные в его время бинокли, и пристроил подбородок на кулаки, наблюдая за далекой крепостью Сокол и поляками перед ним.
Ляхи рыли «тихие сапы» — глубокие извилистые траншеи, по которым можно ходить даже совсем рядом с вражескими стенами, не боясь ни пуль, ни мелких ядер. Крупное ядро край сапы могло, разумеется, и обвалить — да только редко кто станет тратить драгоценные ядра крупного калибра на разрушение банального окопчика. Тем более, не зная, есть там цель для выстрела или нет — из крепости ведь не так уж и разглядишь, бежит кто по сапе или нет. Дело это было, понятно, не быстрое. Потому «тихой» и называлось.
— Можно спать, — сделал вывод думный дьяк. — Еще дня три ничего не начнется.
Он ошибся всего на день. Обстрел крепости поляки начали двадцать второго сентября. Били калеными ядрами, размеренно и настойчиво. Красные чугунные шарики длинными трассерами чиркали по воздуху, в местах их попаданий тут же поднимались белые облачка пара — но влажные стены не занимались. Сырая русская осень была на стороне защитников. Отвечали те, кстати, вяло — словно целиком и полностью решили положиться на прочность укреплений.
Не добившись никакого толку за два дня обстрела, поляки успокоились, целый день соблюдали тишину, а на рассвете двадцать пятого сентября дружно ринулись в атаку со всех сторон. Сокол окрасился дымами — крепость стреляла по бегущим с бадьями и бурдюками османам со всех стволов, что только были. Венгерские наемники падали через одного, но не останавливались, снова демонстрируя полнейшее презрение к смерти. Человеческая волна нахлынула на стены, откатилась назад, заметно поредев, и через четверть часа вперед ринулась волна уже огненная, из сотен факелов. Сокол полыхнул разом по всей окружности, и нанесенные нападающим потери уже не могли хоть как-то утешить оказавшихся в западне защитников.
— А может, и не загорится, — предположил Андрей, глядя, как неохотно лижут влажные от постоянных дождей стены огненные языки. — Сыровата крепость. Из обычного леса строилась, задешево. Выходит, сие бывает и хорошо.
Поляки ждали, облачившись в броню и взявшись за оружие. Зачем — непонятно. Если стены и займутся — гореть будут до утра, раньше внутрь не войдешь. А если нет — так и вовсе зря старались.
После поджога прошло уже несколько часов — но стены так и не полыхнули. Чадили, коптили, парили — но не горели. И тут вдруг ворота распахнулись, из крепости плотными рядами начали выезжать боярские дети — в сверкающих доспехах и шлемах, с нацеленными в небо рогатинами с широкими наконечниками. Короткая заминка, позволившая отряду развернуться до полусотни всадников в ряд — и кованая конница с оглушительным боевым: «Ур-р-ра-а-!!!» — ринулась в атаку на никак не огороженный лагерь.
Поляки метнулись кто куда: многие сразу рванули бежать, побросав оружие, на ходу расстегивая кирасы и сдирая кольчуги, кто-то шарахался по лагерю, кто-то вопил, схватившись за копья и топоры, готовился к бою. Воевода, даже если бы и мог что-то сделать для отпора — времени для его организации не имел. За те недолгие минуты, пока он узнал бы про нападение, пока оценил обстановку, принял решение, куда и как размещать силы, пока отдал приказания и собрал бы полки — в общем, сделать что-либо польский командующий никак не успевал.
— Давайте, ребята, давайте! — забывшись, князь даже привстал, рискуя выдать врагу место татарского схрона.
Впрочем, сейчас захватчикам было не до того, чтобы смотреть по сторонам. Боярские дети носились между палатками, накалывая рогатинами и рубя саблями визжащих, как крысы, чужаков, сбивали их с ног, топтали лошадьми, расшвыривали одиноких храбрецов, решивших принять смерть с мечом в руках.
— Молодец, княже, молодец, Василь Борисович! Ай да Шеин, ай да удалой воевода! В ножки за тебя родителям твоим поклонюсь и Иоанну о том же накажу!
Испоганили лихую атаку немцы. В отличие от прочего сброда, они не кинулись спасать свои шкуры и не заметались в панике. Латная пехота быстро расхватала алебарды, сошлась плечом к плечу. Маленькие отряды, отступая друг к другу, быстро слились в крупные полки, ощетинившиеся стальным частоколом, выдвинулись вперед, развернулись, защищая от разорения свою часть лагеря. Некоторое время наемники стояли на месте. Видимо, дисциплинированные немцы ожидали приказа. Боярские дети держались от этой молчаливой живой стены подальше, предпочитая истреблять менее опасную живность. И правильно, на взгляд Андрея, делали. Уничтожать захватчиков следовало с наименьшими потерями. А кирасиры…
Внезапно немецкие полки зашевелились, часть отряда числом не меньше тысячи отделилась от главных сил и, сохраняя плотный строй, спокойно и уверенно двинулась к распахнутым настежь воротам города. Князь Сакульский сжал кулаки — увлекшиеся рубкой боярские дети, похоже, не замечали опасности. Но нет: зазвучала труба, призывая кованую конницу к отступлению. Русские сотни начали отворачивать, оттягиваться к городу. Немцы встали, ощетинились алебардами — но и на этот раз трогать их никто не попытался. Из разоренного польского лагеря боярская конница вырывалась малыми отрядами, а то и вовсе поодиночке. Атаковать же плотный и дисциплинированный строй хорошо вооруженной и защищенной пехоты рыхлой цепью — занятие бессмысленное и даже самоубийственное. Тем более что наемники еще и превышали, причем заметно, конницу числом.
Командир латников это тоже понял, и пехота, вскинув алебарды, скорым шагом направилась к крепости. Началась убийственная гонка за ворота: если немцы успеют к ним первыми, то ворвутся внутрь, и Сокол, считай, захвачен. Если ворота закрыть слишком рано — очень многие русские останутся за пределами стен и наверняка будут перебиты. Боярские дети, осознавая опасность, пускали своих скакунов в галоп, летя во весь опор, огибая полк врага справа и слева.
— Ну же, ну же, ну!!! — уже в голос подгонял их Андрей, забыв обо всем на свете.
Немцы подошли к воротам почти одновременно с последними из всадников, случилась небольшая свалка, алебарды качнулись и стали все быстрее и быстрее просачиваться внутрь крепости. Похоже, наемники добились своего, не дав закрыть ворота и выбить их наружу. Польский лагерь разразился криками восторга. Недобитые захватчики приободрились и помчались с разных сторон к Соколу, торопясь принять участие в грабеже. Десятка два бояр, оставшихся снаружи, покрутившись, отвернули к лесу — против всей польской армии они были не бойцы.
— Прошляпили крепость! — выдохнул князь.
Но следовало отдать молодому князю Шеину должное: шороху в польском становище он навел изрядно и схизматиков перебил немало. Если сложить их с потерями поджигателей — крепость погибла не зря.
Полк немецких наемников вошел в крепость целиком, туда же успело влететь с десяток самых шустрых венгров, когда вдруг случилось невероятное: в воротах невесть откуда обрушилась вниз решетка из толстенных железных прутьев, намертво перекрыв вход и выход в Сокол, из воротных башен в ближних османцев почти в упор ударили пищали, разрывая тела в клочья, а вместе с тем внутри крепости оглушительно загрохотали пушки. Османцы, собравшись толпой до полутора сотен, попытались подойти к воротам еще раз — и опять частые выстрелы отогнали их в сторону.
К Соколу быстрым шагом двинулся основной отряд наемников, развернулся в пять рядов, зашагал, не обращая внимания на мечущихся перед алебардами султанских вояк. Башни опять заговорили огнем и дымом, выбивая из строя одного латника за другим, но и немцы внезапно выпустили вперед аркебузиров, начавших всего с сотни шагов методично расстреливать бойницы. Выстрел — аркебузир уходит обратно за строй, уступая место товарищам, перезаряжает оружие, снова выходит вперед. По ним тоже били в упор, убивая одного за другим, — но наемников было намного, намного больше, и очень скоро выстрелы из бойниц начали звучать реже, а вскоре вовсе стихли. Однако под ноги латникам из ворот уже потекли мелкие ручейки крови — крови их товарищей, которых немцы надеялись спасти, не щадя собственной жизни.
Вперед опять ринулись венгры. Наемники отчаянно пытались вскарабкаться на стены, раскачивали решетку, пытались поднять ее общими усилиями, они облепили ворота, как муравьи, и, наконец, кому-то улыбнулась удача: решетка поползла вверх, пропуская в Сокол густой поток османцев. Внутри снова загрохотали пушки, перемалывая в мясо незваных гостей, но на этот раз участь крепости и вправду была решена: новые и новые толпы завоевателей лезли внутрь, выстрелы же звучали все реже, пока, наконец, не стихли совсем.
— Может, хоть кто-то уцелел? — понадеялся Зверев, однако понимал, что возможность такого чуда ничтожна. Размеры тайной калитки, придуманной специально для выхода и возвращения лазутчиков, он знал. Вырваться из нее в горячке сечи сколь-либо заметному числу людей было невозможно. Да и не бросают русские своих товарищей в битве, поодиночке бежать не станут. Думный дьяк перекрестился: — Будь славен, князь Василий Шеин, на веки вечные. Жизнью честь свою княжескую оправдал. Пока есть в наших пределах люди столь храбрые и отважные, не бывать Руси в рабстве. Спасибо тебе и витязям твоим. Именно вы сохранили державу нашу вечной, а русский народ — свободным. Вечная вам память…
Разумеется, больше всего князя интересовало, что же происходило в Соколе после входа в крепость нескольких сотен немецких наемников. И когда вечером татарский лагерь, выставив посты, затих до утра, он открыл свой походный набор зеркала Велеса. Наговорил по привычке заговор Сречи — участие богини, никогда не отказывавшей в помощи, лишним не будет. Затем прочитал молитву Велесу, глядя в зеркало. Оно отозвалось мгновенно, показав ему двор крепости, освещенный огнем десятком костров и полыхающей башней — какой, Андрей не понял. Тем более не понял, что зрелище, развернувшееся в тесном дворе Сокола, буквально вышибало разум. Там ползали десятки странных человекообразных существ, вспарывающих мертвецам животы и пожирающих внутренности, вырывающие какие-то органы и несущие их в середину двора, ограниченную сияющей, матово-белой пентаграммой. Там кружился в белом балдахине кто-то безлицый, с темными руками и бесформенными ступнями. Этот кто-то вовсе не походил на человека, а скорее на грубое его подобие, вырезанное из дерева, но уже давно полусгнившее.
— Что за проклятие? — тряхнул головой ученик древнего волхва, отгоняя странное наваждение, опустил глаза ниже, и через миг зеркало вместо странных адовых картинок наконец-то начало показывать реальность недавнего прошлого. Боярские дети у чародея на глазах как раз поднимались в седла, проверяли, как выходит оружие из ножен, прикидывали равновесие рогатин, горячили коней, подбирали поводья. Вот они все встрепенулись, посерьезнели, вот потянулись куда-то в сторону от зеркала.
Князь наклонил голову и смог разглядеть воротную башню, под которой десяток за десятком исчезали закованные в броню всадники. Что ждало их по ту сторону, Андрей уже знал, а потому не последовал за ними, а попытался в силу возможности оглядеться. Князь с изумлением обнаружил вокруг десятки пушек, стареньких короткоствольных тюфяков, удобных для ближнего боя, но уже малопригодных для полевых сражений, где успели утвердиться дальнобойные пушки. Тюфяки стояли на идущих вдоль стен помостах, были повернуты внутрь двора и направлены вниз. Рядом суетились стрельцы, закрепляя стволы, приматывая, подтягивая, укладывая удобнее банники и бочонки со жребием, зажигали фитили пищалей. Длилось это довольно долго — но вот, наконец, стали возвращаться на взмыленных лошадях раскрасневшиеся бояре, пролетая в самый дальний конец двора, торопливо отпускали подпруги, перехватывали выставленные там пики и копья, бежали к лестницам, ведущим на помост, останавливались на нижних ступенях и перед ними. Двор быстро наполнялся, перед каждой из лестниц плечом к плечу, прикрывшись щитами и опираясь на ратовище, ждали чего-то спешившиеся боярские дети.
Всадники влетали во двор все реже, некоторые витязи были ранены. И наконец, буквально на хвосту последних из боярских детей, в Сокол ворвались, яро размахивая алебардами, закованные в кирасы немецкие наемники. Вышколенная пехота знала, что одинокий воин — мертвый воин, и потому не разбегались в стороны, а расступались, пропуская между собой товарищей из задних рядов, заполняя двор плотной массой. Потом что-то случилось: пехотинцы забеспокоились, боярские дети опустили копья. Увы, звуков через зеркало услышать было невозможно, но Андрей был уверен, что именно в этот миг на входных воротах упала решетка, отсекая вошедший в крепость полк из многих сотен кирасир от главных сил. И князю Сакульскому вдруг стало очень и очень интересно: а сколько же золота османский пес пообещал каждому из этих людей за то, чтобы они пришли на русскую землю убивать незнакомых им людей?
Помост внезапно весь подернулся белым дымом, и плотный строй наемников разрезали кровавые просеки. Немцы дрогнули, на миг смешались — стены выплеснули новые облака дыма, внизу рухнули новые десятки убитых. Но, несмотря на это, немцы не побежали, не заметались в панике, не замолили о пощаде. Они сомкнулись! Кирасиры встали на мертвых товарищей, восстановив строй, опустили алебарды и двинулись вперед, на бояр, защищающих лестницу.
Скорее всего, в полку сохранилось достаточно командиров, чтобы отдавать приказы, а немцы были достаточно тупыми солдафонами, чтобы следовать им даже в том кошмаре, в каком они оказались. Для перезарядки тюфяков требовалось время, и немалое. Эти минуты были единственным шансом наемников на спасение: успеть подняться по лестнице на стену и перебить стрельцов. Неведомый командир этот приказ отдал — и полк послушно двинулся на рогатины. Боярские дети и наемники столкнулись, замелькали в воздухе алебарды, блеснули, выискивая цель, наконечники рогатин. Однако кирасы пехотинцев оказались не менее прочными, чем бахтерцы и колонтари бояр, от ударов алебард русские просто прикрылись щитами — и стычка превратилась в бессмысленную толкотню. Защитники упирались спинами в стену, не давая себя сдвинуть, нападающие наваливались всей массой, убитых и раненых не обнаружилось вовсе.
Время ушло — с помостов снова ударили тюфяки, калеча наемников картечью, потом снова, уцелевших одиночек стрельцы добивали из пищалей. И немцы попятились, рассыпали строй. Впрочем, их оставалось совсем не так много, чтобы дисциплина смогла хоть что-то изменить. Бегающих по двору латников кололи, стреляли сверху, подрубали им ноги, проламывали кистенями шлемы. Все было закончено очень и очень быстро: двор от стены до стены устлали мертвые изуродованные тела, кровь сотен жертв потоками заструилась к воротам. А потом — стрельцы начали бить из пищалей куда-то вверх, по воротной башне. Еще немного — и во двор опять хлынул поток чужаков, на этот раз — османцев. Пушки жахнули еще и еще — но даже если вошедшие и хотели бы убежать из жестокой мясорубки, им все равно не позволяли этого их же товарищи, подпирающие сзади. Боярские дети ринулись на врага, сперва накалывая рогатинами, а когда те застряли в телах, потяжелели — хватаясь за сабли, рубясь в тесной свалке, иногда побеждая, иногда — нет.
Стрельцы успели перезарядить тюфяки и выстрелить в толпу еще два раза, калеча живых и окончательно перемешивая с землею мертвых. При всей отваге бояр враги превосходили их числом многократно. И если сперва сверкающие доспехи казались островами в море цветастых халатов, то скоро они стали уже отдельными рифами, а потом и вовсе исчезли, растаяв в глубине. Османы побежали вверх по лестницам, навстречу пищальным выстрелам и бердышам, быстро оттеснили защитников к дальним башням. И хотя многие десятки венгров полегли под ударами страшных русских топоров — нападающие оказались сильнее. Последних стрельцов воины султана подняли на пики и радостно скинули вниз. Из защитников не уцелел никто — не только воевода Шеин, но князья Палецкий, Лыков, Кривоборский, три сотни бояр, имен которых Андрей даже и не знал, и больше ста стрельцов самого простого звания.
Ученику чародея оставалось только смотреть, как османы обыскивают все еще дымящуюся крепость в поисках добычи, как срывают с пальцев убитых кольца, обшаривают одежду и сумки, уводят перепуганных, но уцелевших лошадей.
К вечеру, обобрав всех, кого можно, венгры потянулись из крепости. На их место пришли люди в странных одеждах, скрывающих лица и формы тела, расчистили от мертвецов самую середину двора, затеяли там какое-то строительство. Все дружно скинув одежды, они опустились на четвереньки, разбежались в стороны, выискивая мертвецов с распоротыми животами, выгребая внутренности, стаскивая их к центру двора. Собравшись вместе снова, они опять что-то творили — Андрей Зверев который раз мысленно выругался, что не способен услышать, что же они там поют, твердят или заклинают. Вот один встал в середину, закружился. Остальные вскинули руки с вырванными органами, обрушили внутрь — и в ответ им полыхнула белая пентаграмма.
— Колдуны, — вдруг сообразил ученик мага. — Это же те самые магрибские колдуны, о которых предупреждал Лютобор!!! Им нужно было проникнуть на русскую землю — и они проникли сюда! И начали творить ту самую смертную порчу, воздействие которой вроде бы удалось ослабить общерусским молебном.
Маги продолжали свой шабаш, творя бесшумные заклинания, поклонения и глумления над трупами. Пентаграмма светилась все ярче и ярче, маги уже не просто пожирали тела, но и кувыркались в крови, прыгая по телам, катаясь по ним и обнимаясь.[27] Андрей, стиснув зубы, поднял глаза к верху зеркала, заглядывая в будущее. И увидел, как колдуны, спрятавшись под балдахины, осторожно выбрались из крепости, пробрались в обоз и с предельной скромностью залезли на возки с какими-то тюками, укрытыми рогожей, в рогожу же и завернулись, устраиваясь спать.
На рассвете унылые смерды привели лошадей, не спеша запрягли в повозки, выждали команды, после чего выкатились на дорогу, встраиваясь в общий обоз. Телег с колдунами было семь, и ехали они в самой середине обоза. Хотя чародеи явно стремились никак не выделяться на общем фоне, телеги у них были куда новее, нежели все прочие, и рогожи тоже выделялись своей яркостью.
Миновав какой-то мелкий ручеек, ратный обоз втянулся в густой лес, долго тащился через него, выкатился к небольшому хуторку, изба которого стояла с пустыми черными окнами, прополз через луговину, снова нырнул в темный ельник. Длинный, длинный обоз…
Князь затушил свечи. Напряженно раздумывая, убрал свой чародейский складень. Потом вышел на крыльцо, посмотрел на небо. На нем уже можно было различить облака.
— Светает. Пока поднимутся, пока поедят, пока соберутся… Успеем! — Он решительно перешел улочку и громко застучал в дверь избы, в которой спал Урук-бек: — Вставай! Вставай, воевода! Вели седлать, дело ратное есть! Поднимай людей, время уходит! Налегке уходим, други! Только сабли, пики да колчаны. И заводных хватайте, сколько соберете! Быстрее, быстрее, смерть свою проспите!!!
Татары, зная, кто такой князь Сакульский, поднялись и принялись поспешно собираться, не дожидаясь пробуждения своего командира. Урук-бек, выйдя на стук, приказ седлать коней, естественно, повторил и уже потом уточнил:
— Куда скачем-то, Андрей Васильевич?
— Будет драка, друг мой. Не боишься?
— Когда это татары сечи боялись, княже? — моментально вскинулся тот. — Татары для битвы рождаются, из битвы род свой ведут, в битве годы заканчивают! Во имя Аллаха всемилостивейшего, не посрамим имени государя нашего! Веди нас, князь. Умрем с честью!
Как потребовал думный дьяк, легкая поволжская конница умчалась из лагеря, не взяв с собой вовсе никаких припасов. Только полные колчаны и длинные пики прыгали на крупах заводных коней. Налегке, широкой рысью они стремительно промчались десять верст, отделяющих деревеньку от наезженного тракта, повернули влево. Князь, давая роздых коню, облегченно перекрестился:
— Успели! Теперь можно не торопиться. Обозу конного ни в жисть не догнать, даже если шагом идти. Теперь никуда не денутся.
— Хоть теперь ты скажешь, княже, куда мы так торопимся?
— Ведомо мне, Урук-бек, что должны немногим после полудня этим путем люди зело опасные проехать. Надобно нам их дождаться и перебить всех до единого. Перебить всех, кто покажется, без исключения. Ибо облик тварей опасных мне неизвестен. Лучше всего их из луков посечь. Неожиданно и с удаления, дабы сотворить ничего не успели. В общем, как команду дам — убивайте всех, кого только на дороге увидите. Всех до единого. На себя грех приму… Хотя откуда в польском обозе невинные? Нет там таких. С чистой совестью всех секите, заслужили.
— Обоз? — встрепенулся Урук-бек и чуть отстал, оглянулся: — Князь знает, где обоз польский пойдет!
Татары на это известие ответили радостными возгласами, по цепочке уходящими далеко под кроны.
Дорога была узкая и тенистая, ветви деревьев почти задевали головы всадников. Да оно и не удивительно: порубежные крепости Сокол, Суша, Козьян, Ситно, Туровля, Усвят и прочие такие же были срублены всего десять лет назад. Гарнизоны в них стояли небольшие, селений окрест еще не разрослось, посему и ездили путники по тракту между ними редко, колею почти не накатав. А что строители натоптали, пушки и инструмент тяжелый протаскивая, — то уже успело зарасти. Натоптали немного — лес-то с собой никто не вез, деревья для стен и башен на месте валили. Пришли, ушли — вот и вся забота.
Широким шагом до приметного луга возле брошенного хозяйства идти оказалось всего три часа. Увидев избу, Андрей, по еще заметной колее, свернул к ней, но перед покосившимися воротами отвернул, проскакал вдоль забора и уже за двором направился влево, к лесу. Три сотни татар, хорошо понимая смысл маневра, скакали один за другим, и потому вытоптанной полосы, выдающей засаду, на луговине не осталось. А узкую линию примятой травы с трака было не разглядеть. Уйдя в чащу за густой рябинник, князь спешился, шепотом приказал:
— Привал, отдыхаем.
Урук-бек передал его приказ своим людям и спрыгнул из седла рядом:
— Долго ждать-то?
— Мыслю, часа четыре, — прикинул по высоте солнца Зверев. — Полудня еще нет, а они сильно позже должны проехать. Так что, отпускайте подруги, привязывайте лошадей. Можете досыпать, кому ночи не хватило.
Спать в сыром осеннем лесу татарам было негде, и они, присев на корточки, о чем-то тихо беседовали, играли в кости, иные чистили коней и проверяли упряжь, правили клинки и перебирали стрелы.
Когда солнце добралось до зенита, на тракте появилась османская конница. Венгры свернули к дому, заглянули во двор, покрутились окрест. Брать тут явно было нечего, и всадники вернулись обратно на тракт, уходя через густой лес к следующему русскому укреплению. Новые конные сотни с тракта даже и не сворачивали: выныривая из одного лесного тоннеля, проскакивали открытый участок и тут же ныряли в другой. Османцы шли и шли, шли и шли, больше часа, не прерываясь ни на минуту. Вслед за ними покатились возки обоза. Поначалу крытые парусиной, а потом и обычные телеги.
— Уже скоро, — предупредил князь. — Давайте потихоньку выбираться.
Татары, ведя коней под уздцы, с невозмутимым видом стали один за другим не торопясь выходить из леса на луг, открыто пускали пастись заводных коней, прогуливались рядом с оседланными. Возницы, глядя на вооруженные сотни, особо не тревожились. Ведь легкая конница похожа друг на друга во всех странах. Халаты и шлемы, луки и пики, кривые сабли одинаковы и у татар русского царя, и у османского султана. Да и в войске Батория их хватало изрядно. Поди отличи одного от другого, коли он сам не назовется? Раз не нападают, мирно стоят — значит, свои.
Да и какое дело обознику до таких загадок? Головной полк прошел, опасности не заметил. Тылы немецкая пехота прикрывает. Чего простому извозчику в самой середине потока из телег, возов и двуколок беспокоиться? Об опасностях ратных пусть у воевод и полководцев голова болит.
— Наверное, уже скоро, — кивнул Урук-беку думный дьяк. — Ты только слово мое помни и людям своим укажи. Сечь стрелами всех, кто живой, без жалости.
— А потом?
— Потом? — удивился Зверев. Он об остальном даже и не задумывался. — Мне главное — ворога опасного истребить. Семь возков опасных из обоза заберу, до остального сами решайте.
— Уходить как будем? — задал не менее важный для татар вопрос Урук-бек.
— Лесными тропами, — махнул на дальний конец луга Андрей, этой мыслью тоже не озаботившийся. Шанс уничтожить черных колдунов затмил для ученика волхва все остальные вопросы. Но теперь он рукой подозвал Пахома, тихо приказал: — Скачи на тот край, посмотри, где тропы самые натоптанные. Коли люди у леса жили, стало быть, за дровами, грибами-ягодами туда ходили. Должны быть тропки.
Холоп кивнул, вернулся к лошади, затянул подпруги, взметнулся в седло и ускакал прочь. Татары проводили его взглядами, но поскольку сам князь остался с ними, особо не забеспокоились.
— Да, да, — кивнул им Андрей. — Затягивайте, поднимайтесь, луки готовьте. Скоро начнем.
Теперь он внимательно вглядывался в обоз, в ожидании семи новых телег с новыми рогожами подряд. Татары один за другим начали подниматься седла, подтягивать колчаны, чтобы удобнее выдергивать стрелы. Думный дьяк последовал их примеру, не отрывая глаз от дороги. Но ничего похожего пока не замечал.
— Ты прав, княже, дорожка там есть, — вернулся Пахом.
— Это хорошо, — в задумчивости кивнул Андрей и вдруг резко привстал на стременах: телеги показались! Он узнал первую же — по лошади, по темным пятнам на светлой шкуре. И ничуть не удивился, когда повозка, в которую она была впряжена, оказалась новой, равно как новыми были и все следующие за ней. Князь крутанул на месте своего скакуна, снял рогатину из петли на заводной лошади, кивнул Урук-беку: — Приготовились.
Всадники уверенно и спокойно извлекли луки, открыли колчаны, из которых торчали кусты оперений.
На тракт выползли уже все семь возков, и еще с десяток позади. До въезда в лес оставалось четыре.
— Вперед!
— Х-хо! Хо! Хо! — подгоняя криками лошадей, ринулись в атаку татары.
Три сотни луков одновременно заметали стрелы в возничих на козлах и отдыхающих, что лежали в возках… Не во всех — только в семи. Всего несколько мгновений — и в каждом чужаке сидело по доброму десятку стрел. Татары налетели на обоз, свернули вправо и влево, пуская стрелы в тех ляхов, что уже находились под прикрытием леса. Самые ближние ничего и понять не успели, те, что находились дальше — закричали, кинулись бежать, бросая вожжи и телеги.
— У нас не больше часа!!! — громко предупредил всех князь Сакульский. — Не больше часа! Пахом, помогай! Заворачивай эти колымаги…
Он проскакал вдоль новых возков, часто и глубоко тыкая в них рогатиной. Несколько раз она входила довольно туго, словно в тело — но кровью не окрасилась. Однако разбираться, что там везли магрибские маги и прятались ли они сами среди прочего барахла, времени не оставалось. Перехватив вожжи, князь и дядька вывели опасный груз, заставили лошадей дойти до двора, загнали внутрь. Пахом, чтобы не тратить времени, просто обрубил постромки и выгнал скотину наружу, Андрей толкал телеги, переставляя их плотнее.
— Дядька, потом! Сено тащи! Там, на сеновале должно быть! — В четыре руки они довольно быстро напихали под возки сухое сено из-под кровли пристройки, Андрей самолично высек искру и выдул огонь, сунул бересту в ближайшую кипу. — Кажется, успели. Отходим!
Они выбежали со двора, поднялись в седла. Пахом тут же поскакал ловить разбредшихся лошадей, думный дьяк помчался к обозу, к самому въезду в лес, попытался с седла рассмотреть, что происходит вдали.
Князь Сакульский прекрасно представлял, что и как сейчас делают поляки, ибо и сам не раз оказывался на их месте, пытаясь отловить точно таких же татар, как эти, что сейчас разоряли баториевский обоз его именем. Он знал, что спугнутые извозчики подняли шум, сигнал опасности домчался до конницы, успевшей уйти почти на две версты вперед, и она лихорадочно развернулась и мчится назад так быстро, как может… А может она очень плохо, ибо телеги загораживают узкую дорогу на всю ширину, пробираться мимо них тесно и трудно, ветки по краям свисают куда ниже, чем посередине, мешая выпрямиться в седле — и потому османцы не несутся во весь опор, а медленно протискиваются со скоростью пешехода, буквально распластавшись вдоль конской туши и прижимаясь щекою к лошадиным гривам. Немецкие наемники, и те наверняка добегут быстрее. Им, по крайней мере, места между возками и ближними деревьями хватит. Но пару верст от задней телеги длиннющего обоза и до его середины все равно пулей не пролетишь. И бегать в кирасе да с алебардой удовольствие тоже куда ниже среднего.
— Хватит! — решил думный дьяк, хотя опасности пока еще не замечал. — Они уже близко! Уходим! Вы слышите меня? Урук-бек! Все, уходим!
— У тебя кони пустые, Андрей Васильевич, — подскакал разгоряченный татарский воевода. — Дозволь загрузить?
— Грузите! — не стал дурить воевода. — И отзывай своих, наконец, пора скрываться. Отступаем!
— Кого боишься, Андрей Васильевич? Нет же никого! Тупые ляхи еще полдня не поймут, куда кидаться и кого ловить!
— Повиноваться царскому дьяку отказываешься, татарин?! — злобно зарычал князь, сразу вспомнив, что именно это и есть главная беда лихой татарской и казачьей конницы: полное непонимание дисциплины. — Уходим, я сказал! Кто отстанет, повешу без промедления!
Угроза подействовала: Урук-бек, пусть и недовольно скрипнув зубами, залихватски свистнул. Потом еще и еще раз. Его всадники, тоже недовольно бурча, отвлеклись от обследования телег, которые для простоты разгрузки просто опрокидывались набок, стали подниматься в седла.
— Уходим, уходим! — продолжал торопить Андрей. — Пахом, показывай дорогу! К лесу уходим, на тот край!
— Смотри, княже, дом отчего-то загорелся, — указал на брошенный двор Урук-бек. — Это не мои…
— Это я, — кратко сообщил Андрей. — Да поторопи же ты своих удальцов!
Следуя окрикам князя и командам своего воеводы, татары все-таки начали отходить на дальний край поля, огибая уже вовсю полыхающий крестьянский дом. Впереди, вслед за Пахомом, скакали несколько человек, а следом тянулся целый табун тяжело груженных лошадей, подгоняемых суетливыми всадниками. Замыкал уже не маленькое войско, а натуральный купеческий караван отряд в две сотни воинов, сжимающих луки. Однако стрел не понадобилось — татары успели миновать луг и старую пахоту еще до того, как хоть кто-то из авангарда или арьергарда польской армии успел появиться в поле.
— Топорами у тебя кто-нибудь работать умеет? — поинтересовался Андрей у Урук-бека, когда замыкающие всадники втянулись на узенькую — еле-еле тремя к стремени двигаться можно — тропинку.
— Найдутся и с топорами, — кивнул татарский воевода.
— Пусть в сторону с тропы отвернут и нас дожидаются.
— Аргыз, Аргедже, Нагиз, Теджир! — с ходу перечислил Урук-бек несколько имен, и команда зашелестела вперед из уст к устам. Вскоре думный дьяк увидел всадников, чуть в стороне от тропы дожидающихся своего командира.
— Толстые деревья справа-слева нужно свалить поперек тропы, чтобы проход закрыть, — тихо предложил Андрей. — Слева, вон, низина топкая, а справа ельник. Замучишься продираться, особенно конный.
Урук-бек повторил приказ уже громко, вызванные им татары спешились, потянули топоры из поясных чехлов. Вскоре застучали топоры, а когда князь с беком отъехали на несколько сотен шагов, позади послышался громкий треск падающих стволов. Через час лесорубы нагнали воеводу и тут же получили приказ повалить деревья еще в одном месте.
Степняки не перечили — понимали, зачем это нужно. Завал из бревен на пути преследователей ведь мало просто порубить, его надо еще и растащить. А это время, причем немалое. Чем больше задержек у преследователей, тем дальше смогут уйти татары.
Увы, болотистый ельник, перемешанный с березняками и осинником, вскоре уступил место сухому полупрозрачному сосновому бору. Одно было утешение, что развернуться в нем можно было широко и идти куда быстрее… Пока аккурат поперек пути не обнаружилась шустрая речушка с полувытащенной на берег гнилой лодкой. Видать, сюда здешний крестьянин и ходил через два дня на третий, протоптав и расчистив удобную тропу. Когда рыбачить, когда по воде в ближний город сплавиться. А может, и на телеге сюда катался, если и вправду товар возил.
Это был тупик.
— Привал, — спешился Андрей с невозмутимым видом. — Выстави дозоры сзади на тропе, и пусть люди оружие под рукой держат.
— А если поляки догонят? — обернулся назад Урук-бек.
— Тогда через лес вверх по течению пойдем. — Князь Сакульский всячески пытался внушить татарам, что ничуть не смущен и знает, что делает.
— Почему не вниз?
— Внизу озеро. Там крепость Суша стоит, к ней османский пес и отправился. А вверху река мелеет и дорога в паре дней пути.
— Может, сразу туда и повернем?
— Зачем продираться через лес, если можно пройти по дороге? — пожал плечами Андрей. — Поляки не знают здешних мест и уверены, что мы уходим проезжими путями. Ночью по лесу погони не устроишь, равно как и сечу не затеешь. А скоро уже смеркается. Шли они сюда крепость порубежную разорять, отвлекаться им недосуг. Уходить обратно к тракту, разбивать лагерь, утром снова топать сюда, не зная, здесь мы или уже на полпути к Смоленску… Уверен, упершись во вторую засеку, они плюнули и повернули назад. Сколько таких препятствий впереди, они ведь тоже не знают. Коли ошибаюсь, тогда да — снова в седла поднимемся и через лес пойдем. Но я уверен, что сего не потребуется. Косточки поляки в погоне разомнут, за пару часов остынут, на небо смеркающееся посмотрят, наказы Батория своего вспомнят, да и повернут обратно. И только погонять станут, дабы до заката к Суше поспеть и не голодными спать ложиться.
Князь не верил и половине того, что наговорил. Хотя бы потому, что земли сии царь Иоанн совсем недавно отбил именно у поляков, а потому места здешние они знали куда лучше, чем он с Пахомом. И в погоню вполне могли отрядить небольшую часть сил, все прочие уведя дальше к Суше. Однако татар его уверенное поведение и разумные доводы убедили. Они несколько расслабились, стали отпускать лошадям подпруги, многие даже начали собирать хворост, готовясь к ночлегу.
— А дом-то ты зачем подпалил, Андрей Васильевич? — вспомнил Урук-бек. — Он же и так пустовал.
— Мы с тобой и воинами твоими, дружище, сегодня дело великое сделали. Мы колдунов могучих, что османскому псу служили, в обозе том с извозчиками вместе посекли. Сжег же я их потому, что колдуны иной раз чересчур живучими бывают, да и магия их иной раз крепка слишком. Огонь же любое чародейство уничтожает начисто. И самих колдунов, и амулеты, и всю ту мерзость, которая сими магами и амулетами наводилась. Так что, Урук-бек, рисковали мы не зря.
— Машаллах, Аллах акбар! — Татарский воевода поцеловал кольцо для натягивания тетивы на большом пальце и провел ладонями по лицу и бороде.
— Да, — согласно кивнул Зверев, понимая, что тот прославляет Бога и его силу. — За такое дело Всевышний нас в обиду не даст и сто грехов простить должен.
— Да, Андрей Васильевич, за то мы ему должны быть благодарны. Однако же и правда смеркается, княже, а тревоги дозорные не поднимают. Думаю, ты прав, не погнались ляхи, оставили сию затею. Надобно на отдых располагаться.
Припасов татары с собой не брали опять же по вине князя — но сейчас степняки забыли про такую ерунду, как еда, занимаясь невероятно увлекательным делом: разбирая трофеи, которые удалось собрать в обозе и навьючить кое-как на спины лошадей, своих и выпряженных из повозок.
В суете грабежа никто ведь особо не смотрел, где и что лежит, примеряясь в основном к удобству увязывания и размерам поклажи: мешки удобнее бочонков, тюки удобнее узлов, а сундуки — вне конкуренции, ибо в них обычно и держат самое ценное.
Только теперь, в спокойной обстановке, выяснялось, что где-то была схвачена только половина шатра — пара пологов и верхушка, а остальное так и осталось в обозе, где-то в тюках оказались донельзя вытертые ковры и кошма, которую явно уже давно стелили только под ноги в самых грязных местах. В иных тюках и узлах нашлись, очень кстати, котелки, вертела, треноги и щипцы, многие мешки наполняли крупа и зерно. Что, кстати, спасло жизнь нескольким скакунам: татары предпочли поберечь лошадей для перевозки добычи, а силы подкрепить густой похлебкой из овса пополам с гречкой и мелкой крупкой из сушеного мяса, тоже найденного в каком-то из коробов. Поскольку свинину «неверные» в основном коптили и солили — татары сочли, что сушеное мясо могло быть только говядиной и запреты пророка не нарушало.
Андрей сильно подозревал, что его сотоварищи кое-чего не учли. Например, того, что допустимое для мусульманина мясо может быть только из животного, забитого мусульманином же и с исламской молитвой — но предпочел промолчать. В конце концов, они были в походе, а ратным людям Иисус разрешил даже полное освобождение от постов, как длинных, так и однодневных. Так почему тогда и татарам нельзя немного расслабиться? За смерть магрибских колдунов даже свинину, говоря по совести, простить было можно.[28]
Пока каша разваривалась, воины закончили свою ревизию, найдя, помимо вытертых ковров, и хорошие, халаты и штаны из дорогой ткани, серебряные и золотые безделушки вроде чернильниц, подсвечников и курительниц, пуховые подушки, несколько тяжелых цепей со звездами, очень похожими на орденские, богато украшенные пистолеты и шкатулки с письмами и еще много всякой всячины. Теперь все это было перепаковано более удобно: так, чтобы вьючный груз между лошадьми распределялся более равномерно, не натирал нигде, не перевешивал набок.
— Как славно, что князь с нами оказался, — услышал Андрей краем уха далекий разговор.
— Да, ловко он нас на обоз вывел. Добро взяли, никого не оставили. И раненых нет, — через некоторое время донеслось с другой стороны.
После этого Андрей Зверев ничуть не удивился, когда уже знакомый щербатый сотник готовое угощение первому принес именно ему, в отдельном котелке, с поклоном и уважением. Хотя как «неверному» могли дать и в последнюю очередь.
Ложка у князя, как у всякого русского человека, была, разумеется, своя: висела на поясе в кожаном чехле. У татар у каждого своей была пиала. Тоже удобно и гигиенично. Нет опасности заразу какую подхватить от общественной посуды. Варится еда, конечно, общей — но ест каждый только свою, чужими руками не лапанную.
После ужина степняки наконец-то расседлали скакунов. Потники расстелили на земле, седла сунули под голову. У конницы постель всегда с собой — тут по поводу ночлега беспокойства никогда нет.
На рассвете Урук-бек послал в разведку небольшой дозор. Когда отряд уже заканчивал завтракать, они вернулись с приятным известием: поляки ушли, их нет даже на лугу у сгоревшего дома. Вчера они за налетчиками гнались и даже прорубились через первый завал, но второй трогать не стали и повернули назад. По взгляду татарского воеводы князь Сакульский понял, что теперь его авторитет поднялся и вовсе на недосягаемую высоту.
— Коли так, можно выбираться, — с достоинством, словно иного сообщения и не ждал, объявил Андрей. — Послать вперед налегке полусотню, чтобы до подхода остальных завал раскатила, и двигать не торопясь в старый лагерь…
До деревеньки, что недалеко от сгоревшего Сокола, отряд дошел аккурат к вечеру, благо дорога была знакомая. Довольные татары снова разобрали тюки, занявшись дележом. Зверев ушел к себе, в выделенный дом. Он свои семь телег спалил и потому претендовать ни на что не собирался. Однако ввечеру татарский сотник вызвал его на крыльцо. Воины Урук-бека заполонили все свободное место вокруг колодца, стоя с обнаженными саблями. Андрею даже стало не по себе.
— Дозволь уважение тебе выказать от честного люда, князь Андрей Васильевич, — громко объявил щербатый воин. — За славный поход наш, в коем славу мы поимели, добычу богатую и обильную, коней числом немалым, и при том ни капли крови своей никто за это не пролил!
— Слава князю Андрею Васильевичу! Слава, слава, слава! — трижды выкрикнули татары, вскидывая вверх клинки.
— И мне за честь служить с вами, храбрые воины, — насколько смог низко, в пояс, поклонился в ответ Зверев.
— Вот, прими, княже, с нашим уважением долю свою от добычи. — Сотник подобрал с земли приготовленный тюк и переложил его к ногам думного дьяка.
— Благодарствую за то, храбрые воины, — еще раз поклонился Андрей.
Татары еще раз прокричали ему славу и, удовлетворенные, стали расходиться. Пахом тут же перенес тюк в избу, развернул. Здесь было два хороших ковра, шкатулка с письмами, чернильница, песочница, подставка для перьев и набор из двух пистолетов, украшенных чеканкой и самоцветами. По виду — дуэльных, однако Андрей еще ни разу не слышал, чтобы в этом мире кто-то стрелялся на пистолетах. Еще не доросли…
Разумеется, превыше всего князя заинтересовали письма. Увы, раскрыть великие тайны польской стратегии ему не удалось — это оказались любовные писульки какого-то шляхтича по имени Станислав Валишевский. И потому одно за другим все эти надушенные письма в розовых конвертиках полетели в топку печи.
Через несколько дней Урук-беку от разных сотен, разбросанных по окрестным землям, стали приходить одинаковые известия: поляки уходят. Сворачивают свои лагеря, укладывают обозы и укатываются все в одном и том же направлении — на запад. Через Двину, мимо Полоцка и дальше, в старые польские земли. Стефан Баторий, лишившись своих могучих и опытных колдунов, предпочел свернуть поход и закончить войну.
Во всяком случае — на этот год.
Проклятие рода Сакульских
До Москвы думный дьяк Сакульский добрался только к началу декабря. По иронии судьбы — в день святого Прокла,[29] который православные посвящали проклинанию всякой нечисти. О приезде особо не хвастался — запершись во дворце, отогревался в бане, наслаждался мягкостью перин, вкусными сытными обедами и хорошими винами. Царские соглядатаи на этот раз появление князя проворонили — во всяком случае, покой его никто не тревожил. И даже явившийся через неделю писарь самого Андрея не искал, он лишь передал из Разрядного приказа требование отчитаться о потраченных казенных деньгах. Просил дворню известить о сем беспокойстве их господина.
Обычная бумагомарательная рутина.
Князь Сакульский отчет составил, приложив расписки купцов, выделивших ладьи для перевозки пушек, кляузы воевод, у которых стволы получал, амбалов, их грузивших, и возчиков, доставлявших оные к крепостям. Отчеты за волоки, за припасы, за картечь. В общем — разборка вороха бумаг и подведение баланса заняло два полных дня. На третий Пахом ушел с объемистой шкатулкой, дабы передать отчет под роспись — и вернулся с другой грамотой, теперь вызывавшей Андрея к государю. Видимо, она, как рысь в засаде, дожидалась в Разрядном приказе вестей от князя Сакульского, чтобы тут же хищно пасть ему на голову. Пришлось собираться.
Должность думного дьяка и государева грамота давали немало преимуществ. Теперь уже Звереву не приходилось подлавливать правителя всея Руси на молебнах и возле дверей церкви, не нужно было договариваться с рындами или сотниками из караула. Просто пришел, себя назвал, свитком с печатью взмахнул — и рынды потрусили спрашивать волю государеву, хотя Иоанн еще с утра повелел никого к нему не допускать. И как всегда, для нелюбимого слуги государь сделал исключение.
Государь лежал в постели, укрытый по шею одеялом, несмотря на жар в хорошо натопленной светелке. Рядом суетился какой-то тощий гололицый немец шкодливого вида в чудном платье и волнистом парике. Увидев гостя, он поклонился и без напоминаний скрылся в соседней комнатке.
— Что это за кикимор? — скривившись, поинтересовался Андрей.
— Медик немецкий. Сказывали, лечит преизрядно, многие хвалили. Мази разные привез супротив боли в суставах. И вроде как помогают. Ныне хотим уяснить, какая из всех самая лучшая.
— Гнал бы ты его, государь, — посоветовал Зверев. — Знаю я этих алхимиков, отравы они всякие в свои зелья мешают. Одно лечат, другое калечат. Не будет от их лечения проку.
— Медик сей самому папе ихнему лекарства готовит, Господа нашего Иисуса чтит, к исповеди и причастию ходит. Наши же знахарки невесть откель снадобья берут и по чьему попущению. Бесовство все это, касаться обрядов языческих не хочу.
— При чем тут язычество, Иоанн Васильевич? В наших снадобьях травы, меда, воск да настои. Все чистое и благостное. А у них, что ни понюхай, то ртуть, то свинец. От такого лечения только ноги протянешь! Дозволь, я тебе лекарства найду?
— Опять искушаешь, бесовский посланец, — без всякой злобы ответил Иоанн. — Не стану я души своей осквернять. Лучше год в чистоте прожить, нежели сто лет в сатанинском шабаше. Сказывай лучше о деяниях своих. Токмо о главном самом, о ратных подвигах опосля отчитаешься.
— Застиг я колдунов в крепости Сокол, государь, когда они над телами воевод и князей твоих надругались и из внутренностей их зелья варили и проклятия вызывали. Застиг и для простоты всех вырезал. Коли колдун мертв, то и магия его сгинуть обязана.
— Печально сие. Так я и знал… Так и знал, — поморщился царь.
— Что печально? — не понял Зверев.
— То, что наказ мой ты исполнил с честью, Андрей Васильевич. Нет больше проклятия. Мне уж донесли из разных мест… Из Новгорода, Пскова, Ладоги, иных мест, что отступился от них мор черный. Сгинула чума, нет более ни одного болящего. Из южных волостей про холеру ни единой жалобы.
— Что же в этом плохого, государь?
— Что хорошо для державы, не всегда душе и вере нашей на пользу. Бог наш единый, Иисус Христос завет оставил, что нет силы иной, кроме божественной, и потому невозможно колдовство никакое и магия. Разве токмо чародей с царем адовым союз свой заключит, с самим сатаной. Вот и выходит, что, коли возможны ворожба и магия в мире нашем, то, стало быть, слуг-то у исчадья подземного среди смертных немало, и наступление свое на мир наш, на души человеческие ведет он в полной мере.
— Мы русские, государь. С нами Бог. Справимся и с сатаной, и с армией сатанинской. Пусть приходит!
— Разве ты не понял, Андрей Васильевич? — грустно удивился Иоанн. — Они уже здесь. И, вестимо, не отступятся, пусть ты самых страшных слуг бесовских и истребил. Однако же без мора уже куда как легче Руси станет. Вздохнет ныне спокойно, в силу прежнюю войдет. Годик бы хоть один роздыха, совсем иначе разговаривать сможем… Но ты о сем, Андрей Васильевич, на думе не сказывай. Не станем люд прочий попусту пугать. Истребил магов — и забудем о них вместе. За то тебе награда будет особая. Одарил бы тебя шубой со своего плеча, да видишь, ныне токмо одеялом и владею. В понедельник ближний думу я в верхней палате собираю. К тому дню обещал меня лекарь на ноги поставить. На ней ты про ратные помыслы свои сказывать станешь. О них и ни о чем более, Андрей Васильевич! Теперича ступай, пусть немец снова хитростями своими занимается.
Князь Сакульский поклонился и покинул опочивальню.
Заморский лекарь государя не обманул — через пять дней, пусть и медленно, с трудом, опираясь больше на посох, нежели шагая ногами, однако же в верхнюю думную палату Иоанн явился сам, без носилок.
В Московском дворце палат, где собиралась дума, было две. Золотая находилась внизу, в Грановитом дворце. Здесь бояре собирались большим числом, и нередко даже проходили малые Земские соборы. Верхняя Думная палата располагалась в Теремном дворце, буквально на крыше главного великокняжеского дворца, и вмещала гостей немного, в пределах трех десятков. Понятно, что попадали сюда только самые знатные и влиятельные из бояр, без мнения и согласия которых решение не будет иметь должного всеобщего уважения. И хотя вопросы тут решались не самые великие и значимые, но ведь известно, что мир состоит из малостей. И десять малых решений «верхней» думы одно за другим легко могли опрокинуть даже великое мнение всерусского Земского собора.
Зала была небольшой — шагов двадцать в ширину и около сорока в длину. Зато — сразу с двумя изразцовыми печами, тремя стрельчатыми светлыми окнами, забранными слюдяной мозаикой, вся расписная — с вьющимися по стенам и сводчатому потолку плющами и диковинными цветами. По краю везде стояли широкие, обитые бархатом скамьи.
Царский трон возвышался на три ступени. Иоанн поднялся на них без посторонней помощи, сел. Вздохнул с видимым облегчением, заговорил:
— Ведомо вам, бояре, что собор Земский порешил войну с Польшей и османским рабом, что на столе тамошнем сидит, прекращать. Посему велено мне посольство великое собирать и отправлять к Баторию с сим приговором: простить ему грехи, им свершенные. Рубежи же держав наших по городам и весям вернуть, как до начала войны сей уговорено было. Однако же вести доходят из стойбища поганого, что не хочет османский пес мира, а хочет войны. И что желает он земли Псковские, Новгородские и Приладожские себе во владение, а сверх того четыреста тысяч крон на покрытие расходов, кои на войну с нами пошли. Посему полагаю, что несмотря на стремление наше к миру, брани остановятся не скоро. Посему надлежит нам расписать, как лето новое встречать станем и как полками немногими ныне распорядиться. Сказывай, Андрей Васильевич, как удар очередной османский выдержал. Волей Господа, на твое порубежье он целиком пришелся.
— Сказывал я по весне, куда Баторий нападать вознамерился, — поднялся со своего места князь Сакульский, — да токмо на смех меня вы, бояре, подняли. По вашему смеху и итог: Полоцк османский пес захватил, разорил пять застав малых порубежных, две крепости малые сжег, а в Суше, которую боярин Колычев сдал без заметного для нее ущерба, свой гарнизон посадил. Потому как силы были неравные зело, указал я воеводам открыто на ляхов в чисто поле не выходить и мыслить по первую голову о том, как больше всего наемников османских истребить. По сему делу самый низкий поклон мой князю Василию Шеину, что ловко в ловушку полк немецкий заманил и истребил весь до последнего латника, а сверх того в набеге на лагерь вражий, при обороне и в сече последней немало венгров и поляков истребил, един больше четырех тысяч ворогов в землю сырую уложил. Сам он в той сече и сгинул, вечная ему память…
Андрей перекрестился и отвесил в сторону Иоанна низкий поклон.
— Царствие небесное рабу божьему Василию, — перекрестился и царь и тут же приказал писцу: — Повелеваю всерусскую службу заупокойную за героя сего заказать и за прочих витязей с ним убиенных.
— При штурме Полоцка Баторий тоже не менее пяти тысяч людей своих потерял, да у крепостиц и под Сушей тысячу общим числом, на дорогах разъездов их татары столько же наловили и как татей повесили. Посему полагаю, никак не менее десяти тысяч наемников из армии Баториевой мы уже истребили. Каждого четвертого. А скорее всего, и до пятнадцати число сие может дойти… — Андрей перевел дыхание. — Казачьи и татарские сотни, что ты мне, государь, выделил, я на разорение пределов польских послал. Османский пес разбою не препятствовал, посему вошли отряды в земли на сотни верст, деревень сожгли общим числом за две тысячи, полону пригнали несчитано, смердов вместе со шляхтой повязали и на наши земли увели. Коли казна сей полон откупить пожелает, дабы в южном порубежье расселить, то, мыслю, согласятся налетчики с радостью, и впредь не сечь смердов тамошних станут, а для откупа гнать.
— Запиши, откуп казакам и татарам за полон назначить, — указал царь.
— В сих сечах потеряли мы, государь, половину людей служилых в Полоцке и всех до единого в крепости Сокол. Из Суши по уговору о капитуляции боярин Колычев людей увел, оставаться в рабстве польском не пожелали. Итого погибло под рукою моею людей служилых тринадцать сотен, да все пушки и пищали я с крепостями потерял. Прочего люда поляками побито было до пятнадцати сотен в Полоцке, да не меньше этого при грабежах разных, что ляхи по деревням устроили. Всех татей татарам изловить не получилось, больно много было разъездов, а иные числом слишком великие. Кабы сразу, по весне, смердам тикать приказали, так и вовсе никто бы из крестьян не погиб…
— Все, Андрей Васильевич? — переспросил Иоанн.
— Я обещал за каждого русского десять ляхов убить, я сие исполнил. А что делать запретили, — князь Сакульский развел руками, — того сотворить не смог.
— Что проку от стараний твоих, Андрей Васильевич, — попрекнул один из думных бояр, — коли в рати османского пса сплошь наемники одни из неметчины да земель султанских? Баторию их не жаль, он заместо побитых новых наберет. Шляхты поместной средь людишек его немного. Да и ее ему не жалко. Он ведь Мураду служит, а не о державе печется.
— Наемники в поход не за смертью, за деньгами идут. Коли добычи и впредь не окажется, а половина ушедших животы свои сложит — кто к нему служить пойдет?
— В неметчине народу много, они согласятся, — пристукнул посохом боярин.
— Князю Хилкову есть чем гордиться, — кивнул Иоанн. — Под Ругодивом[30] они с князем Бутурлиным свенов положили полных четыре тысячи, однако же города не сдали, прогнали схизматиков с позором. Сказывай, Василий Дмитриевич, что мыслишь по сему поводу?
— Мыслю, понапрасну Андрей Васильевич силы тратил, — ответил воевода. — Самим сидеть надобно было крепко, не давая ляхам возможности мимо пройти, да тревожить их вылазками решительными.
— Это верно, государь, нет проку от простого под ядрами сидения! — поддакнул кто-то еще. — Выходить ворогу навстречу надобно, все хитрости осадные уничтожая. Тогда и урон причинишь, и сам цел будешь.
— Смотри, князь Иван Петрович Шуйский тоже деяниями твоими недоволен, Андрей Васильевич, — усмехнулся Иоанн. — А он воин опытный.
— Кабы у него было всего две тысячи служивых людей супротив сорока тысяч да тюфяки, что для переплавки отложили, заместо пушек — я бы на него посмотрел, — огрызнулся Зверев.
— Однако же дело великое князь Сакульский все же сотворил, — внезапно добавил воевода. — Татары и казаки под рукою его поработали славно на диво, восточные земли Баторию разорив начисто. По нашу сторону порубежья смерды тоже ушли, дворы пустыми стоят, в амбарах ни крошки. К весне там даже мышей не останется. Полагаю я, в сих разоренных местах армию провести османскому псу не получится. Ни припаса съестного, ни фуража он здесь не найдет. А коли так, то путь ему, раз уж походы желает продолжить, идет токмо одной стороной — через Псков. Он ведь на Псков и Новгород права свои выдвигает? Стало быть, здесь воевать и станет!
— Либо на Смоленск пойдет, — тут же парировал еще один боярин, совсем молодой, лет двадцати пяти всего на вид. Совсем как покойный князь Василий Шеин. — Волости Смоленские хлебные, богатые. А за Псковом и Новгородом аж до Волхова всего триста деревень общим числом по росписи, да и те по два-три двора каждая. Чего с них возьмешь? Рати наши большей частью опять же супротив Ливонии стоят. Опрокинуть их труда будет стоить немалого, проку же ляхам никакого. Нечего там брать, по лесам да болотам. А округ Смоленска житница наша исконная. И сам он богаче самого Новгорода выйдет.
— Псков и Новгород османский пес себе требует, ты же слышал, Иван Михайлович! — горячо возразил князь Шуйский. — Так чего же ему тогда у Смоленска делать-то?
— О Псков твой любой воевода токмо лоб расшибет. А брать окрест нечего, который год война там полыхает. Смоленские же земли богаты, вот где им медом намазано! — так же горячо ответил боярин.
— Князь Шуйский! Князь Бутурлин! — повысил голос Иоанн. — Мнение ваше думные бояре, мыслю, поняли.
Оказывается, «молодым и горячим» был князь Бутурлин. Как понял Зверев — тот самый, что с князем Хилковым гнал шведов от Ругодива.
— А ты чего молчишь, Андрей Васильевич? — окликнул его Иоанн.
— Полагаю, — тихо ответил князь Сакульский, — надобно вывести детей малых, стариков и женщин из Великих Лук дальше к Москве и Ярославлю. А также смердов спасать из деревень окрестных и горожан всех из Старой Руссы. Бо в ней даже стены никакой нет, велика слишком. Ни стены, ни крепости. До весны ее всяко ни оградить, ни пушками снабдить не поспеем. Уж лучше Великие Луки укреплять, дабы ляхи голов под нею оставили пуще прежнего.
— Какие Луки?! — хором возмутились сразу несколько бояр, громко стуча посохами. — Сказано же, не пойдет на них османский пес! Разорены там все земли ужо окрест Полоцка, не пройти там ратям большим, с голоду передохнут!
— Татар же, коли призовешь, вновь по тылам пустить следует, дабы польские обозы с припасами там перехватывать. Казаков донских на юг от Смоленска направить, дабы татар отпугнуть османских, — попытался продолжить Зверев, но его уже не слышали. Думные бояре, словно разгулявшиеся в классе школьники, голосили во весь рот, норовя друг друга не переубедить, а перекричать, и того и гляди готовы были устроить драку на посохах.
Государь наблюдал за всем этим с невозмутимостью сфинкса, чуть наклонившись вперед и опершись на посох. Поглядывал то на одного скандалиста, то на другого. И вроде даже прислушивался. Вздохнул, негромко произнес:
— Не балуй!
Крики моментально стихли. Бояре, хотя и не рассаживаясь обратно на свои места, устремили взгляды к правителю всея Руси.
— Я так полагаю, мнению Андрея Васильевича не доверяет никто вовсе? — ласково поинтересовался Иоанн. — Однако же минувшим летом он един оказался, кто замысел Батория разгадал и хоть как-то к сему подготовился. Посему полагаю, так сразу отметать его мысли не след, дабы риска напрасного и крови лишней не случилось. Княже, ныне разрешаю тебе замысел свой исполнить полностью. Старую Руссу и земли окрестные обезлюдь. Пусть казна лучше тягло за пять лет потеряет, нежели самих смердов вместе с семьями. На то тебе моя воля. Записал? — наклонил он голову к писцу.
— Да, государь.
— В росписи людей служивых, что по весне исполчаться будут, указать из полков, на запад направляемых, половину князю Ивану Бутурлину под руку дать, дабы Смоленск и земли окрестные от татар и поляков уберег… — сделал короткую заминку Иоанн. — От оставшихся ратей треть передать князю Ивану Шуйскому. Пусть Псков от опасностей по убеждению своему накрепко оберегает. Сим назначаю его воеводой псковским. По росписи князя Шуйского о расходах, необходимых для укрепления обороны Псковской, выделить ему все надобное и пушки последние наилучшие именем «Барс» и «Трескотуха». Остальные полки передать под руку князю Василию Хилкову, дабы разумением своим великим и ловкостью град мой Великие Луки держал накрепко пред возможною бедой баториевской. Записал? Что скажете, бояре? Правильно я разрешил спор ваш, али полагаете рать исполненную где-то в едином месте собрать, все прочие земли вовсе без защиты оставив?
— Не пойдет османский пес на Великие Луки, — опять неуверенно возразил кто-то из бояр. — Оголодилась земля-то окрестная.
— Верно сказываешь, государь, — громко согласился князь Бутурлин. — Хоть и нет для Великих Лук опасности, однако же без прикрытия им остаться нельзя. Это же выйдет вроде как приманить ворога к городу беззащитному! Ради такой добычи и через голодные земли пройдут поляки. А коли прослышат о полках, сию землю прикрывающих, тогда точно остерегутся.
Спор затих. Князь Бутурлин был доволен. Он получал наибольшие силы и достойное место воеводы в Смоленских землях. Князь Шуйский, нежданно оказавшийся воеводой одного из крупнейших городов Европы, тоже приободрился. Грустил только Василий Дмитриевич Хилков. Из-за невоздержанности на язык он вдруг оказался с малыми силами заперт вдали от возможных битв — вдали от славы, почета и наград. Хотел показать себя лучше князя Сакульского — вот теперь защищай голыми руками безопасные земли.
Правда, крепче всех досталось Звереву. Хотя вслух никакого обвинения и не прозвучало — но, так вышло, он оказался наказан, отстранен. Только и годен — смердов из родных домов на чужбину выселять.
Вот тебе и награда! Шуба с царского плеча…
Поначалу Андрей намеревался передать царское распоряжение в Поместный приказ, дабы выбрали земли, куда переселять согнанных со своих мест бедолаг, — а потом мчаться к родителям. Увы, он мгновенно, с первого же дня, завяз в канцелярщине. Дьякам и писарям потребовалось указать, с каких именно уездов и погостов князь намеревается выводить смердов — с тем чтобы они сверились с подушными записями: каким боярам и служилым людям сии земли принадлежат, сколько у них пашни и дворов, сколько в итоге людей соберется, насколько тягло уменьшится и какую компенсацию от казны боярам за утерю начислить надлежит. Опосля они намеревались разобрать по прежним жалобам, где и чьи земли в иных волостях обезлюдели из-за мора и неурожая, и в заселении нуждаются, сколько туда смердов направить нужно, и как…
И что ни день, от князя требовались то согласие, то совет, то подьячие нуждались в его мнении. Опять же, собрать, вывести, отконвоировать — это еще сколько людей служивых для сего понадобится? Даст столько государь али откажется?
Последние идеи Андрея и вовсе взбесили:
— Вы что, полон гоните — или людей православных от опасности спасаете?! — рявкнул он. — Не нужно им никакой охраны. Место, куда переселиться, им найдите, на бумажке место укажите, куда ехать и какой путь проще. А там сами доберутся, не маленькие!
Подьячие перечить не стали, но… Гусиными перьями, да полста тысяч бумажек! И опять — за наставлениями и разрешениями бегали через день:
— Имена указывать княже, али по месту впишутся?
— Дорогу к месту словами писать али рисунком?
— Для согласия письменного графу оставлять, али насильно, без спросу ехать станут?
В конце января Зверев понял, что шансы улучить свободный месяц тают, как снежок на затопленной печи, и послал в имение Пахома с письмом, умоляя отца отослать мать, крепостных баб, стариков из дворни и смердов в княжество, подальше от опасности. Сам опять вернулся к бумажкам.
Его за язык никто не тянул: он сам просил государя выселить на время опасности Старую Руссу. Целиком, чтобы польские грабители здесь не то что человека — хвоста мышиного не нашли. Теперь он знал, в какое безумие ввязался…
Старая Русса. Много веков назад — просто Руса. Первый город здешних земель, основанный невесть когда легендарным князем Русом. Первая русская столица. Город, в котором родился и вырос Рюрик, призванный потом за Ильмень-море княжить в Новгороде. Город, давший свое имя не только окрестным жителям, но и всему русскому народу. Город, размерами и населением превышающий саму Москву и платящий в казну в полтора раза больше налогов, чем даже столица.[31] Самый большой город страны, семьдесят тысяч дворов, почти полтораста тысяч только взрослого населения — как уводить? Куда? Да еще со всем добром, с вещами! Где расположить такую огромную толпу на два опасных месяца, чем кормить? И опять же — не полон это, который просто в кучу можно согнать и кидать ему, что придется. Надобно так устроить, чтобы дети малые не заболели, не потерялись, чтобы сыты были все, не замерзли, не озлобились…
После этого пришлось идти на поклон царю.
Иоанн выслушал князя с улыбкой:
— А ты, Андрей Васильевич, верно, помыслил, я тебя в наказание от сечь и походов отстранил? Нет, княже. То поручение тебе избрал, с коим никто иной не справится. Верю тебе. Дабы спасти от погибели души бесчисленные, надобно их из мест опасных увести. Знаю, непросто. Но сделай это, князь. На сие восемь тысяч рублей безотчетных тебе дарую. Трать, как надобно, по разумению своему, но крест избранный тяни. А усадьбу твою отчую и город князь Хилков спасет. Он воевода умелый, справится.
Баторий двинул польскую армию на Русь только в начале сентября. Выйдя к Улле, войска остановились, словно раздумывая, в какую сторону кинуться. Самым удобным путем отсюда был бросок на Смоленск. Но Псков тоже находился в пределах разумной досягаемости. Андрей наблюдал за всем этим через зеркало Велеса, издалека. И смог легко оценить правоту многих участников боярской Думы: несмотря на прошлогодние потери, в этот раз Баторий собрал даже больше сил, чем тогда. На глаз, тысяч шестьдесят, а может и более. Немецкие наемники и османская конница явно ценили золото намного выше собственных жизней.
Подождав отставшие отряды, османский наместник быстро и решительно двинулся строго на восток и за четыре недели вышел к Великим Лукам. Однако сюда добралась только половина войска. Часть его набросилась на крепость Усвят в Псковской земле и крепость Велиж — в Смоленской. Воеводы Шуйский с Бутурлиным оба наверняка решили, что наступление ведется именно в их сторону.
Князь же Василий Хилков в это самое время застрял возле Торопца со своим полком в восемь тысяч человек, и к Великим Лукам уже явно не поспевал.
Князь Сакульский тоже ничего не мог сделать. На руках у него не было ничего, кроме царского указа и своей уверенности. Вот с ними и с Пахомом он и мотался по деревням, пытаясь убедить смердов собрать пожитки и уехать в дальние края на нетронутые пашни. В отдельных поместьях крестьяне радостно складывали пожитки и, получив подорожную грамотку, укатывались по трактам на восток. В иных — хмурились, отнекивались и смотрели на сторону, явно полагая в уме отсидеться в непролазных чащах. От хорошего хозяина съезжать разумный пахарь не пожелает — от добра добра не ищут. Гнать же силой Андрей не имел ни права, ни возможности.
Дело сдвинулось с мертвой точки только тогда, когда он догадался царевым именем брать себе под руку старост деревень разных и уже через них передавать царский приказ и свое предупреждение. Их же он рассылал по дальним весям, куда сам доехать не смог бы при всем желании. В августе длинные обозы беженцев потянулись на юг и восток, в обезлюдевшие от недавнего мора земли.
Андрей отлично понимал, что послушалось его от силы треть жителей: кто не хотел привычные земли и хозяйство покидать, кому помещик нравился, кто надеялся, что беду мимо пронесет. Но оставшиеся хотя бы знали об опасности и были готовы прятаться. Князь не пытался бороться с неизбежным и никого не гнал насильно. Даже если спасти от бандитов получится хотя бы треть крестьян — он все равно мог считать, что старался не зря.[32]
Если бы все остальное складывалось так же успешно…
Обложившие Великие Луки наемники Батория открыли ожесточенную стрельбу калеными ядрами по старым деревянным стенам города. Особого толку это не принесло, и уже на третий день османский пес применил кровавую, но эффективную тактику послал венгров поджигать стены маслом и факелами. Жестоко расстреливаемые из башен, султанские рабы завалили ров и, подбегая вплотную, плескали масло и смолу, тыкали в смесь факелами. Иные — подбрасывали бочонки с порохом, от взрыва которых тут и там разбрасывалась сырая земля, которой защитники обложили бревенчатые венцы для спасения от огня и которую постоянно поливали. К расчищенным от дерна и глины местам тут же кидались безумные гайдуки, погибая многими десятками, и все равно запаливая свои горючие смеси.
Осажденные пытались осадить их напор, временами выпуская из ворот кованую конницу, налетавшую на спешенных османцев, рубившую их и тут же улетавшую назад — но венгры, казалось, сами искали смерти и не боялись ничего. Дважды боярские дети стремительными атаками прорывались в сам лагерь поляков, отступая лишь при приближении суровых немецких латников, и при второй попытке — Зверев увидел это собственными глазами — смели даже королевский шатер, перебив всех, кто в нем находился и вернувшись в крепость со знаменем польских королей. Однако надежда на то, что Баторий в вылазке убит, не оправдалась: осада города продолжалась с тем же безжалостным напором, что и прежде.
Многократно поджигаемые стены, пусть и сырые, все же начали загораться сразу во многих местах. Русские храбрецы кидались в самое пламя, заливая его, закрывая мокрыми воловьими шкурами. Немецкие аркебузиры стреляли в огонь, пытаясь им помешать, стрельцы и пушкари ожесточенно били в ответ, отгоняя немецких стрелков. Тела убитых уже никто не убирал ни в крепости, ни вокруг нее, на свистящие в воздухе смертоносные пули и картечь люди не обращали внимания.
К вечеру русские воины справились хотя бы с огнем — открытое пламя со стен сбили, и только густой дым, ползущий из валов, доказывал, что победа не полная: старые трухлявые бревна продолжали тлеть и под землей. Да и сами стены выглядели угрожающе: почти целые поверху, они сильно обуглились снизу — там, где их постоянно поджигали самыми разными способами.
С рассветом все повторилось сначала: венгры с факелами и бадьями ринулись к стенам, частым огнем ответили защитники, потянулись из лагеря аркебузиры, чтобы поддержать свинцом неизбежные будущие пожары.
Обуглившаяся и прожаренная накануне древесина занялась быстро и жарко, сил горожан уже не хватало, чтобы залить все. Пламя начало неуклонно наступать, и к середине дня огнем захлестнуло уже большую часть города. И тут Андрей увидел, как северная угловая башня вдруг покачнулась и медленно завалилась с вала наружу, еще в полете рассыпаясь на множество полыхающих бревен. Ближние османцы тут же толпою ринулись в пролом, проскакивая прямо через довольно высокие огненные языки — между тем защитники, не ожидавшие такого поворота, сил за стеной в этом месте почти не имели. Прежде чем воеводы успели бросить навстречу ратников, османы заполонили собой сразу несколько улиц и уже поторопились влезть в дома и дворы. Вслед за ними к пролому заторопились одетые в кирасы немцы, побежали наперегонки шляхтичи со своей дворней.
Андрей, сжавший от бессилия кулаки, понял, что случилась катастрофа: малому гарнизону уже не выбить многократно превосходящего врага обратно из Великих Лук. Но горожане думали иначе. На улочках тут и там появлялись облака порохового дыма, сверкали сабли, бердыши и топоры, бегали люди. Однако признаки битвы медленно, но неизбежно смещались к береговой стене. Захватчики теснили русских, и тех явственно оставалось все меньше.
Зверев только скрипел зубами, наблюдая за этим кошмаром. Как там отец? Защищает свое подворье или уехал в княжество вместе с супругой? Он ведь болен и слаб после татарского плена! Андрею страшно было даже задавать зеркалу этот вопрос.
Через несколько часов схватки затихли на всех улочках, и только перед воеводским домом горстка смельчаков все еще продолжала отбиваться от наемников. Героев загнали в избу, следом через двери, через окна, полезли османцы и шляхтичи, торопясь урвать свою долю добычи из самого богатого дома. Казалось, все уже закончилось — и тут вдруг воеводский дом превратился в одно огромное белое облако, из которого, кувыркаясь, разлетелись куски бревен, пушечные стволы и даже не десятки, а сотни человеческих тел.[33]
Дальше стал твориться кошмар, который и вовсе не укладывался у Зверева в голове: поляки и османцы, выискивая в развалинах города женщин и детей, излишне понадеявшихся на прочность древних стен, принялись стаскивать их в лагерь, к шатру, отмеченному высоким католическим крестом. Здесь несчастным жертвам перерезали горло, выпуская кровь на землю перед алтарем, после чего оттаскивали, укладывая одно тело рядом с другим. Когда мертвые дети со своими сестрами и матерьми были выложены в два слоя, на них собрались участники похода с обнаженными головами. К месту жертвоприношения вышел священник в золотом облачении и, как понял ученик чародея, начал служить торжественную мессу.
Богослужение длилось около получаса. В конце его к кресту выволокли связанного и окровавленного седобородого боярина, прижали спиной к распятью. Участники мессы, обнажив клинки, подходили один за другим и полосовали его лезвиями, пока русский воевода не превратился в безликую окровавленную фигуру. Издевательство не прекратилось даже тогда, когда он ослабел и рухнул: поляки подходили и полосовали теперь его спину, превратив в конце концов в большой кусок мяса.
Тут наследник древнего волхва уже не выдержал и погасил свечи. Он еще не знал, что невольно присутствовал при последних минутах жизни плененного великолукского воеводы Ивана Воейкова.
Баторий простоял возле погибших Великих Лук две недели. Даже мертвый, город продолжал свою войну: не найдя среди руин никакой добычи, польское войско взбунтовалось и отказалось повиноваться. Османскому наместнику пришлось срочно доставлять казну и выплачивать наемникам премиальные. Только после этого войска двинулись дальше на восток и двадцать первого сентября вышли к Торопке.
Русская конница встретила поляков за рекой — но когда тяжелая панцирная лава ринулась в атаку, не выдержала и кинулась наутек, торопливо втягиваясь на мост. Шляхтичи влетели на него буквально на плечах русских, перемахнули реку и… Из-под моста вылетело облачко, и вместе с «крылатыми сотнями» он ухнулся вниз, в воду. Встречная атака закованных в латы бояр стоптала отряд, оказавшийся на восточном берегу, из травы по тонущим в воде разбойникам ударили замаскированные в траве пушки, снося головы тем, кто не желал уходить на дно сам. Заработали стрельцы, разя пищальной картечью тех, кто слишком близко подошел к Торопке на том берегу, и тех, кто пытался выбраться из ила и жижи. Река порозовела, унося обратно к Западной Двине кровь незваных гостей.
Конница шарахнулась обратно на тракт, загарцевала на безопасном удалении. Примерно через час к переправе вышли немецкие латники, соединились в строй и мерно зашагали вперед. Загрохотали слитные залпы аркебуз. Русские отвечали так же часто и жестоко, стрелки падали один за другим по обеим сторонам стремительной речушки. Однако немцев было больше, и воевода Василий Хилков, потеряв почти три сотни человек, предпочел отступить и уйти в Торопец. Утешением ему было лишь то, что хитростью он смог истребить впятеро больше врага, нежели потерял сам.
Под Торопцем через день остановилась и польская армия, приступая к новой осаде. Однако сил для штурма у османского пса не осталось — они распылились в осадах многих крепостей, в разбое и грабежах беззащитных земель, а пятая часть войска и вовсе оказалась уже истреблена. Изрядно прореженные у Великих Лук и в прежних стычках, османские наемники, к тому же еще ни разу за весь поход не видевшие добычи, больше не желали ложиться костьми при поджогах стен, и осада неожиданно для Батория затянулась.
Увы, не везде положение складывалось столь же удачно. Двадцать девятого сентября сгорел Невель, двенадцатого октября пало Озерище, двадцать третьего октября поляки ворвались в Заволочье.
В те же дни девятитысячный отряд оршанского старосты Филона Кмиты, получившего от Стефана Батория назначение в воеводы Смоленска, подошел к городу, разбив лагерь в семи верстах от него, у деревни Настасьино. Когда поляки поставили палатки, расстелили постели и запалили костры, готовясь варить ужин, из недалекого соснового бора вдруг появилась кованая конница и, опустив рогатины, начала молча разгоняться для атаки. Не все из отдыхающих ляхов даже заметили летящую на них смертную угрозу — а тревожные выкрики лишь подняли панику.
Всадники стремительно ворвались в лагерь, пригвоздив к земле копьями тех, кто пытался сопротивляться или просто первым попался под руку, выхватили сабли и принялись рубить направо и налево визжащих и мечущихся врагов. Наступление остановил только обоз: уцелевшие шляхтичи забились за телеги и выставили копья, не подпуская к себе всадников. К тому времени, когда в лагерь подтянулись стрельцы — на землю уже опустилась ночь.
Поутру воевода Иван Бутурлин, уставший гонять от Смоленска татар и наконец-то дождавшийся настоящего врага, увидел, что под покровом ночи поляки сбежали. И драпали так яро, что кованая рать нагнала их только через тридцать верст, опять ближе к вечеру, стоптав большую часть беглецов. Остатки воинства оршанского старосты спасла темнота — но эта часть армии османского пса прекратила свое существование, оставив русским витязям на память все знамена, десять так ни разу и не выстреливших пушек, полста затинных пищалей, весь обоз и четыре сотни пленных. Наступление на южном польском фланге безнадежно сорвалось…
Однако война еще не закончилась. Просидев под стенами Торопца до декабря, поляки снялись с лагеря, но повернули не обратно восвояси, а на север — и совершенно неожиданно для горожан оказались возле Холма. Захватчики ворвались в открытые ворота еще до того, как стража поняла, что мирно и неспешно подъехавшие сотни отнюдь не русские, а чужие.
Для Андрея Зверева эта беда стала сигналом, что настала пора уводить людей из Старой Руссы. Под громкий колокольный звон горожане собирали пожитки, грузились на телеги и выезжали на широкий тракт, ведущий в сторону Вышнего Волочка. Правда, гнать русских в такую даль князь, разумеется, не собирался. Еще с лета по его указу на почтовую станцию Крестецкий ям[34] стали свозить зерно и сено: зерно и крупы сгружали в специально построенные амбары, сено же просто складывали в скирды. Работа шла неспешная, зато долго. В ноябре же, когда перед зимовкой кочевники гонят на продажу лишние стада и отары, рискующие пасть от бескормицы — князь не так уж и дорого скупил четыре тысячи голов самого разного скота, от засекающихся лошадей и до плешивых баранов. Все это богатство своим ходом добрело по наезженному тракту сюда же и осталось нагуливать жир, оберегаемое за особую доплату возчиками с яма.
Никакого жилья в этом месте на новгородском тракте не имелось — зато леса по сторонам было вдосталь. А значит — несчитано дров для стряпни, еды и обогрева и сколько угодно строительных бревен. Андрей не раз уже был свидетелем того, как русский мужик с помощью топора и веревки всего за день ставил сруб для избы. Так что точно знал: русские люди не пропадут, срубят для себя укрытие от ветра, холода и снега. Может, и не самое удобное — ну да ведь всего месяц, самое большее два пересидеть и нужно.
Жители Руссы покидали свои дома с горечью и недовольством, всячески оттягивая этот час, и в итоге уходили почти целую неделю. Где-то на пятый день прекратился перезвон: колокола прихожане тоже сняли и забрали с собой. Князь Сакульский, как и положено, покидал город последним — и еще почти полный день ездил по пустым и тихим, вымощенным деревянными плашками улицам обреченной древней столицы.
А потом выехал вслед за остальными.
Как он и ожидал, возле Крестецкого яма беженцы осели основательно: плотники всего за два дня срубили длинные бараки с земляным полом и толстой кровлей, застеленной лапником. В каждый вмещалось до полусотни семей: в тесноте, да не в обиде. Для тепла внутри жгли костры — дым поднимался наверх и сочился прямо сквозь еловые ветки. Чтобы не спать на холодной глине — внутрь затащили телеги, скинув с них колеса и перевернув. Тюфяки, матрасы и одеяла у всех были с собой. Следуя княжеским указаниям, горожане занялись забоем скота. Раньше для этого у Андрея просто не хватало рук.
В общем, работы пока достало всем, но нежданных трудностей не всплыло. Оставалось только ждать, пока закончится набег.
Сам князь Андрей Сакульский поселился на яме: для думного дьяка нашлась просторная палата из двух светелок. Да еще и с кирпичной печью посередине. Тоже удобное место, чтобы скоротать недели томительных ожиданий. О делах своих Зверев отписался с самого начала в оба приказа, Поместный и Разрядный, и государю. Теперь можно было только валяться на жестком тюфяке из лугового сена да плевать в потолок.
На новом месте, в сытости, тепле и относительном удобстве беженцы обосновались настолько крепко, что в день Васильевой каледы[35] даже устроили гуляния с зазыванием ветра. В полном соответствии с языческими традициями, православный люд плясал и прыгал через костры, а также гонялся за дымами, определяя направление ветра. Если в ночь ветер дует с юга — год будет жаркий и благополучный, с запада — к изобилию молока и рыбы, с востока — будет много фруктов. В общей суматохе никто не обратил внимания на неброско одетого, крючконосого худощавого путника, вошедшего в ворота яма. Между тем он сытно перекусил за двугривенный в трапезной, прислушиваясь к разговорам холопов и ямщиков, после чего поднялся на второй этаж и постучал в двери княжеской палаты.
— Кто там? Проходи! — отозвался Андрей. Дверь скрипнула, гость вошел в светелку. Князь взглянул в его лицо… И сверкающий клинок сабли стремительно разрезал воздух, впившись в горло барона Ральфа Тюрго с такой силой, что по белой коже даже скатились несколько капель крови:
— Ты клялся в дружбе твоей страны и твоего короля, негодяй! А теперь они разоряют земли Колываня и Ивангорода, стреляют по нашим крепостям, захватили Корелу и вырезали всех ее жителей! Как ты посмел ступить на русскую землю?! Как посмел прийти ко мне?!!
— Король шведский не обманул тебя в данной клятве, — прохрипел барон. — Твое княжество не тронуто, войска не вступали в его пределы. Твоя дочь в целости и полной безопасности. Никого из наших воинов в твоей усадьбе нет.
— Моя дочь? — удивился Андрей, ослабив нажим на клинок.
— Твоя дочь, Арина, — кивнул гость и уточнил: — Младшая дочь.
— Она в Гышпании! — Зверев привычно произнес название страны на современный манер.
— Она вернулась еще летом, Андрей Васильевич. Приплыла на ушкуе… — Барон Тюрго немного помедлил и уточнил: — У нее был жених, к коему относилась она с великой приязнью. Вскорости после твоего отъезда его закололи на дуэли. После сего она предпочла вернуться. Неужели ты не знал? Хотя, конечно, найти тебя ныне непросто. Если она и посылала вестника с письмом, он, верно, дожидается тебя в Москве.
— Вот проклятье! — Зверев приопустил клинок. — А Полина? Как она, где?
— От князя Друцкого мне ведомо, что из Гышпании она отплыла. Но лазутчики, что побывали в твоем уделе, сказывали, что в княжестве ее нет.
— Ты посылал лазутчиков в мой дом?
— Не беспокойся, княже, это были обычные мелкие торговцы. Как их называют у вас на Руси — коробейники. Или фени. Я всего лишь желал узнать поболее о делах твоих, печалях и радостях, прежде чем встретиться с тобой.
— И зачем ты искал встречи со мною? — все еще не убирал саблю Андрей.
— Мое желание остается прежним и неизменным. Я ищу мира и дружбы между нашими державами.
— Ты говоришь о дружбе после того, как вы захватили Корелу, осадили Орешек, напали на Копорье и Ивангород?! — возмутился Зверев.
— Я понимаю, Андрей Васильевич, ты жаждешь мести, ты жаждешь крови. Я понимаю, русские вернут назад все, что потеряли, и даже захотят большего. Но подумай, сколько при этом будет увечных и погибших не только у нашей короны, но и в твоей державе! К чему лишняя кровь? Я хочу задать твоему государю очень простой вопрос: готов ли он заключить мир по прежнему, Ореховскому уложению, если Швеция вернет все земли и города, захваченные у его величества Иоанна Васильевича, мирно, без сражений и кровопролития?
Князь Сакульский, задумавшись, вовсе опустил саблю к полу.
— Теперь я могу сесть? — ласково поинтересовался барон, ощутив перемену в настроении собеседника.
— Столько убитых, столько увечных… Горе, кровь, разорение, муки. И теперь вы хотите мира? Тогда зачем все?
— Увы, княже, я не король, — развел руками гость. — Я всего лишь советчик. Я упреждал рьяного короля Юхана, что, если он начнет войну с русскими, она закончится в Стокгольме. Но безумие и глупые наперсники совсем лишили его способности слушать. Османский наместник казался могучим и непобедимым. Ведь в руках его собралось все богатство польской казны, несчитаное золото и конница султана Мурада, благословение Римской кафедры, вклады иных властителей, питающих к Руси лютую ненависть. Стефан Баторий выглядел крепким тараном, способным проломить любое сопротивление. И все советчики предлагали королю Юхану успеть к дележу добычи, оторвать от русских земель хотя бы малый кусок, пока царь Иоанн занят войной с бесчисленной польской ордой. Все были уверены в скором разгроме русских. В разгроме полном и катастрофическом. Меня не слушал никто, Андрей Васильевич. Увы. Друзья вспомнили обо мне только сейчас, когда понадобилось исправлять все те глупости, которые шведская корона успела натворить. И вот я опять пришел к тебе, княже. К моему старому другу, имеющему не только доступ к русскому государю и немалое на него влияние. И я кланяюсь тебе, прошу у тебя прощения за ошибки моего короля и спрашиваю: если король Юхан Третий вернет назад все шведские завоевания, готов ли Иоанн Васильевич простить нанесенные обиды и заключить мирный договор по древнему уговору, коему вскорости исполнится, почитай, уже три столетия?
— Ты очень умен, друг мой… — Князь Сакульский наконец-то убрал свою саблю в ножны. — Однако же… Нет, барон, я ничуть не сомневаюсь в победе русского оружия над османскими наемниками. Однако же сегодня я сижу в глухих лесах, спасая полтораста тысяч беженцев от польского набега. Твое предложение, прости, сегодня кажется мне несколько… неожиданным.
— Договариваться о достойных условиях мира нужно тогда, когда ты кажешься сильным, Андрей Васильевич, а не тогда, когда твою страну громят везде и всюду каждый божий день. Мне очень не хочется увидеть, как русские пушки сносят мой любимый Нючёпинг, — честно ответил гость. — Я полагаю сегодня, в трудные дни, твой государь охотнее согласится на мир и дружбу без кровопролития, нежели через год или два.
— Ты мне не ответил, дорогой барон, — покачал головой Андрей. — Если ты хочешь, чтобы я обмолвился о твоем предложении перед Иоанном, говори все. Я тут как заяц бегаю от поляков, но ты уважительно говоришь о взаимовыгодном мире. Почему? Чего я не знаю?
— Ты прав, Андрей Васильевич, — кивнул барон Тюрго. — Изнанка войны выглядит отнюдь не такой, какой кажется снаружи. Османский наемник сегодня уже разгромлен. Польская казна совершенно пуста. Баторий уже занял денег у прусского герцога, у саксонского и бранденбургского курфюрстов. Он взял огромные кредиты у каждого из ганзейских городов. Он продал все, что только есть ценного в стране. Баторий заложил даже драгоценности короны, получив за них пятьдесят тысяч экю от герцога Анспахского![36] Польша разорена. Она разорена полностью и вряд ли сможет оправиться в ближайшие десятилетия. Польше придется отдавать долги за эту войну еще лет сто, если не больше, а битвы все еще не закончены. Казна османского султана тоже не бездонна. У него назревает война с персидским шахом, а она куда более важна для Великой Порты, нежели трудности северного вассала. Полагаю, грядущее лето станет последним, когда Баторий сможет собрать хоть какую-то армию. И даже если он опять одержит какие-то победы, через год воевать под его знаменами станет некому. Польша разорена, ей нечего заложить для получения новых кредитов. Не будет золота, не будет армии.
— Присаживайтесь, барон, — широким жестом позволил князь. — Ваши известия достойны того, чтобы забыть прежние обиды. Значит, через год Швеция рискует остаться с нами один на один?
— Зачем нам лишняя кровь, княже? Давай сделаем так, чтобы к этому дню между нашими державами был заключен если не прочный мир, то хотя бы перемирие. И… разве мы не перешли на «ты»?
— Да, перешли, — согласился Андрей Зверев. — Не желаешь вина, дружище? Хороший местный сидр. Мне нравится. Так, значит, у Батория кончилось золото?
— Он собрал около миллиона экю, Андрей Васильевич. В его положении самым разумным было бы бежать с этим золотом обратно в империю, оставив все долги Польше… Но он зело странен в поступках своих и вместо бегства вновь тратит сие золото на новых наемников.
— Странен? — заинтересовался Зверев, выставляя ближе к гостю серебряный кубок и наполняя его шипучим яблочным вином. — Чем же он тебя удивляет?
— Он не боится смерти, Андрей Васильевич. Скажу больше: это смерть боится его. Он ненавистен своему народу, и слуги Батория раскрыли больше десятка покушений на него, причем удачных. Его травили ядом, его кололи кинжалами… И неизменно он выходил из сих напастей живым и здоровым. Он отважно ходит в атаки во главе своего воинства, он первым бежит к крепостям, чтобы облить их маслом или запалить факелом. Многие воины клялись, что самолично видели, как поражали его пули и стрелы, однако же в свой шатер он неизменно возвращался в целости, без ран и царапин. При такой отваге, казалось бы, он должен с презрением отвергать любые приказы или угрозы, исходящие от людей других, менее знатных. Однако же с рабской покорностью он внимает повелениям султана Мурада, не перечит слугам его. Баторий не знает ни единого языка из тех, на коих общаются люди польские, и разговаривает лишь через толмачей османских, к нему приставленных, никогда и ни в чем их слов не поправляя и не оспаривая. И при всем при том, при могучем здоровье своем, любые ратные раны или яды выдерживающем, каждый месяц он сильно меняется, спадает лицом, отказывается от еды, вина и прочих радостей и являет прежнюю бодрость лишь после лечения. Пользует же его особо избранный османский лекарь, приезжающий издалека к нему во дворец или в походный шатер.
— И вправду странно, — согласился Андрей, которого сильно заинтересовало столь подозрительное поведение и привычки османского пса.
— Освежающий напиток, — отхлебнул золотистого пенистого вина барон Тюрго. — Думаю, в жару за такой можно отдать половину королевства.
— К сожалению, в жару за дверью нет сугроба, чтобы его хорошенько охладить, — ответил Зверев, и оба рассмеялись.
— Теперь, Андрей Васильевич, ответь мне взаимностью и скажи честно: по какой причине царевич Иван внес вклад в семь тысяч рублей в Кирилло-Белозерскую обитель? Так ли это, княже?
Зверев примолк… Он не раз предлагал Иоанну свою помощь в снятии наведенной еще четверть века назад порчи, которая едва не свела в могилу и самого царя, и всю его семью. Увы, в упрямстве своем христианском правитель всея Руси наотрез отказывался от языческой мудрости и искал себе избавления в молебнах и благочестии. В итоге Звереву удалось спасти его самого — да и то пока Иоанн лежал в беспамятстве и не мог отказаться от чародейской помощи. Однако и супруга государя, и ребенок скончались. Проклятие так и осталось на роде Иоанновом: все дети его с того часа рождались болезненными и бездетными. Трижды женатый старший сын Иван ни разу не сумел даже обрюхатить своих супружниц. Младший, Федор, женатый уже год, тоже все не мог похвастаться мужеской силой.
— Прости, княже, но вопрос сей крайне важен для всех грядущих уговоров наших. Государя твоего Иоанна, при всем уважении и даже трепете, внушаемом им прочим властителям, уже который год носят на носилках. Он остается остр умом, но телесная его сила вызывает сомнения в долголетии царя. Прости меня еще раз, Андрей Васильевич, но как человек, пекущийся о будущем наших держав, я должен получить уверенный ответ: станет ли наследник Иоанна следовать отцовской политике и в точности исполнять заключенные им соглашения?
— Сыновья государя нашего, ты прав, мало интересуются делами державными и политикой, — вздохнул князь Сакульский. — Старший сын — по болезненности, младший… Младший — из-за религиозности своей чрезмерной…
На самом деле почти вся страна печалилась из-за слабоумия царевича Федора, уже получившего прозвище «блаженный» — но сказать такое вслух язык у Зверева не повернулся.
— Чем же тогда ты подтвердишь надежность договоренностей наших, Андрей Васильевич?
— Ты же знаешь, барон, при дворе нет никого, кто осуждал бы деяния государя нашего, оспаривал верность приказов его, неизменно подтверждаемых Земскими соборами и боярской думой… — пожал плечами князь Сакульский. — Среди князей и люда простого его мудрости не оспаривает ни единый человек. При русском дворе нет тех, кто предлагал бы иную политику, отличную от Иоанновой. Посему, кто бы ни оказался среди советников нового царя, кого бы ни приблизил новый царь, либо кто бы ни оказался среди его опекунов — они все станут следовать нынешним замыслам и соблюдать прежние уговоры.
— Вот как? — навострил уши опытный в переговорах гость. — Ты обмолвился об «опекунах»?
Зверев мысленно выругался. Мелкая обмолвка выдавала большую тайну из будущего: ведь умственно полноценным людям опекунов не назначают.
А тут еще этот вклад, сильно напоминающий вклад на помин души!
— Царевич Иван Иоаннович сильно болен, — только и смог выдавить Зверев. — Может случиться всякое.
— Если опекуны будут назначены Иоанном при жизни, то он, несомненно, изберет людей самых преданных и чтущих его волю, — сделал свой вывод вслух барон Тюрго. — Эта печальная мысль тем не менее благоприятна для отношений меж державами. Избранные царем соправители царской воли не нарушат.
— Не нарушат, — подтвердил князь Сакульский.
— Что же, сии вести будут полезны шведской короне и важны для наших отношений, — приподнял свой кубок гость. — Так я надеюсь, княже, ты обмолвишься при встрече с Иоанном о готовности шведской стороны заключить мир на прежних, ореховских уговоренностях? Сие решение станет залогом дружеских отношений на многие грядущие века.
Барон Тюрго уже наутро умчался к своему правителю с добрыми вестями, князь же остался с беженцами. Здесь, в глухих лесах, среди тысяч изгнанников, близость победы пока еще совершенно не ощущалась. А через неделю далекий дымный столб над горизонтом указал на то, что поляки все же добрались до Старой Руссы и в бессильной злобе уничтожают то, чего не в силах увезти с собой. Унести же с собой, уже в который раз, им оказалось совершенно нечего.
Означал этот дымный след еще и то, что возвращаться беженцам некуда: их родные дома уничтожены, прежней крыши над головой нет. Поэтому обратно, на пепелище, из лагеря, в котором есть хотя бы еда и не страшны морозы, беженцы отнюдь не спешили. И, как оказалось — очень правильно сделали. Поляки, уйдя из города, пересидели две недели в лесах и неожиданно появились на развалинах Старой Руссы снова — вестимо, надеясь, что горожане уже вернулись. Но застали лишь небольшой стрелецкий отряд, который после краткой стычки бежал. В плен попал князь Василий Туренин. Это была вся добыча, которую захватчикам удалось добыть в древнейшей русской столице.
Князь Сакульский удерживал беженцев от возвращения до марта, сам же проводил вечера и ночи в советах с мудрым Лютобором — в посмертном бытии своем наконец-то утвердившимся в образе тридцатилетнего мужа — и в созерцании зеркала Велеса. Месяц тщательных наблюдений и подсказки волхва помогли Звереву разгадать тайну бессмертия османского наместника и его преданности османам. Султан Мурад поступил очень и очень мудро, посадив в польские короли существо, жизнь которого целиком и полностью находилась только в его руках. Это существо не боялось ни пуль, ни яда, ни меча, а потому могло подавать хороший пример воинству, бросаясь впереди обреченных в самые безумные атаки, не боялось ни заговоров, ни мести.
И одновременно — существо это не могло взбунтоваться против хозяина, ибо нить его существования была очень и очень тонка. Османский султан мог легко и просто оборвать ее в любой миг, стоило ему хоть немного усомниться в преданности раба.
— Значит, суфийский маг знает имя жертвы, из которой взята свежая кровь, — сделал вывод ученик чародея из последней беседы с Лютобором. — За месяц кровь сгнивает и становится ядовитой. Чтобы провести обряд вытягивания из тела упыря старой крови, нужно знать имя девственницы, из которой была взята жизнь. Это имя известно только магу. Он забирает из Батория гнилую кровь и наполняет его свежей, из другой девственницы. Но оставляет ее имя в тайне. Ее имя знает он и только он. Хороший поводок для бессмертного и всемогущего раба. Ну что же… Я не знаю имя жертвы. Но зато я знаю, как выглядит сам суфий.
В начале марта, раздав русским семьям остатки продовольствия, князь велел им возвращаться в родной край и отстраивать Старую Руссу сызнова. Сам же помчался в Москву.
В столичном дворце Сакульских оказалось весьма шумно: почти два десятка семей из поместья Лисьиных сообразили, где лучше всего укрыться от польского набега, и отправились не в княжеское имение, а сюда. Андрей не спорил, и даже не заругал Изольда за потраченную казну. Что уж тут поделаешь — война. Каждый пытается спастись по собственному разумению, и долг сильного — помочь слабому и защитить.
Барон Тюрго оказался прав: письма Арины дожидались его здесь. Причем — сразу три. За них Зверев и схватился в первую очередь.
— Ты чего, княже? — забеспокоился Пахом, убиравший его вещи. — Ты прямо с лица почернел!
— Я проклят! — Андрей скомкал письма и в сердцах швырнул их в топку печи. — Я проклят… Проклятье княжества Сакульского продолжает жить и истреблять всех, кто ступит на мою землю. Почему мы так и не убили того чертова колдуна, Пахом? Почему я не поймал его и не уничтожил? Пока он жив, живо и проклятие. А он, сволочь этакая, бессмертен!
— Первый раз в жизни слышу, княже, чтобы ты помянул нечистого, — отложив перевязь и шубу, подошел ближе дядька. — Что случилось-то, сказывай?
— Ермолай и Пребрана с мужем своим благополучно за океан отбыли, и вестей от них я, верно, в этой жизни больше никогда уже не получу, — откинулся в кресле Андрей. — Жених же Арины был заколот, и она с Полинушкой моей решила возвернуться. В пути у Полины случился приступ желудочных колик, и она, промучившись три дня, преставилась. Не знаю, что это было такое. Может, обычный аппендицит… Отец мой и матушка уезжать в княжество отказались, остались Великие Луки оборонять. О том смерды беглые поведали, что с письмом ко мне, с семьями и пожитками в княжество явились. Вестей от них более не было. Сгинули безвестно. И выходит так, Пахом, что опять случилось все по проклятию древнему: сидит наследница удела княжеского одна, сиротой неприкаянной. Чертов колдун… Почему я его не убил?!
— Какая же она сирота, княже? Ведь ты, отец ее, силен и крепок.
— Надолго ли? Все остальные родичи княжны уже пропали. А война еще не кончена. И прятаться от нее мне не с руки. Недолго, наверное, осталось.
— Помилуй бог, Андрей Васильевич, что такое ты сказываешь?!
— А чего в этом такого, Пахом? Мы что, собирались жить вечно? Оставь меня. Хочу побыть один.
Последний удар
Первым, кого Андрей увидел, войдя в верхнюю думную палату, был князь Дмитрий Хворостинин — тот самый, что нанес и первый, и завершающий удар в битве при Молодях.
— Андрей Васильевич? — узнал Зверева опричный воевода, и князья крепко обнялись.
— Здрав будь, княже! — обрадовался встрече и Андрей. — Какими судьбами в наших краях?
— Решил я доверить князю Хворостинину полки смоленские, — ответил вместо воеводы Иоанн. — Дмитрий Иванович в своей жизни ни единого поражения не потерпел. Посему решил я его с южного порубежья отозвать и на западное поставить. Окромя набегов ногайских разбойничьих, за год последний там не случалось ничего. С татями же, мыслю, и новики управятся. Невелика честь.
— Беда теперича османскому псу, — усмехнулся Зверев. — Лучше ему в норе сидеть и не высовываться.
— Может статься, и так, — согласился Иоанн. — Однако же Баторий, как из Речи Посполитой доносят, пуще прежнего рати ныне набрал. Дума боярская приговорила у Смоленска и Пскова дожидаться схизматиков. Полагают воеводы мои, не пойдет раб османский через Полоцк и Луки Великие. Земли там разоренные, добычи им нет, еды и фуража тоже. Некуда воевать им в той стороне. Давай, Андрей Васильевич, сказывай. Мысли твои извечно поперек общего приговора выходят. И на диво сбываются.
— Не пойдет османский пес ныне через земли разоренные, — ответил Зверев. — Верно бояре приговорили, на Псков он ударит. Псков — ключ главный к пути торговому Балтийскому и землям Новгородским. Баторию от земель лесных покамест пользы никакой, окромя славы ратной. Чтобы земли эти золотыми стали, труд к ним немалый приложить надобно. Города строить, дворы ремесленные, землю пахать, лес рубить. Время требуется, дабы землю сию поднять. С торгов же прибыток быстрый. Посему торговый путь по Неве он отбить и захочет.
— Надо же, — удивился государь. — В кои веки ты с умами прочими в един ряд встал. Не иначе чудо Господне лицезрю. Однако же у Невы мне пока больше свены досаждают, нежели ляхи османские.
— Свены бы и рады мир заключить, — поторопился ввернуть слово Андрей, — да опасаются сильно, что прежними глупостями обиду тебе большую учинили. И даже если отдадут они тебе миром все завоевания свои, ты войны с ними не прекратишь…
— Обида, знамо, есть… — согласился царь. — Однако же, коли миром все вернут… Коли вернут — прощу. Господь велит быть милостивым с раскаявшимися. Коли миром все вернут, карать не стану.
Барон Тюрго оказался прав: просить хорошие условия мира нужно до того, как тебя крепко прижали к стене.
— Уверен, на твою милость они ответят крепкой дружбой, — склонил голову князь.
— Ныне о дружбе ворогов сих даже и слышать не желаю! Тебе, Андрей Васильевич, низкий мой поклон за старательное исполнение поручения, тебе данного. Мыслю, командование татарскими тысячами тебе теперича токмо роздыхом выйдет. Посему повелеваю в Псков отправиться, к воеводе Ивану Шуйскому. Его стараниям по обороне станешь извне всеми силами помогать. По росписи получишь сорок сотен поволжских. Теперь ступайте. Вижу, после разлуки долгой вам наедине поговорить хочется. Веселитесь. Да токмо чтобы на сей же неделе ты, Дмитрий Иванович, в Смоленск отъехал, а ты, Андрей Васильевич, — ко Пскову!
Разумеется, князья за встречу устроили пир — но уже через день разошлись, памятуя свой долг перед государем и землей русской, и разъехались по назначенным местам.
Князь Бутурлин по прошлому году показал себя воеводой умелым, находчивым и храбрым. Казалось бы — к чему менять его на другого? Однако князь Дмитрий Хворостинин, приняв у него смоленские полки, тут же продемонстрировал разницу. Печалиться обороной он не стал — и вскоре перешел границу, ведя пятитысячную армию в глубину польских владений. Первым на его пути стоял коронный город Орша с каменной пятибашенной крепостью. Уверенность в собственной безопасности и османские союзники сыграли с горожанами злую шутку. Появившаяся на улицах татарская конница не вызывала беспокойства ни у кого из гарнизона до тех пор, пока две лихие сотни, въехав через подъемный мост, не начали быстро и умело рубить стражу. Пока уцелевшие ратники подняли тревогу, пока отдыхающие воины облачились в броню и расхватали оружие — к Орше подошли основные силы. Замок пал, не успев сделать ни единого выстрела.
Несколько дней части посвятили сбору ценностей, отправив на восток огромный обоз с полоном и добычей, после чего запалили ненужный город и двинулись дальше, на Могилев. Здесь татары попытались повторить предыдущую уловку — но, увы, город, всего четыре года назад получивший полное Магдебургское право, оказался более подготовлен к внезапному нападению. Стражники попытались спросить пароль, а когда всадники обнажили сабли — схватились за копья. Схватка была жестокой и чересчур долгой. Прежде чем татары изрубили три десятка привратников, из глубины крепости подбежали еще полсотни копейщиков, которые, выстроившись правильным строем, остановили напор конницы. Загрохотали цепи подъемного моста, отрезая смельчаков от остальной армии. Когда ворота закрылись — два десятка русских воинов сложили оружие.
От них могилевский воевода узнал факт, мало интересный ему, но крайне важный для русских историков. В письме Стефану Баторию могилевский воевода указал, что пленные конники служили под началом казацкого атамана Ермака Тимофеевича. Однако тот ли это Ермак, что известен теперь каждому образованному человеку, или полный его тезка — пока остается неизвестным.
Русские сотни сели вокруг в осаду, не спеша разоряя окрестности и собирая полон. Однако здесь до воеводы дошло известие, что через Шклов проходит польский отряд, повернутый османским псом от Полоцка, с места общего сбора войск. Запалив могилевские посады, князь Хворостинин двинулся навстречу.
С противником они встретились уже на следующий день. Немецкие латники, выстроившись в правильную шеренгу из восьми рядов, первыми открыли огонь, выбивая стрельцов из хилого строя всего в три ряда. Русские пищали ожесточенно отвечали, но катастрофически уступали тяжелым граненым аркебузам по боевой мощи. Однако еще не успела чаша весов качнуться в сторону дисциплинированных наемников, как они обнаружили, что стремительные казачьи и татарские сотни обходят латную фалангу справа и слева, угрожая ударить в спину. Немцы, ослабив на время огонь, начали перестроение в каре — и вот тут, промчавшись через расступившихся стрельцов, в их красивые ряды и врезалась кованая конница, длинные и тяжелые копья которой пробивали насквозь по два-три пикинера вместе с кирасами. Даже мертвые боярские дети разили врага, когда тяжелая лошадь и одетый в броню всадник на всем ходу падал на пехотинцев, сминая и опрокидывая их.
Первый же удар превратил правильную армию в толпу, не слышащую приказов, не понимающую, что происходит и что делать. И она — побежала.
Взяв шесть сотен пленных, князь Хворостинин вошел в Шклов, своей крепости не имеющий, дождался конницы, что гнала разбитого врага почти двадцать верст, отправил в тыл новый обоз и повернул на Дубровну.
Все это время османский наместник стоял возле Полоцка, словно размышляя: спасать ли польские города от разгрома или предоставить их своей печальной судьбе и начать поход на Русь? Десятого июня он сделал свой выбор и выдвинулся к Заволочью, откуда вниз по реке Великой начал медленное наступление в сторону Пскова. Польша была брошена на милость русских.
В своем медленном наступлении Баторий захватил Опочку, Красный Городец, Остров, двадцать шестого августа поляки вышли к Пскову, медленно охватывая его с трех сторон, начали разбивать лагерь. Воевода Иван Шуйский, дождавшись, пока захватчики соберутся в своих стойбищах числом поболее, приказал открыть огонь. Слитно жахнули «Барс» и «Трескотуха», чугунные ядра чиркнули по вечернему воздуху и заскакали между кострами и привязями, сминая тела, отрывая руки и головы, оставляя в пологах палаток аккуратные круглые дырочки. Среди поляков поднялся крик, заметались люди — пушки рявкнули снова, собрав жатву еще из десятка захватчиков и наглядно доказывая, что новенькие русские пищали умеют бить втрое дальше самых лучших немецких пушек.
Большая часть польского воинства просто кинулись в бегство, хотя многие и подхватили свои сумки и подстилки. Ночевать под вражеским огнем не хотелось никому. Вслед драпающим ляхам снова жахнули пищали, точно указывая незваным гостям путь.
Андрей наблюдал за этим со стороны Торошинского леса, под кронами которого скрывались четыре тысячи поволжских татар, что вызвались в этот раз воевать под рукою храброго и успешного воеводы Урук-бека. Князь догадывался, как отреагируют поляки на нежданный сюрприз, и оказался прав. Побежали не только те наемники, что попали под обстрел — обитатели обоих других лагерей тоже, не дожидаясь прилета ядер, кинулись подальше от псковских бойниц. И часть этих наемников метнулись именно в сторону леса.
— Давай! — кивнул князь.
Урук-бек вложил в рот два пальца, протяжно и залихватски свистнул — татарская конница вылетела навстречу чужакам, отвернула вправо, пронеслась через поле, и на поляков обрушился дождь длинных граненых стрел, легко пробивающих и кольчугу, и стеганые поддоспешники. Сорок сотен всадников, четыре тысячи луков, не меньше сорока тысяч стрел после первого же наскока. И хотя в цель попадало не больше одной стрелы из ста, а в ближних беглецов угодило по три-четыре стрелы в каждого, ряды поляков мгновенно и очень заметно поредели. Беглецы, не ждавшие подобной шутки, только взвыли и шарахнулись на север — к лагерю, украшенному королевским знаменем и королевской же палаткой и широко раскинутыми пологами. Татары немного выждали и вернулись в поле — добивать раненых и собирать первую добычу.
— Ну вот, сотни три положили, — сделал примерную прикидку князь Сакульский. — Можно считать, ко Пскову приходили уже не зря. Жаль только, второй раз поляки так не попадутся.
Дождавшись ночи, воины османского пса пробрались в брошенные лагеря и вынесли оттуда оставленное под обстрелом добро. Однако неудачный вечер был не самой большой проблемой для Батория и его наемников. Невероятная для европейцев дальнобойность русских пушек означала, что создать сплошное кольцо блокады вокруг Пскова у них не получится: для круга радиусом в версту не хватит даже стотысячной армии, которую османскому рабу удалось собрать на этот раз. Укрепления и лагеря, поставленные ближе, — будут разбиты ядрами. Поставленные дальше — окажутся слишком далеко друг от друга. Десятитысячные полки будут стоять в паре верст один от другого — между ними можно безопасно целые табуны прогнать. Если отдельные заслоны размещать почаще, сделав число каждого меньше двух-трех тысяч — они будут регулярно громиться подвижными татарскими отрядами, которые уже успели продемонстрировать свою удаль. Да еще сапы — теперь, получалось, начинать их надобно за версту от города, и копать, копать, копать. Ближе нельзя — горожане станут бить по артиллеристам и прочей обслуге при каждой попытке поднести припасы или протащить мортиры.
Наутро стало ясно, что поляки смирились: они встали одним большим лагерем напротив Великих ворот. Правда, часть своих сил османский пес все же отставил в сторону, переведя за реку, — видимо, с польской стороны нападения русских отрядов он особо не опасался. Однако же и идти на штурм через широкую полноводную реку для осаждающих тоже было сложновато. Тем не менее часть своих пушек Баторий поставил именно туда, за Великую, и его пушкари принялись зарываться в землю.
Земляные работы начались и от Смоленской дороги, с юга: осаждающие вели широкую, в три шага, извилистую траншею в человеческий рост глубиной, да еще и землю выбрасывали в сторону города, ограничивая псковичам обзор. Тогда же поляки начали рассылать отряды фуражиров.
Князь Сакульский тоже распустил поволжских татар на охоту, оставив при себе в лесной чаще всего три отборные сотни.
За семь дней поляки смогли дорыться почти до самого крепостного рва и открыли частый огонь по Покровской угловой башне и Свиным воротам. От хлестких ударов чугунными ядрами почти в упор камень крошился, трескался и отлетал крупными кусками. Одновременно османцы ринулись вперед с фашинами и мешками, засыпая ров. Защитники вели по ним ураганный огонь из пищалей и луков, пушки пытались разрушить земляные сапы. Но первыми не выдержали башни — их внешние стены в первый же день почти одновременно начали оседать и осыпаться наружу. Польский лагерь ответил ликованием, радостными воплями. Все торопливо вооружались и надевали доспехи. Однако восторг оказался преждевременным: стены сыпались, но не так быстро, как хотелось бы завоевателям.
Османский наместник приказал стрелять всю ночь в свете факелов, доведя проломы до уровня земли, и наутро венгры и польская шляхта ринулись в атаку. Под ожесточенным обстрелом по фашинам они перебежали ров, ринулись в проломы и захлестнули башни вместе с их немногочисленными защитниками. Что происходило внутри, от леса было не разглядеть, но не прошло и часа, как на обеих башнях взвились польские знамена, а захватчики открыли сверху огонь по городу. Казалось, участь Пскова предрешена: часть стены с двумя башнями в руках врага, все новые и новые толпы схизматиков и басурман бегут через ров к ним на подмогу, как вдруг…
Из недр Свиной башни вырвалось облако белого дыма — и камни вперемешку с людьми взметнулись ввысь, полетели в стороны. Тут же запели трубы, и русские воины, перейдя во встречную атаку, перемахнули ров, ворвались во вражеские сапы и перебили ошалевших от грохота и неожиданности немецких пушкарей.
Стрельцы и боярские дети ринулись по траншеям дальше, рубя и коля всех, кто оказывался на пути. Следом за ними через ров перебрались горожане с веревками: они обвязывали пушки и волокли их в город. Причем среди этих отважных людей были даже женщины.
В траншеях началась сеча, защитники Пскова попятились, уступая напору многочисленных наемников, и вскоре покинули сапы, уйдя обратно в крепость. Преследователей отогнали пулями стрельцы, засевшие среди обломков разрушенной стены.
Штурм можно было бы считать провалившимся — если бы не несколько сотен поляков, засевших в Покровской башне и то и дело стреляющих по городу, тревожа людей и мешая правильной обороне. С ними покончили вечером. Князь Иван Шуйский самолично повел в атаку на угловую башню три сотни храбрецов, ворвался на первые этажи, после чего отступил — и Покровская башня вместе с засевшими в ней схизматиками исчезла в облаке взрыва.
— Похоже, воевода заложил туда мины еще накануне, — поделился догадкой с Урук-беком Андрей. — На что ему башни с разбитой внешней стеной? Вот он их и рванул. Да еще и вместе с разбойниками. Хитер княже. Я бы, наверное, не догадался.
На Псков опустилась ночь. Закончился день, унесший жизни восьмисот шестидесяти трех псковичей и пяти тысяч завоевателей. В темноте долго стучали топоры. На рассвете поляки увидели, что на месте погибших башен стоят новые, деревянные. Защитники раскатали ближайшие избы и восстановили укрепления из бревен. Причем воины сидели не только в деревянных башнях и на стене, но и перед ней, регулярно стреляя из пищалей в бойницы сапы. Князь Шуйский хорошо изучил повадки османского пса и подпускать к укреплению поджигателей не собирался.
Польские воеводы решили восстановить сапу, установив в ней новые пушки взамен унесенных — но во второй половине дня псковичи устроили неожиданную вылазку, вырезали всех работников и утащили к себе обе пушки, что поляки успели переставить сюда из-за реки. Захватчики попытались обосноваться в сапе снова — и опять оказались жертвой молниеносной атаки.
Борьба за сапу длилась почти две недели: когда русские понимали, что там собрано слишком много наемников, то долбили ее из пушек, дырявя ядрами земляные насыпи и причиняя немалый урон. Если работники оставались без многочисленной охраны — их убивали в тихих вылазках, что случались в самое разное время.
Вскоре ходить в сапу отказались и закаленные в боях воины, и тихие обозники. Османский пес смирился с неудачей и приказал перенести направление главного удара. Поляки начали усиленную бомбардировку стен с батарей, установленных за рекой Великой.
Поволжские татары тоже не бездельничали, регулярно возвращаясь с добычей в виде лошадей, телег, оружия и доспехов. Польским фуражирам явно приходилось несладко. Возможно, татарам удавалось вырезать не всех. Возможно, степняки и не всегда выходили победителями в безвестных сечах на глухих лесных дорогах. Однако кормиться за счет псковской земли завоевателям всяко не удавалось. Если каждый второй грабитель не возвращается живым — каждому первому на вылазку в чужую деревню уже не хочется.
Поляки долбили Псков ядрами через реку больше недели. Стены этого напора не выдержали и в трех местах обвалились. Как ни странно, русские пушкари никак не отвечали, словно не имели на этой стороне города ни пищалей, ни даже тюфяков. Во второй день ноября Баторий решил, что стены уже достаточно разрушены, а лед вполне крепкий — и бросил на штурм безумных в своей отважности османских наемников. Венгры ринулись через реку густой толпой, вскарабкались на вал… И тут по ним в упор ударил залп доброй полусотни пушек. Картечь смела людей на десятки шагов, а когда уцелевшие в надежде на замешательство пушкарей снова кинулись вперед — пушки ударили опять. И в третий раз! Следом часто-часто застучали пищальные выстрелы стрельцов, после оглушительных залпов показавшиеся легким перестуком — и через миг снова жахнул крупный калибр.
Атака османцев не была отбита — она была полностью уничтожена. Слуги султана, кое-где еще шевелящиеся, остались лежать все до единого на молодом осеннем льду реки Великой, выстилая ее от берега до берега в три слоя.
Больше никто через реку на штурм псковских проломов не ходил. А вот горожане в вечерних сумерках вылазку совершили — опять вырезав пушкарей, теперь уже на заречных батареях.
Два дня польские пушки молчали, потом заговорили снова. И опять псковичи под покровом вечерних сумерек совершили вылазку и в жестокой сече перебили всех, кого застали возле горячих стволов. Там же нашли свой конец и две сотни немецких наемников, поставленные пушкарей охранять. В том бою пал смертью храбрых донской атаман Михаил Черкашенин, перед выходом на вылазку сказавший своим товарищам:
— Чую, быть мне ныне убитым. Псков же останется нерушим.
И словно по его пророчеству — польские пушки после этого дня больше уже не стреляли. То ли у османского пса кончился порох, то ли кончились артиллеристы, но шестого ноября наемники утащили с батарей уцелевшие орудия и перестали тратить силы на строительство новых сап.
Какие-то излишне активные шляхтичи еще пытались пробиться через псковские стены, кромсая их ломами и кирками под прикрытием простенького навеса, но несколько дней поливания кипятком, касательных выстрелов из пищалей и метания стальных кошек, которыми псковичи цепляли поляков за одежду и выволакивали их наружу — вынудили осаждающих отказаться и от этой надежды.
Война вокруг Пскова превратилась в отдельные редкие стычки — когда защитники открывали ворота, налетали на зазевавшихся в опасной близости наемников, рубили их или захлестывали веревками и возвращались обратно под прикрытие стен. Дни проходили за днями, недели за неделями — но ничего не происходило.
За тяготами войны и осады почти незамеченной русскими людьми осталась огромная трагедия их любимого государя. Четырнадцатого ноября царский сын Иван, распрощавшись с отцом, отправился на богомолье, но спустя четыре дня, так и не доехав до Кирилло-Белозерского монастыря, тихо скончался в Александровской слободе.
Тайна смерти царевича навсегда осталась одним из самых таинственных секретов русской истории. При вскрытии его гробницы оказалось, что останки содержат ртуть и мышьяк в количествах, на порядки превышающих обычную норму, что заставляет подозревать причиной гибели царевича отравление. Однако, с другой стороны — Иван Иванович известен в истории своей болезненностью, а ртуть и мышьяк в XVI веке очень часто входили в состав лекарственных препаратов. А значит, отравление могло быть и неумышленным.
Дополнительный штрих в эту тайну внесла и похабная побасенка папского нунция иезуита Антонио Поссевина, который отписал, что парализованный царь Иоанн смог тайно и незаметно пробраться во дворец сына, и не просто во дворец — а на его женскую половину, где побил посохом невестку и убил сына, отчего тот обиделся и уехал, чтобы через четыре дня умереть еще раз.
При всей своей невероятной бредовости, эта идиотская сказка была и остается невероятно популярной среди расистов-русофобов.
Государь же, получив в Москве известие о смерти сына, горевал столь сильно, что намеревался и сам отречься от мира и уйти в монастырь. Вот только оставлять престол ему теперь оказалось вовсе некому.
Под Псковом же тем временем наемники требовали платы, у османского ставленника денег не было — и первого декабря Стефан Баторий, плюнув на все, просто уехал, бросив армию под неприступными стенами. Вслед за ним потянулись к родным очагам и наемники, не получившие в срок очередной платы за войну.
Шляхта, призванная в армию как ополчение, бежать пока не решалась. И хотя размеры войска уменьшились вчетверо, всего до двадцати тысяч человек, она продолжала тупо сидеть возле Смоленской дороги, раздражая князя Шуйского. Четвертого января воевода даже организовал вылазку, пытаясь прогнать их в полевом сражении — но поляков все еще оставалось ощутимо больше, и псковичи ушли обратно за стены.
Пан Замойский, оставшийся среди брошенных поляков за старшего, тоже предпринял отчаянную попытку выправить дело в свою пользу. Девятого января через выпущенного русского пленника он послал псковскому воеводе в подарок сундук с доброжелательным письмом. Однако князь Иван Петрович и тут оказался куда умнее своих врагов. Он приказал открыть сундук в отдельной избе и с великой осторожностью. Вызванный для этого дела мастеровой нашел внутри бочонок пороха и хитрый механизм, который должен был взорвать сундук при попытке открыть крышку.
Оставшийся в живых воевода заказал торжественные молебны за свое чудесное спасение — и под радостный перезвон русских колоколов недобитые остатки польской рати медленно поползли к себе на родину.
По условиям Ям-Запольского мира граница между Русью и Польшей должна была вернуться в свое довоенное положение. Захваченные Польшей города — возвращены под руку Иоанна. Как и предсказал князь Андрей Сакульский три года назад, поляки, заплатившие немалой кровью за захват десятков городов и крепостей — теперь уходили оттуда без сражений, без шума и барабанного боя, сопровождаемые лишь насмешками и плевками. А крепости, что шляхтичи успели построить на русской земле — им самим же пришлось и срыть.
После ухода поляков от Пскова потянулись в родные земли и русские войска. Андрей Зверев уходил вместе с татарами, намереваясь расстаться с ними только у Москвы, князь Дмитрий Хворостинин повел свой небольшой отряд к крепости Орешек, возле которой постоянно появлялись свены. Туда же двигали полки думный боярин Безнин и князь Ростовский.
Возле деревни Лялицы, что стоит в Водьской пятине, русские дозоры донесли, что неподалеку в том же направлении двигается двадцатитысячный корпус под рукой знаменитого француза на шведской службе Понтуса Делагарди, награжденного за выдающиеся ратные заслуги титулом барона Экхольма.
Воевода Хворостинин, послав вестников с сим важным известием своим сотоварищам, немедленно кинул на врага стремительную казачью конницу. Держась подальше от выстроившихся к битве вражеских мушкетеров, казаки старательно пытались просочиться к обозу. Делагарди направил против них закованную в кирасы тяжелую конницу, русские побежали… Но через полверсты, когда разгоряченные победители гнали врага мимо заболоченного осинника, им в бок практически в упор ударили пушки. Конница смешалась, а когда увидела вылетающих во встречную атаку боярских детей в добротных доспехах и с опущенными рогатинами — повернула назад. Через несколько минут шведская тяжелая конница смяла шведских же мушкетеров, не рискнувших стрелять по своим.
К тому моменту, когда к полю боя подтянулся русский Большой полк — разогнанный по окрестным чащобам шведский корпус уже прекратил свое существование.
Барон Делагарди плена благополучно избежал, но ему понадобилось почти полгода на то, чтобы восстановить боеспособность шведской армии. В сентябре он высадился возле крепости Орешек… И его корпус был почти полностью истреблен второй раз.
По иронии судьбы, именно Понтус Делагарди ровно за год до разгрома, сразу после взятия Иван-города, уговаривал короля шведского Эрика заключить мир с русскими, пока есть возможность выторговать выгодные условия. Теперь эта истина дошла и до монарха. Он вспомнил про преданного и ловкого барона Ральфа Тюрго, барон помчался в Россию к своему другу князю Сакульскому.
Государь Иоанн никого уже не принимал, от дел государственных отстранился. Боярская дума активно обсуждала вопросы опекунства, ей тоже было не до внешней политики. Говорить о мире в столице оказалось совершенно не с кем. Князь Сакульский поднялся в седло, вместе с бароном на перекладных домчался до Водьской пятины, где своим званием думного дьяка и честным словом поручился перед воеводой князем Ростовским, что выполняет царскую волю: завершить войну без крови, на условиях мирного возвращения захваченных свенами земель обратно во владения русского престола.
В мае тысяча пятьсот восемьдесят третьего года в безвестной деревеньке на реке Плюсса, близ ее впадения в реку Нарову воеводы, многие годы ведшие войну на истребление, встретились за одним столом. На два листа серой бумаги легли простые слова:
«Ратям русским и шведским друг против друга отныне не воевать, дабы государи русский и шведский договор о вечном мире приговорили».
Заключенное перемирие скрепили наделенные достаточными для сего полномочиями воевода барон Понтус Делагарди и воевода князь Иван Лобанов-Ростовский.[37]
Никто из присутствующих и не подозревал, что легко и быстро набросанная ими писулька, одно из многих тысяч полевых перемирий, составляемых воеводами воюющих армий; перемирие, которое не то что не накладывало никаких обязательств на сами страны, но и не предусматривало даже банального обмена пленными — что эта бумажка приобретет в исторической литературе некий сакральный смысл, будет наделена невероятными фантастическими качествами и станет цениться исследователями выше самого мирного договора, завершившего войну. Не знали они и того, что демаркация границы по условиям предполагаемого мира: возврат к условиям Ореховского договора — начнется только через двенадцать непростых лет.
Трудно поверить, но именно в дни переговоров о мире у Понтуса Делагарди родился сын, впоследствии нареченный Якобом. Тот самый, что в Смутное время — во исполнение договора о вечном мире, дружбе и взаимопомощи — в тысяча шестьсот девятом году приведет в Россию шведский пятитысячный корпус, чтобы сражаться на стороне русского царя против польских смутьянов.
После подписания перемирия, пользуясь близостью родного удела, князь Сакульский отправился в княжество, наняв ради этого небольшой псковский струг — рыбак и двое его детей только обрадовались возможности быстро заработать полновесный полтинник, не тягая сетей и не уповая в долгих молитвах на хороший улов.
Спустя десять дней в тихой бухте Вьюна Зверев ступил на причал, подивившись его добротному виду: бревенчатый помост, уложенный на сваи, стал заметно шире и носил следы недавнего ремонта. Зато сама усадьба выглядела тихой и пустой. Дворня, разгружавшая дрова, словно забыв о существовании хозяина, не обратила на Андрея никакого внимания. Князь не стал им мешать, вошел в дом, поднялся к своей светелке, толкнул дверь.
Женщина, сидевшая за его бюро, вскочила, испуганно вскрикнула, прижав ладони ко рту.
— Арина, ты ли это? — изумился Зверев. Дочь его стала выше, раздалась в формах, и он даже засомневался, что это и есть его хрупкий, угловатый ребенок.
— Батюшка!!! — Арина кинулась к нему, охватила за шею и громко разрыдалась. — Батюшка, батюшка, прости…
— За что, милая? За что… — Дочка не отвечала, роняя слезы ему за воротник. Даже спина намокла. — Аринушка, милая… Я так рад тебя наконец-то увидеть. Да что же случилось-то? Я вернулся, все хорошо.
— Про тебя… — наконец шмыгнула она носом. — Про тебя вести нехорошие дошли… Что под Псковом ты сгинул… А ты не писал и не писал… Я и поверила….
— Я в лесу с татарами сидел, какие уж там письма? Из Москвы же, как вернулся, выдернули сразу. Замотали. Прости.
— Ты меня прости, батюшка… Я замуж вышла. Без благословения твоего.
— Вот это да! — Опешивший отец наконец-то оторвал Арину от себя. — Как? Когда? За кого?!
— Как свены Корелу взяли, многие ратники сюда отошли. Опосля воеводы полк целый у нас на постой разместили. Новых баталий ждали со свенской стороны. Они ведь ныне ужо здесь, за рекой. Воеводой левой руки князь Василий Курлятев стоял. Храбрый боярин и достойный, поведения уважительного. Овдовел он недавно. Я же за сироту себя сочла. Вот мы в нашей церкви и обвенчались…
— Свадьба — это не похороны. Радость сие, а не беда, — покачал головой Андрей. — Чего теперь плакать? Коли по душе пришелся, будет тебе мое благословение, не печалься. Муж-то где? Покажешь его хотя бы?
— В Москву отбыл, в приказ Поместный. Осень же, людям служивым на поместья возвертаться пора. Под Ярославлем земли его лежат. Я же вот, вослед собираюсь. К мужу.
— Не торопись. Вместе поедем. Хоть одним глазком посмотреть, кого ты нам в новые родичи избрала.
И Арина сквозь слезы наконец-то улыбнулась.
— Батюшка, как хорошо, что ты вернулся! Ты раздевайся, отдыхай. Я же велю баню истопить. — Дочка еще раз его крепко обняла и побежала командовать дворней.
— Беги отсюда, беги, — глядя ей в спину, прошептал Андрей. — Может статься, хоть тогда проклятие тебя не тронет.
Лучшим путем из удела на Карельском перешейке в Ярославль был конечно же водный. Однако князю Сакульскому, с которого никто не слагал обязанности думного дьяка, требовалось показаться в Разрядном приказе, отчитавшись о делах своих и расходах. Поэтому на ушкуе поплыла Арина, высадив отца с верным холопом на причале Новгорода. Оттуда Андрей в сентябре добрался до Москвы и… И надолго застрял, ибо здесь никто и нигде никакими делами по-прежнему не занимался, трепеща перед грядущими бедами.
Государь не принимал никого, не сделав на этот раз исключения даже для него. Слухи о его плохом состоянии бродили один другого страшнее. Одни говорили, что Иоанн распух и почернел, другие — что лишился рассудка, третьи — что он уже умер, но бояре скрывают это, опасаясь смуты. Ибо единственный наследник, царевич Федор — блаженный, и за право его опекать может разгореться настоящая война.
Разумеется, при таких вестях все бояре стремились находиться поближе к столице, дабы, если что, поддержать свои рода или оборонить личные интересы.
Весной, восемнадцатого марта тысяча пятьсот восемьдесят четвертого года от Рождества Христова государь хорошо пропарился в бане, отчего почувствовал себя лучше и пожелал сыграть в шахматы. Одетого в белую полотняную рубаху, его отнесли в Оружейную палату. Боярин Богдан Вельский разложил доску, игроки начали расставлять фигуры. Взяв в руку ферзя, царь вдруг откинулся на спинку трона и захрипел. Рынды тотчас кликнули лекарей, те стали растирать царя мазями для суставов — но сия наивная попытка не помогла, и через несколько минут Иоанн Васильевич, мудро правивший русским государством ровно пятьдесят лет, перестал дышать.
Так, в несколько горьких минут закончилась величайшая эпоха в истории русской державы: рождение России.
В историю мироздания царь Иван IV Васильевич, прозванный Грозным за внушаемый врагам Руси страх, вошел величайшим из всех созидателей.
Приняв в свои руки всего лишь Московское княжество с горсткой вассалов, он двадцатикратно раздвинул границы государства, создав Россию в ее нынешних известных пределах.
Все свое царствие он занимался основанием и строительством новых городов, ныне ставших многолюдными и общеизвестными. Таких, как Воронеж, Орел, Волгоград, Астрахань, Арзамас. Иван IV принял Россию со ста шестьюдесятью городами, а оставил с двухсот тридцатью.
В кровавую эпоху, когда правители разных стран постоянно устраивали безумные оргии, такие как Варфоломеевская ночь или Стокгольмская баня, когда короли убивали своих подданных десятками тысяч: за то, что несчастный оказался бродягой, уродился ирландцем или голландцем, либо за то, что кто-то молится Христу на свое усмотрение, — в ту кровавую эпоху Иоанн смог сохранить трепетное отношение к человеческой жизни, решаясь на смертную кару только в крайнем случае и все равно продолжая раскаиваться в своем решении. За все пятьдесят лет его правления по царской воле погибло три тысячи семьсот человек — причем в этот синодик включены даже безвестные смерды, случайно попавшие под саблю при аресте их боярина, и жертвы Новгородского погрома. Все рассказы о злобе и жестокости Иоанна при проверке всегда и неизменно оказываются беспардонной ложью.
Иван Грозный провел решительную и эффективную опричную реформу, сломав старую феодально-вассальную структуру управления и выстроив в России монархию, основанную на безусловном единоначалии государя, сцементировав лоскутное одеяло полунезависимых княжеств в единый прочный монолит, сохранившийся до сегодняшнего дня.
Иван IV стал единственным правителем в истории России, который широко опирался на мнение народное, считая глас православного русского народа — гласом Божьим. При нем регулярно созывались Земские соборы, которые и выносили свое мнение по самым важным вопросам внутренней и внешней политики. Чтобы слышать мнение простого люда, Иоанн ввел специальный чин думного дворянина для безродных бояр — чтобы они могли присутствовать на заседаниях боярской думы и участвовать в принятии насущных повседневных решений.
Иван Грозный всячески поощрял народное самоуправление, постепенно отменив принцип воеводства по всей стране и предоставив людям самим решать, какие им нужны порядки, как правильно собирать налоги и кто достоин творить суд на их земле.
Нет ничего удивительного, что именно Иоанн IV стал в народе любимейшим из царей. Настолько любимым, что его, даже вопреки мнению Церкви, сразу признали святым великомучеником, о чем есть запись в Святцах Корчежмского монастыря семнадцатого века, хранящихся в Историческом музее, а к его усыпальнице никогда не зарастала тропа паломников. Именно о его смерти в народе многие века слагались скорбные плачи:
Вы подуйте-ка ли вы, уж ветры буйные, Пошатните-ка ли вы горы высокие, Пошатните-ка ли вы леса темные, Разнесите-ка ли вы царскую могилушку, Отверните-ка ли вы, уж вы гробову доску, Откройте-ка ли вы золоту парчу. Ты встань, восстань, батюшка ты Грозный царь, Грозный царь да ты Иван Васильевич!Иван Грозный общепризнан как один из просвещеннейших людей своего времени. Он был поразительно начитан, любил петь и сочинял музыку. Его стихири сохранились и исполняются по сей день. Громадное значение по-прежнему имеет переписка царя. Его письма к разным лицам по праву считаются культурными памятниками и входят в золотой фонд древнерусской литературы. По ним изучают живой язык и мировоззрение эпохи.
Иоанн за всю свою жизнь не потерпел поражений ни в одной из войн. Начатые им походы непременно заканчивались успехом, нападения иных держав неизменно отражались с огромными для врага потерями. Так было и при нашествии Османской империи, и с попыткой завоевания, предпринятой Польшей, и со шведской агрессией. Никому из захватчиков, несмотря на все старания и пролитые реки крови, так и не удалось отгрызть от русской земли ни единого кусочка.
Страх перед непобедимым русским оружием, внушенный соседям, оказался столь велик, что даже после смерти Ивана Грозного четверть века никто не рисковал пробовать русские рубежи на прочность, и целое поколение подданных русского царства выросло, совершенно не зная тягот войны.
Иоанн IV Васильевич оставил после себя государство сильным, высокоразвитым и богатым. Армия владела самым совершенным оружием, города и веси были многолюдны, ремесла развивались, казна была полна до краев и позволяла продолжать строительство и развитие страны. Самара, Саратов, Архангельск, Сургут, Тюмень, Тобольск, Белгород, Борисов — топоры стучали во всех концах молодой державы, укреплявшейся в новых границах. Люди расселялись во все стороны, в порубежьях росли крепости и остроги. Унаследованное Федором от Грозного царя многолюдие и полновесная казна с большими постоянными доходами — позволяли не скупиться на стройках и оружии.
23 апреля 1963 года специальная комиссия Министерства культуры СССР под председательством профессора А. П. Смирнова вскрыла гробницу царя Ивана IV в целях проведения исторического исследования. Как пишет об этом Михаил Герасимов:
«Царь был высок, не ниже 179 сантиметров, очень тренирован, силен в молодости, но к концу жизни сильно пополнел и, вероятно, весил более 95 килограммов.
В результате нарушения обмена веществ у него возникло раннее окостенение хрящей, в ряде случаев связок и множественное образование остеофитов на всех костях скелета. На всех суставах длинных костей можно видеть следы воспалительного процесса полиартрита. Все хрящи грудины, гортани окостенели и хорошо сохранились. Весь этот комплекс свидетельствует о том, что Иван IV страдал постоянными болевыми ощущениями и, вероятно, очень сильными. Это привело его к осторожному, бережливому отношению к себе. Он, видимо, предпочитал сидеть в кресле с высокой, прямой спинкой, прямо прижавшись к ней. Такое заведомое ограничение движений в конце концов привело к еще большей утрате подвижности.
Из патологических изменений в скелете можно отметить значительную эрозию позвонков грудного пояса. На всем скелете наблюдается окостенение хрящей, связок, очевидно, это связано с явлением артроза. Вероятно, царь страдал полиартритом, так как на всем скелете отчетливо видны следы деформирующего спондилеза. Присутствие ртути в организме следует объяснить тем, что царь пользовался ртутными мазями, ища облегчения от боли в суставах».
Трудно даже представить, каких бы еще невероятных достижений удалось добиться России, проживи Иоанн хотя бы на десять, двадцать лет дольше. Утешением может быть лишь то, что он был отнят у русской земли не злодеянием недоброжелателей, а волею судьбы: болезнью, парализовавшей его в последние годы жизни и причинявшей огромные страдания. Смерть стала для величайшего правителя в истории лишь облегчением после долгого и трудного пути.
Эпилог
Первого декабря тысяча пятьсот восемьдесят шестого года на постоялый двор близ Белостока заехал богато одетый путник с крепко сложенным слугой. Назвавшись князем Андреем Сакульским и покрутив перед лицом корчмаря серебряную полтину, он потребовал себе светлицу на углу, что выходила окнами на крышу навеса для коней. Хозяин двора спорить конечно же не стал и только велел служке отнести в спальню господина окованный железом тяжелый сундук. За что тот, кстати, получил целый гривенник.
Постоялец вел себя тихо, даже незаметно, заказывая еду к себе наверх и почти не спрашивая вина. Из светелки не выходил, убирать у себя не требовал. Ровно спал все время, открывая глаза лишь для обеда и ужина. Корчмарь про него даже вспоминать перестал и ничего не сказал о госте полусотне гайдуков, что везли ко Стефану Баторию личного посыльного османского султана.
Тот — длинный морщинистый старик в белой хламиде, вместе с юной наложницей, занял лучшие покои, которые находились как раз через стену от княжеских. Гайдуки же набились в трапезной, требуя вина, вина и вина, громко веселясь и рассказывая скабрезные истории.
Шум от нежданных гостей встревожил тихого постояльца. Князь спустился, оставил задаток за комнату еще на неделю, сослался на то, что желает прогуляться в тишине, пообещал вернуться к полуночи, когда все угомонятся, велел слуге оседлать коней и вместе с ним выехал со двора.
Ближе к полуночи хмельная охрана посыльного и вправду затихла. Вот тут-то и прозвучал взрыв, который не просто снес весь второй этаж, но и остальной дом развалил почти до фундамента.
— Образованные люди эти магрибские колдуны, — подвел итог Андрей Зверев, наблюдавший за ярким и шумным зрелищем с удаления в две версты. — Про самые хитрые тайны проведать способны. А в будущее заглядывать не умеют. Забавно, правда?
Князь Сакульский уже знал, что от суфия, владеющего тайной имени, его телохранители поутру найдут только несколько обрывков мантии.
Пахом промолчал. Холоп давно привык не задавать, от греха, лишних вопросов своему воспитаннику.
Османский наместник воспринял весть о гибели посланника султана достойно. Он даже не наказал охрану. Наверное, жить рабом смертного для него было не менее мучительно, нежели умирать. Вечером одиннадцатого декабря он долго гулял по двору королевского замка в Гродно, смотря на небо, на звезды, глубоко дыша и принюхиваясь к обыденным, в общем-то, ароматам.
Потом, отказавшись от помощи слуг, ушел спать.
Утром его нашли в постели уже мертвым.
Стефан Баторий, несмотря на немалые старания, вошел в историю не как неудачливый воевода и наместник, дочиста разоривший Польшу, и не как предшественник Гитлера, первым попытавшийся поработить Русь силами коалиционной армии всей Европы. Увы, в историю он вошел лишь как представитель семейства, вампирское происхождение которого получило историческое доказательство.
Уже после смерти самого Стефана, в Венгрии, возле Чахтицкого замка местные крестьяне заметили, что собаки едят человеческие останки. Как оказалось, в замковом саду человеческие кости попадались совсем на малой глубине. Крестьяне в ужасе сообщили обо всем паладину Венгрии Дьёрдю Турзо. Тот, ворвавшись со стражей в замок, нашел здесь многие сотни девичьих тел. Скорое расследование показало, что проживающая здесь Эржебет Батори, официально — племянница Стефана Батория, принимает ванны из крови девственниц для продления своей жизни. По подсчетам следователей, она ради своей прихоти успела умертвить шестьсот пятьдесят крестьянок.
Приговор был прост и понятен. Поскольку никто не знал, каким образом можно причинить смерть вампирше — ее замуровали в подземелье Чахтицкого замка живьем.
Впрочем, к России это уже не имело никакого отношения.
Про сына Грозного царя Федора Иоанновича бродит много слухов. Одни исследователи говорят о его слабоумии, другие — просто об излишней религиозности. Однако нужно признать, что долгие полтора десятилетия правления этого царя стали для Руси золотым временем. Он унаследовал от отца сильнейшую из стран, которой никто не рисковал бросать новый вызов. Сам царь тоже не стремился к каким-либо свершениям. Правление Федора стало временем сытости, богатства, процветания и долгого мира. Тем веком, который счастлив для обывателей, но скучен для деятельных витязей, привычных к браням и походам, готовых в любой момент перевернуть мир и изменить законы мироздания. Эпоха соратников великого Иоанна Грозного сгинула в небытие. В новом мире им было уже нечего делать.
В тысяча пятьсот восемьдесят восьмом году постригся в монахи герой Псковской обороны князь Иван Петрович Шуйский.
В тысяча пятьсот девяносто первом постриг принял лучший полководец своего времени князь Дмитрий Иванович Хворостинин.
Скука и безвестность, пустое одинокое прозябание в затерянном княжестве у проклятой горы в конце концов надоело и князю Андрею Васильевичу Сакульскому. В тысяча пятьсот девяностом году его дочь Арина, княгиня Курлятева, получила от отца лаконичное письмо:
«Доченька, желаю я проведать сына и Пребрану. Отплываю сегодня же, ибо погода установилась для путешествия благоприятная. Поручаю тебе и твоему мужу приглядывать за землями моими карельскими и свияжскими. Люблю. Крепко обнимаю. Желаю счастья».
Это письмо и стало последним известным фактом из судьбы Андрея Зверева, урожденного боярина Лисьина, князя Сакульского по праву владения.
Примечания
1
Это не метафора. Почти сразу после смерти Сигизмунда (и победы в битве при Молодях) призыв Иоанну на Польское царствие привез в Москву официальный посол от сената Речи Посполитой Федор Воропай.
(обратно)2
Помимо Ивана Грозного и Генриха Анжуйского, на польский престол выдвигались император Священной Римской империи Максимилиан, его сын Эрнест, сын Ивана IV Федор и шведский король Юхан III. Однако французский принц и русский царь считались «фаворитами» предстоящих выборов.
(обратно)3
Ревень в XVI веке считался одним из «заповедных товаров», торговать которым дозволялось только царской казне. За его контрабанду вполне можно было попасть на дыбу под кнут палача. Но уж больно прибыльной была продажа этого лакомства…
(обратно)4
Моондзундский архипелаг.
(обратно)5
По этим местам прошла так называемая Белгородская засечная черта — но к описываемому моменту в освобожденных землях русские воеводы успели срубить только крепости Воронеж, Оскол (ныне — Старый Оскол), Курск, Изюм. Крепости Елец (до того сожженный еще Тамерланом), Валуйки, Белгород — собственно и давший название всей оборонительной линии, были достроены полностью только через пятнадцать лет, и об их существовании за пределами России еще никто не подозревал.
(обратно)6
Филиóкве (лат. filioque — «и от сына») — добавление, сделанное Западной (Римской) Церковью в Никео-Цареградский Символ веры, IV века, в догмате Троицы: об исхождении Святого Духа не только от Бога-Отца, но «и от Сына».
(обратно)7
Испанский овощной суп.
(обратно)8
Ткань из шелка, но плотного плетения, прочная и ноская.
(обратно)9
Мадера как сорт вина возникла в первой половине XV века, а исчезла в середине XIX, и в описываемые годы была весьма популярна, несмотря на дороговизну.
(обратно)10
Королева Елизавета (в Испании именовавшаяся Изабеллой) Валуа, супруга Филиппа II, вошла в историю благодаря тому, что буквально выбила из аскетичного мужа разрешение для женщин носить украшения, в том числе драгоценности.
(обратно)11
Майорат как система обеспечивал в Средние века достаточное для полноценной службы финансовое состояние костяка общества: его служивого дворянства. Майорат не просто наследовался только одним из сыновей владельца. Законодательно его вообще запрещалось дробить или передавать из рук в руки каким бы то ни было образом: продавать, дарить, жертвовать, даже просто отказываться, отрекаться от него. Получил — владей, пока его не унаследует следующий старший из рода.
(обратно)12
Знаменитая Непобедимая Армада для покорения Англии выйдет из Лиссабона 9 мая 1588 года. В ее состав войдет 130 тяжелых боевых кораблей с 2400 пушками на борту, 8000 матросов и 19 000 солдат. Добираться до Британских вод она будет аж два месяца — что хорошо показывает неспешность жизни в те старые добрые времена. 29 июля возле Кале произошло сражение испанского и английского флотов, которое длилось до исчерпания англичанами боеприпасов. Ни одной из сторон не удалось потопить ни одного корабля противника. 30 июля испанский флот двинулся на север.
А потом случился шторм.
Разумеется, всех этих мелочей Андрей Зверев в школе мог и не запомнить. А что помнил — после двадцати лет перерыва простительно и забыть.
(обратно)13
Историки предполагают, что причиной приступов у Стефана Батория была эпилепсия.
(обратно)14
На поморские кочи, справа и слева от киля, часто крепились полозья, чтобы их было можно выволакивать на лед и протаскивать, как санки, от полыньи до полыньи.
(обратно)15
Селение Териберка отмечено на фламандских картах 1601 года. Значит, картографам было известно еще ранее.
(обратно)16
В 1568 году.
(обратно)17
На основании отчета о расследовании опричника Басарги Леонтьева боярский суд во главе с Иоанном Грозным постановил виновных в разбое не наказывать, поскольку на преступление их толкнула непомерная жадность откупщиков, налоги впредь собирать государевым чиновникам, однако убытки убитых и ограбленных купцов с виновных взыскать. История «Басаргина правежа» известна на севере Руси не менее, чем «Новгородский погром», однако в соответствии с традициями профессиональных историков рассказывается ровно наполовину: про произвол опричников — с ужасом, про причину их появления — ни слова.
(обратно)18
Наименование «Великий» утвердилось за Устюгом как раз во времена опричных реформ.
(обратно)19
По свидетельству очевидцев, боли в суставах настолько измучили Иоанна Грозного, что после сорока лет он старался двигаться как можно меньше, и даже по дворцу слуги носили его на специальных носилках.
(обратно)20
Так оно и вышло. Бывший король Магнус лишился Ливонии и умер в нищете и безвестности в 1582 году. Его жена и дети бежали обратно в Россию.
(обратно)21
Ныне город Нелидово.
(обратно)22
Следует помнить, что в XVI веке венгерские земли входили в состав Османской империи.
(обратно)23
Царская казна платила пять рублей подъемных на каждую семью, поселившуюся южнее старой, Большой Засечной черты, что шла от Рязани до Тулы. Всего было выплачено более 100 тысяч рублей.
(обратно)24
Согласно скрупулезным подсчетам историков, Стефан Баторий для нападения на Русь собрал 41 814 воинов. Однако половина из них была немецкими, французскими и итальянскими наемниками, еще треть — османскими, из Венгрии. Сами поляки составляли в войске османского пса меньшинство.
(обратно)25
Соловецкий летописец сообщает, что глубокие рейды русской конницы на территорию врага достигали сотен верст: «Тое же осени государь посылал воевод… в Летовскую землю и в Курланскую, и в Латыгорскую воевати, и воевали до Вильна».
(обратно)26
Из дневника секретаря королевской канцелярии при Стефане Батории пана Пиотровского известно, что благодаря стараниям таких вот «летучих отрядов» потери среди польских фуражиров доходили до нескольких сотен оккупантов в неделю! Застигнутыми на месте грабежа и повешенными на ближайших деревьях поляки потеряли намного больше шляхтичей, нежели при осадах и штурмах русских крепостей.
(обратно)27
Про факт данного шабаша некромантов историкам известно абсолютно точно, поскольку Иван Грозный попрекает поляков в сем чародействе и надругательстве над трупами в своем письме к Стефану Баторию от 1581 года: «И пришедши под Соколъ воевода твой виленской со многими людми, городъ Соколъ новымъ умышленьемъ зжегъ и люди побилъ и мертвымъ поругался беззаконнымъ обычаемъ, чево ни в бъзверныхъ не слыхано: убьютъ ково на бою да покинуть, ино то ратной обычей; а твои люди собацкимъ обычеемъ дълали, выбирая воеводъ и детей боярскихъ лутчихъ мертвыхъ, да у нихъ брюха възръзывали, да сало и жолчь выимали какъ бы волховнымъ обычаемъ» (эл. публ. ИРЛИ РАН) И что характерно — поляки этого даже не отрицают, ссылаясь на каких-то маркитанток, якобы изготавливавших лекарства из мертвых русских людей.
(обратно)28
На самом деле Коран вполне даже разрешает мусульманам есть «неправильное» мясо и даже свинину, при условии, что это сделано по принуждению или из чувства голода, когда выбора у верующего нет. Но — «не преступая пределов необходимого».
(обратно)29
3 декабря.
(обратно)30
Ныне город Нарва.
(обратно)31
Согласно запискам Флетчера: «Город Москва платит ежегодно пошлины 12 000 рублей, Смоленск 8000, Псков 12 000, Новгород Великий 6000, Старая Руса солью и другими произведениями 18 000, Торжок 800 рублей, Тверь 700, Ярославль 1200, Кострома 1800, Нижний Новгород 7000, Казань 11 000, Вологда 2000 рублей».
(обратно)32
Я. Зборовский, участник нападения на Русь, отметил, что во втором походе посланные в русскую землю казаки Ф. Кмиты так и не смогли захватить никакой добычи и полона, так как «в деревнях найденных встречались люди только старые да слабые».
(обратно)33
По воспоминаниям участников похода, при взрыве арсенала Великих Лук погибло не меньше двухсот поляков.
(обратно)34
Ныне поселок Крестцы.
(обратно)35
13 января.
(обратно)36
Это не гипербола. На этот факт указывает Казимир Валишевский в своем исследовании «Иван Грозный».
(обратно)37
Договор о Плюсском перемирии изложен полностью, без купюр и изменений согласно справочнику: Внешняя политика Руси, России и СССР за 1000 лет в именах, датах, фактах / В. В. Похлебкин. — М.: Международные отношения, 1992.
(обратно)

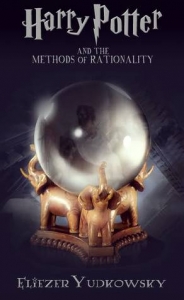



Комментарии к книге «Последняя битва», Александр Дмитриевич Прозоров
Всего 0 комментариев