Николай Басов ИГРА МАГИЙ
ПРОЛОГ
Случилось это давно, когда в обоих мирах — Верхнем и Нижнем — владычествовали семь архимагов, вышедших из разных рас и племен. Были они могущественны своей накопленной за тысячелетия колдовских экспериментов и практик силой, а пуще того — тем, что главная из них по имени Джарсин Наблюдательница умела высекать молниями из Волшебного Камня разноцветные искры. Эти искры разлетались по свету и, попадая в разных смертных: орков, гоблинов, эльфов, карликов, циклопов, людей, кентавров и во всех прочих, — жили в их сердцах, сохраняя силу Камня и придавая архимагам способность, управляя этими смертными, укреплять свою власть над мирами и их обитателями. И владычество архимагов представлялось бесконечным.
Но однажды Камень не ответил Джарсин: молнии ударили в него, но искры не родились. Как и было предсказано, пришло время, когда власть и самая жизнь архимагов оказались под угрозой. Ведь чем меньше искр и их смертных носителей, тем меньше и колдовское могущество.
Джарсин решила собрать в одном месте тех, кого судьба отметила магическим прикосновением, и с их помощью возродить Камень к жизни. Тогда она не только сохранила бы равновесие между Верхним и Нижним миром, но получила такую власть над прочими архимагами, своими тайными соперниками и недоброжелателями, о какой и мечтать раньше не могла. Но существовало одно непременное условие: смертные, владеющие волшебными искрами, должны были прийти к Камню добровольно, по внутреннему своему согласию, чего куда труднее добиться, чем собрать их просто по приказу. Для этого поручения Джарсин отобрала среди рыцарей подчиненного ей Бело-Черного Ордена четверых: человека Франа Термиса по прозвищу Соль, птицоида Оле-Леха Покрова, восточного орка Сухрома од-Фасх Переима и демоника, у которого было имя Шоф, но не было прозвания. Первым троим она приказала отправляться в путь, а последнего оставила при себе, хотя сама еще не представляла, для чего он может ей понадобиться.
Рыцарям Джарсин выдала по три разноцветных медальона из своей сокровищницы, которые должны были помочь в поиске смертных, носящих в душе разноцветные магические искры, и научила слышать голоса магиматов. Заботясь об успехе миссии, она даже отдала в пользование Франа Термиса свой паланкин, который несли в крепких руках пятеро неутомимых големов. За Оле-Лехом прислала карету с четверкой черных магических коней, которыми правил кучер-франкенштейн. А для Сухрома Переима отрядила летающий корабль, называемый «Раскат», под командованием опытного капитана и проверенной команды. Так трое рыцарей разошлись-разлетелись по всему свету, чтобы найти тех, кто отправится с ними в замок их Госпожи и поможет ей возродить к жизни Волшебный Камень.
Первому повезло рыцарю Франу. В городке Береговая Кость он отыскал местного воришку из каменных гоблинов по имени Берит Гиена. Его должны были повесить, но Термис Соль выкупил Гиену у капитана стражи храма, который Берит пытался обокрасть.
Вторым успеха добился Оле-Лех Покров. В университете города Шом он отыскал профессора Сиверса и хитростью заманил участвовать в своей экспедиции.
А последним, после долгого и нелегкого перелета на корабле «Раскат», рыцарь Сухром отыскал в одном из малых пограничных фортов циклопу по имени Крепа Скала, которая стала его боевым товарищем.
Три из девяти медальонов нашли своих хозяев. Так закончилась первая глава этой истории.
Как заставить человека отправиться в далекий и трудный путь, ежели у него и без того все имеется? Силой, угрозами, шантажом? Во имя большой цели Фран Соль не задумываясь применил это оружие, и Гарун Золотой, банкир, один из богатейших людей Империи, которого он отыскал в столичном городе Басилевсполе, поехал с ним, потому что не осталось у него иного выбора.
Как не осталось выбора и у генерала армии бесчи Плахта Сурового, которому Сухром Переим с верным Датыром раскрыли глаза на истинное положение вещей. Генерал не просто стал не нужен своему герцогу, Плахта собирались убить, чтобы избавиться от слишком популярной и влиятельной в народе фигуры, которая мешала политикам обстряпывать свои грязные делишки.
Рыцарь Оле-Лех Покров в своей замечательной карете заехал совсем уж в северные земли, на берег Ледового океана, где обитало племя рыбоедов. Здесь и обнаружилось, что местный шаман Димок носит в себе волшебную искру. Старик никак не хотел уезжать из привычной ему тундры, но, подчинившись жестокому обычаю племени, все-таки сделался спутником рыцаря, предупредив, однако, что везет с собой сильных духов, которые его не оставят и будут защищать. Но как и прежде, выбора у участников событий практически не было, их вела могущественная воля Джарсин Наблюдательницы и ее неукротимое желание вернуть себе владычество над миром. Так закончилась вторая глава этой истории.
ЧАСТЬ 1 САРА ХОХОТ ЕДИНСТВЕННОЕ ПОДЧИНЕНИЕ
1
Волны набегали на песок пенной бахромой, принося с собой мелких медуз и бурые водоросли. Это была не слишком привлекательная картина. Сара Хохот подняла взгляд к горизонту, где небо сливалось с морем. Там гуляла мертвая зыбь, оставленная ночным штормом, который Сара обрушила на этот берег, чтобы все дикари деревушки, обреченной ею на уничтожение, собрались в своих хлипких домишках, сложенных из травяных циновок, обмазанных глиной. Только так можно было захватить побольше детей. А лишь они на этом пустынном острове имели хоть какую-то цену и были целью нападения.
Следовало признать, в этот раз Сара вмешалась, чтобы, помимо прочего, еще и развлечься. Безусловно, Удод, капитан ее судна, сам бы справился, у него для этого хватало и команды, и жестокого умения, подкрепленного опытом. Но Саре самой захотелось поучаствовать в деле, которое напомнило бы ей о молодости, когда она отправлялась в море за поживой и удовольствием увидеть новые земли и неизвестные берега, открывавшиеся с борта корабля.
Уже несколько десятилетий она не чувствовала охоты к подобным путешествиям и только недавно вдруг снова стала подумывать, что такое времяпрепровождение может оказаться интересным.
Это случилось после того, как она совершенно неожиданно в одном из магических экспериментов сумела создать свою прелестную Таби-Скум, мантикору, у которой вместо кожистых крыльев, позволяющих обычным представителям ее породы едва-едва перелетать с одного острова на другой, расположенный в пределах видимости, выросли крылья, покрытые перьями, длинные и очень сильные, как у альбатросов. Таби-Скум могла часами парить на морских ветрах, пролетать без отдыха сотни миль, и это резко расширяло возможность Сары путешествовать.
Разумеется, для боя такая мантикора не годилась. Эти же великолепные крылья не позволяли ей защищаться и нападать с той стремительностью, которая отличала мантикор даже в драке с драконами. Зато как никакая другая она умела летать, и поэтому с ранних лет ее обучения Сара приложила все свое умение, чтобы эта перистокрылая мантикора привыкла к хозяйке, послушно носила ее в верховом седле, подчинялась приказам не хуже иной объезженной и выученной лошади.
В этом обучении Сара добилась немалого, хотя и признавала, что в ответ на свои эмоциональные приказы порою получала от мантикоры неожиданно сильное несогласие, откровенный протест, а порой и сопротивление. Но у магических зверей, к которым мантикора, безусловно, относилась, и тем более у трансформированных, как Таби-Скум, такое случалось сплошь и рядом, на это не стоило обращать слишком много внимания.
Сара и не обращала, хотя иногда подумывала, что было бы неплохо вывести и получить в свои руки не только дальнеполетную, но еще и водоплавающую мантикору, способную, как настоящий альбатрос, садиться на воду, чтобы дать отдых крыльям и каким-нибудь образом подкормиться рыбой, разумеется не ныряя при этом слишком глубоко и надолго, чтобы не создавать неприятностей наезднице, то есть самой Саре. Потому что очень уж опасными при дурном характере Таби становились полеты над морем, бескрайним и враждебным любому вторгнувшемуся в эти открытые просторы без должной подстраховки… Но эта мечта, такая вот трансформация живого существа, оставалась пока только мечтой даже для Сары с ее колдовской силой и способностью к созданию трудновообразимых, небывалых существ.
Море чуть изменило свой блеск под солнцем, которое уже на весь круг выкатилось из-за горы на северо-востоке острова. Гора была изрядно высока, до самой верхушки поросла лесом, хотя Сара еще при подлете заметила — лесок на ее макушке становился уж совсем мелким, низкорослым, редким, деревья поднимались не выше иных кустов, искривленные к тому же постоянно дующими здесь ветрами. И еще Саре почему-то почудилось, когда она сверху из седла Таби-Скум разглядывала этот остров, что гора похожа на одну из тех шутих, которые в праздники любят зажигать и с грохотом взрывать простолюдины. По сути, это был вулкан, который мог довольно скоро проснуться… Но скоро, разумеется, по вулканическим меркам, то есть через десятки лет или через века.
А в общем, вулкан сейчас тоже не интересовал Сару, как и море… Она раздраженно обернулась, выискивая хоть какие-то признаки присутствия солдат и матросов, подчиненных Удоду, но нанятых на ее деньги, следовательно, принадлежащих ей, Саре Хохот. Пока солдат видно не было, или они действительно хорошо маскировались при подходе к обреченной деревне нунов. Хотя могло еще так получиться, что моряки высадились подальше, чтобы маленькие, подвижные краснокожие людоеды этих островов, на которых Сара решила поохотиться, не разбежались раньше времени.
Да, решила архимагичка, так и есть, ее люди охватывают деревню широкой дугой, чтобы, как она и хотела, захватить всех обитателей сразу. Стоило поспешить — как бы не пропустить самое интересное, ради чего она и прилетела в такую даль из Басилевсполя, города, в котором проживала здесь, в Нижнем мире.
Конечно, следовало раньше догадаться, что Удод, несмотря на ее приказания, многое сделает по-своему, как ему покажется правильным, и не иначе. Хотя Удод был предан ей душой и телом, потому-то и являлся капитаном одного из ее многочисленных работорговых кораблей. Он сам был рабом в третьем поколении, но, занимая такой высокий пост, распоряжаясь порой даже небольшой флотилией, почему-то воображал, что может нарушать едва ли не прямые указания Сары, видимо доказывая этим свое свободолюбие или намекая, что было бы неплохо, если бы Сара дала ему вольную. Вот только освобождать его Сара не собиралась, потому что таких капитанов и в то же время умелых бойцов у нее было не слишком много.
Она посмотрела на Таби-Скум. Матрикора откровенно скучала, почти по-кошачьи усевшись столбиком на песок, поглядывая по сторонам своими огромными желтыми глазищами, иногда потряхивая почти львиной головой, правда, без гривы, зато с чуть более острыми, чем принято у ее сородичей, ушами. Крылья мантикора раскинула по сухому песку, то ли давая им отдохнуть, то ли потому, что сидеть и поджимать крылья из-за их длины было неудобно. Крылья распростерлись поболее двадцати футов в каждую сторону от Таби, были узкими и отливали несвойственным мантикорам серым блеском тугих и крепких перьев. Иногда на них просматривались какие-то белые разводы, как бывает у старых чаек, но Сара-то отлично знала, что до старости Таби было еще далеко, пожалуй, лишь лет через тридцать для этого зверя должно было наступить время немощи и упадка.
Сара подошла к мантикоре, погладила ее по невыразительной, но умной морде и взяла за удила.
— Пойдем в деревню, иначе пропустим сражение.
Мантикора с сухим шелестом перьев не совсем ловко подобрала крылья, вставая на лапы, почти целиком закрыв свой хвост с длинным, чуть не в три фута, точеным жалом, напоминающим острие копья, и шагнула за хозяйкой. Сара привычно удивилась тому, насколько длинные и мощные крылья ее ездовой мантикоры делались небольшими в сложенном состоянии. Они не мешали Таби ходить, вот только придавали странную горбатость ее спине, настолько, что иногда Саре бывало неловко влезать в седло, устроенное сразу за холкой зверя.
Седло, жесткое, высокое, с тяжелыми бронзовыми стременами и со спинкой, напоминало конное рыцарское, но было удобнее. С этим седлом, когда Сара только объезжала Таби-Скум, пришлось мудрить довольно долго, потому что слишком высокая поначалу спинка тормозила полет и мешала до такой степени, что мантикора едва не переворачивалась брюхом навстречу потоку воздуха, особенно когда они удачно разгонялись при пикировании, упиваясь свободой полета. Зато теперь все было в порядке, Сара могла в седле и сидеть, едва ли не вольнее, чем в иных своих креслах в замке, и почти лежать, когда было нужно, на шее своей любимицы, подставив лицо ветру.
Продираясь через заросли, Сара с удовольствием услышала доносящиеся со стороны деревни громкие крики, может быть, команды, а также пронзительный визг женщин, плач детей и, пожалуй, звон оружия. Это было странно, потому что у людоедов было очень мало железа, на этих островах его едва хватало на мотыги и гарпуны для крупной рыбы. А деревянные дубинки, как известно, сталью не звенят…
Сара пошла быстрее, хотя мантикора, которая послушно следовала за ней в поводу, царапала свои крылья о ветки кустов. А еще она вдруг взрыкнула во всю мощь своей глотки… Это не удивило Сару, она как архимаг была способна читать настроения и эмоции других живых существ и отлично поняла, что мантикора почуяла запах крови, уловила страх и отчаяние дерущихся не на жизнь, а на смерть и сама не прочь вступить в драку. Чего-чего, а боевой дух у мантикор было не изжить, даже у Таби, предназначенной для полетов, а вовсе не для сражений.
Деревушка открылась неожиданно. Вот только что казалось, перед Сарой стоит плотная стена кустов с широкими мясистыми листьями, но, сделав еще три-четыре шага, магичка вышла на настоящее поле, на котором и стояла деревня, где уже вовсю шла резня. Потому что между вооруженными, отлично выученными воинами с корабля Удода и краснокожими дикарями, к тому же застигнутыми врасплох, сонными и голыми, настоящего боя, разумеется, быть не могло. Но дрались краснокожие упорно, во всех цивилизованных странах они славились прежде всего своей быстротой и яростью, поэтому солдатам и морякам Удода в общем-то приходилось несладко.
Оценив наметанным глазом ситуацию, Сара убедилась, что деревня действительно окружена пусть и не частой, но непробиваемой для ее обитателей цепью солдат, а потому непредвиденных «потерь» не случится, и удовлетворенно улыбнулась. Островитяне, пробующие защитить свои семьи и дома, то тут, то там падали под ударами длинных мечей пришельцев, несмотря на всю скорость, с которой двигались в бою, то есть уже не могли оказать достойного сопротивления. И все же они дрались…
Чтобы острее и точнее чувствовать происходящее, Сара подняла свое восприятие мира и тут же, как из заряженного лука, выпустила из себя в этих вот… мелких и глупых, в недоразвитых нунов, способных быть только ее добычей, ощущение неуверенности и обреченности. Это она умела… И почти тотчас заметила, как скорость и решимость, с которой бились островитяне, пошли на спад. Многие из них даже опускали свои дубинки, утыканные осколками обсидиана, и тут же падали на землю, обливаясь кровью. Отряд Сары пошел вперед еще быстрее…
Ее магический удар не остался незамеченным. От строя воинов отделилась фигура и быстро двинулась навстречу хозяйке. Сара пригляделась: конечно же это был капитан Удод, он лучше прочих солдат ориентировался в происходящем, как ему и было, собственно, положено по рангу.
Капитан бежал, поправляя на ходу оружие, а Сара спокойно шла с Таби в поводу ему навстречу. Он вытянулся шагах в десяти перед ней, вот только до настоящего порядка оружие после драки так и не довел — ножны меча висели на животе, может быть защищая от низовых секущих ударов, боевого кинжала вовсе не было, видимо, капитан где-то обронил его или не сумел быстро выдернуть из тела противника, а шлем, довольно сложный, с гребнем и парой перьев незнакомых Саре местных, южных птиц, сбился набок. На левой стороне шлема виднелась глубокая вмятина, значит, Удоду досталось. «Надо же, — подумала архимагичка, — а ведь мои мечники тренируются не меньше, чем легионеры басилевса, а может, и побольше, потому что куда как часто вынуждены вступать в бой с настоящим и умелым врагом…» Впрочем, называть этих вот островитян умелыми бойцами все же не хотелось.
— Мем-сахиб, — Удод склонился, прижимая левую руку, всю в крови, к панцирю слева, — эти краснокожие выродки оказались крепче, чем ожидалось.
— Чем ты ожидал, — проговорила Сара, не замедляя шага. Таби-Скум рявкнула на Удода, тот стоял, по ее мнению, слишком близко. Капитан работорговцев отскочил. — Они все равно не выдержат, — добавила Сара.
Удод поправил шлем, не очень ловко, рука у него действительно была серьезно поранена, может, не только чужая-то кровь на ней запеклась. Он пошел за Сарой, с другой стороны от мантикоры, привычно докладывая:
— Тут делов-то на пару часов и осталось, мем-сахиб… Если ты не против, я бы приказал зажечь дома, чтобы корабль уже подходил… Для погрузки тех, которые останутся живы.
Сара оглядела своего капитана, словно бы с сожалением, произнесла:
— А дышишь трудно… Ты стареешь, Удод.
— Оттого, моя госпожа, что они уж очень ловкие, нам в доспехах несподручно с ними.
— А без доспехов тебя сегодня, как я вижу, уже разделали бы, как быка на бойне.
— Это был их вождь, мем-сахиб, лихо прыгал, и меч у него медный. Не очень большой, вроде нашего гладиуса, но он умело с ним обращался… Я его раза три проткнул, пока он перестал шевелиться.
— Я знаю, что они живучие, — согласилась Сара Хохот.
— Вот еще о чем осмелюсь спросить, госпожа, в твоем приказе об этом не говорилось… Мы будем пытать тех, что останутся? — спросил Удод, сам же поражаясь своей смелости в этом обращении к ней. — Взрослые-то нуны, как известно, в неволе все равно не живут, так мы, может…
— Это не береговой городок, Удод, чтобы допытываться, куда местные казну спрятали… Что они тебе смогут даже под пытками рассказать? Как у них глиняные горшки на солнце высыхают? — Она остановилась, повернулась к своему капитану. — Не ожидала от тебя такой глупости.
— Да, я понимаю, мем-сахиб, — промямлил капитан работорговцев, — это в городках найдется что-нибудь, что нам за поживу сойдет, а тут… Но для удовольствия, госпожа, ребятам ведь повеселиться хочется после драки.
— Загрузишь детей, а с остальными — поступай как вздумается.
В голову архимагички вдруг пришла та простая мысль, что ей еще тащиться над безлюдным и опасным морем больше двухсот лиг, и даже для Таби-Скум это может оказаться трудным делом после того, как мантикора только что, за прошедшие двое суток, доставила ее сюда, на этот безымянный остров. Ведь Таби не очень-то умеет спать в полете, а значит, может и заартачиться, и что тогда делать?… Конечно, Сара знала, что она будет делать, но вот насколько это получится?
— Я осмотрюсь тут еще немного и полечу назад. — Она с удовольствием обвела взглядом продолжающееся сражение. — А ты вот что, Удод, ты набери мне из этих нунов свежатины, чего-нибудь помускулистей, ноги там или руки, да побольше, я с собой возьму… И предупреди своих, я спущу мантикору с поводка, пусть девочка подкрепится нунятиной, как сама захочет.
Капитан работорговцев даже застыл на месте, представив такую перспективу.
— Мем-сахиб, да как же мы сумеем… с ней, с мантикорой твоей, совладать? Она же моих бойцов тоже драть станет, если ты ее отпустишь просто так себе мясо искать… — Он задумался по-настоящему. — Мы вот что сделаем: навалим трупы краснокожих на берегу, а она пусть сама выбирает, что сожрать, а от чего отвернуться… Так сгодится?
— Ладно, наваливай убоину, как с последними краснокожими справишься… А я, пожалуй, поблизости поброжу, пока Таби-Скум обедает, — усмехнулась Сара. — А нарубленную, как тебе приказано, свежатину упакуй сюда, да не жалей. — Она отстегнула пару седельных сумок и бросила их на траву под ногами. — Только кровь сливай, чтобы не дышать вонью, когда я через море полечу. Понятно?
— Еще как понятно, госпожа, — с заметным облегчением согласился Удод и поспешил исполнять порученное.
Таби снова взрыкнула ему вслед, ей не нравился этот капитан, он вызывал у нее желание проверить, кто из них сильнее, но этого разрешить ей Сара не могла. Да и не за что было пока Удода казнить… И Таби-Скум нужна ей здоровой, полной сил и без единой царапины.
Спереди, из ряда теснимых к центру деревни нунов, прилетел небольшой, но пущенный умелой и сильной рукой дротик. Он воткнулся в песок шагах в пяти от Сары, она остановилась. Ближе подходить не следовало. Бой, несмотря на то что все было уже ясно, еще не прекращался.
Из одной хижины какой-то здоровенный верзила в доспехах, судя по всему из орков, пусть и не чистопородных, вытаскивал детей, которых пыталась удержать краснокожая старуха. Воин обернулся, не понимая, что ему так упорно мешает… Проткнул старуху мечом, та обмякла, упала на песок, не выпуская ручки детей из сцепленных мертвой хваткой пальцев. Воин отбил руку старухи крепкой ногой, зашнурованной в высокую калигу, и уже без этого якоря выволок детей на открытое пространство.
Сара оценила их, да, они будут хорошими рабами, жестокими, сильными… Только чуть непослушными. Рабы в первом поколении всегда мечтают о свободе, об острове, где они родились, об охоте, о рыбалке на узких, быстрых местных лодчонках, о славных войнах с соседними племенами с других островов… Три девчонки и один насупленный мальчишка лет десяти с татуировкой на плече. Значит, он уже выходил в море, уже прошел первые испытания, чтобы стать мужчиной. С такими возни иной раз больше, чем со взрослыми.
Скорее всего, решила Сара, вглядываясь в неясные переживания мальчика, придется его отдать в гладиаторскую школу, ни на что другое он не годен. С таким — жди беды, ведь как бывает, годы проходят, а потом… такой вот, казалось бы, уже смирившийся со своим положением раб вдруг протянет кубок с отравленным вином или вовсе, чтобы самому почувствовать сладость мести, пырнет кухонным ножом под лопатку…
Загорелась первая хижина, Удод подавал знак, чтобы корабль подходил ближе. Бой, а еще вернее — убийство, уже заканчивался, дрались еще только на площади в центре деревушки, перед самыми большими и высокими хижинами. Рядом с ними на кольях, воткнутых в утоптанную десятками босых ног глину, торчали для славы племени какие-то истлевшие и вонючие, выбеленные солнцем и обгрызенные птицами головы. Может, это были головы врагов с соседних островов, а может, они принадлежали когда-то заплывшим в эти места купчишкам или охотникам за жемчугом.
Сара еще разок осмотрелась. То тут, то там среди убитых или раненых нунов лежали и ее солдаты, их было немного, не больше дюжины, но ведь это только здесь… Наверняка за хижинами или на подходах к деревне полегло столько же, итого с четверть сотни. Допустим, что краснокожие не подготовились к бою, не успели напитать свое смешное деревянное оружие ядом, значит, оставалась вероятность, что половина солдат выживут. Придется, конечно, кому-то, если раны не будут заживать, ампутировать руку или ногу, сделать из нормального солдата калеку, без этого не обойтись… Да ведь на корабле всегда найдется работенка и для таких. Даже еще лучше может получиться, если таких прибавится, они окажутся как бы живым свидетельством, что и таких вот неудачников сразу не приканчивают, не сбрасывают в море, не хоронят на этом берегу в холодном и сыром песке… Или все же проще будет их сразу же тут и кончить? Зачем кормить тех, кто не сумел справиться с противником даже в таком вот почти игрушечном набеге?
Загорелись и самые большие постройки деревушки, теперь дым поднимался сплошным грязным столбом в безоблачное небо, залитое солнцем. Его можно было увидеть, пожалуй, на расстоянии в два десятка лиг, если бы хоть кто-то тут находился, кроме других таких же островитян, которые, очень может быть, к вечеру прибудут сюда, чтобы поживиться в разгромленной деревне тем, что после ее людей останется, решила Сара.
Она наклонилась, не выпуская из рук повод Таби, которая рвалась вперед, хотя уже не так решительно и сильно, как вначале, когда они только увидели эту деревню и кипящий бой. Подняла странный и длинный для местных недоросликов, чуть не в локоть, деревянный меч. Он был искусно вырезан из тяжелого черного дерева, крепкого настолько, что на нем почти не было зазубрин от ударов о мечи солдат. Вероятно, это и есть знаменитое железное дерево. Нужно будет взять эту штуковину, этот дикарский меч с собой, тем более что он как-то легко лег ей в ладонь. Меч был изумительным, по режущему своему краю он был усилен еще и мелкими осколочками камня, искусно вставленными в дерево, будто сросшимися с ним. Вот только краснокожему, которому он принадлежал, этот меч не помог.
Детишек на том месте, которое случайно выбрал здоровенный орк в калигах, становилось все больше. Теперь их насчитывалось, пожалуй, около трех десятков. Среди них каким-то образом оказались две женщины. У одной под плотными черными волосами расплывалось кровавое пятно, но она все утешала детей, жавшихся к ней, не обращая внимания на рану, а ведь у самой чуть глаза не закатывались от боли и слабости… Да и знала она, чем окончится эта ее попытка утешить ребятню — это Сара видела очень хорошо. Солдаты и матросы, месяцами не видевшие женщин, сделают с ней такое, по сравнению с чем даже пытки, которым, возможно, Удод подвергнет мужчин, покажутся милостивой смертью… Но она все же пробовала утешать детей, не думая ни о чем, кроме как о них, их слезах и их безрадостном будущем.
Другая женщина тоже Сару заинтересовала, но меньше. С ней все было понятно, это была семейственная и тихая наседка, способная лишь производить потомство и ничего больше… Ее тоже можно было взять с собой на корабль, а значит, трогать не следовало, она позаботится о детях самым лучшим образом.
Сара подозвала стоящего рядом солдата, тот подбежал, глаза у парня еще были бешеные, а физиономия говорила о том, что он был туповат и вряд ли способен понять все быстро и сразу, но архимагичка решила не церемониться.
— Ты вот что, служивый, ты передай Удоду… Разыщи его и передай, чтобы он этих вот двух женщин, что с детьми остались, не трогал, ни сейчас, ни потом, на корабле уже… Мне нужно, чтобы детей побольше до моих владений доставили, их и так не слишком много… Понял?
Она еще посмотрела на бугая, которому отдавала приказ. Нет, решила, он ничегошеньки не понял, у него соображения хватает только на то, чтобы жрать и драться.
— Ладно, сделаем иначе, позови мне капитана, — приказала она.
Это распоряжение служивый понял, бросился исполнять. Когда Удод, еще больше запыхавшийся и заляпанный кровью, снова появился перед ней, Сара повторила ему приказ. И даже немного усилила, добавила, что неплохо бы еще пару женщин, молодых, сильных, умеющих обращаться с детьми, переправить на корабль.
— Трудненько это будет, госпожа… — почесал щеку Удод.
— Что? — удивилась Сара Хохот. — Ты осмеливаешься спорить, капитан? — Она чуть не разозлилась от такого его нахальства. — А вот если тебя вздернуть на рее, чтобы не спорил?… Полагаю, у тебя найдутся на судне помощнички, которые давно уже считают, что ты зажирел на капитанских харчах?
— Нет, нет, мем-сахиб, не то я сказал… Ты не подумай, что это невыполнимо… Будет исполнено как ты хочешь. — Он склонился в поклоне. Не разгибаясь, еще проговорил: — Я имел в виду, что все тебе преданы, но хотели бы получить и этих женщин, раз уж ничего другого в деревне не нашлось.
— Выполняй приказ, Удод, а с женщинами… Твои охламоны получат всех, кто еще уцелел. А этих и двух, которых ты выберешь, может, сам получишь, когда детей сдашь на материке моим управляющим. А может, и нет, я еще подумаю. — Она хмыкнула, но тут же переспросила: — Все понял?
Не разгибаясь, Удод попятился от Сары, смешно и глупо зачерпывая песок ногами. Неужто он получил еще одну рану, вот олух, рассердилась Сара.
— Ты вторично ранен? — Несмотря на то что умела прочитать это в его сознании и сама, она решила получить подтверждение.
— Нисколько, госпожа, я просто запыхался больше обычного… От жары это у меня, мем-сахиб, и пить хочется.
— Где мясо для Таби-Скум?
— Мы рубим, мем-сахиб, скоро ребята понесут его к берегу, как ты велела… — Он, по-прежнему не выпрямляясь, попробовал оглянуться. — Сейчас прикажу, чтобы поторапливались. И чтобы в сумки набили, сколько поместится, я помню твой приказ, госпожа.
Пока мантикора наедалась человечины перед дальним полетом, а в седельные сумки набивали кормежку для нее на обратный перелет, Сара немного прикорнула в тени местных низкорослых пальм. Когда-то, в юности, она могла во время походов не спать сутками или спать в седле, не отставая от самых сильных и выносливых своих солдат. Но сейчас, особенно в начале перелета, ей следовало быть сильной и очень, очень умной… Поэтому она и решила отдохнуть.
Ей даже приснилось, что этой вот свежей убоиной не Таби-Скум будет кормиться, а она сама… Сон ее повеселил, тем более что когда-то такое уже было, Сара оказалась после шторма посреди океана в лодке с двумя своими подручными… Как же их звали? Нет, теперь не вспомнить, даже во сне, когда нежданная память просыпается, бывает, что и в исключительно ярких образах. Один был орк, он оказался жестким, и сырым жевать его было противно, зато другой был помесью птицоида и гнолла, кажется. Вот его они с еще живым тогда орком глодали неделю почти с удовольствием.
Да, бывало в ее юности и такое, надо же, вспомнилось. Хотя и неожиданно — во сне.
Корабль уже стоял в бухте, которая мягким и почти правильным полукругом плещущейся воды подходила к деревне дикарей. Это был неплохой двухмачтовик, с острыми обводами и косыми парусами на длинных реях. С такой оснасткой вообще-то ходить в открытом море было непросто, прочности у этого парусного вооружения судов все же не хватало против свежих-то ветров, но вот Удод со своей командой как-то выкручивался… Зато эти косые паруса позволяли идти круче к ветру и резко галсировать, если приходилось, допустим, удирать от более сильного корабля с прямой парусной оснасткой.
Детей Удод отобрал всего-то около трех десятков, маловато, если считать, что деревня издавна, как Сара про нее прознала, слыла зажиточной и многолюдной. Но и ради этих вот… краснокожих зверенышей все же стоило пригнать корабль и устроить резню, потому что за каждого из них можно было теперь выручить… Впрочем, Сару не интересовали цены на невольничьих рынках, потому что она не собиралась детей продавать. Она хотела использовать их по собственному усмотрению, в своих поместьях или гладиаторских школах, для разведения новых рабов или для опытов, которые с таким вот экзотическим материалом всегда бывали интересными.
Перед тем как отправиться в обратный путь, она прошлась по горячему от солнца песку к кромке прибоя, чтобы и на детей посмотреть, и ноги размять. Таби, как выяснилось, тоже спала, в тени, уронив тяжеленную голову на лапу, как она любила, расправив крылья в обе стороны. Огромная и спокойная, сытая и ленивая, умная, страшная даже для солдат, которые удерживали ее на трех арканах в сорок футов, хотя в этом архимагичка не видела сейчас никакой необходимости. Мантикора, наевшись и напившись еще свежей крови, отнеслась к присутствию вокруг себя незнакомых людей вполне равнодушно, может, потому еще, что видела Сару, видела, как ее хозяйка и сама прикорнула под пальмами.
Пока Сара разглядывала зареванные личики краснокожих выродков, ставших уже вполне ее собственностью, к ней опять подскочил Удод. На этот раз за ним притопали еще трое бойцов. Мужики были потными, усталыми, злыми, но по-прежнему почтительно-послушными. Архимагичка оглядела Удода, тот держался еще, хотя было видно, что от ран, полученных в драке, заметно ослабел и очень бы желал избавиться от присутствия хозяйки. Все же он спросил с поклоном, который дался ему нелегко, отозвался болью во всем его большом теле:
— Мем-сахиб еще чего-то желает?
— Детей не портить, Удод, — приказала Сара. — Я после проверю. Мне они нужны чистыми и готовыми для собственных моих забав. Ты понял?
— Как же, обязательно, все понимаю, госпожа… Так и будет. — Внезапно он решился: — Еще осмелюсь предложить — не забежать ли нам на остров Кахор, там тоже можно будет и детьми разжиться, а кроме того, там деревни побогаче будут, команде перепадут какие-никакие побрякушки…
— Приказываю иди прямо на Басилевсполь, — перебила его Сара Хохот. — И без того переход займет недели две, не меньше.
— Если бы ты, о благороднейшая и щедрейшая, помогла нам ветром, мы бы и управились с новым набегом, и не вышли бы из указанных тобой двух недель.
— Ты опять споришь, Удод? — сдвинула брови Сара. Ее капитан склонился ниже и уже не смотрел на нее. — Иди прямиком, и без выкрутасов. — Нужно было еще что-то сказать, и архимагичка добавила, уже направляясь к своей мантикоре, через плечо: — Да не забудь выдавать краснокожим вдоволь воды, кормежки и одеял. Если они будут после перехода в плохом состоянии, я с тебя спрошу.
— Понял и во всем повинуюсь… — затараторил Удод, но в его голосе слишком явно слышались нотки разочарования и при том при всем — облегчения, что Сара на этот раз отбывает. — Но ты ведь сама знаешь, мем-сахиб, что треть, а то и половина все равно умрут в пути.
Она его уже не слушала. Подошла к мантикоре, кивнула едва заметно солдатам, что удерживали арканы, стянула три ослабевшие петли с львиной головы Таби, отшвырнула их подальше. Взялась за поводья. Мантикора потянулась, отставляя назад поочередно то одну, то другую ногу, напрягая мощные мускулы на спине, вытягивая и крылья так же, как ноги, чтобы ощутить каждый мускул и нерв, каждое перышко. В целом, как бы придирчиво Сара в нее ни всматривалась, пришлось архимагичке признать, что мантикора отлично отдохнула и была рада, что они убираются отсюда.
Сара взобралась в седло, поправила кинжал на поясе, без него она бы могла и обойтись, но почему-то не желала избавляться от такого вот знака своей вооруженной воли, как она ее понимала. Нашла стремена, подобрала поводья, дала Таби-Скум направление и… Мантикора сначала попробовала бежать, потом чуть подпрыгнула, подняла крылья почти до предела своих возможностей, прыгнула раз… И тогда песок, все же слишком вязкий для нормального разбега, качнувшись, ушел вниз, крылья сильно и слаженно опустились, потом заработали быстрее, уже удерживая мантикору и наездницу в воздухе.
Разгоняясь и потому чуть чаще, чем нужно, взмахивая ими, чтобы утвердиться на набранной высоте, Таби прошлась над пляжем, потом Сара заставила ее развернуться и пролететь через все еще дымный от пожаров воздух над деревней. Сверху тела убитых, распластанные на песке, выглядели мелкими и совершенно ничего не значили. Затем, поднявшись уже выше той горы, которая теперь во всем блеске послеполуденного солнца возвышалась на востоке, мантикора пролетела над кораблем. Он тоже казался едва ли не щепкой, брошенной на мелководье, подчерченном разводами зеленых и голубоватых водорослей под прозрачным стеклом воды…
И тогда они обе — Сара Хохот и Таби-Скум — развернулись к северо-северо-западу, к материку. Перед ними лежало двести семьдесят морских миль пути над водным пространством Южного океана, а затем, как Сара знала, они могли передохнуть перед следующим рывком, уже чуть покороче, миль в двести, и чуть в другом направлении — строго на север.
2
Вообще-то быстро летать мантикоры не умели никогда, даже Таби-Скум, такая удачная и неожиданная для Сары, что магичка и сама не знала, сумеет ли когда-либо еще вырастить такую же, — не могла развивать скорость выше пятнадцати — восемнадцати узлов. Однако у Сары имелся в запасе давно и хорошо отработанный трюк. Она гораздо эффективнее, чем это получалось у остальных архимагов, управлялась с погодой. Особенно ей удавались ветры, а когда-то она и с настоящими бурями работала, вот только снега не любила… Конечно, Джарсин лучше ее вызывала дождь, иногда за считанные минуты Наблюдательница устраивала настоящий ливень с грозой, так что и небольшой потоп на каком-то выбранном ею месте возникал. Зато в работе с ветром Сара определенно могла заткнуть ее за пояс.
Фокус был в том, чтобы заставить воздух складываться плотнее в одном месте и расходиться, вроде как веслом разгоняют ряску на поверхности пруда, в другом, куда ветер и должен дуть по ее задумке. Конечно, сил это требовало немало, и не всегда получалось так, как Сара планировала, порой собственное течение ветров накладывалось на ее магию, и тогда выходило… нечто трудновообразимое даже с ее чувством воздуха, всей этой огромной, малопонятной стихией.
И все же сейчас, она могла признать это с гордостью, ее мастерство в этом виде магии было действительно выдающимся. Сказались все те полеты, которые она совершила, когда тренировала Таби.
Поэтому, спокойно расположившись в своем седле-креслице, Сара принялась искать возможности, которые должны были помочь мантикоре в этом дальнем перелете. По идее, все было просто. Нужно было подтащить пару зон с высоким давлением чуть ближе к тому острову, с которого она только что улетела… Сара заставила Таби сделать небольшой вираж и взглянула назад, через плечо.
Остров показался уже лишь бликом серого тона на блестящем под солнцем светло-зеленом океане. С той высоты, на какую забралась сейчас Таби, даже признаков волн рассмотреть не удавалось, вода внизу чудилась плотной, застывшей ровной скатертью, на которую лишь временами наплывали белесые пятна чуть более сырого воздуха. Это значило, что мантикора поднялась уже на высоту низовых облачков, снизу почти невидимых, но заметных тут, вверху, особенно когда она в них врезалась или проходила через них. Кстати, это было странно, потому что, когда Сара изучала небо над островом, никаких признаков этих слабых облаков не было.
Таби резко рыкнула, потом странно взвизгнула, подражая крику чаек, будто по-птичьи, а не по-своему, по-мантикорскому, выражая таким образом неудовольствие. Ей не нравилось лететь в ту сторону, куда ее, чтобы сподручнее оглянуться, направила Сара. Пришлось летунью успокаивать, Сара вытянула затянутую в тяжелую полетную перчатку руку и погладила Таби по голове между ушами. Это на мантикору всегда действовало. Потом Сара плавно, как и следовало, чтобы не потерять скорость, переложила Таби на прежний курс. И чудесный зверь принялся разгонять воздух своими невероятными крыльями с новой силой.
— Островов теперь долго не будет, Таби, — сказала Сара. — Окажемся мы с тобой над настоящим океаном.
Она еще разок, для верности, проверила внутренним ощущением возможности своей Таби. Мантикора была сыта, полна энергии и, пожалуй, даже получала удовольствие от полета. Как нравилось лететь и самой Саре, хотя — чего уж там — это было опасно, адски опасно… Мантикоре могло не хватить сил, они обе могли оказаться в одном из неверно вызванных ветров или в естественном воздушном вихре, и тогда их попросту понесет над волнами, пока не придет время падать.
Сара усмехнулась. Казалось бы, давно прошли те времена, когда, века тому назад, опасность будоражила ей кровь, возбуждала, заставляла точнее и яростнее чувствовать и переживать мир. И вот выясняется, что она и после столетий почти размеренной и спокойной жизни мало изменилась. Неизвестность полета, противостояние пространству, которое могло убить ее, как и каждого путешественника, которое и убивало — это Сара знала с достоверностью, — где не было возможности исправить ошибку, если бы она, Сара Хохот, ее допустила, — сейчас это подгоняло, рождало в душе ощущение азарта, казалось приключением, с которым нужно справиться. А как же иначе?
Эти мысли привели ее в состояние готовности к колдовству. Она и принялась… Сначала нашла один огромный и сильный слой очень плотного воздуха, который медленно дрейфовал, как почудилось Саре, куда-то на восток. Это ее не устраивало. Она отщепила от него не слишком большой, в пару сотен миль, кусок и перенаправила так, чтобы через четверть часа уже почувствовать его давление у себя на правом плече. Потом стала искать еще один похожий, потому что силы этой первой зоны высокого давления не хватило бы на весь первый перелет через океан.
Она искала, искала, даже когда стала понимать, что первая из зон, первый источник ветра уже начал действовать, и лишь тогда заметила небольшую, но довольно бурную зону, и совсем не там, откуда она могла бы перегнать ее к скале Сирены, тому месту, где рассчитывала сделать передышку. Но если заставить этот вихрь раскрутиться, развалиться, придать ему вид разворачивающейся спирали, сделать подобием пружины, которые некие умельцы научились вставлять в часы или в другие изощренные и Дорогие игрушки, вроде золотого фазана, которым так гордится басилевс, вот тогда, и только тогда… Да, план у Сары в голове сложился и вполне мог бы сработать. Она еще раз погладила Таби и почти попросила ее, а не приказала:
— Ты держись, девочка, нам с тобой теперь нелегко будет.
Ударили первые порывы ветра. Это был пока не очень сильный ветер, пожалуй, его скорость можно было оценить узлов в двадцать. Если все получится, решила Сара, мантикора за час разгонится узлов до сорока. То есть расстилающееся перед ней расстояние она проскочит часа за три. Беспокоило одно: такие потоки Таби не любила, предпочитала лететь в спокойном, мерно и ровно подпирающем ее крылья течении. Бурные порывы и неверные вихри быстро утомляли ее. А значит, нужно было внимательно следить, чтобы мантикора не потеряла в воздухе и упругость, и силу, и — главное — равновесие. Во время начальных тренировок по выездке Сара заметила, что Таби довольно неважнецки держит это самое равновесие, скорее всего, сказывалось отсутствие птичьего хвоста. Чрезмерно укороченный и неверный мантикорский хвост, который ей, как змею в воздухе, конечно, помогал держать равновесие в целом, был все же не так хорош, как если бы на нем вместо жала имелись еще какие-нибудь перья.
Да, ветер стал крепче, и они понеслись. Но поток воздуха все еще оставался ровным и плавным. Такой полет был для Таби делом обыденным. Она держалась уверенно и даже перестала в какой-то момент грести вперед, словно бы зависла на крыльях, удерживаемая ветром и чуть восходящими потоками от поверхности океана, и при этом, конечно, здорово сохраняла силы. Против этого Сара не возражала, хотя скорость чуть упала, и всего-то они делали сейчас узлов тридцать, не более. Но силы понадобятся мантикоре позже, когда они попадут в зону бури…
Сара даже успела подремать, когда через три с небольшим часа новый ветер, вызванный ею, ударил в лицо с неожиданностью предательского нападения. Она проснулась, вынырнула из своей полудремы, потому что спать в полете по-настоящему было нельзя, Таби это чувствовала и непременно выкинула бы какой-нибудь из своих фокусов, выразив несогласие с тем, что ею в действительности не управляют. Сара потерла для верности лицо, чуть не сбив полетную маску набок, но все же и под плотной кожей этой самой маски, похожей на птичью голову с клювом, ощутила, как разогревается занемевшая от постоянно, уже много часов бьющего встречного воздушного напора кожа. И стала смотреть, в каком состоянии находится вторая зона ветра, в форме спирали… В который они должны были вписаться, который должны были перехватить, пусть по краешку, подобно тому как дикари катаются на досках по волнам прибоя, используя силу падающей воды, чтобы едва ли не бесконечно соскальзывать и не падать самим… Ни в коем случае — не падать.
Тут Саре пришлось немного этот вихрь исправить, словно бы иной крестьянин во время долгой поездки должен был подправить задурившее колесо у телеги. Она снова бросила в пучину ветров несколько заклинаний, последнее оказалось удачнее прочих, и ветер теперь уже не молотил их с мантикорой, а помогал, хотя и сносил с прямой, пролегающей от их нынешнего местоположения до скалы Сирены.
Чтобы удостовериться, что все идет правильно, Сара еще разок вчиталась в мантикору. Таби-Скум уже немного выдохлась, но до настоящей усталости еще не доработалась. Пожалуй, она истратила лишь чуть больше половины своего запаса сил, хотя некоторые неприятные признаки голода у нее уже стали проявляться. Вот это Саре не понравилось.
Она терпеть не могла этого сверлящего все внутренности чувства, которое у нее возникало, если она слишком глубоко и детально погружалась в животные ощущения ее обожаемой Таби. На этот раз так и вышло, она переборщила с этим своим эмпатическим внедрением в состояние летуньи… Делать нечего, чтобы оправдать такую неуместную растрату магических сил, Сара влила в мантикору долю собственного магического спокойствия и уверенности в том, что отдых уже недалек, и, конечно, подкрепила необходимостью подчиняться хозяйке, которая восседала на спине.
Таби успокоилась, подчинилась, как случалось всегда, и снова стала послушной, поворотливой, ловкой… Она даже развеселилась, несмотря на все часы трудной работы, которую уже проделала, и чуть подбросила Сару, рывком крыльев обозначив что-то вроде взбрыкивания, хотя бы и несильного, вместо ровного перебора взмахов. Сейчас Сара нуждалась в ней, в Таби, а потому сделала вид, что смеется, разделяет ее игривость, хотя на самом-то деле никакой радости не испытывала… Но какая бы она была архимагичка, если бы не умела обманывать и навязывать животным свои чувства?
Мантикора взревела от удовольствия, что хозяйка ее понимает, и пошла в указанном Сарой направлении. Это было хорошо, это было правильно. Теперь они действительно делали в воздухе побольше пятидесяти узлов, лететь быстрее было уже опасно, Таби могла потерять равновесие или даже ориентировку… А потому Сара попробовала ее немного осадить, совсем немного, но мало чего добилась. Мантикора хотела есть и решила, что скала Сирены уже близко. Она даже требовала от архимагички, чтобы та позволила ей еще разогнаться, но Сара этому желанию не поддалась. Как бы там ни было, а впереди лежало более ста миль полета, и если учитывать снос, то еще больше, в любом случае чрезмерно буйствовать и торопиться было рановато.
Следующие два часа Сара работала так, как давно отвыкла, всем телом, всем напряжением духа и едва ли не всей своей магией. Потому что мантикоре, хоть Таби и пробовала проявить умение и приложить все силы, этих сил, по правде говоря, не хватало, и в какой-то момент Саре пришлось ей помогать, сначала незаметно для себя, потом больше… А потом она поймала себя на том, что уже одна ее воля, включающая и магическое умение, несет их по воздуху. Таби почти не могла работать крыльями, лишь подставляла их под ветер, и хотя неслась вперед, но все время выискивала внизу место, куда бы опуститься… Но внизу были только бурные волны и глубина, которая даже не синела, а чернела под ударами все того же ветра.
Потом совершенно неожиданно для Сары пошел дождь, она его почувствовала на коже полетной маски, на плаще и еще — по звуку, с каким капли воды стали все более дробно и часто попадать на крылья мантикоры. Это было совсем плохо, во-первых, потому, что уж ей-то, архимагичке, полагалось бы почувствовать дождь за десятки миль и тогда, может быть, удалось бы отогнать его в сторону. А во-вторых, крылья ее летуньи плохо переносили воду. Намокнув, они делались чрезмерно тяжелыми, и лететь становилось очень трудно.
И все же они увидели скалу раньше, чем у мантикоры и у Сары совсем закончились силы. Они даже довольно уверенно зашли на посадку, но вот тут-то магичка ошиблась, она как-то очень уж небрежно и легкомысленно подвела Таби к небольшой, всего в сотню шагов, площадке, да еще с той стороны, где верхний выступ скалы закрыл бы их от ветра, а того не учла, что высоту они теряли слишком быстро, и тогда… Тогда они чуть не врезались в обрывистый, каменистый бок скалы, возвышающийся над морем локтей на шестьдесят. Мантикора зарычала, забила крыльями, пробуя вернуть себе и своей хозяйке правильное положение… Но не вышло, поэтому им пришлось снова заходить по плавной дуге на эту площадочку, снова перебарывать ветер, и лишь когда Сара догадалась вовсе бросить поводья, Таби сошла вниз твердо, уверенно и почти зло.
На площадке оказалось немало песка и мелкой гальки, они плюхнулись на нее чрезмерно сильно, но эта нежданная подушка смягчила жесткое приземление. Мантикора, укладывая крылья за спину, повернула голову, резко и сердито рыкнула на Сару, выражая свое мнение об ее умении управлять, но архимагичка уже соскочила с седла и, неловко переступая затекшими ногами, бросилась обнимать летунью, чтобы утешить ее, едва ли не попросить прощения.
Мантикора все же была сердита, но лишь пока не получила из седельных сумок мясо. Это были отрубленные руки и ноги краснокожих дикарей с острова, разные по размерам, иные с татуировками, но сейчас ни Саре, ни Таби не было до таких тонкостей никакого дела. Мантикора хотела есть, она набросилась на угощение так, что даже ее хозяйке захотелось перекусить. Она почему-то вспомнила, что на острове могла бы подкормиться вместе с моряками и солдатами, там почти наверняка, едва она улетела, Удод устроил пир, чтобы отметить победу, хотя бы и над жалкой деревней.
Таби ела долго, а потом еще и грызла для удовольствия кости, облизываясь, потряхивая крыльями, хотя те все равно сильно мокли под дождем. А Сара отыскала в сумке две фляги, одну с водой, другую с вином, крепким, почти как северная водка, и для начала выпила. Потом нашла в большой сумке перемазанную нунской кровью сумку поменьше, в которой лежали сухари, ветчина, луковица и несколько длинных огурцов. Она съела все, не обратив внимания ни на кровь, которую мелкими капельками вдруг обнаружила на одном из огурцов, ни на запах то ли тухлятины, то ли того же мяса нунов, которое тупой Удод уложил слишком близко к ее запасам еды.
Потом Сара принялась размышлять о ветре и о дожде. Она продвинула свое внимание почти на сотню миль вперед, к континенту, но не нашла просвета, везде было слишком бурно, и ветер дул не в том направлении, которое им было нужно. Этот шторм почти наверняка снес бы их в сторону, и пришлось бы пролететь не проложенные по прямой двести оставшихся лиг, а, пожалуй, на четверть этого расстояния больше. Сейчас Таби не выдержала бы такой полет, да еще в темноте. Она вообще-то хоть и умела ориентироваться при свете звезд, но не очень хорошо. Когда они поднимались в воздух, почему-то мантикоре нужно было видеть горизонт, иначе она могла закрутить такой штопор, что никакие ремни Сару в седле уже не удержали бы.
Поэтому архимагичке пришлось наколдовать некоторые поправки для этого ветра, чтобы он хотя бы к утру стал для нее более благоприятным, а затем она устроилась спать, подтащив к себе Таби-Скум для тепла и чтобы мантикоре было спокойнее. Сверху от дождя она прикрыла себя и морду своей летуньи плащом, вот только крылья ее она не сумела полностью укрыть от влаги, поэтому несколько раз за ночь просыпалась, думая о том, как бы высушить крылья поутру, и чувствуя тяжелое, мясное дыхание мантикоры, которая устроилась мордой у нее почти на плече. Пожалуй, она и забывала в тот миг, что перья и крылья принадлежат не ей, но это было не очень важно… Так и прошла эта ночь.
Под утро Саре приснилась та самая сирена, о которой знали многие моряки и про которую до сих пор рассказывали в портовых тавернах матросские байки. Имени ее, конечно, никто уже не помнил. Жила она на этой скале лет сто назад или около того. Видения умела расставлять очень толково, поэтому вначале корабли частенько попадали на рифы возле ее скалы, и она лакомилась как припасами, которые находила в разбитых корпусах судов, так и любовью выживших после крушения моряков. Известно ведь, что у расы сирен почти не бывает мужчин, им хватает для размножения моряков, они умеют на протяжении сотен поколений не изменяться, даже если моряки и принадлежат к сильным молодым расам, например людям. Дети сирены сначала тоже кормились на этой скале, она обучала их пению и видениям, а потом они улетали, как и положено их породе.
Но однажды на эту сирену устроили охоту купцы, которые тогда ходили тут, проложив удобный путь между оконечностями континента, в разных местах далеко выдававшимися в южном направлении. Да, тогда купцы ходили тут чаще и в большем количестве, чем ныне, это Сара тоже сумела вспомнить.
Правда, другие легенды говорили, что сирена эта оказалась настолько умной и хитрой, что сумела как-то обмануть всех, кто пришел сюда с оружием, сумела выжить и даже сохранила свое место обитания… Тогда корабельщики перестали этот путь использовать, стали обходить скалу за десятки миль, чтобы не попасть под влияние сладких песен и насланных мороков, и эта торговая линия захирела. Вот тогда для сирены настали тяжелые времена. А поголодав немного, покормившись одной рыбой и соскучившись окончательно, она сама улетела куда-то… Кто-то из стариков говорил даже, что переправилась она дальше, к Южному уже континенту, к тем скалам, где обитали только мантикоры, драконы и самые дикие краснокожие нуны. Вот только что она там делала и каково ей приходилось в тех местах, никто, конечно, объяснить даже и не пытался.
Саре приснился сон, что сирена эта, дождавшись очередного корабля, почему-то не стала его ломать о скалы, а уплыла на нем в какой-то из вполне обжитых портов, влюбившись в молодого помощника капитана, который согласился на эту любовь, потому что сирена обещала ему помогать с ветрами. А с таким умением и ее удачей, разумеется, каждый пусть и молодой шкипер очень скоро должен был дослужиться до полного капитана, потому что мало найдется арматоров, которые отказали бы в повышении такому мореходу.
В общем, сон получился длинный, путаный и какой-то дурной. Сара, когда стала просыпаться окончательно, решила, что это все глупость, потому что не могло так выйти, и для сирены одного даже молодого и здорового парня было бы маловато, и к тому же слишком сирены в общем-то некрасивы и глупы. Даже умея принимать разный вид, то есть используя свое умение насылать видения, у них толком не получается этот дар использовать, чтобы поселиться на сколько-то обжитых берегах, среди цивилизованных народов…
Поднявшись на ноги, Сара обнаружила, что Таби уже давно не спит и грызет вчерашние кости. И все же для нормального перелета она была еще недостаточно сытой. Пришлось архимагичке отдать ей собственные припасы. Но когда она потянулась за водой, выяснилось, что во сне они с мантикорой эту самую флягу, сделанную из тонкого серебра, раздавили. Это было плохо, очень плохо, потому что пить перед полетом Саре хотелось. Тогда она подняла свой плащ, влажный после дождя, и выжала по примеру всех моряков всех времен влагу в рот, сдабривая это не очень чистое питье приличными глотками вина. Получилось — не очень, зато она теперь твердо знала, что до континента дотянет без приступов жажды, и к тому же почувствовала решимость и прилив сил, быть может, хмельных.
Едва солнце стало подниматься над горизонтом, Сара встала на северной оконечности площадки и бросила магический взгляд вперед. Ветер после ее колдовства перед сном, а может, и по собственной прихоти, был почти идеальный — сильный, упругий, верный ветер… Тогда она заторопилась и стала понукать Таби к полету. Та была не очень расположена подниматься для еще одного, уже четвертого за последние дни перелета, но ей пришлось покориться, пусть и не сразу.
Взлетать было непросто, они попробовали сначала, и вдруг Таби заартачилась, приостановилась, делая вид, что испугалась конца этой самой площадочки, с которой они пробовали взлететь, или засмотрелась на бьющие о скалы волны внизу, под обрывом… А Сара знала, что сердиться еще нельзя, если бы она впала в раздражение или злобу, тогда мантикора и вовсе бы решила, что ей нужно от архимагички обороняться, и не стала бы ее слушать, рычала бы, махала лапами, отбиваясь от мнимой угрозы, но ни за что бы не полетела. А ветер следовало ловить, как говорят моряки…
Поэтому Сара с деланым спокойствием отвела Таби снова в самый дальний конец площадочки и принялась пояснять:
— Ты не дури, а принимайся за дело… Пойми же, нет у нас другого выхода, и лучше взлететь сейчас, пока ветер правильный… И пока я его чувствую.
В последнем ее утверждении было немало лукавства, потому что Сара с ее возможностями, даже уставшая за последние дни, была способна почувствовать не то что ветер, который мог им сейчас помочь, но вполне могла бы определить и ветры, которые дули гораздо дальше, у других берегов континента, на полтыщи миль вокруг, но об этом мантикоре знать было необязательно.
Что и как сама мантикора при этом ощущала, Сара не разобрала, что-то было в ее состоянии невнятное, слегка тревожное… Но магичка все же справилась, заставила Таби разбежаться, на этот раз всерьез, в полный мах и скок, и они поднялись в воздух. Впрочем, тоже не вполне ловко, сначала перистые крылья мантикоры не захватывали достаточно воздуха, и она просела, спустилась, почти упала до самой воды, но затем Таби посмотрела, насколько близко они оказались и над скалами, и над водой, и тогда крылья ее заходили мерно и пусть трудно, но все же сильно, потом — еще сильнее.
Сара и перевести дух не успела, а они уже поднялись футов на двести или больше над волнами. Тогда она стала разворачивать Таби широким виражом к северу, домой… Мантикора послушалась. Теперь-то чего ей было сопротивляться? Она и сама хотела домой, в свой вольер, к сытной пище и небольшой искусственной пещерке со знакомыми запахами.
Они снова поймали ветер и понеслись, если считать на глазок, узлов под сорок. Это значило, что должны были добраться до континента и даже до Басилевсполя часов за пять, если мантикора не выкинет чего-то непотребного… И если ветер действительно окажется таким же верным, как Саре показалось вначале.
И все же это был не очень легкий перелет. Нет, до поры все шло хорошо, затем они поймали чуть более быстрый поток, уже повыше, почти в миле над водой, и еще немного выиграли в скорости, вот только…
Сара опять, как уже бывало, задремала в седле, или ей так показалось. Или вовсе она сделалась туповатой и спокойной, какой бывала сама мантикора в долгих перелетах, то есть Сара чрезмерно впечатлилась ее состоянием, восприняла Таби слишком… полностью и объемно. В общем, от этой безалаберности и однообразности она слегка отключилась. А когда пришла в себя…
Она огляделась. Все вроде бы было нормально, вода внизу отливала солнцем, чуть затуманенным высокими и размытыми после ночного ненастья облаками, Таби работала, как хороший бык — точно, выверенно, экономно и сильно. Впереди оставалось уже меньше половины пути. Но что-то же было не так, как полагалось бы… Сара собралась, очистила восприятие и лишь тогда поняла.
Это все не она вызвала и спланировала, это действовал кто-то другой. Она кому-то была нужна, и ее таким образом подгоняли. Либо — была и такая вероятность — ее затаскивали этой легкостью и естественностью полета в какую-то ловушку.
Мантикора тоже почувствовала, прочитала в ее сознании это настроение. И тут же отозвалась резкой готовностью ответить ударом на любое нападение… А Сара еще не защищалась, она искала, искала как проклятая признак хоть какой-то опасности впереди — засаду драконов или пегасов с воинами в седлах, или какого-нибудь магического противника, который бы и с борта корабля, воспользовавшись ее неподготовленностью, снял бы ее метким ударом силового или огненного хлыста, или что-то подобное… И не могла найти. Она даже попробовала опустить свое восприятие ниже уровня моря, возможно, кто-то собирался напасть на нее из-под воды… Но и там ничего настораживающего не обнаружила, там как раз все было спокойнее, чем в воздухе, — плавали какие-то рыбные косяки, на них охотились дельфины, чрезмерно разумные твари, к тому же умеющие пользоваться мозгами для собственных нужд…
Вот тогда пришлось соображать еще упорнее — а вдруг тот, кто ее сейчас заманивал, почти тащил вперед, оказался настолько силен и сумел замаскироваться так ловко, что даже с ее силой и проницательностью, воспитанной и оттренированной веками постоянных практик, она ничего не могла учуять? Не была способна даже понять — зачем кто-то обратил на нее внимание и зачем помогал?… Причем серьезно помогал, сокращая время ее полета на час, а то и еще значительнее.
В принципе таким мог быть только какой-либо другой архимаг, но настолько точно и скрытно могла действовать только… Сара заволновалась еще больше, чем тогда, когда заподозрила ловушку. Она все же взяла себя в руки, попробовала вернуться к спокойному, рассудительному состоянию. Это могла быть только Джарсин Наблюдательница, но…
Последний раз они общались, пожалуй, лет пятьдесят тому, и не было причины, по крайней мере, Сара ее не знала и не видела, чтобы это общение возобновить. Но ветер, ветер? Он указывал иное — Сара зачем-то Джарсин понадобилась, и та решила ее поторопить… Подогнать, поддувая ветром в спину. По сути, Наблюдательница ее почти вызывала к себе, пусть даже они и не могли сейчас вступить в контакт.
В таком настроении Сара пребывала довольно долго, она настолько углубилась в эти свои раздумья, что даже не обрадовалась показавшейся в чуть затуманенной дали темной полоске уже настоящего, широкого до неохватности берега. Таби это удивило, она даже, чуть повернув голову, заревела, оглашая свой вопрос. Сара Хохот снова, хотя ей было не до того, наклонилась вперед, почти легла на свою мантикору и потрепала ее рукой между ушами, как Таби и любила. Но думать о том, что же могло произойти и что это ей обещает, не прекратила. Хотя это и было глупо, потому что раньше того, как она прибудет в свой дом в Басилевсполе, она все равно ничего определенного узнать не сможет. Игра теперь шла не по ее правилам, вот только… Это была магическая игра, и поэтому от нее можно было ожидать чего угодно, даже неприятного или откровенно опасного.
Сил у Таби, существенно поддержанной попутным ветром, было еще немало, поэтому Сара подумала не опускаться в одном из своих поместий, раскинувшемся на самом берегу, купленном специально для того, чтобы сразу оказаться хотя бы в относительной безопасности, в своих стенах, защищенных от любого нападения. Она решила заставить Таби перемахнуть еще миль семьдесят, чтобы садиться уже в городе, в столице береговой Империи.
Они полетели вдоль берега. И странное дело, ветер словно бы действительно следил за Сарой. Он сменился, но дул по-прежнему в спину, поддерживая мантикору, подгоняя их обеих.
Теперь уже следовало подумать о том, чтобы не привлекать слишком пристального внимания. И Сара принялась колдовать, чтобы сделать себя и Таби почти невидимыми в воздухе… Или чтобы тот, кто их даже заметит летящими над водой вдоль берега в туманной дымке сырого, неяркого сегодня солнца, сразу забывал бы о том, что увидел, едва ли не в тот же миг, как отводил взгляд от архимагички, несущейся на мантикоре с невероятно большими и сильными крыльями. Это были очень сложные и долгие заклинания. Сара решила произнести их все, и это потребовало столько времени и столько усилий, заставило ее пребывать в состоянии такой глубокой концентрации, что она почти не заметила этого отрезка пути.
Она пришла в себя, когда внизу уже показались фермы и строения, которые окружали Басилевсполь, как и всякую столицу, задолго до стен этого великого и великолепного города. При желании его даже можно было теперь рассмотреть с этого расстояния и с той высоты, на которой Сара и Таби-Скум находились. Минареты, свечками подпирающие небо, высокие… как полагали смертные, которые никогда не отрывались от земли. Золотые купола и главки храмов. Верхушки крепостных башен и стены, охватывающие город, словно клубок змей, сложными петлями, по сути сделавшими из него подлинный лабиринт, в котором вражеская армия, пусть и ведомая умными и надежными командирами, несомненно, должна была заблудиться, утонуть, уткнувшись в необходимость преодолевать штурмом еще и внутренние складки укрепленных препятствий…
Это был город, который выдержал не одну осаду в прежние-то тысячелетия, да и в будущем, несомненно, должен был пережить не одно нашествие, штурм и попытку захвата. Это был город, где обитало, как полагала сама Сара, не менее полумиллиона всяких смертных, самых разных, порой и не живущих в прочих местах совместно, а враждующих до смерти на протяжении всей длительности существования своих племен, рас, пород и цивилизаций… Но тут они как-то уживались, вынуждены были обитать по-соседски и порой даже начинали сотрудничать. Вот только что это было за существование, Сара даже не бралась определить. Как и басилевс не хотел в это вдаваться. Это была тайна большого живого плавильного тигля, котла, из которого выходило много всего разного, но главным было вот что — сосуществование смертных и накапливаемое ими богатство.
Хотя и нематериальных ценностей в городе было немало. Количество храмов самых разных религий, верований, культов или Орденов не поддавалось учету… В нем имелось три медресе разнообразных вероучений, два обычных, цивильных университета, не менее полудюжины библиотек, каждая из которых полагала себя самой полной и совершенной, сравнимой лишь с легендарной древней библиотекой Алессады, потерянной или растащенной какими-то завоевателями еще до рождения самой Сары, имелись дюжины театров и театриков, арены, балаганы и самый большой в подсолнечном мире циклопический Колизей, на арене которого едва ли не каждую неделю выступали актеры и поэты или попросту дрались звери либо гладиаторы, порой целые гладиаторские отряды, состоящие из десятков бойцов с каждой стороны, вооруженные самым экзотическим и совершенным оружием… Это был город, равного которому не бывало ни в прошлом и скорее всего не будет никогда и нигде в будущем.
Вот в этом-то городе Сара Хохот и обитала, когда хотела оказаться в Нижнем мире, среди смертных, чей век был отмерен и длился считанные десятилетия. Но она жила тут давно и потому совсем неподалеку, всего-то на соседних с городом пустынных холмах, устроила переход в лежащий уже за пределами этого мира, вознесенный в мир Верхний, собственный дом, где она одна была правительницей и владетельницей всего сущего и куда всем прочим архимагам путь был заказан.
Лететь над городом Саре в свете дня было не с руки, хотя она порой и развлекалась подобным образом. Лишний раз пугать простолюдье своими выходками не следовало. Поэтому она сразу же направилась к Тайному городу, ко дворцу басилевса, окруженному стеной чуть не в тридцать локтей высоты, огромному комплексу самых разнообразных построек, раскинувшемуся на ста сорока четырех акрах земли, устроенному в самом центре города, между четырьмя выставленными квадратом зиккуратами.
Чуть сбоку от него, на территории в треть меньше, находилось Малое Городище, как это называлось среди смертных, которое являлось уже ее владением. Дворец принадлежал Саре с давних времен, когда еще и басилевсы вели свое происхождение от Других династий, ныне забытых или неправильно называемых, когда и смертные эти, что копошились внизу, говорили на иных языках, и языков этих было множество, у каждого чуть не своей говор, свои слова…
Со стен Тайного города Сару, несомненно, заметили, она и сама увидела, как на трех из четырех зиккуратов дрогнули флаги, таким образом стражники басилевса передавали сигнал о ее подлете, но поделать они ничего не могли, ее власть, возможности и богатство тут, в Басилевсполе, признавались всеми и почитались едва ли не наравне с властью нынешнего государя.
Таби теперь гремела крыльями на всю округу, стремясь оказаться на земле как можно скорее. Поэтому Саре едва удалось справиться с ней при посадке, перед тем как они плюхнулись на усыпанную чистым песком тренировочную площадку всего-то в полусотне шагов от вольера, где обитала мантикора.
Их уже ждали, стало быть, трепыхание флагов над городскими зиккуратами и тут не осталось без внимания. Еще не слезая с Таби, Сара направила ее вперед, ко входу в вольер, краем глаза заметив, как к ней уже бежал кто-то… Это была Яблона, понимательница желаний и ближайшая советчица. А за ней торопился Харлем, главный управитель, занимающийся всеми проблемами, которые возникали не только здесь, в городе, но и в Верхнем мире.
Как бы Сара ни устала после перелета, она заметила, что лица у обоих были озабоченные, едва ли не взволнованные. Особенно у Харлема, который по своей природе с трудом умел сдерживать обуревающие его переживания. Когда Сара спустилась с Таби, то с удивлением обнаружила, что ноги едва держат ее. Мантикора же отряхнулась от ее тяжести, от напряжения, накопившегося в крыльях и во всем ее львином теле, и, гордо вскинув голову, взревела. То был рык достоинства, победы и одновременно требование восхититься ею, спустившейся с небес, и следовательно приказ вычистить ее, напоить, накормить и подчиняться впредь всем ее желаниям.
Откуда-то как из-под земли появилось четыре дюжих негра — тяжелые, медлительные, но сильные обитатели Южного континента. Почему-то именно негров Таби-Скум терпела, когда те к ней приближались, не начинала драть их когтями сразу же и даже позволяла накидывать на себя арканы, чтобы ее отвели в вольер, в ее собственный дом. Негры перехватили Таби, и та, не оборачиваясь, уже почти забыв Сару, послушно затрусила к своей кормушке и поилке в пещеру.
Сара посмотрела ей вслед, на устало волочившийся по песку хвост мантикоры, лишь потом повернулась к подходящим Яблоне и Харлему, гадая, кто из них заговорит первым… Обычно Яблона начинала говорить, если новости были из приятных, но, если известия могли вызвать раздражение или гнев Сары, первым начинал Харлем. И на этот раз вышло так, что он сказал, низко поклонившись:
— Госпожа, мы ждали тебя раньше… Мы не подозревали, что ты будешь отсутствовать так долго.
Сара не ответила, она лишь стащила полетную маску с лица и устало вскинула голову, даже не заметив, насколько этот жест оказался похож на движение Таби-Скум. Тогда главный управитель проговорил, отчетливо опасаясь, что гневливая хозяйка решит, что он перешел границы дозволенного и эти слова окажутся последними в его жизни:
— Тебя в высшей мере настоятельно вызывает Джарсин Бело-Черная.
— Так… — кивнула Сара.
Отвечать на это вызывание она собиралась не сразу, а лишь отдохнув и, конечно, после того, как приведет себя в порядок. Хотя, получив это известие, которое не было после всех ее раздумий совсем уж полной неожиданностью, ей стало любопытно — что же такое могло произойти, чтобы Наблюдательница обратилась к ней напрямую? Да, опасности, о которой она встревожилась в полете, и уж тем более ловушки, устроенной для нее, не было и в помине… Но все же ситуация оказалась непростой, а пожалуй что… даже более любопытной, чем можно было ожидать. Именно так — любопытной.
Хотя, по-прежнему, чрезмерно торопиться Сара не собиралась.
3
Горячая вода, что обтекала ее тело небольшими искусственными волнами, приносила не только успокоение, отраду, но и мерные, как эти волночки, мысли. Когда Сара догадалась, что можно воду вот так несколькими лопастями, встроенными в ее ванную, волновать, она пришла в восторг, только долго не могла придумать, как это сделать. Пока не решила заставить думать кого-то из своих механиков. Был у нее один, смышленый, изобретательный даже… Он-то и придумал, чтобы откуда-то воздух накачивали какие-то звери, кажется обычные волы, расхаживая по кругу, и воздух этот по трубе приходил к ней сюда и за счет давления вертел какие-то крылышки… Устройство получилось отличным, Сара им от души наслаждалась, хотя в последнее время отчего-то стала терять интерес к этой забаве. Хотя сегодня — это было кстати.
Вода, что плескалась вокруг нее, была, пожалуй, слишком уж теплой, ее кожа покраснела, распарилась и натянулась. Это могло бы Сару озаботить, да только не ее это было дело, а тех девушек, которые ей прислуживали. В купальне их суетилось больше дюжины, некоторые были рабынями, некоторые были взяты из города у родни для обучения. Со свободными следовало обращаться иначе, чем с рабынями, например, их нельзя было пороть, чтобы не портить кожу на спинах, потому что спустя какое-то время их следовало выдавать замуж, а не каждый из местных соглашался жениться на поротой девице, многие из смертных теперь подходили к этому делу с разбором, с претензиями… Вообще, странными бывали эти смертные, попадались и такие, каких в прежние времена не видали даже. Впрочем, не об этом сейчас следовало думать.
Сара поднялась из ванной, тут же три служанки набросили на нее полотенца, попробовали даже обтирать, хотя она не обратила на них внимания, босиком подошла к окну. Из него открывался вид на Священный холм, и Саре почему-то захотелось посмотреть на него… Одна из девиц слишком уж сильно, не ожидая, что Госпожа будет шагать, вытерла ей бок, почти расцарапала после воды… Сара лениво, но и не сдерживаясь, ударила ее, девица отлетела, ошеломленная неожиданностью и силой удара. Так ей и надо, Сара даже не посмотрела в ее сторону. Она знала: неумехе еще и ночью от товарок достанется, как из преданности к хозяйке, так и из опасения, что, если Сара разозлится, им тоже несдобровать. Она встала у окна, две оставшиеся прислужницы вытирали ее теперь такими медленными и осторожными движениями, будто она была змеей с раздутым капюшоном, готовой наброситься на них в любой миг.
А она смотрела на холм и пробовала, хоть и была усталой, распаренной и сонной, сообразить, что ее ожидает, в чем причина вызова, который прислала ей Джарсин?… Наблюдательница — самая сильная из них, самая талантливая в магии, полубогиня, если принимать во внимание все ее возможности и магиматы, которыми она владела. Опасная, жесткая, умная не в меру… Вот ее-то, пожалуй, и следовало бы считать змеей. И теперь ей, Саре, предстояло с Наблюдательницей встретиться.
Собственно, она решала, может ли теперь, когда ей сообщили об этом вызове, хотя бы пару часов подремать? Могло так получиться, что это станет несомненной ошибкой. А могло получиться, что она себя подставит, если слишком быстро отзовется. Так что же делать?
Саре поднесли одно из платьев, еще три или четыре держали другие служанки. Это тоже неплохо, обычно-то ей предлагали всего одно, Яблона угадывала, какое ей будет по вкусу, вот только сейчас она куда-то запропастилась… Впрочем, понятно, она отдавала распоряжения, подбирая мантикору, на которой Сара могла бы перелететь в свой замок в Верхнем мире. И хотя перелет был невелик, всего-то на пять — семь миль, до верхушки Священного холма, на который Сара сейчас и смотрела, а все же… Для перехода следовало подобрать сильного, умного, заряженного магией зверя. Иначе могло и не получиться. Вот тогда-то Яблоне достанется на орехи, как говорили здесь на рынках торговки…
Сара и не заметила, что ее уже облачили в платье с высоким воротом и высоким лифом, с тонкой талией, с длинными оборками, ниспадающими красивыми складками до самых ступней. В таком платье полагалось ходить на малые, тесные, как это тут называлось, приемы, когда гостей не слишком много, всего-то дюжин пять-шесть. Нобили из двух десятков семей, которые друг друга знают уже много поколений, между собой только и роднятся, дружат или воюют, торгуют или обманывают, союзничают или ссорятся. А потому ни у кого почти не остается уже настоящих секретов для прочих присутствующих на этих сборищах. Так, сплетни лишь перебирают, словно бусины в четках, да по мелочи интригуют, а более — ничего. Или она недооценивала смертных?
Лишь иногда в эту высшую, без сомнения, касту Империи впускали кого-нибудь нового, со свежей кровью. Но обычно ненадолго, если новичок не принимал принятые правила игры и не обзаводился покровителями посредством женитьбы на какой-либо высокородной девице или пробовал оставаться сам по себе.
К примеру, тот механик, который придумал для нее волны в бассейне, тоже был допущен на некоторое время, а потом… Он ведь что удумал, бес, тайком от нее, в ее же лабораториях какие-то шутихи делать, только не для праздников и развлечений, а будто оружие… Конечно, Саре донесли, и она даже некоторое время ожидала, может, у этого дурня что-то да получится. Не получилось, а потому он должен был умереть. Чтобы не перешел на службу к какому-нибудь другому покровителю, где у него могло и получиться. Кажется, его утопили в море, сбросив в мешке со скалы… Настоящей искры у него не было, а чтобы придумать новое оружие, ему следовало иметь искру коричневую, от Августа Облако, от архимага выдумки и технического соображения.
Впрочем, давно это было, Сара даже не помнила имени того парня, чем-то неуловимо похожего на человека, хотя и с примесью какой-то другой, кажется, джинской крови или от племени демоников… Странно, что она о нем сегодня подумала уже вторично, что-то это да значило. К тому же и Август Облако вспомнился… Сара поняла, что на ноги ей надели высокие, выше щиколотки, плетеные сандалии, и теперь было самое время посмотреться в зеркало. Оно стояло чуть дальше от ванной, чем находилось окно. Потому что вблизи от горячей воды, конечно, отпотевало до полной неразличимости того, что ему следовало показывать.
Сара прошла к зеркалу и без всякого удовольствия заметила, что на лице ее лежит печать озабоченности, едва ли не тревоги. А с таким выражением прихорашивайся сколько угодно — ничего путного все равно не выйдет. Нет, не красавица она сегодня, после всего, что случилось за последние дни, после этого путешествия на южные острова, после полетов, после новостей этих…
А ведь было время, когда Сара Хохот изучала древнейшую магию женской красоты и провела за этим занятием не одно десятилетие… Тогда она еще надеялась, что сумеет вечно оставаться юной. Теперь об этом и не думала, не надеялась, лишь иногда вспоминала свою глупость. Время ей не подчинялось? Можно было произвести на того, кому хотелось бы понравиться, особое впечатление, можно было околдовать, можно было опоить, почти примитивно, как многие женщины из смертных и поступали… Но вот сохранить совсем уж в неприкосновенности кожу, тело и глаза, особенно глаза, в не тронутом временем впечатлении — этого не удавалось добиться никому. Даже ей, Саре Хохот, сумевшей создать и вырастить Таби-Скум, перистокрылую мантикору.
— Харлема мне сюда, — приказала она негромко.
Вообще-то могла и ментально его вызвать, но тогда бы Харлем почувствовал ее настроение, а этого Саре не хотелось. Пронырливым стал старик, слишком многому научился, пока прислуживал ей. Но еще точнее и яснее прочих умела ее понимать Яблона. Сара даже не раз думала услать эту девчонку куда-нибудь подальше, в какие-нибудь такие владения, о которых порой и сама не помнила… Но иногда и эта вот дуреха, которая иногда думала, что сумеет с хозяйкой кое в чем сравниться, бывала полезной. Кроме того, она очень уж хорошо обращалась со смертными из города.
— Госпожа моя. — Харлем появился сзади, даже немного в зеркале показался. Такое поведение было дерзостью, конечно, и он об этом знал, но сейчас это было неважно.
— Ты полетишь со мной в Верхний замок.
— Мантикоры заседланы, госпожа. — И, не дожидаясь ее вопросов, добавил: — Я приказал подготовить Жару для тебя и Немирного для себя.
Немирный, когда-то сильный и неуступчивый мантикор, сейчас постарел и стал ничем не лучше какого-нибудь деревенского мерина, что трудится на поле у крестьянина. А вот Жара была неплохой летательницей, злой к смертным и сильной, как слон, хотя и небыстрой, вот только иногда на редкость вертлявой в воздухе. Справиться с ней могла только Сара.
— Плащ мне, — приказала она кому-то из девиц, что бестолково толклись за спиной. И все же оторвалась от зеркала. Сказала уже Харлему: — Мы полетим небыстро.
Тот лишь поклонился. Конечно, смысл этих слов заключался не в том, чтобы Харлему было удобнее и спокойнее лететь, а в том, что Сара не хотела, чтобы Джарсин думала — ее можно вызывать когда вздумается, а она, как солдат перед сержантом, будет спешить и вытягиваться перед ней в струнку.
Они прошли по анфиладам комнат, по залам, к главному входу дворца, самого большого и роскошного в Малом Городище. Сара шла и почти с любопытством думала, успеют ли подвести полетных мантикор к ступеням крыльца? Если бы не успели, она бы могла обругать Харлема.
Но тот, похоже, обо всем подумал, мантикоры были на месте. Жару держали три негра на длинных и легких цепях из светлой стали. Ошейник, который с нее не снимали после того, как она однажды лапой расцарапала Саре ребра, блестел золотом и бронзовыми камешками, что удалось как-то выменять у карликов из Восточных гор. Их оранжево-красный цвет отлично подходил к почти пурпурной шкуре Жары, собственно, из-за этого ее окраса ей и дали такое имя. А вот Немирный был довольно редкого для мантикор синего цвета. Когда-то он был очень красив, лоснился и под его шкурой перекатывались волны мускулов. Сейчас он стал едва ли не серым, или попросту седым, что казалось Саре вульгарным. Поэтому, наверное, Харлем его себе и выбрал, чтобы оттенять ее красоту и ни в коем случае не выделяться. Немирного держали всего-то двое каких-то южных смертных на простых плетеных арканах. Все было правильно, Харлем и об этом позаботился.
Седло сначала показалось Саре на редкость неудобным, но она на нем поерзала и тогда поняла, что даже с усталостью, которая давила на плечи, на голову, на сознание и чувства, она до замка все же долетит без труда. А вот Харлему этот полет должен был показаться мукой. Тем более что плащ он забыл или не успел о нем позаботиться. «Хорошо же, — усмехнулась Сара, — я тебе покажу…»
Мантикоры взлетели. Жара оторвалась от земли, сделав едва ли десяток прыжков, зато Немирному пришлось разбегаться более сотни шагов, почти до изгороди площадки. Он и подскочил, чтобы перемахнуть через оградку, довольно неуклюже, и пристроился за Жарой лишь через пару минут, когда она уже надежно утвердилась в воздухе и ходила над Малым Городищем широкими кругами. Но все же Немирный с каждым взмахом своих еще способных его держать в воздухе крыльев делался все увереннее, это было видно.
Сейчас и Сара, и сопровождавший ее Харлем были, несомненно, великолепны! Верхом на летающих зверях, с развевающимся за плечами Сары плащом, под лучами солнца, едва перевалившего за полдень. Она осмотрелась и вдруг поняла, что Харлем боится. То есть почти откровенно паникует… И от той высоты, что она набрала, и от непривычности такого путешествия. И к тому же он неправильно подогнал себе стремена, а значит, они все время грозили выскочить у него из-под сапог. Сара рассмеялась, все это вместе — было здорово!
Поэтому она не сразу направилась к холму Трех Святилищ, а решила сделать над городом широкий круг, и плевать, что их заметят стражники, и уж тем более — увидят простолюдины. Она решила Харлема чуток помучить. Просто так, чтобы он был послушным в следующий раз. А заодно, раз уж так получилось, потренировать Немирного.
Они вышли сначала на самые дорогие и богатые здания Басилевсполя, построенные ниже Тайного города. Но все же не на сам Тайный, потому что согласно какому-то из давних приказов за это в них могли и выстрелить из «скорпиона». Конечно, попасть в мантикору одиночной стрелой из этого не очень-то опасного оружия было невозможно, но это было бы для Сары оскорбительно. А главное, она не смогла бы добиться, чтобы этих вот добросовестных стражников после такого выстрела наказали. Басилевс хранил и уважал традиции, даже, на взгляд Сары, самые глупые.
Сбоку от Тайного города находились не только дворцы знати, но и четыре обширные, как водится в таких городах, площади. Самая большая, предназначенная для парадов, называлась — Плац. Ходить по ней когда-то обывателям было запрещено, зато с полсотни лет назад, когда жителей стало слишком много, на этот древний запрет стали смотреть сквозь пальцы, лишь раз или два в году кого-то ловили и пороли. Но все же это было совсем не то, что в прежние-то времена, когда за неподчинение общегородским распоряжениям полагалось единственное наказание — на кол, и милостью считалось, если семью провинившегося оставляли в живых и лишь изгоняли из города…
Вторая из площадей называлась Рыночной. Она была сплошь заставлена лотками, палатками и навесами торговцев, забита телегами, конями, слонами, верблюдами, ламами, ослами и волами. Говорили, что здесь можно купить все на свете, но это было не так. Купить здесь можно было лишь то, что производила Империя, к примеру, клюквы или рябины из северных лесов тут не было, даже сушеных, а когда-то Сара так любила приправлять ими свои снадобья.
Третья называлась Сенной, потому что тут расположились торговцы всяким гужевым транспортом, животными, их кормежкой и всем, что требовалось для тяглового скота. Еще тут расположились разные менялы с банками для монет, их подмастерья, охранники и воришки, разумеется, которые промышляли тем, что с этих банок, то есть скамеечек, пробовали стибрить шекель-другой… А если повезет, то и динар или безант… Но если их ловили, то отрубали руку. Поэтому тут расположились еще и палачи, оружейники и чуть в стороне — кузнецы и торговцы всяким металлическим хламом. Между кузнецами и менялами в относительно тихом квартале оказались ювелиры, а чуть дальше от центра — знахари, шаманы, колдуны и… врачи, разумеется. Сара подняла свою Жару чуть повыше. Мантикора уже начинала уставать, все же до Таби-Скум ей было далеко.
И четвертая площадь, когда-то самая приятная для Сары, называлась Невольничьей. Здесь находился едва ли не самый богатый в этих землях, а может, и по всему берегу Южного океана невольничий рынок. Отличное место, и кого здесь только не продавали, навесив на шею петлю, ошейник или просто завязав полоску кожи. Отличное место… Для тех, кому удавалось справиться с запахом. А запах был настолько отвратный, настолько бил даже не в нос, а буквально прошибал все тело любого, кто сюда вступал, что чувствовался даже на высоте, на какой оказалась Сара. Она оглянулась.
Харлем летел по узкому кругу, чтобы сэкономить силы, и чуть ниже. И до него этот запах — смерти, неволи, испражнений, пота, слез и горя, запах отчаяния и обреченности — долетел ощутимо. Управитель даже попробовал было исправить положение, облететь площадь, но Немирный очень внимательно следил за Жарой и не хотел ничего менять. А так как наездник из Харлема был аховый, он чуть не вылетел из седла, когда начал совершать маневр, и, кажется, на этот раз действительно потерял стремя… Сара снова хохотнула разок и пошла к Холму, теперь напрямую.
Она отдала Жаре мысленный приказ, и та двинулась чуть быстрее и стала набирать высоту… Чтобы угнаться за ней, прибавил ходу и Немирный. Харлем, который все же усидел в седле, не упал с высоты и нашел стремя, теперь лег на шею своего летуна и судорожно вцепился в поводья.
Они прошли над домами, которые еще могли считаться богатыми, но уже совсем не дворцами, потом еще над домами попроще, прошли над одной из внутренних городских стен, разбивающих город на отдельные районы… Сара еще раз осмотрелась. Справа от нее находилась гавань, ярко золотившаяся под солнцем, лишь местами перебиваемая туманной сиреневой дымкой, сплошь, почти до горизонта, заставленная кораблями, суденышками и лодками… На ее левом плече оставался лежать город, некоторые из его районов плотными и слитными языками уходили на холмы, поднимавшиеся в нескольких милях от стен. Зато впереди, за восточными стенами, находился тот самый холм Трех Святилищ. На взгляд с высоты — не очень большой, не слишком крутой, местами даже пологий, но пустой — особенно после многолюдности и застроенности прочих районов Басилевсполя. Заросший у основания кустарником, а потом и почти настоящим лесом из высоких южных тополей и раскидистых кедров. Да, здесь, как и в северных лесах, кедры еще сохранились, но их было так мало и они были такими дряхлыми, что орехов добиться от них было невозможно. Почему они перестали плодоносить, Сара не знала, зато отлично помнила то время, когда это плодоношение прекратилось — почти год в год в то время, когда род басилевсов выбрал изображение кедра себе в символ и украсил им штандарты и щиты дворцовых охранников и даже собственные доспехи императора. Была в этом какая-то магия, вот только Саре не хотелось в этом разбираться, у нее были дела и поинтереснее.
Теперь следовало сделать самое главное. А потому она чуть придержала Жару, чтобы Немирный с Харлемом на шее смог их догнать. Сара даже крикнула своему советнику или мантикору — как посмотреть:
— Теперь держись!
И стала читать заклинание перехода… Вот его-то она могла читать, в отличие от сложного управления ветрами, едва ли не автоматически, скороговоркой… Только это было неправильно. Нужно было вызывать перед глазами начертание древних иероглифов, произносить каждый звук отчетливо, громко и чисто. Иначе можно было попасть в такой переплет, что об этом и думать было страшновато.
Но все получилось неплохо… Словно бы из необозримой высоты, из голубеющего неба на них опустился серо-бурый, местами пронизанный едва ли не дождем, облачный колодец, он стал сжиматься, затем загустел, стал плотнее… И все, они оказались в Верхнем мире. Небо тут было серым, видеть дальше считанных верст было трудно, но разобрать, что творилось «на земле», все же удавалось.
А «на земле» не было почти ничего… То есть земля, конечно, была. Это была грубая, нежилая, совершенно пустая земля, лишь кое-где виднелись островки зелени, то ли кустов, то ли простой травы. И никакого города не осталось и в помине. Общий ландшафт казался тем же: такие же холмы, на которых там, в Нижнем мире, расположились дворцы знати и богачей, торговые площади и места развлечений. Но это было уже совсем другое место — опасное, жестокое и очень тихое. Жара, как обычно во время таких переходов, ревела не останавливаясь. Может быть, от ужаса, а может быть, от магического выплеска, который потребовал и от нее этот переход из одного мира в другой.
Собственно, только мантикоры, насколько было известно Саре, и могли совершать этот переход с наездником. Еще, конечно, могли менять миры драконы, которые тоже были очень сильными магическими зверями. Где-то на Севере, как читала Сара, так могли переходить из одного состояния в другое большеноги, беовульфы и единороги. Но с ними Сара, разумеется, не экспериментировала. Она знала, что это очень опасно, куда опаснее, чем экспериментировать с мантикорами, к которым она, за столетия своей практики, в общем-то привыкла.
Еще в ее замок из Нижнего мира вел специально прорытый магический тоннель, подземный переход, которым обычно и пользовались некоторые из ее слуг и тот же Харлем… Она оглянулась, вспомнив о нем. Старик едва не потерял сознание на этот раз. Если бы такое случилось, он наверняка свалился бы вниз, и это было бы для него, разумеется, смертельно. Но на этот раз он выдержал, усидел в седле. Даже поднял руку, чтобы показать Саре, что все в порядке. Он, наверное, надеялся, что она о нем хоть немного заботится.
Немирный тоже ревел, но короче, злее. Тело у него ослабело, но ярость и самоуверенность оставались прежними. Сара решила, что пора прибавить ходу. И потому что все прошло относительно нормально, и потому что ее Замок, ее настоящий Замок, выстроенный на холме Трех Святилищ, вернее, на том месте, которое так называлось в Нижнем мире, теперь был виден, возвышался перед ней и ее спутником.
Это был дивный замок. Сара и сама так думала, да так оно и было. Высокие темные и острые башни возносились к серому небу, будто стрелы, нацеленные в самих богов, тяжкие и крепкие стены вовсе не казались грубыми и массивными, а лежали несколькими поднимавшимися к донжону ожерельями, создавая едва ли не впечатление кружева. Причудливые и не всегда даже различимые от древности украшения стен и башен вовсе не привносили впечатления избыточности, неуместности, но почти везде и всегда странным образом вписывались в строгие требования необходимости и разумности. И замок был велик, куда больше, чем жилище Джарсин Наблюдательницы, о котором Сара Хохот выведала довольно много разных подробностей и самыми разными способами, иногда и жертвуя теми агентами, которые приносили ей чертежи и схемы произведения Джарсин. Но все же весь замковый комплекс Сары казался на диво компактным, плотным и крепко сбитым воедино.
Возможно, причиной тому было близкое море. Вот оно — плещется, как и положено, как и в Нижнем мире, всего-то в полулиге от стен, под холмом, разбивает свои валы на камнях, но всем известно, кто бывал в Верхнем мире, что плавать по нему невозможно… Каким-то удивительным образом вся эта кажущаяся необозримой масса воды всего-то в считанных милях от берега захватывала любой корабль, окружала несущимся куда-то течением, которое невозможно было одолеть, и уносила… Куда — этого никто не знал, но таков был закон Верхнего мира, необходимость, угодная богам.
Сара выбрала один из подвесных мостов между двух башен, не самых высоких, но достаточно крепких, чтобы удерживать его. Мост к тому же имел посередине изрядное расширение, чтобы там свободно приземлялись мантикоры. На мосту пока никого не было, но Сара знала, что постовые в замке уже видят хозяйку и даже отданы, скорее всего, необходимые приказы, а солдаты и рабы бегут со всех ног именно туда, куда она нацеливала сейчас свою Жару… Сара не зря внушила капитану стражи замка умение магически читать ее намерения. Это помогало поддерживать дисциплину, а еще было нелишним вот в таких случаях. Да, офицер сообразил, что она делает и куда намерена садиться, и скоро все будет в порядке.
Так и получилось. Не успели Жара с Сарой и Немирный с едва дышащим от усталости и пережитого волнения Харлемом коснуться покрытия подвесного моста, как из обеих башен показались воины и рабы, бегущие им навстречу. Воины привычно выстроились, чтобы приветствовать повелительницу, а рабы принялись обихаживать мантикор, которых она заставила сегодня потрудиться.
4
Вылезать из седла было все же не очень легко. Наверное, решила Сара, дело не в том, что полет был трудным, а в том, что она не отдохнула после предыдущих своих приключений. Это было не слишком здорово, но кто бы другой из смертных, не падая с ног от усталости, сумел проделать все, что пришлось совершить ей, сумел слетать на дальние южные острова — пусть бы просто из любопытства и для развлечения? Да, пожалуй, и архимагам, если они не владели секретами преодоления пространства, это было не под силу.
Капитан стражи, подбежав к Саре, попробовал доложить, как обстоят дела, будто подлинному командиру, но она от него отмахнулась. Одернула плащ и платье, подняла руку, будто необходимо было снять полетную маску с лица, и лишь тогда вспомнила, что для этого короткого перелета решила ее не надевать, а потому, чтобы оправдать этот жест, поправила волосы. Посмотрела, как к ней, согнувшись от натуги и внутренней боли, подбирается Харлем.
— Ты стал немощен, мой главный управитель, — прозвенел ее голос, и на миг на площадке стало тихо. Даже рыки мантикор, на которых надевали петли, чтобы увести в вольеры, смолкли.
Так бывает, когда долго не приходишь в Верхний мир, слишком много времени проводишь в Басилевсполе и уже не помнишь, что со звуками здесь постоянно происходят какие-то чудеса. То ли голос меняется после перехода из Нижнего мира, то ли Сара и на самом деле не рассчитала силу своей глотки… А голос у нее бывал иногда чудным, словно бы жил по своим малопонятным законам. Она попробовала говорить потише.
— Ты все же выпрямись, Харлем, выпрямись.
— Я пробую, госпожа, но я и впрямь немощен для таких вот упражнений.
— Это не настоящий полет, советник, это — всего лишь прогулка для удовольствия.
— Я счастлив доставить тебе удовольствие, госпожа моя, но осмелюсь заметить, что и она имеет свою цель.
Это было дерзостью, и полагалось бы Харлема как-нибудь наказать, но Сара с этим не спешила, потому что слишком часто и сильно шпынять старика было неразумно, ведь советники на то и существуют, чтобы подавать свой голос, когда дела того требуют.
— Хорошо, — согласилась она, на этот раз мрачнее и задумчивее. Повернулась к капитану, от доклада которого отмахнулась: — Возьми две дюжины солдат и пошли со мной… Да, и где здесь ключница? Пусть немедленно явится.
— Слуги собрались в главном зале, госпожа, ждут твоих указаний.
— Мне некогда бродить по этим… — Сара фыркнула, — главным залам. Пошли кого-нибудь за ней, пусть догоняет нас. И быстро!
Они двинулись по замку. Вот сейчас Сара, пожалуй, отчетливо разозлилась, потому что путь ей предстоял неблизкий и нужно было идти долго и нудно, спускаться по всем этим лестницам и переходам вниз, вниз, все время — вниз. Хотя, с другой стороны, следовало признать, что это могло и успокоить ее немного, привести в чувство, как говорят смертные. В любом случае, появлялось время прийти в себя после перелета и сделаться холодной, отстраненной и невозмутимой, как обычно держит себя Джарсин, какой она предстает перед всеми остальными архимагами.
Подземелья замка оказались более мрачными и сырыми, чем Сара помнила. Они наводили ужас и тоску, даже солдаты, следующие за госпожой, ежились, гремя своими доспехами. Она почувствовала их настроение и пошла еще быстрее. Вот только Харлем не мог за ней угнаться, тогда его под руку взял капитан и еще кто-то, наверное один из сержантов… Да, успокоиться ну никак не получалось.
— Харлем, поторапливайся. Капитан, мы скоро будем на месте, где ключи от лабораторий?
— Ключница спешит сюда изо всех сил, госпожа.
Вот тогда Сара прислушалась, и где-то впереди, определенно перед ними, кто-то визгливо по-женски причитал, или пробовал командовать, или делал то и другое одновременно. Получалось глупо, но она кивнула.
Когда-то место, куда ей следовало теперь идти, она знала очень хорошо. Но сейчас подзабыла некоторые повороты, некоторые коридоры, и, хотя они были пусть и скудно, но освещены факелами, она их не узнавала. Не могла вот так сразу припомнить, какой из этих проходов куда был направлен.
Но вот впереди голоса послышались уже разборчиво. Сара повернула за резкий выступ стены и увидела наконец, что капитан не соврал, ее ждали. Это была, вероятно, одна из ключниц, как их тут называли. Невысокая, почти карлица, нестарая еще женщина в простом грубоватом платье, складками которого эта дурища пробовала скрыть наросшие свои жиры, что при ее-то росте производило ужасающее впечатление. Ключницу сопровождали какие-то девицы, все они согнулись в очень низком поклоне, едва ли не восточном, но Сара не любила, чтобы перед ней так вот распластывались, это занимало много времени. Хотя сама ключница, карлица эта в нелепом одеянии, все же поклонилась правильно.
— Ты, — сказала ей Сара, — пойдем со мной, остальным курицам — остаться. А теперь подскажи, где здесь основная моя лаборатория?
— Осмелюсь заметить, превысокая госпожа, что… — Дыхание у ключницы тоже было сбитым, как и у Харлема. Тогда-то Сара поняла, что карлица не сама бежала, а ее несли на руках все те девицы, которые оказались при ней.
— Да? — резко повернулась к ней Сара.
— Мы стоим перед ней, высокомудрая.
Сара успокоилась. Еще разок оглядела солдат, которые теперь пробовали выстроиться за спиной своего командира.
— Тогда открывай.
Карлица вытащила из складок платья у пояса связку ключей на большом кольце. Потом еще одно кольцо с ключами более старыми, бронзовыми и тяжелыми, с некоторым сомнением поглядела на первый набор, затем уже решительно подхватила вторую звенящую гроздь и подошла к стене, которая ничем не отличалась от прочих. Вообще-то тут горели два факела на расстоянии всего-то пяти-шести шагов. И вот между ними Сара заметила наконец-то едва различимую на нарочито грубо обработанной поверхности камня замочную скважину, хотя щель между створками дверей она не видела — ее глаза еще не привыкли к сумраку этих коридоров, размытому к тому же слишком частой и резкой сменой теней и каменных выступов.
Но ключница с ключом угадала и с замком справилась вполне уверенно. Двери разошлись в стороны, причем оказались даже шире, чем Сара ожидала. И перед архимагичкой раскрылся вход в лабораторию.
Когда-то она проводила тут массу времени, даже приказала сделать небольшую комнатку, где отдыхала после своих экспериментов и где иногда, в ее отсутствие, обитали ее подручные… Теперь же, как выяснилось, она забыла дорогу и сюда.
— Харлем и капитан, с факелами за мной, остальным — ждать.
Она вошла. Лаборатория была очень высока, потолок ее терялся во тьме, который не могли разогнать даже те два факела, которые капитан поднял повыше. Тут были, как в любой лаборатории, столы, каменные, простые, мраморные — отполированные и вылизанные до такой гладкости, что на них не смогла бы усидеть и крыса… Впрочем, крыс тут, наверное, уже давно не было, потому что — Сара усмехнулась — крысы были все же довольно смышлеными зверьками, и это делало их боязливыми перед настоящей магией. А она в прежние годы иногда устраивала такое, чего и сама порой не понимала, как что получается.
Чуть в стороне, у стен, столы были деревянные, порой изысканные, как в кабинетах тех нобилей, которые считали себя в Басилевсполе первыми, солью мира; а иногда неструганые, грубые, словно бы строительные леса работяг, которые умеют только складывать камни и замешивать раствор, их скрепляющий.
Еще вдоль стен были развешаны полки, а чуть дальше, в стороне от них, находились стеллажи, на которых стояли и приборы, и инструменты, и какие-то прочие штуки, необходимые для изготовления действительно сложных магиматов. Да, когда-то именно это и привлекало Сару, и что она в этом интересного находила? Сама бы она теперь на этот вопрос не ответила.
— Пусть здесь будет побольше факелов, капитан, так много, как ты сможешь найти… Только быстро, прикажи собрать их из коридоров, — сказала она. — И сверху пусть принесут новые… Я не хочу возвращаться в темноте.
Капитан вышел, передав оба факела Харлему, и негромко, но зло принялся отдавать приказы. Его подчиненные тотчас забегали, им бросились помогать некоторые из тех девиц, которые явились сюда с ключницей. А сама карлица, по-прежнему стоя в дверях, так и не решившись никуда уйти, озиралась со страхом и лишь чуть оттопырила нижнюю губу в брезгливости, свойственной таким хозяйственным женщинам, к тому же наделенным властью, при виде запустения и грязи. Неожиданно она решила высказаться:
— Госпожа, если бы ты только одним словом или взглядом указала бы нам, что тебе снова захочется оказаться тут, мы бы…
— Как я могла, дура ты стоеросовая, если сама еще пару часов назад не знала, что окажусь здесь? — обругала ее Сара. — Знаешь что, иди, стой за дверью и жди, пока тебя позовут.
Карлица поклонилась и, мелко перебирая ножками, удрала. Харлем, хоть и остался стоять с неподвижным лицом, кажется, не одобрял свою госпожу. Сара едва подавила в себе желание наорать и на него тоже. Но эти ее крики все же имели смысл, факелы, принесенные солдатами, немного да разогнали тьму. После этого Харлем, уже понимая, что сейчас будет, выгнал стражников, отдав приказ, не повышая голоса, собственно, едва шевеля губами.
Сара осталась со своим советником вдвоем. Двери Харлем приказал тоже, на всякий случай, закрыть. Света все равно было маловато, но иного от всех этих дармоедов и приживал ждать не приходилось. Сара, чуть подобрав платье кончиками пальцев, вышла в центр лабораторного зала… Света тут было еще меньше. Может, подумала Сара, вернуть солдат, пусть расставят факелы иначе?
Нет, и так сойдет, решила она. И сделала еще с дюжину шагов. И оказалась перед одним из главных магиматов, которыми владела. Это был Постамент, довольно сложный прибор, позволяющий архимагам… наносить почти очные визиты друг другу. Когда Джарсин только настаивала, требовала и даже немного торговалась, чтобы их расставили в главных обиталищах каждого из них, из девяти архимагов, это место, лаборатория, было настолько обитаемо, что Сара решила установить его именно здесь. Тогда это показалось ей удачным решением. Сейчас бы она унесла его еще глубже в подземелье, в самые дальние и мрачные залы, где, вероятно, эти подземелья и заканчиваются… Ведь они где-то да заканчиваются, не так ли?
— Харлем, подойди.
Главный управитель подошел не так быстро, как ей бы хотелось. И тогда Сара вгляделась в него. Это был довольно старый, но действенный прием, который она любила использовать в юности. Если смотреть, с ее даром понимать состояние другого существа, в того, кто разглядывает тебя, оказываешься как бы… да, как перед зеркалом. Только не совсем чистым — из отполированного серебра или перед ртутным, дорогим и сложным, а перед чуть искажающим облик зеркалом впечатлений того существа, которого используешь, с его отношением к тебе, и его, этого существа, видением тебя. На этот раз то, что она рассмотрела про себя в Харлеме, ей не понравилось. К тому же он был слишком вялым, усталым и тупым сейчас, чтобы в полной мере отозваться на ее магию.
— Хорошо, начнем, — решила Сара и еще раз поправила волосы.
В глазах Харлема она выглядела почти фурией, с растрепанной прической и очень, просто невыносимо злым лицом. С лицом она ничего сейчас поделать не могла, зато вот — пригладила волосы.
Сара еще раз посмотрела на Постамент и стала читать заклинание, которое на медной табличке были прибито у основания каменной тумбы в локоть высотой, поднимающейся над полом шестнадцатиугольником. Она читала, читала, потом завершила. Ничего не происходило. Сара даже подумала, что где-нибудь ошиблась и заклинание следует повторить, но…
Постамент проснулся и стал набирать силу, рассыпая в этом высоком и гулком помещении странный звук, который переливался сначала, будто стук и звон бусинок, рассыпанных по каменному, звонкому полу, но затем затвердел и превратился в низкое и ровное гудение, словно грубый и неживой камень и вправду ожил, и таинственную свою силу стал разбрасывать вокруг уже так мощно, как мерно и быстро работающая машина… Затем над ним слабо, едва заметно стал светиться воздух. Сара поняла, что все сделала правильно и теперь оставалось только ждать.
И вдруг словно бы бесшумный взрыв вырвался из Постамента — снизу вверх, и каменная подставка засветилась едва ли не ярче всех факелов, собранных тут, а потом свет определился уже как прозрачный столб или как светящийся стеклянный сосуд, внутри которого… Да, внутри этого сосуда, уходящего своим свечением вверх, в темную высоту лабораторного зала, находилась Джарсин Наблюдательница собственной персоной, живая, дышащая, в чуть раздуваемом от какого-то тока воздуха, которого тут, в зале Сары, не было, платье. Она огляделась, потом, чуть наклонившись, поправила платье и снова огляделась, вытягивая от напряжения шею и прищурив глаза.
Она была соткана сейчас из света, неверного, голубовато-синего или серо-зеленоватого, порой чуть более темного, едва ли не переходящего в какой-то сложный оттенок фиолета, но все же — света. Она еще раз наклонилась вперед, хмыкнула, по лицу ее пробежала довольная усмешка, определенно она хотела улыбнуться. И произнесла, причем звук ее голоса разнесся так сильно и уверенно, будто бы она сама находилась тут, в лаборатории Сары Хохот:
— Думала, ты только в зеркала смотришься, Сара, — проговорила она своим тяжким и звонким, как удары в гонг, голосом. — А ты еще и работать пробуешь…
И лишь проговорив это, она поняла, что ошиблась… Потому что оттуда, где она сейчас находилась, ей стали наконец-то видны и эти грязные, запущенные и пыльные приборы, пустые сосуды и неработающие соединения стеклянных трубок, колб и бронзовых штативов, а также давно не мытые столы и, может быть, до нее дошел этот нежилой, спертый и сырой воздух.
Теоретически, по законам и правилам работы Постамента, она сейчас могла бы совершить некоторые магические действия и шагнуть с этой каменной подставки прямо сюда, в зал. Но она не собиралась этого делать, и Сара отлично понимала — почему.
Пока она, Джарсин Наблюдательница, находилась тут в этом световом воплощении, она была практически неуязвимой, то есть можно было бы выстрелить в нее из арбалета или ударить мечом, но… Даже заколдованная стрела, заряженная магией, или волшебный меч не причинили бы ей сколько-нибудь серьезной раны, это было невозможно, это была одна из форм защиты, которую Постамент обеспечивал неукоснительно. Также она могла в любой момент исчезнуть куда легче и точнее, чем привидение, чем дымка над водой ранним утром, чем световая черточка от падающей звезды… Добраться до Джарсин в таком ее виде не представлялось возможным, как бы Саре этого ни хотелось. Да ей не очень-то и хотелось, она знала: если Наблюдательница вызвала ее, значит, тому были иные причины, нежели примитивная враждебность, издавна существующая между архимагами.
— Я слушаю тебя, Джарсин, — отозвалась Сара.
Джарсин даже улыбнулась, она знала, что соперничество архимагов, их магические силы, накопленные за века и века опытов и экспериментов, каждого из них делали для любого другого архимага самой желанной добычей, самым желаемым призом в бесконечной войне, которая то возникала, то затухала… И так было всегда, пока не сложилось вот это относительное равновесие присутствующих в мире девяти архимагов… И хотя это был очень условный мир, способный в любое мгновение обратиться в войну, на него все же следовало надеяться.
Джарсин еще раз поправила платье и вгляделась в Сару внимательно. Теперь и через световое воплощение Джарсин, через ее лишь свето-магическое присутствие, Сара ощутила давление этого внимания, его силу, протянутую сейчас на тысячи миль из замка Джарсин в Верхнем мире сюда, в лабораторию ее собственного замка.
— Сара, — проговорила Джарсин уже чуть спокойнее, потише, но и уверенней, — нужно, чтобы ты сделала кое-что для меня.
Сара выпрямилась, стала даже в чем-то похожа на Джарсин, будто бы тоже находилась в световом столбе, да так, собственно, и было… У себя Джарсин могла видеть ее на таком же или очень похожем Постаменте, хотя, как вызвавшая сторона, она могла еще немного видеть и то, что ее окружало, возможно, как неровную, колышущуюся картинку.
— Я ничего просто так не делаю, — отозвалась Сара.
Джарсин определенно обо всем уже подумала и знала, как и что следует говорить, но почему-то изобразила раздумье. Даже лоб свой, белый и высокий, чуть собрала складками… Вот только мимика ее была ненатуральной, Сара это видела и отлично чувствовала, потому что Наблюдательница десятилетиями не видела лиц неподчиненных ей существ и забыла, каково это — изображать задумчивость.
— Я полагаю, что мы можем сыграть… Обычный поединок, не очень сложный и с самой необходимой для этого магией, если ты не против. Один твой боец против одного моего.
Это был обычный способ добиться чего-то от архимага согласно давно утвержденным отношениям между ними. Просить или торговаться — было неправильно для всех этих девяти повелителей и господ Верхнего, а следовательно, и Нижнего миров. Зато сыграть на что-то, рискуя, разумеется, лишь чужими жизнями, — это подходило их характерам и особенностям, их взгляду на мироустройство.
— С самой необходимой магией?… — протянула Сара, раздумывая.
Разумеется, ни о какой сколько-нибудь честной игре с Джарсин не могло быть и речи. Она определенно надеялась на победу, иначе зачем бы она пробовала уговорить на это Сару?… Но, отказавшись от игры, Сара ничего не узнает о намерениях и целях самой Наблюдательницы, а этого допустить она не хотела. Да это и опасно было, потому что тогда Джарсин могла бы ударить неожиданно и уже без соблюдения обычных для архимагов правил.
— Что ты ставишь, Джарсин?
Об этом Наблюдательница тоже подумала, она уже не пробовала показать какое-либо сомнение или замешательство.
— Ты получишь возможность ходить к Южным берегам, Сара. Большей ставки этот поединок определенно не стоит.
«Стоит или нет, — подумала Сара, — выяснится, может быть, лишь через много лет, когда станут понятны твои настоящие, подлинные планы и намерения». Но тут же ей пришло в голову, что на этот раз будет по-другому, на этот раз цели Джарсин, смысл ее предложения станет понятным очень скоро, может быть, уже через считанные дни, либо — в крайнем случае — через недели. Это было так же ясно, будто Джарсин призналась ей в этом.
— Южные моря и берега Дальнего континента, считай, и без споров — мои, Джарсин. Мои корабельщики, работорговцы и исследователи ходят туда без труда. Ты вряд ли сможешь мне помешать.
— Не будь так уверена, девочка. Я не мешала тебе до сих пор, но это не значит, что у меня нет способа оказать тебе противодействие в этих твоих… походах на юг. — Джарсин даже позволила себе улыбнуться. — Возможно, очень скоро то тут, то там у тебя будут возникать сложности, иногда весьма неприятного свойства. — Она чуть промолчала, гул от Постамента стал на этой паузе очень громким, он как бы заполнил эту мимолетную тишину. Джарсин продолжила со значением: — Зато, если мы сыграем, ты получишь от меня если и не поддержку, то — полный нейтралитет. А в одиночку никто не посмеет с тобой соревноваться за обладание Южными берегами, что бы ты там ни решила делать. Хоть города новые выстраивай или новые земли под себя забирай.
На самом деле это было не так уж и мало… Более того, это было щедро, весьма щедро. Потому что было правдой. Без участия Джарсин никто не мог бы помешать Саре осваивать в том или ином виде Южные берега, а вот если Джарсин осуществит свою угрозу, Саре на этих землях определенно делать будет нечего… Да, это было щедро. И уже одна эта щедрость вызывала сомнения, потому что просто так, без каких-то весьма сложных и далекоидущих планов, такие предложения архимагами не делаются.
— А что должна на кон поставить я?
Лик Джарсин снова исказила попытка изобразить размышление.
— Полагаю, ты могла бы поставить Единственное Подчинение. Это равноценная ставка.
А вот над этим следовало уже думать. Сара и попробовала, хотя по-прежнему ощущала давление того внимания, которое Джарсин на нее обращала, и это сильно ей мешало.
Единственное Подчинение было довольно старой формой зависимости одного мага от другого, этот обычай насчитывал уже много тысяч лет и почти всегда срабатывал… Хотя и разные за всю историю магов возникали недоразумения и выпадали самые разные случаи. По сути, это было согласие исполнить любое приказание единственный раз. Правда, при этом имелось несколько условий.
Например, исполнение приказа не должно было нанести физический или какой-либо иной вред подчиненному, хотя теоретически это могло случиться во время выполнения магической работы. Также в течение некоторого времени подчиненный не должен был мстить тому, кому обещал Подчинение, или создавать иное сопротивление по другим каким-нибудь причинам и с иной мотивацией.
Еще, что довольно часто происходило и в прежние времена вызывало споры и даже столкновения между магами, Подчинение могло не иметь срока давности, иногда и через десятилетия маг подчиняющий имел право заставить подчиненного исполнить эту свою разовую волю, если, конечно, срок действия этого обязательства не был обговорен заранее, не входил в формулировку условий возникшего спора.
Но самое главное, маг-господин не имел права требовать от подчиненного Присягу Долженствования, куда более сильную, более мощную и всеобъемлющую формулу, символ передачи своей воли и возможной службы, едва ли отличающуюся от подлинной вассальной зависимости, существующей в Нижнем мире среди смертных. Как правило, Присяга всегда и для всех магов и архимагов имела некий срок подчинения, редко, очень редко выходящий за пределы нескольких недель. За всю историю архимагов ни одному из них не приходилось приносить Присягу более чем в считаных случаях и, как правило, только для ведения какой-то сложной и трудной магической войны…
Да, Единственное Подчинение — это было немало, совсем немало, но, для того чтобы получить нейтралитет Джарсин Наблюдательницы в покорении Южных берегов — а в исходе этой своей экспансии, если развернуть ее по всем правилам, Сара не сомневалась, — иной цены, может быть, и не существовало вовсе.
И все же Сара раздумывала. Автоматически, согласно природе своего магического искусства, она быстро, почти мгновенно и не слишком заметно попробовала прочитать мысли Джарсин. Пусть не мысли, но настроение — чтобы осознать, насколько Бело-Черная ее сейчас обманывает. Но обмана не почувствовала, возможно, потому, что Постамент и в этом оказывал существенное противодействие, а может, желания перехитрить Сару у Наблюдательницы и на самом деле не было…
— Джарсин, ты требуешь много… И всего-то — один поединок. — Сара тоже улыбнулась, но почувствовала, насколько теперь и у нее это выходит натужно и неубедительно. — И такая высокая ставка?
— Южные берега этого стоят, — пожала плечами Джарсин.
Сара опять призадумалась.
— Я соглашусь на это, только… если игра, поединок состоится тут, у меня, на арене Колизея Басилевсполя.
— Ты давно не устраивала гладиаторских игр? — высказалась Джарсин. — Не забыли ли твои слуги, как это делается, ведь стараться при подготовке придется им?
Это она знала наверняка, в этом огромном городе у Наблюдательницы, без сомнения, имелось немало шпионов, которые доносили ей обо всем… А если и не обо всем, то о многом уж точно.
— Устроить игры нетрудно, у меня тут всегда есть кого заставить и кого подкупить, чтобы все получилось наилучшим образом. Я же одна из нобилей города. — Сара оборвала себя. — Да, поединок на здешней арене — это мое непременное условие. Ни на что другое я не соглашусь. — Она добавила со всей твердостью, на какую была способна перед Джарсин: — В конце концов, это ведь ты предлагаешь выиграть у меня Подчинение, а мне это вовсе не нужно.
— Кто будет драться с твоей стороны? — спросила Джарсин, словно бы и на самом деле этого не знала. Но это прозвучало совсем уж неубедительно. — Ах да, на такие поединки ты всегда выставляешь одну из своих бойцовых мантикор… Не очень удачный выбор.
— Там будет видно, — отозвалась Сара Хохот. — А кто будет драться за тебя?
— Один из рыцарей моего Ордена. — Джарсин снова попыталась дружески улыбнуться, будто бы могла питать к Саре симпатию. — Демоник…
— Ты настолько уверена в победе твоего бойца?
Это было еще одним сигналом тревоги, над этим тоже следовало бы подумать, но было уже поздно. Любую неуверенность Сары архимагичка Джарсин могла бы использовать в свою пользу, и с этим приходилось считаться.
— Я надеюсь, — произнесла Джарсин, — что поединок произойдет очень скоро. Иначе и затевать все это глупо.
— Когда? — спросила Сара. — И как он придет ко мне?
Она все же выдала свое беспокойство.
— Нет. — Джарсин снова усмехнулась в своей ужасающей манере. — Я не высылала его к тебе в Басилевсполь заранее… Он придет через Постамент. Я проложу путь, но и ты должна будешь открыть для него вход.
Сара оглянулась. Харлем был бледен, по лицу у него текли крупные капли пота. И было странно видеть это в сыром, гулком и пронизывающе-холодном подземелье. Но таково было действие магической силы, которую умела использовать Джарсин, Сара подзабыла об этой ее особенности, зато теперь вспомнила. Это было очень сильное давление, даже странно выходило, что Харлем еще оставался на ногах, не упал без сил на каменные плиты пола.
Но при этом Сара поняла, что и сама попадает под власть дистанционного, дальнего напряжения, вызванного Джарсин, а значит, разговор нужно было заканчивать, да побыстрее. Она произнесла:
— Для твоего рыцаря я открою проход, это возможно. — Она все же не удержалась от еще одного, уже необязательного вопроса: — Кстати, как ты будешь наблюдать за поединком?
— Ты забываешь о моем прозвании, девочка… К тому же — Джарсин тоже определенно хотела закончить этот контакт, — в рыцаре горит моя искра. Так что — я увижу.
И резковато, будто бы разом погас свет дня и даже свет ночи, она убрала магический столб над Постаментом.
У Сары, как ни была она сильна и тренирована, в том числе и в магических возможностях к сопротивлению, все же подогнулись ноги. Она едва не упала, удержалась лишь чудом. А еще вернее, удержалась, потому что просто не могла позволить себе упасть, потому что даже через погасший Постамент Наблюдательница могла еще некоторое время видеть ее… Это Сара понимала очень хорошо, вот и справилась.
Зато теперь ей предстояло разобраться, во что же она, собственно, влипла. А это было труднее, чем даже устоять на ногах, а может быть, это ей и вовсе было не под силу. По крайней мере, до тех пор, пока Джарсин не объяснит, чего хочет от нее в этом Единственном Подчинении.
5
Подготовка к состязанию, что бы ни говорила Джарсин, заняла все же больше времени. Впрочем, это Сару ничуть не заботило, если уж Наблюдательнице хотелось все провернуть быстрее, то было полезно заставить ее подождать. Зачем нужно спешить, Сара не знала, но чувствовала, что в этом было что-то довольно важное для Джарсин, поэтому она от неповоротливости своих распорядителей и сенешалей получила даже определенное удовольствие. На всякий случай она приготовила оправдание, мол, негоже делать для такой высокой гостьи и для такого спора все наспех, кое-как, лишь бы свести на арене пару бойцов, а следовало постараться. Вот и получилось, что Колизей стал наполняться толпами смертных, жадных до бесплатных и роскошных зрелищ, лишь на утро пятого дня.
Зато и гладиаторские игры должны были получиться на славу. Теперь не одну неделю станут судачить и гадать, отчего Сара расщедрилась и зачем это ей понадобилось? Вот только до настоящей причины им, всем этим убогим смертным, додуматься было не суждено, в этом Сара была уверена.
Собираясь на игрища, она приоделась. Выбрала себе тунику из тонкого шелка, редкого во владениях басилевса, а поверху облачилась в подобие настоящего пеплоса из суховатого, чуть скрученного льна, с кантами темно-серого цвета, застегнутого фибулами из самородного серебра, изображающими мантикор. И диадемку на голову водрузила, тоже серебряную с небольшим добавлением платины, в которую были оправлены меленькие, лишь с ноготь мизинца, бриллиантики.
Когда она посмотрела на себя в зеркало, то осталась довольна. Даже с некоторым изумлением подумала, что за все время, что ее наряжали, ни разу ни одну служанку не ударила. Наверное, задумалась о том, как теперь с Джарсин обращаться и как распорядиться выигрышем, когда ей достанется победа.
В своей победе Сара не сомневалась. Потому что выбрала для поединка своего лучшего, самого свирепого и злого мантикора по кличке Сероплат. Это был ее лучший боец из всех последних выводков, тренированный для убийства, будто восточный меч, лет семи или чуть больше, в самом соку, в самой своей неукротимой силе и ярости. Он не мог проиграть, тем более одному-то бойцу Джарсин, пусть тот будет хоть трижды демоник. К тому же, как Сара давным-давно слышала, демоники по-настоящему превосходными бойцами не считались, слишком они привыкли полагаться на свое умение летать, прыгать и уклоняться от нападения. Но в этом и ее Сероплат должен был не сплоховать, он умел не то что прыгать сразу, с места ярдов на пятнадцать в любую сторону, но и кататься через спину, если чувствовал, что не успевает ускользнуть от прямой атаки, и действовал не только когтями на мощных лапах, но и крыльями, и всем корпусом, и еще хвостом, разумеется.
Да, в победе Сара была уверена, тем более если уж ее мантикору станет жарко, она решила не церемониться, а чуть помочь ему, незаметно так, магически. Джарсин ничего и не почувствует, не узнает, потому что она далеко, а вот Сара будет поблизости, над самой ареной. Нужно только выбрать момент, и тогда… Вот что будет тогда, она и раздумывала, покуда ее одевали.
Когда Сара уже была почти готова отправиться в Колизей, у входа в ее комнату вдруг послышался довольно странный шум. Она нахмурилась, решила даже, что вот это и есть тот случай, который позволит ей кого-нибудь из этих дармоедок, что крутились вокруг нее, отхлестать по щекам. Но дело вышло сложнее, это оказалась Яблона, она была чем-то чрезвычайно взволнована.
Одета она была скромно, умно распорядилась своим нарядом, чтобы казаться не более чем серенькой мышкой рядом со своей госпожой. Серый, совсем как бы и незаметный по цвету хитон, перехваченный какими-то цепочками, которые должны были в этой композиции объяснять ее несвободу от Сары, от ее повелительницы, очень скромные браслеты на руках и меленькая сеточка на волосах. Яблона низко поклонилась, явно не торопясь объяснить причину своего тут появления, Саре даже надоело это ее вежливое кривлянье.
— Чего тебе?
— Госпожа. — Яблона поднялась из своего поклона и поглядела на Сару. — Харлем, которого ты соизволила оставить в Верхнем замке, только что передал, что прибыл рыцарь-демоник Бело-Черного Ордена в доспехах и с оружием.
— Вот как? — Сара сделала вид, что пробует, прочно ли сидит на волосах диадема. — Он прибыл? Хорошо.
— Он сошел с Постамента, как ты и соизволила нас предупредить. Твои воины в замке обращаются с ним с осторожностью.
— Зачем? Нам он неопасен. Он боец, который будет выступать. Надо проявить радушие. Яблона, его следует как можно плотнее накормить, напоить и даже, если бы получилось, подсунуть ему пару-тройку каких-нибудь девиц погорячее.
— Мы предложили ему твое гостеприимство и даже больше, но он суров, он от всего отказался. — Яблона усмехнулась. Какие-то не в меру шустрые девицы тоже услужливо хохотнули. — Он выпил только немного воды из своей фляги и съел пяток маринованных слив в рисе, тоже из своей сумки.
— Где он сейчас? — спросила Сара, что-то в этих новостях ее взволновало.
— Я и пришла тебе сказать, что он идет по коридору между Верхним замком и нашим.
— Что же ты, дура, сразу не объяснила, а расписывать тут всякие… сливы принялась?
Сара оставила в покое диадему и резко зашагала от зеркала к дверям из своих покоев.
Меднокожая рабыня, которая стояла наготове с тяжелыми серьгами, которые Сара забыла даже примерить, побежала следом, Яблона оттолкнула ее и резво припустила за хозяйкой.
Путь к выходу из магического коридора, соединяющего Верхний и Нижний миры, Сара знала даже слишком хорошо. Она ходила тут столетиями, при желании могла бы идти с закрытыми глазами. Когда-то, когда каждый переход ей давался с большим трудом и сильной болью от преодоления магического барьера, эта дорога иногда снилась ей. Наверное, она была чрезмерно впечатлительной. Сейчас, когда по переходу ходили уже десятки самых разных существ, включая некоторых ее слуг, когда переход работал века и века, боль эта стала вполне терпимой, путь, что называется, накатался, стал торным и почти свободным.
Сара, впрочем, не стала подходить к выходу из коридора слишком близко, хватит и того, что она спустилась сюда, чуть не в самый дальний угол подвалов своего дворца здесь, в Нижнем мире. К тому же она уже ощущала действие магического тоннеля, он навевал на нее слабые волны беспокойства и обещал все ту же боль — от магического рубежа, который сейчас предстояло преодолеть рыцарю.
Коридор был освещен парой факелов, должно быть, Яблона распорядилась, зная, что по нему шагает этот демоник и кто-то еще, кто его сопровождает. Кто-то ведь должен его сопровождать, возможно, сам Харлем? Сара усмехнулась, Харлему за последние несколько дней пришлось раз десять, если не больше, то носиться в Верхний мир, то возвращаться сюда, в Басилевсполь. Иногда даже казалось, что от этих переходов он ослабел больше, чем от хлопот, которые на него свалились при подготовке гладиаторских игр. Ну ничего, усмехнулась Сара, крепче будет, если жив останется. На то он и главный распорядитель всех ее дворцов, крепостей и замков, чтобы хлопотать.
А вот как при этом поведет себя демоник, этот чудо-рыцарь из джарсиновского Ордена? Это было интересно увидеть и почувствовать. Сара обернулась. Сзади, за ней, стояли все та же глупая меднокожая рабыня с серьгами и Яблона, конечно. Понимательнице желаний магическое веяние перехода било в лицо, будто ветер из темного тоннеля, чуть разводя ее волосы, делая их даже красивее, чем они были на самом деле. Из-за этого Саре захотелось ее ударить. А вот рабыня окончательно обессилела, она явственно теряла сознание, но все же стояла рядышком, пусть и закатывала глаза, и колени у нее тряслись, как от дикого, небывалого страха. Но еще больше она боялась не оказаться под рукой с этими серьгами, когда Сара их потребует. Архимагичке это понравилось, она даже отвернулась, продолжая мучить меднокожую.
Но стоять так было все же глупо. Она спросила:
— Долго еще ждать?
— Госпожа моя, они идут, остались лишь мгновения.
Даже говорить Яблоне было трудно, голос у нее прерывался, несмотря на всю привычку к магии. Тогда Сара решила, что следует заняться каким-никаким, а все же делом. Она посмотрела на служанку.
— Давай серьги. Жаль, выбрать не получилось.
Она действительно могла бы выбирать серьги довольно долго, у нее с подходящими серо-серебряными было, наверное, шкатулок пятьдесят или больше… Чего уж скрывать, она любила серебро, в отличие от золота или даже платины, серебро не оказывало почти никакого влияния на ее магические способности, оно оставалось нейтральным, и иногда это было очень полезно, даже приятно. Вот у других архимагов, как она знала, такими нейтральными оказывались совсем другие металлы. Кажется, это было сугубо индивидуально.
Девушка, покачиваясь, будто тростинка под порывом ветра, сделала пару шагов и осторожно попробовала приложить серьги к ушам Сары. Но не смогла сдержать еще более усилившийся магический напор и поцарапала Саре мочку уха. Совсем чуть, даже крови, пожалуй, не выступило, но все же поцарапала.
— Дай сюда, — приказала Сара, взяла одну висюльку, почти с мизинец размером, нашла крючочек застежки, вставила в мочку, застегнула, взяла вторую…
И, удерживая ее в кулаке, одним неуловимым движением ударила служанку в грудь. Удар получился отменный, хлесткий, точный, по неподготовленному и незащищенному телу. Меднокожая отлетела шага на три назад и упала, странно, будто кукла, зашуршав платьем. Сара вставила в ушко вторую серьгу и повернулась к проходу. Все же она хоть кого-то да треснула, и сильно. Это было приятно.
— Вот он, — тихо произнесла Яблона.
Раздался отдаленный звук чьей-то тяжелой походки. Он приближался, становился громче. В магических переходах такое бывало, иногда звуки как бы истаивали, не набирали полную силу, зато в другой раз звучали гораздо громче, чем было положено по всем законам. Вот и на этот раз поступь воина, присланного Джарсин для спорного поединка, казалась чрезмерно звонкой, сильной, будто бы шагал не один солдат, а очень точно, в единый удар топала целая манипула, не меньше, слитно, мощно, неудержимо.
— Что же это за воин? — неожиданно спросила Яблона, она не повышала голоса, и ее вопрос потонул в этом приближающемся звуке шагов рыцаря Бело-Черного Ордена.
И вот он появился, вроде бы не слишком заметно вначале, лишь туман, что царил в магическом переходе, заклубился, расплескался плавными волнами. Обычный солдат, ничего особенного, не очень даже высокий, шел, не опуская голову под сводами перехода. Вокруг его плеч и мощной, немного коротковатой шеи разлетался медленными крыльями белый до снежности плащ, который скрывал не очень размашистые движения рук и оружие рыцаря. Оставались видимыми лишь темные и какие-то не слишком богатые доспехи, закрывавшие его грудь, живот и пластинами опускавшиеся на бедра. Ниже колен ноги его были закрыты поножами до таких простых калиг, что и иные из рабов не стали бы носить.
Он подошел к Саре, которая и не заметила, что сделала пару шагов назад, затем чуть дрогнул левым коленом, словно бы хотел опуститься, но передумал, его кулак взлетел к сердцу, он склонил голову и низким, непривычным голосом произнес:
— Приветствую тебя, госпожа.
— Вот ты и прибыл, рыцарь, — кивнула Сара. — Где Харлем?
— Он обмяк от боли, госпожа. Может быть, дойдет.
— Понятно. — Зачем-то Сара добавила: — Он немолод, рыцарь.
— Он не умеет выносить боль, — отозвался рыцарь. — Куда прикажешь теперь? — Лишних слов произносить он не привык.
— Ты поедешь теперь с нами на арену, в Колизей, рыцарь. Там тебя покормят, если ты захочешь, напоят, а спустя некоторое время выпустят для боя с Сероплатом.
— Моя Госпожа сказала мне, что ты предпочитаешь выпускать в поединки мантикор, — уронил рыцарь, будто бы соображая, стоит ли эти слова говорить, не покажется ли он чрезмерно болтливым.
— Да, Сероплат — это один из моих мантикор. Он тебе понравится.
Рыцарь опустил руку, и Сара на миг увидела, как его кулак с голубой, будто полированная сталь, кожей лег на рукоять недлинного, вполне обыденного на посторонний взгляд меча. В общем, в рыцаре не было ровным счетом ничего замечательного, если не считать, конечно, того, что он был демоником.
Сара еще раз вгляделась в его лицо. Очень светлые, почти белые глаза, белые, как в этой породе и было всегда, волосы, чуть пробивающаяся на скулах и на подбородке щетина. То есть он даже не позаботился, чтобы побриться, а ведь знал, что здесь, в Басилевсполе, издавна мужчины брились и борода либо даже щетина считались признаком невоспитанности. Лишь брови у демоника были русыми, но на его высоком и ровном лбу, над этими белыми глазами они казались едва ли не темными, пожалуй, даже темнее, чем у иных южных черноволосых рабов, которых Сара уже давно разучилась узнавать в лицо.
— Все, следует отправляться в Колизей, — решила Сара. — Тобой займется моя распорядительница Яблона. Она знает, что следует делать.
Повернулась и пошла наверх, к площадке перед главными дверями ее дворца, где уже давно должен был находиться ее паланкин и еще несколько других для челяди, которую она решила взять с собой на поединок. Через плечо она услышала голос Яблоны:
— Как тебя зовут, рыцарь?
— Меня зовут просто Шоф, госпожа распорядительница. Но зачем тебе мое имя?
— Чтобы быть вежливой, рыцарь Шоф.
Дальше Сара не слушала, неинтересно ей было, о чем там могут болтать эти двое. Она думала. Как же все просто получалось! Конечно, Джарсин, по ее мнению, никогда не была изобретательной в своих интригах, стремилась к простоте и ясности. Но на этот раз даже для нее все выходило слишком уж незатейливо. Это могло быть признаком чего-то более сложного, чем ее явное нежелание строить многоходовые комбинации.
Сара двигалась в паланкине через главные ворота в стенах, окружающих ее имение, и чуть морщилась от воплей бегущих поблизости, чуть не сразу за занавесями, глашатаев, требующих, чтобы ей уступали дорогу. Да, все получается как-то чрезмерно однозначно и просто. И в самой этой простоте могла бы таиться некая ловушка, если бы… Да, если бы не Сероплат. Выиграть бой у него всего лишь одному рыцарю, пусть и обученному, тренированному и умелому, каким и казался этот самый Шоф, не удастся. Потому что это невозможно.
Вот если бы Джарсин начинила его хоть какой-нибудь магией, если бы придала ему дополнительные возможности… Но этого не было, в этом Сара была теперь уверена, иначе бы она эти магические начинки почувствовала и тогда, скорее всего, сумела бы обезвредить. Но в том рыцаре, которого она увидела в подземелье своего дворца, разряжать было нечего. Значит, это была всего лишь взятка.
То есть южные земли, на которые Сара давно облизывалась и которые хотела бы получить, предложенные Джарсин, должны были некоторым образом подкупить ее. Но за что, для чего, почему? Это должно было выясниться позже. Скорее всего, не сегодня. Значит, пока можно попросту наслаждаться праздником, битвой обреченных на погибель, и ни о чем не беспокоиться.
Сара сошла из паланкина в одной из огороженных площадочек, пристроенных к Колизею снаружи, сюда могли приходить только она и басилевс, городским простолюдинам и даже прочим всяким, как бы благородным, сюда ходу не было. Так уж повелось, и давно, еще когда Колизей, собственно, строился. Процессия басилевса была уже тут, она состояла из челяди, охранников, прислужников, простых рабов и носильщиков, которые все, как и было заведено, склонились перед ней. Пожалуй, даже чуть ниже, чем плебеи на улицах города: выучены были и знали, что и как следует делать.
Сара поморщилась от слишком яркого солнца, которое лило свой свет с неба почти отвесно, нигде не создавая тени на этой белой скатерти из светлого ракушечника, которым был вымощен дворик, и пошла за одним из позванивающих золочеными цепями поверх лакейской туники служителей Колизея. За архимагичкой была закреплена большая ложа сбоку от главной, расположенной в лучшей точке для обзора арены и принадлежащей, разумеется, басилевсу. В Нижнем мире все же приходилось соблюдать некие этикетные условности и признавать правителя Империи как бы самым значительным лицом. Но с этим Сара уже давно примирилась, так было спокойнее, лучше и вернее.
Коридоры, по которым сейчас вел ее в ложу служитель Колизея, оказались не совсем те, по которым она привыкла ходить на свое место. Это были не торжественные, едва ли не парадные коридоры и лестницы, забранные драгоценными тканями и уставленные какими-то скульптурками, которые сами смертные полагали весьма ценными. Это были коридоры, пролегающие среди голых и высоких стен, из грубой, иногда уже начинающей ветшать кладки из блоков песчаника, пустые и тяжелые, и тут ощущался запах животных, а может быть, и запах всех тех помещений, которые находились под ареной. Сара поморщилась, но спорить с этим было бы нелепо. По парадным коридорам сейчас шествовал басилевс.
Главное, что она настояла перед сенешалем басилевса, чтобы эти игры были проведены, и ее слуги все успели подготовить. А то, что ей приходилось сейчас пробираться на свое место каким-то непривычным путем… Это, в конце концов, можно было и перетерпеть.
И все же Сара вздохнула с облегчением, когда добралась до принадлежащих ей помещений над ареной. Это были три комнаты. Одна большая, приемная, где Сара во время слишком уж долгих и утомительных игр принимала тех нобилей, которые решались нанести ей визит. Тут были и столы для угощения, разумеется уже накрытые, перед некоторыми даже стояли лежанки, чтобы вкушать яства привычным для местных образом.
Чуть сбоку имелась относительно небольшая комнатка, куда Сара, кажется, ни разу за всю свою непомерно долгую жизнь так и не заглянула. Это было помещение для слуг, которое иногда еще использовалось и для охраны, когда в городе бывало неспокойно, и как временный склад для того, что ей могло понадобиться, например, для платьев, если бы она вздумала переоблачиться из-за жары и азарта иных представлений.
А вот третья выходила большим, не очень широким, но довольно длинным балконом на арену. Бордюрчик на нем был всего-то высотой по колено даже не очень рослой Саре, зато смотреть с балкона было удобно, потому что в центре его имелось еще и некое возвышение, где стояло покрытое мягкими шкурами кресло, предназначенное, разумеется, для нее одной. Из этого кресла арена открывалась вся, чуть не до последнего закутка, откуда могли появиться либо звери для драки, либо гладиаторы для боя, либо слуги, которые крюками утаскивали окровавленные трупы куда-то вниз или вбок, в некие темные и мрачные, как сама смерть, подвалы Колизея, вмещающие всю довольно сложную машинерию для представлений.
Сара подошла к краю балкона, осмотрела арену. Она была пустой, и ее звонкая чистота раскинулась, будто раскрытая ладонь, будто кусок вырезанного откуда-то и перенесенного магией особого плоского пространства, более значительного и важного, чем место для зрелищ и жестоких, грубых забав городского плебса. Кажется, она прибыла чуть раньше, чем следовало бы, представление еще не началось.
Зато амфитеатры для публики были уже полны. Даже переполнены, все эти городские олухи и бездельники сидели уже так плотно, что даже весьма небедно одетым горожанам приходилось проталкиваться на места для чистой публики с помощью все тех же служителей Колизея. А те вовсе не стеснялись, то и дело пускали в ход дубинки, чтобы проложить себе путь и усадить тех зрителей, которые их для этой услуги наняли. Устроив клиентов, каждый из них тут же снова бежал ко входу, чтобы перехватить новых, способных заплатить за эту немудреную услугу. Когда-то, лет триста тому, каждый из богатеев приходил в Колизей со своими вооруженными слугами, чтобы не погрязнуть в толпе, но, когда между этими дуреломами стали возникать регулярные и довольно серьезные побоища, в которых страдали и их господа, пришлось ввести правило: лишь служители арены имели право рассаживать зрителей, пусть и с помощью дубинок. Даже таких значительных зрителей и клиентов, какой считалась Сара Хохот.
Сару заметили, кто-то принялся выкрикивать приветствия, впрочем не слишком напрягаясь, потому что главные приветствия следовало все же обратить на басилевса. Архимагичка усмехнулась, в этом дурацком обычае встречать известных нобилей криками ей сейчас почудилось что-то подозрительно нелепое, едва ли не оскорбительное. Но все же, несмотря на всю нескладность этого дня, ей нравилось смотреть на эту толпу, ощущать возбуждение и ожидание, которыми были охвачены все эти бесчисленные мелкие душонки. Главное, конечно, ожидание смерти, которая сегодня их минует. Это как бы продолжало их жизнь, делало ее более ценной, создавало иллюзию нескончаемости их собственного нелепого и жалкого существования. Иллюзия конечно же не имела ничего общего с истинным положением дел, с законом конечности их всех скопом и каждого по отдельности.
Сара оглянулась.
Служанки, тоже возбужденные и до отвратительности любопытные ко всему происходящему, собрались, насколько это было возможно, подальше от нее. Некоторые тянули свои птичьи шейки, чтобы получше рассмотреть толпу, некоторые косились в соседние ложи, где тоже было уже немало разной публики. Во время таких игрищ самые предприимчивые из них пробовали даже заводить мимолетные романчики со слугами и молодыми нобилями из тех, что оказались поблизости. Как они выискивали претендентов для своих увлечений, где уединялись для скоропалительных удовольствий, Сара даже не пыталась угадывать. Но это было, и незнакомые лица на таком близком расстоянии, всего-то за стеной ее ложи, приводили ее прислужниц в состояние извечной женской готовности и уступчивости.
Сейчас Саре это было противно. Она уселась в кресло. Тут же перед ней появился столик с персиками, винами, сладостями и даже с чем-то вроде пирожков, похожих на те, что продавались плебеям, но изготовленных, конечно, ее личными поварами куда тщательнее и вкуснее. Запах от них поднимался удивительный, но в ноздрях у Сары застряла вонь тех нечистых коридоров, которыми ее вели сюда, поэтому она потребовала, чтобы ей подали чашу вымыть руки, что и было мгновенно исполнено, и лишь после этого она немного успокоилась.
Даже попробовала, как когда-то обожала делать, впитать в себя общую, суммарную силу, волнение и настроение толпы под собой. Это было непросто даже с ее способностью к магии, но некогда у нее этот трюк отлично получался. Вот только на этот раз она толком настроиться на общую волну так и не успела.
На противоположной стороне протяженного овала Колизея заныли, завизжали трубы. Их голоса были так подобраны, чтобы утихомиривать самую разнузданную, самую шумную толпу, пусть толпа эта и насчитывала самое меньшее под сотню тысяч собравшихся тут зрителей. Затем, когда смертные все же притихли, через огромный рупор, установленный на специальном поворотном механизме, глашатай стал перечислять всех, кто устроил эти игры и кому публика должна быть благодарна. На этот раз имя Сары были названо вовсе не самым громким голосом, и прозвучало оно в конце списка. Она подозревала, что так и будет, потому что бой Сероплата с рыцарем-демоником тоже должен был состояться лишь под конец представления.
Сара еще раз пожалела, что явилась в Колизей слишком рано, но, в общем, это было оправдано. Что ни говори, а демоника следовало доставить сюда как можно быстрее. И если бы она поручила сделать это слугам, еще неизвестно, как бы на это посмотрела Джарсин. В общем, с этим теперь уже ничего нельзя было поделать. Так что Сара приготовилась просто смотреть.
Первая схватка была не слишком сложной. Сара ее задумала уже с полгода назад, хитрости тут и впрямь не было никакой. Архимагичка просто решила выяснить, чего стоят ее бойцы, солдаты охраны ее дворцов и замков. Для этого она велела выбрать примерно полуманипулу своих стражей и подготовить их к бою с тремя боевыми слонами, которыми очень гордился один из преторов басилевса. Звери эти были, конечно, дорогими, редкими, а обучение их должно было и вовсе потребовать целого состояния и знающих людей, которых во всех землях Империи трудно было сыскать за любые деньги. Скорее всего, их выкупили где-то в других владениях, где слоны эти попадались чаще и чрезмерной редкостью уже не являлись.
Солдаты выстроились широкой изогнутой цепью, лишь по флангам они собрались плотнее в какое-то подобие атакующих колонн, хотя и состояли обе эти группы всего-то из дюжины бойцов каждая. Потом на арену вывели слонов. Каждый нес на себе короб, в котором находились и лучники, и копейщики, вооруженные длинными и странно выглядящими копьями с двумя остриями. Работать таким оружием в нормальном бою было бы невозможно, но сверху, из этих седельных устройств, оказалось удобно, сподручно, и Сара быстро поняла почему. Переносить длиннющие древки из одного положения в другое, да еще и выбрасывать их то с одного слоновьего бока, то с другого было бы совсем непросто. А вот удары и одним копейным лезвием и тут же другим, на другом конце древка, — это оказывалось гораздо быстрее и опаснее для любого нападающего.
Потом еще разок проревели трубы, глашатай что-то прокричал, но не успел его голос затихнуть, как затрубили слоны, подпоенные крепким красным вином с перцем и потому готовые все крушить на своем пути. И бой начался.
Один из слонов, украшенный длинными полосами красной ткани, наподобие попоны, рванулся вперед, опустив голову, и попытался растоптать тех солдат, что находились в центре. Воины Сары, все почти сплошь орки, рассыпались, лишь одного слону удалось задеть, он откатился в сторону и под вопли толпы стал медленно и трудно подниматься на ноги.
А зверь уже набросился на другого из бойцов, которого сумел сбить хоботом и который никак не мог подняться, лишь перекатывался, уворачиваясь от ударов огромных слоновьих ступней. Кажется, все внимание слона было занято именно этим несчастным солдатиком. И он топтал и бил его так старательно и часто, что даже мелкий песок завихрился вокруг этой свалки как пыль, хотя пыли-то на арене, разумеется, быть не могло, чтобы не мешать зрелищу.
Вот тогда-то солдаты вдруг, одним движением, а может, повинуясь приказу, который на трибунах не был никем услышан за ревом слонов, воем толпы и грохотом оружия, бросились вперед. И у них получилось! Слон вдруг оказался окружен чуть не со всех сторон. На помощь ему поспешил второй слон, кажется, и третий бы сделал то же самое, если бы его не вовлекла в схватку группа солдат одной из фланговых колонн, которую поддерживали рассеявшиеся и почти незаметные прежде бойцы, действовавшие в одиночку. В общем, третий слон не успел поддержать собрата.
Второй слон получил несколько чувствительных, как показалось Саре, ударов по хоботу и в морду, где-то в районе глаз и ушей, и неожиданно для своих погонщиков вывалился из общей драки. А вот первый слон, как ни отбивались его бойцы из своего короба, был настолько жестоко и резко атакован, что забыл даже про того орка, который валялся у него под ногами. Он попытался отбежать, задрав хобот и громко трубя, но тут же напоролся на чье-то очень точно подставленное копье всей массой своего тела, и копье это, раскачиваясь, осталось в его плече. Слон развернулся на месте раз, другой и вдруг под восторженный рев зрителей рухнул, подняв целую тучу песка.
Когда стражники Сары расступились, слон еще бился, пробуя подняться на ноги, но люди вокруг него лежали сломанными куклами, еще некоторое время тому назад красивые и почти величественные, а сейчас не годные ни на что, кроме как для похорон, каким бы этот обряд ни оказался. А может, ими теперь накормят тех зверей, которых обучали и тренировали для других боев, подумала Сара с усмешкой.
Не встречая ни малейшего сопротивления, один из самых рослых охранников с какими-то знаками отличия подошел к умирающему слону и одним точным ударом в ухо прикончил его.
Тогда солдаты построились вновь, кроме тех, конечно, которые так удачно не позволили третьему слону оказаться в бою в центре арены.
Погонщики слонов тоже попробовали перегруппироваться. Они поставили своих могучих зверей плечом к плечу и на этот раз атаковали пехоту сдвоенным ударом. Чтобы хотя бы с одного бока избежать нападения. Но на этот раз и стражники действовали чуть разумнее, как показалось Саре. Они попробовали бить слонов издали, с расстояния, где звери не могли их наверняка достать.
Сначала было не совсем понятно, чего они добиваются, зато потом все встало на свои места. Разозленные животные перестали слушаться погонщиков. Один слон бросился вбок, на небольшую группу солдат Сары, которые слитно и довольно жестоко этого зверя атаковали, а затем… Да, затем уже виденное повторилось. Слона просто утыкали копьями, он оказался так сильно изранен, что, упав на песок, даже не пытался подняться.
Последний из слонов попробовал отбежать в ближний к главным ложам угол арены, громко трубил и метался из стороны в сторону, предчувствуя, вероятно, скорый свой конец. Но солдаты Сары действовали слаженно и расчетливо, теперь в них ощущалась уверенность в близкой несомненной победе. И они добились своего. Вот только из того места, где находилась Сара, рассматривать эту драку было не слишком удобно. Чтобы видеть получше все происходящее, следовало бы встать с кресла и склониться над балюстрадой, а Саре этого не захотелось.
Она и без того знала, чем все окончится, а потому просто пригубила вина и съела персик.
Потом было чествование победителей. Ее солдаты, а некоторых из них пришлось сослуживцам тащить на плечах, стали неровным и значительно поредевшим полукругом в центре арены и отдали честь, потрясая своими копьями, клинками или просто сжатыми кулаками в воздухе, в сторону главных лож Колизея. Лишь тогда Сара поняла, что пропустила момент, когда свое место в ложе занял басилевс. Должно быть, зрители его как-то приветствовали, но за ревом увлеченных боем трибун это оказалось не слишком заметно. Вот если бы, подумала Сара, бились не звери с солдатами, а только гладиаторы, тогда бы глашатай, несомненно, на время, на пять — семь минут, остановил сражение. Но со слонами этот трюк ни за что бы не получился, вот он и не пробовал даже этот обычай соблюсти.
Когда победившие пехотинцы ушли с арены и за то время, пока туши слонов утаскивали в подвалы, а саму арену посыпали свежим песком, чтобы скрыть лужи крови и даже, как показалось Саре, раздавленные внутренности, мясо и кости погибших бойцов, попавших под ноги южных великанов в начале битвы, возникла естественная пауза в представлении. Публика принялась подзывать торговцев, чтобы прикупить чего-нибудь из лакомств, обычных на такого рода увеселениях, расплачиваться между собой за сделанные ставки или просто обсуждать подробности только что увиденного, сама Сара, не очень напрягаясь, еще раз пробовала уследить за общим эмоциональным состоянием толпы на трибунах.
Состоянию этому было пока далеко до настоящего возбуждения, до непрекращающегося потока жестокой радости или даже ликования от чужой смерти. Все выглядело своего рода разминкой, закуской перед настоящим пиршеством. Избалованы плебеи такими зрелищами, решила Сара, вот и не ценят по-настоящему показанного им представления, неспособны оценить.
Зато тому из нобилей, который этими слонами хвастался и с которым она на этот поединок договаривалась, теперь придется раскошелиться за проигрыш. И еще, пожалуй, лениво соображала Сара, нужно будет ее бойцам выдать какую-нибудь награду, не слишком богатую, не чрезмерную, но такую, чтобы на пару недель пьянства и непотребных девок им все же хватило. Это поддержит их верность и подкрепит ее репутацию справедливой и щедрой хозяйки.
6
Следующими должны были сражаться лучники и копейщики на колесницах против пехотинцев с копьями и какими-то крюками, защищенных тяжелыми и неуклюжими доспехами, и подвижных, почти голых всадников. И даже кони у этих всадников казались какими-то обнаженными, незащищенными, уязвимыми и вполне выставленными под удары стрел тех бойцов, которые находились в колесницах. В общем, силы были распределены умело, как и полагалось, почти ровно, едва ли не справедливо.
Начавшийся бой развивался немного медленно, на взгляд Сары. В настоящем бою все бывало куда острее и интереснее, поэтому она заскучала и принялась разглядывать публику. Ничего нового она для себя нашла, хотя отметила во всех этих смертных одну особенность. Многие зрители не то что пытались охватить взглядом все побоище, а выбирали кого-либо на арене и следили уже только за его действиями или даже делали на него ставки, заключая пари с соседями или у специально расхаживающих игроков, которых сами бои почти не привлекали, зато они набивали себе карманы, обыгрывая или просто обманывая прочих простофиль. Это было немудрено, за годы, проведенные около этой арены, на этих трибунах, они поневоле научились определять вероятный исход боя с точностью до серебряного сестерция и почти никогда не ошибались. Еще бы, подумала Сара, кто часто ошибается, долго тут не задерживается.
Бой превратился в довольно странную и широкую схватку, когда колесницы кружили по большому овалу арены вокруг собравшихся в центре пехотинцев и лучники отстреливались от выскакивающих и атакующих их конников. Те действовали неудачно, сначала они потеряли пару бойцов, а тех из пеших, которые попробовали занять их место, колесницы попросту оттеснили. Затем всадники потеряли сразу трех коней, и голые спешенные всадники стали держаться поближе к своим пехотинцам, хотя и это их не слишком выручало, потому что луки у воинов на колесницах хоть и были не слишком велики и сильны, но все же на относительно небольшой арене стрелы из них били точно.
Сара попробовала было предугадать шансы всадников, но тут каким-то образом, кажется с помощью все тех же копий и крюков, пехотинцам удалось опрокинуть пару колесниц, и с экипажами этих боевых машин было быстро и необратимо покончено. Получалось, что исход боя был вовсе не таким уж однозначным, как представлялось вначале. Сара даже вновь заинтересовалась происходящим на арене, но тут на входе в ее ложу появился глашатай и дюжина охранников в доспехах с изображением гербового кедра басилевса. Такого Сара не ожидала, к тому же — уж очень это было не вовремя. До боя ее Сероплата с демоником оставалось не так уж много времени, а басилевс был старичком весьма разговорчивым, наверное, считал себя непревзойденным умником и даже немного поэтом.
Он подошел к Саре походкой расслабленного танцора. Разумеется, около кресла Сары уже появилось еще одно кресло, укрытое к тому же драгоценным пурпуром, вот только Сара с удовольствием бы подложила на сиденье мелких камешков, чтобы старец долго-то на нем не усидел. И все же пришлось вставать, кланяться и изображать радостное изумление от столь высокой, нежданно выпавшей чести посещения ее ложи верховным владыкой Империи.
Басилевс был, кажется, семнадцатым на памяти Сары. Она даже побаивалась иногда называть его по имени, потому что могла ошибиться, а от такой ошибки возникли бы многие, в том числе и неприятные для нее последствия. И не то чтобы она сомневалась, что сумеет в конце концов справиться с неприятностями, просто ей это было не нужно. Ей было удобно, когда ничего подобного не происходило.
Поэтому Сара к каждому из этих властителей подбирала свой ключик, оказывая порой мелкие услуги. Кажется, третьему басилевсу, ныне уже забытому Тортому Третьему, как он себя величал, она почти за бесценок продавала драгоценные камни, граненные в лучших мастерских далеких северных горных карликов. Жаден он был на камни. Десятому, по Сариному счету, басилевсу, прозванному в народе Вестимом Полоумным, она подарила флотилию кораблей, потому что тому очень уж хотелось господствовать на морях. В те годы она еще не забыла, как следует строить корабли, да и Август Облако ей немного помог, прислал пару мастеров и резчиков, которые строили и изукрашивали эти корабли самыми причудливыми фигурками и орнаментами.
Нынешнему басилевсу, которого величали Замкором Танцором, она сумела наладить переливание крови от молоденьких девушек и парней. Он считал, что это его омолаживает и позволяет пребывать в постоянном состоянии счастья. О переливаниях крови местные врачи ничего не знали, путали даже не группы крови, но и кровь орков, людей, гоблинов или карликов. Сам-то Замкор принадлежал к породе орко-эльфов, отец его, Дандлут-Сфор Седьмой, был несомненным орком, у них в роду прочих рас почти и не осталось, а вот в жены он себе выбрал эльфийку Неставолингею, из какого-то совсем захудалого графского рода со своих северных территорий, вот и получился… Танцор этот.
Любопытно, что в молодости он действительно очень увлекался балетом, устраивал танцевальные постановки на многие часы и самолично исполнял некоторые роли. Разумеется, при этом он обожал, когда им восхищались и называли Божественным. Ну как бы там ни было, сейчас он стал тем, кем стал: плешивым старикашкой лет за пятьдесят, с варикозными венами, игривой улыбочкой на засыпанном пудрой лице и разболтанной из-за болезни суставов походкой.
К тому же у него был еще какой-то на редкость неприятный дефект речи, нечто среднее между сюсюканьем и причмокиваньем. От одного этого Сару могло бы стошнить, если бы не приходилось все же держаться и терпеть.
На сей раз, усевшись и благосклонно приняв в свою усыпанную старческими веснушками руку золотой кубочек с драгоценным персамским вином, выпив пару глотков, чуть рыгнув от удовольствия, он проблеял:
— Ты щедра в этих играх, госпожа Сара. — Он оглядел толпу, которая посматривала на происходящий бой, но и не упускала из своего внимания и его самого. Кажется, это ему понравилось. — Нужно будет выпороть распорядителя игр за то, что он назвал твое достославное имя в конце.
— Как тебе будет угодно, государь. — Сара уже давно с басилевсами выбрала именно эту форму обращения и, как бы они ни требовали более полновесного титулования, вроде Солнцесветного Хранителя Устоев, ни на что большее не соглашалась.
— Кстати, игры получаются, — прочавкал басилевс и чуть не подавился персиком.
— Я не думала, что ты посетишь их, господин. — Сара сделала многозначительную паузу. Она не хотела его видеть здесь, и любой другой на месте ее, гм… гостя сделал бы правильные выводы. Но только не Танцор.
— А я вот пришел… — Он выплюнул косточку от персика, попал на свою тогу, и хорошо, что одна из служанок нашлась и тут же ловко стряхнула фруктовый ошметок куда-то вбок.
Возможно, властитель ничего и не заметил или очень умело сделал вид, что не заметил. Этому тоже нужно обучаться, подумала Сара. А дальше их разговор пошел совсем уж глупо. Они поговорили о вине, о погоде, о том, что слуги в последнее время разбаловались и стали вовсе непочтительны.
В этот момент довольно неожиданно для всех сбоку от Сары, которая невнимательно и скучая следила за какими-то одиночными боями на арене, что и публику, кажется, уже не увлекали, появился верный Харлем. За его плечом стояла и Яблона. Вот она владела собой получше, у нее не дрожали губы и руки, которые она в безмолвной просьбе обратить на ее внимание госпожи протянула вперед. А Харлему было не по себе. Сначала Сара подумала мельком, что старику трудно дался переход из замка, где он по ее приказу встречал демоника, чтобы проводить его в город. Но, присмотревшись, поняла, что с ее главным управителем и советником происходит что-то совсем уж непонятное.
Пробивающие его хлипкое тельце волны дрожи были вызваны отнюдь не страхом перед ней. Он определенно опасался чего-то иного, чего-то, о чем сама Сара еще не знала. Она милостиво, пробуя не нарушить приличии, повернулась к нему и сделала незаметное движение пальцами, которые до этого покойно лежали на подлокотнике кресла.
— Госпожа, мы только что узнали. По Определителю твоих доверенных слуг. Корабль Удода исчез. — Харлем вздохнул, да так заметно, что даже басилевс теперь повернулся к нему. А Харлем добавил, на этот раз вовсе без голоса, одними губами: — Со всем грузом и командой.
Та-ак, подумала Сара. Она пока еще ничего не понимала, но знала, если подумает как следует, то непременно сообразит, что, и почему, и зачем вообще. Она должна была понять, что это значит. Это было важно, вот только Танцор теперь мешал своим дурацким чавканьем, и своим присутствием, и необходимостью еще с ним и разговаривать.
Сара посмотрела на басилевса. Тот вдруг умолк. Даже к вину не пробовал приложиться. Это тебе не косточка персика, внутренне согласилась с ним Сара, от ее гневного и неожиданного внимания не то что смертные идиоты, пусть и облеченные какой-то властью, каменели, от ее взгляда в упор даже мантикоры начинали пятиться.
Басилевс сделал попытку проглотить то, что было у него за щеками, что-то забормотал и попробовал подняться из креслица. Вот это было правильно и очень кстати.
И все же, чтобы не нарушать совсем явно этикет, Саре пришлось ему помочь и проводить до выхода из ложи. Затем она уселась в большой комнате отдыха и тяжелым взглядом обвела всех служанок, которые пробовали вжаться в стену, вот только уйти все же не смели. Харлем и Яблона стояли чуть ближе, но тоже не совсем рядом.
Сара рассеянно съела несколько виноградин.
Значит, Определитель, ну это в принципе верно, так и должно быть. Она по примеру многих других архимагов в своих наиболее доверенных рабов и слуг, вынужденных исполнять очень сложные, головоломные или тайные поручения, внедряла довольно тонкую штучку. Что-то вроде искры, хотя настоящей искрой это, конечно, не было, настоящими искрами распоряжалась Джарсин Наблюдательница, рассылая их по миру. Или Камень их рассылал, безотносительно воли и желания Джарсин, да и всех остальных архимагов, а владеть искрами определенного цвета и смертными, в которых они попадали, начинали все архимаги поровну. Это были, так сказать, азы, основы мироустройства.
Но многие достаточно сильные архимаги тоже производили нечто похожее на искры Камня, порой довольно сложные магиматы, которые предполагали возможность слежки за теми слугами и рабами, в которых они оказывались внедрены. Август Облако, например, очень любил причудливые ножные браслеты, силу которых, однако, даже ему, архимагу с ярко выраженным техническим складом интересов и умений, приходилось подновлять, порой довольно часто, чуть не раз в месяц.
Сара обычно на своих рабов, вроде Удода, навешивала ошейники, иногда простенькие, из темной бронзы, иногда дорогие. Она к этому привыкла, она так поступала со своими самыми дорогими мантикорами, так же поступала и с рабами. Иногда она, для верности, наделяла магическим маячком и иные предметы. Так она вколотила три недели назад в планширь кораблика Удода серебряный гвоздь, который должен был показывать его нестираемым светляком на карте, называемой Определителем, разумеется, в полном соответствии с точным положением этого корабля, где бы он ни находился, куда бы его ни занесло.
На больших расстояниях, примерно там, где она совершила набег на деревню нунов-людоедов, карта могла показывать корабль капитана Удода неотчетливо, хотя даже оттуда какой-то сигнал должен был приходить. Но теперь-то, раз она приказала ему идти на Басилевсполь, он сам и его посудина должны были быть видны не хуже, чем близкий маяк или опорные для кораблевождения звезды в ясную ночь. А маячка не было, как сообщил ей Харлем.
Это могло означать только одно: корабль и Удод с его магическим ошейником были кем-то уничтожены. Именно уничтожены. Если бы их захватила залетная пиратская флотилия и они бы приняли судно в свой состав или бросили Удода в трюм, предположим, для последующего выкупа, звездочки на карте никуда бы не делись. Возможно, изменили яркость свечения, но не более.
А они погасли. Но кто же мог проявить такую силищу, такое магическое совершенство, чтобы погасить их на Определителе? И тогда Сара вдруг поняла. Это могла сделать только Джарсин, больше некому. И в том, что она это сделала, и в том, как она это сделала, был какой-то смысл, который следовало теперь разгадать. Сара потерла лоб, виски, оказалось, что диадема ей мешает, она швырнула ее в угол, сорвала и ожерелье, почему-то ей показалось, что оно сейчас ее душит.
Но ведь для того чтобы уничтожить корабль, требовалась огромная энергия, просто невероятная на таком расстоянии? Что-то тут было не то, чего-то Сара не понимала или не могла с этим примириться. И тогда она вспомнила про вулкан.
Вулкан мог дать всю необходимую энергию, и даже гораздо больше. Ей самой, когда она была на острове, тот вулкан показался уснувшим, неопасным. Но если его разбудить?… Да, решила она уже с твердым убеждением, как раз Джарсин с ее неуемной жаждой власти когда-то баловалась вулканами, умела их не то что пробуждать, но даже пробовала разрушать ближние города, и это у нее пару раз получилось. Она могла, если не утратила этого своего искусства, разбудить вулкан и утопить корабль. Возможно, она даже выжгла остров до основания, до сплошной корки пемзы, насыщенной к тому же ядовитыми подземными газами. Она, вероятно, это и проделала.
Странно, что Сара, когда с того острова улетела, ничего позади себя не заметила. А ведь должна была, потому что туча пепла и дыма при извержении поднимается на многие мили вверх и ветер должен был донести до нее хоть какие-то следы извержения, она ведь летела на попутном ветре, неужто она обогнала эти признаки за счет скорости своей перистокрылой Таби-Скум?
Маловероятно, и даже вовсе невероятно. Попросту невозможно. Значит, Удод, адское отродье, промедлил, она улетела уже довольно далеко, когда Джарсин вызвала извержение, а затем она же от Сары, которая боролась с воздушными потоками, очень точно и надежно все замаскировала. Правда, как это можно было сделать, Сара не знала, не понимала даже самой возможности такой маскировки, но ведь Наблюдательнице это удалось!.. Вот в чем дело.
А вот зачем она это сделала — было как раз вполне понятно, тут и гадать долго не приходилось. Она сделала это, чтобы показать Саре, что без ее позволения никаких возможностей сколько-то надежно закрепиться на островах Южных морей у Сары нет и быть не может. Она, Джарсин, это проделала, чтобы показать свою силу и определеннее вызвать ее, Сару Хохот, на этот спор, на это соревнование.
Сара не заметила, как закусила губу до крови. Хотелось ругаться, но что толку теперь было в ругани? Она поднялась. Оказывается, пока думала, соображала, выпила чуть не пяток немалых кубков крепкого вина, она даже осоловела немного, если вовсе не опьянела.
Но не успокоилась. Она это определенно знала. Она прошла на балкон, откуда уже убрали кресло, в котором сидел басилевс. Уселась, как ей и было положено, вольготно и широко и попробовала смотреть на арену. И не сразу, но все же в ее слегка затуманенном вином и огорчением от потери корабля сознании появилось понимание того, что пришла она на редкость вовремя. Именно сейчас должен был состояться бой демоника с ее Сероплатом.
Она попробовала встряхнуться, но вышло не очень убедительно. Чтобы показать, что она уже взяла себя в руки, она через плечо кинула:
— Харлем, Яблона, давайте-ка сделаем ставки. Небольшие, чтобы смотреть на поединок было интересней.
— Госпожа, — сбоку сразу же возникли главный управитель и понимательница, но говорила одна Яблона, — да кто же осмелится поставить против Сероплата?
— Вы оба и осмелитесь. — Сара и не заметила, как сорвалась почти на рык. — Хотя бы немного. Я ставлю по пятьсот золотых против каждого из вас, вы можете поставить тридцать на демоника, этого слугу Ордена.
Харлем поклонился.
— Если госпоже моей так угодно, я готов.
Сара и не сомневалась, что они ей подчинятся, им просто ничего другого не оставалось.
Тогда-то и запели горны вызова, затрубили более тяжелые трубы, а затем глашатай объявил, что в заключение их нынешних игр состоится бой невиданный и никем прежде непредставимый. Поединок демоника, рыцаря, и мантикора-самца по прозвищу Сероплат, принадлежащего госпоже нашего славного города Саре Величественной и Непревзойденной в своем добром величии!.. Ну и еще какие-то глупости он выкрикивал, пока отчетливо не охрип, и лишь тогда угомонился.
7
Первым на арену вышел демоник Шоф. Он был в своем белом плаще. Казалось, может из-за расстояния, что ткань скрадывает его фигуру, прячет ее, будто магическая маскировка. А может, так получалось из-за солнца, немилосердно бившего с неба. Сара подумала о времени, игры тянулись уже почти четыре часа, и время определенно приближалось к двум пополудни. В этих широтах наступало самое жаркое время суток.
По той же причине, должно быть, Шоф этот появился незаметно, никто на него и внимания поначалу не обратил, все смотрели на служителей, неторопливо засыпающих свежие пятна крови песком, смешанным с опилками. Песок, как почудилось Саре, был все же белее, чем плащ демоника. Впрочем, рыцарь выглядел неплохо, пусть и не очень крупным. Но его отличала свобода движений и грация, которая приобретается длительными тренировками. Он был бы даже красив, если бы не относился совсем уж к незнакомой в этих землях породе.
Затем публика обратила на него внимание, ему стали что-то кричать, по большей части ругательства и злобные насмешки, но на рыцаря все это мало повлияло. Он оставался таким же расслабленным и спокойным. Даже слишком, подумала Сара, неужто он так в себе уверен? Может, его специально готовили для боя против мантикор? Но нет же, этого быть не могло, ведь для таких тренировок Наблюдательнице потребовались бы мантикоры, а их Сара непременно почувствовала бы на любом расстоянии, пусть и не здесь, в этом мире, так в Верхнем обязательно. Следовательно, Шоф был тем, кем его и назвала Джарсин — простым рыцарем Ордена. Ну предположим, не совсем простым, а выбранным Наблюдательницей для этого поединка. Значит, никакого особенного обучения он не имел, его тренировали, как и всех, для боя конным с копьем, на мечах, может быть, подучили стрелять из лука и лишь после этого — обращению с более необычным оружием, например булавами или кистенем. Нет, никакого подвоха тут не было.
Но раз Джарсин уничтожила корабль Удода, тогда… Да, вот что — тогда? Значило ли это, что бой все же не будет честным, открытым и правильным? Впрочем, честности и открытости от любого архимага ждать ни в коем случае не приходилось, тем более — от Наблюдательницы.
— Эй, голубокожий, тебе в твоей тряпке не жарковато? — выкрикнул кто-то суховатым баском на всю арену.
— А он не парится, он же — ящерица, у него и чешуя небось в интересных местах вместо кожи-то!
— Эй, девахи, может, кто из вас спустится к нему, обследует на предмет чешуи в интересном месте?
Хохот на трибунах в общем-то не соответствовал правилам игр, над идущими на смерть не полагалось смеяться, если те специально не начинали комиковать.
— А ты сам спустись, поспрашивай что и как, он тебе покажет, — выкрикнула какая-то не в меру расшалившаяся бабенка. Теперь к хохоту отчетливо прибавились и женские голоса.
Шоф полой плаща вытер лоб, потом шею, обтер руки, чуть ослабив шнуры на наручах, потом без стеснения вытер колени, легко согнувшись чуть не вдвое. Затем еще более тщательно, по каждому пальцу отдельно, вытер кисти рук и ладони, снова смахнул пот со лба. А потом еще более осторожно вытащил каждый из своих мечей и промокнул светлую сталь. Несмотря на азарт публики, теперь над ним никто не насмешничал.
И лишь после этого, будто находясь в тренировочном зале, он отошел от центра арены, где должно было разыграться главное действие, скинул свой плащ на песок. И тогда стало видно, что у него к поясу еще приторочен шлем, не очень массивный и не слишком крепкий на вид. Простой, даже не вычищенный, как сначала всем показалось, и кое-где уже избитый. Этот шлем он надел на голову, покрутил шеей, плечами, прокатил волну от ног до плеч вверх, потом от кончиков пальцев, как заметила Сара, через плечи и шею вниз, до ступней ног. Чуть расставив и подсогнув колени, принял боевую стойку, но мечей еще не вынимал. В сущности, он был готов, и это поняли все.
Шоф осматривался, так же он мог бы осматривать горизонт, стоя где-нибудь в центре необъятной пустыни, в полном одиночестве. И арена, и трибуны со всеми этими глупыми жителями стольного города для него не существовали. «Даже я, пожалуй, для него сейчас уже не существую, — почему-то со злостью подумала Сара. — А вот Госпожа его, Джарсин Наблюдательница, — она существует ли? Тоже вряд ли, он сейчас пуст, как та же пустыня. Он лишь тень на песке арены, не больше. Его как бы и нет. Все же, — заметила Сара про себя, — отлично их там тренируют, в этом Ордене».
— Да ты не волнуйся, парень, у мантикоры один на один еще никто никогда не выигрывал! — выкрикнул все тот же басок, что уже насмехался над рыцарем. — Против тебя один к двадцати ставят.
«Может, Харлем придумал такой способ вывести бойца Джарсин из равновесия?» — спросила себя Сара. Но это было бы слишком просто и примитивно. Этих ребят так просто не возьмешь, скорее всего, тут ничего, кроме оружия, или когтей, или зубов хищных зверей, и не пробьет эту необыкновенную способность держать себя в узде и под насмешками сохранять готовность к бою.
— А доспехи-то у тебя устарели, парень, — не унимался все тот же басок с трибун. — Лет эдак на пятьсот, а то и поболе?
Действительно, доспехи у Шофа были странные. Старые, кое-где поцарапанные, как и его шлем. А кроме того, они почему-то казались кожаными, пусть и анатомическими, очень выразительными, даже рельефными. Неужто он из быструнов, подумалось Саре, только те позволяли себе такие вот почти бесполезные при точных ударах защитные приспособления, чтобы не снижать собственную скорость. А впрочем, у демоников, которые перемещаются на пару дюжин шагов в любую сторону за одно мгновение, практически выстреливают себя в разных направлениях, очень-то уж тяжелых щитков быть и не могло.
Ропот трибун постепенно стихал, пока не стало совсем тихо, даже странно теперь было, что вся сотня тысяч распаленных прежним зрелищем существ сумела вот так умолкнуть. Откуда-то из дорогого сектора трибун даже долетел некий уверенный и высокий мужской голос, обладатель которого, вероятно, что-то пояснял своей подруге или детям:
— …Вот поэтому они никогда и не дерутся со щитами, лишь с мечами.
И голос этот тоже умолк, когда до говорившего дошло, что его теперь, в этой-то тиши — слышат буквально все.
Напряжение стало почти физически ощутимым, едва ли не колдовским. Все ждали, и ждали в таком молчании, какое бывает лишь перед очень страшной, очень жестокой битвой, когда неизвестно даже, уйдет ли хоть кто-то на своих ногах или все погибнут. Для зрителей, которые в общем-то находились в безопасности, это было странно, но и они прониклись, как с некоторым удивлением отметила Сара. Это было бы забавно, если бы не затягивалось.
А потом над ареной мелькнула мгновенная, будто серая молния, тень. Сероплат атаковал сверху, возможно, с самых верхних служебных площадок Колизея, со стороны лож для нобилей, из-за спины Сары, которая и не заметила, как, наблюдая за этой атакой, подалась телом вперед, чтобы не пропустить ни одного мгновения схватки.
Тень пронеслась над ареной очень быстро, будто Сероплат не стартовал с площадки, а сделал предварительный разгонный полукруг в воздухе и лишь затем ударил, как ястреб бьет глупых зайцев — беспроигрышно, сверху и сразу насмерть. Вот только сейчас насмерть не получилось.
Рыцарь каким-то чудесным образом успел перекатиться через плечи и, может быть, через свободные еще руки, только очень далеко, куда дальше, чем получился бы такой перекат, допустим, у обычного уличного жонглера. Он вышел из-под удара Сероплата так, будто ожидал атаки. А ведь и впрямь ожидал.
Мантикор довольно чувствительно ударился о песок, подняв тучу каких-то брызг, будто шлепнулся об воду. По рядам зрителей отчетливо прокатился выдох, они все же дождались того поединка, о котором — теперь стало ясно — будут рассказывать многие годы в тавернах, а может, и своим детям, внукам или родственникам из дальних провинций, которые сюда, в Колизей, в этот день не попали.
Сероплат понял, что его атака, прежде приводящая к смерти противника, на этот раз не удалась. Он взрыкнул так, что ропот зрителей снова стих, они теперь все сидели, как мертвые. А мантикор встряхнулся, медленно, тяжело, будто раздумывая, повернулся на месте. Своей кошачьей грацией он теперь внушал ужас. Казалось, что мелковатая и низенькая от полуприседа, в котором рыцарь вышел из своего кувырка, фигурка не сумеет продержаться, не выстоит при следующей атаке. Но теперь Сероплат был осторожнее. Он даже крылья сложил и, ударив пару раз хвостом по песку арены, стал обходить демоника, будто прикидывал, откуда лучше броситься на него.
Рыцарь стоял, не поворачиваясь за этим движением мантикора вбок, и лишь медленно, будто бы тоже угрожая всем, в том числе и самой Саре, вытаскивал свои клинки перекрестным движением опытного двумечного бойца. Клинки двумя дорожками света, почти невидимыми на солнце, словно состояли из живой воды, повисли перед ним. Левый был чуть опущен, а правый неторопливо последовал за переходом мантикора на новую позицию, отслеживая его движение острием.
Сероплат снова бросился на демоника, и тут все смешалось!.. Это был не правильный, красивый, зрелищный бой, к которому привыкли тут, на арене Колизея. Это была невероятно скоростная свалка, когда отдельные движения уже не угадывались никем, даже Сарой. Это была мешанина ударов, наскоков и отскоков, в которых не сумели бы разобраться ни ланисты, тренеры гладиаторов, ни даже ветераны, десятки раз выходившие на арену и сумевшие все же уйти с нее живыми. Это было что-то невообразимое.
А потом демоник впервые показал, как он выходит из схватки. Он вдруг оказался сразу чуть не в двадцати шагах от Сероплата, с которым только что, еще неуловимый миг назад, был сплетен чудовищным кружевом ударов и блокировок. А теперь уже стоял сбоку, лишь чуть заметно продолжая прежние, не доведенные до конца движения мечами, то ли защищаясь от нападений мантикора, то ли в свою очередь пробуя на него нападать.
И он чуть покачивался. Стало заметно, что ноги он не полусогнул в коленях, а просто они его не совсем крепко держат, возможно, ему все-таки досталось так, что и представить себе было трудно. Но, подумала Сара, что-то слишком уж он хорошо дерется, слишком — даже для демоника и орденского рыцаря. Пожалуй, Сероплату придется чуть помочь, как бы потом Джарсин ни возражала.
— Ну что, ранен, голубой и чешуйчатый? — спросил все не унимающийся болтун своим басом, но теперь на него зашикали.
И все же фраза эта будто бы спустила тетиву, по рядам зрителей прокатился гомон, а потом звук этот стал нарастать, и Сара знала: теперь плебеи не утихнут, пока не начнут орать во всю глотку, во все свои легкие, выражая и восторг, и возбуждение, и азарт, и удивление тем, что голубокожий все еще дерется.
Простота, с какой демоник вышел из ближнего боя, несколько озадачила мантикора. Тот не ожидал такой прыти от противника. Промахнувшись в своих атаках дважды, третий раз Сероплат решил бить до победы. Мантикор прошелся по арене. Вот тогда-то и стало видно, что передние его лапы располосованы в трех местах, и довольно серьезно, но кровавой дорожки за Сероплатом еще не оставалось, хотя кровь капала довольно часто.
Сара поняла, что теперь ей точно придется вмешаться в поединок, если она хочет, чтобы ее мантикор вернулся в свой вольер, а не был выброшен на свалку, где его подберут те, кто изготавливает из таких вот павших на арене зверей чучела, заплатив немалые деньги служащим Колизея, но кто все же получал еще больше, когда эти чучела украшали какую-нибудь виллу зажиточного нобиля или разбогатевшего не в меру лавочника.
Ну уж нет, решила Сара, Сероплат не будет чучелом, ни сейчас, ни после сегодняшнего боя. Колдовство, которое она решила использовать, было довольно сложным и, можно сказать, головоломным. Фокус был в том, чтобы проделать все незаметно, почти нежно, без каких-либо серьезных последствий для всех, кроме участников поединка.
Сара намеревалась ослабить волю и вселить неуверенность в демоника, чтобы Шоф этот клятый уже не мог бы и руки с мечами поднять, после того как она швырнет в него свое заклятие. Но все это требовало времени, а вот его-то ни у нее, ни у Сероплата определенно не было.
Сара огляделась, чтобы никто из ее слуг не попал под воздействие магии. Разумеется, ее мало заботило, насколько челядь пострадает от ее пассов, но они могли ненароком помешать, создать некое возмущение, а в такой сложной магии это было бы вовсе нежелательно. В ее ложе уже никого не было, кроме Яблоны и Харлема. Ну эти не помешают, решила она. Хотя на долю мига и заинтересовалась — сама ли она воздействовала на своих служанок так, чтобы те убрались подальше, или ее понимательница желаний догадалась выгнать лишних?… Но в общем, это было неважно, следовало поторопиться с задуманным. И Сара не промедлила.
Сероплат теперь атаковал, как ей показалось, расчетливо и точно, очень хлестко, сильно и верно. Вот только все опять как-то сбилось, потому что защиту демоника-рыцаря он так и не сумел пробить, не сумел достать его для верного и, может быть, единственного удара. Голубокожий опять как-то невероятно ловко, почти немыслимо ушел от прямой атаки, а потом еще и закрылся, да так крепко, что теперь уже мантикор ревел от боли, получая встречные удары по лапам, в грудь и подбрюшье. Сара чуть заторопилась, хотя знала, что Сероплат пока держится. Она уже установила с ним необходимую связь, чтобы в миг, когда демоник растеряется и ослабеет от ее магического нападения, бросить мантикора вперед, в ту самую, последнюю атаку, которая до сих пор у него не получалась.
Бойцы снова разделились, разошлись в стороны. Стало заметно, что удары у них уже были не такими точными и быстрыми, как в начале поединка. Оба устали, кроме того, истекали кровью. Демоник чуть больше, хотя у него раны выглядели поверхностными, скорее как царапины. Чем это было вызвано, Сара все еще не понимала. Неужто доспехи этого рыцаря оказались настолько прочными? В это она не очень верила, не бывает таких доспехов у простого рыцаря, пусть даже и выставленного Джарсин.
И когда оба бойца разошлись на вот эти пять — семь шагов, чтобы перевести дыхание, она закончила подготовку и запустила точный, острый, как игольчатый кинжал, магический удар в демоника! Она знала, что сейчас он замрет, остановится, потеряет внимание и концентрацию, сейчас он станет на несколько долгих биений сердца жертвой, лишь куском мяса, из которого сочится кровь, вот сейчас!..
Если бы на трибунах находился хоть кто-то, кто мог бы сравниться в колдовском искусстве с архимагами, он бы потом мог засвидетельствовать, что удар Сары был почти вершиной этого искусства. Изумительный по точности и меткости выпад, едва ли не превосходящий то боевое искусство, какое до этого демонстрировали оба бойца на арене. Но произошло вот что.
Удар Сары достиг, разумеется, демоника Шофа, но, вместо того чтобы парализовать его или хотя бы оглушить как следует, подобно тому как не в меру живучую рыбу даже в воде удается с лодки пристукнуть веслом, удар этот вернулся назад! Да еще, пожалуй, как сразу же поняла Сара Хохот, в значительно усиленном виде, собранном каким-то таинственным образом в более плотный заряд! Это было невозможно, но это произошло. И Сара ощутила теперь этот удар сама, всем своим существом, отрытым для магии, а значит, и незащищенным. Она попала под отраженное воздействие тех самых заклинаний и наговоров, которые только что с таким усердием и старанием создавала.
И требовалось некоторое время, чтобы она могла восстановиться, сумела прийти хотя бы в какое-то подобие нормы. Но что было хуже всего — значительная часть этого магического откатного удара по тому каналу, который теперь связывал Сару с Сероплатом, обратив мантикора в ее продолжение, в часть тела или в подобие оружия, сработал, передавая ему этот самый ступор, в котором она оказалась.
Сару как озарило. Она поняла, что случилось. На демонике были доспехи не просто старые, на нем были доспехи Корсуна! Древнего воина и короля, которые были заколдованы таким образом, чтобы отражать и прямые удары оружием, и даже довольно значительные формулы магического нападения, как получилось сейчас с ней, архимагичкой Сарой Хохот. Ходили слухи, правда никем не подтвержденные, что сделаны они были из кожи дракона, но в более древних манускриптах встречалось мнение, что их изготовили из шкур гигантских морских бродильников, которые когда-то расхаживали по поверхности моря, потому что самой магической структурой своей шкуры отталкивались от воды.
Но кто же знал, что Джарсин подстроит ей такую ловкую, такую совершенную ловушку — отдаст своему рыцарю доспехи Корсуна, которые, как было записано в некоторых книгах, у нее все еще имелись, и не истлели от времени, и оказались в таком вот превосходном состоянии, не утратив своих основных магических качеств?
Да, это была ловушка, и она сработала. Потому что, как Сара видела словно бы через толстое и мутное стекло, демоник даже не покачнулся от ее магического воздействия и уж тем более не застыл ни на мгновение. Наоборот, он воспользовался моментом, сделал пару выпадов, и стало ясно, что эти его удары пришлись Сероплату в самые уязвимые места. Одним ударом Шоф распорол мантикору шейную артерию, а другим пробил трахею где-то в районе межключичной ямки на груди. Собственно, это были не удары воина, это были выпады палача, который попросту прикончил свою жертву, не обратив внимания на то, что та не имела возможности закрыться, защититься хотя бы самым слабым и ненадежным образом. А возможно, и даже скорее всего, именно поэтому он так и ударил, понял, насколько мантикор беззащитен перед ним в эти мгновения.
Демоник победил. Это Сара поняла, будто бы сама получила эти удары, хотя, конечно, она почувствовала их в очень ослабленном виде, не сильнее, чем если бы ее в указанные места укусил какой-нибудь овод. Но с Сероплатом все было кончено. Шоф даже не смотрел теперь на него, он просто отвернулся, тяжко уронив руки с окровавленными мечами, и пошел к своему плащу, который по-прежнему валялся на краю арены.
Мантикор постоял еще, пока демоник делал эти несколько шагов, потом забился, стал кататься по песку, смешанному с мелкой галькой и опилками, а затем все стало ясно даже зрителям.
Сара рывком поднялась из своего кресла. Она сделала то, чего делать не следовало, она почти сама, своей магией убила Сероплата. И проиграла? Чего тоже не могло быть, но все же произошло.
Она не заметила, как вылетела со своего балкончика в комнату, где оставались столики, уставленные угощением для нобилей из челяди басилевса. Гнев душил ее, причем не просто сжимал ей горло и грудь, но кипел во всем ее тренированном, сильном теле. Шурша платьем, в темпе, которому мог бы позавидовать любой из воинов, которые сегодня выступали на арене до Шофа и Сероплата, она прошагала вперед, к выходу. Один из столиков с вином, персиками и чем-то еще опрокинулся, хотя Сара даже не задела его, драгоценный серебряный кувшинчик вдруг жалобно застонал, и на его украшенной изумительной эмалью выпуклой поверхности появилась трещина, через которую тут же стало просачиваться вино.
Сара была в бешенстве. В коридоре ей поклонился один из служителей Колизея с намерением проводить гостью, но она резко оттолкнула его, сейчас она не нуждалась ни в каких провожатых. К несчастью для слуг басилевса, они не успели понять, что Сара идет на них, и не успели посторониться. Опрокинутые волной ее гнева, они разлетелись, будто сухие листья под порывом свирепого северного ветра, один снес с пьедестала статую, другой сполз по стене, почти лишившись сознания. Сара и этого не заметила.
Она спускалась по ступеням всех этих бесчисленных переходов во внутренний дворик Колизея, где оставила паланкин, словно летела по воздуху. Когда же оказалась там, не глядя уселась в первые попавшиеся носилки, которые были обозначены ее цветами, даже не заметив, что это паланкин Яблоны. Носильщики тут же изготовились, но поднимать груз на плечи не торопились. Сара даже отдернула занавесь, чтобы понять, в чем же дело, почему они не трогаются.
И лишь увидев саму Яблону, которая, подобрав подол, торопилась за ней так, что даже раскраснелась, поняла, что их тут еще удерживает.
— Быстрее, ленивая шлюха, — зарычала она на понимательницу желаний, будто бы та была виновна в проигрыше.
Яблона не стала спорить, юркнула в паланкин, забилась в самый дальний угол сиденья и постаралась сделаться как можно незаметнее. Подоспевший Харлем тут же принялся командовать довольно зычным для его тщедушного тельца голосом, выстраивая стражу и поднимая носильщиков. Наконец-то процессия тронулась в обратный путь, во дворцовый комплекс Сары, в Малое Городище.
И этого Сара не заметила, она тоже забилась на своем сиденье как можно глубже, как можно дальше от всего, что только что произошло, и попробовала размышлять. Собственно, особенно-то глубоких размышлений ситуация от нее не требовала. Сара знала уже, что и как теперь произойдет, и не сомневалась, что не ошибается.
За весь путь до своего дворца она произнесла только одну фразу, обращаясь к Яблоне:
— Заставь их двигаться живее, — подразумевая, конечно, носильщиков и глашатаев, которые бежали вокруг ее паланкина.
Оказавшись наконец-то дома, Сара хотела сразу же направиться к переходу в Верхний мир, но Яблона, заметив, должно быть, что она уже не только гневается, но и пробует размышлять, несмело и очень почтительно преградила ей путь.
— Госпожа, не лучше ли тебе чуть привести себя в порядок?
— Что? — Сара действительно не поняла ее.
— Я уже вызвала служанок, они поправят тебе волосы.
— Тогда давай здесь, — выдохнула Сара. Подниматься наверх, усаживаться перед зеркалом и ждать, пока неторопливые и трусливые служанки начнут ее обихаживать, — это было сейчас выше ее сил. Она не могла сидеть, не могла ждать.
Прибежавшие служанки занялись ею, а она стояла, неожиданно для себя замерев, будто терпеливая, хотя и норовистая лошадь. В широкие двери ее главного дворца ввалился Харлем с тремя или четырьмя охранниками, оказывается, Сара с Яблоной обогнали их, не заметив, что они отстают.
Харлем, кажется, опасался, что ему достанется от госпожи, но Сара даже не повернула голову, когда он склонился перед ней. Зато теперь, будто бы ей только его и пришлось ждать, она свирепо оттолкнула служанку, которая вытирала у нее пот с переносицы мягчайшей подушечкой из чистейшего и тончайшего хлопка, и снова шагнула вперед.
В общем-то гнев ее почти улегся, ярость испарилась. Но теперь ей нужно было знать, что потребует от нее за проигрыш Джарсин, это адово отродье, эта тварь? Которая опять, как уже бывало несколько раз за годы их жизней, оказалась почему-то сильнее. И умнее, к сожалению. Ведь не составляло труда догадаться, что она все заранее и отличнейшим для себя образом просчитала. Даже то, какое заклинание Сара попробует бросить в рыцаря Шофа, чтобы помочь своему Сероплату.
Они спускались в подземелья, где начинался магический переход. Сара бросила Харлему через плечо:
— Выкупи труп Сероплата у колизейских прислужников. Сколько бы они ни запросили, выкупи. Я не хочу, чтобы он стал украшением чьей-то гостиной из этих… Даже если это будет сам басилевс. Ты понял?
— Он понял, госпожа моя, — мягко промурлыкала Яблона.
Харлем, впрочем, тоже начал что-то говорить, что должно было обозначать, что он понял и что распоряжение будет, несомненно, исполнено. Он бы говорил еще довольно долго, но Яблона вдруг остановилась, повернулась к нему и довольно резко, совсем другим тоном, нежели только что ответила Саре, бросила:
— Ты лучше останься.
— Что? — не понял советник.
Сара не стала слушать их. Она почувствовала своим магическим чутьем, своей эмпатической одаренностью, что Яблону не волнует самочувствие Харлема, которому сегодня пришлось бы, если бы он по-прежнему следовал за ними, вторично проходить магическим переходом, а этого старик мог уже не выдержать. Понимательница попросту не хотела, чтобы что-то менялось, если он вдруг резко сдаст или — того и гляди — вовсе умрет. Его смерть слишком изменила бы заведенный порядок и распределение обязанностей, добавила Яблоне работы и сделала бы ее ответственной за все происходящее вокруг Сары. А вот этого она не желала.
Как ни была Сара расстроена, такая расчетливость в понимательнице ей понравилась, она даже впервые с того момента, как по этикету отулыбалась басилевсу в ложе, попробовала усмехнуться. Но у нее не очень-то вышло, губы сводила судорога.
Магический переход она прошагала решительно и быстро, хотя ее три раза ощутимо тряхнуло, причем однажды так сильно, что она даже врезалась в стену, а в другой раз ей показалось, что она идет не по плоскому полу, а по сводчатому потолку коридора. Такое здесь, впрочем, бывало, этот эффект иногда возникал, с этим ничего невозможно было поделать — закон правильного соотношения верх-низ тут не очень-то строго соблюдался.
Сара оглянулась. Яблона торопилась изо всех сил, следовала за своей госпожой так быстро, как могла, однако расстояние между ними, всего-то в десяток шагов на глаз, не уменьшалось. Будто под ногами Яблоны оказался не твердый пол из тесаных каменных блоков, а скользящая назад лента, не позволяющая ей приблизиться к хозяйке. Такое тут тоже иногда случалось. Жаль, что на этот раз магические эффекты проявились чрезмерно резко, но, кажется, Сара сама была в этом виновата. Выброс ее энергии, магия, которую она сейчас источала из себя, даже не замечая этого, определенно вызывали в поведении коридора эти вот странности, не иначе.
В замке она, впрочем, чуть подождала. И слуг, которые уже должны были бежать к ней сюда, в подземелье, и Яблону, которая наконец догнала Сару, хотя и была бледной и подрагивала плечами то ли от боли, которую вызвал у нее этот переход, то ли от полускрытого ужаса, который традиционно вызывала в ней смена миров.
Слуги появились тоже, лишь чуть опоздав. Сначала это были стражники, потом — служанки, одна из них, к счастью для них же, оказалась толстой ключницей и держала в руках недавно виденное Сарой огромное кольцо с ключами, один из которых открывал дверь лаборатории. Как и когда Яблона сумела это устроить, Сару не интересовало, но это было правильно. Понимательница честно отрабатывала свое звание и высокое положение среди слуг.
Яблона припала плечами к стене, пара служанок тут же занялась ею, но она смотрела лишь на Сару. Вероятно, пробовала понять, правильно ли она распорядилась, угадала ли на этот раз намерения госпожи.
— Как отсюда, не поднимаясь наверх, самым коротким путем пройти в лабораторию? — спросила Сара отрывисто.
Лишь тогда Яблона чуть опустила голову, взяла одну из полотняных салфеток, которой ее обтирали служанки, и промокнула пот у линии волос на лбу.
Сару повели, снова потянулись коридоры, но теперь архимагичка почти не торопилась, а шагала с достоинством. Чувство собственного достоинства — именно это ей нужно было вернуть, да поскорее. Потому что она не сомневалась, Джарсин не заставит себя ждать.
Так и получилось. Едва она вошла в лабораторию, в которой теперь горели факелы, да так много и так ярко, что она даже поморщилась, и пыль со столов была стерта, и даже кое-какие из ее приборов были расставлены хоть и без толку, но с некоторой видимостью порядка, едва шагнула к Постаменту, как тот заурчал, по своему обыкновению, потом засветился, и не прошло и нескольких минут, как на нем уже стала проявляться светящаяся, бледная фигура. Разумеется, это была Джарсин Наблюдательница.
Сара оглянулась. Стражники нестройно толпились у дверей, Яблона стояла на пяток шагов ближе. Пока Сара размышляла, стоит ли посвящать понимательницу желаний в предстоящий разговор, как Яблона уже обо всем догадалась, кинулась назад, вытолкала стражников и потребовала, чтобы закрыли двери. Все же смышленая девица, этого у нее не отнять. Сама она после всех этих хлопот вернулась, хотя и не подходила теперь к Саре слишком близко, как-то незаметненько спряталась, расплылась на фоне серой стены в одном из уголков сбоку от входа.
Джарсин теперь стояла на Постаменте во всем блеске своего необыкновенного величия. Платье на ней было другое, не то, в каком она предстала здесь же первый раз. Почему-то Сара отметила это краем сознания.
— Ты обманула меня, — сказала Сара, не заметив, что поднимает голос до громовой мощи и силы. Впрочем, она не кричала, все в этом зале само так получалось, как ей бы хотелось. — Ты использовала доспехи Корсуна!
— А ты решила, что можешь помочь магией своему любимцу? — спокойно, даже как-то вяло поинтересовалась в свою очередь Джарсин.
— Ладно… Ты же признаешь, что и не собиралась играть честно?
Джарсин чуть усмехнулась. Кажется, она поняла, что этим вопросом, в котором не было ни слова о корабле Удода, Сара пробует опосредованно выяснить именно эту, интересующую ее, деталь. Вот только отвечать Джарсин не собиралась, но по ее состоянию, даже ослабленному свето- и звукопередачей Постамента, Саре не составляло труда почувствовать, что подозрение ее верно, что именно Наблюдательница — причина гибели ее слуг, рабов, добычи и собственно кораблика.
— В Южном океане случаются иногда такие высокие волны.
— Особенно когда на расстоянии считанных миль от корабля извергается вулкан, не так ли?
— Это не имеет значения. А значение имеет вот что — ты проиграла. И теперь должна произнести клятву Единственного Подчинения, как мы и договаривались прежде. Ты — моя, Сара, хотя бы и для исполнения одного приказа… Произноси заклинание, я приму твою клятву прямо сейчас. — Джарсин опять усмехнулась, потому что выслушивать слова Подчинения от другой архимагички, от Сары Хохот, несомненно, было приятно.
Сара чуть наклонила голову. Опускаться на одно колено она не собиралась, хватит того, что Джарсин выиграла это Единственное Подчинение не вполне честно. То, что она сама пробовала использовать магию, Сара уже не помнила, ну почти…
Она стала припоминать слова магического Подчинения, она не была готова произнести их, не думала, что ей, именно ей, придется их вспоминать. Но все же тренированная и сильная память подсказала ей давние, сложившиеся еще на заре Магического мира, формулы. Она знала: как только она их произнесет, тут же станет иной, чуть-чуть, но все же — иной, лишенной частички собственной воли и способности править свою судьбу по собственному усмотрению.
Но делать было нечего, она стала медленно и все же правильно, врабатываясь в древние произносимые слова всем своим магическим даром, выговаривать:
— Я подчиняюсь воле моей Госпожи для исполнения одного ее распоряжения, каким бы оно ни оказалось, если оно не лишит меня магических сил и чести, начиная от сего мига. — Слова, которые она произносила, никто из ныне живущих смертных, наверное, не понял бы, потому что слишком давно истаял и угас язык, на котором они были созданы. Но все же следовало продолжать, и Сара говорила, иногда с трудом воспроизводя звуки, которые на мертвом языке слагались в смысл: — И если я нарушу эту мою клятву, пусть постигнет меня мрачная участь всех предателей и нарушителей Воли Темных и Сильных Богов, перед которыми я — всего лишь пыль под ступней и слабый ветер над скалами…
Клятва была довольно длинной и тянулась, тянулась… Как те коридоры, по которым Сара пришла сюда, в свою лабораторию. Только вот те переходы она почти не заметила, а эти формулы выматывали ей все нервы, отзывались в ее душе как громовые, нестерпимые удары. И все же их нужно было вытерпеть.
Пару раз она почувствовала, даже не глядя на Джарсин, что Наблюдательница хотела ей подсказать то ли правильные звуки, то ли правильные слова. Но Сара не обращала на эти попытки никакого внимания, и Джарсин угомонилась.
Наконец мучительная процедура была закончена. Пока Сара не ощущала в себе никаких изменений, она лишь знала, что они произошли. Но с этим следовало разобраться позже, сейчас в дело должна была вступить Наблюдательница. Ведь зачем-то ей понадобилось все, что она с Сарой сделала?
— Отлично, — проговорила Джарсин и спрыгнула с Постамента.
Она могла бы этого не делать. Она могла бы потребовать то, что хотела от Сары получить, и не выходя из своего светового облика. Но она спустилась, и хотя видно было, что это потребовало от нее немалых сил, возможно, даже больших, чем требовал от Сары переход по магическому переходу сюда, в Верхний мир, она не отказала себе в удовольствии предстать перед Сарой собственной персоной. Она огляделась, с заметным удовольствием убедилась, что никаких вооруженных охранников поблизости нет, и прошлась по лаборатории, отчетливо хмыкнув при этом.
— И как ты обходишься такими инструментами, думаю, тебе же лучше будет, когда ты для меня исполнишь, что обещала… Вернее, что я от тебя потребую.
— Я могу ждать твоего приказа не долее двух месяцев, Джарсин. Как ты могла заметить, я вплела в клятву именно это требование.
— Я заметила, — согласилась Наблюдательница. — Но знаешь, мне хватит. Может, и меньше времени понадобится. А сделать ты должна вот что…
Когда Сара выслушала это ее распоряжение, она, неожиданно для Себя, тоже ухмыльнулась.
— И это все? Этого хватит, по-твоему, чтобы… Ты только ради этого все и затеяла?
А Джарсин смотрела на нее со странной смесью злорадства — все же приятно побеждать других архимагов и видеть их униженными — и некоторой толикой сомнения. Неужто даже такая в общем-то неглупая архимагичка, как Сара, не понимает, что… все сколько-то значительное, большое, каждая на самом деле сложная интрига должна начинаться с малого? Хотя, может, это и к лучшему. Иначе, если сразу все изложить, посвятить в общий план, тогда кому-то он может показаться и вовсе неподъемным, невыполнимым даже… А этого допускать нельзя ни при каких обстоятельствах. Потому что — зачем же ей, Джарсин Наблюдательнице, возиться с робкими и неуверенными исполнителями? А сейчас Сара, еще до конца того не осознавая, была именно исполнительницей, и не больше.
Все остальное придет к ней позже, впоследствии, и то только в том случае, если все пойдет как задумано. Так будет лучше для нее же самой, подумала Джарсин и нежно, почти дружески улыбнулась Саре.
8
Постамент у Августа Облака, того из архимагов, к кому Саре предложила обратиться Джарсин Наблюдательница, был проще, чем у всех прочих. Август сделал из него что-то более компактное, чем огромная каменная тумба, какая стояла, к примеру, у самой Сары. Он любил такие штучки — упрощать всякие приспособления и даже создавать новые.
Магия есть магия, в ней Саре было многое понятно. Она использовала ее, не всегда любила, но всегда уважала. А вот зачем к магии нужно было приспосабливать еще какие-то простецкие, как говорил обычно сам Август, изобретения разных смертных, этого она понять не могла. Но этого уже давно, сотни лет, никто из прочих архимагов не понимал как следует. С этим они просто мирились, как и с тем, что Август в эти самые изобретения настолько плотно погрузился, что и архимагом уже не вполне считался.
Даже обычные маги и волшебники, которые все еще водились на свете и которых архимаги терпели, разумеется, не столько из цеховой солидарности, сколько из-за того, что они бывали иногда полезны для исполнения мелких поручений, так вот, многие из этих простых магов тоже не считали Августа за серьезного волшебника. Хотя соревноваться с ним не пробовали. Потому что как-либо конкурировать с тем, у кого всегда в рукаве оказывалось какое-то необычное приспособление, которое работало так, что и непонятно было, какие же законы природы — и природы ли — Август в нем использует, или просто спорить с таким вот умником практически было невозможно. Он всегда выигрывал и делал это настолько легко и просто, что его бы уже давно, наверное, уничтожили, просто из страха перед этими его способностями, перед этим его странным разумением мира, если бы он не был настолько неагрессивным и порой очень полезным.
Постамент стоял у него не как у прочих архимагов в подземелье, а в какой-то пристроечке, мало отличающейся от обычного флигеля довольно зажиточного фермерского дома. Облако вообще не в меру любил деревенский стиль, и эта внешняя незащищенность его жилища даже тут, в Верхнем мире, в прежние времена обманывала многих.
Сара вспомнила, что именно на этой простоте во время последней магической войны погорел Гийор Звено. Он навалился на домик Облака, сумел привести какие-то свои войска, зато дальше случилось что-то, о чем вспоминать уже было некому: и Гийор, и все его не слишком многочисленное войско полегло целиком. Август об этом никому ничего не рассказывал, хотя, случись такое с кем-нибудь еще, например с Рошем Скрижалью, тот бы непременно написал пару трактатов о сем событии.
Но Рош всегда был и по сию пору оставался книгочеем, бумагомаракой и каталогизатором, не утратил способности рассуждать на многие темы, даже на такие, о которых имел весьма туманное представление. А вот Облако был из другого теста. Он изобретал и изучал, и частенько случалось, что, открыв что-то, почти тотчас придумывал новую задачу, забывая решение предыдущей, не то что не сотворив диссертацию на эту тему, но и не позаботившись отметить найденное решение даже для себя. Из-за этого, как сказывали, он некоторые открытия делал по несколько раз, вспоминая, что пошел по отработанному пути, лишь тогда, когда новая машинка, или устройство, или новый же принцип уже начинали работать. Или не начинали работать. Впрочем, такое у него случалось нечасто.
В пристроечке было пусто, то есть никого не было, даже какого-нибудь стражника. Вот только сама Сара нисколько не сомневалась, что какое-нибудь следящее устройство тут непременно имелось, а значит, Облако уже наверняка знал, что некто вызывал его, а через четверть часа, так и не получив отзыва, этот некто через его Постамент прошел и объявился в его жилище самолично.
Она еще разок прошлась по помещению, всего-то в нем имелось шагов тридцать в длину и с дюжину шагов в ширину. Она не смогла сразу определить выход из этой комнаты. Для того чтобы найти дверь и выйти отсюда, ей необходимо было включить магию, и неслабую. Но делать это она опасалась, вон Звено, поди, тоже зарядился перед вторжением к Августу боевой магией, и чем это кончилось? Поэтому лучше было все же немного подождать.
И хорошо, что она поступила именно так. Потому что довольно скоро одна из стенок вдруг уползла вверх и перед ней предстала довольно стройная, невысокая девушка с какой-то бляхой на груди, украшенной еще и непонятными висюльками, которые позванивали, когда девушка зашагала к Саре, чуть напряженно улыбнувшись, но не обозначив никакого иного приветствия. Сара не привыкла к такому обращению, но она была не на своей территории, не в своем замке и потому решила не выказывать недовольства.
Она вспомнила, что Август, помимо всего прочего, отличался еще странной, малообъяснимой терпимостью к тем смертным, которых принимал в услужение, кому давал кров и стол, кем распоряжался и с кем, в силу необходимости, вынужден был мириться в своем доме. И если быть до конца объективной, следовало признать, что он о своих слугах заботился. Потому что обращался с ними просто, если не сказать больше — почти на равных. А еще, пожалуй, он относился к ним с некоторой толикой уважения, что тоже не укладывалось в головах прочих архимагов, но с чем они, так же как и с другими странностями Облака, давно уже смирились.
И все же девушка, которая вблизи предстала какой-то на редкость необычной смесью эльфийской породы и расы карликов, поклонилась Саре. Но и поклонилась-то небрежно, мельком, простенько так, без выкрутасов, едва ли не кивнула. Сара в ответ тоже кивнула.
— Приветствую тебя, госпожа Сара, — проговорила девушка, не озвучив ни одного из титулов гостьи. Меня зовут Нарисса, я одна из помощниц господина нашего Августа.
Ишь ты, изумилась Сара, помощница! Тебя бы на конюшню да высечь как следует, вот тогда бы ты не то что помощницей, пожалуй, даже нижайшей рабыней архимага опасалась называться. Но, к ее удивлению, девушка оказалась не глупа, она прочитала мысли Сары, и сделала это настолько легко, что сама и не подумала придавать этому значения, только чуть нахмурилась. Однако, видимо, указания хозяина помнила хорошо, а потому сделала приглашающий жест.
— Господин наш сейчас в лаборатории подземных работ, он просил меня проводить тебя к нему.
Просил? Такими, как ты, полукровка, командовать следует, распоряжаться, будто бы и не с одушевленной смертной имеешь дело, а с мебелью, еще больше разозлилась Сара, но все же послушно пошла за девушкой.
Поведение Нариссы изменилось. Она уже не улыбалась, когда оглядывалась. Внимательно наблюдала, как Сара смотрит по сторонам, что привлекает ее внимание, скорее всего желая понять, что же нежданной гостье может понравиться.
А нравилось Саре не многое, потому что они шли практически через обычный садик, между кустов и деревьев. То тут, то там проглядывали стены таких же легких строений, из которого они вышли. Что в них могло размещаться? Непонятно. Сама Сара для удовлетворения любопытства не хотела использовать магию, а если учесть, что вот в подобном почти сарайчике Август держал такой редкий магимат, как Постамент, не исключено, что в других находились такие же ценные магические машины. Спросить же Нариссу — о таком Сара даже не думала. И из-за спеси, и из-за привычки считать, что смертных архимаги никогда бы не подпустили к подобным ценностям нигде на всем белом свете… Кроме как здесь, у этого самого, почти блаженного Августа.
Но сердиться перед встречей с ним не следовало. А нужно было поступить как раз наоборот — сделаться спокойной, рассудительной, благожелательной и любящей. Да, именно так, хотя для Сары это и было самым трудным. Потому что любить что-то, что непохоже на мантикор или на корабли и море, она толком не умела.
Довольно неожиданно для Сары они вдруг стали спускаться в какую-то землянку, именно что в землянку, в таких иногда жили самые неимущие из смертных, с земляными ступеньками, узкой щелью уводящими вниз, с какой-то простенькой, из плохо оструганных деревяшек дверью. Но за ней вдруг оказался выложенный светлым гранитом холл, в центре которого стояла, будто сани на вершине горки, странной, обтекаемой формы продолговатая бочка с колесами, закругленным носом и такой же кормой. Она располагалась перед коридором, который своей темнотой уходил куда-то вниз. Переднее и заднее колеса бочки из-за странной ее формы были не сразу заметны и стояли на металлической и узкой дорожке, которую инженеры, кажется, называли рельсом.
Девушка уселась в бочку, пригласив Сару не очень-то почтительным жестом на сиденье сзади. Делать было нечего. Потоптавшись в неуверенности, Сара уселась, неловко подогнув ноги и подобрав свой хитон. Держаться, впрочем, как она обнаружила, было удобно — по бокам от сиденья имелись толково устроенные поручни. Полукровка спереди дернула какой-то рычаг, и бочка на колесах покатилась! Причем все время набирая ход! И уже довольно скоро они неслись едва ли не быстрее, чем на самой лучшей и скоростной мантикоре.
Несомненно, это был аналог коридора, который вел из замка Сары в Верхнем мире в Малое Городище в Басилевсполе. Вот только тут все действовало как-то маханически. Они летели, впрочем, не слишком долго. Уже через пару-тройку миль, как решила Сара, учитывая скорость бочки и время, которое заняла дорога, они выскочили в пещеру, стены по бокам чуть раздвинулись, да и потолок приподнялся, а сама бочка стала тормозить. Значит, они подъезжали.
Так и оказалось. Бочка шла по своему рельсу все медленней, а затем вдруг выехала из склона какой-то горы на неширокую террасу, устроенную вдоль ее подножия. Вокруг раскрылся изумительный вид с отдаленными деревушками, полями и лесками, с речкой, что вилась между здешних гор и холмов, и с ясным голубым небом, залитым невысоким, вечерним солнцем. Определенно они были теперь в Нижнем мире. Бочка еще немного прокатилась, завернула за выступ горы, и они въехали в довольно просто, но и умело, даже красиво выстроенный замок Августа, частично утопающий все в той же горе.
Здесь бочка остановилась, к ней подбежал карлик в плотном халате, который был ему определенно велик, и, не обращая внимания на Сару, вопреки всем ее установлениям для собственных слуг, не смущаясь, спросил Нариссу:
— Ну как, нормально вышло?
Девушка улыбнулась, похлопала карлика по плечу и стала вылезать. Саре она пояснила:
— У нас на прошлой неделе рельс в одном месте треснул, мы заменили кусок, но стыки не удавалось подогнать, пока вот этот парень не справился.
Значит, решила Сара, Август рисковал ее жизнью, запуская с бешеной скоростью в не слишком надежной бочке по тоннелю? Ну хорош, решила она, это ему отольется. И служанке этой непочтительной, и карлику…
Они пошли по дворцу Августа, но идти нужно было совсем немного. В огромном зале, вытесанном прямо в скале, с малопонятными окнами, устроенными высоко вверху, нашелся и сам архимаг Август Облако. С полудюжиной каких-то карликов, эльфов и людей он крутился возле огромного квадратного стола, футов в сорок по каждой стороне, и о чем-то с одним из эльфов довольно терпеливо спорил. Спорил!
— Ты не дурачься, Снефиль, ты сделай так, чтобы потоки хотя бы не вихрили, а протекали равномерной струей. Тогда мы сможем отводить их в какие-нибудь карманы. — Он увидел Сару. Дружески улыбнулся, действительно широко и радостно, будто своей подружке после долгого расставания, и проговорил своим гулким, спокойным баском: — Ага, это ты? Как добралась?
Сара присела в низком поклоне, демонстрируя полное и отчетливое уважение к хозяину. Вместо того чтобы ответить таким же церемонным поклоном, Август лишь согнулся в пояснице, но тут же выпрямился и, по-прежнему улыбаясь, продолжил:
— Вижу, что хорошо добралась. Значит, рельс не стучал, Нарисса?
— Господин, один раз нас все же тряхнуло. Кажется, раньше было лучше. Пусть Вист еще там повозится.
— Он побежал вас встречать, не смог усидеть тут, — отозвался Август.
— Он встретил, но я ему о тряске ничего не сказала, пусть от тебя услышит эту, — девушка довольно улыбнулась, — не слишком обнадеживающую новость.
— Хитра ты не в меру, Нарисса, ты вот что… ты ему передай, что я велел. Ты ведь этого добиваешься?
— Слушаю и повинуюсь, — хмыкнула полукровка и тут же, подобрав платье, развернулась даже без намека на поклон и унеслась к карлику по имени Вист.
— А ты как? — обратился Август к Саре. — Не испугал тебя мой монорельс? Надо признать — интересная идея, только до конца ее так и не проработали. В месте магического перехода все время что-то происходит, — он чуть запнулся, — даже с металлом.
— Ты рисковал моей жизнью, запуская в той бочке по непроверенной… по тому рельсу, если я правильно понимаю ваши технические словечки.
— Ты верно все понимаешь, Сара. — Август улыбнулся блаженной улыбкой изобретателя, у которого работает его придумка, пусть и не вполне, а с необходимыми ремонтами. — Сам-то я такой мелочовкой, как стыковка рельса, заниматься не хочу, пусть они без меня обойдутся. Это же просто. — Он повернулся к столу, по которому уже ползали его подручные карлики и люди и то снимали какие-то крышки, то ставили их на место, что-то тщательно протирая внутри.
Это был, кажется, макет пещеры, сложенный из прозрачнейших, видимых лишь вблизи плиточек, трубок и витиеватых загогулин. Некоторые из этих прозрачных штуковин образовывали полости побольше иного кувшина, зато другие были не толще волоса, и если бы не способность Сары поднимать остроту своего зрения, сравнимого со зрением голубей или иных таких же зорких птиц, она бы их и вовсе не заметила.
И еще она увидела, что на всех четырех углах стола снизу к столешнице были прикручены довольно сложные механизмы, к которым подходили прямо по полу провода или трубочки.
Хотя, как ни странно, те слуги, что крутились вокруг макета, обращались со всем этим причудливым изобретением Августа довольно уверенно. Они занимались каждый своим делом. Больше того, ни один из них даже и не подумал ей, архимагичке Саре Хохот, поклониться. Они, нимало не чинясь присутствием двух архимагов, спокойно разговаривали между собой, забыв об этикете в отношении своего господина и его гостьи. Определенно Облако их распустил превыше всякой меры!
— Гасс, протри пылесборник тампоном, спирт у нас где-то на полу в бутыли стоит.
— А в него Шурум уплотнительную прокладку уронил. Вздумал тампон смочить из большой емкости, а не в кружке и не удержал прокладку, ротозей.
— Сходи на склад, возьми свежий, там должен быть. Вурхеном на прошлой неделе спирта еще не меньше галлона выгнал, довольно чистого, он мне говорил. А ты, пень ушастый, Шурум, этот будешь теперь через фильтры гонять, пока не очистишь.
— Господин Деверк, да я же случайно, — заныл молоденький мальчишка из людей, безусый еще, одетый в подобие рясы, будто монах неведомого культа.
— Скандалят ребята, — улыбнулся Саре Август. — Ничего, еще пару месяцев повозятся, и все у них получится. — Неожиданно он вздохнул. — Сейчас-то пока не получается. Не работает машинка, м-да…
— А что это? — неосторожно спросила Сара и тут же прикусила язык. Задавать подобный вопрос Августу в таком вот настроении определенно не следовало, он мог пуститься в объяснения, которые займут не один час. Чуть не всю алгебру заставит выучить, чтобы понятнее было.
— О! Это? Грандиозное изобретение! — воскликнул Август. — Если получится, тогда… — Он перевел дыхание и уже спокойнее договорил: — Мы сможем строить тоннели, даже целые города, целые страны — под землей! Представляешь?
— Карлики делают это уже тысячи лет, — пожала плечами Сара.
— Ха! Они делают свои пещеры узкими и, главное, рассчитывают только на прочностные характеристики камня. Спору нет, делают они это мастерски, но… — Внезапно Август внимательно посмотрел на Сару так, что она даже выпрямилась. — Слушай, ты что-нибудь знаешь о силовых струнах пространства? Конечно, это пока не до конца разработанная теория, но она действует. Представляешь? Действует. — Внезапно он озадаченно почесался где-то за ухом. — Хотя, конечно, откуда тебе? Да и секрет это. Я сам совсем недавно до этого дошел. Ну, в общем, есть идея — придавать пещерам дополнительную прочность этими вот самыми силовыми струнами. Штука получается удивительная! Можно целые города там, под землей, возводить, океаны образовывать, а потом еще и народы новые туда переселять. И все благодаря этому вот изобретению. — Август кивнул на ближайшую из тех металлических штуковин, что были устроены по углам стола с макетом.
— Но ведь пока у вас не очень-то получается? — спросила Сара, чтобы что-то сказать.
— Верно, пока не очень. Видишь ли, эти силовые струны в относительно тонких тоннелях порождают каким-то образом такие перепады давления, что вихри становятся прямо безумными. Турбулентность такая, что, попади кто-то в такой вот вихрь, задохнется на месте. В них не то что двигаться, даже дышать невозможно. Не хватает мускульной силы наших легких, чтобы воздух вдыхать и выдыхать в правильном режиме. Вот чтобы устранить эту особенность или хотя бы сделать умеренной, мы этот макет и устроили.
— Господин Август, — Сара через силу улыбнулась, хотя улыбаться при виде вот этого идиотика, пусть и архимага, ей почти не хотелось, — есть у тебя где-нибудь какой-нибудь кабинет или хотя бы будуарчик, где мы сможем спокойно перекусить, выпить вина и поговорить? Видишь ли, — добавила она, — я прибыла к тебе по делу. Как ты мог бы и сам догадаться, если бы не думал все время лишь о своих игрушках.
— Это не игрушка, Сара. — Август посерьезнел. Но было видно, что он по-прежнему думает об этих своих силовых струнах пространства, или как они там называются. — Это может оказаться одним из величайших открытий. — Он все же отвернулся от макета и от примолкших работников, которые продолжали возиться со стеклянно-каменным устройством на столе. — А кабинет, конечно, есть, пойдем.
В кабинете Августа, устроенном в этом зале чуть сбоку в небольшой, лишенной окон комнатке за плотными дверями, беспорядок был такой, что, доведись тут оказаться Сариной ключнице, ее бы несомненно хватил удар. На полках, стеллажах и столах валялись чертежи, бумаги, папки, свитки и даже древние книги, собранные в подобие щеток из легчайших деревянных табличек. В одном углу стояла довольно высокая и длинная темная доска, на которой, кажется, полагалось рисовать меловыми палочками. На ней остались какие-то замысловатые рисунки, а сбоку были еще и непонятные значки, обозначающие расчеты согласно той самой алгебре, которую Сара побаивалась вспоминать.
К счастью, чуть сбоку притулились два диванчика с почти обычными подушками, а перед ними расположился низенький столик, заваленный засохшими кусками хлеба и какой-то закуски. На полу у столика стоял прозрачный кувшин с янтарным северным пивом. Сара вспомнила, что вина Облако почти не пил, зато весьма часто упражнялся в изготовлении пива разных сортов и рецептур.
— Вот, садись на этот диванчик, он покрепче будет. А то другой — продавили его мои оглоеды. Свежие бутерброды и пирожки сейчас принесут, я распоряжусь.
— Ты что же, — спросила Сара уже откровенно недовольно, усаживаясь на диван, который на вид казался гораздо удобнее, а на самом деле был едва ли не таким же продавленным, как и тот, на который садиться Август не советовал, — тут с ними сообща перекусываешь?
— Ага, — задумчиво отозвался Облако, — я забыл, что у тебя принято от слуг держаться на дистанции. — Он снова улыбнулся. — Ну да у нас тут иные обычаи. А перекусывать, как ты выразилась, с этими ребятами мне не стыдно и ничуть не принижает меня. Среди них знаешь какие способные есть? Прямо талантливые, не иначе. Такое придумывают — мне бы в голову не пришло. А едим мы вместе, потому что времени жаль, да и поговорить иногда спокойно так, за стаканчиком пива, полезно для дела бывает, узнаешь многое. Да и остроумные они, с ними хорошо так, спокойно. Ну ты располагайся… — Он вышел на пару минут.
А Сара неожиданно поняла, что с таким, как Август, следует говорить прямо, чего она на самом-то деле не предполагала. Она готовилась ко всему, ко всем своим обычным уловкам и хитростям, лгать, недоговаривать, что-то упрощать, а что-то и переусложнять, смотря по обстоятельствам, иногда играть в прямодушие. Но чтобы говорить все как есть — к этому она не привыкла, поэтому следовало перестроиться.
Август вернулся, чему-то довольно улыбаясь и даже, как показалось Саре, немного расслабившись. Кажется, он решил передохнуть от своей глупой возни со всеми этими смертными и своими идеями.
— Ты чего улыбаешься? — спросила она.
— Подумалось мне, — отозвался он, пробуя прибраться на столике, сдвигая недоеденное в сторону, дунув в пару стаканчиков, чтобы они казались почище, и наливая в них пенное, судя по запаху, действительно знатное пиво, — что будет, если я тебя, допустим, захватить попытаюсь? Вот женюсь, и останешься ты жить тут до скончания времен. Как тебе идея?
Сара охнула от неожиданности. Даже странно было — как такой дурень стал таким сильным архимагом. Впрочем, начало, как ни удивительно, могло оказаться Саре на руку.
— За мной стоит Джарсин, она не позволит.
Он нахмурился, никогда не любил Наблюдательницу.
— Страшненькая она и слишком далека от мира.
— Это ты непонятно чем занимаешься.
— Но я же объяснил тебе, правда, кратенько, из этих пояснений не все можно понять. Пиво будешь? А то жди, пока вино принесут, за ним уже побежали. Давай я тебе получше объясню… — На Сару вдруг дохнуло такой устоявшейся незлобивостью и благодушием, что она поежилась.
— Не надо. Лучше вот что скажи мне, ты, предположим, мост на Южный континент с помощью этих твоих магических струн выстроить сможешь? Если собрать побольше рабочих и средства еще у Вильтона подзанять…
— Мост по открытому пространству? — Август задумался. — То есть чтобы струны держали не своды пещер, а служили вместо опор? Нет, лучше сделать, чтобы они как подвеска. Или так, чтобы они опоры дополняли, ведь твой Южный океан не слишком глубокий, местами с полсотни саженей или в сотню. Не знаю, не думал об этом, хотя идея интересная. А зачем тебе? Задумала между континентами переправу навести, а потом еще и денежки за проезд требовать? Да кто же между двумя континентами поедет, вы же там все воюете друг с другом? К тому же Вильтон тебе под самые суровые условия деньги одолжит, и ты тогда вовсе обанкротишься.
Сара смотрела на него сейчас почти угрюмо. Надо же, такие возможности, такая силища — и дураку достались! Вместо ответа она снова спросила:
— А ты мосты или переходы эти твои в Верхнем мире сумеешь выстроить? То есть между разными тамошними нашими владениями и, допустим, отдаленными владениями уже тут, в Нижнем мире?
— Чтобы проходить по Верхнему миру, а затем сразу раз — и оказаться в середине твоих земель? — Он усмехнулся и долил себе еще пива. — А что, вполне возможно — ставишь мостики на магические опоры, их можно сколько угодно устроить, правильную кладку делаешь, еще закрепляешь воздушную среду над этим местом, ведь между островками Верхнего мира, сказывают, воздуха нет, можно задохнуться… Затем, — он снова подумал, — да, протягиваешь мои магические струны, немного перетягиваешь их, они в напряженном состоянии крепче становятся, — пояснил он, будто она могла это понять, — только для сохранности конструкции энергии нужно много. Ну да это дело поправимое, на опорах можно ретрансляторы сделать и ветряки поставить. Затем? Да! Отлично даже получится, потому что вихри там не будут, как в пещерах, кости ломать, а будут расходиться. Только посчитать кое-что нужно, чтобы струны не оборвались.
И этот вот блаженный вдруг подошел к доске для рисования мелом, стал что-то стирать, затем не очень уверенно принялся выписывать какие-то формулы. Не оборачиваясь, добавил:
— Вязать струны придется треугольниками, тогда удержат. И камень слишком тяжелый, придется настил деревянным строить.
— Математика? — спросила Сара, потому что ничего не понимала.
— Не вполне чистая математика, а инженерное искусство. Его смертные изобрели.
— Скажешь тоже — смертные, — фыркнула Сара.
В комнату вошла Нарисса, она предводительствовала парой юнцов в тех же светло-синих с коричневыми полосами хламидах, какие здесь Сара уже видела. Оказывается, это было что-то вроде униформы. Юнцы притащили два подноса с самой разнообразной снедью, даже сливы и груши в вазе оказались. Девушка принялась протирать столик чуть влажной тряпкой, сгребая объедки на освободившиеся подносы. За такую уборку, да еще в ее присутствии, в своем замке Сара непременно отправила бы этих троих на конюшню, на порку, но здесь? Это выглядело в порядке вещей. Так уж тут было заведено. К тому же когда Сара сама налила себе кубочек вина, оно оказалось выше всех похвал. Она даже удивилась, выяснилось, что Август не прочь вкусно выпить. И зачем тогда, спрашивается, ему это пиво?
Когда слуги ушли, она откинулась на спинку дивана привольнее и продолжила разговор:
— Что задержишь меня — не боюсь, потому что… — Она не хотела этого говорить, но лучше было все же сказать, чтобы потом действовать уже наверняка. — Я же знаю, ты всегда ко мне был неравнодушен. Возможно, даже, при некоторых обстоятельствах, хотел бы жениться на мне. И то, что у нас, архимагов, этого никогда прежде не бывало, тебя бы не остановило.
— Верно, не остановит. Даже твое коварство я бы как-нибудь купировал, допустим, вассальной присягой.
Когда-то у них на самом деле был роман, и довольно пылкий. Но едва Сара стала от него уставать, она всерьез принялась подумывать, чтобы взять над Августом власть, полностью, уж средства и способы для этого у нее были, постигла и даже опробовала их, еще когда была молодой колдуньей, с этим проблем бы не возникло. А заодно можно было бы прихватить его владения, обширные, богатые, потому что воевали в его землях редко, а если и объявлялся какой-нибудь воинственный князек или царек, бывало, что Облако вмешивался и устанавливал, на свой манер, конечно, некое подобие справедливости.
Правда, тогда он тоже был моложе, страсти и желания его не переключились полностью на изобретательство и возню с этими вот макетами. Сара улыбнулась, не замечая, что гримаска ее оказалась даже в некоторой степени мечтательной.
Причиной их расставания оказались, конечно, те самые планы, которые Сара стала в себе вынашивать. Август каким-то образом заметил их, прочитал или магическим способом уловил и тогда с неохотой от нее отстал. Но не совсем, не полностью, не до конца, это было и сейчас заметно. На этом-то Сара и надумала сыграть.
Хотя, если точнее, задумала все Джарсин, она-то знала об этом романе, об этом все знали и даже, кажется, ставки делали, кто из них двоих кого первым погубит, как тогда говорили почему-то, «съест». Но они расстались мирно, не доставив удовольствия облеченным магией зрителям.
Сара верила, что и сейчас она, если подумать, тоже неплоха или даже еще лучше… Сейчас она в расцвете своих женских сил и чар. И он, этот вот самый инженер, или изобретатель, или философ со своими настроениями, кажется, все еще способен любить. Единственный из всех архимагов. Жаль, она в свое время не использовала этот его дар по-настоящему.
Зато, может быть, сейчас использует? Сара смутилась, действительно смутилась, как девчонка. Почему-то ей пришло в голову, что, если бы она не задумала тогда коварный перехват силы Августа и его владений, может быть, сейчас она была бы более сильной магичкой и иные возможности, недоступные ей ныне, в ее сегодняшнем состоянии, открылись бы перед ней полностью?
Август воспользовался паузой, подошел к доске, снова стал водить по ней выпиленным из мела кубиком, что-то стирал, что-то надписывал в сторонке, должно быть, чтобы не забыть. Потом спросил:
— Так чего же тебе нужно, Сара? Ты не объяснила, зачем пришла ко мне.
— Я попрошу у тебя одну службу. Серьезную и трудную. Я проиграла Джарсин Подчинение. И теперь хочу, чтобы ты исполнил для нее кое-что, а за это я переведу Подчинение на тебя. Буду твоей должницей. — Она запнулась, даже ей самой ее предложение показалось каким-то детским, не слишком убедительным. Пришлось начинать снова. — Если сделаешь то, что нужно, я произнесу клятву, и ты получишь меня.
— Хитро, нужно будет заглянуть в кодекс — можно ли так делать. Ну то есть законно ли это?
— Я проверяла, так можно. Все будет законно.
— А что нужно сделать? — Все-таки он никогда не был силен в политике. Другой бы заговорил о выгодах, которые можно выторговать, а этот? И вдруг Август спросил: — Вот еще что, как получилось, что ты попала в кабалу к Наблюдательнице?
— Я хотела получить возможность экспансии Южного континента.
— Ух ты, ставки-то были, оказывается, немаленькие. Но, знаешь, Южный континент… Там свои маги и свои порой значительные силы.
— Они не слишком велики, если бы мне не мешал никто из наших, я бы справилась. К тому же мне могла посодействовать Джарсин.
Август вернулся за столик, налил еще пива. Уселся. Он думал, но уже не о своих силовых струнах.
— Что-то она расщедрилась. Торгует тем, чего сама не имеет.
— Она обещала не мешать, а как заставить ее мне помочь, хотя бы немного, я бы придумала, если бы она проиграла. — Сара вздохнула. — Но проиграла не она, а я.
— М-да, не повезло тебе. Наверное, как всегда, сама себя же обхитрила.
После этих его слов Сара уставилась на него с подозрением, пробуя понять, знает он что-то определенное или же нет? Вполне могло оказаться, что ему уже успели донести. Нет, невозможно. Ведь все произошло так быстро, что вряд ли нашелся такой архимаг или смертный, кто следил за их с Джарсин спором и все правильно понял и растолковал.
Август смотрел на нее внимательно, как он смотрел, бывало, в прежние годы, когда твердо знал, что она собирается его предать. И уже не улыбался.
— И все же что следует сделать?
— Да, собственно, то, чем ты тут занимаешься, только в том варианте, в каком я тебя спросила. Нужно построить мост для нее, для Джарсин, в указанное место и в указанное время прямо из Верхнего мира.
— Всего один мост? Это и есть возможность выкупить тебя у Джарсин? Все именно так просто, без подвохов, которые вы с ней так любите?
— Она просит этот мост не только в нужную точку, но и к определенному сроку. И оба условия нужно точно выдержать.
— Любопытно, значит, не все так однозначно, как кажется. И не мост тут главная деталь, а что-то еще, верно? — И снова Август спросил довольно неожиданно: — И ты не пытаешься меня одурачить?
И вот тогда Сара бросила в него заряд притяжения, очарования, почти требование любви, участия и ласки. Она знала — у нее много этого добра осталось, потому что она много ненависти выбросила, когда хотела в бою с демоником своему мантикору помочь, а ведь магия почти всегда создает отражения, действует по закону общего равновесия, в том числе и равновесия эмоций.
Она сделала это, хотя знала — теперь будет чувствовать к Августу отчаянную привязанность и влечение, с которыми, может быть, и сама долгое время не сумеет справиться. Но это нужно было сделать, так было все же безопаснее, вернее, надежнее, а этой самой надежности Саре не хватало. С выдумщиками и изобретателями можно было действовать только так, наверняка, насовсем, с запасом общего эффекта. А если этого запаса окажется чуть больше, чем следовало, или даже изрядно больше? Ну что же, тогда ей придется и с этим справиться. И она знала, что со временем справится.
Иначе, пожалуй, этот прием ни за что бы не использовала, потому что зачем ей постоянная или просто долговременная привязанность? Это ей будет мешать, сделает даже слабее, а вот слабости в той игре, которую затевала Джарсин и в которой Сара вынуждена была теперь принимать участие, она себе позволить не могла. Ни под каким видом, ни под каким предлогом, ни в коем случае.
А Август дрогнул, он определенно не ожидал такого от Сары. Лицо-то у него оставалось прежним, кажется, не изменилось ни малейшее напряжение ни одного мускула вокруг рта, на лбу, вокруг глаз или под тонкой кожей, заросшей щетиной на скулах. Но общее выражение стало меняться, в нем уже не было какой-то избыточной сосредоточенности, которую Сара сразу же заметила, едва Августа увидела. И еще пропал лихорадочный, упорный блеск в глазах. А больше ничего не изменилось, но теперь перед ней стоял совсем другой Август, другое существо, неожиданно для себя вспомнивший о любви и, пожалуй, даже о страсти. Поразительное для архимага явление.
— Ты этого не делай, Сара, не стоит, — чуть хрипловато проговорил он. — Это на меня теперь не подействует, ты же знаешь.
Все она знала, и куда лучше, чем он сам. Он, конечно, мог говорить что угодно, он мог сопротивляться, протестовать внутренне или на словах — это не имело значения. Потому что он сдавался, как армия, в силу странных, не совсем даже понятных ей самой причин, вдруг складывает оружие и подчиняется противнику. Сара это отлично видела.
— Слушай, я же прошу тебя. Не нужно. — Теперь его голос был уже похож на дребезжание разбитого колокольчика, на треск хвороста под ногами в сухом лесу. — Это же нечестно!
Вот уж о честности ей заботиться было совсем ни к чему. Она даже сделала что-то с собой и усилила нажим, прибавила сил в свое колдовство, которое теперь, кажется, горело между ними как магическая связь, его даже малообученные смертные увидели, если бы сейчас сюда кто-либо вошел. Впрочем, тогда бы, вполне возможно, Сара этого смертного сожгла бы на месте, потому что это могло ей помешать, а Августа могло отвлечь.
Кажется, именно эта вот неприкрытая жестокость ее мысли уже помешала. Август встряхнулся и сделал несколько шагов назад, будто бы отступал, не сводя с Сары своих глубоких и ясных глаз. И тогда она прочитала его.
Он не боялся ее, даже такой, когда она откровенно навязывала ему свою волю и свое желание. Он снова размышлял, думал, разрази его все погибели мира, начиная от саранчи и голода и заканчивая чумой, войной и отравлением вод! Он думал, соображал. И теперь эти его мысли тоже следовало понять.
Хотя, если честно, это оказалось для Сары не очень сложным. Она была сейчас с ним в таком тесном эмпатическом и эмоциональном контакте, что поняла его едва ли не элементарно. Август был готов согласиться на ее предложение и даже был готов ей помочь, но в первую — и главную — очередь не потому, что она пыталась влюбить его в себя, подчинить себе и соглашалась ему принадлежать душой и телом. Вовсе нет, он соглашался на это по той простой причине, что хотел пуще всего прочего, даже больше, чем заполучить ее, Сару, хотя бы на время, попробовать, что у него с его подручными получится при строительстве того моста, который от него нужно было получить Джарсин Наблюдательнице! И никак иначе!
Сара почувствовала укол раздражения, быстро возникший и еще быстрее набравший силу, превратившийся почти в настоящую ярость. Она ревновала Августа к его труду, к его заботам, к его нацеленности на осознание всего, что тут происходило, и его способности думать даже тогда и там, где думать было вовсе не обязательно, где никто не думал, где нужно было только подчиняться тем остаткам природных свойств, которые даже в них, в архимагах, еще сохранились.
— Все же, — спросил он уже своим, а не изменившимся голосом, — что там за интрига? — И посмотрел на Сару внимательней обычного. Даже более внимательно, чем разглядывал ее в самом начале их встречи.
— Я не знаю, на самом деле не знаю. — А вот у нее голос подкачал, он был не вполне ее, а скорее принадлежащий какой-то иной женщине, с иными силами и иными запросами. Или принадлежащий просто… женщине в страсти.
— Это или что-то очень мелкое, неинтересное, бабское… Хотя Джар определенно уже не совсем… Или что-то такое, что стоит гораздо дороже, чем просто Единственное Подчинение тебя…
Сара оставалась в плену своей же магической прелести. Она готова была убить Августа. Но с некоторым даже самодовольством отмечала, что на самом донышке этого своего порыва плескалась любовь к нему, любовь и желание, почти настоящая нежность.
— Но ты ведь выкупишь меня у нее?
Он по-прежнему чувствовал и читал ее так же легко и просто, как мог практически при любом освещении, в любое время суток видеть облака над собой в небе.
А она подошла к нему ближе, еще ближе, так близко, что стал виден свет его глаз, который можно различить, только подойдя вплотную. И этот свет вызвал у нее наравне с остальными ее ощущениями и впечатлениями сейчас взрыв удивления — почему она к нему так долго не приходила и что же могло помешать им оставаться вдвоем хотя бы иногда, а может быть, и чаще даже, может быть, надолго?
— Всего один мост… — проговорил Август, не отводя взгляд, и Сара поняла, что сейчас он ее обнимет. — Ты всегда знала, чем меня взять.
ЧАСТЬ 2 ОРАНЖЕВЫЙ ГОЛОД СВОБОДЫ
1
И ведь знала Нашка Метательница, что снится ей сон, вот знала, а ничего поделать не могла. Слишком уж сон был явственный, объемный, цветной, и она даже звуки слышала. Ненавистные звуки толпы, волнующейся от зрелища совершающихся убийств, когда каждый из зрителей находился в полной безопасности.
Ничего никому из них не грозило. Они определенно были в безопасности, хотя и не вполне. Ведь бывали случаи, когда кто-то из остервенелых, умирающих уже гладиаторов вырывался из каменного мешка арены и начинал рубить всех подряд, кто попадал под руку. Или звери, также в предчувствии своей гибели, невероятным усилием выпрыгивали, выскакивали, пытались найти выход из Колизея, сокрушая и топча все на своем пути. Да, такое бывало. Вот только Нашка знала, что сейчас такого не будет. Почему-то знала заранее, будто бы сон этот она видела уже много раз, а может, и впрямь — видела.
Песок слепил глаза. Это был странный песок, полосы белого и ясно-желтого местного песка перемешивались, будто краски на какой-то огромной палитре. Нашка слышала, что на таких дощечках художники смешивают свои составы, чтобы изобразить кого-нибудь из нобилей, их семейства, их дома, сады, даже столы, щедро выставленные на всеобщее обозрение. И никому не было дела, что столы такие, как правило, только в воображении голодных художников казались красивыми.
Самой-то ей хотелось пить, всего лишь пару глотков, не больше. За воду она сейчас готова была убить, впрочем, ей и придется сейчас убивать — это было ясно, хотя по-прежнему ее сознание было удивительно раздвоено. Она спала и будто бы на самом деле участвовала в той драке, неожиданной, хотя ее и устроили на настоящей арене этого всеми богами проклятого городка, в который Нашка и ее друзья и попали-то совсем случайно, где-то выбрав, должно быть, не ту, что следовало, дорогу на развилке.
По отведенной роли ее определили в метатели сети, чтобы сковать хотя бы на время самого сильного, самого удачливого из противников. Вот только такого не оказалось, все противники были равно выучены, равно подготовлены, и оружие у них оказалось куда лучше, чем можно было ожидать.
Собственно, бой должен был оказаться простым: их шестеро, и шестеро гладиаторов, подготовленных местным ланистой, освобожденным рабом, вольноотпущенником, который некогда и сам был неплохим бойцом, но уже давно утратил настоящую физическую форму, и потому его никто всерьез не воспринял, не стал опасаться, когда он явился с предложением устроить представление…
В этот городок, под названием Крюв, они забрели, как и было сказано, случайно. Городишко считался богатым на здешних, скудных равнинах, примыкающих уже к настоящим пустыням без воды. Их насчитывалось шестеро, выступали они как бродячие борцы, немножко музыканты, жонглеры, немного артисты в простеньких, общеувеселительных представленьицах и, конечно, могли сыграть роль гладиаторов, если мечи были деревянными, а ярость врагов не перехлестывала обычный уровень возбужденной театральной толпы. В общем, драться-то они умели, иначе — как же, попробуй попутешествуй по местным-то дорогам без оружия. Мигом окажешься в канаве с распоротым брюхом, а то и еще хуже — выбьют для смеху глаза, отрубят руки и будут смотреть, как ты подыхаешь от голода, жажды и отчаяния.
Почему кто-то из главных семейств этого города в своем когда-то, может быть, и неплохом, а ныне обветшавшем цирке удумал затеять гладиаторские игры местных бойцов с их труппой, с пришлыми актерами, Нашка толком не знала. По слухам, эта идея показалась интересной самому главе рода Крювов, тех, в честь кого и город получил свое название. Да, в общем, это было и неважно, а существенным было то, что этому вот местному магнату показалось, что будет неплохо, если свое купеческое богатство он попробует уравнять со стародавним благородным достоинством, с правом и возможностью такие игрища устраивать.
Может, ему захотелось, чтобы его богатство и общую удачу признали другие какие-то дома и старые богатые семейства, что позволило бы выгадать новые торговые территории или уступки от других партнеров-торгашей, а может быть, кому-то показалось, что местные власти слишком уж попирают всех вокруг и было бы неплохо примирить простонародье с имперским чиновничеством и богатеющим торговым сословием… И они нашли такой способ, вполне разумный и традиционный, как показалось им вначале.
Предводитель их бродячей труппы Маршон тоже подумал, что лишнее представление, пусть и в не очень привычном виде, будет удачей для них для всех. Решил, бедолага, что здесь, в провинции, не может быть слишком уж трудной задачей всего-то отколошматить и обездвижить или даже изранить каких-то местных дурачков, называющих себя гладиаторами, до потери их способности к сопротивлению. Так он всем и сказал, радостно ухмыляясь в предвкушении приличного вознаграждения.
Вот только удачей это казалось только до того момента, как они вышли на арену. Тогда-то и выяснилось, что кто-то из местных чинуш либо из богатейчиков задумал не что иное, как убийство. Потому что и гладиаторы местные были вооружены для смертельного поединка, и действовали они с намерением убивать.
Вот Маршон первый и поплатился за свою ошибку. В своем сне Нашка окинула арену одним взглядом и увидела его. Он погиб плохо, ему проткнули горло в глубину, так чтобы при удаче достать до сердца, чтобы он умер сразу, истекая большим потоком крови. Все же местные его серьезно опасались, он на самом деле казался сильным и умелым и при не слишком тяжком ранении мог бы доставить гладиаторам много неприятностей… Поэтому, кажется, его и убили наверняка, чтобы не было потом осложнений.
Потом погибли остальные — Лафут, Визгарь. Натурку, славную женщину, подругу Маршона, убили гнусно. Убивали долго, изображая изнасилование всем скопом сразу, отчего публика сначала загудела, но затем стало понятно, что в основном собравшимся мужланам это даже нравится.
Жур, который когда-то был отменным бойцом на арене, разменял себя на троих нападающих, славно разменял. Двоих убил на редкость ловко, отсекая им руки у кисти, а третьего ранил куда-то в пах, но не составляло труда догадаться, что тот тоже скоро истечет кровью и умрет на потеху всей местной гнилой публики.
А Нашка, как ни моталась по арене, как ни пробовала помочь своим, так и не сумела никого завязать сеткой. На какой-то миг одного из них, кто показался ей предводителем врагов, она действительно опутала, но не смогла добить коротким кривым своим кинжальчиком, того уже прикрыли сразу двое, затянутые в толстые кожаные доспехи, малоподвижные, но практически непробиваемые с их короткими, похожими на восточные, нагинатами и очень верной, точеной техникой боя.
Так она осталась одна против троих. И что самое веселое или невеселое — как посмотреть — они достаточно умело, почти по-волчьи широкой цепью оттеснили ее в самый угол арены. Конечно, совсем углом в этой части арены стены не сходились, но тут была зауженная часть овала, потому что арена в общем плане представляла собой несимметричную, чуть изогнутую в узком месте каплю, и это тоже было сделано с подлым умыслом, не иначе. Нашка, ругаясь про себя на строителей, которые выстроили некогда этот цирк, поняла, что ей придется или сражаться так, как она еще никогда прежде не билась, или тоже умереть, подобно своим товарищам, на этой желто-белой арене, залитой их кровью.
Думала она, по собственному мнению, довольно долго. Но для зрителей и ее врагов это размышление, вероятно, оказалось быстрым, почти молниеносным. Штука была в том, что сама Нашка была способна и двигаться, и соображать, и придумывать разные фокусы гораздо скорее, чем все прочие, кого она встречала в своей жизни. Она была быстричкой, краснокожей нуной с южных далеких островов Империи, где когда-то родилась в прибрежной деревушке. Сейчас своих родителей и соплеменников она называла не иначе как дикарями, подобно всем, кто жил в Империи и величал так ее породу, ее народ.
Некогда, едва ей исполнилось четыре года жизни, кажется… по крайней мере, она твердо была уверена, что в те времена то ли мать, то ли одна из ее многочисленных тетушек заставляла ее, выражая возраст, растопыривать ладошку, а потом загибать один из пальцев, — на их деревню напали большие бородатые, почти белые мужчины. Которые были вооружены отменными боевыми дубинками и даже редкими в тех местах, считавшимися непобедимыми мечами. Они убили всех, кого нашли. А когда, пресытившись убийствами и кровью, устали, тех, кто еще мог шевелиться, потащили на свой корабль. После долгого плавания по светло-голубовато-зеленому океану, который Нашка до сих пор вспоминала с содроганием, она оказалась в Империи, на одном из невольничьих рынков, где была татуирована с правой стороны от бедра и через плечо до локтя, чтобы ее любой встречный мог определить именно как служанку-рабыню, и продана в рабство. Какое-то время Нашка болталась в довольно богатом и сытом доме, поднося то фрукты, то вино таким же белым людям, среди которых иногда встречались белые женщины.
Впрочем, нет, эти богатеи были гораздо белее, чем те скоты, которые уничтожили и разграбили ее деревню. Они редко выходили на солнце, следили за своей кожей, гордились ее снежной ухоженностью. И слишком часто, по мнению Нашки, купались в больших горячих ваннах из мрамора, а потому и пахли не так, как положено смертному — потом и жизнью, а смесью благовоний, чисто выстиранными одеждами и иногда — тонкой кислотой от выпитых вин.
Чтобы не пропасть в ловушке гладиаторов окончательно, Нашка разогналась по песку, раскинув руки в разные стороны, подобно крыльям, подогнув правую руку, потому что нож составлял сильный противобаланс, и взбежала почти по вертикальной стене, оказавшись на расстоянии всего-то полушага от зрителей, так что любой из них мог бы даже, при желании, столкнуть ее вниз, на арену, но… Сейчас они отпрянули от нее, откатились, не понимая, что она задумала, и очевидно опасаясь ее. Мельком взглянув на эти потные, распаленные чужими смертями рожи с раззявленными ртами, на эти полубезумные глаза, она пронеслась по парапету десятка три шагов и вновь спрыгнула на песок арены.
Удар приземления был не очень жестким, да и сама Нашка весила всего лишь стоунов пять, не больше, но для верности, чтобы не растянуть мускулы и сухожилия ног, она еще дважды перекувыркнулась через плечи, превратив этот свой соскок со стены арены едва ли не в превосходное парение и разом оказавшись за спиной троих верзил-гладиаторов, в полудюжине шагов от крайнего из них.
Он даже сделал идиотский выпад, то ли угрожая, то ли ободряя себя, и раскрылся до такой степени, что Нашка не сумела удержаться. Она взмахнула рукой, бросая кинжал, который коротко просвистел по воздуху и с тихим, едва слышимым хрустом вошел врагу в шею, чуть сбоку от горла, как раз туда, куда она и метила, перебивая — если судьба и старые боги будут на ее стороне — яремную вену этому дурачку.
Он даже не понял, что произошло. Все еще замахиваясь на нее для второго декоративного выпада, он сделал шаг. В своем сне Нашка прекрасно увидела — а может, так и было, когда все происходило в настоящей-то жизни, чуть менее полугода тому назад, — его безумные глаза в прорезях кожаного шлема выкатились из орбит… А затем ноги у него стали подкашиваться, и он с удивлением попытался взглянуть, что же там, с его ногами, не так, почему они не слушаются… И лишь после этого он грохнулся на арену, в облаке мелкого песка перекатился на спину, попробовал поднять руку, чтобы выдернуть нож из шеи, но так и не донес ее до рукояти, потому что клинок вошел неглубоко и выскочил от его падения из раны. И тогда кровь полилась почти так же бурно, как и местная проклятая река, сразу же впитываясь в песок или мгновенно высыхая под этим солнцем.
Двое других гладиаторов бежали к Нашке что есть силы, они видели, что она безоружна, и хотели расправиться с ней как можно скорее. То ли и впрямь чувство казарменного товарищества требовало от них отомстить, то ли на товарищество это им было плевать, но они хотели скоренько так избавиться от последней живой противницы… Просто стремились вернуть себе ощущение безопасности…
Только Нашка им не позволила. Одним рывком, так что не все зрители заметили эту ее пробежку, она добралась до трупа Маршона и, как показалось почти всем вокруг, даже не наклонившись, подхватила его гладиус, мало приспособленный для броска, но отлично подходящий, чтобы блокировать близкие удары. Она еще оглянулась, пробуя определить, где лежит ее распоротая предводителем гладиаторов сеть, но решила с ней не возиться. У нее появилась идейка получше, хотя Нашка и не была уверена до конца, что справится с ее исполнением.
Она добежала до второй в их труппе женщины, до Натурки, и выдернула у той из кожаного мешочка, отброшенного на спину, три коротких дротика. Древко у каждого из них было всего лишь в ярд длиной, и кому-нибудь они могли показаться смешным, совсем не грозным оружием — кому угодно, вот только не Нашке. А еще она, запустив руку в мешок поглубже, вытащила свое самое любимое угощение для таких, как эти вот — тяжелые и сильные громилы-гладиаторы, — шестиконечные звездочки, отточенные до остроты лезвий брадобреев для богатеньких, такие, которые далеко на востоке называются сурикенами. Разумеется, сейчас из-за меча, дротиков и сурикенов она не могла двигаться так быстро, как хотела бы, но не это сейчас было важно…
Сейчас Нашка уже довольно плохо помнила, что же случилось в доме богатеев, перед тем как ее с руганью и безжалостными тычками, почти ударами, отправили на конюшню, чтобы пороть. Кажется, она плеснула кому-то из гостей вино в морду или вовсе рассекла красиво пущенной тарелкой лоб… В общем, это было давно.
Можно было только подивиться тому, что ее тогда не добили, не запороли до смерти, скорее всего, она выжила из-за возраста. Все-таки даже у тех, кто привык убивать кнутом, тщательно обрывая кожу и мускулы, высекая искры крови из живого еще тела, на детей рука поднималась труднее. Вот оружием детей убивать было бы просто, да и жар боя в таких прямых и быстрых ударах до смерти сказывался, наверное. А пороть, убивать медленно и трудно — это совсем другое. К тому же всегда кажется, что прямой угрозы ребенок не представляет.
Так или иначе, Нашка выжила и после порки, хотя шкура у нее на спине сползала раза три кряду, все никак не приживалась на разорванных, истерзанных в кровавую кашу мускулах. Зато ее продали в гладиаторский гимнасиум, где сначала заставляли прислуживать бойцам, а затем, когда она уже на удивление обжилась среди этих грубых, обреченных на смерть, по сути уже считавшихся мертвыми существ разных рас, с разной техникой боя, стали всерьез тренировать. И тогда же выяснилось, что она не станет гладиаторской волчицей, шлюхой, должной ублажать всякого за скудную похлебку или остатки каши и стакан вина, которыми кормили в казарме, и вполне способна за себя постоять.
Почти незаметно для себя и для остальных Нашка совершенствовалась и училась — жестокости и милосердию, злу и добру, сражению и дружбе, отступлению, уверткам, убийству и желанию жить.
Одного она не смогла понять — почему приходится убивать не за еду, а для потехи каких-то остолопов. Но со временем она привыкла и к этому, чего уж там, мир был устроен именно таким образом и не иначе, этому приходилось только подчиниться.
Второго из противников она убила на удивление быстро, еще удачнее, чем у нее получилось с первым, которому она броском воткнула нож в шею. Этот второй идиот был без шлема, то ли потерял, то ли изначально решил обойтись без него. Он шел, прикрывая от солнца лоб и глаза левой рукой, а правой подготавливал нагинату для далекого выпада, придерживая ее за дальнюю от наконечника треть древка.
Это был хороший прием: если броситься вперед и распластаться в воздухе, можно было существенно увеличить привычную дистанцию поражения. Некоторые даже неплохие бойцы на такую незамысловатую атаку всерьез ловились и умирали, получив четыре-пять дюймов стали в грудь, живот или сбоку, под ребра. Нагината тем и отличалась от чрезмерно плоского протазана, например, что при умелом обращении, когда в ране ее успевали еще и повернуть, почти всегда приводила к очень опасным ранам. И почти всегда, Нашка отлично это знала, такие раны вызывали обездвиживание противника, какой бы волей ни обладал боец, как бы ни рвался еще продолжать бой. А в крайнем случае можно было подождать, пока после такого удара враг ослабеет, и тогда без труда добить его.
В общем, этот второй из местных так и рассуждал. Но он не учел, должно быть, показавшегося ему странным разворота Нашки, когда она вдруг, вместо того чтобы замешкаться, перекладывая дротики в правую бросковую руку, швырнула все три дротика вперед левой, а потом — мерно, как бывает только во сне, уронив меч из правой ладони, вдруг бросила из-за головы два сурикена подряд. Бросала она их в вертикальном вращении. Одна из звездочек, несмотря на то что Нашка так ловко отвлекла противника — и одновременно летящими дротиками, и даже, как она надеялась, падающим из руки мечом, — прошла слишком высоко и попала в затянутую в кожаный доспех брюшину. Это был бы неплохой бросок, если бы на противнике не было доспехов. Но сейчас кончики шестигранника лишь воткнулись в крепкую кожу на пару-тройку линий, толщину которых по традиции все солдаты мира определяли минимальной толщиной лезвия, пригодного для того, чтобы разрезать мускулы противника и при этом не согнуться. Ну в общем, линия — она и есть линия. Зато второй сурикен оказался именно там, где Нашка надеялась его увидеть. Всей плоскостью своей он вошел в мускулы с внутренней стороны левого бедра противника. Именно там, чуть выше колена, ближе всего к коже проходила широкая, очень толстая вена.
Все еще оскалившись от удовольствия, этот дурелом парировал дротики легкими, отбивающими раскачиваниями своего оружия, уклонившись от последнего из брошенных дротиков, а затем выпрямился, с деланым пренебрежением выдернул сурикен из доспеха на животе, повел плечами и даже закинул голову, чтобы рассмеяться… И только тогда понял, что жить ему осталось считанные минуты, потому что по ноге его уже широко текла из вены черная на солнце, неостановимая струя его жизни.
Он выронил нагинату, уселся на песок, пробуя зажать вену, но этим лишь усилил кровотечение. Спасти его мог теперь только умелый лекарь. Но где же такого взять на арене? Нашка забыла о раненом сразу же, едва отвернулась. Подобрала меч и снова пустилась бежать, широкой дугой огибая последнего оставшегося боеспособным противника.
Вот тут-то она несомненно поняла, что это был предводитель отряда гладиаторов, тот, который с радостью убивал этих глупеньких бродячих лицедеев, которые так легко купились на обманчивое предложение выступить на арене местного крювского цирка якобы в потешном, несмертельном состязании. И который не сомневался в своей победе еще четверть минуты назад.
Сейчас он уже не бежал, а стоял, набычившись, не слишком уверенно поворачиваясь за оббегающей его краснокожей дикаркой, и что-то глухо ревел в низко опущенную маску, целиком сделанную из черепа какого-то неведомого зверя. Он даже содрал с плеч свою накидку, вырезанную из кожи дикого полосатого осла, иногда именуемого зеброй, и остался только в жесткой кожаной юбочке, с голой грудью, на которой зачем-то болталась пара охранительных амулетов.
Вооружен он был уже не нагинатой, ее он воткнул в песок, а из-за спины едва уловленным даже Нашкой движением достал отличную каленую спицу, длиной побольше ярда. Тычком такого клинка умелые бойцы мгновенно останавливали и убивали самого могучего быка или борова. Нашка вспомнила, что бить такой гибкой, требующей необычайной точности штукой нужно было в пятно за загривком быка, величиной всего лишь с монету. Но зато действовал этот клинок отлично, мигом лишая зверя способности двигаться. И забирал его жизнь почти так же неумолимо, как буря гасит неприкрытую свечу.
Нашку долго не выпускали на арену для гладиаторских состязаний по причине ее малого роста. Не казалась она достойным противником никому из сильных, тренированных мужчин или даже из столь же тренированных женщин. Она все еще казалась всем едва ли не ребенком, пусть и с изувеченной, испоротой спиной, пусть и татуированной некогда, может быть, и удачно, но сейчас неряшливо и безобразно. И впрямь, ее татуировка из-за того, что она хоть немного, но все же подрастала, делалась неопрятным набором грязных пятен, теряя всякую оформленность или внятный смысл. Это было как раз понятно.
Непонятно было вот что: как, когда и почему Нашка открыла в себе несколько удивительных даров — находить в любом предмете, включая оружие, требующее иногда весьма долговременной тренировки, чтобы осознать его смысл и возможности, способность быть смертоносным при бросках, равно как удивительно и совершенно парадоксально лишать самые агрессивные клинки их способности убивать, калечить или ранить. И к тому же Нашка совершала это, не теряя какого-то колдовского, обретенного сразу и без малейшего труда равновесия. Она могла не просто ходить, а бегала по канату, будто по мостовой, жонглируя пятью острейшими клинками или зажженными факелами, она могла вскарабкаться на дерево с ложкой воды, не пролив ни капли… И как ей иногда самой казалось, она могла иногда пробежать по траве так, что за ней не оставалось ни одной сбитой с листьев капли росы.
Хотя последнее было, скорее всего, выдумкой. Все же по траве даже такая уверенная в себе и умелая жонглерша, как она, не могла бы бегать, совсем уж не находя опоры, не ступая хотя бы на что-нибудь… Но она пыталась, и как иногда казалось ее друзьям по актерской труппе, ей такое удавалось.
Но еще до труппы она оказалась все-таки и на арене. Вот тогда-то и выяснилось, вдобавок к прежним ее талантам, что она лучше всего работает легкими метательными ножами, попадая в самые уязвимые точки врагов, выбивая им глаза, иногда успевая воткнуть нож с расстояния в десяток шагов в раскрытый в крике рот противника, вызывая своей убийственной меткостью мгновенный шок, допустим, при попадании в гортань, добиваясь полной потери способности к сопротивлению, после чего можно было зарезать любого, будто скотину на бойне.
Она прославилась своим умением настолько, что на какое-то время ее перевели даже в Басилевсполь, столицу Империи, где обитали самые богатые нобили всех окрестных земель и владений, где их можно было встретить на улицах, будто обычных прохожих, где, по рассказам, их количество было всего-то раз в сто меньше, чем общее количество рабов, которые их в этом городе обслуживали. Разумеется, это оказалось сказкой, никаких особых нобилей, кроме как среди зрителей на арене тамошнего Колизея, самого большого, на каком Нашка когда-либо выступала, ей не встретилось.
Не находила она также и золота на мостовой, которое жители Басилевсполя якобы разбрасывали для баловства, как и не нашла могучих древних храмов, оставшихся от самых старых богов. Храмы там, в столице, оказались самые что ни на есть обычные, гулкие, холодные, ленивые или медленные — это для нее было одним и тем же, а еще, пожалуй, они были слишком уж многолюдными, в них круглые сутки напролет толпились все, кому нечем было больше заняться. Даже по ночам в них порой было трудно входить из-за толпищи самого разного люда у входа. То есть во многом это оказался город как город, такой же, как и прочие, только чуть больше, чуть бестолковее и грязнее, чем те, что она уже видала, кочуя по Империи.
В Басилевсполе Нашка прожила всего-то одну осень и половинку зимы, а затем ее выкупил содержатель их бродячей труппы, Маршон, который решил, что, вместо того чтобы бесславно погибнуть под ударами гладиаторов на арене, гораздо удачнее получится, если заставить ее выступать перед зрителями с трюками и некоторыми необычными прочими номерами, вроде метания ножей с завязанными глазами во взлетающих голубей, тем более что цену за нее ланиста назначил вполне умеренную, если не сказать, что откровенно скромную.
Так вот и получилось, что она теперь принялась шляться по городам и весям всей огромной Империи с вновь обретенной компанией таких же или почти таких же, самых разных и необычных актеров, шутов, лицедеев, которые медленно, но все надежнее становились ее друзьями, едва ли не семьей… Пока они не оказались в этом Крюве, городе, где все сколько-то близкие для нее люди умерли на арене, вот примерно как сейчас она это и видела в своем сне.
Последнего из живых противников Нашка оценивала довольно долго. Это было удивительно, но со всеми этими пробежками, прыжками, бросками она даже слегка запыхалась и сейчас хотела действовать наверняка. Поэтому и восстанавливала способность здраво соображать, точно двигаться в полную свою скорость и главное — правильно дышать. Любой жонглер знает, что дыхание — основа равновесия, так же как и вообще — первооснова жизни.
Она обошла своего противника трижды, по кругу. Прежде чем нашла его наиболее уязвимое место. Это была, как Нашке показалось, его левая рука. Что-то с ней было не так, она двигалась чуть медленнее, чем полагалось бы. И ходила не до конца назад. Значит, левая лопатка этого здоровенного, светлокожего верзилы, в котором угадывалась кровь северных лесных жителей, часто оставалась малоподвижной, а следовательно, уязвимой.
Тогда Нашка решилась. Не выпуская из левой, уже вспотевшей ладони гладиус, она подобрала те три дротика, от которых так небрежно отмахнулся второй из ее врагов. Она опасалась его, опасалась его внезапного выпада, когда подбирала дротики, потому что он еще не умер и мог попытаться устроить ей какую-нибудь пакостную ловушку, но он оказался слабее, чем Нашка полагала. Он знал, что умирает, и не захотел больше принимать участие в бою, он по-прежнему зажимал кровоточащую ногу, но уже завалился от слабости на бок и громко стонал, перебивая стоны молитвами на малопонятном языке, обращенными к неизвестным богам.
Покойно, будто бы она не делала ничего сложнее того, что обычно делала в составе своей труппы, Нашка подошла на десяток шагов к последнему из врагов. Тогда он кинулся на нее, вероятнее всего полагая, что она отскочит или снова побежит.
И неожиданно, но все же в нужный для себя момент, Нашка увидела, что в левой руке противник держит боло, четыре или пять увесистых шаров, нанизанных на довольно сложную систему прочных шнуров, сплетенных из полос кожи. При удачном броске такая штука непременно опутывала ноги и обездвиживала противника, лишала его на несколько минут возможности бежать… Вот тогда длинная спица и успевала до него добраться. И у Нашки не было бы никаких шансов, потому что бросать дротики, не имея твердой опоры под ногами, она, естественно, не могла. Но она увидела это боло. Она заметила его, прежде чем гладиатор пустил его в ход. Она не успела, конечно, выйти за пределы действия этого оружия, но сумела отбить себе несколько долгих мгновений, легко швырнув все три дротика один за другим в приближающегося врага.
Ничего существенного она этим не достигла, но противник замедлил шаг. И кажется, чуть потерял ее из вида, потому что вынужден был уклоняться от брошенных в него дротиков. И, пытаясь вновь увидеть ее, он повернулся на одном месте, не успевая к ней приблизиться… Она же, сбоку, по длинной дуге, раздумывая, сумеет ли выиграть хоть что-то своим непрямым и некоротким подходом, атаковала его…
Он попытался все же, отыскав взглядом, нанизать Нашку на свой клинок, но она оказалась быстрее, чего от нее противник ожидать никак не мог… Такого здесь, в этом городе, никогда прежде не видели. Да она и сама от себя этого не ожидала…
Этим приближением к врагу она всего лишь думала сбить его с толку, ну и конечно — уходила от броска боло… Но, уже рванувшись вперед, она тонким, обостренным вниманием бойца осознала, что именно вот такая замаскированная атака может оказаться… единственной возможностью лишить врага хотя бы половины его преимуществ. И тогда она скакнула вперед уже в полную свою скорость!
Она подпрыгнула, высоко и сильно, резко выбросив вперед одну ногу. Пытаясь дотянуться ею до головы противника, при этом странно сворачиваясь вниз, почти переломившись в пояснице, нанося единственный, но очень сильный удар гладиусом в открытый бок противника под его левую, медленную руку…
Гладиус тяжело вошел ему в бок. Почти по рукоять, разрывая, как надеялась Нашка, селезенку, желудок и, может быть, доходя до печени. Удар в голову у нее не вышел, она только разбила ступню о шлем противника, но все же чуть ошеломила его, кажется. Потом она повисла на нем, будто обезьяна на кряжистом дереве, пытаясь соскользнуть вниз и не угодить под ответный удар локтем ли, кулаком, а хуже всего — рукоятью его клинка на отмахе… Но и ответный этот отмах у врага не получился, его клинок был слишком длинным и к тому же слишком гибким для такого удара, потому что подрагивал при резких движениях и, следовательно, тормозил…
Они упали вдвоем, Нашка на мгновение лишилась дыхания, потому что туша гладиатора оказалась сверху. Кроме того, навершие гладиуса, который торчал из бока противника, на редкость сильно прищемил, почти пригвоздил ей колено к песку. Но когда она, отчаянно извиваясь, все же выскользнула из-под умирающего предводителя местной команды гладиаторов, каким-то чудом сумела подняться и огляделась, все было понятно. После такой резкой, на удивление удачной атаки никто уже не смог бы сопротивляться. Ни у кого не хватило бы сил, чтобы проследить за ней взглядом. Смерть застилала врагу глаза, и он умирал, пуская длинные, кровавые слюни, возможно пробуя проклинать ее, но и это ему тоже не удалось.
2
Сон закончился, Нашка проснулась. Оказалось, она как сидела на последней пьянке, так и уснула за столом, подложив под голову руки, упершись лбом в какое-то блюдо с объедками, в луже разлитого мерзкого северного пива, которое воняло сейчас особенно сильно. Нашка поняла: вся она настолько грязная, а после выпитого — и изнутри тоже, что захотелось вывернуть себя наизнанку и как следует ополоснуться в чистой, свежей воде.
Настоящей воды Нашке не хватало больше всего. Ей казалось, что даже реки здесь не вполне чистые, совсем не то что море у островов, на которых она родилась. А текли они мутно, бурно, увлекая слишком много грязи, веток, деревьев, камней и белой глины… Сон еще имел над ней некоторую власть, она переживала его обрывками навеянных ощущений, и, пожалуй, это воспоминание сна было единственным, что спасало ее сейчас от совсем уж отвратительного самочувствия. И все же ей было очень плохо.
Тело болело, будто бы она только что с тяжеленными камнями на плечах и на шее, на спине и на животе проделала не менее чем десятимильную пробежку. Даже легкие у нее трепыхались и горели, как после долгого бега. Не поднимая головы, пробуя осознать, что происходит вокруг, она несколько раз напрягла все мускулы, тут же сбрасывая напряжение, распуская их. Многодневное, а может, и многонедельное непотребное пьянство и безудержное обжорство давали себя знать… Она чувствовала себя измочаленной и не готовой даже подняться с той лавки, на которой так некрасиво, должно быть, сонно обвисла.
Но игра мускулами все же немного прочистила ее внимание, Нашка поняла, что находится не где-то, а в трактире у Сапога, и что сидит за длинным столом в одиночестве, и к ней никто не решается близко подходить, потому что знают — с похмелья она бывает не просто злой и раздраженной, но и в драку кидается по пустякам или вовсе без пустяков, лишь бы на ком-нибудь выместить свое дурное настроение.
А вот драться с ней никому не хотелось, про нее в городе, после того как она победила на арене и ее всеобщим требованием вызволили из рабства, освободили от всех долговых и прочих обязательств, сделали практически свободной жительницей города, знали слишком многие, или, точнее, все знали. Потому что это была редкость, такое, как ей поведали в магистрате, когда оформляли какую-то запись в толстых купеческо-чиновных книгах, за всю историю Крюва случилось впервые. Даже собаки, которые обычно бегали за городскими стенами и возле порта, узнавали теперь ее запах и, хотя стаями иногда решались нападать на зазевавшихся одиноких путников, особенно по ночам, перед ней расступались и огрызаться не смели.
Нашка подняла голову и мутным взглядом обвела трактир. Это был довольно большой, полуподвальный зал с темными углами, грязными прокопченными от масляных фонарей сводами, наполненный по утреннему времени менее, чем обычно. Иногда у Сапога случались такие дни, что тут и протолкнуться было не очень-то легко, особенно когда местное мужичье да компании побогаче, из особняков и отдельных домов из верхнего, как тут принято было говорить, города, которые иногда сюда тоже заглядывали, перебирали того жутчайшего самогона, который Сапог покупал либо у окрестных фермеров, либо сам гнал где-то на заднем дворе трактира под охраной одного из своих дуболомов.
Что-то в происходящем было не так, не совсем привычно. Нашка знала это каким-то очень глубоким пониманием, свернувшимся в ее сознании. Прежде она тоже прислушивалась к нему, и оно ее, как правило, не подводило, лишь порой начинало… звучать, трепыхаться, в общем, подавать сигналы слишком поздно. Это было странное впечатление, будто бы магией навеянное постижение каких-то сложностей мира, о которых краснокожая дикарка в обычном состоянии даже не подозревала. Это не было последствием сна — Нашка знала это твердо. Но чем на самом деле являлась убежденность, что она как-то высветилась, сделалась заметной кому-то незнакомому и далекому, никогда прежде не виданному, чужому сознанию, она не пробовала разобраться.
В этом чуждом существе, которое, как ей казалось, выследило ее и наложило на нее свою указующую магическую, быть может, стрелку, подобную той, что мальчишки рисовали обломками кирпичей или цветной глиной, было что-то отвратительное, что-то на редкость гадкое. Даже более гадкое, чем то физическое состояние, в котором Нашка сейчас пребывала. От этого внимания, приходящего из неведомых далей, хотелось освободиться, хотелось встряхнуться и сбросить его, но было также понятно, что легко от этого ощущения избавиться Нашке не удастся.
Через силу она попробовала усмехнуться. Несмотря ни на что, все же иногда нужно было улыбаться. Или даже шутить. Вот и сейчас Нашка решила, что это ощущение, которое, может быть, и принесло этот неприятный сон о прошлом, более всего походило на внезапное отрезвление, которое иногда приходит к самым разнузданным пьяницам на самых безудержных попойках. Вдруг, внезапно, будто сверху на совершенно открытом пространстве, где не ждешь никакой напасти, с чистого неба сваливается огромный, горячий, тяжелый камень. Или налетает из ниоткуда невидимый удар ветра, или из спокойной морской глубины вдруг всплывает огромная необыкновенная рыбина, задевая тебя скользкой и острой чешуей…
Как бы там ни было, а следовало хоть немного привести себя в порядок.
Нашка осмотрела стол, перед ней в дрянном глиняном подсвечнике стояла грязно-серая свечка, догоревшая до нижней своей четверти. Тарелка, которая упиралась Нашке в лоб, как оказалось, хранила только полуобглоданное ребрышко с ошметками недокусанной сальной баранины да краюху хлеба в застывшем красноватом соусе, от которого сильно пахло кориандром и почему-то укропом. Сбоку валялся пластинками нарезанный лук. Деревянный стакан, который Нашка обнаружила у локтя, тоже был пуст. Что и неудивительно, потому что, глядя на нее спящую, ни один из местных пройдошливых выпивох не преминул бы допить остатки вина, да и сама она поступила бы так же.
Она поднялась, ноги плохо держали, чтобы сделать несколько шагов, ей пришлось, вытянув руку, упереться в шершавые каменные блоки ближней стены. Нашка отправилась к стойке, за которой словно бы издалека, из тумана, из марева прошедшей, задымленной факелами и фонарями ночи, проступала фигура Сапога.
Он сразу же увидел, что Нашка шлепает к нему, попытался еще более выпятить огромное свое брюхо, едва прикрытое не очень чистым сероватым фартуком в разводах разных напитков, соусов и даже с остатками той грязи, которая неизвестно почему всегда возникает на плохо струганных столах в таких вот заведениях.
— Ага, — сказал Гудимир Сапог, — очухиваешься.
Гудимиром, вероятно, его назвала мать, если мать у него когда-то на самом деле была… А прозвище Сапог он получил в честь вывески, которой некогда украсил свой трактир. То ли от непогоды, то ли потому, что местные мальчишки вначале, когда личность самого Сапога была еще не очень понятна всем в округе, кидали в эту доску на двух металлических кольцах камни, она раскололась и приняла причудливую форму, более всего смахивающую на высокий кавалерийский сапог. И даже эмблема, которую на этой вывеске нарисовали, странным делом от этой поломки так преобразилась, будто бы именно изображение сапога и было задумано с самого начала неким безвестным мазилой, который за ужин и кувшин вина потратил на эту доску немного своей краски.
— Налей-ка мне, протрезветь хочется.
— Ты, Нашка, уже никогда не протрезвеешь, — прогудел Сапог.
Вблизи он был еще отвратительней, чем издалека. В роду у него были и орки, и гоблины, может быть, кое-кто из породы карликов и, пожалуй, что даже кто-то от эльфов у него числился в предках, потому что уши у него были едва ли не по-волчьи высоко поставлены над головой и торчали острыми, чуть мохнатыми кончиками. Да и пасть у него была немного волчьей, особенно когда, оглядывая заведение, своим оскалом Сапог демонстрировал фальшивое радушие.
— Сапог, ты же понимаешь, что должен налить, — пробормотала Нашка, хотя уже не слишком уверенно.
— Метательница, ты, — Сапог чуть помялся, — парень вполне свойский. Но ведь вчера вас было почти две дюжины… самых разных. И все разбежались, никто не заплатил. Так что весь долг за пропитое и съеденное — на тебе будет. Да ты и заказывала — разошлась в веселье поболе обычного.
Нашка подняла голову, пытаясь снизу, из-за прилавка, который доходил ей почти до плеч, уловить настроение Сапога поточнее.
— Дурака валяешь? Там же были какие-то пришлые из богатеньких. Из верхнего города… Они рассыпали серебро горстями, я видела.
— Рассыпать-то — рассыпали, да не в мой кошель, — отрезал Сапог. — Вы же потом играть надумали, кости потребовали… — Он хмыкнул. — Будто в таком состоянии хоть кто-то считать их смог бы… Так что, Нашка, не спорь, а готовь монеты, иначе в кредите откажу, пока не заплатишь.
Нашка призадумалась, кредит — это серьезно. Долги, конечно, мало ее волновали, она вообще туго соображала, откуда берутся деньги, как они возникают в кошельке и почему они играют такую значимую роль в жизни почти всех окружающих, разве что кроме тех случаев, когда за них следовало покупать еду и выпивку.
Но к угрозе Сапога следовало отнестись внимательно. В других-то тавернах города ей уже давно ничего не давали, а если настаивала, грозились пожаловаться стражникам. В общем-то это было не страшно, но выходило вот что — Сапог со своим трактиром оставался последней крепостью, ее главным местом кормления и выпивона, разумеется.
Она порылась в своем кожаном мешке на поясе, почему-то вдруг решила, что там может заваляться пара сестерциев… Но ничего там не было, конечно, кроме чешуек окалины от железа. Осталась, вероятно, после того, как она последний раз ходила в оружейную слободу, где иногда подрабатывала тем, что точила ножи, кинжалы и мечи. Кажется, это был ее последний заработок, который у нее еще оставался. Там ее даже уважали за умение сделать клинок таким, каким он ни у кого другого не мог получиться.
— Я отдам, — глухо объявила она.
Делая вид, что она все еще ищет деньги, внезапно спохватившись, она обшарила себя чуть более тщательно — нож был на поясе, это уже было хорошо, три сурикена, которые она не забывала постоянно подтачивать и припрятывать в потайном кармашке под левой рукой, тоже были здесь. Два плоских метательных ножа, которые она держала с внутренней стороны левого сапожка, сухо звякнули, когда Нашка их проверила небрежным движением колена. А вот тонкого кинжальчика с игрушечной, как казалось, рукоятью, клиночка, которым можно было только колоть и которым нужно было знать — куда колоть, почему-то не было. Она еще разок проверилась, кинжальчика-спицы ей было жаль… Нет, все в порядке, вот он. Оказывается, в пьяном-то состоянии она его перепрятала из кожаных, подшитых к спине ножен, ничем не отличающихся от складок свободной куртки, в нарочито грубо и толсто сделанный шов под правым рукавом, так что достать его можно было, не уводя руку за спину, в любой момент… Может, она хотела кого-то прирезать?
— Я вчера тут никого не?… — спросила она для верности.
— Так бы я тебе и дал драки еще тут устраивать, да с богатенькими… — пробурчал Сапог, отвернувшись, будто и не наблюдал за ней. Но ведь наблюдал, Нашка знала это точно. Он повернулся к ней, протирая сложный, красивый, мутновато-прозрачный стеклянный стакан. Из таких любили пить богатеи из верхнего города. — Слушай, Наш, неужто ты уже все спустила?… Ты же живешь у нас-то в Крюве, поди, лишь чуть дольше трех-четырех месяцев.
— И что?
— А то, что все же имущество того бродячего цирка, с которым вы тогда к нам прибыли, тебе же отписали, как последней, кто в живых оставался. И повозок было три, и волы, и даже, говорят, конь.
— Нет, коня почему-то забрали, когда мне в магистратуре вольную написали, — припомнила Нашка. — А вот волов, повозки… Их купил какой-то заезжий старик, сказал, что звери — выносливые, повозки — крепкие, и дал он мне… — Она наморщилась. — Не помню, сколько-то он мне дал, золотом даже. Вот только что было потом — не помню.
— А потом ты пустилась в загул, девонька, — почти добродушно промурлыкал Сапог. — Такой, какого и наши из верхнего города давно не устраивали.
— Я хотела, чтобы гладиаторы, которые еще у вас тут остались, на меня в обиде не были.
— А им-то что, — пожал плечами трактирщик. — Ну порезала ты их немного, но ведь все видели — дралась честно, без обмана.
Обман-то как раз был, потому что их приглашали для потешного боя, а вот когда они вышли, выяснилось, что их собираются убивать… Нашка теперь плохо понимала, зачем именно среди гладиаторов стала выяснять, почему так получилось? Как будто они могли ей что-то откровенно рассказать.
Но она действительно провела с выучениками местного ланисты пару отчаянно веселых месяцев… Даже с самим ланистой познакомилась, он оказался суховатым, жестким, как и все деятели его породы и ремесла, но в целом — не злым. Его и самого обманули, ничего не сказав про шутовской спектакль, а наоборот, наказали, чтобы он выпустил на арену только самых толковых бойцов, потому что бродячие жонглеры, среди прочего, представлялись отчаянными громилами, почти разбойниками… Он чувствовал какое-то несовпадение того, что ему говорили, с тем, что он видел, чувствовал же… Но перечить заказу — не посмел. Понял, что дело обстоит совсем не так, лишь когда увидел их — бродячую труппу комедиантов — уже на арене. И когда пролилась первая кровь…
Почему-то Нашка ему поверила. Сама не очень это понимала, ведь он был почти прямым убийцей ее друзей и едва ли не семьи, но вот — поверила. Слишком уж он, ланиста, прозванный в городе Черепом за большую татуировку на груди и за то, должно быть, что старательно выбривал голову до блеска, оказался простым и прямолинейным. Ну не было в нем заметной хитрости — вот Нашка и поверила. И простила.
— Сейчас у меня нет ничего, — проговорила она, все еще вспоминая то, что было тогда, в прошлом. — Но я отдам.
— Знаем, слышали, — рявкнул Сапог, довольный тем, что Нашка отстаивает свое безденежье не слишком твердо.
У него вообще всякие выражения на лице сменялись довольно быстро, вот только что он выглядел, как… участливый, добродушный дядюшка, а теперь — неожиданно едва ли не орал. Нашка обреченно кивнула и спросила:
— Сколько ты на меня положишь?
— На тебя-то, да?… Да много ли ты можешь?… Три золотых будет довольно, — небрежно сказал Сапог, очевидно высчитав, сколько может с нее требовать, еще до того, как она проснулась на столе в его заведении.
— Три — золотом?… Головой, случаем, не трехнулся, Сапог? Да за такие деньги можно неделю гудеть так, что на другом берегу реки будет слышно… Откуда же я возьму столько?
— Как жрать да пить — вы горазды. А когда доходит до монеты…
— Ладно. — Нашка сделала движение рукой, словно развеивала дым перед собой, но слишком быстро. Сапог умолк и стал всматриваться в нее, будто увидел перед собой нечто прежде невиданное. Например, мантикору или два солнца разом. А она повторила, обретая больше уверенности: — Три — за мной. Я принесу. А сейчас дай-ка мне что-нибудь выпить, да покрепче. И чего-нибудь пожевать.
— Сейчас из еды могу подать только вчерашнюю кашу, а из выпить — молоко есть, — отозвался Сапог с глумливой улыбочкой. Гоблины всегда любили издеваться над теми, кто попадал к ним в какую-то зависимость, либо над теми, кто был явно слабее.
— Дурачества свои засунь себе… — Нашка повернулась к залу. — Я сяду вон там, и чтобы быстро. Да не пива подай, а того темного вина, оно крепче других и не так бочкой воняет.
— Когда отдашь-то? — спросил Сапог, делая неуловимый знак одной из прислуживающих женщин, которая, тяжело переваливаясь, пошла к кухне за выторгованным Нашкой завтраком.
— Потерпи пару дней, — уверенно бросила Нашка через плечо, но в душе ее царил разлад.
Усевшись за чистый, пахнущий свежескобленым деревом стол, она попробовала измыслить, где же она эти деньги добудет.
Выбор был не слишком велик. И представлялся в ее голове так — с ее известностью в городе, с ее репутацией, она могла попытаться стать стражником в богатеньких кварталах либо и вовсе вернуться в гладиаторскую школу и поднаняться тренером. Это было, скорее всего, возможно, после тех загулов, что она устраивала в свое время с гладиаторами, они бы ее приняли в свою стаю.
Вообще-то идею о гладиаторской школе следовало обдумать со вниманием. Да, внешне у Нашки с этими полурабами, или даже полными рабами, которые жили у ланисты, отношения наладились. Но нельзя было исключать также возможность неожиданного удара в спину, когда она меньше всего будет ожидать его, где-нибудь в укромном уголке, исподтишка, просто за то, что в свое время очень уж «уронила» их школу, опровергнув всю их систему тренировок и накачку боевых возможностей. Значит, этот путь был — нежелателен, попросту опасен.
А вот становиться стражником Нашке не хотелось уже по собственному предпочтению. Жутковатыми были все эти, с позволения сказать, охраннички. Порой малосильные, порой чрезмерно наглые и все поголовно — продажные… Дрянной это был народец, в общем, не за что было даже в них зацепиться — ни ума, ни гордости настоящей, ни силы, ни воли, ни достоинства.
И жителей города они охраняли с тем же внутренним содержанием — чаще пытались грабануть, если это очень уж громким скандалом не обернется. Или поиздеваться, а то и вовсе — не заметить какой-нибудь жуткой и подлой неприятности, что с обычным людом случалась: преступления, грабежа, налета, воровства почти в открытую на тех же улицах, которые они должны были обходить. Нет, не могла Нашка пересилить себя и согласиться на должность стража — простите, древние боги, сколько вас ни есть — порядка, если это слово вообще тут сколь-нибудь применимо.
Нашка и не заметила, как та самая женщина, которую Сапог во время разговора с ней послал на кухню, действительно принесла просяную кашу с реденькими волоконцами какого-то темного мяса, хотя и — с луком, и поставила перед Нашкой здоровенную, в пинту, кружку с вином. Нашка среди своих размышлений даже мельком удивилась — неужто она стала так много пить, что эта кружка не особенно ее и пугает уже? Но потом принялась за кашу, лениво отламывая кусочки вчерашней, а то и более древней лепешки, от которой отчетливо припахивало сыростью и плесенью, и снова углубилась в свои невеселые расчеты.
Конечно, были у нее и другие возможности, например, можно было наняться на один из кораблей в порту, а значит, вовсе убраться из города, из этого Крюва, найти какого-нибудь богатенького дурачка из благородных, которому срочно потребовалась армия, и стать настоящей солдаткой. Вот только в этих планах была закавыка — татуировки выдавали в Нашке бывшую рабыню, и как она ни пробовала их содрать пару раз, от отчаяния и злости — вместе с кожей, ничего толком не добилась.
А значит, на любом новом для нее месте к ней будут относиться как к беглой, пусть даже она и выправит себе бумагу в магистрате, что ее освободили, сделали вольной… Все равно могло повернуться так, что ее снова решат обратить в рабство, только обозначат это уже существенней, заклепав в ошейник, а то и вовсе закуют в пояс с цепями, поднимающимися до браслетов на запястьях, только чтобы она могла руку с хлебом донести до зубов… Она видела пару раз таких рабов, даже среди невольников они считались изгоями, использовали их на самых подлых и грязных работах, потому что, как считалось, они пытались некогда бежать. В общем, с тем, чтобы убраться из города, Нашка решила повременить. Хотя сама при этом призадумалась — до каких пор она будет так считать, когда этот ненавистный Крюв станет ей вовсе невыносимым?… Так или иначе, она решила, что пока он таковым не был.
Значит, нужно было снова идти к оружейникам, просить работу и соглашаться на любые деньги, потому как все оружейники заодно, каждый из них всегда поддерживает другого, и из-за этого сколько выгоды ни ищи — не найдешь. А золота вообще не увидишь никогда. Тем более три монеты. Удачей окажется, если хотя бы досыта кормить станут, несмотря на все ее умение наводить остроту на ножи и даже на сильные, большие клинки…
Вот с этим Нашка действительно в свое время, когда едва освободилась и еще не вполне опустилась до пьянства, не промахнулась. Местные оружейники хотя и считались не самыми выдающимися в своем ремесле, но все же — марку держали. И только точить клинки по-настоящему не умели, не было у них таких мастеров, обходились они простенькой заточкой, которой и хватало разве что деревяшки строгать… А Нашка знала настоящую заточку. Когда, где и как она этому выучилась, она не помнила, она даже немного сама удивилась, что владеет таким тонким и сложным мастерством, когда попробовала впервые в кузнечной слободе на работу поднаняться. Но у нее действительно получалось.
Потом, правда, когда про нее такая недобрая слава отчаянной ругательницы и выпивохи пошла, цены и предложения на ее работу сами собой резко снизились. А вначале-то она из простого чуть ли не деревенского меча, а то и из простого мачете делала едва ли не произведение искусства, и ей за это монета перепадала… Да, было такое. Зато теперь и эта работа не была для нее выходом. Она отчего-то понимала, теперь должны были пройти годы и годы, прежде чем ей за все ее старания начнут платить столько, сколько этот непростой труд в действительности стоит.
А то могло так получиться, что она и сама привыкнет к этой кузнечной пригородной деревеньке и станет здесь горбатиться за гроши. И тогда за самую точную и умелую ее работу ей вообще никогда не получить столько, чтобы жить достойно и размеренно, а временами — и весело. Это она понимала отлично, изучила характеры-то здешних купчишек и лавочников за те месяцы, пока проматывала «наследство» по кабакам близ порта…
Каша подкрепила ее, Нашка действительно почувствовала себя уверенней. Вино тоже не прошло незамеченным, желудок ее уже не сжимался от болезненных спазмов похмелья. Она повеселела.
Когда уходила из трактира, Сапог еще раз, чтобы уже перед всеми обозначить свою власть, крикнул ей в спину:
— Ты не забудь, мы договорились — три золотых на тебе, Нашка.
Она лишь дернула плечами, мол, помню, и поднялась по ступенькам наверх, из этого подвала, в котором трактир располагался, из этой крысиной норы. Едва хлопнула за ней дверь, в лицо ударил не вполне чистый и свежий, но все же более ясный, незамутненный воздух улицы. И он был пронизан лучами солнышка, пусть и бледного, не такого, какое бывало на островах, где Нашка родилась, но все же — благодатного небесного огня, согревающего все живое. Она вытянулась во все свои четыре с половинкой фута роста и вдохнула полной грудью.
На улице уже был народ. Медленно тащился какой-то раб-водонос, чуть подальше фермер в грязных по колено обмотках погонял ослика, запряженного в небольшую тележку с молочными кувшинами, переложенными сеном, на углу торчал бледный, вечно голодный фонарщик и трубочист этого не самого зажиточного района, он только что пригасил те фонарики, за которые не отвечали лавочники и домовладельцы. Такие тут тоже были, все же эта улочка не была еще вполне портом, тут пробовали поддерживать порядок, даже освещение какое-никакое наладили.
Хотя все ж, скорее, никакое, решила Нашка, самой-то ей эти фонари вначале были в диковинку, она видела в темноте, как и все ее родственники и соплеменники, почти так же верно, как и днем. Нашка оценила это свое качество в полной мере, особенно когда возвращалась домой отчаянно пьяненькой, настолько, что улицу приходилось преодолевать не столько вдоль, сколько поперек, зигзагами… Ха, слава богам всеведущим и великодушным, сегодня утром было не так, она хоть и воняла от выпитого, будто помойная собака, но все же была почти трезвой.
Кстати о запахах… Она решила и с этим справиться. Для этого у Нашки был давно уже разработан довольно простой, но полезный обычай. Нужно было сходить в баню… Но тут она вспомнила, что не имеет даже пары мелких серебряных монет, чтобы заказать себе простыню, горячую воду, ванную и кусочек местного мыльного камня, и расстроилась. Вот с этим нужно было что-то да делать…
Конечно, следовало бы зайти к тетке Васохе, у которой она снимала комнату, найти хотя бы что-нибудь, что можно продать, и разжиться пусть и небольшой суммой… Но Васоха почти наверняка еще спала. Да и вещичек у Нашки осталось куда меньше, чем в то время, когда она вселилась в эту свою комнату, где она впервые за всю жизнь была почти хозяйкой… Так вот, вещичек осталось очень мало. Из тех, что можно было продать, пусть и недорого, но быстро, у нее оставались только булавы для жонглирования да окованная железом боевая дубинка Маршона. Но ее Нашка продавать не хотела, а булавы приберегала для себя — кто знает, может, придется все же выходить и показывать чудеса с ними на рынке… Хотя за это тоже много не дадут, а то еще и накостыляют, не посмотрят на ее известность непобедимой быстрички и бойчихи.
Она знала, что любое зрелище всем всегда быстро приедается, и оттого-то приходится путешествовать, болтаться по всему этому неуютному и небезопасному краю, чтобы каждый раз на новом месте выглядеть удивительной, необыкновенной и занимательной для тех, кто мог бы бросить монету в чашку. То есть Нашка знала, в Крюве этим не прожить, но с булавами все же расстаться не могла.
Ладно, решила она, пусть будет так — к Васохе она не пойдет. И хотя погода здесь, в этих местах, всегда казалась ей недостаточно теплой, а то и холодной по ночам-то, она решила не лениться, а сходить за портовые мастерские, за склады и даже за ту бухточку на реке, где стояли старые, брошенные, никому не нужные, но еще не разобранные барки, являя собой крайне унылое зрелище кладбища корабликов и лодок. Там было одно местечко, почти полностью закрытое от всего берега, где можно было ополоснуться нагой. Никто из обитающих там бродяжек не решится глазеть на нее, пока она будет плескаться, смывая с себя остатки похмелья и вонь выпитого самогона, которая теперь проступила через кожу.
Когда Нашка только-только открыла для себя это место, кое-кто из обитателей лодочного кладбища пробовал было к ней подкатить, гнусно ухмыляясь. Но она, даже не вступая в настоящую драку, показала этим… идиотам, что хватит с них и того, что они уже видели. Хорошо вышло, что она никого не убила. Когда местные бездомные дурачки все поняли, они и подглядывать перестали. Лишь бы сейчас на очень уж голодную собачью свору не нарваться, правда, поутру они должны спать. Значит…
Она зашагала по улице, почти радостно, как бывало прежде, когда они одной дружной компанией пускались в новый путь, к новым местам. Жалко, конечно, что эти времена прошли и что все, кроме нее, умерли. Но с другой-то стороны, она была жива. И она почти по-настоящему решила начать новую жизнь… Вот еще бы Сапог от нее отстал с этими тремя золотыми, тогда можно было бы вовсе радоваться жизни. Конечно, до тех пор, пока снова не захочется есть. Но к тому времени, решила Нашка, она что-нибудь придумает, на то у нее и голова на плечах. Да и нож на поясе был не лишним, а значит, все как-нибудь должно устроиться.
3
Ворота захлопнулись прямо перед носом Нашки тяжело и грузно. Даже зазвенело что-то, хотя ворота были деревянные и звенеть в них вроде нечему. Засов тоже задвинулся резко, будто кто обругал ее. Она даже поежилась от этого звука и от окончательности своего унижения.
А ведь все так славно начиналось… Вчера, очухавшись в кабаке у Сапога, она разнюнилась, зато потом сходила, искупалась и отлично выспалась. А сегодня поутру подобрала свои булавы для жонглирования и, поигрывая ими, отправилась в гладиаторскую школу получить какую-нибудь работенку. Но дальше пошло не так уж и хорошо, вернее, вовсе не пошло.
Пришла, посмотрела, как на маленькой арене в грязноватом песке возились с тяжелыми деревянными мечами двое каких-то совсем еще молоденьких дурачков, которые и не умели ничего, попросила встречи с ланистой. К ней вышел не сам Модро, а один из его прислужников и стал грубо спрашивать, мол, чего притащилась. Она объяснила, что жрать нечего, вот и придумала она — а не возьмут ли ее сюда тренером. Она будет ребят наставлять, а он… Ну и про деньги хотелось бы поговорить, если сладится дело.
Тогда прислужник этот, какой-то скользкий и противный, наверное из этих, из тех, кого местные рубаки используют не по прямому мужскому назначению, если имеют к тому охоту, снова куда-то убежал. А ей принесли, чтобы она не слишком глаза мозолила без дела, хлеба с коровьим маслом, хотя она бы предпочла оливковое, чуть сбитое и с мелко растертым чесночком, и немного сильно разбавленного вина. Еще принесли сушеных груш, нарезанных ломтиками, что остались от зимы, но они, как многое тут, в Крюве, заметно припахивали плесенью, и она их трогать не стала.
Модро так и не появился, но отчего-то Нашка была уверена, что он поглядывает на нее из какого-нибудь малозаметного окошка, оценивая ситуацию. В том, что такие окошки у ланисты есть, она не сомневалась, ведь невозможно было, чтобы у главного во всей гладиаторской казарме не было возможности отслеживать малую арену, где почти всегда тренировался кто-нибудь из молодняка. Конечно, это была совсем не престижная для местных арена, все те, кто считался уже уважаемыми и долгоживущими, заслуженными бойцами, тренировались в гимнасиуме, на большом поле, как это тут называлось, хотя полем та, другая посыпанная песком площадка могла выглядеть только в представлении тех, кто вообще больших арен не видел. Но все же она была, и даже, как сказывали, за ней ухаживали, не то что за этой — малой, где пыли и грязи было больше, чем песка, которая и утоптана была местами до состояния мостовой, и пота на ней было пролито столько, что от нее ощутимо пахло, будто бы от давно не стиранного тряпья бродяги.
А этот прислужник вновь откуда-то незаметно появился и стал спрашивать, чему она может научить местных живо-мертвых? Нашку это прозвание покоробило слегка, она от него отвыкла, но все же следовало быть менее разборчивой, и поэтому вида она не подала. Хотя вспомнила, как и ее назвали пару раз — живо-мертвой… Прозвание это установилось в Империи по отношению ко всем, кто зарабатывал себе на хлеб с риском для жизни, потому что считалось, что все подобные люди: гладиаторы, канатоходцы, ныряльщики за жемчугом на море, а то и сплавщики леса по верхним, горным рекам, — все они уже в силу своего основного занятия как бы мертвы, уже прожили свои жизни. И если еще ступают по земле, разговаривают и даже хотят временами есть, то это ровным счетом ничего не значит.
Тогда-то она подхватила свои булавы и стала показывать, что умение держать равновесие, правильно работать ногами, корпусом, руками и — главное — думать головой очень будет способствовать развитию навыка обращения с мечами, с короткими восточными алебардами, которые в этой школе были в большом ходу, с боевыми дубинками и многими прочими видами оружия. И что умение бросать ножи, или дротики, или даже сурикены без этого вот автоматического поддержания равновесия — просто невозможно.
Ну этот женоподобный покрутился, посмотрел задумчиво на кажущийся едва ли не сплошным стожок летающих булав — после чего в наличии потаенного окошка Нашка уверилась окончательно — и снова куда-то умотал. Зато вернулся он уже не один.
Сначала на малую аренку выкатили почти все живо-мертвые, гладиаторы, которых ланиста Модро тренировал у себя, и было их почти два десятка. Некоторых Нашка знала в лицо. Их временами отпускали из казармы развеяться в город, такое случалось, или когда Модро получал выгодный заказ на представление и в кошелях заслуженных ребят заводились деньги, или когда он запивал на пару недель и становился слабохарактерным. Эти вот самые ребята не раз и не два вместе с Нашкой отлично надирались местного самогона. И даже клялись ей в уважении и дружбе, хотя она-то отлично знала, что по-настоящему ей симпатизируют только Федр и Хаттах — два довольно грубых типа, но с чем-то подлинно живым внутри, вроде души… По крайней мере, с ними было понятно, что друг — это друг, а вот если они станут врагами, тогда… М-да, тогда даже Нашке, пожалуй, придется не очень-то легко одной против этих двоих. Но такого быть не могло, они немало выпили вместе и даже разговаривали о жизни, о судьбине живо-мертвых, о благородных нобилях и хозяйчиках, которые их жизнь уже как бы купили для представлений…
В общем, это были неплохие ребята. А вот за ними уже важно вкатились еще двое — сам Модро и какой-то из нобилей или из богатеньких, в почти торжественных тогах, в отличных мягких калигах, с жирными от недавнего угощения губами и сальными же глазками… У ланисты на поясе поверх простой, сероватой хламиды из оружия был только меч, чуть побольше гладиуса, без него, как сказывали, он даже спать не ложился, а если приходил в баню, то и тогда с ним не расставался.
— Покажи, что можешь, — приказал ланиста, — еще раз.
Нашка подхватила свои булавы и легко так, почти в полный мах, как на серьезном представлении, подвесила их в воздухе, все девять, перебирая их строго отмеренными по силе бросками к солнцу, работая так, что у нее даже кости во всех суставах скрипели, от лодыжек и колен и до шеи. Она лишь надеялась, что этот скрип не очень-то слышен тем зрителям, которые ей на этот раз достались. А еще она довольно отчетливо принялась ругать себя, потому что до такой степени запустить тело, не тренироваться и почти забыть это состояние сосредоточенного единения с бешено мелькающими булавами — это было в ее положении, конечно, недопустимо.
Но заметной ошибки она все же не совершила, не уронила ни одну из булав, пока те не стали грузно шлепаться на грязный песок, когда она повернулась к зрителям и вытерла пустыми уже руками пот с лица. Вышло так, что, когда она сделала полтора шажка в сторону, даже булавы хлопнулись одна на другую ровной кучкой — настолько точно она, оказывается, сработала. В прежней-то компании бродячих развлекателей это считалось весьма неплохим результатом, в этом был жонглерский шик, показатель выучки и едва ли не подлинного мастерства. Но на гладиаторов это не произвело впечатления.
— А теперь, — прокаркал нобиль, что пил с Модро вместе, — покажи, как ты кидаешь ножи.
— Бросковых ножей здесь нет.
— Да неужто без ножей ходишь? — делано удивился ланиста, и тогда Нашка вдруг осознала, что он ее не любит. — А тот, что у тебя на поясе?
— Он не для броска по мишеням.
— Тогда попробуй сравниться с моими бросальщиками дротиков.
Они выставили три доски как мишени, притащили пучок дротиков, небольших, в ярд длиной, но они для Нашки были все же чуть великоваты, может быть, так было сделано нарочно. И из гладиаторов стали поочередно выходить разные ребята, стали показывать свое умение. Нашка смотрела, смотрела, потом выбрала себе три дротика получше и поострее и вогнала их все три разом в мишень так тесно и сильно, что доска раскололась.
— Не-эт, я все же не понимаю, — заблеял полупьяный богатейчик, — если вот, предположим, она и лучший из твоих… Неужто она лучшего убьет и успеет увернуться от встречного броска?
— А мы сейчас проверим, — хмуро возвестил Модро. Кажется, Нашка что-то ему портила…
Может, этот вот… заказчик явился, чтобы потребовать себе пару гладиаторов для развлечения гостей на вечеринке, может, и без оговоренного смертельного исхода? А сейчас Нашка отчетливо демонстрировала, что ученики крювского ланисты не стоят тех денег, что за них требовалось заплатить? Что они в общем-то были вторым сортом в своем ремесле, не лучшими, которых можно потребовать?
На этот раз задача была чуть сложнее, чем просто попасть в центр мишени. На расстоянии двадцати шагов, тоже немалом расстоянии для некрупной Нашки, выставили мишени, обращенные друг к другу. И выдали по дротику.
Первым против Метательницы выступил не очень молодой, но еще очень крепкий и жилистый гоблин с татуировкой на лбу. Татуировка была, кажется, гноллская, по крайней мере, руны были похожи на те, что Нашка видела на некоторых амулетах гноллов. Они встали напротив друг друга, гоблин отошел от своей мишени чуть в сторону и шагов на пять назад, Нашка почти оперлась на треножник, на котором висела некрупная, избитая деревянная кругляшка. Модро и его гость встали посередине, чтобы получше все видеть, гладиаторы довольно отчетливо болели за своего, видимо, он пользовался среди них уважением.
— Начинайте по моей команде, — почти по-ярмарочному крикнул ланиста. — Раз, два, три…
Гоблин, который бросился вперед, чтобы усилить и ускорить бросок, лишь занес руку, а дротик, пущенный Нашкой, уже со стуком воткнулся в мишень, условно обозначающую ее врага. Деревянный хвостик его дрожал от сильного удара.
— Как это? — не понял пьяный богатей. — Этот ведь еще не замахнулся толком…
И даже Модро ничего не увидел — настолько быстро все произошло. Поэтому он потребовал повторить, уже с другим противником. Против Нашки выступил Хаттах, тот умел неплохо бросать ножи, но вот как он обращается с дротиками, она не знала, вернее, не была вполне уверена, что он умеет использовать возможности именно этого оружия. И на этот раз разбегаться и отходить от мишени им не разрешили.
Нашка с Хаттахом встали друг против друга, по требованию богатенького клиента они должны были положить дротик к ногам. Хаттах смотрел на Нашку, и вдруг улыбка сползла с его лица, она даже мельком подумала — уж не удумал ли он чего дурного, например, промазать мимо мишени, зато — прямо ей в сердце? Но расстояние было такое, что она не сомневалась — успеет уйти, даже если что-то подобное ее прежний приятель и задумал на самом деле.
— Готовы?… Давай!.. — закричал на этот раз безо всякого счета богатейчик.
Нашка подбросила свой дротик ногой, чуть за спину, чтобы сэкономить время на замахе, и успела развернуться так, что ее бросок вышел на удивление сильным — будто скрученная коса большого боевого «скорпиона», туго завернутая до скрипа и треска рамы, развернулась, поддавая движение заряженной стреле… Ее дротик ударил в мишень так громко, словно попал в барабан.
А когда стало ясно, что ее дротик воткнулся строго в серединку «яблока» и все повернулись к ней, увидели, что Нашка держит дротик Хаттаха… Просто-напросто перехватила его в полете за древко у самого наконечника. Для любого понимающего это было очень достоверным свидетельством: если бы даже этот бросок был пущен в нее — она бы все равно успела блокировать его, не получила бы малейшей царапины от острия. Это было более высокое искусство, чем умение уходить, уворачиваться от такого броска.
Вот тогда-то все и завертелось, быстро, так что даже Нашке было трудно все разом улавливать. Толстячок, возможный клиент Модро, вдруг разорался, что ему предлагают явных олухов, потому что какая-то уличная бродяжка обыгрывает их по всем статьям, сам ланиста вначале сдерживался и, кажется, пробовал объяснить этому наглецу, что Нашка вообще-то не бродяжка, а явилась к ним в город с бандой жонглеров, которые тоже были тренированы выше всякой меры… А потом тоже заорал на этого как бы нанимателя, что он не позволит так говорить о своих, и если он ни хрена в боевых искусствах не понимает, тогда… Одновременно он орал на своих бойцов, чтобы они поскорее эту самую клятую Нашку выставили, потому что нечего ей тут делать, и вообще…
Кто-то из самих гладиаторов порывался надавать Нашке по шее, только более разумные не позволили, удержали, хотя сама Нашка при этом дротик из рук не выпускала, лишь оглядывала лица всех этих здоровенных и выбирала, кого следует в первую очередь уконтрапупить, чтобы остальным хоть чуть стало бы страшно… Да, она действительно была готова в тот миг драться со всеми разом, даже сама после удивлялась — и что на нее нашло?
А нашло на нее отчаяние и редкое по силе ощущение одиночества, бездомности, покинутости и ненужности своей… В общем, она была готова драться и умереть здесь, сейчас, потому что стало ей как-то очень уж резко и отчетливо понятно, что ничего с ней хорошего уже быть не может. Не будет она ни с кем больше в жизни делить кусок сухаря, глоток воды или пива из общей кружки, не будет сидеть за костерком и слушать чьи-нибудь рассказы о прошлой жизни, а может, даже и рассказывать о своем пережитом ей больше уже будет некому, кроме случайных собутыльников в трактире Сапога, которым на все ее признания — плевать… Как-то очень ей в тот миг стало плохо.
А ситуация тем временем завершилась. Кажется, тот же Хаттах осторожно, будто к горящему дому, бочком подошел к ней и стал убедительно подталкивать ее к выходу из этого дворика и дальше к воротам. К нему присоединился и Федр, он ей даже что-то говорил, мол:
— Ты иди, Наш, иди себе… Потом за булавами своими зайдешь, я послежу, чтобы с ними ничего не случилось.
А Нашка, вот странное дело, только что умирать собралась, а уже чуть спустя почти разнюнилась… Правда, едва не заплакала, загундосив:
— А чего он? Играть, так играть по-честному.
— Да иди ты уже, — почти прикрикнул на нее Федр, но не со зла, а просто потому, что это и на самом деле было лучше всего — уйти и не оглядываться.
Зато многие другие, поигрывая тренировочным, но все же — оружием, с которым они работали, когда их так внезапно позвали посмотреть на Нашку, плечом к плечу, как в настоящем бою, стали теснить ее с Федром и Хаттахом к воротам.
А затем ворота раскрыли на всю ширину, обе створки, наверное, подумали, что в одну низенькую калиточку, прорезанную сбоку, ее будет труднее выгнать. Уже у самой пороговой плиты Хаттах решился и выдрал у нее из руки дротик, взвесил для верности и тут же точно воткнул в землю сбоку от себя, чтобы она чего не подумала… А она и не могла подумать, все еще смотрела глазами, в которых появилась какая-то размытость, дальше, на все эти морды и фигуры бойцов, которые ее выталкивали из своей школы, из города, а может, и вовсе — из общинной, подлинной и настоящей жизни.
Нашка снова вздохнула, прогоняя злость и слезы одновременно. «Вот еще, — раздраженно думала о себе, — вот и бери такую дуреху, которая, чуть что, разреветься готова… Ну и прекрасно, не буду я больше с вами… никакого дела иметь. Даже если кто-то придет за стол пображничать сообща, выгоню, как вы все меня сегодня выгнали! Может, кроме Федра и Хаттаха, они — люди, они умеют дружить, может быть…»
И снова такая злость ее взяла, что она набросилась на эти ни в чем не повинные ворота гладиаторской школы и принялась дубасить в них с воплем:
— Булавы отдайте, скоты безродные, живо-мертвые олухи, мать вашу, шлюху и ведьму, на кусочки…
Собственно, что значили все эти ругательства, она толком не знала, как даже великий ругатель Визгарь в прошлом не мог их объяснить… Маршон же когда-то говорил ей, что важно не то, что говоришь, а то — как говоришь. Сам-то он ругался не очень… Редко, хотя иногда и смешно получалось. Вот у самой Нашки никогда смешно не выходило, всегда какая-то глупость прорывалась в словах, как и сейчас.
С той стороны ворот кто-то буркнул:
— Ты шагай отседова, бедовая. Неча те здеся делать, култыхи твои посля получишь… А будешь шуметь, господин ланиста зазлиться могет. Вот будешь тише — мож, смилостивится, когда остынет, одумается, мож, и пошлет за тобой-то, шоб ты тута снова нас трюкам разным поучила.
Это был кто-то незнакомый уже, не Федр с Хаттатом, и осталось Нашке только одно — шагать отсюда, как ей посоветовали, и поскорее забыть всю эту хреноту, все сегодняшнее утро. Она и пошла.
Сначала захотела отправиться на реку, посидеть у воды, на своем месте, просто ни о чем не думая. Потом ей в голову пришла уже давняя идея вернуться на свои острова, найти какое-нибудь племя, где не будут на нее глазеть, как на дневное привидение, потому что сами все будут такие же — мелкие, по сравнению с этими громилами северными, краснокожие, быстрые в движениях и поступках, татуированные… Детей там она может обучать биться по законам северных этих гадов, чтобы, если еще какой-нибудь корабль причалит для грабежа и убийств, не оказались они вовсе неподготовленными, а потом, глядишь, и примут ее в племя-то… Но нет, решила она, все же не примут. Чужих там не любят, тем более слишком уже глубоко в нее въелась эта северянская, как тут сказывали — цивилизованная, манера говорить, думать, жить, даже двигаться, чтобы ее снова посчитали хоть в какой-то мере за свою. А наступит голодный год, так пожалуй что и съедят, если пленников из соседних племен не будет, потому что есть там-то, на островах, почти всегда хочется, почти всегда рыбы мало, и мясо почитают за деликатес.
Да и найти такое племя, чтобы было достаточно зажиточным, еще нужно, а они, пожалуй, лишь совсем на дальних островах только и остались и затаились к тому же, чтобы не попадаться на глаза мимо проходящим судам с хищными и дьявольски жестокими моряками, каждый из которых за монету готов был указать на племя краснокожих островитян капитану — охотнику за рабами в любой портовой таверне, а то и просто за лишнюю выпивку и миску тушеной свинины… Или за бабу…
Так Нашка размышляла и не заметила, как пришла… к себе домой. Вернее, конечно, в дом к тетке Васохе, у которой снимала комнату. Квартал этот был не из простых. Он примыкал и к относительно зажиточным домам, где обитали главным образом купчишки разные, кто в люди выбился, и морячки, что побогаче. И даже несколько настоящих арматоров тут жили, только не очень обеспеченные, те, которые сами должны были ходить на собственных корабликах вверх по реке для торговли в места, где обитали только плотогоны, почти сплошь бывшие гоблинами или гноллами. Гноллы, как жители болотистых и влажных, низинных районов, лучше умели чувствовать реку и воду вообще, зато им не хватало силенок, чтобы с большими-то плотами управляться, вот они и нанимали дальних своих сородичей, гоблинов, которые реку понимать не умели, зато ворочать передними веслами, чтобы направлять плоты мимо камней, сил у них хватало… Это все Нашка поняла еще в первые недели своей жизни в Крюве.
С другой стороны эта улочка уходила совсем уже в низинные районы и места города, где обитала, на местном разговорном языке, всякая требуха — смертные самых разных рас и пород, которые не сыскали себе удачи, не сумели найти работу в городе. Было там немало и матросов на один-два рейса, были и воры, были и дурачки, которым не хватило ума и сил жить сколько-нибудь сытно и покойно. В общем, те места уже примыкали к порту, который, как и все порты мира, являл собой такое смешение всех рас, религий, убеждений, повадок и образов мысли и поведения его обитателей, что после очень непродолжительного времени начинало казаться — лучше бы их было поменьше, лучше бы древние боги, создававшие народы по своему образу и подобию, проявили меньше воображения в этом-то деле.
В квартале, где жила Васоха, обитали в основном предсказатели, изготовители и торговцы амулетами, колдуньи, что откупались от городских властей немалыми налогами, колдуны, которые и волхвовать-то не умели, зато умели писать разные необходимые письма, составлять документы и вести подсчеты, без которых любое хозяйство наблюдать было затруднительно. Квартал считался неплохим, неголодным, вот только чрезмерно близкое соседство с припортовыми улицами и требуховыми жителями иногда оборачивалось то грабежом, а то и убийством… В прошлом месяце кто-то из уличных громил разбил лавочку Комуся, довольно славного старичка из гномов, который продавал какие-то масла и каменный же уголь для зимнего отопления. Самому ему проломили голову, наверное, он что-то не вовремя сделал или сказал грабителям… Еще раньше, Нашка это отлично помнила, очень сильно поколотили Дежу, высокую и какую-то недокормленную учительницу, которая тут, на улице колдунов-грамотеев, хотела устроить что-то вроде школы… По ней не сильно горевали, она появилась тут недавно, хотя на похороны ее, когда она через пару недель после того нападения на ее дом умерла, собрались многие.
Васоха, как кажется, потому-то и пустила Нашку, что сама побаивалась попасть под горячую руку каких-нибудь разбойников. А с Нашкой, с ее славой победительницы гладиаторов на арене, было спокойно. К тому же на нее тогда приходили посмотреть многие, да, тогда у нее была какая-никакая, а все же слава, должно быть, потому, что она еще не пустилась во все тяжкие, как произошло позже… А значит, Васоха при этом изрядно подъелась, так как, чтобы посмотреть на известную быстричку с южных островов, проще всего было явиться к самой колдунье и предсказательнице да за пару сестерциев попросить ее отыскать то ли давно потерянный перстенек, то ли сказать, как живет родственничек в далеком городе, пусть даже он и убрался из Крюва добрых два десятка лет тому, или даже попросить предсказать смерть конкурента, который зажился и не позволяет развернуть свое-то дело чуть шире… За все приходилось, разумеется, тетке Васохе платить, а вот была ли от ее советов хоть какая-то польза — лишь боги или же сам Нечистый только и знали…
Нашка вошла в неширокую дверь, которая вела в полуподвальный этаж, воспользовавшись тремя непростыми поворотными рычажками, потому как дверь была заперта, и ведь день уже давно наступил, и клиенты могли к колдунье зайти, и дверь должна была оказаться открытой, а вот поди ж ты… Что-то случилось, решила Нашка, едва переступила порог.
Обычно Васоха восседала в чуть приподнятом над полом кресле и поглаживала одну из своих трех кошек — отвратительных зверюг, которые Нашку на дух не выносили и не забывали демонстрировать это даже тогда, когда она была настроена в общем-то мирно. Сейчас тетки не было, а на небольшом гадательном столике восседал и умывался один только здоровенный рыжий кот, который встретил Нашку шипением. Затем он спрыгнул и удалился куда-то в сторону кухни, выгнув спинку и задрав хвост. Это тоже что-то да значило.
Нашка пошла в свою каморку и почему-то вдруг захотела есть. Это было довольно странно, ведь она неплохо перед уходом поела, тетка Васоха расщедрилась и дала ей немного каши с остатками жареной рыбы, которой, правда, кормила обычно кошек, но, видимо, кто-то из этих зверей вчера что-то не доел и сегодня стал привередничать, вот Нашке и досталось перекусить.
— Это ты? — послышался из глубины дома не очень-то и старческий голос.
Этого у Васохи было не отнять — она казалась малосильной, старой, сгорбленной, обиженной всеми и всегда, разумеется, если не хотела произвести другого впечатления, обратного… Тогда она становилась заметно сильной для своего-то возраста, прямой, жесткой, зычной, громкой и даже грубоватой, будто копье. Кто же может еще быть, удивилась про себя Метательница, но отозвалась вежливо:
— А ты ждешь кого-нибудь, тетка Васоха?
Старуха-гадательница вытащилась из-под лестницы, из тех комнат, где обычно варила свои самые вонючие смеси и зелья. Лицо у нее было неестественно бледным, она отчего-то изрядно переживала. Нашка даже хотела спросить, мол, что случилось, но не спросила, если тетке взбредет в голову поделиться своими жизненными проблемами, она сама скажет.
— Ты вот что, девонька… Ты мне должок-то отдай, за все про все, считаю, ты мне должна пару золотых, одну большую серебром, а остальное я тебе прощаю. — Тетка пожевала старческие губы, обычно это выдавало или ее крайнее раздражение, или то, что у нее опять разболелись старые, желтые, кривые зубы. — И съезжай давай, уходи куда-нить… Чтоб глаза мои тебя больше не видели.
— С чего вдруг такая немилость?
— Дак ты ж сама знать должна, что и как у тебя… Я-то — что, я — всего лишь простая городская колдунья, многое для меня за семью печатями спрятано. Да и глазки уже не те, что были некогда… — Нести подобную околесицу, которую Васоха привычно прибавляла к своим гаданиям, она могла часами, и без всякой усталости.
Нашка пригляделась, тетка старалась выглядеть более старой, сморщенной и жалкой, чем обычно.
— Ничего я не знаю, тетка, — грубовато отозвалась Нашка, но с лестницы сошла и к старухе подошла так близко, что стал заметен ее жуткий запах — смесь каких-то жженых не очень-то приятных трав, старости и кошек — Нечистый их забери себе совсем и на веки вечные! — Что случилось, можешь сказать?
— Не просто могу, но и должна, девонька, обещала, раз уж… — Старуха взяла себя в руки, выпрямилась, разом сделалась выше Нашки на голову и забормотала с металлическими прищелкиваниями, будто не слова выговаривала, а из самострела била. — Не знаю, во что ты попала, в какую неприятность — могла бы, конечно, разузнать аль разгадать по картам, но не буду, неинтересно мне… Приходил один из этих, ваших, сказал, что от Сапога. И якобы главарь этой вашей нечистой шайки велел тебе ввечеру быть у него. Сказал посланец этот еще, что тебя там накормят, но и заставят какое-то дело свершить.
— Что за дело? — Нашка и хотела оставаться спокойной, но все же не сумела скрыть напряжения и возникшей настороженности.
— Так не сказал он, лишь по сторонам зыркал, все поглядывал да на ус мотал, словно бы хотел на будущее себе план составить — чем тут можно поживиться, если ночью да с топориком явиться… — Тетка запричитала опять, хотя горбиться не стала: — И-эх, годы мои несчастные, кто меня, сироту, и защитит-то от этих вот разбойников? На тебя была надежда, Нашка, думала я, что ты их отвадишь своей молодой силой-то, да наоборот вышло — навела ты на мой дом злодеев…
— Тетка, перестань хныкать. Еще ничего не произошло, а если кто-то из них и явится, я за тебя постою, как и договаривались прежде. Ну раньше, когда договаривались о цене за жилье…
— Нет, девонька. — Тетка была теперь сухой и очень твердой, решительной. — Ты, как я и сказала, заплати за то, что жила тут, кормилась иногда, сама знаешь, я тебя об этом допреж не торопила, зато теперь, вижу, нет у меня другого выхода, разошлись наши дорожки. Заплати и уходи куда-нибудь. Мне о тебе больше и слышать ничего не хочется. И надеюсь — не услышу больше.
Что-то она такое еще знала — это Нашка ощущала отчетливо, но вот что? И как узнать это у вредной старухи? Как бы там ни было, а ругаться с ней и уж тем более угрожать ей Нашка не хотела. Поэтому она заговорила иначе:
— Большой золотой — это тот, что полтора обычного, а эти твои серебряные — это то, что до второго-то большого золотого… Ну там уже немного совсем не хватает, да? Так почему же ты не сказала, что я тебе два больших должна?
— Мне лишнего не нужно, Нашенька, мне лишь бы свое на старости лет не упустить — и ладно, тем я и довольна буду.
Глаза тетки Васохи блеснули от жадности. Наверняка знать, что у Нашки ничего, кроме долгов, нет, она, скорее всего, не могла. Прежде-то, случалось, Нашка с ней весьма щедро расплачивалась, хотя, если Васоха и надеялась на нее как на защитницу, такого оборота дело прежде не принимало. С того момента, как Нашка у нее поселилась, никто к тетке из уличной шпаны не заглядывал, и никто ей грозить не решался, это было всем известно, она сама же о том не раз перед соседскими кумушками не то хвасталась, не то подбивала их в складчину Нашку использовать как охранницу.
— Значит, так, ты мне скажешь сейчас, что еще знаешь, а я тебе слово даю, что вечером сегодня же расплачусь. Сама ведь уже поняла, что какая-никакая, а монета у меня появится, раз я Сапогу для чего-то понадобилась. Значит, и заплатит он, и я к тебе первой приду расплатиться за… за все хорошее, что в твоем доме нашла.
Тетка смерила ее сложным и долгим взглядом, пожала плечами, подхватила все того же рыжего кота, прижала его к груди и, больше не говоря ни слова, ушла в свои комнаты, не те, где она своим ремеслом занималась, а в другие, куда доступ Нашке был заказан. Вот так краснокожая дикарка Метательница ничего и не узнала. Зато у нее появилась уверенность, что уж сегодня вечером она, по крайней мере, прилично отужинает в трактире Сапога.
4
Против ожидания, Сапог, когда Нашка пришла вечером к нему в трактир, на нее внимания не обратил. Она подошла к нему, спросила, мол, чего вызывал, а толстобрюхий посмотрел на нее так, будто впервые видел. Нашка даже и не знала, что так бывает. Но делать нечего, она весь день почти проспала, а как известно, после хорошего-то сна есть хочется так, что иной раз думаешь — может, и не спать вовсе, когда с монетой туго и пожрать нечего? По крайней мере, с ней так происходило. «Может, у других по-другому?» — с тоской и какой-то непонятной ей самой же завистью думала она. Или другим и вовсе есть никогда не хочется… То есть, конечно, есть они едят, даже жрут, если надо, но вот голода не знают, едят, только если время приходит или слуги чего-нибудь подносят.
Вот так и происходит все в этой жизни, мрачно раздумывала Нашка, взобравшись на скамью за пустым, как пустыня, столом, на котором от прежних, сидевших тут, и корки плесневелой не осталось. Да, с таким-то пустым брюхом следует как-то по-новому решить — а стоит ли, имеет ли смысл оставаться свободной, вольноотпущенницей по приговору зрителей после боя на арене, если все вокруг жрут, а у тебя даже зубы готовы друг дружку покусать. И за что ей судьбина такая?
Она знала, что ест чуть больше, чем всякие другие. Даже здоровенные орки, мощные, с перекатывающимися мускулами, очень редко могли сожрать столько, сколько была способна умять за хорошим столом она. Может, это как-то зависело от ее способности двигаться быстро, и вся еда, что она в себя запихивала, так же мгновенно сгорала? А то как иначе этот фокус следовало бы объяснить?
Сидеть, не пить даже и смотреть, как жрут всякие остальные, она уже не смогла. Поднялась, подошла к какому-то старикану, вернее, еще не вполне, но все же — немолодому плешивому мужичку, который и сидел как-то боком, может, от старческой слабости, и попросила у него хотя бы миску похлебки. Но лучше — с хлебом и лучком. Стоило это всего-то двойной медяк, зюгу, как тут назывались эти монеты, один грошик за похлебку, второй, естественно, за хлеб.
А старик — скотская душонка — неторопливо облизал ложку, которой черпал из своей миски какую-то кашу с молоком, и стал Нашку плотоядно рассматривать. Самым паршивым образом, будто покупал ее для… ну известно для каких забав. Она даже поежилась.
— Не-а, — отозвался старикан в конце концов, взял свою ложку и снова с причмокиванием принялся свою кашу прихлебывать.
— Ну хоть хлеба дай, — попросила Нашка.
— Ты — штучка тут известная, Метательница, и потом, про тебя все говорят — сначала хлеба попросишь, потом под сердце нож загонишь… Ничего не дам, ступай себе, может, еще кто-нибудь сжалится над твоей бедностью.
Вот только говорил пожилой этот как-то странно, будто бы жил всегда в верхнем городе, среди богатейчиков и образованной публики, но спустился сюда и зачем-то хочет казаться таким же, как большинство местных, что у порта обретаются. Наивный, решила Нашка, может, припугнуть его? Но делать так в трактире Сапога было бы неправильно, за такое и от его двух вышибал — Корени и Гуса — можно было запросто схлопотать.
В общем, что называется, не солоно хлебавши вернулась Нашка за свой столик и снова принялась мрачно разглядывать всяких по всем сторонам — а вдруг заметит кого-нибудь из старых собутыльников, тогда можно будет подкатить уже с большей надеждой в попрошайничестве. Но снова выбирать, к кому бы со своим голодом обратиться, не пришлось, потому что к ней неожиданно как-то, почти незаметно для нее, подошла одна из служанок и тихо предупредила:
— За кухней, вниз по лестнице, есть каморка сбоку, там жди. Только тихохонько, чтоб сама себя не замечала…
Метательница подивилась такому образному приказанию, огляделась еще разок, тетка — прислужница трактирная убралась почти так же по-мышиному, как и оказалась рядом. Никто на Нашку вроде бы не обращал ни малейшего внимания. Она поднялась и тогда поняла, что тот самый мужичок с кашей, к которому она подошла, смотрит на нее — только умело очень. Если мельком обвести весь зал взглядом — то и сидит он как-то к ней боком, и по-прежнему что-то там жует, пить — не пьет, это правда, но что-то жует, и… И все же он следил за ней едва ли не внимательней, чем за бойцами следят на арене во время самой горячей схватки. Если бы не умение Нашки выступать перед многими и многими зрителями, она бы этого не поняла даже. А так, как выходило сейчас, была уверена, что этот… кашеед — самый внимательный ее наблюдатель.
Но его, кажется, можно было не опасаться. Нашка тихо нырнула за какого-то разгулявшегося выпивоху из сплавщиков, к тому же в другом конце трактира в другой компании кто-то шумно и сильно заспорил, как считать выпавшие кости… В общем, никто ее видеть не должен был.
Она прошла мимо кухни, запахи оттуда чуть не своротили ей голову набок, но она нашла и лестницу, и темные ступеньки. В комнатушку, чуть больше, чем ее собственная у тетки Васохи, она вошла осторожно. Но тут были только оба… вышибалы Сапога — Гус и Кореня. Они были похожи — оба здоровые орко-гоблины, да еще с примесью тролльской крови, уж очень у них была плотная и малошерстяная шкура у обоих, а волосы, как сказывали, не росли только у троллей. Даже у людей волос было больше, чем у троллей, — это всем известно.
Оба сидели на одной недлинной лавочке так, что для Нашки места уже не оставалось. Она посмотрела на обоих, пробуя угадать, кто из них — кто? Вот странное дело, и ведь обитала она в этом трактире уже не один месяц, и доходило до того, что с обоими громилами приходилось если не вполне всерьез драться, то хотя бы отношения выяснять не раз, а все равно — не могла она запомнить, кто из них Гус, а кто Кореня. Для верности сказала:
— Привет, кореша.
— Мы тебе не кореша, — буркнул один.
Второй добавил:
— Ага.
Значит, тот, у кого серьга в левом ухе, тусклая и чуть помятая, скорее всего, был Кореня, он всегда высказывался первым. Кажется… А второй, менее разговорчивый, — это Гус, с серьгой новенькой, блестящей, будто бы только вчера купленной или снятой у кого-нибудь из забредших сюда, в трактир, дурачков, который не смог расплатиться.
— Чего сидим? — поинтересовалась Нашка.
— Ты тоже сиди, — сказал предполагаемый Кореня.
— Вот там, в уголку, — договорил Гус.
Нашка подумала. Стоит ли объяснять, что не она сюда пришла, а позвали ее, но вместо этого сказала:
— Пожрать бы.
Вошел Сапог, он был хмур, видимо, о чем-то сосредоточенно думал, хотя в это было трудно поверить — что он умеет заниматься таким не слишком торгашеским делом. И все же он определенно на что-то решался. Оглядел всех. Нашка, пробуя разобраться в его настроении, наморщила лоб, приподняла бровь. Это и привлекло внимание трактирщика.
— Хорошо, что пришла, — кивнул ей Сапог. — Дело есть… Так в общем-то, не дело даже, а просто… Решил избавить тебя от долга, за определенную работу, конечно.
У Нашки отчего-то нехорошо засосало под ложечкой.
— Говори, — согласилась она. Облегчения, что она хотя бы один из своих долгов спишет, у нее определенно не возникало.
— Нужно… — Сапог принялся покашливать, оба его дурелома догадались, поднялись с лавки, он уселся, широко расставив ноги, свесив свой необъятный живот между коленей. — Нужно для верности перебить одну конкурирующую… бандочку. Ну не банду настоящую, а так… Просто будет их немного, полагаю, душ пять, а то и вовсе…
— Трое их будет, — прогундосил Кореня. — Мы ж смотрели за ними, сам же весь день заставил за ними таскаться…
— Мы ни разу даже не выпили, — похвалился Гус. — Только и смотрели, смотрелки все об них истерли до мозолей. — Ударение в последнем слове он сделал на последнем слоге.
Сапог не обратил на них внимания. Проговорил чуть живее, чем прежде:
— Их будет трое, за каждого — по монете, кажется, это очень щедро для тебя будет.
— Смотря что они за бойцы, — высказалась Нашка. И призадумалась.
— Это отличная цена, — продолжил Сапог, — к тому же, если все пойдет как надо, я и впредь тебя не забуду, все же мы тогда будем уже повязаны…
— Гы… трупаками, — ощерился Гус.
Нашка решила отказаться, что-то ей в этом предложении не нравилось. Положить троих или даже пятерых каких-то злодеев — это непросто, но с помощью Корени и Гуса, да если учесть неожиданность нападения… Если она сумеет пустить в ход свое любимое бросковое оружие, тогда… Что же, об этом она подумала как о настоящем, серьезном, но возможном, допустимом деле, если бы выпала такая необходимость… Только вот необходимости она в данном предложении не видела. Совершенно. Потому что ей это было не нужно, нужно было Сапогу, вот пусть он сам свои ситуации и разруливает.
— Нет, слишком многого за свои три золотых хочешь.
— Ты не очень-то тут бузи, — решил прикрикнуть Сапог. — Деньги тебе взять больше неоткуда, а так… Ладно, была не была, еще месяц кормить за это обещаюсь. Только вот пить буду проставлять не вино, оно денег стоит, а пиво. — Он решил эту тему развить. — Пива, Нашка, будет — хоть утопись, сколько выпьешь — все твое. Только угощать других не позволю, ежели увижу, что еще кого-то бесплатным пивом поишь, — конец нашему уговору.
— Торгуешься, Сапог. А почему торгуешься? У тебя свои парни есть, если бы все было просто, ты бы не расщедривался тут…
— Я не щедрый, я расчетливый. — Трактирщик вздохнул. — Мои, они не очень сообразительные, Нашка, сама же знаешь. И главное, они в темноте не видят ничего, не то что врага с оружием, даже гуся не сумеют поймать… Зато отвлекут на себя, ну… этих троих. Те будут против них своими мечиками размахивать, а ты… Ты сделаешь свою часть работы.
— То есть убивать должна только я.
— Не боись, дикая, ежели получится — мы тоже подсобим, — прогудел Кореня, Гус ухмыльнулся. Кореня посмотрел на него и высказался далее: — Все ж получится так, что нам придется драться… Махаться во всю силу, а вот убивать… Да, тебе это сподручнее.
Вот тогда-то высказался и Гус с новенькой серьгой в ухе:
— У тя сполучица, не сомневайсь.
— Я убиваю для еды. Или для жизни.
— Так я тебя за то и кормить буду, — удивился Сапог. — Я ж догадывался, что ты так скажешь, потому и обещаю… Кормить обещаю.
Нашка проверила свой нож, потом свои метательные ножи, оба сурикена, потом незаметно попробовала кинжальчик на пояснице. Все было при ней. Вот только, если бы она знала, для чего ее вызвал к себе Сапог, она бы, пожалуй, и дубинку Маршона взяла. Очень-то работать ею Нашке было несподручно, роста не хватало, но вот отбивать чужие удары и использовать как дополнительную и подвижную опору — она бы ей пригодилась.
— Я не думала, что ты так потребуешь долг возвращать, — выдохнула она. — Не готова я.
— А чего — не готова? Трезвая, спокойная, я же вижу… Да и голодная, значит, еще злее будешь, чем обычно. — Сапог снова вздохнул. — Ну ладно, я тебе полстакашки крепкого налью, если согласишься, и мяса на хлеб напластую, по дороге и поешь.
— А что, мы уже прям счас идем? — спросил Гус, неожиданно подавая голос без необходимой для него запевки Корени.
— Будет еще одно условие, — сказала Нашка. — Ты, Сапог, пойдешь с нами.
— Чего? — Такого, кажется, трактирщик не ожидал. — Ты что же, хочешь, чтобы я там засветился?
— Можешь не драться, просто постоишь в сторонке, посмотришь, — хмыкнула Нашка, — если хоть что-то увидишь… Ты же хочешь, чтобы все в темноте было, вот и будет в темноте, и, значит, тебя никто не заметит. Но все же — ты должен быть там. Иначе я не соглашусь.
— Сапог, может, ее пристукнуть? — предложил Кореня. — Несильно, только чтоб знала, кто здесь главный…
— Она не из тех, кто такой урок усвоит, — задумчиво отозвался трактирщик. — И останавливаться она не умеет, будет молотиться, пока или мы ее не положим, или она нас…
— Что вернее, — кивнула Нашка. — Вы же не знаете, что у меня при себе имеется. Я же не хожу без отточенной стали.
— Она только кидать разные штуки горазда, — снова гудящим неверным голосом высказался Кореня. — А тут тесно…
— В том-то и дело, что — не только, я же тогда ее на арене видел… — кивнул своим сомнениям Сапог, еще подумал и в конце концов решился. — Ладно, твоя взяла, Нашка, пойду я с вами. Но чтобы все было чисто, быстро и наверняка. Понятно? — Он обвел взглядом своих троих уже бойцов. — Всем понятно?
От трактира они отошли совсем недалеко, когда Нашке стало понятно, что еще кто-то за ними следует. Она даже подумала сказать об этом Сапогу, но не стала. Он вообще, когда обрядился в какой-то старый, едва ли не поеденный молью кафтан, а сверху накинул темный, какой и остальная одежда у него была, непрезентабельный плащ, впрочем укрывший всю его фигуру, сделался малознакомым, отдаленным, и в нем появилась прежде несвойственная ему угроза, скрытая жестокость. Под плащом у него позвякивал меч, и почему-то не возникало сомнения, что орудовать им он умеет, может, даже получше, чем оба его подручных. А ведь прежде он вытаскивал из-под прилавка только почти безобидную дубинку, которой тоже размахивал, как замечала Нашка, весьма осторожно и даже бережно… В общем, к Сапогу следовало теперь присмотреться, прежде чем лезть с глупыми замечаниями.
Они постояли на месте, улица была освещена лишь одним окошечком на третьем этаже, Сапог покряхтел, потом свистящим шепотом оповестил всех:
— Дурацкое место. Нас же видно будет, не пойдут они здесь.
— Еще как пойдут, командир, всегда же ходют. — Кажется, Кореня тоже пытался шептать, но у него плохо выходило.
— Ты, тише, понял? Или вообще заткнись. — Сапог еще разок осмотрелся. — Вы оба встаньте вон там, ближе к дверям со столбиками. Наш, ты можешь…
— Я сама найду, где обосноваться, — решила Нашка.
Сапог отошел к темной стене и попробовал на ее фоне скрыться от света, едва пробивающегося сверху. И в общем, если учитывать его массу, ему это удалось.
Оставалось только ждать. С реки медленно, будто ленивая собака, стал наползать туман, он был в общем-то на руку Сапогу с компанией, но вот Нашка туманов не любила и даже пожалела, что выпала им такая неблагоприятная погодка… Лишь потом вспомнила, что в засаде, в настоящей бандитской засаде, сидит впервые, прежде, несмотря на все ее довольно бурные жизненные перипетии, никогда до такого не опускалась. Не собиралась грабить кого-то неизвестного, а кого-то — и вовсе убивать. Миловали ее боги, чтобы на такое решаться, какие-то прочие варианты подворачивались, зато сейчас…
Где-то в отдалении загавкала собака, ее поддержал хор других псов, одна визгливая и злая сука — если судить по голосу — прямо заливалась, будто спутала себя с какой-нибудь певчей птицей… Вот только певчие-то никогда такими бешеными и злыми не бывали, как правило, а эта — самые дурные мысли наводила своим лаем, смешанным с воем и чуть ли не членораздельным нытьем… Потом откуда-то стали слышны голоса. Нашка подобралась, тот длинный и не очень-то хорошо кованный нож, длиной в три ее ладони, который ей выдал Сапог, показался ей вдруг едва ли не живым. Если бы она уже не согласилась и если бы не деньги эти клятые, она бы выбросила нож в канаву, устроенную посередине плохо и давно мощенной улицы, и удрала бы — пусть Сапог думает о ней что угодно. Но она так не поступила.
Потом стало понятно, что голоса были слышны из недалекого дома, там ссорились, кажется, из-за еды — отдельные слова уже можно было разобрать, потому что слух обострился до того, что Нашке даже стало удивительно. Она давно не испытывала такого ощущения, слишком долго жила в городском грохоте и научилась отключаться от общего звукового фона, зато сейчас старые, еще из прежней дикой ее жизни, способности возвращались…
Она еще раз убедилась, что за ними кто-то следит. Это не могли быть городские стражники, те в такие кварталы не заходили и двигались всегда с таким скрипом и грохотом напяленных на них доспехов и прочего железа, что их можно было распознать за версту. А этот неизвестный умел скрываться, умел прятаться даже на пустой и кажущейся совершенно прозрачной улице. Вот лишь туман чуть размывал один ее конец, тот, что был ближе к порту…
Оттуда и появились трое. Двое определенно были головорезами, в тяжелых и чуть сырых от тумана плащах, третий… Нет, было их все же четверо. Третьим был какой-то красавчик, явно из богатеньких или просто принаряженных… Все же из богатейчиков, теперь в этом сомнений у Нашки не было, одна его шпага стоила, наверное, столько же серебра, сколько сама весила. Если не больше. А еще он вел за руку девицу, пожалуй, известного рода занятий, вот только тоже чуть приодетую, получше прибранную, как те… гм… дамы, что иногда в трактир к Сапогу тоже заходили, с компаниями, которые могли оградить их от совсем уж постыдных приставаний.
— Ты не слишком ли легкий платок накинула, душа моя?
— Ишь, душа я… — хмыкнула девица, впрочем довольная таким обращением. — Ты б, Гамон, не торопился, что ль? Вот когда дойдем, тогда… Посмотрим, что да как, да и выйдет ли у тебя со мной, апосля всякого выпитого.
Вот она точно была из простых, хотя и впрямь разодета так, что издалека могла кого-то и обмануть своим видом. Но лишь до той поры, пока не стал бы слышен ее голос и ее резкое, грубое произношение.
— Тише вам, господа, — протянул один из тех, кто шагал впереди любовной парочки.
— А почто тише? — спросил юноша с богатой шпагой. Он хотел выглядеть попроще, но только у него не получалось, дикция, походка, уверенное поведение и всякое прочее выдавали в нем годы частных учителей, лакеев на долгих семейных обедах и как минимум двух слуг при разоблачении перед сном. — Никого вокруг нет, по крайней мере, я не слышу…
Вот тогда-то Кореня с Гусом и оторвались от чуть притопленной в стене темной двери, в углублении которой прятались. Они вышли на середину улицы. Девица негромко ойкнула, юноша застыл, разинув рот.
Мечи у пары охранников вылетели из ножен быстрее, чем успели хлопнуть полы отброшенных плащей. Под плащами тускло и увесисто блестели кирасы.
— Господин Гамон, останься сзади, прикрывай нам спину, — приказал один из тех, кто шагал впереди.
— Что-то маловато вас, бродяги, — ухмыльнулся второй, отточенным движением выдергивая леворучный боевой кинжал. По всему было видно, что привык он не к уличной драке, а к честному благородному бою. И в этом бою был искусен.
А ведь это никакая не банда, решила Нашка, это кто-то из верхнего города. Но вот сомневаться в том, что именно этих и ждал Сапог, не приходилось, потому что Кореня тоже рыкнул:
— Пусть мы и бродяги, зато в канаве будешь ты, Меченый.
Или как-то похоже он обозвал того, кто бросился вперед, явно стремясь поскорее покончить с громилами Сапога. Выпад его был силен, точен, стремителен и непрост, рассчитан на то/чтобы раскачать оборону Корени, вынудить его раскрыться и уже потом, после… судьба бы одного из Сапоговых вышибал была быстро завершена. Это Нашка понимала очень хорошо. Вот только нападающий не довершил своего пробного выпада, ноги его подломились, и он рухнул во весь свой немалый рост на брусчатку.
Второй из защитников не понял, в чем дело, резковато развернулся на месте, пробуя заметить новую опасность, но тоже не успел закончить этого движения. Упал он на спину. Тогда стало видно, что у него из затылка торчит небольшой, чуть длиннее арбалетного болта, и почти такой же тяжелый дротик. Он пробил ему череп всем наконечником, вошел так глубоко, что вытаскивать его было теперь непросто. А Нашка решила, что на этом ее бой, пожалуй, и закончен.
Сапог подошел к тому из охранников, кто умер первым. Склонился, рассмотрел в темноте его неопрятный труп. Выпрямился и проговорил отчетливо громко и ясно:
— И добивать не нужно. Ты, Нашка, как и положено тебе, молодец.
Возможно, он мог бы еще что-то сказать и даже собирался, но его прервал топот ног. Богатейчик с девицей убегали что было сил по улице, только загрохотали очень, у юноши-то были сапожки подкованные, да и девица шуршала юбками так, что — показалось на миг — и в домах по всей улице ее слышно. Сапог сразу же заголосил, впрочем, не в крик ударился, а пробовал умерить голос:
— Убить… Нужно убить их. Кореня, Гус, вперед, сделайте эту кошку помойную и хозяйчика… — Дальше пошло такое рычание, что слов было уже не разобрать, возможно, это была отборнейшая, чуть не моряцкая ругань на каком-то из южных или восточных языков.
В общем, те двое, кажется, все же могли уйти, не от Нашки, конечно, но от подручных Сапога. Уж очень долго эти два стоеросовых дурелома раздумывали, а когда побежали, получилось у них, что… Нет, ничего у них не получилось. Кореня к тому же и споткнулся об одного из лежащих на мостовой мертвецов, не разглядел его в темноте, сам чуть не грохнулся, хотя ногу ушиб, кажется, изрядно, захромал-заковылял, ругаясь сквозь зубы. Гус все же бежал, но даже девица его довольно легко обогнала бы, как решила Нашка, оценивая ситуацию, но, как и обещала себе, не принимая в погоне ровным счетом никакого участия.
Сапог обернулся к ней:
— Нашка, мы же на трех договаривались, ты еще…
— Нет, — отозвалась краснокожая дикарка, — я с дураками, как этот, пусть и с богатенькими, кажется… не воюю. Остальное ты уж сам со своими доделывай.
Сапог выругался так, что небесам стало жарко, Нашка даже удивилась, откуда он такие выражения знает, и тоже пустился в погоню. Это было бы даже смешно, если бы над всем этим местом не царила такая страшненькая, такая кроваво-смертная неизбежность чего-то ужасного, что даже Нашку пробирало, она едва не ежилась, потому что очень точно понимала — еще ничего не закончено, а вот как закончится, оставалось в высшей степени непонятно.
Парень из богатейчиков с девицей почти одновременно добежали до поворота улицы, девица оказалась чуть впереди, и… Она упала внезапно, будто бы сраженная бесшумной и невидимой молнией. Нашка, как ни мало было света, отлично это увидела. У девицы подкосились ноги, и она стала падать, будто бы все нити, которые дергали ее ручки-ножки, разом, одним махом оказались отрезаны, и эта легкомысленная дурочка превратилась в большую, в размер нормального смертного, опрокинутую куклу.
Парень догадался поднять свою отменную шпагу, попытался даже что-то сделать, может, и выпад какой-то неловкий, в темноту… Но тоже упал с родившим эхо звоном. Лишь долгий миг спустя Нашка догадалась — это его шпага зазвенела по камням брусчатки. Но он был еще жив, его еще не кончили, значит, для него еще оставалась какая-то надежда… Если можно было считать надеждой полную неспособность к сопротивлению.
Гус, который гнался за парочкой, приостановился и довольно точно, хотя и неуклюже, как и все, что он делал, откатился к стене ближайшего дома, защищая спину и бок от неведомой ему опасности. А вот Сапог ничуть не удивился, он даже остановился и захихикал… Это было бы чрезмерно зло и мерзко даже для Сапога, если бы в его голосе не проскакивали визжащие нотки, в общем, у него случилось что-то вроде истерики или приступа неконтролируемого страха, вот он и смеялся… И Нашка решила, что смеяться от страха, пусть и с визгом, — это можно, это допускалось и Сапогу. Но чего же он так-то испугался? Она пошла к трактирщику, чтобы спросить его, но он дотопал до опрокинутого богатейчика и заговорил:
— Что, Банат, теперь понял, что я не шутил, когда напоминал тебе о долге? Ты-то думал, что достать тебя нельзя, да? А вот получается…
Из-за поворота вышел — Нашка не поверила своим глазам — тот самый плешивый мужичок, к которому она приставала в трактире Сапога, чтобы купил ей чего-нибудь пожрать. Сейчас он был в черном, как ночь, очень чистеньком плащике, скромном, но отменно скрывающем всю его щуплую фигурку, довольно забавную свою шляпу он сбил назад, за плечики, и она висела на длинных завязках, как свои широкие шляпы отбрасывали назад небогатые фермеры или крестьяне. И вообще — он был бы похож на самого обычного, мирного обывателя, если бы не держал в левой руке небольшой, но окровавленный кистень, а в правой — тонкий, гибкий, зачерненный меч. Такие вот черные клинки были отличительным знаком наемных убийц, причем дорогих и надежных почти так же, как… как те деньги, что приходилось платить за их работу.
— Трактирщик, мне за этого сосунка не платили, если хочешь его жизнь, делай все сам. По нашему договору я всего-то должен его обезоружить.
— Да, — кивнул Сапог, — ты свое отработал, все правильно… Дальше — мы сами как-нибудь.
— Сапог, наш спор всего лишь о деньгах, — запричитал юноша, не поднимаясь от ужаса на ноги, а отползая на спине к стенке, которая могла бы поддержать его плечи, но не могла защитить его. — Ты же знаешь, Сапог, что… я верну в два раза больше, если захочешь, в три раза!
Сапог подошел к нему поближе, взглянул с высоты своего роста.
— Ха, да кто тебе поверит, мальчишка? Стоит тебя отпустить, ты вернешься домой, и целая банда прислужников тут же примется за меня, только уже не так, как было, не с кулаками они придут, а с мечами и боевыми дубинками.
— Сапог, я буду молчать… Просто заплачу — и все забуду. Даю слово!
— Ты, когда играл и делал у меня ставки, тоже слово давал, а потом… Нет, Банат, полагаю, пришло время платить. И уже не деньгами.
— Послушай, — обратился этот самый Банат, или как его там на самом деле звали, к наемному убийце с черным клинком, который тот очень бережно, будто стеклянный, убирал в ножны под плащом, — наемник, ты же все делаешь за деньги, да? Ты должен понимать, что я богат, что моя семья богата, я предлагаю тебе столько, сколько тебе не платили до сих пор никогда — я в этом уверен… Даю сто золотых, сто! Если ты уведешь меня отсюда.
Ситуация как-то подвисла в воздухе, наемник так же спокойно убирал теперь свой кистенек, но почему-то не возникало сомнений, что он может появиться в его кулаке гораздо быстрее, чем стрела долетит от того места, где стояла Нашка, до его черной и внешне такой неопасной фигуры.
— Сапог, ты же только пугаешь. — С этой идеей, внезапно пришедшей ему в голову, парень почувствовал себя чуть уверенней. Он даже попытался подняться на ноги, опираясь ободранными теперь ладонями о стену. — Ты же только пугаешь, да? А ведь ты все равно отпустишь, потому что из-за какого-то долга…
— Ты много должен.
— Я верну, клянусь, ты же знаешь.
На миг показалось, что парень прав, что Сапог и впрямь раздумывает. Или не может решиться. Но Кореня, приковылявший наконец, и Гус ждали, и вот в их-то ожидании было что-то очень нехорошее. Сапог посмотрел на них, вздохнул и отчетливо проговорил:
— Мне уже без надобности, Банат, мне нужно, чтобы другие знали, что за невозврат долга бывает. Что и таких благородных, как ты…
— Так, спокойно… — проговорила Нашка, но уже не успела.
Собственно, удары, которые почти одновременно нанесли Кореня и Гус, не были сложными. Это действительно было просто, даже наклоняться им не пришлось, потому что Банат этот уже почти выпрямился, и, может, именно этого-то оба головореза ждали… А может, они заторопились, потому что Нашка заговорила.
Банат этот умер сразу — не мог не умереть, потому что длинные ножи обоих головорезов Сапога пронзили несчастного должника насквозь, ведь на нем не было никакой защиты, даже самой простенькой и тонкой кольчужки, — Нашка увидела это едва ли не вернее, как если бы вся улица была залита самым ярким солнечным светом.
Как поняла и то, что Сапог соврал, обманул ее, как их обманули, когда пригласили выступить на арене якобы для потешного, без смертельного исхода боя с гладиаторами Модро…
5
Картинка в голове у Нашки сложилась вполне ясная и донельзя отвратительная. Сапогу, как выяснилось, не нужно было ни с какой бандой разбираться, а нужен был именно этот вот, патлатый, ухоженный, из благородных. А ее наняли убить тех, кто его охранял… И этот, убийца, который там странно жмется, не хочет сделать следующий шаг, а ведь девицу, вероятно, такую, за которую ему ни перед кем отвечать не придется, убрал сразу, и рука не дрогнула… Значит, Сапог все продумал. Он именно ее, Нашку, и сделает в этом убийстве Баната ответчицей.
Она всех оглядела, наемник с черным клинком смотрел уже на нее, только на нее, с интересом и некоторым даже сомнением, не зло, в общем, смотрел, но она-то знала уже, чего стоит эта его внешняя беззлобность и кажущаяся отстраненность. И все же она спросила его:
— А ты, дядька, все деньги, что тебе за эту работу причитаются, получил?
Наемник все понял, быстрее всех прочих, да и не могло быть иначе, в своем ремесле он пережил многих, наверное, именно потому, что понимал все, что видел, не так, как даже Нашка понимала, а почти наверняка — точнее и с огромным, прямо-таки невозможным чувством опасности. Он стал вытягивать свой меч и при этом склонился, присел даже, чтобы уменьшить свой и без того не слишком выдающийся рост, чтобы представлять собой меньшую по площади мишень. А может, он знал еще одну хитрость, которая вообще-то мало кому приходит в голову: если резко присесть, тогда почти все точные броски становятся затруднительными, потому что спереди оказываются слои одежды, руки и ноги, а еще плечом удается здорово прикрыться, почти полголовы можно спрятать, уж шею-то точно удается утопить при такой вот стойке…
И все же в этом его сворачивании, будто змея в клубок сжимается, был один существенный просчет. При такой позиции гораздо дольше приходилось доставать меч. Вот этого, пожалуй, и не учел этот дядька, как его назвала Нашка. Хотя, если бы он столкнулся не с быстричкой, а с обычным бойцом из местных, его бы прием отлично сработал. А так вышло вот что: первый сурикен, который Нашка швырнула в его уже почти втрое уменьшившуюся фигуру очень быстро, он отбил, а вот второй — Нашке самой стало удивительно, насколько она медленно и тщательно прицеливается, по всей науке бросковых приемов отводит руку, и как верно, чуть-чуть, всего-то на полшага перемещается, чтобы левый глаз наемника был виден особенно точно… — второй сурикен он отбить уже не успел.
Звездочка вошла неглубоко, пожалуй, не до смерти его поразила, зато попадание это вызвало такую мучительную, зверскую, невообразимую боль, что наемник заныл, повышая голос, и упал назад, даже меч у него заскрипел-зачертил острием по мостовой, но он его не выпустил, только как-то отодвинул от себя, может, сделал выпад, неосознанный, неприцельный, будто механическая игрушка… А левой он уже пробовал выдрать сурикен и не видел ничего, потому что зачем-то дергал его не вперед, а вбок, делая рану обширней и глубже.
— Ты че?… — заговорил Кореня и больше ничего произнести не успел.
Он уже падал, потому что бросковый нож Нашки торчал у него чуть ниже кадыка. Собственно, этот ее бросок вышел не очень надежным, она собиралась в подшейную ямку попасть, но ту закрывала рубаха из плотной кожи, вот Нашка и бросила свой первый метательный нож чуть выше, а это… В общем, это был не самый лучший удар, в принципе — неточный, оставляющий противнику много времени, чтобы еще что-то сделать, умирая. Но Кореня уже не был на это способен. Он упал лицом вперед, может, вогнал себе Нашкин нож еще глубже и стал кататься с левого бока на правый… Он хрипел, он булькал, как разрезанный бурдюк, он колотил ногами по брусчатке, но вот выговорить больше не мог ни единого слова. Кажется, он задыхался.
Гус поднял руки, будто бы собирался сразиться с Нашкой на кулачках, но сделал этот жест от удивления.
— Да ты же убила его, Нашка! — только и произнес он.
Сапог развернулся и бросился бежать. «Он что же, надеется, что Гус задержит меня настолько, что я не успею его догнать?» — удивилась Нашка. И крикнула ему в спину:
— Ты хотел меня за убийство Баната этого выдать страже? Или хотел таким образом от его семьи защититься? Отвечай, Сапог, пока жив еще!
Но Сапогу было не до этого. Пробуя переставлять ноги так быстро, как он, наверное, никогда в жизни не делал, он стремился спастись. Но скорее всего, это была неосознанная, паническая реакция, это был ужасающий приступ бессильного страха, когда трактирщик не мог с собой совладать… Ведь он же так все здорово продумал, все, как ему мнилось, рассчитал, даже этого вот наемника привлек, чтобы тот на всякий случай отвлек Нашку, если бы она стала раздумывать и догадываться, что теперь ее ждет.
Но она догадалась о тайной ловушке слишком быстро и действовать начала молниеносно. Вот этого-то Сапог и не предвидел. Просто не мог предвидеть, потому что относился к ней, к Нашке, как к туповатой бойчихе, дикарке, мало знакомой с хитростями «культурных людей», если Сапог вообще о чем-то таком способен был размышлять… В общем, он презирал ее, считал слегка недоумочной, и это была его ошибка, как оказалось — смертельная.
— Гус, ты можешь уйти, — мерно произнесла Нашка. — Забейся куда-нибудь, как крыса, ты умеешь это делать, иначе не прожил бы так долго, затаись и жди, пока все хоть немного не уляжется.
Она не заметила, что говорит так быстро, что Гус ее просто не понимает, для него ее речь слилась в какой-то невнятный, не очень громкий визг… Он посмотрел на Кореню, а затем поднял свою дубинку.
— А-а-а!..
Он бросился на Нашку, тупо, бессмысленно, с одним только желанием — уничтожить, раздавить, отомстить за Кореню, превратить ее в кровавые ошметки… Вот только его сил и умения драться тяжелой боевой дубинкой оказалось недостаточно. К тому же — Нашка понимала это очень хорошо — он почти не видел в темноте.
Она увернулась пару раз, потом снова… Дубинка Гуса молотила по камням так, что от металлического тупого наконечника искры сыпались… Они показались во мраке этой кошмарной улицы ярко-оранжевыми, едва ли не такого же цвета, как горящая солома. Нашка немного на них засмотрелась, хотя и не могла себе этого позволить… Но Гус все же был медлителен и очень долго думал. Нашка даже заколебалась — а не бросить ли его и не пора ли догонять Сапога, вместо того чтобы возиться тут с Гусом, теряя время?
И потом ей стало ясно, что с такой вот свирепостью Гус не оставит ее в покое, и если его спросят, а его почти наверняка спросят, потому что тут останется Кореня, он будет придерживаться версии Сапога, все свалит на нее, просто чтобы ей жизни в Крюве больше не было. Значит, его следовало тоже убрать.
Нашка обманула Гуса старым, как мир, приемом: мотнулась в одну сторону, в другую, а когда он попытался перебить ее горизонтальным ударом, размашистым, длинным и долгим, как падение дерева от старости в лесу, Нашка подсела под этот удар, почти распласталась на камнях и выскочила вперед, ударив своим ножом подряд раза три или четыре куда-то… Куда нож, собственно, доставал.
Плохие это были удары, в низ живота, от них умирали очень долго и мучительно, очень плохо умирали. Даже Гус, уж сколько на нем было грехов — не счесть, а все же и он не заслуживал такой смерти. Но он все же мог бы уйти, вот только не ушел, думала Нашка, когда увидела, как он зарычал и одновременно заплакал, падая на мостовую, корчась, пробуя зажать ту боль, что терзала его теперь, в невыносимой, последней своей агонии…
Она его пожалела, осторожно зашла сзади и, когда он из-за своих дерганий на миг откинул голову, одним быстрым, невидимым в темноте движением пересекла ему горло, артерии и шейные мышцы. Кровь ударила таким потоком, что Нашка вся перемазалась, а это было очень плохо, но решать эту проблему следовало позже, после того, как она… Она оглянулась.
Сапога она догнала уже на второй улице, где света было чуть больше, чем там, где произошла драка. Странным образом это настраивало на разговор. К тому же Нашка хотела понять, зачем Сапогу это все понадобилось, вот только он это обсуждать не хотел. Он понял, что со своим брюхом не убежит, прислонился к стене спиной и стал смотреть вверх, не на Нашку, а в темное небо, тяжело дыша.
— Ты как меня нашла, я же попробовал петлять?
— Ты грохотал своими сапожищами так, что… В этой тишине тебя бы и слепой догнал. Ты зачем хотел меня подставить, Сапог, ведь до сих пор мы жили мирно? Я тебя не трогала, да и ты, если по чести, мне помогал. Что случилось-то такого охрененного, зачем, Сапог, а?
— Мне нужно было убрать этого… А это сложно, всегда оставалась опасность, что… кто-нибудь сообразит. Или продаст меня кто-нибудь вроде тебя.
— Я бы тебя не продала, я бы, наоборот, приглядывать за тобой стала, защищать даже… была готова.
— Ну так по-пьяни бы проболталась.
— Неужели ты думаешь, что я до такой меры пьянчужка?
— Все вольноотпущенники, если у них нет своего дела, пьяницами становятся. И ты такой же будешь, скоро уже. Если доживешь.
— Отчего бы мне не жить?
— С тобой и за меня, и за того… богатенького и глупого Баната рассчитаются. — Сапог вздохнул. — И из города ты не выйдешь. На север пустыня, на юге — степи, там тебя кентавры какие-нибудь на мясо пустят. Вверх по реке не пойдешь, там тупик, поймают, свяжут и в город доставят, чтобы продать семье Баната. А уж что с тобой по дороге станут делать — даже у меня воображения не хватает. И вниз по реке ты не уйдешь, там свои порядки, они просто так никого не выпускают из Крюва, станут расспрашивать, разузнавать, что да как?… Может, сами кончат, а может, как и те, с верховьев, с тобой поступят. — Дыхание у него восстановилось. — Значит, если хочешь выползти из этой ситуации, у тебя один путь. Тебе следует меня держаться, заложить-то я тебя, конечно, заложу, но и сам же вывезу, чтобы ты живой стражникам не досталась. А я тебе на дорогу, чтобы ты подальше убралась, еще и монет подкину, будешь в порядке, по крайней мере — в начале пути.
— Сам же небось и прирежешь ночью, во сне, в твоем каком-нибудь закутке. И в реку сбагришь, чтобы ничего не осталось, никаких следов, подозрений, мыслей у той же родни Баната твоего… Кстати, как ты думал объяснить им, за что я якобы его прирезала?
— Да за то же, за что всегда бывает. Вы тут пили не раз, потом играть начали, он не заплатил, ты, по своему дикарскому обычаю, его и кончила.
— М-да, наверное, поверили бы, — решила Нашка.
— Еще как, — отозвался Сапог и вдруг понял, что его предложение не принимается. — Так что же, Наш, может, все же… сторгуемся?
— Я тебе больше не верю, Сапог.
Где-то снова истошно залаяла мелкая собачонка, и как ей не надоест? Сапог сделал выпад. Откуда у него оказался длинный, неширокий нож, было непонятно. Вот только что он стоял, опираясь руками, о стену, будто бы удерживал ее, чтобы она ему не упала на спину, а потом вытянул руку и у него сразу — клинок. Может, из рукава? Пружинная какая-то штука, сложная и дорогая, как многое, что у него, у Сапога, в принципе было в жизни.
Так, думала Нашка, уходя от этого выпада чуть в сторону, резко подпрыгивая, оказавшись сразу выше, чем Сапог стоял, над ним, принимая это движение на ногу, разворачиваясь, будто шагнула по воздуху, опираясь для сильного удара еще и ногой о стену… И выбрасывая вперед, в висок Сапога, свой тычковый, тонкий стилет.
Сапог упал с ней, повисшей у него на шее, как обезьяна, грохнулся столбом и, как Гус незадолго до этого, засучил ногами. Нашка сползла с него, почему-то ей было плохо, очень плохо. Вот только что — ничего не чувствовала, была как деревянная вся, а потом — грохнулась с Сапогом и сразу поняла, что ее трясет и тошнит.
Поднялась, отошла от убитого ею трактирщика, встряхиваясь, как собака. Та, кстати, уже не гавкала, как заведенная, а выла, чувствуя недалекую от нее смерть. Нашка попробовала рассмотреть свой тычковый кинжальчик, он немного погнулся, пробивая череп Сапога, что было удивительно… Когда била — он был прямой, иначе бы она так быстро и так верно не проколола трактирщику череп, ведь тот все же был из орков, голова у него должна быть крепкой, хоть камни на ней обтесывай… Может, она клинок неправильно вытаскивала?
Но оставлять его было нельзя. Вообще, ей теперь следовало собрать все оружие, что могло привести к ней, могло дать хоть кому-то намек, что она в этой бойне участвовала… Нашка посмотрела в конец улицы, где остались лежать те, кто умер раньше, и богатенький Банат этот клятый тоже. Но туда уже было невозможно идти, там блистали за поворотом фонари и факелы, там уже кто-то был, и даже гудели негромкие голоса… Может, стражники появились, а скорее всего, жители, разбуженные дракой, решились выйти из своих домов. Это вышло плохо, не убивать же их всех теперь?
Там остались ее звездочки и ее бросковые ножи. Нашка проверилась — да, один из ножей точно был там. Поэтому отвертеться теперь ни за что не получится. К тому же появиться там окровавленной — значит сразу во всем признаться. Можно было бы попробовать все свалить на трактирщика, мол, она защищала Баната этого от уличной бандочки Сапога… Но нет, это было бы слишком глупой попыткой, все знали, что она у него кормится, а потом, даже если власти ей поверят и не станут сурово наказывать, все равно, как жирный Сапог и сам заметил, у него были друзья, они-то уж наверняка ей его смерть не оставят неотомщенной… Нашка опустила плечи, стряхивая напряжение, приводя себя в нормальное состояние, без этой ужасной деревянной нечувствительности. От того, как и что она сделает теперь, будет зависеть очень много, это было ясно.
Нашка наклонилась над трупом Сапога, тот почему-то перекатился на спину, может, она его перекатила, не заметив? Теперь он уперся невидящими глазами в ночное небо над крышами домов. На его поясе Нашка нашла кошелек таких размеров, какого она никогда прежде не видела. В нем звякали монеты, много, под сотню. Нашка, будто кто-то ей рассказал об этом, знала — это была плата за ее убийство, которая предназначалась наемнику с черненым клинком, если бы что-то пошло не так, как Сапог задумал, как он хотел… Хотя, разумеется, вовсе не так, как на деле вышло.
Она отвязала кошель, ей хотелось вымыться, избавиться от этого запаха и вкуса крови, который, казалось, окутывал ее всю… И еще хотелось поесть и выпить, да так, как она уже давно не напивалась… С позавчера, вспомнила Нашка, хотя это самое «позавчера» — было очень-очень давно. С тех пор, на самом-то деле, в ее жизни прошли века, и, может быть, сама жизнь ее утекла, как она уходила из убитых сегодня ночью вместе с кровью… Нашка встряхнулась, фонари стали ближе, кто-то, наверное, услышал, что и тут что-то произошло, и теперь немало самых разных местных топали сюда, едва ли не маршировали.
Нашка потрогала длинную наваху Сапога, да, это был не простой нож, а клинок, притороченный к какой-то пружине, вбрасывающий сталь ему прямо в руку из широкого рукава, и крепился он тоже довольно сложно и глубоко, чуть не у локтя, поверх рукава легкого подкамзольчика… Для нее эта штука была слишком большой, тяжелой и, пожалуй, медленной, решила она. И побежала бесшумно туда, где было темно и покойно, где не виднелось, к счастью, ни одного из возможных свидетелей, которые могли бы против нее выступить.
А потом она будто бы снова одеревенела… И пошла уже спокойно, хотя дел у нее было навалом и все следовало переделать как можно скорее.
Сначала она спустилась к реке, которая дохнула на Нашку такой сыростью, что ей даже в ее плащике стало зябко, уныло и более одиноко, чем обычно. Все же не любила она реку, не нравилась ей эта водная жила, пролегшая по земле. Но спустя пару минут Нашка все же нашла в себе силы продолжать путь, да и не было у нее другого выхода. Тем более что район она определила правильно, сбоку от порта, где никого встретить не удалось бы даже за деньги или на спор. Тут все больше стояли склады, где только гавкали собаки, но где ни один из охранников этих самых складов и не подумал бы выглянуть на кривые, неправильные улочки, даже если бы кто-нибудь и заголосил, прося о помощи.
Вода плескалась темной, холодной и нечистой массой под мостками, которые Нашка себе выбрала, и пахла так, что с души воротило. Но она все же спрыгнула в нее, не раздеваясь, и принялась плескаться, промывая волосы, лицо, руки даже под свободными рукавами своей рубахи и особенно — плащ. Еще стоя в воде до груди, она вытащила нож и свой тычковый кинжальчик, тоже помотала их под водой, вытерла о совершенно грязные и мокрые полы плаща, а затем вернула на место. Они ей могли понадобиться, и еще как!
Затем она стала с трудом выбираться, дважды поскользнулась и шлепнулась, и довольно больно. Такое у Нашки и прежде бывало — она хуже начинала ориентироваться после драки, становилась почти глухой, слепой и бездушной, словно бы самая лучшая часть ее на время умирала. Но главное — на ней теперь не должно было остаться много крови, сразу не заметят, а потом… Потом, когда чуть оправится, Нашка собиралась сходить в баню, горячую, как благословение всех богов.
Баня очистит ее внутренне, думала Нашка уныло, оставляя за собой шелест капель, падающих с одежды, и избавит от мерзкого запаха реки, и, конечно, вымоет запах крови, который, казалось, застрял у нее в ноздрях, так что она едва не чихала, когда все же дошла до приличных домов. Тут она попробовала взять себя в руки, расслабляться у нее не было времени, следовало сосредоточиться и подготовиться ко всему, что бы ни произошло. А произойти могло разное…
И все же Нашка уже не услышала голосов встревоженных обывателей, не увидела отдаленного света факелов, которыми стражники, может быть, освещали улицы и убитых, лежащих на мостовой… Вот о них-то думать не следовало, а нужно было о них побыстрее забыть, да так, чтобы даже тетка Васоха не заметила в Нашкиных глазах отблеск недавно произошедшего.
Она постучала в знакомую дверь негромко, на улице уже все спали, хотя было еще не очень поздно. Обычно в крайнем окне на втором этаже соседнего дома горело одно окошко, и высокие окна дома подальше тоже бывали в эти часы освещены, кажется, там располагалась обеденная комната большой семьи, в которой не сразу было принято расходиться по спальням… Васоха распахнула дверь рывком, будто ожидала увидеть за ней одну из своих обожаемых кошек.
— Ага, это ты… — Тетка осмотрела ее с ног до головы. — Опять надралась, дура пьяная? Входи уж. — Она отступила на пару шагов, сморщила нос, принюхиваясь. — Где же тебя так угораздило? В канаву упала или что?
— Сидела у реки, — отозвалась Нашка, стряхивая с себя мокрый плащ, — поскользнулась на траве и шлепнулась в воду. Пока выбиралась, еще в грязюку какую-то угодила… Ничего, я поутру в баню отправлюсь или даже сейчас, я слышала, там и ночью можно небольшую ванну заказать.
— Вот и шла бы туда сразу, чего зря меня-то беспокоишь?
— Я деньги принесла, и потом… Что-то в городе, мне показалось, неспокойно, случилось что-то, откуда-то галдели, кричали даже. В общем, я за своей боевой дубинкой еще зашла.
Тетка преобразилась.
— Да ты что, милая, что же ты… Я тебе могу и ужин подать, простой, сама знаешь, у меня разносолов не водится. Ты входи, плащ брось пока тут… А хочешь, я его перед камином повешу, сырость-то какая на улице, вот я камин и разожгла.
Нашка уже и сама от плаща избавилась, тот плюхнулся на чистый теткин пол с таким стуком, будто дерево срубленное упало. Еще она немного встряхнулась. Но как ни выжимала по дороге воду из одежды, где только могла дотянуться, все равно оставалась грязной и мокрой… Зато без видимых следов крови, вот и хорошо. А еще лучше было то, что она за всю драку не получила ни одной серьезной раны. Лишь локоть ушибла да ладони оцарапала, ну и, конечно, левую руку странно подломила, когда с Сапогом сверзилась на мостовую, а так — больше ничего.
Она сходила наверх, в свою комнату, первым делом попробовала пересчитать золотые в кошеле, который сняла с пояса Сапога. Там было три раза по десять больших золотых. Видимо, насколько она была осведомлена о ценах на платные убийства, это была половина той суммы, которую затребовал плешивый наемник. А может, и вся сумма, ведь убивать-то несчастного и богатенького дурачка из верхнего города он не собирался. К бесам, отмахнулась от всего этого дела Нашка, какая теперь разница?
Она переложила пяток монет в свой кошелек, а остальные спрятала в тайничок под нижним краем окна, который выдолбила, еще когда продавала все свои вещички, как и разные штуки их бродячей труппы, словом, когда у нее еще водились монеты.
Потом вытащила дубинку Маршона, даже немного покрутила ее перед собой, чтобы почувствовать ее баланс и тяжесть. Потом спустилась, тетка Васоха уже выложила на стол пару штук печеной репы, миску просяной каши, щедро разбавленную молоком, и даже кусок сыра на дощечке. Сбоку от сыра была неизменная лепешка, твердая как камень, утренней выпечки, но Нашка сейчас и ей была рада. Правда, она бы с большим удовольствием окунула ее в мясной соус какой-нибудь и вместо молока предпочла бы большую кружку красного вина с горячей водой напополам, но и то, что было, показалось большой удачей. Когда Нашка села, тетка осталась стоять у камина.
— Вот так, — вспомнила Нашка, достала свой маленький кошелек, вытащила оттуда два больших золотых кругляша, аккуратно положила на уголок стола.
Тетка смахнула их единым духом, потом елейно осведомилась:
— Где же ты так разбогатела, девонька моя?
— Ты же знаешь, Васоха, я мастер по заточке клинков, вот и рассчитались со мной как раз сегодня вечером.
— Да, да, девонька… Вот бы и нашла такую работу, где так щедро платят, бросила бы свое баловство с питием, ведь мужицкий это грех, не твой, и зажили бы мы с тобой — душа в душу.
Вот тогда-то и загремели удары в дверь, да такие, что ее чуть с петель не снесло. Тетка засуетилась, очень давно, должно быть, не слыхала такого стука в свои двери. А Нашка с тоской подумала, что опять ей оставаться голодной.
Но побежала не на кухню, а к себе, где и подхватила дубинку Маршона, да так, будто та могла и напоить ее, и накормить, и согреть, и даже друзей верных ей как-то доставить… Хотя, когда уже сходила по лестнице, разглядывая эту избитую, окованную светлой бронзой палку, понимала, что ничего этого даже такое вот оружие, конечно, не может, ведь что бы о ней, о дубинке, ни думать, а все же это — не магический посох, с которым, сказывали, волшебники не расстаются даже во сне.
Конечно, это оказались стражники, их было немало, душ пять, да еще пара осталась сторожить на улице. Нашка подумала и решила — все же не пара, а больше, потому что кого-то они должны были послать с другой, тыльной стороны дома, им туда попасть было мудрено, нужно было по-тихому поднять кого-нибудь из соседей, проскочить назад и перебраться через относительно невысокую стенку на задний двор Васохи… Почти наверняка они так и сделали, они на это были мастаки, Нашка наслушалась об этих трюках в трактире среди не очень-то добропорядочных жителей города.
— Стой где стоишь, освобожденная гладиаторша, — приказал тот из стражей, кто у них распоряжался. Да вот Нашка его слушать особо не намеревалась.
— А чего кричать, господин хороший? — спросила Нашка елейно, внешне мирно и даже задумчиво.
— Молчать, — рявкнул старший. — И обращайся ко мне словами — господин офицер, понятно, дикая?
— Она вооружена, сержант, — негромко предупредил один из стражников своего старшего. Он оказался никакой не офицер, наверное, лишь спал и видел себя чином, да только до шарфа ему было — как до небес.
— Вижу, — негромко отозвался сержант, рябой здоровенный гоблин, который к тому же пробовал отпустить себе бороду, как у карликов, вот только она вышла у него ощипанной и редкой, отвратительной до такой степени, что Нашка бы рассмеялась, если бы все не было так серьезно. — Ты своей палкой, дикарка, не очень-то размахивай, мои ребята тебя все равно возьмут.
— А я и не собираюсь, — вздохнула Нашка, понимая, что пока — лучше сдаться. — Я не знала, что доблестная стража так к нам-то стучит, вот и подумала…
— Давай сюда палку свою, — приказал сержант и даже протянул руку.
Нашка осторожненько спустилась по оставшимся ступеням, потому что недлинные алебарды стражников были нацелены ей в грудь, и лишь немного не хватало ко всем прочим неприятностям, чтобы ее какой-нибудь молокосос попробовал проткнуть. Впрочем, она оценивала и такую возможность. От одного удара она бы, конечно, увернулась, но пробиться через эту толпу вооруженных дураков, кажется, в любом случае не сумела бы.
Она подошла к сержанту и вложила в его широкую длань свое оружие. Тут же кто-то прихватил ее за плечи, кто-то еще толкнул к стене, и с другой стороны уперли, раздавили, сжимая до боли, и еще кто-то, более пронырливый, чем прочие, стал ее обыскивать, вернее, попробовал… Потому что одного очень уж нескромного его движения Нашка не вытерпела и саданула ногой, назад, да так славно у нее получилось, что хруст раздался…
А дальше она не помнила, потому что отходили ее стражи — изрядно. Когда она пришла в себя, вокруг было темно, только откуда-то издали пробивался слабый свет, отражаясь от влажных и грубых стен, наверное, с той стороны были коридоры. Оттуда же очень скоро раздался и чей-то крик, не сказать, что вызванный болью, скорее — привычный, будто кто-то, озверев от одиночества и уже не пытаясь дозваться людей, впал в тоскливое безумие. Она прислушалась, точно, неизвестный на кого-то ругался противным, грубым, но и неуверенным голосом.
Нашка попробовала подняться с кучи на редкость вонючей соломы, поскользнулась, упала, да так неудачно, что расшибла себе лоб и скулу с правой стороны. Оказалось, что рука у нее почти не работает, видимо, защищалась, даже теряя сознание, и все удары по ней пришлись… Нашка зашипела от боли, но больше — от огорчения, и попробовала сесть. Это вышло лучше, она оперлась спиной о стену, которая впилась ей в живую кожу, тут-то и выяснилось, что стражники порвали ей единственную хорошую рубаху, из настоящего местного полотна, в которой она чувствовала себя лучше всего.
Отдышалась, левой рукой проверилась — ни ножа на поясе, ни кинжала в заднем кармашке не было. В сапогах не было метательного ножа, а ведь она хорошо помнила, что один из двух должен был остаться… Значит, ее прихватили — по полной. Жаль.
Глаза привыкли к мраку, по крайней мере странные, почти цветные и светлые круги перед ними уже не плавали. Нашка была заперта за решеткой, отделяющей нишу в стене от коридора. Прутья из кованого железа, ржавые, грязные и мокрые, как, похоже, все тут. Тогда она подышала немного, чтобы окончательно прийти в себя, и заголосила:
— Э-эй, господа стражники! Кто-нибудь, отзовитесь, что ли, Нечистый вас побери к себе всех и каждого по отдельности…
Где-то очень недалеко, вот только не понять — с левой стороны коридора или с правой, что-то со стуком упало, зазвенела кружка, потом перед Нашкой неожиданно появился унылый, похожий на некрупного борова ролл в кожаном фартуке, заляпанном кровью. Он принес миску воды.
— Выпей, дикая, — предложил он, протягивая миску через прутья. — Полегчает.
Она выпила, вода пахла плесенью, да и миска, кажется, забыла, когда ее толком-то пробовали вымыть.
— И что теперь? — спросила она ролла.
— Миску-то отдай, не одна ты туточки, — убежденно в своем праве распоряжаться отозвался свиномордый, как обычно звали роллов, если хотели их задеть. Получив миску, он длинно, с присвистом вздохнул и продолжил: — Не одна ты, нужно тебе теперь ждать. Вот прибудет ктой с начальства, тогда почнут тебя спрашивать… А ты — отвечай на все, что спросят, иначе ко мне попадешь, а тоды уж — все расскажешь, даже чего и не было.
— Ты палач, что ли? — удивилась Нашка. Удивилась тому, что вот сразу не поняла отвратительной работы и роли этого самого ролла. — Точнее, пытатель?
— А то, — снова вздохнул местный, — но названье мое значица как дознаватель, и ты впредь того не забывай, дикая, я — не злой, но бывает, что и серчать починаю, поняла?
И он ушел, шаркая когда-то сломанной ногой.
То, что он подошел к Нашке прихрамывая, а она и не заметила, было нехорошо, до такой степени терять внимание не следовало, опасно было чрезмерно распускаться.
Так что занялась Нашка самым для себя нужным и продуктивным делом — принялась успокаиваться, думать о своем далеком родном острове, о волнах, что набегают на песчаные берега, о Маршоне немного вспомнила, о его подруге Натурке, доброй женщине, из тархов-птицоидов, нежной и стеснительной, неуверенной в себе, но теплой какой-то особенной, женской мягкостью, которой самой Нашке всегда не хватало, а потому подружились они, как казалось, навеки… Вот только век этот для Натурки оказался короток.
Металлический засов с каким-то хитрым поворотным ключом заскрипел, как только железо по железу может скрипеть, и к Нашке вошел какой-то новый стражник, на этот раз — действительно офицерик, невысокий, круглый, из людей. Нашка видела их не очень много, было время, когда даже сомневалась, что они, люди-то, на свете вообще водятся, как циклопы какие-нибудь или пегасы. Хотя нет, пегасов, как и единорога, Натурка сказывала, однажды видела самолично. А вот про циклопов разные слухи ходили, поговаривали, что давным-давно их истребили лестригоны. Человек-офицер спросил хмуро:
— Ты — та самая быстричка из вольноотпущенных гладиаторш?
— Я не гладиаторша, — отозвалась Нашка, по-прежнему разглядывая диковинную сущность, которая явилась так внезапно, — я — жонглер. Если угодно, бродячая актерка, циркачка, но — не гладиаторша. Нас обманом…
— Знаю я эту историю, — кивнул офицерик. Был он невысок ростом, по сравнению с двумя огромными ограми, которые тоже явились с ним. Глаза у него поблескивали странным блеском ума и лукавства. — Ее у нас в городе, почитай, все знают. Ты поднимайся, краснокожая, тебе сейчас на выход…
— Да неужто? — удивилась Нашка. — А что так?
Она все же поднялась, помогать себе ограм не позволила, хоть и скривилась, но справилась самостоятельно. И, постояв немного, покачиваясь, сумела и ноги переставлять. Сказалось, подумала она с тайной усмешкой, частое пьянство, научилась, привыкла даже, что ноги плохо слушают, а идти куда-то надо… Ха!
Они вышли в коридор, офицерик шел сбоку, пропуская ее вперед. Был почти вежлив, насколько может быть вежливым стражник, зато говорил он вещи неприятные:
— Вот что, девушка, быть тебе сегодня опять на воле, но далеко не уйдешь. Тебя брат того богатенького, кого вы с Сапогом убили, теперь примет.
— Как это — примет? У ворот острога, что ли?
— Зачем же у ворот, дадут, наверное, чуть погулять по городу, не у стражников же на виду тебя убивать?… Это нам не с руки, мы все же за порядок в городе отвечаем. Да только тебе это ничего хорошего не обещает, как ни крути.
Они вышли в небольшую кордегардию, где даже стояли у стены станки с вставленными в них копьями, а на некоторых даже висели недлинные стражнические мечи. Еще тут был столик, величиной чуть больше пары Нашкиных ладоней, но на нем умещался какой-то свиток и чернильница с пуком грязных, обгрызенных гусиных перьев. За приспособлением для письма стоял стул, на него-то офицер и уселся, жестом показав Нашке, что она должна стоять у стены противоположной. Огры оттащились за ней и приняли стойку по бокам, им было тесно в этом невысоком помещении, один даже голову вынужден был склонить и все же терся иногда о низкий свод.
— Так ты… стражник, знаешь обо всем? Вы заодно?
— С братом Боната? А ты как думала? Это выгодно.
— Значит, вам уже заплатили, — поняла Нашка уныло. — И когда они придут?
— Не знаю и знать не хочу… — Человек-офицер посмотрел на Нашку, будто бы она уже мертвая и лежит перед ним хладным трупом, вот только еще почему-то разговаривает, шевелится, даже о чем-то волнуется. — Сразу решительных драчунов против тебя не найдешь, выходит, ему нужно пару-тройку часов на подготовку отвести. Зато потом…
— Ясно, — согласилась Нашка. — Деньги вернете? И оружие мое…
Офицер, услыхав про деньги, только хмыкнул.
— Поверь, монеты тебе уже не понадобятся. А вот про палку твою… Что же, ради интереса, — он мельком посмотрел на своих подручных, — можно вернуть.
— Я еще и про кинжал говорю, и про поясной нож, и еще один метательный у меня был…
— Обещаешь, что тут не пустишь их в ход? — спросил офицер.
Идти и разговаривать с каким бы то ни было начальством, разумеется, заранее было совершенно бесполезно. Как и везде, должно быть, про этих стражей законности и покоя было хорошо известно — грабители они и есть, едва ли не самые злобные, настырные и вредные, куда круче, чем простая уличная шпана.
— Об этом можешь не волноваться, господин офицер, — согласилась Нашка. — Слово даю. Только верни оружие. Или считай, что я его выкупаю теми золотыми, что в кошеле моем были…
— Ладно, тогда вернут тебе твои железки. Если сумеешь, попробуй отбиться… Только я сомневаюсь, что получится. Очень уж серьезных бойцов против тебя нанимают, и в изрядном количестве. — Он чуть хмыкнул, по-прежнему с заметным любопытством разглядывая Метательницу в упор. — Ты ведь у нас теперь в некотором роде — знаменитость, вольноотпущенная. И даже, похоже, что главная среди прочих, не один год будет теперь о чем в кабаках гундеть…
Нашка поправила разорванную чуть не до пупа рубаху, пожалела, что плащ ее остался на полу в доме Васохи, и подняла избитую свою рожицу.
— И что же, у меня никакой возможности уйти?
— Только если ты испаришься из города так, как и волшебники не умеют.
Она пожалела на миг, что не послушала Сапога, когда он перед смертью обещал ее укрыть, объясняя, что в противном случае ее блокируют в Крюве так, что и у крысы, загнанной в угол, будет больше вариантов избежать непременной встречи с нанятыми убить ее головорезами.
Но лишь на миг. Когда Нашка получила свои ножи и боевую дубинку и потопала через площадь у здания магистрата в темноту, в сторону порта, удаляясь от факела, который трепыхался на ветру, как сырое белье, она уже не сомневалась — она поступила так, как и следовало. И теперь пусть все обернется, как должно выйти… Пусть и представляется сейчас совершенной безнадегой.
6
Корпус «Раската» привычно поскрипывал и заметно кренился. Странный это был крен. Как заметил лежащий на кровати, сделанной для Госпожи в самой большой каюте кораблика, рыцарь Бело-Черного Ордена Сухром од-Фасм Переим, движение возникало только в одну сторону, потом каюта выравнивалась, и кораблик шел несколько мгновений совсем прямо, потом снова уходил, как удивительный половинчатый маятник, в ту же сторону. Сухром усмехнулся, он уже видел такое, это значило, что циклопа Крепа Скала подкатилась к одному из бортов и старательно рассматривает внизу все, что только можно заметить. Это в их походе до сих пор было основным ее занятием, и отчего бы ей захотелось вдруг менять свои привычки?
Где-то неподалеку раздались недовольные, раздраженные голоса, кто-то выяснял отношения, и определенно не капитан летающего кораблика Виль. Тот обычно говорил фальцетом, едва ли не визжал, хотя остальным птицоидам это представлялось настоящим командным рыком. Резкость и скорость, с какой кто-то ругался, возрастала. Сухром поднялся, медную миску с водой для умывания он нашел на приступочке, где ее оставил верный Датыр. Рядом лежала бритва и брусочек пенного камня. Сухром посмотрел в слишком роскошное для скудной каютки зеркало. Оно и понятно, решил он, зеркало предназначалось Госпоже, а не ему. Хотя — зачем ей? Ведь ее должны обихаживать служанки. Но с другой стороны, Госпожа и их привыкла контролировать, все же она когда-то была женщина, и кто знает, может, эти сугубо женские желания в ней не выветрились даже за все те века, которые она прожила на свете?
Щетина была еще терпимой, но оруженосец Датыр никогда не позволял себе подобных намеков без причины, следовало к нему прислушаться. Поэтому Сухром принялся послушно натирать скулы и щеки скользким и невнятно пахнущим серым бруском какой-то субстанции, в которой иногда попадались песчинки. Да и бритва выглядела не совсем отточенной, надо бы Датыру за это попенять. Впрочем, у Сухрома по стародавнему свойству всех орко-гоблинов на морде растительность произрастала не слишком густо, и с бритьем можно было бы примириться, если бы бритва оказалась острее.
Когда рыцарь вышел на палубу, конфликт был в разгаре. Как понял Сухром из быстрого негромкого объяснения Датыра, генерал Плахт не мог есть солонину, то бишь есть пробовал, но не пошло. Генеральский денщик Несвай решил приготовить что-то другое из того, что им по приказу Виля принес молодой матрос Сурль. Но на крохотном камбузе их кораблика Несваю было тесно, тем более что он по солдатской привычке готовить еду быстро развел чрезмерный огонь, птицоиды откровенно перепугались пожара, и к тому же теперь за кормой «Раската» оставался дымный след, который в этом воздухе был виден издалека…
Оруженосец закончил свой доклад рыцарю словами:
— Ну вот, господин, Виль орет, а Плахт за свое то-то Несвая заступается. В общем, не поладили они.
Сухром пригляделся, за кормой их кораблика тянулась видимая в ясном воздухе грязная полоса. И выходила она из-под брюха летучего кораблика. Раньше такого рыцарь не замечал. Не составляло труда понять, что выводить дым вверх, как в жилищах отродясь делалось, на «Раскате» было необязательно, да и невозможно, потому что сверху нависал кажущийся огромным баллон из особой ткани с летучим газом, затянутый в прочную сеть. А по бортам корабля находились крылья, которые на этот раз ходили не так быстро и дружно, как обычно, уж это Сухром научился видеть, привык замечать за время похода…
— И что теперь? — поинтересовался рыцарь. Все дело, как он с самого начала подозревал, яйца выеденного не стоило.
— В конце-то концов пламя Несвай пригасил, — отозвался Датыр, чуть ухмыльнувшись, как только долго служившие и хорошие сержанты умеют — сдержанно, почти не дрогнув губами, зато с откровенным удовлетворением.
И почему всегда такие вот существа получают удовольствие от мелких стычек, стал размышлять Сухром. Скорее всего, потому, что очень долго им приходится жить в слишком тесных, а порой и в неприятных компаниях, где на самом деле очень редко происходит хоть что-то действительно интересное. Себя он к любителям разных свар определенно не относил.
«Раскат» летел куда-то к югу, точнее Сухром определить не мог, потому что с высоты их полета вычислить истинную высоту солнца над горизонтом всегда оказывалось затруднительно. И вроде бы очень уж существенной разницы между кораблем и поверхностью земли не было, всего-то считанные сотни саженей, а вот поди ж ты… Из-за этой высоты горизонт уходил вдаль, и на глазок определить положение светила не удавалось настолько, что лучше было не задумываться о времени.
Почему-то было холодно. Может, из-за высоты, на которую они поднялись. Сухром уже знал — чем выше, тем суше и холоднее. Но сейчас-то они шли невысоко, так почему же едва ли не морозец пробирался через одежду и пощипывал свежебритое лицо? Сухром еще разок оглядел всю палубу разом.
Генерал Плахт, по происхождению карлик, сидел на удобно сложенной в подобие креслица плотной кошме и неторопливо кушал что-то ложкой из серебряной мисочки. Оно и понятно, борода карлика была заплетена в три косички, а с таким украшением чрезмерно торопиться не следовало, иначе запросто можно было сделаться неряхой.
Неподалеку от него расположилась Крепа, она подползла, принюхиваясь к еде в миске генерала, поймала взгляд рыцаря, усмехнулась своим грубоватым, но на редкость выразительным лицом и произнесла грудным женственным голосом:
— Не очень-то аппетитная каша у тебя, Плахт, жиденькая на вид. Вот если бы пожевать-попробовать, может, отношение к ней и изменилось бы.
На почти откровенную просьбу Плахт никак не отреагировал. Но откуда-то сбоку, а может, прямо из воздуха, выскочил Несвай, поклонился циклопе, которая возлежала на палубе, потому что не могла в рост выпрямиться под нависающим над палубой баллоном, и отдал свою оловянную миску, в которой, наверное, была его порция той же каши.
Циклопа по-девчоночьи покраснела, пророкотала так, что слышно ее было, наверное, даже в самых отдаленных углах трюма:
— Зачем же, Несвай, не нужно было…
— Сейчас, госпожа Скала, за чистой ложкой сбегаю.
И он действительно как-то на редкость ловко обернулся, притащил не только ложку размером с ладонь рыцаря, но и увесистый кус солонины, который тут же принялся строгать в горячую кашу тонкими ломтиками. Крепа Скала приняла эти услуги и благодарно похлопала денщика по плечу.
— А сухарей мне вовсе не нужно, Несвай. Ты лучше бы ту запеченную тыкву принес, запах от которой ночью казался таким заметным.
— От нее мало осталось, госпожа циклопа, я использовал ее для каши… Ты попробуй, тыквы тут достаточно.
И Крепа, которая вообще-то в походе этом подголадывала, с удовольствием принялась за второй свой завтрак этим утром. Но едва миска опустела, она с набитым еще ртом, не очень отчетливо проговаривая слова, предложила денщику готовить все время, чтобы было не так ужасно, как прежде. И этого, с позволения сказать, заговора опять не выдержал капитан. Он даже сбежал с ютового возвышения, где делал вид, что осматривает горизонт, и заорал:
— Так не пойдет! Мы — не океанский купец, у которого трюмы бездонные и дрова несчитаные. Дрова — не для того, чтобы такие огни разводить всего-то для каши… Их еще найти и запасти нужно!
Тогда не выдержал уже рыцарь Сухром, он подошел к борту и стал смотреть вниз так долго и пристально, что все обратили на него внимание. А внизу-то простирался лес, почти безбрежный, уходящий за горизонт, видимый с палубы. Это был уже не тот лес, как в горах и на плоскогорьях, где они нашли и подобрали генерала Плахта, а южный, широколиственный… Пришлось капитану Вилю, почти сплюнув за борт и отчаянно махнув рукой, вернуться на ют с насупленным и рассерженным видом.
Он постоял, сменил шкипера Луада на румпеле, которым управлялось огромное, широкое, почти как настоящий парус, перо руля. Там же, наверное, по мнению капитана совсем некстати, находился и его новый любимчик из команды, матрос-птицоид Сурль, которого Виль в последнее время ставил частенько рулевым вместо себя. Это поднимало статус Сурля в команде, да, наверное, и было за что. Рыцарь заметил, что капитан не очень-то любил править их суденышком, ему было уже тяжело ворочать рулем из-за его комплекции и возраста.
— Луад, спустись к гребцам, скажи, что сегодня завтракать придется всухомятку, — приказал капитан.
Это была как бы его месть Несваю, Плахту, да и рыцарю, конечно. Но такая почти детская и ненужная, глупенькая даже, что Крепа захихикала своим громовым голосом. И все же в этой огромной циклопе присутствовала также немалая доля природного такта, поэтому она зажала свой смех ладонью, широкой, как хорошая лопата, и лишь принялась посверкивать глазом на приближающегося шкипера.
А Луад этим воспользовался, он вообще к циклопе с некоторых пор испытывал привязанность и потому осторожно, будто шел по осколкам стекла, спустился на палубу, незаметно подкрался к рыцарю и, не оборачиваясь на капитана Виля на юте, прошипел:
— Ты не подумай, сэр рыцарь, он не злой, просто не уверен, что ты правильно направление выбираешь.
Может, он сам это только что придумал, а может, они с капитаном действительно переговаривались раньше, когда все остальные, кого нес «Раскат» в качестве пассажиров, спали, и пришли к такому вот неутешительному выводу… Но к этому мнению, как ни удивительно это было для рыцаря, следовало прислушаться, его следовало покрутить в голове, обдумать и в любом случае принять к сведению.
Сухром проводил взглядом юркнувшего в люк Луада и подсел прямо на палубу к циклопе и карлику. Плахт уже прикончил свою кашу и неторопливо потягивал что-то из серебряного же стаканчика с дивными карличьими украшениями. Тут были и черные фигуры каких-то борцов, и изображения неведомых богов, выполненные сканью, и что-то еще. Такой стаканчик в обжитых местах, где карлики редко встречались, стоил бы немалых денег.
Рыцарь поздоровался со всеми, кивнув им поочередно, генерал тоже ответил наклоном головы. Крепа села прямее, прислонившись к борту, отчего досочки за ее спиной жалобно затрещали, произнесла:
— Ты вышел вовремя, командир. Этот визгун уже стал выводить меня из себя.
— Побольше уважения к нему, Крепа. Он — наш капитан и пока нужен нам больше, чем мы — ему.
— Это понятно, — согласился виновник недоразумения Плахт. — Но я действительно не могу не есть кашу по утрам… Давняя привычка, сэр рыцарь, и я не собираюсь от нее отказываться. — Он помолчал, стал усиленно глядеть куда-то в сторону. И вдруг спросил: — А правда, что мы ищем еще кого-то для… для нашей общей миссии и ты пока не понимаешь, где нам, собственно, следует этого недостающего… искать?
Рыцарь не знал, что ответить. Признать это, пожалуй, было бы неверно, просто потому что командир должен следовать какому-то плану, всегда, во всех случаях. Но по-настоящему и замечание Луада было в значительной мере правдивым. А теперь вот выяснялось, что и те, кто был, в некотором роде, формально подчинен ему — циклопа, генерал Плахт по прозвищу Суровый, Датыр и даже этот самый Несвай, — оценивали их положение так же.
Довольно долгое молчание, указывающее, что Сухром не собирается отвечать на вопрос, внезапно нарушил вездесущий денщик генерала, он резво наклонился к сидящему на палубе рыцарю и с преувеличенной настойчивостью спросил:
— Сэр, если вы прикажете, я приготовлю еще каши. Я заметил, сэр, что и госпоже циклопе маловато досталось, да и оруженосец ваш еще не кушал ничего, только и выпил что разбавленного винца с сухарем.
Выговор у денщика был тугой, протяжный, он указывал в Несвае на северные корни, впрочем, разные прищелкивания и гортанные звуки в речи денщика могли обозначать и происхождение из близких к востоку земель, что порадовало Сухрома, который и сам был из восточников.
— Это было бы… разумно, — признал рыцарь. А затем, когда Несвай с Датыром в очередной раз за это утро отправились на камбуз, повернулся к Плахту. — Понимаешь, генерал, я отхожу от обжитых мест, чтобы со стороны взглянуть… Ну то есть оглядеться вокруг. Я верю, что Госпожа Джарсин, которая послала нас в этот поход, не могла не учитывать того обстоятельства, что лишние передвижения задержат нас, а значит, тот, кого мы должны найти, не может находиться слишком далеко. Вот только следует найти знак.
— Какой именно? — вежливо поинтересовался Плахт.
Слишком уж велеречивым получался у них разговор, решил рыцарь. И не разговор даже, а прямо обмен мнениями… Он раздраженно фыркнул, но изменить тональность, кажется, не сумел.
— Он может быть каким угодно. Но я пойму, когда он придет ко мне, что это — именно знак, а не что-то иное.
А затем он стал думать, настолько сосредоточенно и заметно для окружающих, что даже генерал не стал приставать к нему с новыми вопросами. Размышлял рыцарь все о том же: придумал он это объяснение, пытаясь не утратить видимости командирской самоуверенности, или ненароком, почти случайно сказал правду. Может, он и впрямь отходит от того марева, которое стояло над местом сражений в невысоких горах, где они нашли Плахта и было так трудно определиться?
Впрочем, война, похоже, всегда порождала слишком густую ауру. Большое скопление солдат, офицеров и всяких прочих, например, обслуживающих обозы наемных трудяг, маркитантов, разных животных или даже пожирателей падали, охотящихся за поживой… Все это, несомненно, сбивало возможность поиска того, кто был действительно нужен.
Рыцарь так ушел в эти внутренние рассуждения, что едва заметил, как приступил к завтраку. Но ему смутно показалось, он уже давненько не едал ничего вкуснее, чем приготовленная Несваем каша и поданное Датыром разбавленное вино. Он сколько-то пришел в себя, стал снова воспринимать окружающий мир, лишь когда увидел, как Крепа, зажав огромную ложку в кулаке, с треском уписывает за обе щеки… гм… третий свой завтрак из миски, которая служила таганом для приготовления еды на всю команду «Раската». Он сначала не понял даже, что видит, но потом все же разобрался… И захохотал — настолько это была диковатая, но и замечательная картина. А тогда и Крепа стала смеяться, потому что отлично поняла рыцаря, за ними обоими стали подхихикивать и остальные.
Этот смех растопил лед в их компании, и уже совсем легко стало приказать, но лучше — попросить Несвая, следуя предложению Крепы, готовить теперь на всех. И генеральский денщик с радостью согласился, потому что был для этого отлично выучен и воспитан, вот только он вытребовал для собственного успокоения участие Датыра в этом непростом деле — кухарить по своему усмотрению. А может, таким образом он хотел залезть в запасы продуктов, которые рыцарский оруженосец приготовил для Сухрома.
С этим-то как раз все получилось удачно. Уже на обед и Несвай, и Датыр устроили такую неведомую ранее на борту «Раската» разнообразную и восхитительную трапезу, что под вечер в каюту к Сухрому, который валялся на своей койке, заглянул Виль.
— У нас перегруз, — начал он, покашливая от неуверенности и усаживаясь на единственный на всем кораблике стул, — небольшой, но все ж… Бороться с этим следует более сильной работой на крыльях. Мне каждый матрос нужен. Может, этот ваш… денщик коком заделается и для команды тоже?
— Виль, ты это сам придумал? — спросил рыцарь. — Или подсказал кто?
— А тебе это нужно знать, рыцарь? — Капитан вздохнул. — Луад подсказал, а ему, наверное, циклопа твоя. Сам же знаешь, он вокруг нее трется. Похоже, влюбился парень.
Рыцарь, как его заело поутру думать лишь о том, куда теперь нужно держать путь, так и не вынырнул из своей сосредоточенности. Поэтому он ответил автоматически, чтобы сказать что-нибудь, что не выдает его подлинных мыслей и тревог:
— Не выйдет у них ничего, слишком они разные. Да и мы — справим дело и разойдемся-разлетимся в разные стороны.
Но замечание это капитан воспринял всерьез. А может, хотел все-таки добиться более важного для него решения, которое должен был принять Сухром.
— Это-то понятно… Ты вот что скажи, рыцарь, как с готовкой будет?
— Я могу лишь спросить об этом у Плахта. Сам же знаешь, мне Несвай не подчиняется, он денщик генерала, но могу обещать, что прикажу кухарить на всех моего Датыра.
— Это, осмелюсь заметить, сэр, не одно и то же.
— Ты не понял, когда Датыр примется орудовать на камбузе, Несвай определенно не останется в стороне. Сам придет и предложит помочь, а после, несомненно, вытеснит Датыра, которого я об этом обязуюсь предупредить. Результат будет, какого ты хочешь добиться.
Так и вышло. Уже к обеду следующего дня стало ясно, кто в действительности управлял всем на камбузе. Каша была иной, чем вчера, будто бы и не из того же проса сваренная, даже солонина отдавала душистым запахом, а привычно подкисшее вино предстало во всем блеске чистоты, отлично утоляя жажду.
Генерал, который провел ночь в одной из небольших кают, предназначенных для служанок Госпожи, поднялся очень рано, по своему обыкновению, и, когда рыцарь вышел на палубу, уже широко и удобно сидел с Крепой и Датыром на палубе. Откуда-то он достал широкую, тонко струганную доску, которую навощил как следует и на которой что-то рисовал, показывая ее время от времени то Крепе, то оруженосцу.
Сухром подсел к ним, тут же получил в руки свою порцию кормежки и неизменный стаканчик, послушал, посматривая на картинку, которую Плахт увлеченно рисовал, и все понял. Он не считался в Ордене знатоком военной истории, но узнал схему сражения при Ныкте, о котором рассказывал генерал, один из классических примеров, когда армия вдвое меньше, чем у противника, сумела окружить и разгромить врага вчистую. И это — после отчаянно трудного перехода через горы, со слонами, чего в той местности никогда прежде не бывало… Крепа слушала как зачарованная. И Плахту ее внимание нравилось. Да и Датыр определенно восхищался рассказом, хотя по своей привычке в присутствии старшего по званию не торопился ни с вопросами, ни с проявлениями своего интереса.
Все-таки у Плахта, как у каждого толкового офицера, был силен дидактический и, можно сказать, просветительский запал. Вот он и нашел небезынтересную для себя тему, которая увлекала и собеседников… Да и Сухрома бы увлекла, потому что, кажется, карлик рассказывал живо, отлично понимая детали, описывая оружие, которое в те давние времена считалось общеупотребимым, объясняя ход соображений, которым противоборствующие полководцы и их офицеры руководствовались.
И все же Сухром слушать Плахта не стал, ушел на бак и стал смотреть вперед, над бушпритом со сложной системой стакселей и блинда, и лишь чуть по сторонам, ощущая на лице свежий ветер, приходящий с левой скулы кораблика.
Смотрел он, главным образом, на очень далекую полоску гор, которыми заканчивалась какая-то невыразительная степь, местами уже оголенная такырами, превращавшаяся в пустыню, которая на нее наползала… Он попробовал собраться и ощутить хоть какой-нибудь лучик неизвестного, другого света, чем эта темная полоса, чтобы узнать, правильно ли они выбрали направление. Ведь раньше так уже было — была искорка, которая почему-то привлекла его внимание цветом, отличным от этого серо-голубого размытого марева, которое, как ему и положено, преобладало на горизонте… Но сейчас Сухром ничего не видел, ничего не мог понять.
Тогда он попробовал прислушаться, потому что ранее, когда он искал Крепу, его очень верно и надежно поддержал звук, который привел его к циклопе. Наконец, он попробовал одновременно увидеть и указующую верный курс искорку и найти в мире звук, который бы его тоже ободрил… Это выматывало не меньше, чем сильная, активная работа двуручным мечом, да еще в доспехах, да еще, может быть, по вязкому песку или по клейкой глине… Но не было ничего, даже намека на требуемую подсказку.
Только свист в снастях чуть усилился, только скрип корпуса «Раската» стал чуть отчетливей. Это значило, что рыцарь уже достаточно нацелился слухом на определение хоть чего-нибудь похожего на зов, на обозначение верности их направления… Тогда он решил, что слышит, кажется, уже и свист ветра над кажущимися безбрежными взгорьями и прочими неровностями степи, которая равнодушно проплывала внизу, на глубине по меньшей мере двух сотен саженей, но ведь этого быть уже не могло! Поверхность была слишком далеко, ни один смертный не мог слышать этот слабый свист на таком расстоянии…
И вдруг Сухром осознал — это буря! Только какая-то странная буря… Он обернулся — на румпеле стоял беспечный Сурль, Луад расхаживал по юту и поглядывал, главным образом, на Крепу, которая по-прежнему сидела с генералом, хотя они уже, кажется, не разговаривали, а каждый занимался каким-то своим делом. Крепа чистила железную оковку своей боевой дубинки, а Плахт лениво ковырялся в каком-то мешочке, то ли табак пересыпал, то ли мелкие деньги считал — не поймешь.
— Капитана — наверх! Сейчас грянет шторм!.. — заорал рыцарь.
И действительно, едва Виль появился на палубе, в халате и с заспанным лицом, как стало ясно, что рыцарь потребовал его правильно. Птицоид принялся носиться, раздавать какие-то малопонятные приказы — то убрать, эти крылья сложить, эти закрепить, а те — чтобы вовсе не было видно, иначе слетят к растакой-то бабушке, если вовсе крепления не поломают…
Все напряглись, Несвай даже ушел в каюту генерала. Только вот Крепе некуда было деваться с палубы, и тогда Луад заботливо приволок ей пару одеял, которые на ней выглядели мелкими, ненужными заплатками. Впрочем, бывалая циклопа завернулась в свой зимний дорожный плащ, который мог бы едва ли не всю палубу закрыть и вот только баллону уступал…
Первый штормовой удар ветра пришелся в левую скулу корабля, как рыцарь и ожидал. Это был довольно сильный удар, даже странно становилось, что такая прозрачная, невидимая по сути, стихия, как воздух, может настолько жестко и резко ударить… Затем стало не до рассуждений, потому что буря навалилась и впрямь — нешуточная.
Баллон скрипел, натирая себе матерчатые бока об удерживающую его над корабликом сеть из разнородных канатиков, заметно для глаза изгибался, скручивался и сотрясался… Иногда ветер подходил под днище, будто бы настоящие волны, об которые дерево хлопало с таким сильным звуком, что и представить себе трудно было — как оно выдерживает, почему кораблик не рассыпается на части от таких-то ударов?… Сухром зачем-то вспомнил, что у моряков разные виды качки носят названия, и весьма разнообразные к тому же. К нему подошел капитан Виль:
— Рыцарь, ты бы помог нашим-то на крыльях. Твоих я уже определил, но они, похоже, не выгребают.
— Скоро спущусь, — согласился рыцарь. — Капитан, может, найдем какой-нибудь закуток, чтобы бурю переждать?
— Не выйдет, сэр. Буря нас поймала на открытом месте, спрятаться некуда… — Он задумался, глядя неподвижными глазами на темень, наваливающуюся сейчас на них, кажется, во все небо, от земли, еще видимой внизу, и до самого верха настолько, что и светлых облаков было уже не углядеть, только свинцово-черные тучи нависали над ними. — Это — не обычный ветер, — продолжил Виль, перекрикивая ненастье, — мнится мне, что… Кем-то это наслано на нас. Видишь, сэр, как ветер вихрями ходит, не сплошь течет, а струями поперек себя перебивается? Шквалит иногда…
Сухром ничего подобного, разумеется, не видел и ничего не понял из объяснений Виля. И тот махнул рукой раздраженно, как часто от злости поступал, и стал вглядываться вбок, а может, вверх, вот только ему баллон мешал оценить то, что происходило над ними. Наконец капитан решил:
— А пробуем мы-тось… — Дальше он заговорил по-своему, по-птичьи, и Сухром даже хлопнул его ладонью по плечу, чтобы сориентировать. Виль посмотрел на него, кивнул и закончил уже на общем языке: — Ничего, «Раскат» — крепкая посудинка, выдержит!
Рыцарю так отнюдь не казалось. Удары ветра становились все сильнее, и он, как обещал, спустился в трюм, чтобы помочь гребцам. Тут было тесно, помимо матросов, что стояли попарно на каждом из рычагов, которые нужно было вращать перед собой, в трюме оказались и Несвай с Датыром, и Плахт с Луадом. Лишь на одном из рычагов, самом близком к кормовой переборке, ворочался Сурль, уже мокрый от пота. Рыцарь стал в пару к нему.
Матрос, на удивление вымотанный за то недолгое время, что крутил тут деревянный брус, управляющий ходом крыла, ощерился. И, понимая, что рыцарь рассматривает его в коптящем свете лампы, которая отчаянно болталась, подвешенная к палубе над ними, проговорил на ужасном своем наречии:
— Вскорости, сэр, дождик забрызжет… Скупаюся заедино, гхы-ы! — Вероятно, это была шутка.
Они гребли, крутили эти вытертые до блеска рукояти рычагов, и от монотонной работы на рыцаря стала накатывать какая-то одурь, сознание уплывало, хотя он понимал, что не стоит поддаваться такому ощущению. Следовало работать, грести еще вернее, еще сильнее, если завтра они хотят увидеть рассвет…
Наконец рыцарь понял, что гнетущая обстановка подействовала и на других, кто был с ним сейчас тут, на крыльях. Он оглянулся и пересчитал по головам тех, кого видел. Тут были все шесть матросов и его команда. Он закричал:
— Луад, а капитан на палубе один остался?
— Зачем же один, сэр рыцарь? С ним Крепа, он ее на румпель поставил, она с ее силищей отлично управляется.
Вот тогда-то, как бы вдобавок к этим словам шкипера, по корпусу пришелся какой-то совсем уже невероятной силы удар. Их качнуло так, что на миг Сухрому показалось, что фонарь лег на палубу, а это значило, что они долгие мгновения летели едва ли не на боку, и легкий баллон и корпус их кораблика, вероятно, находились на одном уровне… Кто-то из матросов даже соскользнул и крепко саданулся о бортовые доски. Остальные, впрочем, удержались за рычаги, и уже через пару мгновений порядок был восстановлен, лишь ушибленный матрос непонятно ругался сквозь зубы, возвращаясь на свое место и вновь цепляясь за рычаг.
— Крепче на ногах-то нужно стоять, Гель, — визгнул Луад по-командному. — Небось когда из кабака на берегу выходишь, удерживаешься?… А тут — падать удумал!
Кто-то устало, через силу хохотнул. Но это был все же ободряющий смешок. По дощатому трапу скатился с палубы капитан, он высмотрел сразу же Луада и Сурля, откомандовал:
— Вы двое, марш наверх! Кажись, скрипень-топ-фал лопнул… Поставить крестовую растяжку! Да не забудьте зачалиться как-нибудь, иначе слетите с баллона к несусветной бабушке…
Рыцарь остался на рычаге один. Крутить стало труднее, зато чуть просторнее. Он скинул рубашку, все равно она была уже мокрой от пота, а может, и от туманной сырости, которая неожиданно забилась в трюм через оба открытых люка — кормового, с трапом, и носового, с почти вертикальной лесенкой… Сырость эта сделала свет в трюме еще более размытым, неверным и тусклым.
Рыцарь стал соображать, что все в общем-то правильно. Они гребли сейчас вовсе не для того, чтобы куда-то двигаться, они работали что есть сил для того только, чтобы держаться не бортом к ветру, потому что тогда их могло опрокинуть, а носом, чтобы кораблик мог встречать эти удары ветра и дождя самым выгодным для себя образом… Если этого не делать, тогда им конец, поэтому нужно грести… И они гребли, отчаянно, превозмогая уже возникшую боль в руках, в спине, даже в сердце.
Чем-то это напоминало ту страшную бурю, в какую они попали в самом начале их похода. Но тогда буря была хоть и долгой, но все же какой-то понятной, едва ли не добродушной, если так можно выразиться по отношению к смертельно опасной непогоде… На этот раз, пожалуй, капитан Виль оказался прав — было что-то в этом ветре иное, неправильное, жестокое и злое, несомненно пробующее их погубить, разбить, разрушить, уничтожить…
Потом рыцарь заметил, что его дыхание вырывается из горла облачком пара. Он еще разок попробовал очистить свое сознание и оглянулся. Оказалось, что они поднялись настолько высоко, что влага едва ли не смерзалась, превращаясь в кристаллики льда в воздухе. Он бы давно этот холод почувствовал, если бы не работал так отчаянно на рычагах.
В трюм бочком спустился капитан, уворачиваясь от движений гребцов, прошел в нос, вернулся, лицо у него закаменело под каплями дождя, но видно было, что он доволен.
— Ребята поставили стяжки, теперь баллон не порвет к едрене монахине… Теперь мы выдержим, не можем не выдержать.
За ним, заметно покачиваясь от слабости, вызванной усталостью после чудовищного перенапряжения всех сил, спустились, едва ли не поддерживая друг друга, Луад с Сурлем. У матроса под правой скулой наливался огромный, вполрожи, синяк с каким-то зловещим фиолетовым оттенком. По виску Луада из его смешных, неуловимо похожих на перья, слипшихся волос стекала струйка крови.
— Сурль, где тебя угораздило? — спросил Виль.
— Наверху, мастер, ель удержался, когда тряхануло. Под конец с медным кольцом попал, засветило — будь здоров.
— Вечно ты концы не удерживаешь, Сурль, знать, планида твоя такая — битым быть и без плети.
Но никто даже не улыбнулся. Все слишком устали и знали, что отдых еще нескоро будет, если вообще когда-то наступит.
— Вы, оба, становитесь на место рыцаря, смените его.
— Есть, мастер, только отдышусь… — кивнул Луад.
— Потом отдохнешь, пока крутить крыло нужно.
Рыцарь, когда оба его, так сказать, сменщика приноровились и взялись за рычаг, налегли на него всеми своими силами, выскользнул в проход. Попробовал выпрямиться, треснулся, правда несильно, о бимс, проходящий под палубой, снова согнулся с чуть виноватой усмешкой. Голос его не сразу послушался, и все же Сухром сумел произнести:
— Виль, ты не можешь запросить помощи у Госпожи нашей?
Капитан резковато обернулся к нему, долго вглядывался в глаза при слабом свете трюмного фонаря, потом кивнул медленно:
— А ведь дело говоришь, рыцарь.
Вдвоем они поднялись на палубу. Тут царило какое-то странное сочетание беспорядка, разгрома, вызванного бурей, и удивительной чистоты, наведенной дождем и ветром, которые трепали кораблик. Сначала рыцарь не понял этого, но затем, схватившись за бортовой поручень, догадался — под его ладонью явственно захрустел лед. Виль покачнулся на горизонтальном порыве ветра, и ноги его поехали по доскам палубы, покрытым тонкой корочкой заледеневшей воды. Он упал бы, если бы Сухром не подхватил его под плечо. Капитан тут же и сам благодарно уцепился за воина, возвышавшегося над ним на две головы, не меньше.
— Да, — сказал он, вместо благодарности смерив Сухрома взглядом своих птичьих глаз. — Да, сэр рыцарь, мы поднимаемся настолько, насколько выдержит конструкция… Надеюсь, эту бурю можно перескочить поверху.
До спуска в каюту Госпожи — а рыцарь никак не мог привыкнуть называть эту каютку своей — они добрались, отчаянно скользя и перехватывая ванты, чтобы удерживаться на ногах. Зато внизу стало и теплее, и чуть потише. Только дверь, как заметил рыцарь, не закрывалась, вероятно, лед собрался и тут, поэтому дверь раскачивалась и поскрипывала. Но среди общего грохота и стона корпуса «Раската» визг петель был не слишком слышен.
Посидев немного на кровати, отдышавшись, капитан сходил за драгоценной шкатулкой, обернутой в отрез дорогой восточной ткани, и вернулся в каюту к рыцарю. Сухром, который тоже пришел в себя, спросил с интересом:
— Капитан, я заметил, что ты колдуешь… или что ты там делаешь с магиматом Госпожи… где угодно, только не в своей каюте, почему?
— Если я займусь этим в каюте, рыцарь, я потом несколько ночей спать не смогу. Кошмары замучают.
— А тут можно, значит?
— Больше-то все равно негде, понимать должен, — строго отозвался Виль, развернул шкатулку, открыл ее и достал каменный шарик, размером с кулак рыцаря, на витой подставке, сложно изукрашенный еще какими-то металлическими полосками, зернами и даже накладными, необычными по форме знаками. А еще в общий шар были искусно вставлены кусочки других камней разных цветов, настолько, что вся эта… гм… вещица отливала и поблескивала, будто кусочек настоящей радуги.
Этот магимат рыцарь уже наблюдал однажды, когда Виль захотел, чтобы их корабль с помощью магии стал невидимым с земли. Тогда у него почти получилось, то есть до конца невидимым «Раскат» в общем-то не сделался, но те, кто несомненно мог бы его видеть, почему-то не обращали на него внимания.
Зато сейчас, под скрипы всего корабля, каждой его досочки, под вой ветра в снастях, под ударами шквалов дождя, в неверном свете сумеречного и темного дня, ему нужно было сделать кое-что посложнее, нужно было вызвать Госпожу Джарсин. Он и начал колдовать, проговаривая какие-то малопонятные слова по бумажке, которую достал из той же шкатулочки.
Сухром заглянул через плечо капитана, но так ничего и не понял, потому что заклинание, или наговор, или мантра, или волхвование были записаны какими-то закорючками, каких рыцарь прежде не видел. Птицоидное письмо состояло из одних острых уголков, начерченных гусиным или каким-то другим пером по пергаменту, как говорили писцы и прочие бумагомараки — оно состояло из «галочек», и только… Но Виль это письмо понимал, он был сосредоточен и старался изо всех сил. Вот только опять, как в прошлый раз, у него не выходило. Он даже вспотел, хотя из качающейся двери бил такой сквозняк, что лист у него в руках заметно трепыхался.
Он начал снова, но на этот раз, кажется, более точно и внимательно… И вдруг рыцаря Сухрома осенило. Это было довольно странное состояние, будто он въяве видел сон, не закрывая глаза. Но он спал, сомнений теперь у него не было, и он видел незнакомую женщину, почти красивую, с сильнейшей магической властью, она даже пугала своей силой.
Она сидела в вычурном креслице, за ней был большой зал. Где-то совсем в отдалении мелькали чьи-то фигуры, значит, она была не одна, но существа, которые представлялись этими тенями, к женщине не приближались, кажется, они ее тоже побаивались, как и сам рыцарь.
Женщина находилась в чужом для нее месте, не дома, не в замке, если она была архимагичкой. А она, по всей видимости, именно и была — как и почему Сухром это понял, он и сам не мог бы объяснить. Мысли его перетекали трудно, будто медленная вода по сложному, каменистому ложу ручья, будто он сам вошел в речку и телом, что ли, представлением всего этого сложного сна чувствовал свои же мысли едва не вещественно… Он мог бы, кажется, подержать свои представления в ладонях, согреть их, размять немного, чтобы они стали не такими режуще-острыми, или вовсе — спрятать в ножны от какого-нибудь кинжала…
Он понял, что видит Сару Хохот. Он не хотел бы ее видеть, но как избавиться от этого видения, не знал. И был уверен — она-то и насылает бурю, но не совсем удачно, не сумев сломать их кораблик быстро и наверняка, не сумев их убить, избавиться от них вовсе… Может быть, потому, что находилась в чужом месте и это место или общее состояние не располагали к полному владению и использованию ее сил.
А затем вдруг, будто Сухрома сзади по затылку крепко саданули, он увидел перед собой знакомый лик Госпожи Джарсин. Она смотрела внимательно, даже вглядывалась во что-то… Скорее всего, не в него, не в рыцаря Бело-Черного Ордена, а как-то иначе, и это требовало от нее большого напряжения, она тряхнула головой, волосы ее рассыпались, но она подняла глаза и снова стала смотреть — еще внимательней. Она была сейчас сосредоточена, как острие боевой рапиры… Она подготавливалась к чему-то, чего он видеть ни за что не хотел бы, но избежать этого он, опять же, никак не мог. Джарсин стала шевелить губами, сначала не очень заметно, затем все более жестко, потом она почти закричала, вот только Сухром — хвала всем богам, нынешним, прошедшим и будущим, — ничего не слышал. А Джарсин продолжала колдовать.
С его сознанием, вернее, с возможностью видеть что-то произошло. Вид Госпожи менялся, будто рыцарь отходил от нее, и тогда стало понятно, что она сидит в чудном и сложно устроенном каменном кресле и перед ней в воздухе плавают искры… Она выбрала одну, охватила взглядом, и свободный прежде огонек подчинился ей, приблизился, неторопливо коснулся кожи Госпожи на щеке, перетек ей на лоб, потом чуть опустился куда-то между глаз… Сухром вдруг упал, его сознание, его способность присутствовать в этом мире почти полностью оказалась в распоряжении какого-то другого, необычного, невозможного существа. Он был раздавлен, смят, почти уничтожен, он даже сомневался, что теперь сумеет вернуться к себе прежнему.
Зато он был уверен — теперь Госпожа Джарсин знала все, что он когда-либо знал, или думал, или видел за всю свою жизнь. Еще бы — в ее распоряжении сейчас находилось все сознание рыцаря Сухрома, и это было ужасно…
Тогда она снова заговорила, и эту речь, даже зажмурившись, почти теряя сознание, Сухром по-прежнему видел… Четко, ясно, до мельчайшей морщинки на лице архимагички он видел… И лишь каким-то невероятным, небывалым усилием заставив себя видеть ее чуть более привычно, как обычные люди видят обычных людей, он стал понимать, что теперь еще и слышит ее, только не ушами, а всем телом и всем своим мышлением. Она говорила:
— …Сара захотела нам помешать. — Госпожа чуть усмехнулась. — Что же, это допустимо, согласно правилу Подчинения. Она решила, дуреха, что может меня ослушаться. Я вам помогу, а вы сделаете так…
Больше он уже ничего не понимал, ничего не мог себе представить… Он попросту отключился.
7
Возможно, буря еще продолжалась, так ему казалось. Он и мучился этим, и почему-то радовался, как радуется солдат, которого серьезно контузило, но он уже приходит в себя и знает — сейчас одурь, дезориентация пройдет, он поднимется, все же поднимется и примет в бою участие… Он не оставил своих, он сейчас к ним вернется, он все же остался живым, не погиб. В общем, довольно странное состояние это было.
Глаза оказались открытыми, вот только почему-то прежде, до какого-то мига, Сухром ничего не видел. Лишь когда понял, что их «Раскат» покачивается мерно, уже не под ударами ветра, а почти обычно, стал что-то различать над собой. Он попробовал подняться на локте.
— Я же говорил, ничего с ним не случится. — Это был голос Плахта.
— Генерал, что-то он сделал очень непростое, если так-то… себя почувствовал. Такого с ним прежде не бывало.
— Ну мало ли?
Над ним действительно склонились две фигуры. Знакомая — оруженосца и еще не очень привычная и чем-то все же настораживающая — генерала.
Было холодно до дрожи, хотя, судя по тому, как приходилось выпутывать из одеяла руку, укутали его знатно, будто в кокон завязали. Должно быть, из-за легкого гула в голове Сухром слышал обоих не слишком внятно, но отлично понимал их нынешнее настроение, их интонации. Датыр переживал, в нем чувствовалась тревога за него, за рыцаря, а вот карлик произносил свои слова с каким-то более сложным и малопонятным выражением… Пожалуй, Сухром определил бы его как легкую подозрительность или раздумчивость. Что-то такое непонятное для себя он в рыцаре увидел, чего не очень-то хотел видеть, вот и приходилось ему размышлять над этим, потому что уже давно генерал Плахт по прозвищу Суровый разучился слепо полагаться на подчиненных.
Или на тех, кто был рядом с ним, вот как рыцарь сейчас оказался.
Сухром прокашлялся, в глотке было сухо и жарко. Датыр догадался и подсунул под подбородок широкую плошку с водой. Рыцарь выпил, облился, вытерся и еще разок мокрой рукой провел по лицу, стало легче, получилось, что он как бы умылся.
— Как капитан? — спросил он.
Все же Виль тоже в том сеансе… магии принимал участие, а от него сейчас зависело больше, чем от рыцаря, Виль должен был, ко все прочему, еще и кораблем управлять, и командой.
— Он в порядке, господин мой, — заверил его оруженосец, — что ему сделается? — Немного помолчав, Датыр добавил: — Он нам сказал, что ты, господин, все сделал за него. Потому-то ты… и задремал глубоко. А он — в добром здравии и ясном уме.
— Это хорошо.
Плахт, убедившись, что рыцарь приходит в себя, отошел к двери каюты и вдруг весомо, убежденно произнес:
— То, что ты сделал, это и есть работа лорда, самое настоящее дело господина, сэр рыцарь. И ты все исполнил правильно, хотя… — Мельком взглянув на Датыра, он закончил уже потише, будто сам теперь был недоволен, что произносил эти слова: — Не более того, знаешь ли.
— Но и не менее, — отозвался оруженосец, будто бы и он не хотел, чтобы эти слова были проговорены. Без них действительно было как-то лучше, спокойнее. Вот только Датыр по обычной своей привычке смолчать не смог.
Рыцарь еще выпил воды и откинулся на подушку. Ему требовалось подумать. Тем более что в его сознании тоже бродило что-то… столь же неинтересное, как замечание генерала, но не исключено, что приводящее к сложным и малоприятным выводам, которые нельзя было упустить, которые ему следовало заметить как командиру, потому что это тоже было его работой. Так что же это могло быть?
Может, Госпожа не успела достаточно оторваться от той искры, через которую с ним разговаривала, посредством которой получила над ним такую чрезвычайную, необыкновенную власть, когда принялась колдовать, чтобы утишить бурю? Вот у него все мысли из-за этого и перепутались. Зато на этой-то энергии он теперь без труда определит, куда следует держать курс. Он в этом был уверен. Хотя такую непростую штуку следовало все же проверить.
— Датыр, помоги.
Сухром стал подниматься, пусть это у него не слишком ловко получалось, но, опираясь на плечо оруженосца, он справился. Зато сидел на кровати почти прямо, пока оруженосец его одевал, а потом еще и заставил умыться, подставив все ту же миску с водой. На этот раз забрызгался Сухром изрядно.
Когда он вышел на палубу, то почему-то первое, что увидел, был взгляд Крепы, та попросту впилась в него глазом, почти сверлила его. И не составляло труда догадаться, что она тоже его отчего-то почти опасалась… А ведь страх ей был неведом, точнее, как бывает у опытных и многое повидавших солдат, она научилась его перебарывать. Она даже на противника, который атаковал ее с явным желанием убить, уничтожить, наверное, смотрела так же, как сейчас на рыцаря — с явственным любопытством и, как ни странно, с пониманием, даже с парадоксальным пониманием этого желания — уничтожить ее.
И все же столь пристальное внимание было нелегко вынести, особенно в нынешнем его состоянии, поэтому Сухром принялся рассматривать облака. Они поднялись выше, чем летел сейчас «Раскат», и даже выше солнца, которое уже на треть своего диска опустилось за не слишком ровную линию горизонта, чуть искривленную и иззубренную горами. То есть наступал вечер, и рыцарь засомневался, что это был вечер того же дня.
— Датыр, сколько я… дремал?
— Да чуть поболе суток, господин. С кем не бывает, если хочешь знать мое мнение.
Вот в его мнении, а тем более — в его оправданиях, Сухром од-Фасх Переим не нуждался нисколько. Но выговаривать оруженосцу за чрезмерную заботливость было для него сейчас труднее, чем скрыть раздражение, поэтому рыцарь промолчал.
На западе света было еще достаточно, чтобы хорошо рассмотреть и горы, и какие-то лески перед ними. Вот восток уже наливался теменью, и на небосклоне с той, левой, стороны выкатывали звезды. Они были сейчас вроде тех искр, которые Сухром видел перед Джарсин, и выглядели почему-то теплыми и близкими, может, даже ближе гор, к которым кораблик шел прежним курсом. А где-то у самого обреза облаков на горизонте, с юго-юго-восточной стороны, рыцарь довольно неожиданно для себя обнаружил еще более необычную, странную оранжевую звездочку… Оказалось, он уже забыл, зачем вышел на палубу, зачем решил прогуляться.
Или это была не вполне звездочка? Это мог быть костер — из тех, что на сторожевых башнях заранее складывали пограничные разведчики, чтобы предупредить тех, кого они защищали, о внезапном набеге кочевников… Рыцарь знал, что это на некоторых южных землях еще случается.
Но все же, все же… Чем дольше рыцарь смотрел на эту звездочку, тем крепче становилась его уверенность, что это — не костер, не свет далекого жилища, не звезда даже… И тогда, как он заметил, искорка эта бросила в него, именно в него, рыцаря Сухрома, тонкий свой лучик. Почти ударила в глаза… Теперь Фасх Переим точно знал: свое лордское дело, как выразился генерал Плахт, он снова исполнил, как и то, куда теперь следует двигаться. Уже третий раз в его поиске того, о чем сам рыцарь даже не догадывался, он почувствовал удачу в своем выборе.
Вот тогда-то и выяснилось, что, несмотря на то что он и на палубе-то стоял всего-то считаные минуты, он здорово устал. Вымотался, как после жестокой, многочасовой тренировки. Или даже после сложной, долгой и опасной схватки с настоящим противником в самых невыгодных для себя условиях. Чтобы не показывать эту усталость, он резковато, едва ли не с командным рыком указал найденное направление шкиперу Луаду, который в этот вечерний час стоял на румпеле, и снова отправился спать. Все равно существовать с таким сумбуром в голове было невозможно, как бы он ни крепился перед подчиненными.
И так вышло, что он проспал почти до обеда следующего дня. Зато в способности держать себя достойно заметно окреп и вроде бы был в порядке. Каким-то малообъяснимым образом это подействовало на остальных, даже на команду кораблика.
Когда Сухром выбрался на палубу следующим днем, все отчетливо повеселели, и матросы сидели на баке с каким-то обрадованным видом, будто бы вот-вот собирались запеть, не иначе. А его… бойцы дружно расположились кружком, и к ним, как уже бывало, присоединился Луад. Вот он-то восседал с видом едва ли не торжественным, и, конечно, рядышком с Крепой. Во время общего разговора он не то чтобы совсем не сводил с нее глаз, но поглядывал на нее часто, даже немного неудобно за него становилось — до такой степени терять независимость не годилось, пусть бы и от любви или другой какой глупости, какая с ним, несомненно, приключилась.
В центре кружка неопрятной горкой были сложены грязные миски и остатки еды. Это тоже был непорядок по всем статьям. Заметив взгляд рыцаря, Несвай тут же бросился исправлять упущение, приговаривая:
— Сейчас, сэр рыцарь, принесу и тебе чего-нибудь, у нас еще осталось, я теперь много продуктов от капитана получаю, он сказал, что скоро наш переход закончится.
— Вообще-то он сказал иначе, а именно — будет у нас возможность свежее продовольствие закупить, — пророкотала Крепа.
Она тоже была рада видеть рыцаря, хотя по быстрым взглядам, которые то и дело бросала на Плахта, нетрудно было убедиться, что и сегодня она бы с большим удовольствием потолковала с генералом о давних сражениях и военных походах.
Сухром сел рядом с бородатым карликом, который степенно подвинулся, чуть освобождая для рыцаря пространство. Он держал в руках свою восковую дощечку, но сейчас, вот именно в этот момент, ничего на ней не чертил.
— О чем сегодня рассказываешь, генерал?
— Генерала мне, пожалуй, много, — отозвался Плахт. — Я теперь — всего лишь бродячий солдат, каким и был, оказывается, всегда.
— Не горюй, — усмехнулся рыцарь, — исполним задание, будет и тебе награда, как же без этого. Солдат всегда должен на награду надеяться.
— Я надеюсь… Давно хотел спросить, сэр рыцарь, что это за медальоны такие, коими ты наградил меня и Крепу? Она сказала, что у нее он чуток иной, чем у меня. И конечно, еще вопрос: куда он подевался, когда впитался мне в грудь?
Для достоверности вопроса, будто бы рыцарь и сам этого никогда прежде не видел и не знал, о чем речь, Плахт расстегнул свой камзол почти до пояса, поднял бороду и через нее попытался рассмотреть, что же у него на груди творится? Но там была пара каких-то давних амулетов — что-то зашитое в мешочек из свиной кожи, скорее всего, щепоть земли, взятой так давно и с такого далекого места, что и сам карлик это забыл, и золотая бляха с неровно выдавленной короной, мечами и странными буквами. Наверное, это был родовой знак, которым карлики иногда пользовались в далеких походах в подтверждение своей сложной иерархии, родов, титулов и личной значимости.
Сухром знал, что в расе карликов практически не бывает совсем уж неродовитых, как-то так вышло, что из смертных именно карлики считали себя самым древним народом. А еще карлики помнили не только свой праязык, но и свою родословную, иной раз до сотни поколений в глубину веков, а если принять во внимание срок их жизни, пожалуй, и на тысячелетия. Вот чтобы не забыть этого, каждый уважающий и сколько-то добившийся серьезных титулов и привилегий карлик носил подобные медальоны, которые каждый раз чуть переделывал для себя.
Иногда эти медальоны можно было купить у не брезговавших работорговлей кочевых народов, но случалось это редко — любой из карликов, если ему становилось известно о возможности купить такую ценную вещь, мог заложить все, что у него было, чтобы вернуть эту штуковину своему племени, чтобы она ни в коем случае не досталась чужакам. В общем, с ними было непросто, хотя давно уже к карликам привыкли почти так же, как и ко многим другим расам, пожалуй, кроме людей, которые вообще считались слабосильными, не очень умными, не слишком знающими и к тому же куда как часто — вздорными. Особенно в южных землях и, пожалуй, среди бродячих, кочующих племен.
Рыцарь поймал себя на том, что даже с интересом разглядывает обнаженную и на удивление мускулистую грудь Плахта.
— Об этом не спрашивай, сам не знаю, — признался он.
— А если предположить что-нибудь и подумать над тем, что ты все же знаешь?
Вот неугомонный, нахмурился рыцарь.
— Сказал же — не знаю.
И чтобы подкрепить свой отказ даже порассуждать на эту тему, он принялся за пареную репу — и как она только оказалась на корабле — с неизменным сухарем, который даже в разбавленном вине не размокал.
А Плахт, возможно продолжая прерванный появлением Сухрома разговор, стал расспрашивать Крепу, где она служила, и та отвечала подробно, хотя и недлинно. Вот только всегда ее видение того, чему она оказалась свидетельницей или даже участницей — неважно, была ли это настоящая война или какой-то поход одного местечкового владетеля из смертных на другого, — было иным, чем обычно это бывало с Сухромом.
Она всегда знала что-то еще и замечала куда больше, чем, как полагал рыцарь, солдат замечает в своей нелегкой и опасной жизни. Она как-то умела увидеть, именно — увидеть, а не догадаться посредством размышлений, за всем происходящим вокруг некоторые иные, порой даже тайные, секретные цели и устремления других существ.
Как скоро стало понятно рыцарю, существа эти не всегда даже считались разумными. Когда Крепа описывала, как на место недавнего — всего-то года четыре прошло, не больше, — боя под Таргилой опустилась стая воронья, а стая эта была действительно какой-то невероятной, даже Плахт об этом что-то слышал, потому что об этом много болтали у солдатских бивачных костров, — можно было подумать на миг, что она сама из этой стаи.
Вот так и окончился этот день, незаметно. Потом миновал еще день, еще… Но однажды под вечер, пожалуй, уже в темноте, когда гребцы в трюме и фонари запалили, Виль позвал к себе Сухрома на ют их кораблика.
— Смотри теперь хорошенько, рыцарь.
Голос Виля, как всегда, оставался слишком высоким, почти писклявым или даже чирикающим.
На юте они были вдвоем, остальная команда, кажется, ужинала, а матросы, как им полагалось по неписаному закону, царящему на таких вот корабликах, а может, и на море, отдыхала после долгого и тяжелого труда на крыльях и ухода за баллоном, бесшумно парящим сейчас в сумерках над ними.
Было на удивление тихо, могло показаться, что весь мир залило какое-то вязкое, совершенно прозрачное стекло, и они тоже в этом стекле оказались, залипли, как мухи в янтаре далекого и не очень яркого уже заката. Земля внизу расстилалась темной, совершенно неразличимой скатертью, и только палуба под ногами едва подрагивала и поскрипывала, словно бы «Раскат» и сам хотел убедиться, что движение и звуки еще существуют.
Сухром стал смотреть, сначала вперед, как всегда почему-то на корабле хотелось смотреть, потом широко от носа — влево и вправо. Обзор с капитанского места был все же не самый хороший, мешали ванты, прочие какие-то канаты и сплетенные сеткой снасти, да и крылья закрывали обзор, неподвижно зависнув широкими своими лопастями.
Зато рыцарь отлично понял, что корабль, оказывается, за все эти дни немного приспустился, сошел с той невероятной высоты, на какой они оказались после бури. Странно было, что он на это прежде не обращал внимания, ведь буря прошла уже давно, а вот уверенность, что они из нее вышли, появилась у него только сейчас и лишь в этой безмолвной неподвижности.
Зато теперь они совершали свой путь пусть и неторопливо, поддаваясь слабому ветру, но, как обычно, в сотнях саженей над землей в правильном, выбранном рыцарем направлении. К счастью, опасаться неожиданной возвышенности или горы не приходилось, местность была по-прежнему ровная и по-степному гладкая, будто вылизанная.
— Капитан, а где же горы, которые я видел?
— Остались в стороне, да и проскочили мы их над облаками. — Капитан хмыкнул. — Должен признаться, никогда прежде я так высоко, как во время той бури, не забирался. Может, ты не заметил, рыцарь, но даже дышать было трудно.
— М-да, капитан, пожалуй, я последнее время не очень следил за тем, как мы продвигались.
— Зато ты направление указал. И знаешь, я почему-то тоже понял, что это правильный курс.
Помолчали. Рыцарь снова всматривался, хотя теперь уже не очень внимательно. Пожалуй, он не знал, что же должен высмотреть.
— А если тебе не понравилось так-то подняться, почему же ты столь долго на высоте оставался?
— Этого я сам не понимаю, сэр рыцарь. Почему-то казалось, что едва я приспущусь, как буря на нас вновь накинется. — Капитан Виль задумался. — Вот мнилось, все уже тихо внизу, уже ветра те самые клятые прекратились, но если спущусь… они снова возникнут. Будто в засаде они нас подстерегают. Я себе сто раз объяснил, что так не бывает, а все ж опасался… Не понимаю я этого.
— Наверное, правильно ты сделал, что свои страхи послушал, — осторожно признал Сухром.
— Да не страхи это были… — Виль раздраженно махнул рукой. — И-эх, не объяснишь этого, сэр. Даже себе трудно, а уж кому другому, хоть бы и тебе, вовсе не получается.
Рыцарь понял, что разговор закончен, капитан умолк совсем. Вот только что же нужно было увидеть… И только тогда, по какому-то закону, о котором Сухром и представления не имел, он присмотрелся еще и лишь тогда увидел — оранжевую звездочку.
А закон этот был прост, как и все на свете просто, лишь понимать эту простоту иной раз бывает сложно. Если бы у рыцаря было побольше образования и он умел составлять правильные слова, он определил бы его так: чтобы разобрать и увидеть нечто невидимое, нужно быть с этим невидимым в сродстве, которого добиваются опытом и умом либо высокой удачей, что представляет собой почти невероятный вариант совпадений, продиктованных необходимостью самых общих, почти космических законов. Или даже — не почти…
Но он этого не знал и не умел, он лишь это почувствовал всей своей сущностью, всей душой, всеми способностями присутствовать в этом мире. Поэтому сказал, даже не Вилю, а скорее себе самому:
— Я вижу, она — там. — И указал рукой путь на оранжевое пятнышко, которое странным образом светило как бы через пласты темного горизонта.
Они шли почти правильно, лишь чуть, на четверть румба, не более, отклонились к югу. Виль что-то хрюкнул за спиной рыцаря, видимо, раздумывал, стоит ли вызывать команду, чтобы несколькими взмахами крыльев «убрать это расхождение», как говорили судоводители, или был доволен, что за последние дни сумел не слишком отклониться от однажды заданного курса.
На следующий день звездочка была видна и днем. Такого прежде не случалось, и Сухрому было непонятно — почему ее, эту оранжево-желто-красную искорку, не видит никто, кроме него. Вот же она, рядом… А еще, к тому же, как и прежде было, когда они подходили достаточно близко к тому месту, которое нужно было найти, наконец-то появился звук — гудение тяжкой басовой струны, словно бы звучащей над всей землей, во всем мире. Это порадовало рыцаря еще тем, что звук этот означал: после страшного ментального контакта с Госпожой он, Сухром од-Фасх Переим, уже совсем пришел в себя.
Странный это был день. Всех вдруг словно бы подстегнуло что-то, все почувствовали какое-то нетерпение, заторопились, заспешили… И всех без исключения, даже самых туповатых матросов из команды «Раската», переполняла уверенность, что этот переход закончен наконец-то и скоро все, ради чего они пришли сюда, на этот край мира, закончится.
А к вечеру они увидели город. Странно растянутый вдоль довольно широкой и какой-то неровной реки. В наступающих сумерках видно его было не очень хорошо, но какие-то пятна на нем, словно бы отражения не слишком высоких облаков, различить было возможно.
Рыцарь, перевесившись через борт, пробовал разглядеть, в каком именно месте этой горы строений светит оранжевая звездочка. Но против ожидания, она не стала ярче оттого, что они приблизились к месту ее гм… обитания, а оставалась такой же. И потому терялась между огнями… уже тут и там зажженных факелов, каких-то фонарей или даже небольших костров, на которых, как оказалось, местные женщины привыкли готовить ужин. Разумеется, костров было побольше во дворах небогатых домов, а то и в бедных районах города. Зажиточные улицы светились цивилизованными фонарями и светом окон, как всегда бывало на юге — выходящих лишь во внутренние дворики, окруженные стенами построек или довольно высоких оград. Сухром крикнул капитану:
— Виль, как называется этот город? Ведь у тебя должны быть какие-нибудь карты, ты должен знать хотя бы название…
— Мои карты, сэр Сухром, — он едва ли не впервые так назвал рыцаря, — закончились обрезом еще перед горами, которые мы миновали три дня тому… А лоции тут и вовсе бесполезны.
— Что это значит, капитан? — поинтересовался в свою очередь Плахт.
— Это значит, генерал, что никто из наших здесь не бывал. — И он повторил еще раз: — Не ходил прежде никто из наших сюда. Идем по наитию, и все дела.
— М-да, — промычала Крепа негромко, но так, что ее все равно услышали все на кораблике, — сложна у нас задача. И легче не становится.
Город был не мал. Пожалуй, в нем обитало не менее сотни тысяч жителей. Даже странно становилось, что такой город неизвестен путешественникам настолько, что никто даже гадать не пытался, как он может называться. Внезапно, пережив это общее для всей команды рыцаря, всех его подчиненных впечатление, Плахт проговорил:
— Интересно, а вот зачем они тут порт устроили? Почти наверняка где-то впереди есть же пороги. Может, и непроходимые, а эти тяжкие корабли, что стоят тут у пирса, если это можно так назвать, наверняка через них не перенесешь.
Ему ответила Крепа:
— Я на море родилась, генерал, а все же знаю… Есть такой способ: пороги не преодолевать, а перебрасывать только груз. И дальше, ниже этих порогов, если они есть, конечно, пойдут уже другие корабли, может, с другими командами. Хотя, я слыхала, арматор в таких цепочках чаще всего бывает общий.
— Да, это возможно, если участок реки, который следует проходить, достаточно велик, тогда — да, это целесообразно, — согласился Плахт.
Они с циклопой, после всех разговоров о военной истории, если и не подружились пока, то начали определенно друг другу симпатизировать. Хотя еще пару недель назад ни он, ни она не могли себе и представить такую вот дружбу. Чтобы прояснить для себя ситуацию полностью, рыцарь снова спросил, прошагав на ют к капитану:
— Прежде ты колдовал, чтобы сделать корабль невидимым. Почему на сей раз?…
Договорить он не успел, капитан его понял и хмуро прервал:
— Не выдержу я нового колдовства, рыцарь. Слишком мало времени прошло после того, как мы тогда с бурей… расстарались. Поэтому я советую тебе здесь провернуть все быстренько и… уходить прежде, чем местные, предположим, орду пегасов на нас погонят.
— Почему ты думаешь, что у них тут ездовые пегасы имеются?
— Не зря же наши сюда не суются! — почти взорвался Виль, оказывается, у него гуляли нервы. — Значит, есть тут что-то, что может оказаться опасным для «Раската».
— Пожалуй, — согласился рыцарь. — Тогда так. Датыр! — Оруженосец вырос перед ним в строевой стойке. — Ты останешься тут, держи оружие под рукой. И никаких споров… — Он заметил, что оруженосец собирается возражать, и твердо решил этого не позволять — на этот раз, по крайней мере.
Виль неожиданно произнес — все так же — взвинченно и тревожно:
— Здесь, рыцарь, проще всего будет тебя с остальными подобрать над рекой. Ты подумай об этом, когда станешь планировать возвращение на борт.
— Над рекой «Раскат» только слепой не заметит, — подумал вслух Датыр.
— Нам-то что? — рявкнул на него капитан. — Мы уже уходить отсюда будем.
— Верно, — согласился рыцарь. — Пожалуй, предложение разумное. — Он еще раз попробовал разглядеть город и реку внизу: — А вот высадить ты нас попробуй… На берегу, поближе к порту. Я заметил, у них там какая-то свалка есть.
— Это не свалка, это верфь, сэр рыцарь. — Виль жестом подозвал Луада и почти бросил ему румпель в руки, приказывая занять его место. Затем продолжил: — Еще позволю себе один совет. Ты заметил, что тут, как у многих прочих приречных городов, живут в основном на этой вот, левой, северной стороне? А на другом берегу реки — домов почти нет… Вот там я вас и высажу.
— Идет, — согласился рыцарь. — Если мы решили тут действовать почти в открытую… Да и найти перевозчика будет нетрудно, местные-то, поди, и промышляют этим главным образом. — Он чуть улыбнулся. — Ты интересно сказал — как в прочих приречных городах… А сейчас всем — готовиться к высадке, оружие должно быть скрытым, незачем местных раньше времени волновать.
Чтобы понять, оценил ли капитан эту его почти шутку, рыцарь еще раз взглянул на капитана, прежде чем спуститься в свою каюту, но… произошла удивительнейшая штука.
Вот когда Сухром посмотрел на капитана Виля, на каких-то совсем уж незначительных остатках магии, которая все еще кружила в его голове после контакта с Госпожой Джарсин, он вдруг понял… Вот так вдруг — глубоко, осмысленно, ясно и резко понял, что… Виль, кипитан «Раската», в свою очередь во время того сеанса магического единения растворившись в мыслях и сознании Джарсин, увидел что-то иное, чем он, рыцарь Бело-Черного Ордена. Вернее было бы сказать, что он получил совсем иной приказ. И теперь с этими новыми мыслями капитана Виля придется оценивать иначе, чем прежде. Пожалуй, даже доверять ему теперь придется с оглядкой.
А капитан, который до этого был верным и надежным помощником в походе, теперь, в сумерках, глядел на рыцаря так, словно бы замышлял… В любом случае он делал какие-то свои выводы из всего происходящего.
Это длилось мгновение, но обоим оно показалось долгим, тягучим, как патока, только в отличие от этого детского лакомства — совсем не таким приятным, а отвратительным, жгуче-горьким, как любая мысль о предательстве вообще. Но и миг этот закончился. Чтобы скрыть эту едва ли не ужаснувшую обоих — рыцаря и капитана летающего корабля — мысль, чтобы поскорее избавиться от нее, Виль проговорил:
— Принесу тебе фальшфейер, рыцарь. У меня есть несколько… Зажжете его, чтобы, значит, я вас подобрал. Иначе на реке да в крохотной лодочке я вас быстро не найду… — И действительно скоро вернулся с трубкой навощенной бумаги в руке. А затем снова спросил: — А зачем ты, господин, Датыра оставляешь?
В этом вопросе звучало невыговоренное подозрение в том, что ему больше не доверяют. Но ведь Сухром решил оставить на борту Датыра до того, как у них возник момент разъединения… Поэтому Сухром, подумывая, что теперь ему, пожалуй, и на корабле придется таскать на поясе боевой кинжал, буркнул неопределенно:
— Мало ли… Вдруг ты фальшфейер твой же не увидишь? Кстати, Датыр, не забудь подать мне кресало с кремнем покрепче.
Рыцарь с капитаном летучего кораблика снова посмотрели друг на друга и снова, несмотря на темноту, уже не позволяющую даже приблизительно видеть движения рук, почему-то разобрали друг в друге — выражение глаз. И оба убедились, уже навсегда, намертво, что теперь между ними доверия не может быть никакого. И что, пожалуй, со временем недоверие это только окрепнет.
Рыцарь вздохнул:
— Пошли, Датыр, пора мне готовиться к высадке.
8
Баня была роскошная, даже с колоннами, которые Нашка обычно привыкла считать самым основным и неподдельным признаком богатства, роскоши и, пожалуй, достоинства. Еще она любила большие комнаты, такие, чтобы и свет в них плавал спокойно, не ударяясь об стены, и чувствовалась свежесть незанятого, пустого пространства. И чтобы было тепло, конечно, чтобы не мерзнуть по-северному, когда начинает казаться, что холод — самое ужасное и непереносимое, что есть на свете. Для нее-то, собственно, всегда так и было.
Впрочем, сейчас смешно было вспоминать о холоде, даже промозглую сырость представить ей не удавалось, потому что она сидела в глубокой, чрезмерно большой для нее ванне, заполненной горячей водой. Не совсем такой, какую, бывало, делала Натурка, когда они распаривали тело в особой кадушке, которую возили с собой во всех странствиях, когда… гм… когда Нашка была еще обычной полусвободной жонглершей и у нее были друзья, да. Но и эта вода неплохо растворяла ее усталость, напряжение, вымывала не только грязь, но и холод, и даже придавала ей какую-то нелепую в ее положении, странную уверенность, что все еще может окончиться для нее хорошо.
В общем, замечательно она придумала, когда ее отпустил тот человек-офицер из стражников: забежала к тетке, та и проснуться не успела, а Нашка уже осторожненько, чтобы не нарваться на неожиданную засаду, оставленную тут на всякий случай, вытащила свои деньги, переоделась и, невзирая на боль в разбитом теле, успела выскочить прежде, чем Васоха поняла, что в доме есть еще кто-то и нужно идти смотреть, кто же это. Еще в первое свое посещение за сегодня теткиного дома Нашка сбросила давно приготовленную веревку с заднего двора, и вот пришла пора ее использовать… Так что она обошлась даже без стука в дверь, без объяснений и почти без шума.
А потом она явилась в бани, вытребовала себе отдельную мойню и сразу же — какое-то угощение, хотя тут кормить особо не привыкли, тем более ночью, тут привыкли главным образом поить винами и более дорогими крепкими напитками. Но все же подали хлебцы, сладкие к сожалению, какую-то ветчину, абрикосы, еще совсем зеленые, из нового урожая, немного вишен и лука. А она оказалась так голодна, что стала есть все вместе, не разбирая вкуса. Глядя, как она ест, какой-то толстый банщик попросил ее заплатить вперед, Нашка сунула ему сразу два малых золотых, и тогда все вокруг изменилось.
Служанки забегали, банщик стал предлагать ей двух прислужниц, которые помогли бы ей отмыться, распариться и получить массаж, едва ли не дюжина разных прочих слуг принялись носить воду в больших, тяжелых кувшинах, исходящих паром, а еще, конечно, натащили снеди, которую выставляли к ней поближе, чтобы она могла есть, лишь протягивая руку. Ей даже пробовали помогать раздеваться, но от этого она отказалась и предложила всем убираться, уматывать, мол, сама справится.
И теперь она блаженствовала, распуская свое тело в горячей воде, лишь иногда пробуя использовать мочалку, чтобы прикосновения к ее ушибам и ранам не были слишком болезненными. Они, кстати, оказались хуже и тяжелее, чем ей показалось вначале. Правый локоть и оба плеча были разбиты до сплошного синюшного синяка, одно колено ныло так, что лучше бы ногу и вовсе оторвать и выбросить, если бы это помогло, а внутри, где-то под брюшиной, временами так здорово схватывало на вдохе, как бывает, когда-то она видела и такое, лишь при родах у женщин… Не иначе.
Впрочем, как бывает при родах, она не знала и надеялась, что не узнает. Рожать каких-то детей, а потом еще и заботиться о них, да еще неизвестно от кого — что и было всегдашней участью рабынь, — Нашке не то чтобы совсем не хотелось, это вызывало у нее брезгливый ужас, с которым в ее представлении ничто другое, даже увечье, не могло сравниться.
Первый голод она уже утолила, и ей захотелось как следует приложиться к кувшину с вином или небольшому стеклянному графинчику с крепкой и восхитительно холодной северной водкой, вот только она не была уверена — сумеет ли остановиться. А значит, она снова надерется, как последний грузчик в порту, и ничего не будет соображать… Притом что как раз соображать ей следовало очень точно, быстро и безошибочно. Иначе на самом деле завтра ее могли уже и схоронить. Вернее, могли поступить так, как поступали с бездомными бродягами, которых некому оплакивать и похороны которых никто не оплатит.
Вот тут-то и произошла удивительная штука, почти чудо, как она поняла позже, но лишь позже. А в тот-то момент она принялась хвататься за свою боевую дубинку, которую предусмотрительно прислонила к ванне, где плескалась, и одновременно судорожно думала, как бы добраться до своих кинжальчиков, которые кто-то мирно уложил на лавку у стены рядом со стопкой чистых простынок. Но до них было далеко, и Нашка решила даже не пытаться, а полагаться лишь на дубинку…
К ней в мыльню, как следовало называть это помещение, нимало не смущаясь, вошли… Кажется, первым вошел карлик, почти в полном вооружении, даже с легким топориком на плече. Почему-то Нашке он показался синим, и лицом, и руками, и даже что-то лазурное просвечивало сквозь его одежду, будто бы он светился этим цветом, как большая ходячая лампа. Интересно, что, когда она к нему пригляделась как следует, она ничего особенно-то синего в нем не заметила, но… В тот момент она могла бы в этом поклясться — он был изнутри весь голубой и синеватый, словно вымазался с головы до ног, до кончиков своей бороды синей краской, как делали воины перед смертельным боем где-то в высоких и далеких горах на севере. И еще, как было сказано, он почему-то казался светящимся изнутри…
За ним вошел восточный орк с какими-то сильными примесями в родословной, стройный, привыкший таскать на себе тяжелую рубаху с нашитыми металлическими бляхами, настоящую панцирную тунику для боя, с армейской выправкой, с отменным мечом на бедре и тяжелым боевым кинжалом на поясе. Глядя на этот арсенал, Нашка не сомневалась, что есть у этого солдатика еще и другое оружие, скрытое, невидимое до поры, пока он не пустит его в ход. В общем, спускать с него глаз нельзя было ни в коем случае…
А за солдатом вошла… Да, вошла самая настоящая циклопа, огромная, в тяжелой кожаной юбке чуть выше своих непомерно высоких колен, в глухой кожаной куртке и в такой накидке, что ею можно было обернуть, пожалуй, десяток таких, как Нашка. Циклопа, разрази гром!.. С дубиной в руках, которую вполне можно было использовать для центрового столба раскидистого шатра, но по виду — спокойная, не злая, почти без татуировок и вся какая-то на редкость чистенькая, вымытая так хорошо, что у нее и кожа отливала матовой розовостью, как бывает только у именитых матрон или богачек, которые пуще всего на свете опасались чем-то испачкаться или испортить цвет лица.
Вот на нее-то Нашка и засмотрелась, и даже не поняла, что уже стоит совсем голая в дальнем от входа углу помещения, приготовившись дорого продать свою жизнь, с дубинкой наперевес. А эта троица выстроилась у входа вдоль стенки, и все уставились на нее, будто и впрямь видели что-то в высшей степени необычное.
— Гм, — произнес гном, — а быстра она, однако.
— Она же из нунов, — глуховатым баском, хотя и с заметными грудными женскими звуками в голосе, пояснила циклопа. — Они быстрыми бывают. Даже слишком… Иногда.
А воин заговорил иначе:
— Девушка, я не враг и хочу тебе кое-что предложить. — Внезапно он засмущался, даже заметно попробовал на нее не смотреть. — Только ты одевайся, знаешь ли… Мне непривычно разговаривать с девчонками, которые стоят голышом, я с Севера, у нас — другие обычаи, чем в ваших краях.
— Ах да… — Нашка решила пока подыграть странной троице. Тем более что они вроде бы не привели оружие к готовности. Она усмехнулась даже через силу, но больше — для собственной уверенности. — Ничего, потерпишь. Говори, если есть что.
— Нет, на самом-то деле, ты бы хоть… А одежда твоя где? — спросил карлик.
Всю свою одежду Нашка отдала каким-то служанкам с просьбой выстирать ее и починить. Наверное, она теперь пропала безвозвратно, решила Нашка. Чтобы выручить свои рубаху, куртку, порты из плотной деревенской ткани, почти совсем новые и мягкие сапожки, к которым она уже привыкать стала, времени, скорее всего, не оставалось. Ее нашли, и вот вопрос — кто же ее предал? Ведь с баней она так здорово все придумала, и до сих пор все так удачно получалось…
Может, тот толстенький банщик, а может, еще кто? Допустим, та же тетка Васоха, она ведь умеет разыскивать потерянные вещи, заговорами разными владеет, если бы не умела, то и на собственный дом ни за что бы не накопила… Или за ней, за Нашкой, все очень умело следили? Но как и кто? Она же ничего не почувствовала, а может, была все же так побита и так у нее тело болело, что она на слежку эту не обратила внимания, не заметила ее? Нет, быть такого не может.
— Одежда… Неважно. Как вы нашли меня тут?
— Я увидел, что баня эта… — начал рыцарь, по-прежнему чуть отводя от нее взгляд, — светится особым оранжевым светом. Знаешь, давай я тебе потом этот трюк объясню. А сейчас оденься все же. Крепа, подай ей хотя бы простынку пока.
Циклопа сделала к ней шаг, подхватывая тяжелую, плотную, сухую простынку.
— Стой где стоишь, — приказала ей Нашка и крутанула дубинку, чтобы распаренность от горячей воды в мускулах побыстрее ушла. Кажется, она была не в форме из-за травм, но все остальное было в порядке. И хорошо, что она ничего не пила, только поесть немного успела… — А ты, здоровяк, тут не особо командуй.
— Если тебе угодно, сэр рыцарь Сухром Переим, — с улыбкой чуть усмехнулся воин. — А тебя как зовут?
— А ты не знаешь? — удивилась Нашка. Что-то это значило, что-то непростое. — Так ты не меня искал? Или все ж придуриваешься?
— Искал я того, кто отзовется на призыв магического медальона, — спокойно отозвался рыцарь, если он и впрямь был таким именитым, а не рядовым наемным убийцей из подворотни. — Вышло так, что отозвалась именно ты. Поэтому я хочу тебе объяснить… Да оденешься ты наконец! — чуть повысил он голос.
Нашка решила, что дело тут непростое, а значит, немедленно нападать они не станут, была у них уже такая возможность, только они ею почему-то не воспользовались, следовательно, можно и простыню на себя накинуть. Хотя, может, это такой трюк?… В простыне все же драться несподручно. Зато… Карлик подошел к столику, налил рыцарю в стаканчик крепкой выпивки, себе плеснул в емкость побольше вина, а сам кувшин передал циклопе. Затем он уселся на каменную лавку подальше от Нашки и спокойно принялся грызть абрикосы, которых тоже набрал полную горсть. Топор он поставил между колен.
— Что-то наша подруга нервничает, — проговорил он.
Делать нечего, все складывалось так, что разговор им все-таки предстоял. Драться сразу было как-то… неловко. Нашка накинула на себя и обмоталась вокруг пояса простынкой и чуть скрыла свою дубинку, которая теперь и ей самой показалась, ну что ли… не вполне уместной. Садиться, впрочем, она поостереглась.
Зато с удовольствием увидела, что и рыцарь отошел от двери, освобождая возможный выход, и усаживается на другой скамье. Циклопа тоже не стала демонстрировать готовность к бою, лениво присела у стены на корточки, причмокивая отведала вина. Вот тогда-то в мойню ворвался давешний толстяк банщик и сразу же завопил:
— Что тут… — Он оглядел всех, понял, что все обстоит спокойно и мирно и лишь он гонит лишние эмоции, договорил уже упавшим от неуверенности тоном: — …происходит? — Он еще разок огляделся и уже твердо проговорил: — Госпожа дикая не сказала, что к ней будут гости. К тому же эти… посетители тоже должны заплатить. За них еще монеты… не звякали.
— Знаешь, вышел бы ты, — лениво пробурчала циклопа Крепа. — Тут все же почтенные господа собрались, не голытьба какая.
Банщик мигом сориентировался. Он почти поклонился и участливо спросил у Крепы:
— Принести еще чего-нибудь? Вина, вижу, не осталось, и кубков в достатке нет… А чего-нибудь вкусного? Могу специально кухарку разбудить и на кухню послать.
— Пожалуй, — согласился рыцарь, — принеси-ка нам, любезный, еще вина кувшинчик, получше, и сыра с хлебом и зеленью.
— Лучка зеленого хотя бы, если есть, — добавил карлик. — И ветчинки свежей нарежь, только не малыми кусками, а так, чтобы в руке было что держать… И этих, вот этих, оранжевых, не знаю, как вы их тут называете.
— Абрикосами, милсдарь, — услужливо подсказал банщик.
— Во-во, — кивнул ему карлик.
— А мне бы хорошо — курицу зажаренную, — мечтательно закатила глаз циклопа. — И соленой редьки… Вообще, чего-нибудь соленого, хоть капусты.
— Мы тут не задержимся, — вдруг сказал рыцарь. — Мы тут… В общем, может, потом еще в какой-нибудь трактир зайдем, если время будет.
— Никуда я отсюда не пойду, — сказала Нашка твердо. — Тем более — с вами.
— Все понял, уже бегу, — согласился банщик, на Нашку он уже почему-то внимания не обращал. Но никуда не побежал, а вопросительно осмотрел по очереди всех новых своих гостей.
— Да, деньги… — вздохнул рыцарь. — Там, у входа в твое заведение, Несвай стоит, ты его легко узнаешь, так вот, возьми у него монет сколько надо и позови сюда. Кажется, мы все же, — он еще разок окинул Нашку сложным взглядом и опять вздохнул, — тут разговаривать станем.
Он ушел, а потом действительно очень скоро появились две служанки, которые и нанесли множество разной снеди и выпивки, а затем в мойню вошел еще один… солдат, в котором больше всего было человеческой крови, чем разной прочей, пожилой, но еще крепкий, в недлинном камзольчике с каким-то странным обозначением то ли герба какого, то ли просто чина. В таких, как Нашке было известно, ходили либо очень старые и проверенные слуги, либо даже господа, выслуживающие себе милость у более влиятельных господ. Скорее всего, было последнее, потому что у этого… Несвая, как его назвал рыцарь, имелся кинжал на поясе, а на губах играла чуть услужливая и внимательная улыбка, а еще имелся изрядный кошель где-то в широком левом рукаве. Кошель она определила по звяканью и подивилась, зачем этим вот… чужеземцам нужна была такая изрядная сумма? Тем временем разговор рыцаря с Нашкой шел своим неторопливым ходом:
— Так как тебя зовут, девушка?
— Я не девушка. Я жонглерша, была, по крайней мере.
— Да ну? — удивилась Крепа, вновь отхлебывая винца. — А фокусы показывать умеешь? Вот когда шляпу снимаешь, всем показываешь — она пустая, а потом на голову напяливаешь, и вдруг из нее кролик или голуби выбираются?
— Крепа Скала, — твердо призвал ее к порядку рыцарь. И снова посмотрел на Нашку. — Сама посуди, не называть же мне тебя дикой, как этот… банщик.
— Меня зовут Нашка Метательница. А в городе меня дикой зовут… — Она чуть хмыкнула, чтобы повернее и поуверенней себя чувствовать. — В общем, зовут те, кто не хочет на кулак мой нарваться, я уже и привыкать стала.
— Ого, — хмыкнул карлик, поедая так понравившиеся ему ранние абрикосы, — просто так никого не назовут. Да к тому же — Метательница… Ты умеешь, к примеру, дротиком восковую печать с кувшина вина сбить? У меня служил во второй сотне один кентавр, вот тот умел… Даже выпивку себе этим не раз на спор выигрывал. У них, у кентавров, дротики часто бывают основным оружием.
— Дротиком не слишком сподручно, — раздумчиво добавила к рассказу карлика Крепа. — А округлым камнем, вроде гальки, легче легкого, шагов с двадцати — вполне.
— Твоих шагов или?… — заинтересованно спросил прежде молчавший Несвай.
— Так вот, — сказал рыцарь, поднялся, налил себе еще крепкой водки, что оставалась на столике у ванны, снова сел, — мне показалось, Метательница, ты чего-то опасаешься? — Он миг подумал. — За тобой кто-то охотится?
Нашке уже было понятно, что это — не те, от кого она хоронилась и с кем приготовилась драться… Ведь знала, что почти наверняка проиграет, не настолько она сильный боец, чтобы не быть побежденной целой ордой наемников, не выстоять ей, к примеру, против пяти-шести городских головорезов, если они будут действовать сообща и достаточно умело. Но эти вот — к ним не относились. А следовательно… Неужели же они и были той последней возможностью, которую нельзя было не использовать, последним и, скорее всего, единственным шансом вывернуться из этой передряги, которую ей предоставила благосклонная Судьба.
И она рассказала почти все, лишь опуская кое-какие подробности. Как они бродили себе по городкам и селам, какие у нее были отличные приятели, и как их всех обманом побили на арене, и как она осталась тут, в этом клятом Крюве, и как ее — почти так же, как с тем выступлением в смертельном поединке, только еще более подло, — обманул Сапог и что теперь на ней висит смерть этого дурацкого Боната, что, собственно, и послужило причиной ее поведения, когда эта компания к ней в мойню-то и вошла…
— Так, — кивнул рыцарь. Он не казался озабоченным или опасающимся нанятых против Нашки убийц. Для него это было не страшно, пожалуй, наоборот, он даже был доволен, что все именно так-то вот получилось. — Тогда ты не будешь возражать, если мы тебя возьмем с собой в путешествие… Верно я понимаю? — Он снова чуть запнулся, видно, была у него такая привычка. — А из города этого мы тебя вывезем, можешь не сомневаться.
— А что мне там, куда вы меня повезете, предстоит? — спросила Нашка.
— Собственно, я и сам не все еще знаю… Но похоже, ты должна быть там, где соберутся и другие… — Он оглядел свою команду. — Здесь не все, остальных тоже собирают, находят и ведут… Вот тогда мы все и узнаем, что за дело нам предстоит.
Нашка еще разок обвела взглядом этих четверых, кто сидел перед ней. Карлик наелся абрикосов и теперь, кажется, без особой радости выяснял, как они расстраивают его желудок. Крепа тоже неплохо закусила и приканчивала уже второй кувшин вина, но на ней это не сказалось, уж очень она была здорова. Полу слуга и полу служака Несвай жевал сладкие булочки с сыром и не забывал про лучок, как незадолго до этого сама Нашка. Рыцарь уже не пил, просто сидел, уставившись в пол, и о чем-то думал, поглядывая на Нашку заблестевшими от водки глазами.
— Девонька, сама посуди, — рассудительно проговорил Несвай. — Мы тебя отсюда выведем, пусть ты и считаешь, что это — невозможно.
— Кстати, денщик, фальшфейер с тобой? — зачем-то спросил его рыцарь.
Денщик, а его именно так следовало впредь величать — сделала себе заметку Нашка, — хлопнул по сумке, которая висела у него слева на боку.
— Тогда, — рыцарь обратился к Нашке уже заметно иначе, чем прежде, не оценивающе, а приказным тоном, — давай тебя испытаем, подходишь ли ты нам, и затем… пойдем, пора уж. Если тебя тут ищут и вообще такие вот сложности возникли, лучше нам поторапливаться, задерживаться тут не станем.
А Нашка почему-то совсем сбилась с толку, снова обсмотрела Крепу, неожиданно улыбнувшегося ей карлика и денщика этого… И едва ли не глупо спросила:
— А меня там-то, куда мы пойдем, не съедят? — Сама же смутилась, вздохнула, помотала головой, поправилась: — Я не то хотела спросить, ты уж не обессудь, рыцарь. Я вот что хотела: деньги у меня, конечно, какие-то пока есть. — Она неопределенно кивнула на свой пояс, который так и остался лежать на лавочке, рядом с ее малыми клинками. — Но вот что мне подумалось…
— Да, — твердо отозвался рыцарь, — если пойдешь с нами, конечно, я тебе еще заплачу. Когда дело будет сделано, получишь кошель золота. Это — всем обещано, всем тут причитается награда, тебе, разумеется, тоже.
Нашка еще раз рассмотрела Крепу, а циклопа кивнула и приподняла свой кувшин вина, словно приглашала Нашку с ней заодно выпить. Карлик чуть небрежно пожал плечами, мол, не так уж много и обещано, но хоть что-то — все же лучше, чем вовсе ничего.
— Ладно, я иду с вами, — согласилась наконец Нашка, — если вы вытащите меня отсюда, да к тому же и заплатите… Да, я согласна.
— Тогда так, — сказал рыцарь, поднялся, порылся за клапаном своего колета с нашитыми стальными пластинками и вытащил небольшой замшевый мешок.
Подошел к Метательнице, чуть расставил складки простынки у нее под горлом, порылся в замшевом мешке, достал еще один мешочек, не больше тех, в которых суеверные северяне обычно таскали разные амулетики… Но вытащил он на свет не амулет, не связку каких-то костей или глиняную фиговину, а настоящую брошь, только без жала, не как фибула, а просто сделанную — медальончиком.
На медальоне светился странный ярко-оранжевый камешек. Вот медальон этот он осторожно, будто боялся вспугнуть птицу, ненароком присевшую к нему на руку, и приложил к Нашкиной грудине, под горловой ямкой.
И медальон этот стал растворяться на красной Нашкиной коже, будто утопая в ней, исчезал на глазах… И при этом ее восприятие всего вокруг резко и сильно стало меняться. На миг показалось, будто она выросла и стала едва ли не такой же огромной, как циклопа, потом причудилось, что с ней разговаривает кто-то, кто находился даже дальше, чем ее родные южные острова. Откуда-то из других миров она услышала шепот, который, однако, не был просто советом или колдовским наговором, а был приказом, который теперь следовало исполнить неукоснительно и верно… Затем она поняла, что может едва ли не единым взглядом, как бы со стороны, с огромной высоты, рассмотреть весь город, но лучше всего она могла почему-то видеть именно себя и своих новых… спутников?
А рыцарь тем временем довольно хлопнул в ладоши и приказал денщику:
— Вот и все. Теперь, Несвай, отыщи-ка ей какую-нибудь одежонку. Если у них нет подходящего размера — не беда, тащи что найдешь сюда, только быстро.
А когда одежда появилась, Нашка, все еще обалдевшая от случившейся в ней перемены, оделась, уже чуть смущаясь всех из этих, особенно — мужчин, быстренько вооружилась, подпоясалась, и они пошли… На реку.
Там рыцарь, ее новый командир, поспешно, не торгуясь, нанял изрядных размеров лодку, чтобы поместилась циклопа, да и все остальные, и отказался от услуг самого владельца лодки и двух его гребцов… Лодочник вроде бы заспорил, но рыцарь рявкнул на него, объяснил:
— Тебе лучше оставаться на берегу, любезный. — Это обращение у него прозвучало так, что стало ясно — следующим шагом будут не уговоры, а прямая и откровенная драка.
И речник, научившийся в своей жизни различать самые разные интонации всех тех, кто привык требовать и отдавать приказы, лишь пискнул расстроенно:
— Но ведь лодка пропадет…
— Ты посмотри, олух, — негромко, но очень точно проговорил карлик, которого, как выяснилось, звали генералом Плахтом. — Тут хватит на новую, если даже тебе посудину твои местные приятели потом и не найдут, не приведут назад… Но ведь и приведут, наверное, не так ли?
После этого лодочник отозвал своих гребцов, которым тоже не слишком улыбалось оказаться в одной посудине с такими пассажирами, каких они прежде не только никогда не видали, но даже не подозревали, что такие-то и бывают на свете… И те отчалили от берега и вспенили веслами воду, выходя на середину реки.
— Странный он какой-то, — хмыкнула Крепа. — Ему жизнь, может, спасают, а он…
— Как это? — не поняла Нашка.
— Ты думаешь, когда выяснится, что ты удрала из города на его лодке, к нему не придут… гм… потолковать и выяснить в подробностях — что да как тут случилось? — спросил карлик Плахт. — Придут, да еще как… задушевно потолкуют. Но вот он-то, если с нами не поехал, может все же отвертеться тем, что лодку у него почти силком забрали. И тогда, возможно, его все же в покое оставят. — Он закончил свое объяснение так: — Выходит, Метательница, что рыцарь ему жизнь пробует сохранить, не иначе.
Туман на реке был густым, как молоко, как самые плотные клубы дыма от сырых ветвей в сильный дождь. Лодка шла наугад, но Нашка, обретшая с медальоном умение видеть все как бы со стороны, хоть и вернулась уже, так сказать, в свое тело, в свое зрение, понимала, что путь они держат в общем-то правильно. И на середину реки выходят экономно и точно, так и в самый ясный день Крепа могла бы сильными своими гребками на обоих веслах вывести эту лодку.
А потом… Потом на берегу что-то случилось. Города видно уже не было, лишь очень смутный и туманный блеск факелов вдруг появился, и голоса тех, кто что-то кричал, Стучал во все окрестные дома и что-то требовал, очень отчетливо разнеслись в сыром воздухе.
— А это, кажется, твои преследователи, Нашка, — объяснила Крепа, чуть запыхавшись от нелегкой работы, которую она выполняла в довольно быстром темпе.
Это действительно были те, кто пришел по ее, Нашкину, душу. Но они, как, к счастью, получалось, серьезно опоздали.
— М-да, — отозвался рыцарь, который расположился на корме лодки, с Нашкой бок о бок, будто все еще опасался, что она может выкинуть какую-нибудь глупость и попытается сбежать, например спрыгнув с лодки, — это они, несомненно. Теперь нужно, чтобы нас подобрали как можно быстрее, не заснул бы там, наверху, капитан Виль, — добавил он непонятно. — Драться все же не хотелось бы, не нужно нам это.
— А что, можно и попробовать, — сказала циклопа.
— Ага, — усмехнулся Плахт саркастически, — это ты плаваешь как рыба. А я вот — сразу же камнем ко дну пойду.
— И я, — высказался Несвай.
— Ты вот что, — приказал тогда ему рыцарь. — Ты зажигай огонь.
Пожилой денщик покопался в своей сумке, достал длинную трубку из плотной бумаги, похожую на свиток старой книги, почиркал огнивом, и трубка загорелась ярким бело-синим, с редкими красноватыми нитями огнем. Несвай даже привстал, чтобы рассыпаемые его факелом искры не падали на циклопу, которая откинулась назад, пробуя от этих искр оказаться подальше. Но они были не горячими, наверное, их все-таки можно было вытерпеть.
— Те, кто на берегу болтается, — мерно произнес карлик, — тоже заметили огонь. Теперь фокус: кто быстрее нас найдет — капитан с «Раскатом» или Нашкины… приятели?
— Не приятели они мне, — буркнула она недовольно.
На самом-то деле все в ней от радости, от этого признания ее как бы своей, настоящим членом команды, за которого даже драться, может быть, придется, согрело ее куда вернее, чем всякие уговоры, которые рыцарь рассыпал перед ней в бане.
А затем что-то очень большое, но и невесомое, как окружающий туман, появилось прямо над ними, в темном и непроглядном небе, и оттуда, сверху же, закричал высокий и сиплый голосок:
— Эгей, есть тут кто?
— Есть те, кто тебе и нужен, Виль, — рявкнул рыцарь. — Кидай поскорее лестницу, за нами гонятся.
— Сейчас, — согласился кто-то, но уже другим голосом.
И сверху действительно упала веревочная лестница, подобная тем, которыми пользуются моряки.
— Не-а, — проговорила Крепа Скала, — этого мало будет, шкипер. Давай еще одну, не то мне несподручно будет подниматься.
Впрочем, поднималась циклопа последней, потому что приходилось все же чуть подгребать, чтобы лодку не сносило течением, да и лестницу удерживать тоже нужно было, а то из-за ее раскачиваний очень уж непросто было подниматься… в небо.
Когда Нашка поднялась, сразу за рыцарем, чуть ли не поддерживаемая сзади и снизу Плахтом, оказалось, что лестницу им спустили не с неба, а с какого-то удивительного сооружения, которое не только удерживалось в воздухе, но могло лететь по направлению, задаваемому большими крыльями по бортам узкого и в общем-то не очень крепкого корпуса. Так она выяснила, что это был летающий корабль… И Нашка, сломленная всем на нее свалившимся за этот вечер, уселась прямо на палубе этого кораблика и почему-то затаила дыхание. Да, именно так, она старалась дышать как можно тише и незаметнее, будто бы это могло помочь ей перенести все неожиданности, которые с ней произошли и которые конечно же — а она в этом уже ничуть не сомневалась — должны были произойти с ней в самом недалеком будущем.
Пока она так сидела с противоположного от сброшенной лестницы борта кораблика, карлик, который носился как угорелый, пробуя рассмотреть хоть что-то внизу, под ними, заголосил вдруг:
— А ведь они приближаются, они уже рядом!
Рыцарь тоже глянул вниз и резковато приказал:
— Крепа, держись крепче, поднимайся осторожнее… Мы уходим.
— Да мне еще локтей десять тащиться по лестнице этой, — отозвалась циклопа.
— Ничего, поднимайся, только не свались, мы уходим, — прикрикнул на нее рыцарь. А потом повернулся к капитану, одному из удивительных и, как раньше Нашка полагала, небывалых, мифических птицоидов-тархов, и приказал не терпящим возражений тоном: — Все, она уже на лестнице, капитан, давай уводи свой кораблик. А то эти вот, снизу, стрелять из арбалетов будут, не хотелось бы, чтобы они баллон твой попортили.
Это подействовало, удивительный летучий корабль как-то ощутимо приготовился, послышались команды, которые отдавал уже не капитанский, а более молодой голос, и… Крылья по бокам корпуса чуть дрогнули, затем заходили правильными и сильными порывами, затем стали ходить плавнее, легче и еще сильнее… И корабль рванулся вперед и вбок, чуть накренившись, набирая ход.
Капитан еще сделал какое-то движение всей этой замечательной и удивительной машиной, приспосабливаясь к ветерку, который тут, в вышине, подчинялся другим законам, чем в тумане над самой рекой. Затем корабль еще развернулся, прошел едва ли не над целой флотилией лодочек, в которых тоже горели огни, хотя и менее яркие, чем тот, который зажег Несвай, да и сами лодочки были поменьше размерами, чем та, в которой на середину реки выплыли они все… И окончательно стал подниматься вверх, в туманное и кажущееся теперь необъятным небо.
— Вот, — с удовлетворением произнес рыцарь, — не так уж все сложно вышло. И даже спокойно, без драки.
— Всегда бы так, сэр рыцарь, — согласился с ним оказавшийся неподалеку карлик Плахт.
Вот только Нашка Метательница так не считала. Но, привыкая к своим новым товарищам, к их голосам, походке и манерам, она не без внутреннего сомнения и некоторого трепета подумала: что же еще с ними будет, что с ними случится, если даже такие вот передряги они считают рядовыми обстоятельствами?
Но не это было важным, а то, что она снова была не одна, и была она заодно с целой компанией… Пусть даже — с такой вот странной компанией. И осознание этого наполняло ее теплом, спокойствием и уверенностью, что теперь-то все будет пусть и сложно, но… хорошо. Да, решила она, теперь все будет хорошо, в любом случае — куда лучше, чем было до сих пор.


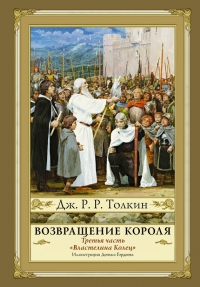

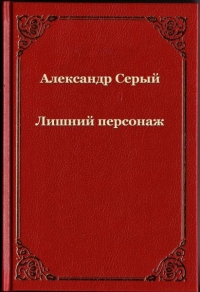

Комментарии к книге «Игра магий», Николай Владленович Басов
Всего 0 комментариев