Шнейдер Наталья Двум смертям не бывать
Глава 1
— Благословляю тебя, сын мой. — Холодная ладонь коснулась лба.
Рамон поднес к губам узкую руку, поднялся с колен. Негромко звякнул доспех.
— Благодарю, матушка. Если позволишь, последняя просьба.
Голова, покрытая черной кисеей чуть склонилась.
— Матушка, когда я… — молодой человек осекся, поморщившись продолжил. — Словом, не ищите тело. Доспехи и оружие наши люди привезут — если будет что привозить. А мне все равно, где лежать.
— Как скажешь.
За длинной вдовьей вуалью не разобрать выражения глаз. Сколько Рамон помнил, лицо матери скрывала эта полупрозрачная ткань. Мальчишкой он мог часами разглядывать портрет на стене зала: молодой человек с рыцарской цепью на груди, рядом совсем юная жена чинно сложила руки на коленях. Отца Рамон не видел никогда.
Он окинул взглядом непривычно тихих двор: детей заперли в комнатах под присмотром нянек, нечего мельтешить под ногами. Встретился глазами с братом, хотел было спросить — не передумал ли. Промолчал. И без того, вон, невестка вцепилась в локоть Рихмера, как будто боится, что сбежит. Чуть поодаль насупившимися галками застыли вдовы старших братьев… бабье царство. Не сбежит от вас Рихмер, духу не хватит, а жаль. Только и останется что еще одна плита с именем в семейном склепе.
Рамон коротко поклонился:
— Прощайте.
Принял у оруженосца шлем, вскочил на коня не дожидаясь, пока парнишка придержит стремя, тронул поводья. По правую руку пристроился Бертовин, кутилье, за спиной выстроились до сей поры молча ждавшие воины копья. Проезжая мост, Рамон оглянулся. Во дворе ничего не изменилось, словно стоящие там люди были статуями.
— Не оглядывайся. Дурная примета. — Проговорил Бертовин.
Рамон усмехнулся:
— Не мужчинам нашего рода бояться дурных примет.
— Знаю. Но ты не один. Люди смотрят.
— А то они не знают, чем дело кончится. Но ты прав: люди смотрят. Я буду помнить об этом.
Какое-то время они ехали молча, лишь мерно чавкали копыта по весенней распутице, да чуть поскрипывали колеса телеги с провиантом. Редкие встречные крестьяне торопливо сворачивали на обочину, низко кланяясь.
— Не жалеешь, что мальчишка с нами едет? — спросил вдруг Рамон. — Чай, не турнир впереди.
— Я уже не ребенок! — вспыхнул оруженосец.
— Был бы в самом деле взрослый, знал бы, что негоже лезть в разговор старших, — отрезал Бертовин. Перевел взгляд на спутника. Медленно проговорил:
— Мой сын нерадив, или сделал что-то, о чем я не знаю?
— Наоборот. Хлодий смышлен и расторопен. Мне было бы жаль сменить такого оруженосца на какого-нибудь высокородного недотепу. Но, повторю: мы все знаем, что едем не на турнир. А у тебя больше нет наследников.
Семью Бертовина два года назад унес мор, изрядно погулявший в этих краях. Сам Рамон тогда лишился жены, которую взял за несколько месяцев до того. На могиле он был лишь во время похорон: кинул горсть земли в раскрытую яму, выслушал молитвы священника вперемешку с причитаниями матери: жаль, что детей не нажили. И ушел, чтобы больше не возвращаться. Он не выносил кладбища. А вот Бертовин у своих бывал частенько.
— Причина только в опасности пути и битвы? — все так же медленно спросил воин. — Или есть другая? Скажем, то, что оруженосец — не юноша знатного рода, как того требует обычай, а сын бастарда твоего деда?
Рамон поморщился:
— Брось. Я же сам взял его в оруженосцы пару лет назад, когда вернулся с запада, хоть матушка и фыркала — мол, лучше бы мальчика из знатного рода взял, связи нужны, то да се. Ты сейчас — старший мужчина в семье, тебе воспитывать моих племянников, и Хлодию, когда заматереет тоже придется возиться с мальчишками… не бабам же растить из них воинов? Я и сейчас уверен, что ему будет полезно вырываться из болота, в которое превратился наш замок, пообтереться в обществе, посмотреть, что да как у других. Да, и привыкнуть к пересудам за спиной, хотя нашей семье прощают многое из того, что никогда бы не сошло с рук всем остальным. Беда только в том, что на войне убивают, не глядя на возраст.
— Скажи-ка, а сколько лет было тебе, когда господин посвятил тебя в рыцари вопреки всем правилам?
— Пятнадцать. Нашел, что в пример взять. Мне деваться некуда было.
— Вот и ему — пятнадцать. — Хмыкнул Бертовин. — Всем нам некуда деваться. И у всех впереди погост. Что ж теперь, всю жизнь только туда и глядеть?
Рамон пожал плечами:
— Ты отец. Поступай, как знаешь.
— Да. И у меня была возможность увидеть, что вырастает из мальчишек, которых слишком оберегают.
Рамон помрачнел:
— Рихмер.
Как бы он ни любил брата, приходилось признать, воином тот был никудышным. Соседи и вовсе относились к Рихмеру и изрядной долей пренебрежения, мол, чего ждать от человека, который не посоветовавшись с маменькой ступить боится? Старшие — те люди как люди, а этот — ни в мать, ни в отца. Не были двойняшки на одно лицо, точно бы про заезжего молодца разговоры пошли. А так… кабы нечисть какая подменила, облик приняв — тогда бы, ясное дело, в церковь зайти не мог, а этот как все, каждую седьмицу. Выходит, в семье не без урода…
До семи лет близнецы были не разлей вода. А когда пришло время отдавать их в ученье, матери стало жаль отпускать от себя младшенького, даром, что младше он был на четверть часа. И сколько ни уговаривал ее Бертовин, воспитывавший этих двоих с рождения, не разлучать братьев, переубедить госпожу не смог. Рамон отправился в столицу пажом к герцогу Авгульфу, Рихмера отдали в замок соседа, престарелого барона.
Следующие десять лет Рамон бывал дома лишь наездами, когда позволял господин. Да еще на похоронах старших братьев. Последние три из этих десяти он и вовсе провел на Западе, сначала сопровождая сюзерена в качестве оруженосца, потом — как полноправный вассал водил копье под его знаменами. Вернувшись, Рамон хотел остаться дома насовсем. Даже женился. Невесту выбрала мать — но какая, в общем, разница? Была бы девица из приличной семьи, да с приданым, за последние пять поколений богатый некогда род изрядно оскудел. Но жена вскоре умерла, а сам Рамон постоянно ощущал себя лишним. То, что в его представлениях считалось доблестью, в глазах матери и брата выглядело нелепой прихотью взрослых детей, сменивших деревянных солдатиков на настоящие армии. И письмо от сюзерена, требовавшего к себе вассалов с трехмесячным запасом провианта, показалось посланием свыше.
Мать, узнав о предстоящем отъезде, лишь молча кивнула.
В последнюю ночь в замке Рамон проснулся от грохота. Откуда-то сами собой вернулись старые привычки, и он скатился с ложа, подхватив лежащий у изголовья нож, раньше, чем вспомнил, кто он и где. Дальше тело снова сработало бездумно: Метнуться на слух к человеку в комнате, уронить, прижать коленом к полу, держа нож у горла…
— Сдурел? — раздался полузадушенный голос брата.
Рамон выругался, убирая колено с его лопаток.
— Какого рожна тебя принесло? Зарезал бы спросонья как куренка…. - он снова ругнулся.
Надо было вечером с вином поаккуратнее, это ж надо, не вспомнить, что и где. Вроде последние два года не водилось за ним привычки просыпаться с ножом в руке, а тут — на тебе! Может, дело было в том, что мыслями Рамон уже был там, на Западе, где из-за любого дерева могла прилететь стрела, а чужой в комнате мог быть только убийцей.
Светца на обычном месте не оказалось, он обнаружился на полу, куда его в потемках смахнул Рихмер. Рамон поднял его, вставил лучину в чугунный расщеп, высек огонь. Повторил, глядя на брата:
— Какого рожна ты тут делаешь?
— Не спится, — буркнул Рихмер, глядя снизу вверх и отчего-то не торопясь подниматься с каменного пола.
— Когда не спится, нужно к бабе под бок, а не по замку шататься. Или она тебя снова из постели выставила?
— Да ну ее. — Брат махнул рукой. — Никуда не денется. Это ведь ты завтра уезжаешь, не она. Останусь тут опять один. В этом бабьем царстве. Пока не помру.
Он встал, пошатнулся, снова едва не смахнув на пол светец оперся о стол:
— Знал бы ты, как я тебе завидую… Руки в ноги — и поминай как звали. А мне тут с этими… расхлебывай.
Только сейчас Рамон сообразил, что от близнеца ощутимо несет хмельным. Вздохнул: похоже, выспаться перед дорогой не получится. Придержал Рихмера за локоть, усаживая на скамью.
— Погоди, сейчас приду. Попрошу, чтобы принесли горло промочить.
Тот мотнул головой, льняные волосы едва не задели огонь:
— Угу.
— Я сейчас. — Повторил Рамон и пошел будить слугу, от всей души надеясь, что пока он ходит, брата успеет сморить хмель. Каждый раз одно и то же: сперва пьяные причитания, мол, как же все это надоело, пора, пора что-то делать, потом отговорки, маменька заругает, жена пилить будет, наутро — то ли притворные, то ли настоящие слова о том, что не помнит, что он ночью молол, да и спьяну чего только нести не начинают.
Он нарочито медленно шел до комнаты, где спали слуги, вместо того, чтобы просто позвонить в колокольчик. Потом ждал, пока слуга принесет хлеб, холодное мясо и пиво, оставшееся с вечера.
Рихмер сидел, опустив лицо на скрещенные на столе руки. Рамон решил было, что брат все-таки уснул, и будить его не стоит, но тот поднял голову, едва слуга вышел, прикрыв за собой дверь.
— Пить будешь? — мрачно поинтересовался Рамон. Не дожидаясь ответа, налил пиво в две кружки, положил ломоть мяса на хлеб.
— Кажется, оставшийся год я не дотяну, — сказал Рихмер, принимая пиво. — Сопьюсь раньше.
— Год?
— Ну да. даже меньше — двадцать нам когда стукнуло?
— Два. Неполных. Но мне легче думать, что два.
— Думай-не думай… — Рихмер опустил кружку. — Авдерик погиб через день после того, как ему исполнилось двадцать один.
— В ту ночь многие погибли. На то она и война.
— Ты видел, как он…?
— Нет. Я тогда изо всех сил пытался не отдать концы и не наложить в штаны. Утром узнал.
Рихмер кивнул. Покрутил кружку между ладоней, вздохнул:
— Видел бы ты, что с матушкой творилось, когда тело привезли. Я грешным делом думал — рассудком повредилась. Вызвала меня от господина, а как приехал — вцепилась, ни на шаг не отпускает. Барон приехал обратно просить, она в ноги кинулась — мол, не забирай младшенького, старшие в чужих краях, хоть один в горе опорой будет. Чуть со стыда не сдох.
— А что барон? — поинтересовался Рамон.
— А что барон? Помялся-помялся, да и согласился. Так и остался при мамкиной юбке.
— Ты раньше об этом не рассказывал.
— А ты не спрашивал. — Рихмер заглянул в опустевшую кружку, потянулся за кувшином. — А когда про Лейдебода весть пришла, совсем плохо стало. Матушка, видать, все семейные хроники подняла, и началось. На реку нельзя, утонешь. На охоту нельзя — зверь загрызет.
Рамон хмыкнул:
— Книжки читать не запретила? А то двоюродный дед, если не врут, книгу на ногу уронил, оковкой рассадил, через неделю от горячки умер.
— Тебе смешно. А я не знал, куда от соседей деваться. Зовут то в гости, то на охоту, а я мямлю, точно красна девица — мол, маменьке плохо, в другой раз.
— Так не мямлил бы. Встал да уехал.
— Я однажды попробовал. Чуть не сутки прорыдала, пришлось за лекарем посылать, испугались, что нервная горячка случится.
— Да ладно тебе. Она, говорят, ни на одних похоронах не плакала. Что над мужем, что над сыновьями — ни слезинки.
— Вот тебе и ладно. — Вздохнул Рихмер. — Какое там «уехал», шагу боюсь ступить.
Его брат помолчал, медленно выстукивая пальцами по столу неведомую мелодию. Подался вперед:
— Собирайся. Завтра поедешь со мной. Или сгниешь в этом болоте.
— Тебе легко говорить. Ты-то свободен.
Рамон усмехнулся:
— Свободен? Просто до меня никому нет дела. Вот и вся цена той свободе. Но если то, что она сделала с тобой, называется любовью — в гробу я видал такую «любовь». Собирайся. Третий раз предлагать не буду.
Рихмер опустил голову:
— Не могу. Спокойной ночи, брат.
Замок стоял не одном из холмов, окружавших огромную зеленую чашу долины. Дорога шла по дну чаши среди клочков крестьянских полей, потом снова поднималась, кружа между холмами а после пряталась в лес.
Рамон со спутниками ехали под низкими ветвями. Дорога здесь казалась нехоженой, да она и была такой в это время года, когда пора весенних ярмарок еще не наступила. Именно поэтому Бертовин обратил внимание на две цепочки следов, четко выделяющиеся в мокрой грязи. Следы сворачивали в самую гущу леса.
Всадник придержал коня, спешился. Увидев вопросительный взгляд Рамона, негромко проговорил:
— Проверю. Некому в это время по лесу шастать.
Рамон кивнул. За дровами его крестьяне могли ходить лишь на особо отведенные делянки. И то среди соседей разрешение рубить дрова в господском лесу считалось неслыханным послаблением. Правду сказать, таких богатых лесов на соседских землях не было, там господа сами дрова покупали на вес.
Бертовин с парой спутников исчез среди подлеска, Рамон остался ждать. Долго скучать не пришлось: люди выволокли на дорогу парня и девушку.
Рамон хмыкнул было: мол, заняться вам нечем, пусть их резвятся. Но следом за парочкой один из людей вынес наполовину ободранную косулю.
— Так. — Произнес рыцарь, в упор глядя на парня. — Ты знаешь, что бывает с браконьерами? Девку-то зачем с собой потащил — больше посторожить некому было?
Крестьянин плюхнулся на колени:
— Не виноват я, господин. Мы в лес по другому делу шли. Свадьба осенью… дожидаться что ли? А тут — в силках, дохлая уже… не утерпел, не пропадать же мясу. Пощади, господин.
— Дохлая, говоришь? — Рамон вопросительно посмотрел на Бертовина.
— Врет. — Жестко ответил тот. — Да сам посмотри: у нее горло перерезано. И теплая совсем.
Рыцарь не поленился спешиться, склонился к туше, сняв перчатку, прикоснулся к еще покрытой шкурой ноге. Выпрямился, пристально посмотрел на парня:
— Ну?
— Это не я! Мы на поляну вышли. Там человек какой-то был. Увидел нас, нож бросил и убежал. — Парень пополз на коленях, норовя обнять ноги. Господин, пощади!
Рамон брезгливо отодвинулся.
— А шнур для силков тебе в мошну тоже какой-то человек подкинул? — поинтересовался Бертовин.
Крестьянин схватился за поясной кошель и понял, что попался. Взвыл, рухнул ниц.
— Девку-то зачем взял? — повторил Рамон. — Сторожить? Неужели больше некому было? Или впрямь думал, отговориться — мол, до свадьбы не дотерпели, а дома негде?
Не дожидаясь ответа, подошел к девушке, приподнял за подбородок, заглянул в лицо. Видно было, что ей понадобилось усилие, чтобы не шарахнуться прочь.
— Он и в самом деле твой жених?
— Да господин. — Прошелестела она.
Рамон перевел взгляд на парня:
— Отдай ее мне.
Девушка дернулась и тут же замерла, остановленная жесткой рукой.
— Будет ласкова — глядишь, и смилостивлюсь. — Медленно проговорил рыцарь, не отрывая взгляд от перемазанного грязью, поросшего редкой бородкой лица.
— Забирай, господин, — вскинулся тот. — Делай что хочешь, только пощади!
Рамон долго молчал. Потом отпустил девичий подбородок, шагнул к парню.
— Что ты за мужчина, если готов откупиться честью своей женщины? Бертовин, этого — повесить. Она пусть идет.
— Господин! — теперь в ноги кинулась девушка. — Я буду ласковой, господин! Только отпусти его! Я сделаю все, что ты скажешь!
— Уходи. — Отчеканил Рамон. — И быстро. Иначе мне, чего доброго, взбредет в голову отдать тебя моим людям.
Она охнула, подхватилась с колен, порскнула прочь. Двое подняли упирающегося парня, поволокли к дереву.
— Да чтоб ты сдох, сволочь!
— Сдохну. — ответил рыцарь. — Но позже, чем ты.
За спиной шевельнулся оруженосец:
— Рамон… господин, я прошу о милосердии.
— Нет. — Не оборачиваясь, ответил тот.
Рамон взобрался в седло, тронул поводья, не дожидаясь, пока повисшее на веревке тело перестанет дергаться. Когда ветви деревьев скрыли повешенного, придержал коня, в упор глядя на оруженосца.
— Ты говорил о милосердии. Так вот, то, о чем ты просил — это не милосердие. Он нарушил закон. Спусти это один раз, настанет и другой. И нас просто сожрут. Ты понял?
— Да. Но… зачем ты издевался над ним? Если ты не собирался его отпускать, зачем предлагал откупиться девчонкой?
Рамон усмехнулся.
— Хотел, чтобы ты увидел, до чего может дойти человек, пуще всего на свете ценящий свою жизнь. Увидел, и запомнил.
Глава 2
О приближении лагеря Рамон со спутниками узнали загодя. Раскинувшиеся в низине у излучины реки шатры с реющими по ветру штандартами были издалека видны с окрестных холмов. По мере того, как они приближались, становились слышен многоголосый гомон, лай собак, конское ржание.
— А где часовые? — изумился Хлодий, когда они подъехали к одним из распахнутых настежь ворот в не слишком тщательно сооруженном частоколе.
— Какие часовые? — хмыкнул Рамон. — Мы в своей стране. На западе все будет по-другому. А пока ждем, когда все подтянутся, да в пути… сущий бордель на марше.
Словно в подтверждение его слов за ближайшим полотнищем раздалась площадная брань. Из палатки вылетела рыдающая простоволосая девка, бросилась прочь.
Бертовин проводил ее взглядом.
— Госпожи здесь нет, мигом бы порядок навела.
— Только ее тут и не хватает, — проворчал Рамон. — Ладно, бери сына, идите за герольдом маркиза, пусть покажет, где становиться. А мы пока здесь подождем.
Искать герольда долго не пришлось — его шатер стоял недалеко от стяга возглавляющего войска маркиза, младшего сына герцога Авгульфа и его наместника на этих землях — до тех пор, пока старший сын сопровождал отца в походах. Человек в цветах герцога показал Бертовину площадку, отведенную для Рамона и его копья, дождался, пока оруженосец сходит за господином, поклонился:
— Маркиз хочет видеть вас у себя. В любое время, когда вы сочтете нужным.
— Хорошо. — Кивнул Рамон. — Тогда передай, что я сейчас.
Он обернулся к своим людям:
— Устраивайтесь тут. Хлодий, меня не дожидайся. Когда вернусь — не знаю.
Он огляделся, приметил штандарт маркиза и направился к нему, стараясь не потерять стяг из виду. Вскоре показался и шатер из крашеной в цвета герба — золото и чернь — ткани. При появлении Рамона стоящий у полога латник поклонился:
— Вас ждут.
Рыцарь кивнул, шагнул за полотнище. Отвесил строго предписанный этикетом поклон.
— С каких это пор ты начал мне кланяться? — поинтересовался маркиз.
Рамон выпрямился, поднял взгляд на смеющееся лицо, улыбнулся в ответ:
— Да кто тебя знает: за два года мог и вспомнить, что я как-никак твой вассал.
— Во первых, моего отца. Я хоть и его наместник на этих землях, но все же не он. А во-вторых, брось эти церемонии. Здравствуй. Я скучал по тебе.
— Здравствуй, Дагоберт.
Молодые люди обнялись.
— Садись, — продолжал маркиз. — Погоди, сейчас распоряжусь, чтобы принесли вина и больше никого не пускали. Рассказывай.
Рамон принял кубок у слуги, пожал плечами:
— Да не о чем рассказывать. Приехал. Отобрал у матушки дела. Никого не видел, ни о ком не слышал. Потом письмо пришло от герцога. Собрался и поехал.
— Я думал, останешься дома, кого из вассалов отправишь. Или щитовые деньги пришлешь.
— Щитовые я сам собрал. — ухмыльнулся Рамон. — Пригодятся. А вассалы… не больно-то и рвались после прошлого раза. Пусть их.
— Решил, значит, сам. Я бы отказался от дороги в один конец.
— Ну да, лучше сгнить в стенах замка. Фамильный склеп, безутешные родичи, которые не проронят и слезинки. Убитая горем мать, которая после смерти сыновей немедленно спровадит невесток в монастырь, как уже проделала это со снохами. Пусть без меня развлекаются. Не над моим телом. — Он поморщился, потом через силу улыбнулся: — Ладно, все это неинтересно. Считай, что я просто поскупился на золото. Лучше сам расскажи, ты ведь только что с запада. Как там?
— Не поверишь: тихо. В городе тихо. За стенами пошаливают, как без этого. Ничего, доплывем, мигом присмиреют.
Рамон скептически хмыкнул: не слишком-то ему верилось в присмиревших язычников.
— Как там герцог?
— Жив-здоров нашими молитвами. Тебе каждую седьмицу здравицу заказывает.
— Серьезно?
— Нет, вру. — Фыркнул Дагоберт. — И не притворяйся, будто не понимаешь, чем он тебе обязан.
Рамон пожал плечами:
— Можно подумать, у меня был выбор.
Он умолк: вспоминать не хотелось. Впрочем, когда это память считалась с чьими-то желаниями?
Город стоял в устье реки. На северном берегу — крепость, на южном — высокая башня. Еще одна башня высилась на маленьком островке посреди медленно текущей к морю мутной воды.
Город осаждали уже два года. Оставить его позади и двигаться дальше было сущим самоубийством — ведь Аген закрывал единственный пусть из моря вглубь континента. Реку перегораживали толстые цепи, натянутые между башнями. Как оставить за спиной хорошо вооруженную крепость, которая не пропустит ни одного корабля?
По дороге сюда, Рамон думал, что война — это битвы, каждодневные подвиги и слава, как же без нее. Но оказалось, что война — это неистребимая скука.
Дел у оруженосца герцога было достаточно: оружие, доспех, конь — но все это было рутинно и буднично, занимая время, но не мысли. Полгода, пока шли непрерывные бои за западную башню Авгульф не вмешивался в сражение, предпочитая, как и полагается полководцу, руководить издалека. Наконец башня пала, герцог собрался штурмовать остров с кораблей. Рамон обрадовался было — но и в это раз сражение обошлось без него и господина — ведь трудно назвать боем ожидание на корабельной палубе.
Он думал, что после падения башни войско двинется вглубь страны — не тут-то было. Герцог не хотел возвращать с таким трудом отвоеванный проход по реке язычникам. Мало-помалу его армия занимала северный берег — но снова и снова и снова оруженосцу оставалось лишь наблюдать за боем издалека. Ничего не изменилось и когда войска герцога переправились через реку, полностью отрезав Аген от остального мира.
Если бы не брат, Рамон бы свихнулся от скуки. Авдерик заглядывал по вечерам на часок, вытаскивал (с разрешения господина, конечно), парня в свой шатер, рассказывал об очередном бое, который Рамон видел только издали, а то и вовсе не видел. Рыцари, правда, сами тоже не карабкались по штурмовым лестницам, на то есть пехота из простолюдинов. Всадники отбивали атаки войск, приходивших на помощь осажденным, охраняя лагерь. Но оруженосец герцога был лишен и этих сражений.
Странно, но именно здесь, в чужой стране братья стали ближе, чем было все предыдущие годы. Наверное, дело было в том, что они впервые оказались вместе. Авдерик, как это водилось во всех хороших семьях, едва исполнилось семь лет покинул дом, отданный на воспитание в более знатный род. С тех пор он возвращался ненадолго, даже женитьба не смогла привязать юношу к родным стенам. Трудно испытывать какие-то чувства к девице, которую впервые увидел за две недели до свадьбы. Авдерик смеялся, говоря, что для забав есть доступные женщины, а супружеский долг следует исполнять редко, но метко. И в самом деле: как ни заедет домой, так через девять месяцев пацан. Правда, как только речь заходила о сыновьях, он мрачнел и враз менял тему. Рамон как-то спросил, почему, на что брат резко ответил, мол, своих парней заведешь — поймешь, а не поймешь — тебе же лучше.
С Авдериком скучать не приходилось. С ним можно было посреди ночи отправиться ловить рыбу, конечно, ничего не поймать, но зато до одури накупаться в чуть парящей воде. Потом сидеть рядом у костра, напевая услышанную где-то песню, а то и вовсе отправиться к кострам наемников слушать их байки. С братом не нужно было постоянно следить за манерами и речью, как того требовала матушка. С ним не нужно было изображать скромность и услужливость, как полагалось делать оруженосцу рядом с господином. Рядом с Авдериком можно было просто жить, не оглядываясь ни на что.
В тот вечер Рамон, в очередной раз вернулся поздно. Полстакана вина не хватило для того, чтобы опьянеть, но в сон непривычного к выпивке парня клонило изрядно. Вопреки обычному, он завалился в постель одетым: возиться в темноте с завязками и шнурками было слишком муторно, а зажигать огонь и будить герцога Рамону не хотелось.
Казалось, он сомкнул веки лишь на миг, когда вокруг разверзся ад. Крики, звук рогов, лязг железа о железо, Рамон вскочил, спросонья налетел на господина, опомнился, схватился за доспех. Успел подать герцогу гамбезон и кольчугу, помог надеть шлем. Сам влезть в броню не успел — успел только подхватить меч и вылететь из шатра вслед за господином.
В кромешной тьме были видны лишь мечущиеся силуэты: пешие, конные, где свои, где язычники — не разобрать. Герцог выкрикивал какие-то приказы, вокруг появились воины — большинство лиц казалось смутно знакомыми. Потом на них откуда-то вылетели всадники.
Позже, как ни старался Рамон, он так и не мог вспомнить, что делал в ту ночь. Помнил только крики, и обжигающее железо чужого клинка, помнил, как воинов вокруг становилось все меньше, как упал господин. Помнил сжимающий нутро страх и желание исчезнуть — куда угодно, только подальше отсюда. Но бежать было некуда, да и немыслимо было бросить господина… Рамон не знал, жив тот или нет, но невозможно, никак невозможно было оставить врагам даже мертвое тело. Бежать было некуда, и оставался лишь тяжелеющий с каждым ударом меч. Потом он понял, что остался один и что, кажется, станет первым мужчиной в их роду за последние пять поколений, который погиб, не дожив до двадцати одного.
А потом все кончилось. Налетевшая откуда-то с другого края лагеря волна успевших оседлать коней воинов смела язычников, погнала их назад, оставив растерянного мальчишку среди тел.
Этой ночью пять сотен язычников попытались прорваться в осажденный город. Они успели разнести частокол, пронеслись по спящему лагерю убивая всех на пути. И сложили головы — все до единого.
Днем, когда Рамон, все еще оглушенный, сидел у постели бесчувственного господина, в шатер зашел Бертовин. Поклонился стражникам, попросил отпустить оруженосца. Рамон откинул полог, шагнул на свет. Вокруг не осталось и следа ночного побоища — за полдня тела стаскали в ров, не забыв обобрать мертвых.
— Что случилось? — спросил Рамон.
— Пойдем. — Бертовин вгляделся в лицо парня. — Как ты?
Рамон пожал плечами, поморщился. Он не знал, «как». Болел раненый бок: лекарь сказал, что парню очень повезло, еще бы чуть-чуть — и кишки наружу, а так — заживет. Саднил здоровенный синяк на плече, ныла сломанная рука, затянутая в лубок. Но хуже всего было затопившее душу вязкое безразличие. Как будто все чувства остались в прошлой ночи, наполненной смертью.
— Что случилось? — снова спросил он.
— Пойдем.
Он зашел вслед за Бертовином в шатер и замер, не понимая. Вгляделся в том, что лежало на ложе, перевел взор на воина.
— Подожди. Неправда. Ведь еще рано.
Бертовин молча покачал головой.
— Подожди… — повторил юноша. — Какое сегодня число?
В их роду не было принято отмечать дни рождения.
— Позавчера. — Медленно проговорил Бертовин. — Позавчера ему исполнился двадцать один год.
Рамон мотнул головой, отгоняя воспоминания.
— Я делал то, что должен. Не более. И не менее.
— Ну-ну. С каких это пор ты научился прикидываться скромником?
— Да не прикидываюсь я! Так всегда бывает — делай, что должно, и все получится само собой.
Дагоберт опер подбородок о скрещенные пальцы:
— Хотел бы я, чтобы и у меня «сама собой» в пятнадцать лет появилась рыцарская цепь и спасенная прекрасная дева.
— Какая прекрасная дева? — опешил Рамон.
— А Лия — мальчик?
— Сдурел? Она ж дитя совсем!
Маркиз расхохотался:
— Очнись, это дитятко вошло в брачный возраст!
— Погоди. Ей сейчас должно быть… забыл, лет шестнадцать? — Рамон покачал головой. — Любопытно будет посмотреть. Она обещала вырасти красавицей.
— Она и выросла красавицей. Толку-то? Свои считают эту семью предателями, наши — чужаками. Разве что ты не дашь в девках помереть.
— Отвяжись. Хватит с меня одной женитьбы.
— Так для этого дела жениться необязательно — ухмыльнулся Дагобер. — Или еще и праведником решил заделаться?
— Да иди ты…
— Замечательно. Значит, вечером составишь мне компанию: кроме девок в этой глуши развлечений никаких. Если хочешь, можешь кого-то из своих парней взять: веселее будет. Или этого блаженного, Эдгара.
— Его-то каким ветром принесло?
— Так папенька мой жениться надумал. На дочери короля Белона. Приведет в дом маменьку помладше меня.
— А Эдгар здесь каким боком?
— А он ее истинной вере перед свадьбой обучать будет. Церковный синклит потребовал: дадут разрешение на женитьбу, только если невеста примет истинную веру и душой и разумом. Совсем свихнулись: учить женщину богословию. В подробности я не вдавался, если интересно, спросишь у этого малахольного.
— Угу. — Рассеянно ответил Рамон. Признаться, до женитьбы сюзерена ему не было никакого дела. А вот повидать Эдгара…
— Ладно — Дагобер поднялся. — Вижу, ты с дороги и собеседник неважный. Вечером приходи.
— Непременно. — Хмыкнул Рамон.
Палатка Эдгара стояла неподалеку, на выделенном для свиты маркиза месте. Рамон, на правах давнего знакомого не стал окликать снаружи, а просто вошел. Шатер оказался пустым.
Рамон увидел расстеленный на земле рядом с небольшим сундуком плащ, хмыкнул — парень, похоже, так и продолжает жить в аскезе. Окинул взглядом складной стул и такой, же, походный стол, с лежащим на нем раскрытым молитвенником. Эдгар как всегда витает где-то в облаках, совершенно не задумываясь о том, что книга даже в простой кожаной обложке стоит полдюжины овец, а по лагерю болтается толпа народа, включающая приблудных бродяг и гулящих девок. Сперва стащат, потом поймут, что поблизости не продать том в серебряном окладе, инкрустированном рубинами.
Молитвенник этот Рамон подарил Эдгару два года назад, когда тот приехал на каникулы. Матушка, помнится, когда узнала, устроила скандал: вещь, принадлежавшая отцу и старшему брату, по ее мнению, не должны была достаться «этому». Эдгара она откровенно недолюбливала — впрочем, не у всякой женщины хватит сил постоянно терпеть в доме живое свидетельство неверности мужа, даже если в подобных вещах у нее нет права голоса. Надо отдать ей должное: грамоте Эдгара учили наравне с другими детьми, а когда наставник заметил, что парень способен к наукам, его тут же отправили в столичную школу. Там быстро приметили «остропонятливого» ученика, и дальше путь был предначертан: университет, сан — без него карьеру ученого не сделать — степень. Или, как вышло у Эдгара — ученая степень и лишь потом принятие сана. Рамон искренне не понимал, ради чего нужно отрекаться от жизни. Эдгар пытался объяснить, что только после пострига и начнется настоящая жизнь, полная любви и служения, но так и не преуспел, в конце концов обозвав Рамона «упертым язычником». Тот фыркнул, сообщил, что оголтелому фанатику все кругом кажутся язычниками. И что если бы господь и в самом деле хотел бы, чтобы его дети отреклись от всех плотских радостей, то он создал бы их бесполыми и не имеющими рта… ну и прочих органов, которые очищают тело от того, что остается в нем после любого чревоугодия. И, да, мозгов бы он их тоже лишил, ибо всякий грех прежде всего порождение сладострастного разума. Эдгар начал было возмущаться, но увидев, что «упертый язычник» откровенно хохочет, рассмеялся вместе с ним. Больше они эту тему не трогали.
Когда Рамон дарил молитвенник, он не стал рассказывать о том, что в последний раз держал его в руках в пятнадцать лет. В ночь, перед посвящением.
Господин выздоравливал на удивление быстро. Лекари в один голос твердили, что когда он начал садиться, любой другой еще лежал бы пластом. В день, когда он впервые смог сделать несколько шагов без посторонней помощи, герцог позвал оруженосца для разговора с глазу на глаз. И приказал готовиться к посвящению. Поначалу, Рамон даже не понял, о чем речь. Все время после гибели брата он ходил словно оглушенный. Бертовин занимался похоронами, потом искал людей, способных заменить трех погибших пехотинцев из его копья среди тех, кто остался без господина и не знал, куда теперь податься; потом натаскивал новичков. Господин болел. И до оруженосца снова никому не было дела. Но если раньше Рамон не знал, куда себя деть, то теперь он часами просиживал в шатре, глядя в одну точку и изо всех сил пытаясь не вспоминать крики в кажущейся бесконечной ночи, темноту и запахи… разрубленное надвое тело пахнет точь-в-точь как свежеразделанная туша. И лицо брата — точнее, то, что от него осталось после лошадиных копыт.
Когда до него, наконец, дошло, что именно приказывает господин, Рамон просто опешил. Конечно, он знал, что когда-нибудь настанет великий день… но не так же скоро! Почему-то сейчас посвящение казалось совсем неуместным и вместо радости пришло лишь недоумение.
— Шпоры и цепь с меня — продолжал меж тем герцог. — Копье Авдерика цело?
— Да, господин.
— Меч, щит, доспех и конь у тебя есть, редкость по нынешним временам. Сегодня герольд объявит, через три дня проведем посвящение. Примешь под командование людей брата — все лучше, чем наемников искать. Да, ты ведь сейчас старший мужчина в роду?
Рамон кивнул.
Значит, соберешь своих вассалов и примешь у них присягу. Сколько их осталось?
Юноша пожал плечами — он не знал.
— Плохо, что не знаешь. Разберись.
— Да. господин.
— Ты не рад?
Рамон честно попытался найти в душе хоть малую толику радости. Не получилось.
— Не знаю. Кажется, я недостоин такой чести, господин.
— Мне решать, достоин ты или нет, — отрезал Авгульф. — Ступай.
В тот же день, по приказу герцога Рамон перебрался в шатер брата — ведь своего у него пока не было, оруженосец делил шатер с господином. Бертовин, узнав о грядущем посвящении обрадовался, начал было поздравлять, но увидев безучастное лицо воспитанника, быстро смолк.
Три дня строгого поста прошли как в тумане. Вечером накануне посвящения оруженосца обрядили в белоснежное сюрко (и где только Бертовин его раздобыл), и отвели в церковь. Рамон подошел к алтарю, преклонил колени, держа в руках молитвенник. За спиной тяжело стукнула дверь и юноша остался один.
Церковь возводили на скорую руку из дерева, росшего здесь в изобилии. Но спешка дала о себе знать: в стенах не стали прорезать окна, тем более ставить витражи и, несмотря на то, что на улице было еще светло, внутри стояла тьма, рассеиваемая лишь пламенем стоящих у алтаря свечей. В неровном свете еще не до конца расписанные фрески на стенах были почти не видны, и фигуры святых то появлялись из тьмы, то снова прятались во мраке, а выражения их лиц, казалось, меняются, словно у живых.
Согласно канону, оруженосец должен был провести ночь перед посвящением в неустанной молитве и размышлениях о чести и доблести. Рамон попытался было прочесть молитву, но память наотрез отказывалась подсказать, казалось бы, накрепко затверженные, повторяемые каждый день строки. Юноша раскрыл молитвенник, перелистал страницы. Канон требовал покаяния, и Рамон послушно начал:
— Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. Ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною…
Голос гулко отдавался в пустой церкви, возвращался эхом от стен.
— Тебе, единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот, Ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость Твою. Окропи меня иссопом, и буду чист; омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселие…
Сколько раз он повторял эту молитву, а сегодня впервые затверженные когда-то слова обрели смысл, и смысл этот никак не хотел ложиться на душу. И дело было не в радости и веселии, которые никак не хотели возвращаться. Просто… просто все было неправильно.
— Господи, — прошептал Рамон. — Господи, скажи: за что? Ты говорил: единожды согреши и будет проклят род твой до девятого колена и падут грехи отцов на детей безвинных. Но может ли быть так, что ведьма, порождение нечистого, исполнила волю твою?
Слезы застили глаза, и, казалось, святые сходили со стен, окружали, осуждающе качали суровыми ликами.
— А если то не воля твоя, господи, то почему ты допускаешь это? Почему брат мой заплатил за грех предка, как и мой отец, и отец моего отца, и… и как в свой черед заплачу я. Если ты благ и человеколюбец — тогда зачем все это? А если жизнь земная ничто по сравнению с жизнью вечной — то зачем ты дал нам ее?
Серая пустота, которая заполняла мир с той памятной ночи исчезла.
— Господи, прости меня, — сказал Рамон. — Я не могу молиться: слова без души пусты. Прости.
И медленным речитативом затянул совсем другое: песню, что они с Авдериком вскладчину купили в порту перед отплытием в эти земли. Ее пел оборванный менестрель и, боясь забыть, они заплатили певцу за то, чтобы тот продиктовал им строку за строкой.
Первые строфы тоже ускользали из памяти, но сейчас это было неважно. Ничего не было важно.
— Так скачи же все дальше, все ближе к безбрежной тьме, так скачи вместе с ветром, не спрашивай ни о чем. Я немного могу тебе дать — как раньше, так и теперь, — но пускай бескрайнее небо станет твоим щитом. Или лучше ключом, — если сможешь увидеть свет, нисходящий поток средь низких бедовых туч. И причем тут я, — я молюсь, говорю, поверь, — он не слепит, не жжет ладоней — тот самый луч, и не бойся, и кто там ждет на той стороне, лишь тебе известно, — но я за тебя молюсь.
Я боюсь, что тебе одиноко там, в темноте, но какая разница, впрочем, — чего боюсь?
А потом кончились и слова и молитвы, осталась лишь тьма и суровые лики святых вокруг.
Наутро, Рамон, словно в полусне принял цепь и шпоры, выдержал ритуальную пощечину, снес копьем соломенное чучело и честно высидел пир в честь нового рыцаря. Когда, наконец, все начали расходиться, вернулся в шатер брата, упал ничком на ложе. Поднял голову, услышав шаги.
Бертовин опустился на одно колено, склонил голову:
— Господин.
— Я не смогу, — прошептал Рамон. — Я не знаю, что дальше. Зачем все это, если все равно…
— У меня нет ответа «зачем»- Бертовин заглянул воспитаннику в глаза. — Каждый решает это сам. Но я знаю, что не все равно. Я был горд службой у такого человека, как твой брат. Теперь мой господин — ты, и от тебя зависит, смогу ли я гордиться службой тебе. Если, конечно, прежде не прогонишь прочь. Примешь ли ты мою службу — и мою помощь?
Рамон кивнул, судорожно вздохнул и, наконец, заплакал.
Здравствуй. Глупо писать, когда не прошло и часа с твоего отъезда. Еще глупее я себя чувствую, когда вспоминаю, сколько времени будет идти письмо — и дойдет ли вообще. Что ж, пусть это будет заменой дневнику, который я спалил после того, как матушка сунула туда нос. До сих пор помню это пакостное ощущение, даже не столько от того, что твердо знаешь — рано или поздно тебя прицельно пнут по самому больному… всему что ты написал, а она прочла. Даже не предвкушение неизбежности, а чувство, будто тебя раздели перед толпой. Не знаю, поймешь ли ты — кажется, ты никогда не вел дневник. Не было нужды или тоже боялся, что кто-то прочтет?
До чего же странно все выходит: если верить байкам про близнецов, мы с тобой должны были бы быть самыми близкими людьми, а на самом деле я почти ничего про тебя не знаю. Наверное, я сам виноват, что так получилось. Все эти годы я отчаянно тебе завидовал. Твоему умению обращаться с оружием… я ведь так толком и не освоил это искусство. Нет, доведись сейчас доказывать свое владение семью рыцарскими искусствами, я бы справился — но настоящих высот мне не достичь никогда. Твоей способности решать не только за себя, но и за других — ты даже смог заставить мать уступить тебе право заниматься делами, как и положено настоящему главе семьи — хотя хоть убей, не могу понять, неужели все эти налоги, собранная пшеница и поголовье овец и в самом деле может быть интересным. Твоей свободе. Да, я помню, что ты сказал ночью. Но знаешь, я бы отдал полжизни из того немногого что мне осталось даже за такую свободу. Я слишком устал быть чужим смыслом жизни.
Знаешь, я почти ненавидел тебя. За то, что в твоих глазах я был никем. О да, ты умеешь ценить как искусство воина, так и глубину познаний ученого — не знаю, когда ты успел этому научиться. Но воин из меня никудышный, а эрудиция — отнюдь не замена острому уму. И я готов был ненавидеть тебя за то, что не обладаю тем, что ты привык ценить в других.
Ты уезжал с лицом человека, сбросившего с души тяжкую ношу. Как будто впереди — лишь победа и слава, а смерти… смерти нет.
Мне стыдно. Прости.
Рихмер.
Глава 3
Эдгар шел пустынными коридорами университета. Близился вечер, неугомонные студиозусы давно разошлись по домам. Эдгар любил это время: в древних стенах воцарялась тишина, какая и должны быть в истинной обители знаний, сквозь разноцветные витражи падали последние солнечные лучи, превращая каменные коридоры и мрачные залы в сияющие чертоги. В такое время хорошо читать или молиться.
Вызов ректора сам по себе ничего не значил. Может, старому чревоугоднику просто хотелось посидеть за бутылочкой вина и ученой беседой. А может, решил обсудить новую главу диссертации, которую Эдгар оставил ему на днях. Ректор благоволил молодому ученому еще с тех пор, когда сам был всего лишь одним из преподавателей, заметивших смышленого мальчишку. Эдгар, в свою очередь, прекрасно понимал, что стремительной карьерой обязан не только собственному уму.
Ректор, был не один. Вопреки обыкновению, он выглядел задумчивым и отнюдь не благодушным. Приняв поклон молодого человека, велел ему сесть и завел долгую тираду о крепости веры и послушанию воле господа. Эдгар озадаченно внимал, почтительно кивая — раньше за стариком не водилось обыкновения читать душеспасительные проповеди торжественно-напыщенным тоном. Наверняка для гостя старается — только кто он? Простая сутана без каких-либо знаков сана, изучающий, цепкий взгляд — под этим взглядом юноше стало неуютно.
— Окстись, Сегимер. — Прервал вдруг гость излияния ректора. — Погоди с проповедью до конца седьмицы. Ты говорил, что юноша умен и благочестив, этого довольно.
— Он мой лучший ученик.
— Тем более. — незнакомец обернулся к Эдгару.
— Ты уже читаешь лекции студиозусам. Как думаешь, сможешь ли научить хотя бы основам богословия женщину?
Эдгар опешил.
— Но зачем? С них довольно и грамотности. Впрочем… моей приемной матушке, наверное, смог бы объяснить не только основы. А юной деве, у которой одни женихи на уме — не уверен.
— Не знаю, что на уме у дочери короля Белона, — усмехнулся гость. — Но объяснять тебе придется ей. Возьмешься?
— Но они же язычники!
— И притом погрязшие в разврате. Но девушка — невеста герцога Авгульфа, который вот-вот провозгласит себя королем на завоеванных землях. Стремление, между нами, понятное, раз уж ему, как младшему сыну не досталось короны здесь, он решил завоевать ее сам и, что похвально, не ценой крови собственной родни. Союз в высшей степени выгодный, но понтифик даст герцогу согласие на повторный брак только если невеста примет нашу веру.
— Но почему я? Почему не кто-то из ученых мужей?
— Потому что король Белона — упрямый подозрительный болван! — отрезал гость. — Он отверг все кандидатуры, заявив, что церковных иерархов на его земле не будет ни при каких условиях и потребовал «кого-нибудь неизвестного». А ты сам знаешь, что чем выше ученая степень, тем выше сан. Так что, — он развел руками, изобразив на лице доверчивую улыбку. — Выбирать нам, по сути дела, не из кого. Ты единственный, кто сумел защититься, не достигнув возраста, когда разрешено принять сан. И, надо сказать, разрешение провести защиту твоей диссертации давал сам понтифик.
Эдгар перевел взгляд на ректора, тот кивнул.
— Сегимер, неужели ты ему не сказал? — развеселился гость. — Не похоже на тебя, совсем не похоже.
— Много ты понимаешь, — фыркнул ректор. — Не в моих правилах забивать головы ученикам всякими мелочами. Их дело — наука, мое — чтобы они могли заниматься изысканиями не оглядываясь на внешние обстоятельства. Впрочем, мы отклонились от темы.
— Действительно. Ну так, Эдгар, ты согласен?
Юноша кивнул прежде, чем в полной мере осознал, на что соглашается. Впрочем, нет худа без добра: он иногда размышлял о людях, рискнувших нести свет истинной веры в чужие земли, размышлял с тем легким оттенком зависти, который всегда присущ сознанию того, что самому такие подвиги не под силу. Вот и посмотрим, под силу ли.
— Сколько лет девушке? — поинтересовался Эдгар.
— Пятнадцать. Разум юной девы — что чистый лист, и от тебя будет зависеть, чем он наполнится. Ступай, завтра вечером за тобой пришлют.
Эдгар молча поклонился и вышел. Вернувшись в свою комнату, Эдгар взял со стола молитвенник и опустился на колени. Не то чтобы молодой человек преисполнился важности доверенного ему — трудно пока думать о чем-то конкретном. Завтра будет еще целый день, он найдет время поговорить с наставником, а приехав на место, посмотрит на ученицу, скорее всего ей не под силу окажется ничего сложнее катехизиса. Но почему-то было неспокойно, а молитва всегда была для Эдгара лучшим способом вернуть душевное равновесие. Он знал, что господь слышит его, и порой отвечает. Нет, не словами, упаси боже от такого кощунства — но как иначе объяснить нисходящий в душу мир и покой?
Он раскрыл молитвенник. на самом деле, в книге он давно не нуждался, просто приятно было каждый раз держать в руках подарок человека, которого он никогда не осмелится назвать братом. Незаконнорожденный — никто, неважно, признан он или нет, он не имеет права наследовать титул и земли, даже если родители поженились после его рождения, что уж говорить о прижитом от крестьянки? И Эдгар был благодарен даже за ту холодную заботу, что видел от приемной матери. А искренняя симпатия Рамона казалась, невероятной, незаслуженной, что уж говорить о драгоценных подарках?
Как всегда после молитвы стало легко и покойно. Не о чем волноваться — все случится по воле божией.
На следующий день он поговорил с наставником, получил кучу нужных и ненужных напутствий и с легким сердцем отправился в путь.
Откинув полог, Эдгар на миг застыл, увидев чужого, но тут же расслабился, едва человек обернулся. Улыбнулся, протянул руку:
— Здравствуй.
— Здравствуй. — Рамон пожал протянутую ладонь, бережно опустил на стол молитвенник.
— Давно ждешь? Ты с дороги? Голоден?
— Не мельтеши, — хмыкнул Рамон. — как маменька, честное слово.
Эдгар смущенно улыбнулся:
— Извини.
Подвинул гостю стул, сам устроился на сундуке.
— Рассказывай.
Они сказали это одновременно, итак же одновременно рассмеялись. Возникшая было неловкость исчезла.
— Так все же, ты голоден?
— Нет, отмахнулся Рамон, — Только что от маркиза, напоил-накормил, все честь по чести. Лучше расскажи, каким ветром тебя занесло в учителя?
Молодой ученый честно пересказал разговор с ректором и странным гостем.
— Вот, значит, как. — протянул Рамон. Замолчал, поглаживая пальцем рубин в серебряном аграфе, скалывавшем ворот сюрко. — Не нравится мне все это.
— Почему?
— Хотя бы потому, что учить девушку послали молодого мужчину а не, к примеру мать-настоятельницу столичного монастыря, славящуюся познаниями в слове божием. И не какую-нибудь из родственниц Авгульфа, добродетельную даму, вызубрившую катехизис — а больше женщине и ни к чему.
— О чем ты? — изумился Эдгар.
— Высунь, наконец, нос из своего замка слоновой кости и оглядись. Я не силен в интригах но первое, что напрашивается- подкупить кого-то из служанок девушки, чтобы сперва сыграла сводню, а потом застала вас в двусмысленной ситуации… погоди, не маши руками. После этого тебе очень повезет, если сумеешь исчезнуть из страны, потому что папаше девушки этот союз нужен, а сможет ли Авгульф проигнорировать то, что у невесты подмочена репутация — неизвестно. Добавь к этому то, что не так давно понтифик разразился речью о том, как печально неусердие в вере сильных мира сего которые, вместо того, чтобы нести свет веры в новые земли, довольствуются их завоеванием, не обращая внимания на души новых подданных.
Герцог Авгульф действительно не слишком-то допускал церковь на свои земли, полагая, что нет никакой разницы, кому молится чернь, лишь бы подчинялась. Рамон был с ним согласен: всему свое время, достаточно, пока, что герцог объявил вне закона ведьм. Но церковным иерархам нужна была война за веру.
Эдгар казался уязвленным:
— Хочешь сказать, я не способен устоять перед искушением? Не суди по себе.
— Я хочу сказать, — подался вперед Рамон. — что сильные мира сего играют людьми без зазрения совести. Вокруг этих земель сошлось слишком много интересов — и вдруг учить будущую жену герцога отправляют человека, кроме своих книжек, не желающего знать ничего. Осторожней, братишка. Мне бы не хотелось, чтобы ты вляпался во что-то серьезное.
Это мимолетно брошенное «братишка» было настолько неожиданным, что Эдгар замер, разом позабыв почти готовую обвинительную речь — мол, нечего судить весь мир по себе и если некоторым, не будем говорить, кому свои страсти дороже всего остального, то это не значит, что все таковы. Потом он захотел было переспросить — и испугался, что Рамон, по своему обыкновению, опять сведет дело к шутке, а то и вовсе окажется, что ослышался. И поэтому он просто кивнул. Потом спросил:
— Расскажешь, что это за страна? Что за обычаи у людей, которые там живут?
— О, тебе понравится. — усмехнулся Рамон. — Прежде всего: обычай тамошнего гостеприимства обязывает хозяина дома предложить гостю не только кров пищу, но женщину. И… — он посмотрел на вытянувшееся лицо Эдгара и расхохотался.
— Извини. Я пошутил. Кстати, когда ты в последний раз был с женщиной?
— Неважно.
— Понятно. Тогда вечером пойдешь со мной, Дагоберт обещал гулянку.
Эдгар залился краской.
— Ты же знаешь, что я готовлюсь к постригу. Зачем?
Рыцарь пожал плечами:
— Всегда было интересно, насколько прочна твоя добродетель. Ладно, охота хоронить себя заживо — воля твоя. А краснеть отвыкай, в Белоне еще и не такого насмотришься.
— Мне сказали, что они погрязли в разврате.
— Я бы не был так категоричен. — ответил Рамон. — Хотя, да, их обычай выдавать девушку замуж только после того, как она подтвердит свою способность к деторождению…
— Снова шутишь?
— На этот раз — нет. Отцом ребенка считается тот, кто потом возьмет женщину в жены. Замужние женщины исключительно добропорядочны и супружеские измены там осуждаются. Но девушки пользуются полной свободой действий. — молодой человек ухмыльнулся. — И они ей пользуются изо всех сил. Хотя, думаю, король Белона за своей дочуркой все-таки приглядывает — если мы знаем их обычаи, значит они знают и наши. Уж про то, что наутро из окна вывесят брачную простыню, должен знать.
Эдгар долго молчал. Наконец, подался вперед, опершись локтями в колени.
— Не понимаю. Зачем герцогу связываться с варварами, не имеющими представления о морали?
— Спорить о морали я сейчас не настроен. — Вздохнул Рамон. — Просто прими к сведению, что они не варвары. В самом Белоне я, правда, не был, но учитывая, что с Каданом это один народ, обычаи должны быть сходны.
А по поводу «зачем» — хочешь урок истории?
Эдгар кивнул, и рыцарь начал рассказывать.
Королевство Белон существовало не более полутора веков. Однажды окраинный князек захотел надеть корону и, ничтоже сумняшеся объявил свое княжество независимым королевством. Действительно, к чему подставлять под удар собственную голову, пытаясь стащить венец с чужой? Затея удалась: в это время Кадан, от которого отделилось новое королевство, завяз в войнах с соседями, и его правителю было не до строптивых подданных.
Через четверть века, замирившись с соседями, король Кадана вспомнил про свои законные земли. Не тут-то было: за прошедшее время Белон успел обзавестись приличной армией, да и дворянство почему-то не хотело обратно под руку бывшего своего короля.
С тех пор так и повелось: каждый новый монарх, надев корону, вспоминал о том, что рядом его вроде как законные подданные, каждый раз подданные, искренне считающие себя отдельной страной, давали отпор и все возвращалось на круги своя. Соседи на строптивый клочок земли, с трех сторон окруженный горной грядой не покушались: больше хлопот, чем пользы. А вот стравливать да королевства не гнушались.
Так тянулось до той поры, пока очередной король Кадана не решил взяться за упрямцев всерьез. Подтянул к границам армию, начал было побеждать. И как раз в это время на другом конце страны высадился приплывший из-за моря герцог.
Эдгар поморщился:
— Политика. И угораздило же ввязаться.
— Политика. — Кивнул Рамон. — Поэтому я и говорю: будь осторожен.
Когда Рамон с Хлодием появились в шатре Дагобера, попойка уже была в той стадии, когда компания разваливается на группки по два-три человека и каждый говорит, не слушая собеседника. Мимо входящих не улицу шмыгнула парочка, хихикающая девица висла на руке мужчины, обнимавшего спутницу за талию. Еще двое, судя по всему, решили уединиться за занавесью, отделявшей общую часть шатра от той, где ночевали слуги. В господской половине пока было тихо, но, похоже, только пока.
— О, ты припозднился, — сказал Дагобер. Махнул рукой слуге. Жест вышел чересчур широким: туловище качнулось вслед за рукой. Сидевшая на коленях маркиза девушка взвизгнула, тот прижал ее к себе, снова повернулся к вошедшим. — Давай штрафную.
Рамон ухмыльнулся:
— Валяй.
Огляделся по сторонам приметил двух девиц, оставшихся без кавалеров, подтолкнул к ним Хлодия.
— Барышни, приглядите за моим оруженосцем.
Те захихикали, захлопотали вокруг стремительно покрасневшего парня.
— А где этот… блаженный? — поинтересовался маркиз, дождавшись, пока гость опорожнит «штрафной» кубок.
— Отказался. Вот, взял вместо него. Пора парню взрослеть.
Дагобер хмыкнул, покачал головой. Обычно тщательно завитые черные кудри рассыпались по плечам неаккуратными прядями.
— Помнится, меня ты за это дело вытянул плетью.
— Неправда. — Рамон опустился на поданный слугой стул. Одна из увивавшихся вокруг Хлодия девушек тут же села у ног, опустила голову на колени мужчины, заглядывая в лицо. Тот на миг задержал на ней взгляд, кивнул. Слуга снова наполнил кубок.
— А это что? — маркиз закатал рукав рубахи, показывая несколько тонких шрамов, идущих поперек предплечья.
— Неправда, — повторил Рамон. — Я тебя огрел не за то, что пошел по бабам, а за то, что приволок женщину в шатер господина без его — моего то есть — разрешения.
— Я ж предлагал поделиться.
— Поделиться…Приползаю с совета, наутро очередной штурм назначен, вымотался как собака, жрать хочу, а тут оруженосец развлекается.
— Ладно, — махнул рукой Дагобер. Что было, то быльем поросло. Но скажи: неужели и впрямь отца не побоялся.
— Да я про него и не вспомнил, — хмыкнул Рамон, машинально перебирая волосы сидящей у ног девушки. — А если бы и вспомнил, батюшка твой велел держать сынка в строгости, а то прежний господин разбаловал.
Из-за занавеси вывалился полуодетый мужчина. Выпорхнувшая следом девушка подхватила под локоть изрядно шатающегося кавалера.
— Мы вас покидаем, господа.
Следом потянулись к выходу еще двое.
— Ну вот, пришли к шапочному разбору. — Констатировал Рамон.
— Ничего, сейчас наверстаешь. Выпивки хватит, я еще тоже на ногах держусь. — Маркиз от души облапал так и не слезшую с колен девицу, та захихикала. — А уединиться с этой красоткой всегда успею.
— Кстати, об уединении. У тебя место для Хлодия найдется? А то притащу к себе, не ровен час, нарвемся на его папашу, и останется мальчик без развлечений. Еще и мне мораль прочитают: мол, господин обязан заботиться о душе и теле оруженосца.
— Вот ты и заботишься о теле. — Расхохотался Дагобер. Перевел взгляд на сидящего тише мыши парня.
— Он что, в самом деле в первый раз?
Рамон пожал плечами.
— Похоже на то. Я ему дома свечку не держал.
— Ага. — Маркиз снял с коленей девушку, не забыв сжать ладонью грудь. Не слишком ровным шагом подошел к столу с выпивкой. Слуга было подался вперед, но господин отодвинул его небрежным жестом. Сам налил вина. Оруженосец посмотрел на протянутый кубок.
— Я уже много выпил…
— Пей и не спорь.
Парень покорно принял вино.
— А теперь, — сказал маркиз, забирая у Хлодия пустой сосуд. — Вот эта… Сударыня, проводите юношу — вон туда. И позаботьтесь, чтобы он не остался разочарованным.
— Да, господин.
Рамон бросил девице монету. Пара исчезла за пологом.
— Становится скучно. — Дагобер вернулся на стул, девушка тут же взобралась на колени. — Давай разберемся с этими красотками и съездим в деревню тут, неподалеку. Поймаем крестьянку… а может, не одну.
— Здесь не твои земли.
— Нет, но хозяин где-то здесь. — Маркиз огляделся. — Был. Найдем, на коня посадим, авось не свалится. Поехали?
Рамон поморщился, в который раз протянул слуге опустевший кубок. Потрепал по щеке ластившуюся у ног девицу.
— Остынь, спят все уже.
— Веселее будет.
— Наши все спят.
— Слышу, как они спят, — хохотнул маркиз, мотнув головой в сторону тканой стены, из-за которой доносились женские стоны.
— Не хочу. Мне и тут неплохо. Да и крестьянки надоели — не поверишь, как. — Рамон провел ребром ладони по шее. — Раз за разом находится девка, уверенная, что зачнет и родит мальчика, которого господа заберут воспитываться в замок. Ну и ее заодно.
— И как? Много парней за два года заделал?
— У меня нет детей. По крайней мере тех, о которых я знаю. Оно и к лучшему. Растить сына, зная, сколько ему отведено… А бастард — не наследник.
— Почему вы вообще так носитесь с ублюдками? — поинтересовался Дагобер. — Воспитатель твой; святоша этот, Эдгар.
Рамон отставил вино, поднялся. Протянул руку девушке, помогая встать.
— Потому что на них проклятие не падает. А роду нужны мужчины, хотя бы такие.
— Не боитесь, что один из них вдруг решит присвоить титул?
Рыцарь невесело усмехнулся.
— Мой прадед незадолго до смерти усыновил своего бастарда по всем правилам. Через двадцать лет молодой человек попал под грозу. Хоронили уголья. Прости, я, наверное, пойду. Развеюсь. Когда вернуться, забрать Хлодия?
— Под утро приходи. — Маркиз тряхнул тихонько посапывавшую девицу, та подняла голову, захлопала глазами. — Пойдем-ка милашка, он прав, хватит тратить время на болтовню.
Рамон со спутницей осторожно обошли устроившуюся прямо у шатра пару.
— Куда мы? — осторожно поинтересовалась девушка.
— Ко мне. Чтоб никто не мешался.
У шатра его окликнул Бертовин:
— Моего парня не видел?
— Он у маркиза в шатре. С женщиной.
— Я не разрешал ему…
— Я разрешил. — Отрезал Рамон. — Вернее, приказал. Умирать он взрослый, а гулять — нет?
— Взрослый… два остолопа, на полчаса без присмотра нельзя оставить.
— Придержи язык. Я пьян и буен.
Бертовин хмыкнул и растворился в темноте.
Рамон откинул полог. Дурашливо-галантный поклон не вышел: земля покачнулась и пришлось вцепиться в растяжку, удерживающую шатер. Выпрямившись, зашел вслед за девушкой, указал на ложе:
— Раздевайся.
Она кивнула, начала торопливо стаскивать одежду. Мужчина попытался было снять котту, запутался, опустился на пол с глупым смехом. Девушка бросилась помогать — оказалось, что не расстегнута заколка, удерживающая одежду у горла. Выпутавшись из котты, Рамон махнул рукой на остальное, кое-как взгромоздился на ложе. Женщина в одной рубашке упала рядом, притянутая жестким рывком. Тратить время на то, чтобы раздеть ее окончательно, Рамон не стал.
Под утро Рамон оставил рядом со спящей женщиной серебрушку. У выхода из шатра по-прежнему дежурил Бертовин. От кого караулил — непонятно, большая часть обитателей лагеря была пьяна в стельку.
— Пошли кого-нибудь приглядеть, как проснется, пусть выпроводят. — Приказал рыцарь. — Я за Хлодием.
Выпитое малу-помалу выветривалось из головы, оставляя то мутное дурнотное состояние, что предшествует похмелью.
У шатра маркиза на мужчину налетела давешняя девица, оставшаяся ублажать Дагобера. Рамон проводил ее взглядом, машинально заметив, что девчонка всхлипывает едва ли не в голос.
— Чего это от тебя зареванные девки поутру убегают?
Дагобер приподнялся на локте, не удосужившись прикрыться.
— Я ей королевский указ прочитал. Его величество озаботился душами воинов. И повелел всякому, встретившему в расположении армии его подданных гулящую девку, сломать ей руку, отобрать деньги и выпроводить восвояси.
— Постой…
— Просто не заплатил. — Хмыкнул маркиз. — Пусть радуется, что легко отделалась.
Рамон помотал головой: соображалось туго.
— Ночью что ли указ пришел?
— Нет, конечно. Дня два назад.
— То есть ты с вечера знал, что не заплатишь?
— Конечно. Хотел днем рассказать, чтобы ты тоже не тратился, да из головы вылетело.
Рамон высунулся из шатра — девицы уже не было видно. Молча прошел за полог, тряхнул за плечо Хлодия. Девушка открыла глаза.
— Убирайся. — Бросил рыцарь.
Она кивнула, мигом оделась и исчезла.
Оруженосцу пришлось помочь подняться.
— Эй, ты чего? — изумился Дагобер.
— А сам не понимаешь?
— Иди, проспись. Это всего лишь шлюха.
Рамон долго пристально смотрел на приятеля. Тот заерзал под взглядом, начал натягивать покрывало.
— Да. — Медленно отчеканил Рамон. — Она — всего лишь шлюха. А кто — ты?
Дернул ничего не понимающего Хлодия за рукав и, едва не оборвав полог, вышел.
Глава 4
— Вставай, господин!
Рамон кое-как оторвал голову от подушки. Выругался: просил ведь, чтобы не будили, хотел переспать похмелье. В дурнотном мутном мареве, застившем глаза, вырисовалось лицо Хлодия. Парень тоже выглядел не ахти: отец держал его в строгости и ощущения после бурной ночки оруженосцу явно были внове.
— Пожар? Потоп? — поинтересовался рыцарь.
— Нет, господин.
— Тогда какого рожна?
— Отец велел разбудить.
— Правильно, я велел — послышался голос Бертовина откуда-то из-за поля зрения. — Вставайте, граф, вас ждут великие дела.
Рамон рухнул на подушку, длинно и путано объясняя, что и как именно его воин может сделать с величием, да и делами заодно. Сколько лет, в конце концов, можно воспитывать давно взрослого человека? Закончить тираду не дали. Сверху рухнул столб ледяной колодезной воды, на миг показалось, что вода всюду, свернулась вокруг холодным коконом, запретив дышать. Рамон вскочил, едва протащив в легкие воздух разразился ругательствами. Новая порция в лицо заставила заткнуться. Молодой человек стер ладонью капли. Медленно опустился на постель, превратившуюся в чавкающую лужу.
— Одежду подать? — поинтересовался Бертовин, глядя сверху вниз на молчащего воспитанника.
— Ну скажи, какого рожна, а? Нормально не мог разбудить? — Рамон начал стаскивать липнущие к телу тряпки.
— Нормально Хлодий полчаса будил. А потом мне надоело на это смотреть.
— Чтоб тебя… — рыцарь отбросил в сторону рубаху. Потом, помедлив, приподнял двумя пальцами снятое перед этим сюрко. — Это что, я в одежде спать завалился? Вроде и не пьян уже был. Вот то, что злой, как бес — это да…
— Держи. — Бертовин бросил воспитаннику сухую одежду. — А что случилось? Что вы вообще такого натворили, что сегодня днем ни одной гулящей девки в округе не осталось?
Рамон вздохнул, не поднимая глаз пересказал предутренний разговор. Почему-то было невероятно стыдно, как будто и сам оказался запятнанным.
— Вот как… — протянул воин. — Теперь понятно.
— Не надо об этом.
Бертовин кивнул, посмотрел на Хлодия. Тот отдал отцу пару тренировочных незаточенных мечей, подхватил мокрую одежду господина.
— Мы за воротами будем. — Бросил воин сыну. — Найдешь.
— Вот скажи: неужели один день пропустить нельзя было? Или подождать, пока я просплюсь? — проворчал Рамон, следуя за воспитателем через лагерь.
— Так и без того солнце за полдень перевалило. — Хмыкнул Бертовин. — Раз пропустишь, потом второй, а потом и вовсе забудешь, как меч в руках держать.
— С тобой, пожалуй, забудешь.
Вблизи лагеря ноги и конские копыта превратили землю в чавкающую грязь. Пришлось отойти на перестрел прежде, чем поле снова стало полем. Все еще ворча, Рамон принял меч у спутника. Конечно, похмелье — не повод пропускать воинское правило, но когда голова кажется чугунной чушкой и мутит при каждом движении, даже самое любимое занятие превращается в постылую обязанность. Именно поэтому он обрадовался, когда увидел, что вместе с Хлодием пришел и Эдгар.
— Встанешь? — спросил Рамон, протягивая брату меч.
— Э, нет — вмешался Бертовин. — Не отлынивай. Эдгар, вставай вместо меня.
Тот кивнул, взял оружие. Большинство знакомых считало любовь молодого ученого к оружию блажью, граничащей с ересью. Тому, кто готовится посвятить себя служению господу, не пристало изучение способов убийства. Тем паче — получать удовольствие от подобного рода занятий. Узнай они, что для самого Эдгара воинские упражнения зачастую служат своего рода духовным сосредоточением, способом подхлестнуть уставший от размышлений разум — и обвинение в ереси оказалось бы неминуемым. Для души существует молитва, а забота о теле лишком легко доводит до греха. Поэтому молодой человек предпочитал помалкивать, уходя от ответа даже не прямые вопросы — зачем богослов тратит время и деньги, регулярно посещая учителя-мечника. Бесполезно объяснять, что когда тело раз за разом повторяет заученные движения, разум свободен, а строки очередного труда рождаются будто сами собой.
Бертовин опустился в траву, наблюдая за братьями. Оба высокие, сероглазые — в отцовскую породу — они были одинакового роста, но ладно скроенный Рамон казался ниже сухощавого Эдгара. Ученый, получив степень, стал стричь русые волосы в кружок, рыцарь стягивал льняные пряди в хвост, спускающийся до лопаток. И двигались они почти одинаково, с легкой грацией человека, привычного к воинскому искусству.
Когда-то, в те дни, когда воспитанники были детьми, Бертовин любил наблюдать за поединками этих двоих, каждый раз не зная, каким будет исход. Теперь все известно заранее. И все-таки, как жаль, что парень решил служить церкви. Да, наверное далеко пойдет, но семье так нужны мужчины. Нынешняя графиня неплохо управляется с делами, но прекрасно ориентируясь в налогах, доходах и прочих цифрах, она ничего не смыслит в содержании гарнизона, а комендант замка уже стар. Хватка у него до сих пор отменная, но заменить пока некем. Бертовин присмотрел смышленого парнишку, глядишь, успеет натаскать. Да разве только в коменданте дело! Взять тот же Совет — они готовы стерпеть, если семью будет представлять бастард, но не перенесут в своем кругу женщину. Вот где бы Эдгар пригодился — не сейчас, конечно, когда заматереет. А от его духовной карьеры роду никакого прока.
Тем временем поединок закончился. Как и следовало ожидать, победил Рамон и теперь объяснял брату, как именно его «сразили». Еще какое-то время ушло на то, чтобы довести движения до того бездумного состояния, когда тело начинает действовать само, без участия разума. Наконец, рыцарь опустил меч.
— Все. С меня на сегодня хватит, да и с тебя тоже. Если хочешь, завтра повторим.
Он подошел к поднявшемуся навстречу Бертовину:
— Пойдем?
— Идите, я еще Хлодия погоняю.
— Тогда и мы подождем.
Рамон разлегся в траве. Эдгар с четверть часа наблюдал, как Бертовин занимается с Хлодием, потом растянулся рядом.
— Слушай, все не получается спросить — что за история была со спасенной девой?
— Дагобер наболтал?
— Он.
— Вот у него и спроси.
— «Спроси». — Хмыкнул Эдгар. — Он со всеми сквозь зубы общается, или только я удостоился такой чести?
— Не обращай внимания, фамильная спесь. Племянник короля, а тут приходится общаться с…
— С ублюдком. — закончил молодой человек за собеседника.
Тот вынул изо рта стебелек.
— Плюнь и разотри.
— Тебе легко говорить.
Рамон приподнялся на локте, взглянул в глаза брату. Медленно произнес:
— Да. Мне легко говорить. Хочешь поменяться?
— Прости.
Тот кивнул, снова опустился в траву. Сощурился, когда выглянувшее из-за облака солнце резануло лучом по глазам.
— А история вышла совершенно дурацкая. Никого я не спасал. Глупышка наслушалась легенд о великих подвигах и девах, наравне с мужчинами сражавшихся за родину. И когда мы вошли в город и начался бардак, натянула порты и вылезла в окно из комнаты, куда ее, младшенькую, заперли. Пока старшие братья готовились оборонять дом, если туда сунется кто из наших.
— Девчонка? — не поверил Эдгар.
— Говорю ж тебе, там другие женщины. И в их балладах и в самом деле нередки истории о том, как девушка надевает мужскую одежду и идет мстить за родителей или возлюбленного.
— Много навоевала?
Рамон рассмеялся:
— Коня напугала, зараза, своей рогаткой. Я сперва думал — мальчишка, велел было стащить штаны, да выпороть как следует. Потом чувствовал себя полным дураком.
Когда безразличие, навалившееся после смерти брата и посвящения, миновало. Рамон обнаружил, что зол на весь мир. На господина… герцога, навязавшего оруженосцем балованного сынка. На самого оруженосца, который только о бабах и думает. На Бертовина, который то некстати лезет с советами, то не дозовешься, да еще каждый день заставляет заниматься с мечом, точно воспитанник по-прежнему мальчишка. На проклятых язычников, не сдающих город несмотря на голод и болезни. Иной раз в помощь горожанам пускали по течению бревна с привязанной едой в кожаных мешках, но до цели она добиралась редко, чаще посылки вылавливали осаждавшие. Чуть ли не каждый день в сети, расставленные поперек течения попадались лазутчики. Когда пытавшиеся пробраться в город, когда — наоборот, выбраться. Все как один говорили о том, что гарнизон ослаб от голода и болезней. Но не сдавался.
Пехота, простолюдины, уже начинали роптать — мол, они гибнут в бесплодных штурмах, пока благородные отсиживаются в лагере. А кто, скажите на милость, раз за разом перехватывает и разбивает войска, которые язычники отправляют на подмогу осажденному городу? Впрочем, разве кто-то когда-то дождался от черни благодарности?
Очередной штурм Рамон тоже принял с раздражением: все как всегда, вперед пехота, а рыцарям остается лишь скучать в очередном бесплодном ожидании. Но, вопреки обычному, гарнизон почти не сопротивлялся. И распахнувшиеся, наконец, ворота, казалось стали совершенной неожиданностью для самих осаждавших.
Рамон ожидал боя на городских улицах града камней из-за углов и потоки кипятка с крыш — словом, всего того, о чем пишут в летописях, повествующих о взятии городов. Все оказалось куда будничней — и страшнее. После того, как вырезали последних защитников стен, а те, кто не погиб, отступили в глубину узких улиц, стало понятно, что сопротивляться больше некому. Рыцарь со своим копьем проезжал мимо лежавших тут и там изможденных тел, на которых не было ни единой раны: похоже, что хоронить умерших от голода тоже уже было некому. Где-то впереди изредка слышались звуки битвы, и оруженосец несколько раз попытался было сказать господину — мол, а мы что же, там воюют, но после того, как Рамон на него рыкнул — умолк. Потом на них из-за угла вылетела недобитая дюжина солдат, одна из оборонявших город. Но лучники копья не зря ели господский хлеб, и треть нападавших легла, даже не успев подойти на расстояние рукопашной, а остальных зарубили быстро и без потерь. Дагобер, добравшийся до вожделенной битвы, и даже сумевший взять жизнь врага, держался распустившим перья кочетом. Рамон мрачно радовался, что глухой шлем не позволяет людям видеть лицо их господина — потому что самому было пакостно до невозможности.
Вот этот сдавшийся, наконец, город с полумертвыми жителями — так на самом деле выглядят те подвиги и слава, о которых складывают легенды и поют песни? Доносящиеся из-за домов крики, запах гари и трупы, трупы, трупы — свежие и старые вперемешку. После той ночи, что порой возвращалась в кошмарах, Рамону приходилось сражаться — но в тех битвах все было понятно: враги нападают, нужно защищаться. А сейчас не покидало ощущение совершенной, невыносимой бессмысленности происходящего. Полтора года осады, погибший Авдерик — ради кривых улочек с обшарпанными стенами? Что он вообще здесь делает?
Прилетевший невесть откуда камень заставил шлем зазвенеть старым ведром. Следующий угодил в голову коню, тот взвился. Чудом не свалившись на булыжник, Рамон обуздал скакуна, огляделся. Командовать нужды не было — вездесущий Бертовин углядел, откуда летят камни и воины копья уже выбивали дверь дома. Внутри оказалось пусто, хозяева то ли попрятались в погреб, то ли еще куда делись. Через несколько минут воины приволокли с чердака упирающегося ребенка. Рамон не слишком-то хорошо разбирался в детях, чтобы навскидку определить, сколько лет найденышу. Меньше десяти, наверное. Длинный, не по росту, кафтанчик, слишком широкие, спадывающие штаны, кургузая шапчонка, все норовящая сползти набок, перемазанное паутиной и пылью личико с запавшими щеками и глаза перепуганного волчонка.
Бертовин протянул нож, слишком тяжелый для детской руки:
— Еще и пырнуть пытался, гаденыш.
Рамон покрутил в руках трофей, разглядывая тонкую резьбу на рукояти слоновой кости. Клинок покрывала причудливая вязь, которая появляется, когда сталь многажды перековывают в несколько слоев. Дорогая вещь, очень дорогая. Украл? Юноша пригляделся к найденышу: кафтанчик из тонкой, хорошо выделанной шерсти, а исподняя рубашка и вовсе шелковая.
— Кто ты такой?
Ребенок не ответил, замотал головой.
— Он же не понимает. — Влез Дагобер.
Рамон выругался. Ну, и что прикажете с этим делать?
— Вояка хренов… — он сунул нож в седельную сумку. Кто разоружил, того и трофей, но не сейчас же это выяснять? Вечером можно разобраться.
— Надерите задницу, чтоб запомнил, и пусть катится. Еще не хватало с детьми воевать.
Одни из солдат подхватил мальца, потащил к растущему поблизости кусту орешника. Попытался сдернуть штаны — но пленник, до сей поры стоявший смирно, и лишь зыркавший исподлобья зелеными глазищами, вцепился в пояс, завизжал, задергался. Слетела шапчонка, упал на булыжники мостовой резной гребень, коса рассыпалась пушистыми каштановыми прядями.
— Девка? — вслух изумился кто-то.
Державший солдат, недолго думая, ухватил за низ живота:
— Точно, девка!
Встряхнул еще пуще заверещавшую девчонку:
— Да что ты орешь!
— Решила, поди, что мы ее снасильничать хотим. — Сказал Бертовин.
Рамон охнул, слетел с коня, бросив щит оруженосцу, выхватил девчонку из рук своего человека. Господи, а что еще она могла подумать, когда вражеский солдат начал раздевать? Девочка все кричала, билась пойманной рыбкой, пыталась даже кусаться — но поди, вцепись зубами в кольчужный рукав. Рыцарь вдруг отчетливо понял, как они выглядят в ее глазах — десяток здоровенных, закованных в железо мужчин, и он, главный. Злодей без лица.
Он стряхнул с левой руки кожаную рукавицу, рванул ремешки шлема. Рявкнул на Дагобера:
— Что стоишь, помогай!
Оруженосец принял шлем, Рамон прижал к себе бьющуюся девчонку, провел ладонью по волосам.
— Успокойся. Пожалуйста, успокойся, никто тебя не тронет.
Она же не понимает, пронеслось в голове. Ничегошеньки не понимает, хоть соловьем залейся.
Он опустился на мостовую, прижимая к себе рыдающую девочку, баюкая, гладил растрепавшиеся волосы, повторяя на все лады:
— Никто тебя не обидит. Не плачь.
У девчонки, похоже, уже кончились силы рваться и визжать, и она лишь тихонько поскуливала, уткнувшись лицом в котту, что рыцарь носил поверх кольчуги, да тряслась всем телом. Рамон обвел беспомощным взглядом своих людей, ощущая себя последним подонком.
— Бертовин, у тебя есть дети. Что делать?
— Ты все делаешь правильно. Теперь только подождать. — Ответил тот. Обернулся к солдатам, нахмурился: — По сторонам я один глядеть буду?
Те мигом вспомнили, что вокруг чужой, не покоренный до конца город.
Рамон не знал, сколько прошло времени, пока девочка, наконец, перестала плакать, отстранилась, настороженно заглядывая ему в лицо. В который раз повторил, мол, все хорошо, не плачь. Осторожно улыбнулся, глядя в глаза.
Девочка долго-долго не отводила взгляда. В последний раз протяжно всхлипнула, провела ладошкой по лицу, размазывая слезы вперемешку с грязью. Юноша вздохнул, вытер заплаканное личико подолом котты. Встретил неуверенную улыбку и широко улыбнулся в ответ.
— Все будет хорошо. Где ты живешь?
Она замотала головой, что-то лепеча. Рамон тихонько ругнулся. Ткнул пальцем в сторону раскрытой двери, из которой выволокли незадачливую воительницу.
— Дом.
Коснулся костлявого плечика, спросил:
— Твой?
Она задумалась, забавно склонив головку набок, потом снова мотнула волосами. Быстро-быстро заговорила, показывая куда-то вдоль улицы.
— Ну, кажись, разберемся. — Вздохнул Рамон.
— Или заведет сейчас куда-нибудь под стрелы. — Предрек Бертовин.
— Не бросать же ее здесь. — Юноша поднял с мостовой гребешок, отдал девочке. Она ловко скрутила волосы в узел, зацепив гребнем. Рамон встал, протянул руку девочке, помогая подняться. Та коснулась себя.
— Лия.
Положила ладошку на грудь рыцарю, глядя снизу вверх прозрачными зелеными глазами.
— Рамон. — ответил тот, накрыв ее руку своей. Повторил. — Дом — где?
Она снова указала вдоль улицы.
Юноша кивнул. Дагобер подал шлем, придержал стремя. Рыцарь взобрался в седло.
— Бертовин, давай ее сюда.
Немного удивился, когда девочка устроилась по-мужски, свесив ноги по бокам лошади. Хотя кто их знает, этих язычников: и одеты чудно, и девки по чердакам неприятеля выслеживают. Может, так и положено.
Отряд кружил по улочкам. Рамон машинально запоминал повороты, изо всех сил стараясь не думать, что Бертовин мог быть прав, и девчонка ведет под стрелы сородичей. Мало-помалу улицы становились шире. Дома, из жавшихся друг к другу зданий в несколько этажей, превратились в одно-двухэтажные особняки, прячущиеся за заборами. Кое-где двери были выбиты, а внутри хозяйничали занявшие город солдаты. Изредка на улицах попадались жавшиеся к стенам люди, одетые по местному обычаю. Женщин не было видно вовсе — попрятались, и правильно сделали. Некоторые не успели, или не сумели — и Рамон несколько раз торопливо прижимал девочку к себе, закрывая глаза. Чтобы та не увидела распластанные по мостовой тела с бесстыдно раскинутыми среди обрывков юбок ногами. Может, это и было сущей глупостью — уж наверняка за время осады Лия успела насмотреться на смерть. Может быть — но рыцарь отчаянно не хотел, чтобы эта девочка воочию увидела, что война может быть и такой. Он усмехнулся под шлемом. Подвиги и слава.
Наконец, они остановились у большого дома за кованым решетчатым забором. Бертовин коротко скомандовал — и один из пехотинцев перемахнул через ограду, открыл засов на воротах. Четверо воинов исчезли в саду, лучники остались стоять в воротах, настороженно вглядываясь в глубину сада. Девчонка вся изъерзалась в седле, и когда один из солдат показался на дорожке, ведущей к крыльцу, махнув рукой — мол, никого — шустро соскочила наземь. Бертовин поймал ее за руку.
— Я отведу.
— Я сам. — Сказал Рамон, спешиваясь.
— Дурак.
— Может быть.
Он снова стряхнул кожаную рукавицу, протянул девочке руку.
— Щит возьми. — Предложил Бертовин.
— Некуда, сам видишь. — Правая рука нужна свободной, мало ли.
— Ну тогда хоть девку на руках неси — посоветовал Дагобер. — А то стрельнут с чердака, и поминай, как звали.
— Значит, помянете. — Рявкнул Рамон, и пошел к дому, держа в руке теплую ладошку.
Он поднялся на крыльцо, грохнул латной рукавицей в окованую дверь старого дуба. Лия что-то крикнула, повторила. Из-за двери отозвался мужской голос.
Рамон выпустил руку девочки, отшагнул назад, готовый, если что, схватиться за меч. Дверь открылась, девчонка рванулась внутрь, радостно вереща. Рамон встретился глазами с парнем, держащим взведенный арбалет. Отчетливо понимая, что на таком расстоянии болт прошьет любой доспех. Тот что-то коротко сказал, девочка ответила. Тяжело стукнула закрывшаяся дверь.
Рамон развернулся и пошел к своим людям, каждый миг ожидая стрелу в спину. Взобрался на коня, позволил себе расслабить плечи. Принял у оруженосца щит, дождался, пока подтянутся из сада воины. Тронул поводья, направляя коня туда, откуда слышался звук рога — герцог собирал свои войска в центре захваченного города.
Здравствуй.
Не знаю, интересно ли тебе, что происходит дома, но больше мне не о чем рассказывать. Не жаловаться же в очередной раз на то, что маменька не пустила на охоту. Порой я ощущаю себя мальчиком, еще ни разу не покидавшим родительский дом — и кому какое дело, что формально я царь и бог на своих землях. И уж тем более не имеет значение, что жена снова беременна… молю бога, чтобы и в этот раз родилась девочка. Приданое найдем.
Вот, не хотел жаловаться, а получилось. Ладно, сменим тему.
Третьего дня в замок приезжали актерская труппа, привезли постановку. Говорят, в столице эта пьеса произвела фурор. Не знаю, мне не понравилось. Впрочем, возможно, дело в исполнении: у главной героини отчетливо ломается голос, и слышать, как в самые драматические моменты актер дает петуха довольно забавно. Хотя дамам понравилось: они любят истории про влюбленных, соединивших сердца вопреки жестоким обстоятельствам. Еще больше они любят длинные возвышенные монологи, коих в пьесе было с избытком.
Маменька затеяла ремонт в большой зале. Кое-где действительно нужно заменить сгнившие панели. И гобелены, по ее словам «никуда не годятся». Засадила невесток ткать новые. Жена ворчит. Пусть сами разбираются. Не хватало мне еще судить бабские ссоры.
Сговорили старшего сына Авдерика: если все пойдет путем, лет через пять поженятся. Приданое за невестой дают хорошее, матушка довольна. Мальчику еще не сказали, приедет домой, узнает. Несколько месяцев роли не сыграет: в десять лет мальчишек не интересуют подобные вещи.
Ходят разговоры о королевском турнире. Впрочем, все знают: на совершеннолетие наследника будет турнир, это традиция. Не знаю, что делать, если придет приглашение. Конечно, повод отговориться я найду. Беда в том. что мне не хочется отговариваться. А поехать… впрочем, я снова начинаю ныть, прости. Хватит.
Рихмер.
Глава 5
Как и предсказывал Рамон, армия стояла лагерем до конца недели. Женщины в окрестных деревнях попрятались по подполам, да и скотину рачительные хозяева свели в лес, от греха подальше. Мало ли что надумают господа, всех развлечений у которых — охота, да ежевечерние попойки? И без того озимые потравили, жди теперь урожая.
Когда войско, наконец, тронулось, Эдгар обрадовался. Сам он не любил хмельного, и охоту не жаловал, так что отказываться от постоянных настойчивых приглашений становилось утомительным. Самым странным было то, что Эдгар отнюдь не замечал всеобщей любви к себе, и подобная настойчивость казалась ему непонятной. Возможно, причина была в том, что юноша слишком уж нарочито пренебрегал общепринятыми забавами.
Услышав об этом. Рамон рассмеялся — мол, что ты запоешь на корабле, оказавшись среди нескольких сотен человек, которым ну совершенно нечем заняться. Эдгар вздохнул и ничего не ответил.
Армия бесконечной змеей ползла по дороге. Рамон откровенно скучал, изредка ворча, что со своими людьми и без обоза проделал бы этот путь в два раза быстрее. Эдгар, почти не покидавший столицы, разглядывал окрестности. За годы, прожитые в городе он успел привыкнуть к узким покрытым брусчаткой улочкам, нависающим над головой стенам домов и вечному людскому гулу.
Шума и гомона хватало и сейчас, но юноша привык к нему, как когда-то привык к бесконечному гвалту студиозусов в университетских коридорах. Труднее оказалось привыкнуть к прозрачному весеннему небу, которое в городе дробилось на полоски по ширине проулков и к простиравшимся до горизонта, где виднелась череда холмов, лугам. Над кустами полыни носились стрекозы с радужными крыльями, а где-то чуть дальше стрекотали кузнечики, да так громко, что, казалось, заглушали людские голоса. По левую руку медленно катилась река. Над величавой водой, заросшей листьями кувшинок, стремительно носились ласточки, чьи гнезда дырявили высокий берег по ту сторону. Довольно быстро Эдгар научился не слышать мерный топот копыт и солдатскую разговоры, и тогда вокруг оставалось только небо, река и холмы, что стоят века и простоят еще столько же и после того, как время напрочь сотрет память о людях.
Войско двигалось медленно, так что даже непривычный к верховым поездкам Эдгар не чувствовал в конце дня той одуряющей усталости, которая бывает после долгих переходов. Порой юноша ловил себя на том, что хотел бы, чтобы эта дорога не кончалась никогда. Потому что потом будет двухнедельное плавание в брюхе деревянного морского чудовища, чужой город с высокими стенами, снова дорога — но теперь с чужаками и незнакомая страна с незнакомыми обычаями. Больше не с кем будет уйти из лагеря вверх по течению реки, туда, где ее еще не опоганило людское стадо. Не с кем будет сидеть у костра, когда вокруг медленно опускается темнота, делая неосязаемым мир за пределами круга пламени, когда молчание не тяготит, а разговор не утомляет.
Братья устроились на берегу с удочками, вырезанными из растущей тут же лещины. Солнце садилось за крутой берег, казавшийся черным на фоне алого неба.
— Красиво… — Сказал Эдгар. — Ты хотел бы вернуться сюда?
— Я не успею.
Из лагеря донеслась песня- судя по тому, что голосили вразнобой, певцы успели хлебнуть, и не по разу. Над рекой медленно собирался туман.
Рамон посмотрел на вытянувшееся лицо собеседника, усмехнулся.
— Не бери в голову. Я порой забываю, что кому-то не все равно, и брякаю что попало. Бертовин, вон, до сих пор так и не привык.
— Как к этому можно привыкнуть?
Молодой человек пожал плечами:
— Ну, я же привык. — Он снова посмотрел на брата покачал головой — Нет, это не бравада. Просто однажды я понял, что все равно — когда, важно — как. Стало легче. — Рамон рассмеялся. — Настолько, что можно стало даже позволить себе спасать прекрасных дам.
Эдгар неуверенно улыбнулся:
— Ты ее видел потом, ту девочку?
— Конечно. Славная оказалась девчонка.
Когда пришла пора выбирать дом, Рамон, не долго думая, поселился в том, с чердака которого вытащили пращницу. Благо, заброшенный, покрытый пылью и судя по всему, успевший пострадать от воров, он никому больше не глянулся. Узнав об этом оруженосец скривился: приводить в порядок жилье предстояло большей частью ему, найти слуг в разоренном городе не так просто. Дагобер даже попытался было уговорить господина найти что получше: положение Рамона и известная всем благосклонность. которую питал к нему герцог, позволяли не церемониться. Тем не менее, юноше почему-то претило вламываться в чужое жилище, щедро оставляя бывшим хозяевам часть дома. Бертовину он сказал — мол, не хочется наживать лишних врагов, если можно обойтись без этого. Тот хмыкнул и завел речь о другом.
После нескольких дней безудержного грабежа, герцог объявил, что дальше войско пока не пойдет — слишком дорого армии дался этот город. Посему на территории Агена снова действует закон, и уличенный в мародерстве окажется на первом же дереве.
Нескольких действительно повесили. Болтающиеся на главной площади тела по-видимому действительно послужили уроком остальным, грабежи прекратились.
После этого в городе стало тихо, а на улицах снова появились жители. Правда, высовывать нос из дома после наступления темноты равнялось самоубийству и задержавшиеся в гостях воины старались там же и ночевать. Особенно после того, как на ночных улицах исчезло несколько рыцарей, решивших, что воину со своим копьем нечего бояться. Но днем город выглядел мирным и спокойным.
Урожая с разоренных войной полей ждать не приходилось, но рыба ни речная, ни морская не перевелась, и вернувшиеся в свои поселки рыбаки изо всех сил старались урвать поболе, пока цены на еду — любую еду — взлетели до небес. Нашлись отчаянные купцы, приведшие корабли в город. Снова зашумели рынки. Старожилы говорили, что они стали лишь бледной тенью тех, что было до войны, но пережившим осаду и это казалось неземным изобилием.
Найти прислугу не получалось и, признаться, Рамон был даже в какой-то степени рад этому. Уборку и приготовление еды он переложил на оруженосца, а остальные домашние хлопоты стали хоть каким-то развлечением среди вновь навалившейся скуки. Не будешь же, как некоторые все время пить, оправдывая себя — мол, после войны неплохо бы и насладиться радостями мирной жизни. Он бы с удовольствием почитал что-нибудь, но как на грех, полдюжины найденных в доме книг оказались совершенно непонятными. Впрочем, неудивительно: выучить местный язык Рамон до сей поры не удосужился. Но сколько теперь себя не кори, непонятные значки на пергаменте яснее не становились.
Ночами Рамон спал беспокойно. После лагерной жизни, когда рядом постоянно кто-то находился, было трудно засыпать в одиночестве. Он подолгу лежал с закрытыми глазами, привыкая к тому, что вокруг все не так. Лагерная ночь была живой — храп соседей по шатру, фырканье привязанных лошадей, переклички часовых. Ночь в Агене казалась мертвой, не слышно было даже собачьего лая, да и откуда бы ему взяться в городе, где за два года осады съели всех животных, которых смогли поймать. Несколько раз за ночь юноша просыпался оттого, что было слишком тихо, и потом долго ворочался, слушая, как где-то по углам скребутся вконец обнаглевшие крысы. Он давно велел расставить в доме ловушки, но серые твари оказались умны и на приманки не велись, предпочитая растаскивать по кухне помои и портить солонину.
Точно так же он проснулся и в ту ночь, но вместо того, чтобы, выругавшись, перевернуться на другой бок, замер пытаясь понять, что же не так. Рамон не верил в «чутье», но привык доверять ощущению опасности, даже если на первый взгляд оно казалось беспричинным. Он вскочил, отчетливо понимая, что скорее всего совершает глупость, подхватил лежащий у изголовья меч (еще одна глупость — кого опасаться в доме, где нет чужих, а во дворе караулит один из его солдат). И только когда от окна метнулась тень понял, что бессонница, похоже, спасла ему жизнь, и закричал во все горло, зовя людей.
Ночной тать оказался совсем молодым парнем, едва ли не младше самого Рамона. Молодым и глупым — вместо того, чтобы пуститься наутек, попытался достать врага ножом, и даже когда в комнату ворвались солдаты, все бросался на них, что-то крича по-своему, пока не упал замертво. На нем не нашлось ни украшений, ни гербов, ни каких-то заметных вещей, о которых можно было бы потом поспрашивать в городе — мол, не знают ли владельца. Да и нож на поверку оказался старым и дурно заточенным.
— Повесим на воротах, вдруг родня найдется? — предложил Бертовин.
— Много радости на покойника смотреть. — Поморщился Рамон. — Похороните на заднем дворе, и пусть его, дурака.
— На себя посмотри. Ставни почему не закрыл?
— Потому что под окном был караульный. Что с ним?
— Я, господин… — единственный полностью одетый солдат потупился. — Виноват, господин.
Рамон ударил, размахнулся было снова, замер, медленно опустил руку. Заставил себя разжать стиснутые зубы, повернулся к Бертовину.
— Мертвого похоронить. Этого — он кивнул в сторону провинившегося — выпороть. Утром. И найди мне толмача, язык учить буду, устал жить, точно немтырь какой.
Под ногами мелькнула тень, юноша запустил в нее подсвечником, промахнулся, выругался.
— Добудь, наконец, хорька! Эти твари еду прикончат, за нас примутся.
— Где я тебе… — начал было тот, осекся, встретившись взглядом с воспитанником.
— Где хочешь! Хорька, горностая, кошку, наконец, нам тут не до церковных эдиктов. — он обвел взглядом притихших людей. — Все. Спать буду. Свободны.
— Ставни…
— Вон!
Он с размаху пнул закрывшуюся дверь, зашипел, ругнулся и понял, что странным образом успокоился. Положил у изголовья меч, с миг подумав, сунул под подушку нож, забрался под одеяло и почти мгновенно заснул.
Рамон не стал выяснять, где закопали тело и сколько плетей досталось незадачливому караульщику. Тем более, что спрашивать было особо не у кого — Бертовин исчез рано утром вместе с людьми, по словам оруженосца — раздобыть еды побольше, а заодно хорька поискать. Наказанный отлеживался где-то в задних комнатах. В доме было пусто и скучно.
Дагобер попытался было улизнуть из дома — «на рынок», но Рамон не пустил. Просто из чувства противоречия — повода не верить оруженосцу у него не было. После прошедшей ночи настроение было отвратительным и очень хотелось на ком-то сорваться. Это казалось недостойным, но что делать, Рамон не знал.
Он уже решил было предложить Дагоберу пройтись до рынка вместе — все какой-никакой повод развеяться, когда в дверь постучали. Оруженосец открыл. Рамон окинул взглядом стоящих в дверях и схватился за меч.
Старшего он видел впервые — благообразный старик в просторном черном одеянии, смахивающем на сутану. Но рядом стоял тот самый парень, что три недели назад встречал чужаков со взведенным арбалетом.
Гости поклонились. Рамон отвел руку от эфеса. Тогда обошлось без выстрелов в спину хотя, признаться, именно их он и ждал. Негоже теперь встречать гостей оружием — а пришедшие именно гости, иначе не стали бы стучать. если только это не какая-то вражеская хитрость.
Он поклонился в ответ, замер, ожидая, что будет.
— Здравствуй, доблестный воин. — Снова поклонился старик. Говорил он не слишком чисто, но понятно. — Благодарим, что пустил нас в дом.
— И вам желаю здравствовать, гости. — ответил Рамон. Кивнул оруженосцу — мол, что стоишь, забыл, как людей встречать. Тот понял, исчез за дверью, ведущей на кухню.
— Проходите. — молодой человек указал в сторону стола, вдоль которого стояли лавки. Другого места, где можно было сесть, в этой комнате, служившей им столовой, все равно не нашлось бы. По правде говоря, в доме осталось не слишком-то много мебели, а прикупить пока было негде.
Вернувшийся оруженосец поставил на стол кувшин с кисловатым местным вином, плошку с мочеными яблоками и тарелку с ломтями хлеба, лежавшими вперемешку с толсто нарезанным рыхлым белым сыром. Разлил вино по глиняным кружкам, встал за спиной господина, как того требовали приличия.
Рамон первым пригубил вино, подождал, пока гости не поступят так же, спросил:
— Чем обязан?
— Мой господин хотел бы лично принести благодарность человеку, спасшему его дочь. Не у каждого хватит благородства не только пощадить несмышленыша, покушавшегося на его жизнь, но и проводить, защищая от опасностей войны, невзирая на то, что подобная добродетель грозит стать гибельной.
Рамон поморщился. Он не любил напыщенных славословий и не умел принимать их с достоинством.
— Эк ты завернул…
— Прошу прощения. Я еще не слишком хорошо знаю ваш язык.
— Я ваш и так не знаю. — Буркнул Рамон. — Признаться, я не был бы столь… милосерден, окажись на месте этой девчонки парень с арбалетом.
— Догадываюсь. Тем не менее, мой господин был бы рад видеть тебя своим гостем. Мой господин понимает, что разумный человек не будет слепо доверять тому, кто еще недавно был врагом и предлагает, в качестве залога твоей безопасности на то время, пока ты будешь его гостем, оставить в твоем доме своего сына. — он указал на сидящего рядом парня, до сей поры не проронившего ни слова.
— У твоего господина так много сыновей, что он готов рискнуть одним из-за выходки дочери? — поинтересовался Рамон.
— Мой господин уверен, что о людях можно судить по их командиру, и его сыну в твоем доме ничего не грозит.
Рамон почувствовал, как за спиной заерзал было Дагобер, собираясь встрять в разговор, бросил быстрый взгляд на оруженосца. Тот притих, вспомнив о приличиях.
— Мой господин понимает, — продолжал меж тем старик, — что не подобает торопиться, принимая решение. Если ты не против, мы придем завтра в это же время. И если ты согласишься оказать честь своим визитом, я провожу тебя в дом моего господина. Ты можешь взять с собой столько людей, сколько сочтешь нужным для того, чтобы чувствовать себя в безопасности на улицах города, но в дом войдешь один. Люди подождут во дворе.
— Хорошо, — кивнул рыцарь. Завтра в это время я дам ответ.
Он поднялся, жестом остановил попытавшихся было встать гостей. Вернулся, положил на стол отобранный у девчонки и выкупленный потом у солдата нож.
— Полагаю, эта вещь принадлежит твоему господину.
Парень встрепенулся было, потянулся к ножу, замер, точно не зная, как себя вести. Старик с достоинством поклонился:
— Это семейная реликвия. Но взятое в бою по праву принадлежит победителю.
— Да какое там «в бою» — усмехнулся Рамон. — А то сам не понимаешь.
Старик тонко улыбнулся.
— Понимаю. Но я поступил бы против приличий, согласившись взять эту вещь. Принять ли ее обратно может решить только мой господин. Я расскажу ему. Впрочем, ты сам можешь поговорить с ним об этом, если согласишься почтить его дом своим посещением.
Рамон кивнул.
— Хорошо. Завтра в это же время я дам ответ.
— Похоже, ты уже решил. — сказал Дагобер, едва за гостями закрылась дверь.
Рамон кивнул.
Оруженосец собрал со стола, вернулся.
— Не ходи. Мало сегодняшней ночи?
Рыцарь подал плечами:
— Они оставят заложника.
— «Заложника» — передразнил Дагобер. — Ты уверен, что это действительно сын хозяина дома, а не какой-нибудь крестьянин, семье которого хорошо заплатили?
— Я видел его в доме.
— Он может быть дальним родичем, слугой… да кем угодно!
Рамон снова пожал плечами, не ответив.
— Ты им веришь. — сказал оруженосец. — Или делаешь вид, что веришь… Не могу понять: ты в самом деле такой прекраснодушный болван, каким кажешься?
Рамон подпер подбородок кулаком, смерил взглядом собеседника.
— Кажется, ты забываешься.
— Нет, я помню. — усмехнулся Дагобер. — Оруженосец должен служить господину… но в «служить» входит и «оберегать от опасных глупостей, которые тот намеревается совершить». Помню и что ты, несмотря на то, что — пока — выше званием, на год младше и, похоже, не успел набраться ума.
— В таком случае, может быть тебе поискать другого господина? Постарше, и поумнее? — Рамон поднялся из-за стола, подошел ближе. Роста юноши были одного, и посмотреть сверху вниз не вышло, но было во взгляде что-то, от чего оруженосец шагнул назад.
— Либо ты держишь язык за зубами, пока не спросят и беспрекословно подчиняешься, либо отправляешься вон — и я не знаю, примет ли кто-то оруженосца, которого прежний господин прогнал с позором. Может, и примет, из уважения к твоему отцу.
— Ты не посмеешь!
— Посмею. Мне нужны люди, которые будут выполнять приказы, а не разводить по любому поводу споры, точно базарные бабы. Я могу спросить совета, но решать буду — сам. Ты понял меня?
— Да, господин.
Рамон кивнул, вернулся за стол.
— Зря вино унес, давай обратно. А потом ты, кажется, хотел сходить на рынок.
Оруженосец вернулся с вином.
— Рамон. — осторожно произнес он. — Позволь спросить…
— Твой отец научил. — Хмыкнул тот.
Бертовин с людьми вернулся после обеда, привез добытую в окрестных лесах косулю и двух зайцев. Хорька он не нашел — в городе зверей не осталось, в а рыбачьем поселке, куда они заглянули, местные просто не поняли (или сделали вид, что не поняли), чего от них хотят чужеземцы. Правда, кошка им под дороге попалась — один из солдат щеголял располосованным лицом, хорошо хоть, глаза не задело, а наглая тварь улизнула, только ее и видели. Конечно, стрелой бы ее достали, но много ли проку в дохлой кошке?
Выслушав рассказ Рамона, воспитатель вздохнул:
— Хочешь знать, что я об этом думаю?
— Догадываюсь — усмехнулся тот. — Что я, как это… «прекраснодушный болван», который верит всем подряд.
— Оруженосца выдрал, чтобы впредь думал, что несет?
— Да вроде так управился.
— Ну, как знаешь. — Бертовин помолчал. — Я бы к ним не пошел, но ты, похоже, решил рискнуть. В этом есть доля разума: раж уж нам жить в той стране бок о бок с этими людьми, нужно заводить союзников. И лучше возможности, пожалуй, не найдется.
— Я подумал о том же. — Кивнул Рамон.
На следующий день гости вернулись, как и обещали. Рамон передал парня на попечение Бертовина, а сам, в сопровождении старика и двух своих людей отправился отдавать визит.
Он удивился, обнаружив, что идти оказалось совсем недалеко: в прошлый раз путь показался ему куда дольше. Припомнив дорогу, он понял, что девчонка вела их кружными путями, видимо, изо всех сил стараясь, чтобы найти дом второй раз было не так-то легко. Рамон мысленно улыбнулся: пожалуй, он поступил бы так же. Мало ли что взбредет в голову чужеземцам, даром что в этот раз добрыми оказались. Хотя нет, он, обладающий сегодняшним разумом, попытался бы сбежать по дороге. Но в десять лет — или сколько там этой девочке — именно так. Но сам он хорош, не заметил такой простой уловки. Надо будет спросить Бертовина, вот будет весело, если окажется, что девчонка обвела их, дюжину взрослых мужчин, вокруг пальца.
Их встретили у ворот. Людям предложили вместо лавок толстые деревянные кругляши — как раз усесться взрослому мужчине. Рамон прошел через уже казавшийся знакомым сад.
У него дома гостя бы провели в зал, где хозяин замка ожидал посетителей. Здесь хозяин вышел сам, встретив на пороге.
Юноша поклонился первым, как и подобает вежливому гостю. Хозяин, чуть огрузневший мужчина лет сорока, вернул поклон. Рамон не взялся бы угадывать, к какому сословию принадлежит семья девочки. Одежда из добротного шелка, с изящным серебряным шитьем — но сам шелк был серо-голубого цвета, считавшимся на родине Рамона будничным и неблагородным. Массивный золотой перстень с филигранью — но кроме него, никаких украшений, ни цепи, ни браслетов, ни серьги. Оружия хозяин дома тоже не носил — по крайней мере, на первый взгляд. Гладко стянутые над шеей темные волосы, коротко подстриженная борода. У себя дома Рамон с первого взгляда отличал аристократа от купца, как бы последний не пытался пустить пыль в глаза. Но пойди разбери этих язычников.
— Рад видеть тебя под кровом своего дома.
Говорил хозяин через толмача, неспешно, давая время для того, чтобы тот успел перевести, и эта манера оставляла впечатление спокойного достоинства.
— И ты здравствуй, почтенный хозяин.
— Мой дом знавал лучшие времена, но не к лицу оставлять гостя без угощения. Разделишь ли ты его с нами?
Рамон снова поклонился:
— Гостю дорога хозяйская честь, а не достаток. Я с благодарностью приму угощение.
Оставалось только надеяться, что язычники едят человеческую пищу, а не каких-нибудь тараканов. Впрочем, если на рынках у них продавалась нормальная еда, значит, и приготовлено будет что-то съедобное. Ну, не совсем уж несъедобное. Как бы то ни было, отказаться от еды значило показать, ч то ты таишь недоброе и в этом, насколько Рамону было известно, местные не отличались от его народа. К счастью, то, что стояло на столе, выглядело съедобно и пахло вкусно. Похлебка из чего-то, напоминающего горох, но немного отличающегося по вкусу, рыба с незнакомыми травами, раки — эти по крайней мере выглядели знакомо.
За столом разговор не сложился: Рамон был слишком занят незнакомой едой и чужим этикетом. Конечно, ему, чужаку, могли простить — да и наверняка простили какие-то мелочи, но вести себя вызывающе тоже не годилось. Так что пришлось во все глаза наблюдать за хозяином дома.
После обеда, во время которого юноша сумел не натворить ничего непростительного, Рамона провели во внутренний дворик засаженный розами. Хозяин, представившийся как Амикам, опустился на скамью в резной беседке, указал гостью место напротив.
— Ты очень юн, как по нашим так и по вашим меркам. Как случилось, что ты уже воин, командующий людьми?
Рамон помедлил с ответом:
— Так вышло. Будет ли правильно и достойно хвастаться битвой, где с одной стороны погиб мой родич а с другой — твои соотечественники? Я защищал своего господина, он решил, что это достойно посвящения. Копье я принял после погибшего брата.
— Доблесть, скромность и великодушие. — усмехнулся хозяин. — Редкое сочетание. Дочери повезло что она нарвалась именно на твой отряд.
Рамон пожал плечами, как отвечать в таких случаях, он не знал. Выждав, не скажет ли Амикам еще что-то, развернул принесенный сверток.
— Твой человек сказал, что это семейная реликвия.
— Взятое в бою по праву принадлежит победителю.
— Какой может быть бой между девчонкой и дюжиной взрослых мужчин?
Хозяин покачал головой:
— Не скрою, эта вещь дорога мне, но я не могу просто взять ее обратно. Однако, обычай не запрещает выкупить трофей. Что ты предпочтешь: золото или оружие?
— Оружие.
Маменька наверняка сказала бы, что он глупец. Герцог бы с ней согласился. Действительно, в оружии ни сам Рамон, ни его люди недостатка не испытывали, а золото пригодится всегда. Но принимать деньги от недавнего врага казалось неправильным. Да, юноша не таил зла ни к отцу девчонки, ни к ней самой — но все равно взять золото не мог. А оружие — это оружие, в том, чтобы принять его, нет бесчестья.
Амикам кивнул, кликнул слугу. Вскоре тот вернулся, неся еще один нож — не менее богато украшенный, чем тот, что все еще держал в руках Рамон, но казавшийся новее. Рядом с благородной стариной узор выглядел чересчур ярким и вычурным. Тем не менее, сталь была хороша, и работа мастера казалась безукоризненной. Взглядом испросив разрешений у хозяина, Рамон повесил нож на пояс.
Хозяин дома положил вернувшуюся реликвию на колени, провел пальцами по завиткам на ножнах.
— Ты согласишься бывать у нас? Ты нравишься мне, а моей дочери будет полезно узнать о ваших обычаях и языке из первых рук. К тому же, ты нравишься и ей.
Рамон кивнул.
— Но я попрошу тебя об услуге. Не мог бы твой человек учить меня вашему языку и обычаям?
— Спроси у него самого. Хасан — не слуга мне, он друг нашей семьи.
— Ты говорил о «господине», и я ошибся. Прошу прощения. — Поклонился юноша, обернувшись к толмачу. — Что скажешь?
— Это честь для меня. — Тот вернул поклон.
— Твоя цена?
— Ты уже расплатился сполна: я люблю Лию как собственную дочь… а вот, кстати, и она.
Рамон обернулся. В этот раз девочка была одета как подобает. Платье изумрудного шелка, усыпанное драгоценными камнями зеркальце, подвешенное к поясу на золотой цепочке-шатлене, распущенные темно-каштановые пушистые волосы. Рамон нипочем бы не узнал в ней того волчонка с бешеными глазами, не ожидай он встречи заранее.
— Здравствуй. — Улыбнулась девочка, присев в реверансе.
— Здравствуй — Поклонился Рамон. Мимолетно подумал, что за сегодня было отвешено столько поклонов и произнесено столько напыщенных слов, что куда там герцогскому приему. — Девочкой ты нравишься мне больше.
— Я себе тоже. — Рассмеялась она. — Но в платье неудобно лазить по крышам.
— Пожалуй, я прикажу спрятать мужскую одежду, подходящую по размеру — произнес ее отец. — На случай, если тебе снова вздумается повоевать.
— Ну сейчас же нет войны. — отмахнулась она. Протянула Рамону трехцветную кошечку, которую до сих пор держала на руках:
— Хочу подарить ее тебе. В доме, где ты живешь, полно крыс.
— Благодарю. — Юноша принял подарок, с сомнением глядя на зверька, способного уместиться на мужской ладони. — Она правда умеет их ловить?
— Умеет. — Кивнула девочка. — Она знатный крысолов, хоть еще и не совсем взрослая. Вслед за крысами ходит черная смерть, а я не хочу, чтобы она пришла в твой дом.
— Ты хочешь сказать… — медленно произнес Рамон.
— Ну это же все знают! Крысы носят черную смерть. Просто когда кругом голод, люди боятся его больше, чем всего остального. Кошек съели, как перед тем съели собак, и крысы заполонили город. Но мой отец мудр, и он повелел, что в нашем доме кошек есть не будут, даже если в нем не останется ни куска мяса… — она вздохнула. — И так и было. Но я бы все равно не смогла есть их.
— Когда началась осада, многие не верили, что это надолго. — вмешался Амикам — Я тоже не верил, но решил, что лучше я буду глупцом, испугавшимся тени, чем моя семья станет голодать. Мои люди посмеивались за спиной: не только превратить дом в склад, которому позавидовал бы любой купец, но и запасти семена и засадить сад вместо цветов репой и брюквой, а в пруд- там, на заднем дворе — запустить мальков карпа. И приказал никогда, ни при каких обстоятельствах не рас сказывать чужим об этом. Потом смеяться перестали. Не могу сказать, что еды было в достатке, но никто ни в моей семье, ни среди моих слуг не умер от голода. А кошки… на самом деле меня больше волновало то, что крысы могут попортить еду, чем черная смерть. Но Лия права. В городе развелись крысы, и болезнь может прийти в любое время.
— У меня дома про черную смерть говорят иначе. — Рамон пытался уложить в голове только что услышанное. Получалось плохо. — Возможно, ученые умы вашей страны правы… не мне судить. Но как вышло, что ребенок низкого пола обладает этими знаниями?
— Что? — вскочила девочка, и тут же, встретив взгляд отца, опустилась на лавку.
— Как ты сказал? «Низкого пола»? — расхохотался Хасан.
— Прошу прощения. — Рамон прижал ладонь к груди. — Я никого не хотел обидеть. Но я привык считать, что наука — удел мужчин, а доля женщин — дом и изящное рукоделие. Ваш народ полагает иначе?
— На моей родине думают так же. — Улыбнулся в бороду старик. — Но я долго прожил среди этого народа, и могу сказать, что их женщины способны к наукам ничуть не меньше мужчин… не знаю, то ли потому что рождены не такими, как на твоей и моей родине, то ли потому, что, обучая детей наукам, здесь не делают разницы между мальчиками и девочками. — Он хмыкнул. — И если ты хочешь спросить, зачем женщинам наука, лучше не рискуй. По крайней мере, при Лие. Она лучшая моя ученица.
Рамон обвел взглядом хозяев дома — может, они просто решили посмеяться над не знающим жизни чужеземцем? Но нет, судя по серьезным лицам мужчин, и возмущенному — девочки, его не разыгрывали. Он хотел было спросить, чему именно учат Лию, но это могло погодить. Прежде следовало исправить содеянное неосторожным словом.
— Я никого не хотел обидеть — повторил он. — Как мне поступить, чтобы загладить вину?
— Думаю, извинения будет достаточно. — Сказал Амикам — Ты чужеземец.
Рамон поднялся, поклонился девочке:
— Лия, от всей души приношу свои извинения. Я не хотел обидеть тебя.
Она встала, с совершенно серьезным видом вернула поклон.
— Извинения приняты.
Опустилась на лавку, улыбнулась, снова став двенадцатилетней девчонкой.
— Только не ляпни что-нибудь такого, когда будешь общаться с дамами. Съедят.
— Не буду. — Совершенно искренне пообещал Рамон.
Когда пришла пора возвращаться, хозяин дома вышел проводить к воротам.
— Не думал, что ты возьмешь так мало людей.
— Я счел, что в гостях мне нечего опасаться.
— Это так. — кивнул Амикам И все же я дам провожатых. Мой сын в твоем доме, и я не хочу, чтобы по дороге что-то случилось. Что-то, что даст твоим людям повод вспомнить о заложнике.
— Как будет угодно. — Кивнул Рамон.
Домой они добрались без происшествий. Передав парня с рук на руки людям Амикама, Рамон выпустил кошку осваиваться в доме. Опустился перед камином на медвежью шкуру, добытую невесть где Бертовином. Дагобер примостился рядом с господином.
— Рассказывай — сказал кутилье, устаиваясь на лавке.
Рамон кивнул, и начал рассказывать.
— Чушь. — Не выдержал оруженосец, речь дошла до разговора о черной смерти. При чем тут крысы? Все знают, что виноваты криды — недаром болезнь их не трогает.
— Все знают. — Кивнул Бертовин. — Но когда черная смерть разгулялась в столице и кридов изгнали из города — что-то изменилось?
— Болезнь ушла.
— Ушла. — Согласился воин. — Через два месяца. Не слишком ли долго?
— А может быть, болезнь их не трогает, потому, что в домах кридов нет крыс? — вмешался Рамон. По пути домой он не переставал думать о том, что услышал от чужих, и сейчас рыцарю казалось, что ответ вот-вот найдется. — Им запрещено возделывать землю — поэтому они превратились в народ ростовщиков и торговцев. Их вера предписывает есть только особым образом приготовленную пищу. Не может ли быть, что они не держат дома запасов еды, а значит, крысам негде разгуляться?
— Думаешь? — Дагобер с сомнением покачал головой.
— Криды не торгуют едой. А еще они не ходят на праздники и в церковь. — Вмешался Бертовин.
— Не хочешь ли ты сказать, что зараза может жить в доме Господа нашего? — взвился оруженосец.
— Тихо! — прикрикнул Рамон. — Оставим в покое церковь. Крысы. Я склонен верить тому, что услышал.
— Похоже на правду. В любом случае, от кошки в доме хуже не будет. — Согласился Бертовин.
— Я видел, что ты утратил веру. — Прошептал Дагобер. — Но что дело зашло так далеко… Кошки — твари нечистого, так говорят отцы церкви.
— Перестань причитать. — Рыцарь осенил себя священным знамением. — Видишь, ничего не случилось. Нет во мне никаких бесов. Хочешь, кошку в святой воде искупаем?
— Нет.
— Слава богу, ты не совсем помешался на вере. — Усмехнулся Рамон. — Как по девкам бегать, так никакие наставления отцов церкви не мешают, а тут… Успокойся, и подумай. Потому что, если здешние ученые правы, герцог должен об этом знать.
Дагобер замолчал, и молчал довольно долго. Наконец, он перестал теребить шкуру и поднял голову.
— Я расскажу отцу.
В эту ночь поспать снова не вышло. Рамону снилось, что вокруг снова бой, и все залито кровью… реками крови. Проснуться среди ночи было облегчением — но запах крови никуда не делся. Юноша открыл глаза и заорал от неожиданности — прямо на него смотрела оскаленная чудовищная морда, кровь в лунном свете казалась черной. Он рывком вскочил, подхватывая меч. Выругался, разглядев то, что его так напугало. На подушке лежала крыса с наполовину отгрызенной головой.
Дверь с размаху шарахнулась об стену, в комнату влетел Бертовин с оружием наготове. Перевел взгляд с воспитанника на чудовище в кровати и расхохотался.
— Смешно ему. — Проворчал Рамон. — Чуть не обделался: просыпаюсь, а тут этакая харя перед носом.
— Привыкай, теперь каждый день так просыпаться будешь.
— Вот спасибо, порадовал. — Юноша оглянулся на шорох. Из темноты дверного проема показалась кошка. Прорысив до кровати, она вспрыгнула на подушку. Еще одна крыса легла рядом с предыдущей.
Бертовин зашелся в очередном приступе смеха.
— Добычей делятся, а ты не ценишь.
— Спасибо, мать ее так…
Рамон вернулся в кровать. Скорчив брезгливую мину, взял за хвост обеих крыс, положил их на пол. Посадил рядом кошку, пригрозил:
— Еще раз мне под нос положишь — хвост оторву. Я это не ем, ясно?
Запустил подушкой в сторону хохочущего кутилье. Тот понял намек, исчез за дверью. Рамон пощекотал кошку за ухом. Та потерлась щекой о руку, спрыгнула с постели и юркнула в щель под дверью.
Утром на полу ровным рядом лежало полдюжины крыс.
Глава 6
Море дало о себе знать загодя: свежим соленым воздухом, разлившемся меж холмами, кружащимися над головой чайками. И все же, когда холмы раздвинулись, открывая сероватую бесконечность, Эдгар замер от неожиданности. Слишком уж оно было огромным. Проведшему детство среди лесов, а юность — в камне узких городских улиц казалось невозможным поверить в то, что все это — настоящее.
Эдгар направил коня к берегу, остановил неподалеку от обрыва. Где-то за спиной войско продолжало мерно двигаться своим путем — на запад к гавани. Но сейчас Эдгару не было до них дела.
Рядом спешился Рамон, шагнул к краю бездны.
— Осторожней! — не выдержал Эдгар.
Тот отмахнулся, начал спускаться, прыгая по камням. Эдгар хотел было последовать за братом, но одного взгляда вниз хватило для того, чтобы замерло, отказываясь подчиняться, тело, а ноги показались ватными.
— Рамон!
— Иди сюда, — откликнулся тот. — Тут здорово.
Ученый снова глянул вниз: Рамон устроился на небольшом каменном карнизе, свесив одну ногу и опираясь подбородком на колено другой. Далеко внизу шелестели волны, вылизывая скалы.
— Иди сюда! — повторил он, глядя снизу вверх.
Эдгар покачал головой, честно признался:
— Боюсь.
— А. - отозвался брат, и Эдгар, как ни старался, не смог уловить в голосе ни грана насмешки. — Понятно. Ты иди, если не хочешь ждать, я догоню. Коня только стреножь.
— Я тут посижу. — Молодой человек опустился на валун. Помолчал, глядя на волны.
— Красиво.
— Красиво. — Повторил снизу Рамон. — Хочу запомнить. Люблю море.
— Разве в Агене его нет?
— Там оно другое… Не знаю, как объяснить. Увидишь.
Он в самом деле не знал, как объяснить, порой чувствуя себя удивительно косноязычным. Но то что это море — серая вода под серыми тучами, холодная, несмотря на начало лета — разительно отличалось от того, яркого, в бликах солнечных зайчиков, пляшущих на волнах, казалось очевидным. Он не смог бы сказать, какое любит больше. Там, на западе, в Агене, он скучал по дому, и прожив два года не выдержал, попросил герцога отпустить. Тем более, что дальнейшие завоевания, похоже, откладывались — за эти два года армия едва-едва смогла навести порядок в окрестностях города. Но и дом оказался чужим. То, что в памяти чудилось родным гнездом, наяву оказалось холодными каменными стенами, полными сырости и сквозняков, и чужими людьми, которых Рамон вроде был бы должен любить, но никак не выходило. С матерью он рассорился едва ли не через неделю после возвращения, потребовав отчета о том, как ведутся дела — как-никак, именно Рамон с Рихмером теперь были старшими мужчинами в доме. И если брат предпочитал не лезть в дела, отговариваясь скукой, а на деле — опасаясь спорить с матушкой, не желавшей выпускать главенство из рук, то привыкший повелевать людьми, Рамон хотел быть хозяином в собственном доме. Ему это удалось, но мать фактически перестала общаться, ограничиваясь парой вежливых фраз за обедом. В качестве шага к примирению, Рамон согласился жениться — и мать оттаяла, когда ей препоручили выбор невесты и организацию свадьбы. Самому юноше было совершенно все равно. Жена оказалась тихой и незаметной, как и полагается девушке из хорошей семьи, слушала мужа, опустив очи долу, со всем соглашаясь — и Рамон потерял к ней интерес еще до конца медового месяца, сведя все общение к выполнению супружеского долга и все тем же пустым разговорам за обедом. Наверное, это было неправильно, но по-другому не получалось.
Он сам не знал, чего ждет от возвращения на запад. Порой Рамону казалось, что память услужливо подсовывает то, как должно было быть вместо того, что было на самом деле. Что он придумал себе Аген, как когда-то придумал отчий дом. Но по крайней мере, сюзерену он был нужен, а дома — нет.
Похоже, Дагобер не стал откладывать разговор с отцом, потому что герцог вызвал Рамона уже через день. Явившись, юноша обнаружил в зале, служившем герцогу приемной, Хасана и отца Сигирика, присланного высоким престолом. Его Святейшество полагал, что не след оставлять войско, должное нести язычникам свет истинной веры, без представителей церкви. Справедливости ради нужно сказать, что Сигирик не только справлял службы, отпускал грехи перед битвой и следил за нравственностью вверенной ему паствы. Решив, что служителю господа подобает проявлять милосердие не одними молитвами, он вместе со своей свитой ходил за ранеными, не говоря уж о последнем причастии. Тем не менее, его недолюбливали, да и трудно любить человека, который вместо того, чтобы закрывать глаза на мелкие грешки, свойственные всем людям, пускался проповедовать. Многие из застигнутых им на месте преступления, предпочли бы епитимью этому воистину зубодробительному морализаторству.
Герцог вошел в зал, кивнул в ответ на поклоны, жестом отпустил слуг. Вместо того, чтобы воссесть на богато разукрашенное подобие трона, по-простому опустился на ступеньку рядом, указал гостям на приготовленные для них сиденья. Сигирик скривился — сам он и без того разговаривал бы с герцогом сидя, но позволить то же мальчишке и язычнику… Авгульф сделал вид, что не заметил выразительной гримасы святоши, и велел Рамону пересказать услышанное от Лии. Тот начал рассказывать, стараясь не упустить ни малейшей детали.
— Бред! — вскричал священник, едва Рамон заговорил о крысах. Все знают, что…
— Отче. — Мягко прервал его герцог. — Прошу тебя, дай гостям ответить на мои вопросы. Трудно о чем-то судить, не выслушав до конца.
— Не всякие речи должно слушать. То, что противоречит святому писанию, не должно осквернять ни слуха, ни мыслей.
— Отче, твои познания в святых текстах превосходят мои. Не будешь ли ты так добр напомнить, каким именно строкам писания противоречат слова этого юноши?
— Они противоречат здравому смыслу. Все знают, что…
— Значит, писанию они не противоречат? Тогда позволь, мы закончим разговор. — Герцог кивнул бывшему оруженосцу. Рамон, продолжай.
— Да я, по сути дела, закончил.
— Хорошо. — Авгульф повернулся к Хасану. — Скажи, здесь действительно считают, что черную смерть носят крысы?
— Да, господин.
— Признаться, я не понимаю. У нас говорят, что эту болезнь наводят своим колдовством криды. Когда в город приходит черная смерть, она никогда не заходит в их дома, и это позволило ученым мужам утверждать, что сей народ в сговоре с болезнью.
— Криды… — протянул Хасан. — Правильно ли я понял, ты говоришь о народе, что рассеян по всему свету, не имея родины?
Герцог кивнул.
— Мне кажется странным мнение, будто они не болеют. Когда в город приходит черная смерть, криды тоже заболевают, я не раз видел это собственными глазами.
— Ты в сговоре с этим богомерзким народом! — вскочил священник.
— Отче. — Сказал герцог, вроде бы негромко, но Сигирик мигом заткнулся.
— Некоторые считают. — продолжал Авгульф, — что криды просто ненавидят истинную веру и пользуются любым способом, чтобы навредить тем, кто ее исповедует. Правда это, или нет, но подобное мнение дает хоть какое-то объяснение, зачем это нужно кридам — если болезнь наводят они. Зачем это нужно крысам, и могут ли неразумные твари наводить черную смерть?
— Ты прав, крысам это не нужно, тем более, что животные не умеют чего-либо желать. Наши ученые считают, что сперва они заболевают сами, болезнь разносится от твари к твари. И когда больных крыс становится слишком много, черная смерть переходит к людям — возможно, с подпорченной пищей или с миазмами, которые распространяют больные животные. Не раз было замечено, что сперва в домах начинают появляться крысиные трупы, а вскоре в город приходит черная смерть.
— Тогда почему наши ученые не заметили то, что, как ты говоришь, неоднократно замечали ваши?
Хасан пожал плечами:
— Может быть, дело в том, что наши ученые искали ответ, а ваши полагали, что уже знают его?
Герцог кивнул и надолго замолчал.
— Я велю своим людям поставить ловушки. — Сказал он наконец. — Но этого может быть мало. Говорят, ваш народ разводит кошек.
— Язычники! — не выдержал Сигирик. — Кошки есть порождение нечистого!
— Вы не приручаете хорьков и ласок? — продолжал герцог, словно бы не слыша священника.
— Это так. — Кивнул Хасан. — Мы разводим кошек.
— Благодарю тебя. Можешь идти.
Тот с достоинством поклонился и вышел.
— Никто не захочет держать дома беса. — протянул Авгульф.
Рамон хотел было сказать, что ничего бесовского в своей трехцветной мурлыке не заметил, но взглянув на священника, решил промолчать.
— С другой стороны. — продолжал герцог, — святой престол в своих письмах говорит о черных кошках, ни слово не упоминая о…
— Какая разница! — похоже, Сигирик на время разучился говорить нормальным тоном и был в состоянии только кричать. — Ты впадаешь в…
— Рамон, выйди. — Резко сказал сюзерен. — Я позову.
Юноша кивнул и едва не бегом покинул зал.
Ждать пришлось долго. наконец, из двери вылетел покрытый красными пятнами отец Сигирик, а следом выглянул герцог.
— Заходи.
Он снова опустился на ступеньки у трона, жестом приказал юноше сесть.
— Запомни: выкручивать людям руки нужно без свидетелей. — Авгульф усмехнулся. — Даже если делаешь это с позиции логики, а не силы. Впрочем… ладно, неважно. Я издам указ, предписывающий моим людям извести в своем жилье крыс всеми доступными методами. А отче прочтет проповедь о том, что черные кошки суть посланцы нечистые, но, — он воздел указательный палец, — только они. Так как святой престол в своих письмах поминает исключительно черных кошек, ни словом не говоря о других, значит, остальные твари безвредны с духовной точки зрения и исключительно полезны для истребления крыс… тем более, что других животных, способных это сделать, здесь не найти.
— А он прочтет? — поинтересовался Рамон.
— Да. Но давай о другом. — Ты знаешь, почему пал город?
Рамон припомнил риторику отца Сигирика:
— Господь снизошел к неустанным молитвам…
— Брось — фыркнул герцог. — Никто не подслушивает.
— Откуда ж мне знать?
— В столице умер король, не оставив наследника. И тот, кто вел сюда войско, узнав об этом повернул назад — престол показался ему интересней, чем битва за город. Узнав об этом, наместник бежал… говорят, кроме него никто не знал про тайный ход. — Авгульф пожал плечами. — Может, врут, может, правда. Словом, наместник сбежал, никого не поставив в известность. А тот, кто был его правой рукой, узнав о бегстве господина, приказал открыть ворота.
— К чему ты клонишь?
— К тому, что у господа странное чувство юмора. Человек, у которого ты гостил третьего дня, был тем самым открывшим ворота.
Рамон присвистнул. Герцог кивнул.
— Он говорит, что счел это единственным разумным выходом — да ты сам видел, что творилось в городе. Но кто знает, что на самом деле у него за душой?
Рамон поморщился.
— Господин, прости, я воин а не доносчик.
— А я и не прошу доносить. — усмехнулся Авгульф. — Я только хотел сказать, что надеюсь, ты и впредь не утаишь от меня то, что сочтешь важным. Ступай. И спасибо тебе.
Они долго молчали думая каждый о своем. Наконец, Рамон оглянулся:
— Поехали?
Эдгар кивнул, протянул руку помогая выбраться. Рамон принял поводья, снова подошел к краю обрыва, заглянул вниз. Брат подхватил его под руку.
— Не дергайся. — Усмехнулся воин. — В этот год со мной ничего не случится.
Он вскочил в седло, тряхнул волосами:
— Догоняй. Спорим, я быстрее?
Эдгар проглотил словцо, не подобающее его будущему сану, и пустил коня вскачь.
Корабли Эдгару не понравились. Когда-то, еще мальчишкой, он любил слушать рассказы о чужих странах и диковинных людях. Корабли в этих рассказах именовались не иначе как «быстроходные», а то и «величественные», и Эдгару невольно представлялось нечто стремительное и грациозное, подобное по красоте породистому скакуну. Низкие, тяжелые, с круглыми, словно надутыми изнутри боками суда настолько отличались от его фантазий, что юноша почувствовал себя обманутым.
— Это плавает? — протянул он, разглядывая огромные просмоленные бока и ряды торчащих весел.
— Иногда тонет. — хмыкнул Рамон.
— Типун тебе на язык. — ученый осенил себя священным знамением.
— Каков вопрос, таков и ответ. — Молодой человек рассмеялся. Посмотрел на кислое лицо брата, и стал серьезным:
— Это торговые корабли. А купцы — народ осторожный. Так что это самый надежный из вариантов. И довольно быстрый. Две недели — и мы на месте.
Эдгар с сомнением покачал головой, вздохнул:
— В конце концов, все в руке божией.
— Истину глаголешь. — Фыркнул воин. — Тут рядом город. Если хочешь, пошлю человека в запастись выпивкой. Будешь всю дорогу или в стельку или с похмелья — в любом случае, думать о том, сколько воды под ногами будет некогда.
— Не надо.
— Многие так и делают.
Эдгар снова вздохнул:
— Я бы предпочел предстать перед господом в здравом уме.
— Типун тебе на язык. — Рамон хлопнул брата по плечу. — Что ж, будешь единственным трезвым человеком на корабле, не считая команды. Потому, что те, кто не пьет от страха, напьются от скуки. А человека в город я все же пошлю — Хлодий вон тоже зеленый бродит, а Бертовин точно не подумал для него вина припасти.
— «Тоже» — невесело усмехнулся Эдгар. — Что, так заметно?
— Мне заметно. Другим — не уверен. Не бери в голову. Бояться не стыдно. Стыдно, когда страх берет верх над разумом.
— Мне кажется, что ты ничего не боишься.
Рамон поджал плечами:
— Я уже плавал и туда и обратно. Как видишь, жив-здоров.
— Я не о том.
— Я понял. — молодой человек помолчал. — Свое я уже отбоялся. В ту ночь когда погиб Авдерик и потом, когда понял, что… Что «все мы смертны» — плохое утешение, когда знаешь, сколько тебе отведено. Было так плохо, что порой казалось — лучше бы я погиб в том же бою, вместе с братом. Потому что так жить — невозможно… невозможно, когда жизнь превращается в страх, а мне казалось тогда. что отныне так и будет… все то время, что мне отведено. А потом… не знаю, что случилось… вдруг стало очевидным, что у меня есть время либо на жизнь, либо на страх. И я выбрал жизнь.
Поначалу все шло именно так, как и предрекал Рамон. Набившиеся в трюмы кораблей люди, кажется, даже не стали дожидаться, пока те отчалят. Мигом сбившись в группы — господа с господами, простые ратники с себе подобными, слуги своей компанией, пассажиры начали заливать вином то ли страх, то ли скуку. Хуже всего оказалось то, что уединиться на корабле было невозможно, и волей-неволей Эдгару приходилось слушать нестройное пение, цветистую ругань, а периодически и наблюдать за драками… Однажды он попытался вмешаться, мол, воинам нечего делить и лучше бы приберечь пыл для язычников. Синяк под глазом довольно быстро привел ученого в чувство, отбив желание лезть не в свое дело. Рамон принес с палубы ведро ледяной забортной воды, и они вместе долго возились с примочками. Ткань моментально грелась, Эдгар шипел, Рамон хохотал — мол, нашел место и время читать проповеди.
— Но ведь это неправильно. — Не выдержал ученый. — Разве пристало благородным рыцарям вести себя, точно подвыпившим подмастерьям?
Рамон расхохотался еще пуще:
— Братишка, в какой башне слоновой кости тебя воспитывали? Что, студиозусы не бьют друг другу морды, предварительно надравшись как следует?
— Ну…
— Так если будущие светила церкви могут вести себя таки образом, то почему это не пристало рыцарям? Или ты хочешь сказать, что кодекс поведения отцов церкви менее строг, нежели воинский?
Эдгар не нашелся, что ответить, и решил сменить тему.
— Щиплется…
— Ничего, быстрее сойдет.
— Да плевать, не девка ведь. Нашел с чем возиться.
— Явишься ко двору с битой мордой, сплетен не оберешься.
— Кому я там сдался?
Рамон в который раз выжал тряпицу.
— Не скажи. Так далеко от дома каждый новый человек — событие.
— Так вон их, новых, пять кораблей плывет.
Воин вздохнул.
— Не пойму, то ли ты в самом деле дитя малое, то ли притворяешься.
— О чем ты?
— Ты едешь учить невесту герцога. Полновластного хозяина новых земель, раздающего лены. Брата короля — но это мелочи. Тебя не оставили бы без внимания, даже если бы ты был безродным подмастерьем.
— Так я и есть безродный…
— Да ну? Матушка не успела вдолбить тебе генеалогию? Мы с королями в родстве были — пока пра-пра… не тем будь помянут, проклятье не заработал.
— Я ублюдок, забыл?
— Ну да. Только в глазах всех это делает тебя еще более привлекательным объектом для сплетен. Эдгар, я знаю о чем говорю — в конце концов я вырос среди этих людей. Я жил в доме герцога восемь лет.
Эдгар помолчал.
— Признаться, я уже начинаю жалеть, что согласился.
— Полагаю, так или иначе, тебе бы не оставили выбора. — Пожал плечами Рамон. — С другой стороны, может хоть так ты научишься просчитывать последствия своих поступков. А то старше меня, а ведешь себя не хуже Хлодия, право слово. У того одни героические баллады в голове, у тебя — святое писание. А как это совмещается с настоящей жизнью, ни его, ни тебя не волнует.
Эдгар хотел было возмутиться, но вместо этого снова надолго замолчал. Потом тихо сказал:
— Наверное, я просто не знаю, какая она — настоящая жизнь.
— Значит, пришла пора узнать. — Так же негромко ответил Рамон.
Хуже всего было то, что читать у Эдгара не получалось. Он специально припас в дорогу список нового трактата о совершенстве божественном и первородном грехе, но обнаружил, что не в состоянии одолеть ни страницы. Стоило только попытаться всмотреться в мелкую вязь букв, как морская болезнь, вроде бы не беспокоившая в обычное время, отчетливо давала о себе знать. Он честно попытался было не обращать внимания на слабость плоти — и едва успел вылететь на палубу и добежать до борта, занятого такими же страдальцами. Вторая попытка одолеть строптивый трактат закончилась столь же печально, а на третью молодой человек уже не решился. И оставалось только спать, молиться и размышлять. Рамон, судя по всему, становиться брату нянькой не собирался. Нет, он никогда не отказывался поддержать разговор, если оказывался рядом — но чаще пропадал где-то среди пьющих или играющих в кости. Эдгар попытался было его образумить — ведь кости, как и любые игры возбуждают алчность, коя есть грех смертный — но приподнятая бровь и невероятно ехидная ухмылка остановили поток благочестия раз и навсегда.
Так протянулась неделя, и молодой ученый приготовился было к еще одной столь же тоскливой, заранее успев оплакать потерянное время, как все изменилось.
Он не был силен в морском деле, и так и не узнал, предвещало ли что-то беду. Просто однажды начавшийся с вечера ветер превратился к утру в нечто, неописуемое обычными словами. Эдгар не знал, как это называется — буря ли, ураган или как-то еще. И правду говоря, ему было не названий. Удержать бы остатки ужина внутри и удержаться самому — нет, не на ногах, какое там! В мире не осталось ничего надежного, и казалось, что он сам вот-вот покатится куда-то, точно бочка с горы, грохоча и подпрыгивая. И оставалось только вцепиться во что-то — или в кого-то и молиться. В кромешной тьме трюма, где свечи давно повыбивало из шандалов. Рядом кого-то выворачивало, кто-то выл в голос. И как раз когда Эдгар отчетливо понял, что рассказы о геенне огненной — вранье от начала до конца а если и есть преисподняя, то она именно такова: темная, тесная и наполненная воплями грешников — до него добрался Рамон. Уму непостижимо, как он разыскал брата в творящемся вокруг безобразии, хотя, если подумать, они спали рядом. Но сейчас и сажень казалась бесконечной.
— Извини, пришлось Хлодия успокаивать. — Голос воина звучал не слишком ровно, но страха в нем не было. — Все-таки я его господин. Сейчас отец за ним приглядит, но поначалу вдвоем уговаривать пришлось, что все в порядке.
Тело снова потеряло опору и Эдгар, едва не закричал.
— У тебя странные представления о том что такое «все в порядке».
Послышался негромкий смешок, и рука брата сжала запястье.
— Если корабль начнет тонуть, не думаю, что господь сотворит чудо для меня одного. Порой я благодарен проклятью.
Кто-то упал прямо на них, с руганью откатился в сторону.
— Рамон… — наверное, не надо было об этом спрашивать, раз ему до сих пор не рассказали, но молчать было и вовсе невыносимо. — Откуда оно взялось?
Тот ответил не сразу, и Эдгар приготовился было извиняться.
— Пять колен назад, — ответил, наконец, Рамон. — моему пра… неважно, в общем, моему предку глянулась крестьянка.
— Полагаю, она не оценила оказанной чести. — Эдгар удивился сам себе, откуда только взялись силы на ехидство?
— Правильно полагаешь. И он поступил, как сотни господ до и после него — взял девку силой.
— Я как-то читал воспоминания… — паузы, наполненные чужими ругательствами и молитвами были невыносимы, и Эдгар был готов говорить о чем угодно, лишь бы не молчать. — Не помню чьи, кажется кого-то из королевской семьи, а написаны они были в начале века… получается, примерно когда все это происходило. Так вот, там было сказано, что порядочная женщина, если только она не законная жена, никогда не ответит согласием на предложение мужчины. Как бы она не желала этого, ей помешает природная скромность, помноженная на хорошее воспитание. Поэтому не нужно бояться применить силу — чаще всего женщина и сама этого хочет, иначе зачем бы ей возбуждать желание в мужчине? Но, разумеется, следует ранить случившееся в тайне, оберегая ее честь. Получается, твой… наш предок не совершил ничего предосудительного.
— Может быть. — В голосе Рамона прозвучал сарказм. — Я впервые попробовал это дело в Агене, а там женщины отдаются с радостью и не стыдятся этого.
— Не может же целый народ быть настолько развратен…
— Эдгар, ты вроде не дурак. — фыркнул брат. — Подумай сам: если женщину возьмут в жены после того, как она родит — не раньше. Считается, что только так можно удостовериться. не бесплодна ли она… да и первые роды самые опасные. а так она из гарантирована пережила, и, значит, родит еще. Так вот — ты знаешь какой-то другой способ зачать ребенка, если не в постели? И какая, к бесам, может быть «природная скромность», если любая девушка старается как можно быстрее родить и выйти, наконец, замуж?
— В голове не укладывается… пробормотал ученый.
— Уложи. Иначе туго придется. Так вот, возвращаясь к… Минули годы. Времена тогда были развеселые. Слабый король, на которого никто толком не обращал внимания, и его вассалы, перекраивающие земли под себя — кстати, именно тогда наш род и приобрел большую часть нынешних владений. И вот, в очередной войне с соседями, один из наемных отрядов нашего предка перешел на сторону врага. Наши хроники гласят, что сделали они это исключительно по наущению одного из них, молодого человека, долгого мутившего воду из ненависти к нашему роду. Возможно, причина была банальней, и им просто не заплатили — кто сейчас скажет. Как бы то ни было, предок показал себя неплохим полководцем. Он сумел повернуть ход битвы в свою пользу, несмотря на предательство. Наемники были уничтожены, горстку взятых живыми повесили. За исключением того, на кого солдаты указали как на зачинщика. Его надлежало посадить на кол. В наущение. Опять же, кто знает, может на парня просто свалили чужой грех — молод он был для зачинщика. Хотя порой бывает, что люди идут за вождем не оглядываясь на его возраст.
— Тот парень был…
— Перед началом казни в ноги предку бросилась старуха, умоляя пощадить ее единственного сына — его незаконнорожденного ребенка. Единственную опору в старости, потому что замуж она так и не вышла — кто возьмет потаскуху с выблядком? Тот велел гнать ее прочь, сказав, что если бы он считал всех своих ублюдков, то родичей бы у него было бы полкоролевства.
— И вот тогда она его и прокляла. — догадался Эдгар.
— Да. — кивнул Рамон. — Дословно сейчас не вспомню, да и вряд ли тот, кто это записывал передал все слово в слово… смысл сводился к тому, что девять колен его законных наследников не проживут дольше ее сына.
Он снова замолчал, но в этот раз Эдгару не захотелось ни о чем расспрашивать.
— Предок сначала посмеялся, приказал выпороть старуху и прогнать с глаз долой, чтобы впредь знала, как себя вести при господине этих земель. А через неделю двух его старших сыновей унесла холера — одному было двадцать семь, второму двадцать три. Он приказал было разыскать старуху, но та как сквозь землю провалилась. Еще через два года лошадь сбросила с седла младшего, и тот свернул шею, не дожив неделю до двадцатидвухлетия. Обезумев от горя, предок решил разыскать ту старуху во что бы то ни стало, попутно искореняя всех ведьм, подвернувшихся под руку. Получил благословение церкви — и костры запылали по всему графству. Тем более, что ведьм тогда было не в пример больше — то скотий мор то саранча, то еще какая пакость. Он все же нашел ту старуху, но не остановился, посвятив остаток жизни охоте на ведьм. И умер от удара, узнав, что пережил последнего внука.
— С тех пор так оно и продолжается? — осторожно спросил Эдгар.
— С тех пор так оно и продолжается. — Рамон поднялся. — Схожу на палубу, посмотрю, что там творится. Все лучше, чем болтаться в темноте от борта к борту и нюхать чужую блевотину.
— Ни зги ж не видно, как найдешь?
— Я помню примерно, куда идти.
Эдгар услышал, как брат, чертыхаясь, роется среди вещей, потом тот повторил:
— Пойду, посмотрю.
— Можно с тобой?
— Пошли.
Рамон крепко ухватил брата за запястье и потянул куда-то в темноту.
Глава 7
Перед тем как открыть люк, ведущий на палубу, Рамон остановился, завозился в темноте. Эдгар почувствовал, как вокруг пояса обвилась веревка.
— Зачем это?
— Кто его знает, что там творится. Вовсе не хочется вылавливать тебя в волнах. Да и самому, если что, неохота бултыхаться невесть сколько, пока не найдут и не спасут или к какому-никакому берегу не прибьет. Тем более не хочется доживать дни, одичав, на каком-нибудь острове.
— А что, просто держаться не поможет?
— Может не помочь. — Ответил Рамон и распахнул люк.
Слабый свет, льющийся с небес, после тьмы трюма показался ослепляющим. Эдгар зажмурился, тут же палуба в очередной раз ушла из под ног. Пришлось волей-неволей открыть глаза и вцепиться во что-то, попавшее под руку. «Чем-то» оказался Рамон, зашипевший от боли — хватка у брата была не слабая.
— Извини. — сказал Эдгар.
Небо вспыхнуло, раскалываясь на части, и на мгновение молодой человек потерял способность видеть, слышать и соображать. Когда чувства вернулись, Эдгар обнаружил, что сидит на палубе, а рядом, скрестив ноги, устроился Рамон. Стоять и в самом деле было невозможно.
Наверное, где-то рядом были матросы, что-то делали — Эдгар не видел ничего, кроме почти черного неба и серо-фиолетовых волн, то поднимавших корабль так, что казалось, можно коснуться туч, то ронявших его куда-то в глубины преисподней. Вода захлестнула палубу, оказалась со всех сторон, подхватила сильными лапами. Эдгар судорожно вцепился в веревку, потеряв всякое представление о верхе и низе и ощущая себя осенним листком, несущимся по ветру. Вода схлынула, оставив его, ослепшего, отплевывающегося от горькой соли.
Он не сразу понял, откуда рядом раздался смех. Разлепив глаза, Эдгар увидел брата — такого же мокрого с головы до ног. Рамон держался за борт, смотрел в море и смеялся.
— Здорово, правда? — он обернулся, и Эдгар удивился снова, увидев почти счастливое лицо и горящие восторгом глаза.
— Что?
— Ну… Все это — Рамон повел рукой вокруг. — Ты никогда не пускал коня в галоп под летним ливнем?
— Нет.
Рамон снова засмеялся.
— А мне нравится. Только сейчас захватывает куда сильнее.
— Да уж куда как захватывающе, — пробурчал Эдгар.
Их снова накрыло, и снова пришлось отплевываться, и снова море и небо поменялись местами. Но, как ни странно, Эдгар почувствовал. что понимает брата — во всяком случае, он сам сейчас ни за что не согласился бы вернуться в сухой и кажущийся отсюда уютным трюм. Что-то исконное, первобытное просыпалось внутри, и вскоре Эдгар обнаружил, что орет во всю глотку невероятно похабную песню из тех, что ваганты горланят по кабакам — по крайней мере, пытается орать, когда не отплевывается от воды, и не летит с ней невесть куда — а Рамон, неизвестно где выучивший слова, ему подпевает, если подобные вопли вообще можно назвать пением. Наверное, команда сочла их безумцами — да, по правде говоря, так оно и было — но впервые в жизни Эдгару казалось неинтересным, что о нем подумают.
— Хватит. — сказал, наконец Рамон. — пошли обратно.
— Еще немного.
— Хватит. — повторил он. — Хорошего понемножку.
Эдгар вздохнул, послушно поднялся. Удивился, почувствовав невероятную усталость — словно целый день провел за воинскими упражнениями.
— Смотри! — Рамон схватил его за руку, показывая куда-то меж волн. Эдгар, проморгавшись после очередной молнии, вгляделся, и увидел еще один корабль, выглядевший отсюда детской игрушкой. Откуда-то вернулся страх — настолько хрупким и беззащитным тот казался. Стало холодно — ветер и вправду пробирал до костей, и захотелось обратно в трюм.
— Пойдем. — Он дернул за рукав Рамона.
— Да. — Кивнул тут, и тут же, охнув, прошептал. — Господи…
Эдгар поспешно обернулся. Время исчезло, и он увидел, как уже лежащий на боку корабль медленно-медленно поворачивается вверх дном. Сверху, так же медленно опустилась еще одна волна, закружил водоворот. Небо в который раз раскололось на слепящие осколки, а когда зрение вернулось, осталось лишь бешеное море.
— Упокой, Господи, души их. — Сказал Рамон.
Эдгар закрыл глаза — не помогло, слезы не останавливались. Зашептал заупокойную молитву. Рамон молча ждал. Грохотало небо, заглушая слова. Падали волны. Эдгар сам не понимал, как он умудрился не сбиться до самого конца.
— Пойдем. — сказал Рамон. Обнял за плечи.
— Пойдем.
— Там, внизу… Не говори никому. Им и без того страшно.
— Мне тоже.
— Знаю. Пойдем. Все будет хорошо.
— Как там? — спросил Бертовин, когда они добрались до своих.
— Мокро. — Буркнул Рамон.
— И охота была вылезать?
Рамон не ответил. Вытащил два одеяла, бросил одно брату. Как следует переодеться, когда вместе с кораблем болтает туда-сюда и только успевай держаться, не получалось.
Эдгар не знал, колотит ли его от холода или от того, что он только что видел. Во всяком случае, теплее не стало даже после того, как завернулся в одеяло. Он всегда думал, что не боится смерти — да и в самом деле, чего бояться человеку, знающему, что после завершения земного пути обретет жизнь вечную? Страшно лишь умереть внезапно, без покаяния и отпущения. Именно поэтому, как Эдгару казалось, он и нервничал перед посадкой. Но сейчас страх стал невыносимым. Рядом Рамон с Бертовином по очереди травили непристойные байки, гоготали солдаты из их копья, смущенно подхихикивал Хлодий — можно было поклясться, что щеки у парня пылают. А Эдгара колотило от страха и обжигало стыдом за собственную трусость. Наверное, было бы легче, если бы удалось поговорить, просто выговориться — но говорить было нельзя.
— Рамон, на корабле есть священник?
— На нашем — нет. Маркиз не любит, когда его тычут носом в собственные прегрешения. Хотел исповедоваться?
Эдгар кивнул, не думая о том, что в темноте этот жест никто не увидит.
— Ты сам не раз говорил, что бог слышит любого из малых сих. Так почему сейчас думаешь, что сейчас не дозовешься до него без посредника?
Эдгар покачал головой: бесшабашное неверие брата порой забавляло, но сейчас было не то место и не то время.
— Неужели тебе настолько все безразлично?
— Нет. Но когда не можешь ничего изменить, остается только ждать. Если хочешь — молись.
— А ты?
— А меня он не услышит.
Эдгар хотел было сказать, что нельзя так, что подобные мысли — великий грех, но что-то в голосе брата заставило прикусить язык. В самом деле, что он, не видевший в жизни ничего кроме учебных аудиторий и библиотеки, мог знать о том, что привело Рамона в к его нынешнему безверию, и что на самом деле творится у него внутри? Поговорить бы с глазу на глаз, но как тут поговоришь? Он вздохнул, и начал молитву об умерших без покаяния. Это господь услышит. Не может не услышать.
Рамон не знал, сколько это продолжалось. Он рассказывал какие-то бородатые истории, смеялись его люди — и это было хорошо, потому что кое-кто из чужих выл в голос вслед за своим господином. Смущенно хихикал Хлодий, можно было поспорить, то и дело оглядываясь на отца — и это тоже было хорошо, у парня не будет времени бояться, он слишком занят, разбираясь с новыми границами дозволенного. Эдгар затих в углу, наверняка молился, как ему и предложили, и молитва его успокоит. Кажется, брат и в самом деле верит, что бог его слышит. Благой, всемогущий и всепрощающий отец — Рамон давно не мог в это верить, но если Эдгару так лучше — пусть.
А сам Рамон никак не мог избавиться от стоящего перед глазами корабля. Почти тысяча человек, единым мигом исчезнувших среди волн. Он думал что навидался всякого, и душа давно облачилась в доспех, куда прочнее того, что носили на теле, что смерть, ни своя, ни чужая, давно не способна вывести его из равновесия, а вот поди ж ты. Больше всего хотелось напиться, и побыть одному, но было нельзя. Люди должны видеть своего господина спокойным и собранным. И не знать о том, что господин готов сойти с ума от собственного бессилия. Он ненавидел ситуации, в которых от него не зависело ничего. В бою, пусть даже заведомо безнадежном, можно драться. А сейчас оставалось только сидеть и ждать, чем все кончится. Рамон улыбался — неважно, что темно, улыбка слышна в голосе — бросал какие-то ничего не значащие фразы, и ждал.
Он не знал, сколько они сидели в темноте, и сколько еще осталось. Кажется, даже пару раз удалось задремать, тело и разум просто не выдерживали свалившегося на них. Он не заметил, плавно ли уменьшилась качка, просто обратил внимание, что в очередной раз провалившись в дрему проспал, кажется дольше, чем полминуты после чего волей-неволей приходилось просыпаться. Кто-то попробовал снова зажечь светцы, и лучина не выпала из расщепа.
— Кажется, успокаивается. — Сказал Рамон. Увидел, как вскинулся Хлодий, как Эдгар осенил себя священным знамением. От приклеенной улыбки уже сводило скулы, и он позволил себе расслабиться. Зевнул, прикрывая рот ладонью, оглядел своих людей.
— Не знаю, как кто, а я устал как собака. Проверяем вещи, наводим порядок, и — спать.
Как оказалось, буря действительно закончилась. Когда Рамон отоспался и выбрался на палубу, небо сияло солнцем. Большинство пассажиров выбралось из трюма отдышаться, многие лучились пьяным весельем. Молодой человек огляделся. Помрачнел, заметив торчащий гнилым зубом обломок мачты. Вокруг второй суетились матросы, меняя обрывки паруса на запасной. Рамон еще раз оглядел ошалевших от счастливого спасения людей, и пошел искать маркиза. Тот был в своей каюте, но добиться от него ничего не удалось — Дагобер был мертвецки пьян. Рамон вздохнул, и пошел искать капитана.
Снова выбравшись на палубу, он отыскал взглядом Бертовина:
— Собери людей.
— Что-то случилось? — забеспокоился тот.
— Собери людей. — повторил Рамон. — Вот хотя бы здесь — никто внимания не обратит.
Долго ждать не пришлось.
— Я говорил с капитаном. — начал Рамон. — И то, что услышал, мне не понравилось. Первое — за три дня нас отнесло от курса, и довольно далеко. Второе: мачта сломана, а значит, вместо двух парусов у нас остался один. Третье — ветер утихает и мы можем оказаться в полосе штиля, а на нефе, как вы все уже заметили, весел нет. Все это значит, что до места мы доберемся куда позже, чем планировали.
— А когда? — подал голос Эдгар.
— Почем мне знать? Капитан говорит, что если ветер останется таким, как сейчас — через две недели. Возможно, дольше. Намного.
— Когда мы садились на корабль, две недели должен был занять весь путь.
— Да, и то в худшем случае. — кивнул Рамон. — Мы живы, это главное. Если кто-то хочет напиться по этому поводу, я не против. Но прежде чем продолжить радоваться, нужно кое-что сделать.
— Приказывай. — сказал Бертовин.
— Возьми Хлодия, пересчитай, сколько осталось еды, воды и спиртного. Треть еды отложишь, остальное подели на две недели, будешь выдавать утром каждому его дневную долю, дальше пусть поступают с ней, как хотят.
— Негусто выйдет.
— Негусто. — согласился Рамон. — Ничего, не отощаем. Воды прибережешь половину. Выпивки — две трети.
— Отметили, называется. — Буркнул кто-то.
Воин нашел его взглядом:
— Свою долю, можешь взять всю и вылакать прямо сейчас. Но если дело обернется совсем плохо, то вино, разбавленное морской водой, можно пить. А вот морскую воду в чистом виде — нет.
— Я понял, господин. Прости.
Рамон обвел взглядом своих солдат:
— Я очень надеюсь, что до этого не дойдет. Но лучше пусть я буду трусом, испугавшимся тени, чем мои люди будут голодать.
Он снова обернулся к Бертовину:
— Еще одно. После того, как вы с Хлодием закончите, оставь кого-нибудь сторожить еду. Пока одного, там посмотрим. Мало ли.
— Понял, господин.
— Все. Свободны.
Эдгар осторожно тронул брата за плечо:
— Думаешь, все так плохо?
— Не знаю. Одна мачта цела, а значит, нас не будет носить по морю без руля и без ветрил. Но я должен думать о худшем… в Агене под конец осады, говорят, были случаи людоедства.
— Не сравнивай язычников с…
— Люди везде одинаковы. Неважно, в кого ты веришь: поскреби любого, получишь дикаря. Я надеюсь, до крайностей не дойдет. Очень надеюсь.
— Ты циник, погрязший в безверии.
— Может быть. Но когда от тебя зависят люди, лучше быть погрязшим в неверии циником, чем блаженным, верящим, что все люди чисты и невинны лишь потому, что молятся тому же богу, что и он.
— Мне жаль тебя, брат.
Рамон пожал плечами и отвернулся, уставившись в море. В тот день они больше не разговаривали.
Капитан оказался прав: путь занял еще две недели, и к концу плавания многим пришлось затянуть пояса. До кошмаров, которыми пугал Рамон, дело не дошло, но Эдгар облегченно вздохнул, когда на горизонте показался берег. С братом они давно помирились, и выяснять на опыте, кто из них был прав, как-то не хотелось.
Город встретил разноязыким гамом. Сойдя по пружинившим под ногами доскам, Эдгар замер на миг, обескураженный. Рамон подхватил его под руку, потащил вперед, сквозь людскую толчею. Солдаты копья последовали за ними.
— Куда мы идем?
— Ко мне. Уезжая, я оставил дом на слуг, да и Амикам обещал присмотреть. Тебе ведь все равно пока больше некуда?
— Я думал, меня встретят.
— Кто? Если мы задержались на неделю, и никто не знает, доплывем ли? Сейчас Дагобер прикажет разместить тех, кто здесь впервые, доберется до отца — тогда за тобой пошлют. Не суетись.
Пришлось «не суетиться». Правда, всю дорогу Эдгара так и тащил под руку брат, не давай остановиться и разглядеть ни странно выстроенные дома, ни еще более странные одежды местных. «Успеется» — ворчал он, и продолжал неуклонно вести куда-то.
— Куда торопишься? — не выдержал Эдгар.
— Домой. Я устал от бесконечной качки, тесноты, вони и чужих людей. Поэтому, прошу тебя — пошли домой. Отдохну, высплюсь, и свожу тебя погулять, если хочешь — но не сейчас.
Эдгар вздохнул и подчинился.
Оказывается, Бертовин их обогнал — занятый разглядыванием города, Эдгар и не заметил этого — и когда Рамон со своими людьми подошел к дому, их уже ждали. Немногочисленная челядь выстроилась во дворе, склонившись в поклоне. Рамон кивнул в ответ на приветствия, оставил брата на дворецкого, чтобы тот показал ему отведенную комнату и дом, и пошел к себе. Открыл дверь в свою спальню — за три года ничего не изменилось, да и что могло измениться, по большому-то счету? Разве что впервые в жизни он и в самом деле почувствовал себя дома. Он замер на миг, удивившись, а потом рухнул на кровать и рассмеялся. Будь что будет, но сейчас он — дома.
Постучавшись, в комнату заглянул пожилой слуга, спросил, будет ли господин есть.
Рамон кивнул:
— Неси сюда, спускаться лень. И приготовь помыться, а то самому от себя против ветра встать хочется.
— Что подать?
— А что, в доме полно разносолов? — хмыкнул Рамон. — Готов поспорить, что нас не ждали.
— Твоя правда, господин. Но, думаю, ты не попросишь жареного целиком быка прямо сейчас?
— А вдруг я за три года стал ленив и капризен? — Молодой человек улыбнулся. Не то, чтобы он считал свои шутки верхом остроумия, просто сейчас, несмотря на усталость, ему хотелось смеяться непонятно чему. — Давай что-нибудь на свой вкус… только солонину и сыр не надо, три недели, почитай, только это и ели, уже тошнит.
— Яичница на сале, зелень, вареные раки и вино?
— А моим людям?
— То же самое. Еще копченая рыба, сыр и моченые арбузы и яблоки. Должно хватить. А ужин уже приготовим как полагается.
— Хорошо.
Слуга поклонился. Выходя, на миг задержался в дверях:
— Мы рады, что ты вернулся, господин.
— Я тоже рад.
Он дождался, пока слуга вернется и поставит на стол принесенное.
— Постой. Расскажи, как тут дела?
— Господина интересуют все новости за три года?
— Нет, что ты! — испугался Рамон, представив, сколько болтовни на него выльется. — Про что сейчас люди говорят.
— Купцы жалуются — на дорогах снова шалить начали. Так что посуху, почитай, теперь почти не ходят, все морем. Герцог жениться собрался.
— Это я знаю.
— Ора — ты ее помнишь? — второго родила.
«Помнишь»? Как не помнить? Сливающаяся с белизной простыней кожа, рассыпавшиеся смоляные кудри, негромкий смех, собственное смущение… наверное, он был ужасно неловок тогда, но у нее хватило такта этого не заметить. А потом была вторая ночь, и другие…
— Пусть боги будут щедры к ней. — Ритуальная фраза оказалась удивительно к месту. Слуга просиял — не каждый чужеземный господин помнил о принятом среди его народа.
— Вы вот приплыли… теперь долго говорить будут.
— Подожди, мы что, первые?
— Нет. неделю до вас корабль пришел. Больше не было.
Рамон помрачнел:
— Понятно. Будем надеяться, что доберутся. Спасибо.
— Я могу идти?
— Постой… как там брат?
— Поел. Кажется, собирался отдыхать — я его не понимаю, прости.
Рамон охнул — совсем забыл, что челядь не знает языка. Сам он, едва оказавшись за воротами дома, совершенно машинально перешел на местный диалект, да и его люди, все, кроме Хлодия, уже были здесь и мало-мальски выучились объясняться.
— Если спит — не буди. Если нет — передай через кого-нибудь из моих людей, чтобы чувствовал себя как дома и не стеснялся звать меня, если что не так. А то опять забьется в комнату, и будет бояться лишний раз нос высунуть, чтобы никого не беспокоить. И покажи, где книги, там есть кое-что на нашем языке, это его займет, если я раньше не приду. Ступай.
По-хорошему, надо бы все это сделать самому… но он устал, безумно устал все время быть среди людей, держать лицо. И, если уж быть до конца честным, развлекать Эдгара он тоже устал. Нет, он любил брата — но порой его житейская беспомощность раздражала до скрежета зубовного. Ничего, за несколько часов с Эдгаром едва ли что-то случится, а ему самому надо поесть, вымыться и отдохнуть. Не сколько от дорожной усталости, сколько от людей.
Так Рамон и поступил.
Он собирался честно пробездельничать весь остаток дня, а на следующий заняться встречами. Явиться испросить аудиенции у герцога — не то, чтобы сам Рамон хотел его видеть, но правила приличия есть правила приличия. Напроситься с визитом к тем, с кем увидеться хотелось. Договориться с Хасаном, чтобы тот начал учить Эдгара, жаль, что сообразил о том, что брат не знает языка только сейчас, за время пути многое можно было успеть. Разобраться, кто сейчас в чести, а кто в опале и познакомить брата с этими людьми. Едва ли тот умеет водить нужные знакомства — правду говоря, Рамон и сам этого не умел — но нужно, чтобы его принимали. Тогда после того, как его подопечная переберется в Аген (и если нужда в учителе не отпадет), Эдгар не останется совершенно один, даже если сам Рамон в это время будет далеко… если он вообще будет жив к тому времени. Еще, узнав планы герцога, следовало распланировать подготовку к походу. Потерять пятую часть сил еще до того, как началась война, не слишком-то приятно, но едва ли это остановит герцога, он и без того долго ждал возможности расширить свои владения.
Словом, предстояло много всего, и Рамон счел, что на один вечер безделья он имеет право. Увы, у мира были свои планы.
Слуга постучался именно в тот момент, когда Рамон вылезал из ванны. Тот вздрогнул, зацепился за жестяной край и чуть не упал, выругался.
— Прошу прощения, господин. — Раздалось из-за двери. — Письмо… два. Велели срочно.
— Давай сюда — он завернулся в простыню и пошел к себе, на ходу ломая печати.
Писем действительно оказалось два. Короткая записка от герцога с приказанием явиться, чем быстрей, тем лучше и второе — официальное приглашение на бал, который должен был состояться на следующий вечер.
Рамон швырнул бумагу на стол, длинно и тоскливо выругался. С мокрых волос текла вода. Кое-как выжав, мужчина стянул их на затылке, и начал одеваться.
Герцог принял его без свидетелей. Долго расспрашивал про дорогу, бурю и утонувший корабль, несколько раз перепросив, не примерещилось ли ему. Рамон покачал головой:
— Если бы я был там один, я бы, возможно усомнился. Но двоим не может примерещиться одно и то же. Позови брата и расспроси, если хочешь.
— Ты зовешь его братом? — поднял брови герцог.
— Эдгар и есть мой единокровный брат. И не заслужил того, чтобы его попрекали грехом матери.
— Ну-ну, успокойся. — Герцог покрутил перстень. — Удержать его происхождение в тайне мы, конечно не сможем. Но и специально обращать на это внимание не станем. Он будет наставлять мою невесту в правилах нашей веры, а, значит, относиться к юноше нужно с должным уважением. Правда, сам понимаешь, заткнуть все рты я не смогу.
— Значит, их заткну я. Но в Агене нравы куда более вольные, чем в столице, и если ты, господин, подашь пример соответствующим обращением, полагаю, все остальные поймут, что к чему.
— Уговорил. — Рассмеялся герцог. — Можешь идти. И не забудь о завтрашнем бале.
Рамон поклонился.
— Позволено ли будет спросить, по какому поводу…
— В честь вашего благополучного приезда.
— Благополучного? — Рамону показалось, что он ослышался.
— Вы избежали воистину смертельной опасности, и я смог обнять сына. Разве это не заслуживает праздника?
— Если ты так говоришь…
— Когда придут остальные корабли, мы устроим праздник и в их честь. А потом должным образом почтим покойных. Но завтра мы будем праздновать. Ступай.
Эдгар встретил брата едва ли не в дверях, протянул письмо.
— Что это?
— Читать разучился? — буркнул Рамон, пробежав глазами строчки. — Приглашение на бал.
— Какой-то праздник?
— Его сынок не утоп. — Мужчина выругался.
— Не надо так.
— Не надо? — вскинулся Рамон. — А как надо? Скажи, мать его так, как надо?
Он с размаха пнул аккуратно сложенные у камина поленья, деревяшки загремели об пол. Заглянув в лицо брата, Эдгар отпрянул.
— Тысяча человек утонула. Еще две — неизвестно где, как бы тоже не на дне морском. А мы будем танцевать, чтоб его, и радоваться, что покойники — не мы!
Рамон резко отвернулся, ссутулившись, оперся вытянутыми руками о стену. Медленно выпрямился, провел ладонью по лицу. Снова повернулся к брату.
— Прости. — Сказал он уже спокойно. — Ты этого ничем не заслужил.
— Отказаться нельзя?
— Нет. Так что можешь начинать собираться.
— А ты?
— А я пойду, напьюсь. Один. Прости. Но — один. — Рамон кликнул слугу, коротко приказал на незнакомом Эдгару языке. Слуга вскоре вернулся, неся на подносе бутылку и бокал.
— Мало. — Сказал Рамон. — Это в комнату, и потом еще неси, сразу туда же. И проследи, чтобы ко мне никого не пускали.
Он шагнул было к лестнице, снова обернулся к Эдгару:
— Бертовин, кажется, вернулся… И Хлодий… Поболтай с ними, они хорошие. И там… — он сделал неопределенный жест куда-то в сторону — книги есть… много.
— Мне уже показали.
— Вот и славно.
— Рамон, — осторожно окликнул Эдгар, когда брат уже закрывал дверь. — Мне казалось, что радоваться тому, что ты жив — не стыдно.
— Не стыдно. — Кивнул тот. — Радоваться тому, что ты жив. Не только не стыдно, но… как бы это сказать… правильно, что ли. И чтить погибших рядом с тобой. Но не плясать на костях.
Хлопнула дверь.
Эдгар вздохнул. Выбрал из книг жизнеописание какого-то полководца, и пошел в сад. Похоже, близился вечер, но пока было тепло и солнечно.
Он заметил, что стемнело, только когда окончательно перестал различать буквы. Закрыл книгу, встал с травы.
— Ты станешь гниющим трупом. Почему ты греха не боишься? — Раздалось откуда-то сверху.
Эдгар подпрыгнул, поднял глаза.
В раскрытом окне сидел Рамон, свесив ноги на улицу и декламировал, дирижируя зажатой в кулаке бутылкой:
— Ты станешь гниющим трупом. Почему ты за славой стремишься?
Эдгар знал эту мистерию — ее частенько ставили по церковным праздникам.
— Ты станешь гниющим трупом — почему ты раздут от гордыни?
Рамон отхлебнул прямо из горла, выругался.
— Жизнерадостно, ничего не скажешь.
Бутылка задребезжала по полу. Рамон отклонился куда-то в темноту комнаты, снова выпрямился.
— Кончилось. Ну и бес с ним. И вообще, лучше вот так…
Он встал во весь рост в оконном проеме. Эдгар рванулся было ловить, если что, сообразил, что едва ли поймает и замер, не зная, что делать.
— Я хотел бы умереть не в своей квартире
А с бутылкою вина где-нибудь в трактире
Ангелочки надо мной забренчат на лире:
Славно этот человек пожил в бренном мире
Рамон пошатнулся, присвистнул
— Ууу, пожалуй и вправду, хватит. Ладно, пошло оно все…
Он тяжело спрыгнул обратно в комнату, и стало тихо. Эдгар вздохнул, и пошел к себе.
Здравствуй.
Знаешь, я все таки решился: еду. Будешь смеяться: столько времени ушло на то, чтобы выбрать «да» или «нет». Мне не смешно. Стоило дожить до двадцати с лишним, чтобы вдруг осознать, что всю жизнь меня учили быть вежливым и добронравным, уметь подчиняться, неважно, господину или родителям. Но не делать выбор, и отвечать за его последствия. Где таким вещам учатся люди подобные тебе — бог знает.
Выбор и в самом деле был неочевиден. С одной стороны — помню, как однажды оказавшись на турнире, сопровождая господина, я мечтал, что когда-то и сам выеду на ристалище, и девушки будут хлопать в ладоши и бросать со своих мест рукава. С другой — я ведь так и не прошел посвящения, а, значит, буду сражаться не с рыцарями, а с такими же как я — и все знают, что чести в этом меньше. С одной стороны, нужно хоть раз в жизни понять, чего ты стоишь. С другой — турнир не скоро, к тому времени нам стукнет двадцать один, а ристалище — это не прогулка с девой при луне. И раз за разом находилось вот это «с другой стороны». Все это время я чувствовал себя как тот осел между двух совершенно одинаковых морковок. Пока, наконец, не понял, что хоть что-то, хоть раз в жизни должен решить сам. Почувствовать, что я мужчина, а не выросший маменькин сынок. Я знаю, что мать запретит ехать — и, признаться, перспектива противостояния с ней пугает едва ли не больше, чем далеко не призрачная возможность не вернуться с турнира. Но я устал подчиняться.
Не знаю, как ей сказать. Потому что прекрасно представляю, что будет: сперва запрет, потом крик, потом когда это не поможет — упреки и слезы — мол, она волнуется, а я совершенно о ней не думаю, потом ей станет дурно и все вокруг засуетятся. Приедет лекарь, пустит кровь. Она сляжет, вокруг нее захлопочут невестки, а я буду злодеем, который довел родную мать до такого состояния. И я и впрямь начну ощущать себя последним мерзавцем и сдамся… или в этот раз нет? Не уверен, что выдержу — раньше не получалось.
Пожелай мне удачи, брат.
Рихмер.
Глава 8
Даже если Рамон и страдал поутру от похмелья, со стороны это было незаметно. Когда Эдгар, накануне засидевшийся за полночь, продрал глаза и постучался в комнату брата, тот уже сидел над какими-то бумагами.
— Как ты? — осторожно поинтересовался Эдгар.
— Жив, как видишь. — Рамон провел пальцами по виску, поднял голову: — Ты завтракал? Я тоже нет, пойдем.
Уже успевший привыкнуть к тому, что хозяину дома подают то же что и всем остальным, Эдгар удивился, когда слуга поставил перед братом глубокую тарелку с почти непрозрачным варевом, исходящим горячим паром и густо пахнущим чесноком. Заметил он и то, как Рамон улыбнулся, смущенно и немного виновато.
— Что это? — спросил Эдгар, едва слуга вышел принести вино. Наверное, не стоило так осторожничать, едва ли тот понимал, что говорят господа, но молодой человек, никогда не имевший прислуги так и не научился относиться к ней, словно к живой мебели.
— Местное варево — Рамон снова усмехнулся. — Хвосты, ноги, хрящи ставятся вариться к вечеру и к утру превращаются вот в это. — Он поднял ложку с густой жидкостью.
— Незаменимая штука с перепоя. Но не помню, чтобы вчера просил это приготовить. Я что, сильно буянил напившись?
— Нет, кажется.
— Хорошо. А то было испугался, что впервые в жизни налакался до беспамятства и что-то выкинул. Иначе с чего бы?
— А ты не думаешь, что слуги могли просто посчитать пустые бутылки и сделать выводы?
— Да, пожалуй. — Он принялся было за еду, потом поднял голову, пристально посмотрел на Эдгара:
— И перестань меня разглядывать. Я жив, спокоен, и не собираюсь уходить в запой или устраивать дебош.
Эдгар, смутившись, принялся за рыбу.
— Вечером отметимся на балу, потанцуем. — Продолжал Рамон.
— Я не танцую.
— Куда денешься. Потом я тебя много с кем познакомлю, пригодится. И исчезну, как только позволят приличия.
— А я?
— Ну и ты, если хочешь. И если получится. Я-то здесь никому низачем не сдался, а вот ты теперь важная птица.
— Да какое там…
— Увидишь. — Пообещал Рамон. — Кстати, поедим, отдай слуге одежду, пусть приготовит.
— Да там нечего готовить.
— Постой. — Рамон отложил в сторону ложку. — Хочешь сказать, что все, что на тебе — и больше ничего?
— Нет, но… там то же самое, что и на мне. И… — Эдгар обнаружил, что краснеет. Он никогда не стыдился собственной бедности и уж тем более никогда не завидовал брату, разбрасывавшему серебро, по мнению самого Эдгара направо и налево. Но…
— Так. Обет или не на что пошить было?
Эдгар промолчал.
— Так. — Повторил Рамон. — по завещанию отца, в день шестнадцатилетия ты должен был получить двадцатую часть от дохода с наших земель за время, прошедшее с его смерти. И дальше ежегодно двадцатую часть годового дохода. Последние три года я сам тебе пересылал…
— Да, спасибо…
— Но это мелочь, только-только прожить не голодая. А вот то, что за предыдущие пятнадцать лет — там выходило немало. Ты получил эти деньги? У матушки было записано, что да.
— Нет. — Эдгар встретился взглядом с братом. — Твоя мать оплачивала мне жилье и учебу — до пятнадцати лет. На еду, и все остальное я зарабатывал сам — сколько себя помню. И после того, как мне исполнилось шестнадцать, ничего не изменилось. Разве что те деньги, которые присылал ты… прости, я забыл поблагодарить, так же, как и за то, что сейчас живу за твой счет.
— Так. — Снова сказал Рамон. Недоуменно посмотрел на хрустнувший в пальцах черенок ложки, бросил на стол уже негодную деревяшку. — И я тоже хорош: думал, что если не просишь, значит ни в чем не нуждаешься.
— Так я и не…
— Угу. Я знаю, сколько стоит пуд дров в столице зимой. А еще пергамент, чернила и книги. И заметил, как ты раздался в поясе за то время, что мы вместе — но решил было, что это оттого, что ты стал мало двигаться. А оказывается, просто начал есть вдосталь.
Эдгар уперся взглядом в столешницу. Поднять глаза казалось невыносимым.
— Учителю фехтования как умудрялся платить?
— Я ему книгу написал.
— Что?
— Наставления по воинскому искусству… он диктовал, я писал. А вместо платы он меня учил.
— Ясно. Доешь, возьмешь слугу и пойдете вместе выберете из моих вещей то, что не стыдно будет надеть вечером. На балу узнаешь у герцога, сколько ты еще тут пробудешь, и утром пойдем к портному.
— Я не…
— А я тебя и не спрашиваю. Начнешь ломаться — одену силой. До тех пор, пока ты не принял постриг и обет бедности вместе с ним — будешь одеваться и жить так, как это делают люди нашего положения. — Рамон поднялся.
— Куда ты?
— Сыт, спасибо.
Он поднялся в свою комнату, спустя короткое время вернулся, и исчез на улице. Эдгар кое-как дожевал кусок — есть расхотелось совершенно, и пошел искать слугу. Как оказалось, предупредить того Рамон не забыл.
Спустя примерно час брат вернулся. Зашел в комнату Эдгара, положил на стол увесистый кошелек.
— Здесь то, что ты должен был получить в шестнадцать лет.
— Зачем?
— Затем. — Отрезал он. — Поговорить с матерью и сказать все, что я об этом думаю, не получится, но…
Эдгар прикинул кошелек на вес, заглянул внутрь. Столько золота он не видел никогда в жизни.
— Откуда?
— Кое-что продал — на том свете драгоценности ни к чему. И заложил дом на два года. Успею — выкуплю. Не успею — опять же, в могиле он мне не пригодится.
— Я не возьму.
— Возьмешь.
Какое-то время они мерялись взглядами. Эдгар сдался первым.
— Спасибо.
Было невероятно неловко. Эдгар все же заставил себя поднять глаза на брата и удивился — тот тоже выглядел пристыженным.
— Не за что. — Буркнул Рамон. — С одеждой разобрались?
— Да.
— Тогда я зайду, когда пора будет ехать.
Сам бал Эдгар запомнил плохо. Все слилось в нечто шумное, яркое, голосистое. Ему никогда не приходилось бывать на такого рода собраниях. Всю жизнь Эдгар избегал даже школярских попоек — и не потому что не мог много пить, засыпая едва ли не с глотка хмельного. Просто не знал куда себя приткнуть посреди веселящихся не слишком-то близких людей.
Он и сейчас бы предпочел отсидеться где-нибудь в углу, если уж нельзя сбежать. Но рядом был Рамон, который, точно специально, вел его от одной группы к другой, представлял, что-то рассказывал. И приходилось знакомиться с людьми которые были Эдгару совершенно не нужны, которые — можно поклясться — забудут о нем едва ли не через четверть часа после того, как сам Эдгар исчезнет с глаз долой. Приходилось улыбаться, поддерживать разговор, стараясь быть — о, нет, не остроумным, этого бы не вышло ни за какие коврижки — но хотя бы просто вежливым собеседником.
— Зачем ты это делаешь? — прошипел Эдгар, улучив миг, пока брат тащил его от одной компании к другой.
— Что?
— Все это? Я чувствую себя медведем, которого водят на цепи. Мишка, попляши! Мишка, покрутись!
Рамон остановился:
— Затем, что ты и есть медведь на площади. И все они только и ждут, чтобы ты ошибся, дав повод улюлюкать и бросать огрызками. Мало того, что новичок здесь — так еще и незаконнорожденный. Тогда как любой из них может не запнувшись рассказать свою родословную на два века назад — и неважно, что майорат отошел старшему брату и не осталось ничего, кроме коня, доспеха, да горстки людей. Когда сам никто и за душой ни гроша, остается лишь кичиться голубой кровью. И фыркать в адрес тех, кому не повезло с предками.
— Ты тоже можешь перебрать родословную на два века… больше.
— Могу. — Кивнул рыцарь. — И среди моих — наших — предков есть, кем гордиться. Но кроме этого я и сам кое-что стою. Впрочем, сейчас не о том, не сбивай с мысли. Так вот: ты новичок — и от того, как тебя примут сегодня, будет зависеть, станешь ли ты желанным гостем в любом доме.
— Я не хочу быть желанным гостем.
— Тогда станешь изгоем. — Отрезал Рамон. — Так что улыбайся и делай вид, будто безумно счастлив здесь находиться.
Эдгар вздохнул и «сделал вид». Вовремя — к ним подошел герцог.
— Рад приветствовать вас здесь — сказал он после предписанного этикетом обмена поклонами. — Тебя, Рамон. И тебя, Эдгар. Твой брат много лет служит мне верой и правдой, и я его ценю превыше многих. Надеюсь, что смогу сказать то же и о тебе.
Эдгар снова поклонился.
— Я сделаю все, что от меня зависит. Я не могу служить тебе мечом, как это делает… — он на миг замялся — брат, но мой разум и перо в твоем распоряжении.
— Перо зачастую разит вернее меча. Ты остановился в доме Рамона?
— Да, господин.
— Я прикажу выделить тебе покои во дворце.
Эдгар бросил взгляд на брата — тот медленно опустил ресницы.
— Это честь для меня, господин.
— Тогда завтра слуга поможет тебе переселиться. Я отправил весть о твоем прибытии в Белон, но пройдет не меньше недели, пока они пришлют сопровождающего. И в полдень жду у себя — нам будет что обсудить.
— Да, господин.
— Что ж, значит, о делах завтра, сегодня будем веселиться. Счастлив знакомством.
Едва герцог отошел, к ним устремились какие-то люди. Кое-кого Эдгар узнал — их уже сегодня знакомили, другие были не знакомы, но жаждали познакомиться. Все снова завертелось чередой лиц, улыбок разговоров, и Эдгар едва сумел дождаться, пока не объявят очередной танец, и можно будет ускользнуть от толпы.
— Вот повезло, ничего не скажешь — проворчал он.
— Повезло. — Совершенно серьезно подтвердил Рамон. — Герцог мог бы сказать ровно то же самое — но так, что ты бы почувствовал себя тараканом, над которым занесли башмак. А он был благосклонен — и это заметили.
— Если это называется «благосклонность», то я не хотел бы знать, как выглядит немилость.
— И правильно.
— Но переезд ведь не значит, что мы больше не увидимся.
— Как получится, и как герцог позволит. Ты теперь на службе, привыкай.
Рамон хотел было сказать что-то еще, когда на глаза легли мягкие ладошки.
— Угадай?
Рамон пробурчал что-то неразборчивое, обернулся. Замер, разглядывая девушку: каштановые пряди кольцами вокруг лица, зеленые глазищи.
— Лия?
— Узнал! — обрадовалась она.
На взгляд Эдгара, девушка была хорошенькой — вот только бы еще умела вести себя как подобает. Это ж надо — прилюдно вешаться на шею мужчине. Причем в прямом смысле: подпрыгнула и повисла, а Рамон подхватил ее за талию и раскрутил, причем хохотали оба так, что на них стали оглядываться.
— Рад тебя видеть. Правда. — Сказал он поставив наконец, девушку.
— Не верю — Она скорчила капризную гримаску. — Заходил к нам, и не спросил меня.
— Ну, извини. — Рыцарь изобразил дурашливый поклон. — Решил, что не стоит беспокоить девушку в день бала, у нее и без того дел по горло.
Он снова улыбнулся, подмигнул:
— И скажи, что я был не прав.
— Скажу. — Она топнула ножкой. Оба снова рассмеялись.
— Ты изменился. Не могу точно сказать, что именно, но… Заматерел, что ли.
Рамон пожал плечами:
— Не знаю, наверное, со стороны виднее. А ты совсем взрослая.
Он пригляделся, пытаясь понять, что же в ней — не считая оформившейся фигуры — стало другим. Другим настолько, что он едва мог узнать девчонку, с которой — было дело — лазили по деревьям, разыскивая дикий мед. Тогда Рамон относился к ней скорее как к недорослю, тем более, что Лие вечно что-нибудь взбредало в голову — не каждый мальчишка угонится. Вроде бы все то же самое — но взгляд и выражение лица стали неуловимо другими. Рамон попытался было снова увидеть пацанку — не получилось. Перед ним стояла девушка.
— Пойдем танцевать? — брякнул он и почему-то смутился.
— Потом — отмахнулась она. — Если танцевать, то придется петь. А я соскучилась и хочу поговорить. — Она вдруг залилась краской. — Извини, я, вовсе не хотела сказать, что… — девушка окончательно смешалась, опустила ресницы.
Глядя на стремительно пунцовеющие щеки, Рамон почувствовал, что сам готов покраснеть.
— Это ты прости — веду себя как настоящий невежа. Давай, я вас познакомлю, и пойдем искать твоих, раз уж ты не хочешь танцевать.
— Отец вон там, — подхватила она с явным облегчением. — И Нисим. Старший брат с женой не пришли, она на сносях и плохо себя чувствует.
— Отлично. — Сказал Рамон. — То есть, на самом деле я не то хотел…
Он вздохнул покачал головой. Лия рассмеялась.
— Представь нас, и пойдем. Отец будет рад с тобой поговорить.
Рамон про себя выругался последними словами, совершенно не понимая, что происходит.
— Эдгар, мой брат. А это Лия.
— Наслышан. — Эдгар склонился к руке. — Брат рассказывал о тебе немало хорошего.
С Рамоном определенно творилось что-то странное. Он всегда держался со спокойной уверенностью человека, знающего себе цену — и этой уверенности, правду говоря, Эдгар люто завидовал. А сейчас брат вел себя так, что Эдгар даже забыл о собственной стеснительности. Он был… растерян, пожалуй самое точное слово. Как будто столкнулся с чем-то совершенно неожиданным, и не знал, как реагировать.
Впрочем, Рамон довольно быстро пришел в себя — и вскоре они уже разговаривали с родителями девушки. Амикам понравился Эдгару спокойным достоинством. А еще он не разглядывал молодого человека, точно диковинку, и это успокаивало.
Кругом веселились, слуги разносили вино. Рамон увел Лию танцевать, и они исчезли в кружащемся рондо. Эдгар обнаружил в отце девушки неожиданно внимательного собеседника и сам не заметил, как просто поддерживая диалог ввязался в настоящий спор, а когда заметил, немало удивился — виданное ли дело, посреди бала обсуждать природу философского камня. Попутно молодой человек узнал, что кто-то из местных алхимиков, перегнав в кубе вино, получил прозрачную, невероятно крепкую выпивку. Впрочем, Эдгар пропустил бы это мимо ушей, если бы не вновь появившийся, уже под руку с Лией, Рамон. Тот, наоборот, начал расспрашивать, и, как Эдгар и опасался, буквально после нескольких фраз их обоих пригласили испробовать новый напиток. Хоть прямо сегодня — дом Амикама открыт для них в любой день.
— Сегодня я и без того явился незваным. — Покачал головой Рамон. — Завтра Эдгар должен предстать пред герцогом, и во что это выльется — неизвестно.
— Тогда через три дня. Мне подарили ястреба, и я как раз собирался проверить его в деле. Поохотимся, а потом пообедаем. Ну, и попробуете.
— Нечего там пробовать. — Проворчала Лия. — Гадость.
— Сейчас это самый модный в городе напиток. — Нисим помахал кому-то рукой, извинился и исчез в толпе. Вскоре он чинно прошагал мимо, ведя девушку в танце.
— Хорошая девочка. — Улыбнулся Амикам, глядя им вслед. — Жаль только, полгода она встречается лишь с сыном, и до сих пор не понесла. Будет обидно, если у них ничего не выйдет.
— По мне, так рано волнуешься. — Дернула плечиками Лия.
Эдгара покоробило. Обсуждать такие вещи вслух, да еще при девушке… Впрочем, та вела себя так, будто подобные разговоры нечто совершенно естественное.
— Вот если еще через год не получится, тогда будет повод беспокоиться. — Продолжала она так спокойно, словно обсуждала сегодняшнюю погоду. — Но, думаю, его не будет — оба здоровы, а значит, все сложится.
— Неужели юной деве пристало говорить о подобном? — не выдержал Эдгар, и тут же схлопотал от брата ощутимый тычок в бок.
— А что плохого в детях? — удивилась Лия.
— Но… — молодой человек поймал взгляд Рамона и счел нужным заткнуться. — Прошу прощения. Я совсем недавно в этих краях и еще не привык к вашим обычаям. Там, где я вырос, не пристало обсуждать с девицами… причины, приводящие к рождению детей.
— Да, полагаю, лошади у вас не жеребятся, а куры не несут яйца. — Хохотнул Амикам. — Но я тоже становлюсь невежлив. Приношу свои извинения. Если хочешь, поговори об этом с Хасаном, когда будешь у него учиться. Он полагает, что когда боги дали разные обычаи разным народам, они знали что делали. И каждый народ получил те законы, которые лучше всего будут способствовать его процветанию.
— Мне трудно судить о таких вещах. — Ответил Эдгар. — До сей поры я не покидал родины и незнаком с чужими обычаями.
— Тогда тем более поговори с Хасаном. Он много странствовал и много видел. И как никто другой умеет объяснить, что нет плохих народов и плохих законов, а есть лишь пристрастный взгляд, желающий видеть лишь то, что «неправильно».
Эдгар поклонился:
— Благодарю за урок — я его запомню.
Амикам кивнул и перевел разговор на придворные сплетни. Рамон, извинившись, отвел брата в сторону. Тот ожидал выволочки, но услышал только:
— Мы с Лией собираемся уходить. Ты с нами, или прислать людей тебя встретить?
— Не девица, не пропаду. — Ответил Эдгар. — Сознавать, что кто-то специально о нем заботится было непривычно и потому неприятно.
— Ты второй день в незнакомом городе. Пообвыкнешь — будешь ходить один когда и где вздумается, сейчас тут спокойно. Но пока или мы тебя проводим, или, если хочешь здесь остаться, подожди, пока я доберусь до дома и пришлю людей.
— Я с вами. А отец не против?
— Здесь девушка, как только вступает в брачный возраст сама себе хозяйка. Но я у него спросил — и он не против. — Улыбнулся Рамон. — Пойдем, мы тебя проводим.
— А почему не сначала Лию?
— Потому что она хочет потом проехаться верхом по берегу и посмотреть на закат — когда солнце садится в море, это красиво.
Эдгар открыл рот, закрыл, потом все же решился:
— Рамон… здесь так и положено? Это порядочная девушка?
— О чем ты? — изумился тот. — Поняв, расхохотался.
— Это порядочная девушка. И когда она говорит «покататься верхом и посмотреть на закат» это означает именно то, что сказано: покататься верхом и посмотреть на закат, а не забраться в постель. Как, впрочем, и большинство местных девушек.
— Но…
— Почему я тебя отсылаю?
— Да. То есть я не знаю язык и обычаи, я не знаю, о чем с ней можно говорить, а что сочтут за оскорбление…
— Поэтому тоже. Но еще и потому, что… — Рамон задумался — Потому что я сам не знаю, как себя вести. Я оставил девчонку, которая была совсем как мальчик. В смысле, вела себя как мальчишка — с ней можно было удрать на рыбалку или облазить прибрежные скалы, разыскивая яйца в птичьих гнездах. Даже когда она вступила в брачный возраст — я ведь уезжал, когда ей было четырнадцать, и, как сейчас припоминаю, фигура у нее начала меняться раньше — я не заметил, потому что она была… другом. А сейчас… Словом, не знаю. Нужно разобраться. — Он мотнул головой. — Становлюсь косноязычным. Поехали.
По пути домой Рамон успел трижды проклясть этикет. Неприлично, видите ли, являться на бал верхом, а должным выездом молодой человек так и не обзавелся. Теперь пришлось сперва провожать Эдгара, приказывать седлать коня, причем только для себя — дамских седел в доме отродясь не водилось, а Лия, хоть и умела ездить по-мужски, сейчас была в платье. Дождаться, пока слуги закончат, ведя коня в поводу добраться до дома девушки, подождать и там…
— Кажется, до заката мы не успеем. — Рамон подсадил девушку в седло.
— Успеем, если поторопимся. Догоняй!
Они помчались по городу, распугивая редких прохожих. Булыжная мостовая звенела под копытами, разнося эхо по улицам.
— Ворота не закроют? — крикнул Рамон, когда они оказались за стенами. Ночевать на берегу, без оружия и еды не хотелось.
— Нет — обернулась Лия. — Уже давненько на ночь не закрывают. Тихо вокруг.
Рыцарь отметил для себя расспросить герцога и Амикама как только появится возможность. Вместо того, чтобы напиваться а потом маяться с похмелья, лучше бы разузнал, как идут дела. Когда он покидал Аген, в городе можно было безопасно передвигаться в любое время суток, а вот за ворота без надежной охраны старались не высовываться. Похоже, Авгульф не терял время даром.
Чайки взлетали из-под копыт, кроя всадников последними словами на своем, птичьем языке. Лия придержала коня. Рамон спешился, подхватил ее за талию, помогая спуститься. По большому счету девушка не нуждалась в помощи — они оба знали это, но она и не возражала, а чувствовать себя сильным мужчиной, ухаживающим за красивой женщиной было, пожалуй, приятно. Рамон хмыкнул про себя — раньше подобные мысли в голову не приходили. Что ж, они оба выросли, придется привыкать. И постараться, чтобы дружба никуда не делась — не так уж много у него друзей, какого бы пола те ни были. Чем дальше — тем меньше. Три года назад он не обратил бы внимания на выходку Дагобера — там, в лагере собирающейся армии. Сейчас… с Дагобером можно было разговаривать, как ни в чем не бывало — он кстати, так и не понял, почему Рамон тогда вызверился — можно было смеяться и пьянствовать. А вот верить ему уже не получалось, и где-то глубоко внутри саднило при мысли об этом. Было бы жаль потерять и девочку… хотя какая она, к бесам, девочка.
— Сколько тебе лет? — невпопад спросил Рамон, убирая ладони с тоненькой талии.
— Семнадцать. А тебе?
— Двадцать.
— Правда? Я почему-то всегда думала, что ты намного старше… лет на шесть может даже десять. — Лия засмеялась. — Еще удивлялась, почему такому взрослому дядьке со мной интересно.
Тихо шелестело море, провожая день. Они брели по берег, болтая без умолку, как когда-то перебивая друг друга. Рамон снял шоссы, остывающий песок чуть пружинил и прибой легонько касался босых ног. Глядя на спутника, и Лия разулась, подоткнула подол платья за пояс, так, чтобы можно было забрести в воду хотя бы по щиколотку.
— Хочешь искупаться?
— Нет.
— Разучился плавать? — она улыбнулась, брызнула водой с ладошки.
— Не разучился. Просто…
— Перестань, у нас испокон веков лезут в воду все вперемешку и ты об том знаешь.
— У нас нет. — Сказал Рамон, радуясь, что в сумерках плохо видно. — Отвык за три года.
— Жаль… я одна тоже не буду.
— Как-нибудь в другой раз.
— Ну да, куда торопиться. — Согласилась Лия. — Скажи, ты женат? Ваши женщины странные — постоянно путают дружбу с вожделением. Да и мужчины не лучше.
— Тебя кто-то обидел? — встревожился Рамон.
— Нет… Он был из свиты герцога, приехал уже после тебя. Не обидел… Просто я не сразу поняла, что он бывает в доме не только потому, что набивается в друзья к отцу… и что его интерес ко мне не только дружеский — а мне он нравился именно как приятель. Получилось некрасиво. Что такое «шлюха»?
— Мммм… — Рамон смутился. — Публичная девка. Извини.
— За что? Примерно так я и поняла.
— Хочешь, я вызову его?
— Он уехал. — Лия помолчала. — Так ты женат? Вдруг кто-то тоже перепутает, и напишет ей… нехорошо получится.
— Был женат. Она умерла.
— Прости. Соболезную.
— Не стоит. — Пожал плечами Рамон. — Грешно так говорить — но в конечном счете все обернулось к лучшему. Наверное, ей нужно было выйти замуж за того, кто бы смог оценить кротость и добронравие. И сделать ее счастливой, вместо того, чтобы тяготиться.
— Ты ее не любил?
— Любил? — он снова пожал плечами. — О любви поют трубадуры по замкам. В нее играют рыцари на турнирах. Яркая накидка, прикрывающая вожделение.
— Ты изменился…
— Прости. Не стоит говорить о таких вещах с девушкой.
— Ничего. — Лия покачала головой. — Солнце село. Поехали домой.
— Я сказал что-то не то?
— Нет. — Она тряхнула волосами и села на попавшуюся корягу, обуваясь. — Просто уже поздно и я устала. Поехали домой.
Глава 9
Эдгар так и не понял, с какой целью герцог переселил его во дворец. Наверное, дело было в соблюдении приличий — другого объяснения он не находил. Ученому предоставили покои, выделили слугу, и на этом внимание Авгульфа закончилось. Даже обещанная аудиенция ограничилась недолгой беседой, больше напоминающей допрос: где и чему учился, тема диссертации, рекомендательные письма (которыми, впрочем Эдгара снабдили загодя), и главное — понимает ли он, насколько серьезна задача? После того, как невеста герцога станет его женой, малейшая ее ошибка или даже то, что может быть просто истолковано как «неусердие в вере» бросит тень не только на нее саму, но и на учителя. И на мужа, у которого и без того нелады с представителями церкви. Те никак не могут понять, что не время объявлять войну за веру, сравнивая с землей храмы местных богов. У покоренного народа можно отнять многое — но забери у него идолов и он взбунтуется.
Эдгар слушал, кивал, отвечал на вопросы и ждал, когда это закончится. От герцога он вышел совершенно вымотанный — на экзаменах уставал куда меньше. Там хоть было известно, какого ответа ждут, а сейчас — поди пойми. Ученый в который раз повторил про себя, что если это благосклонность, то он не хотел бы знать, что такое опала.
К счастью, если не считать единственной беседы герцог не проявлял интерес к гостю, и тот оказался предоставлен сам себе. Впрочем, не совсем так. Рамон не пожелал оставлять брата в покое. Как и обещал, он затащил того к портному и этот визит стал сущим кошмаром. Ладно бы просто мерки сняли и отпустили — так нет же, пришлось выбирать из предложенных тканей. От разноцветных отрезов рябило в глазах, а когда дело дошло до обсуждения вышивок только нечеловеческое усилие позволило скрыть зевоту. Впрочем, Рамон заметил. А заметив, ткнул брата в бок и заявил, что по последней столичной моде кавалерам предписывается завивать волосы и бороду, так что нужно еще озаботиться щипцами для завивки. Что значит не носишь бороду? Надо отрастить. Представив, на что это будет похоже, и сколько времени займет Эдгар едва не взвыл. Выражение лица у него, видимо, стало весьма красноречивым, потому что брат рассмеялся. А потом, смилостивившись, сообщил, что здесь столичная мода понимания не нашла — воину приличествует скромность, а завиваются пусть дворцовые франты. Эдгар возблагодарил небеса за явленную милость и поплелся вслед за братом знакомиться с Хасаном.
Учитель ему понравился, чем-то напомнив университетских профессоров. Тех, что степенно занимались наукой, не обращая внимания ни на что, кроме нее. Учить языки Эдгару тоже было не привыкать — уж если сумел осилить те на которых говорили и писали основатели церкви, то уж с ныне существующим, да еще и находясь среди людей, которые на нем говорят, тем более должен справиться. Конечно, времени мало, но молодой человек надеялся, что сможет уговорить кого-то в Белоне учить его дальше. Да хотя бы нижайше попросить короля дать ему учителя, в конце концов. Тому должно польстить внимание к их языку. И к их обычаям.
Вот обычаи казались труднее всего. То, что он всю жизнь считал неслыханным, здесь было в порядке вещей, а уклад, который самому Эдгару казался должным и разумным вызывал в лучшем случае недоумение. Он отчаялся понять, почему девушке не зазорно отправиться на прогулку наедине с мужчиной. Почему женщина, которая дома навеки бы заслужила клеймо падшей, здесь считалась готовой к замужеству. Зачем, наконец учить девушек наукам наравне с юношами. К чему женщине, скажем, философия — что, зная ее, она будет рожать более крепких и здоровых детей?
Это невозможно было понять. Оставалось только запомнить и стараться не сесть в лужу. Но как не сесть в лужу, если на обещанную прогулку по городу Рамон притащил Лию? И вместо того, чтобы любоваться на безусловно прекрасные здания, добрых полчаса пришлось убеждать себя, что девушка, проводящая время в обществе двух мужчин и без старшей родственницы или хотя бы служанки — это прилично. И даром, что за все время, пока бродили по улицам они даже рукавами друг друга не коснулись, воспитание кричало — что происходящее — ужасно, неправильно и неприлично. За время жизни в столице Эдгар успел насмотреться на гулящих бабенок, даже — как сейчас ни стыдно об этом вспоминать — хаживал к одной такой. Ни облик Лии, ни ее манеры ничуть не походили на то, что подсовывали воспоминания, и Эдгар велел воспитанию заткнуться. Он не пожалел об этом. Девушка знала историю города с самого основания — приправленную легендами, конечно, как без этого. Рассказчицей она тоже оказалась великолепной. Эдгар спросил про статую на храмовой площади — и пожалел что не взял с собой письменные принадлежности. Хотя, с другой стороны где здесь записывать, посреди улицы.
Он всегда считал, что хороший проповедник обязан знать веру той страны, куда он пришел. Проповедь — это клинок разящий, но чтобы он достиг цели, нужно разобраться, кто противник. Иначе служение превратится в войну с призраками. Он собирался начать расспросы — но позже, может быть, даже уже в Белоне, когда освоится и найдет кого-то, кто сможет рассказать. А оказалось, что рассказчик — точнее, рассказчица — вот она, под боком, только спроси. Эдгар и спросил.
Рамон откровенно зевал, глядя по сторонам, а Эдгар сидел рядом с девушкой на ступеньках храма и спрашивал, спрашивал, спрашивал — пока брат довольно бесцеремонно не заявил, что даже самые замечательные легенды не заменят сытого живота, а они, помнится, ели давненько. И вообще, пожалеть надо девушку, скоро охрипнет.
Эдгар смутился. Потом все-таки спросил:
— Ты позволишь потом еще раз расспросить — и записать?
— Если хочешь, я сама напишу — ответила Лия. — Правда, я делаю ошибки на письме, все-таки язык чужой.
Только сейчас Эдгар осознал, что все это время все понимал. К легкому акценту оказалось очень просто привыкнуть, и он даже не понял, что девушка разговаривала на чужом языке. Несколько часов. Женщина.
— Ты умеешь писать? — спросил он первое, что пришло в голову — только потому, что молчание стало неприлично затягиваться — и понял, что все-таки опростоволосился.
— Конечно. — Удивилась Лия. — А как иначе?
Эдгар вздохнул.
— Прошу прощения. В моей стране грамотен не каждый мужчина.
— Здесь тоже. — ответила она. — Низшим сословиям грамотность ни к чему. Но я — не крестьянка и даже не дочь купца.
Ученый взглянул на ехидную физиономию брата и решил дальше тему не развивать.
— Я буду очень благодарен, если ты запишешь то, что рассказала сегодня.
Лия кивнула.
— Вот и славно. Договорились, наконец. — Влез Рамон. — Вон там есть корчма — и если я сейчас не поем, то точно кого-нибудь покусаю. Книжники, тоже мне.
— Брось — Лия толкнула его локотком в бок — Просто ты все это слышишь… в какой раз?
— Не знаю. Но не в первый. Погоди, в отместку я попрошу брата рассказать тебе священное писание, будешь знать. Раза три.
— Сам же первый и заснешь — фыркнул Эдгар. — Безбожник.
— Фанатик!
— Мне подождать, пока вы подеретесь, или все же войдем, и закажем поесть? — поинтересовалась девушка.
— Ну вот, не дали подраться. — Вздохнул Рамон. — Воистину, все зло от женщин.
Эдгар искренне надеялся, что брат забудет о приглашении на охоту. Или хотя бы поедет один. Мало ли, что звали двоих — понятно же, кого хотят видеть, а кого пригласили лишь из вежливости. Самого ученого уже порядком утомили новые впечатления, хотелось хотя бы день не вылезать из комнаты во дворце, а еще лучше ввалиться в дом Рамона и ничего не делать. Совсем ничего. «Думать» Эдгар за дело не считал.
Но, похоже, Рамона желания брата не слишком-то волновали — потому что он не поленился с вечера прислать Хлодия с напоминанием — мол, заедет перед рассветом, прихватив коня для Эдгара, пусть будет готов и выйдет. Чужого не пустят во дворец в потемках.
Приди Рамон сам, Эдгар бы попытался поспорить — но Хлодий и записка простора для споров не оставляли. К тому же, ученый крепко подозревал, что откажись он — и неугомонный братец найдет способ пробраться во дворец и вытащить родича за шкирку, точно нашкодившего кутенка. Так что на следующее утро он стоял у дворцовой ограды, ежась от предрассветного холода и проклиная все на свете. Довольная мина Рамона радости не прибавила.
— Вот скажи, на кой ляд тебе сдалось меня выгуливать. — Проворчал Эдгар, взбираясь в седло.
— Это не мне сдалось. Надо, чтобы тебя запомнили и приняли. Я не смогу опекать тебя всю жизнь.
— И как это столько лет прожил без такой заботы?
— Сам удивляюсь — хмыкнул Рамон. — Поехали.
— Пойми, я не светский человек. Все, чего я хочу — заниматься наукой. Проповедовать. А не играть в эти ваши игры.
Рамон придержал коня, поравнялся с братом.
— Раньше надо было думать. Независимо от того, был ли выбор, когда ты соглашался на эту авантюру — сейчас его нет. Либо ты в свете, либо изгой. Когда все это кончится — вернешься в столицу, засядешь в башню из слоновой кости и хоть до конца жизни носа оттуда не высунешь. Может, я успею проводить тебя, может нет, судьбе виднее. Но все, что зависит от меня, я сделаю.
— Вот ведь дал господь няньку — проворчал Эдгар.
— Не переживай, скоро освободишься.
— Типун тебе на язык!
— Да я не о том, — Рамон засмеялся. — Отсюда до Белона две недели, если не торопиться. Гонца отправили. Так что меньше чем через месяц уедешь к своей ученице.
— Жду не дождусь.
— Не сомневаюсь.
Похоже, продолжать разговор Рамон не хотел — но Эдгар не унимался.
— Скажи, тебе не надоело быть всезнающим и всемогущим?
— Чего???
— Перестань смеяться, перебудишь полгорода.
— И то правда. — Рамон честно попытался «перестать», но вместо смеха вышло хрюканье, и рыцарь развеселился еще пуще. — Ты серьезно?
Эдгар помолчал, подбирая слова:
— Пока мы ехали — ты был… живой. А сейчас — словно памятник. Никогда не ошибающийся и непреклонно уверенный в своей правоте. Очень напоминающий свою матушку — та тоже не слишком-то спрашивает, что ты хочешь, главное — то, что тебе якобы нужно. Для твоего же блага.
Рамон ответил не сразу.
— Со стороны это действительно выглядит так?
— Я обидел тебя?
— Что за манера: сперва сказать, потом извиняться? — Рыцарь сжал поводья так, что хрустнули суставы. — Ты не ответил.
— Именно так. Я чувствую себя не то непослушным сынком, не то бестолковым оруженосцем — о котором ты, как любой хороший господин, заботишься — но не слишком-то обращаешь внимание на то, что считаешь капризами. Господину лучше знать.
— Пожалуй, ты прав. — Медленно произнес Рамон. — Я привык повелевать людьми и привык к тому, что должен держать себя в руках. Никаких колебаний — внешне — что бы я ни думал на самом деле, люди должны видеть спокойного и уверенного в том, что делает, господина. И никаких ошибок, потому что ошибившись, погублю не только себя.
— Я понимаю.
— Ничего ты не понимаешь. Ты всю жизнь отвечал только за себя. Но… — он выдавил, медленно, точно через силу. — Ты прав. Ты — не мой человек, и я не вправе распоряжаться тобой так, как делал то до сих пор. Какими бы ни были мои намерения. — Рамон тряхнул головой: — Проводить до дома? Во дворец еще не пустят — доспишь у меня.
— Не надо. Нас звали обоих.
— Да. Пришлось бы извиняться.
Они молчали довольно долго.
— Рамон…
Молчание.
— Прости меня.
— Брось. Сам нарвался.
— Ну…
— Хватит, я сказал. Но никогда… — он все-таки сорвался на крик. — Слышишь, никогда не сравнивай меня с матерью!
— Не буду.
До дома Амикама братья ехали молча и глядя в разные стороны. Хозяин встретил их во дворе, тут же были Лия и Нисим с девушкой. И еще одна пара, которая приветствовала Эдгара, как знакомого. Молодой человек напряг память — действительно, их представляли на балу.
— Только вас ждем. — Сказал Амикам. — Поехали.
Эдгар всегда полагал, что охота — дело многолюдное. Словно подслушав его мысли, хозяин дома добавил:
— Сегодня, почитай, только свои, рано еще для ястребов. Вот осенью будет охота так охота. А сегодня — развеемся слегка.
Эдгар еще раз оглядел кавалькаду, недоумевая, где же обещанные ястребы. Удивился, что все женщины устроились в седлах по-мужски, да и одеты, насколько он понимал, отнюдь не в приличествующую дамам одежду. Он помотал головой, отгоняя привычное уже возмущение. Хватит. Пора, наконец, как и советовал брат, начинать думать самому, а не повторять то, что предписывало воспитание. У этого народа есть поверье, что павших воинов провожают к престолу богов девы битвы. Эдгар попытался было представить себе деву битвы в бальном платье и едва сдержал смех. Поймал вопрошающий взгляд брата.
— О чем я и толковал все это время. — Сказал Рамон, отсмеявшись. Слишком уж бурно разыгралось воображение, дорисовав впридачу тщательно завитые локоны, драгоценности и опущенный долу — как и полагается приличной девице — взгляд.
— Нужно было время, чтобы привыкнуть.
— Знаю. Сам таким был. Только я еще, дурак, спрашивать стыдился.
— Да ладно.
— Вбил в башку, что если начну расспрашивать, буду выглядеть деревенщиной. — Рамон хмыкнул. — Говорю же, дурак был. Вон, Лия подтвердит.
— Это ты-то стеснялся спрашивать? — девушка, ехавшая впереди, рядом с отцом, придержала коня, поравнявшись с ними. — Да я поначалу чуть язык не отболтала, рассказывая.
— Это уже не «поначалу». А после того, как я стал относительно сносно по-вашему говорить, а Хасан мозги вправил. И то взрослых спрашивать было неловко. А потом и не понадобилось.
— Ты был такой смешной. С одной стороны — такой взрослый, а с другой — удивлялся вещам, которые знает каждый ребенок.
— Спасибо хоть тогда промолчала.
— Я бы и сейчас промолчала, если б сам разговор не завел.
— Язык мой — враг мой. — Рамон развел руками, нарочито изображая раскаяние. Не выдержал, рассмеялся. Эдгар поймал себя на том, что и сам улыбается до ушей.
— Похоже, теперь моя очередь задавать глупые вопросы.
— Можешь начинать хоть сейчас. — Ответила Лия.
— Благодарю за великодушие, госпожа. Тогда, с твоего позволения, начну. Пока свидетелей немного — опозорюсь, хоть не при толпе.
На самом деле, он понятия не имел, о чем расспрашивать. Правильно заданный вопрос несет в себе половину ответа, но для того, чтобы задать его, нужно понимать хоть что-то. А Эдгар ощущал себя, словно невежа из сказок, не умеющий ни ступить, ни молвить. На его счастье, кавалькада выехала за ворота, и Амикам пришпорил коня. Пришлось поступить так же, а на полном скаку не больно-то поговоришь.
Они миновали перелесок, дальше расстилались поля, стоящие под паром. Солнце, наконец, выглянуло из-за края земли, заискрилось в росе. Из-за горизонта показались силуэты шатров, и вскоре охотники подъехали к маленькому лагерю. Забрехали псы, загомонили люди. Теперь-то Эдгар понял, что зря удивлялся малочисленности предстоящей охоты. Просто слуги выехали загодя, как бы не с вечера — вместе с собаками птицами и припасами, приготовив все к появлению господ. Оставалось только понять, для чего нужно было собираться ни свет, ни заря, и Эдгар тихонько спросил об этом Лию, пока ее отец отдавал распоряжения.
— Лето. — Ответила она. — В жару ястребы становятся ленивы, так что лучше выезжать с утра или под вечер. Отец решил с утра.
— Значит, к полудню мы вернемся?
— Нет. — Амикам, оказывается, все слышал. — Я предпочел бы вернуться в город перед закатом. Есть слуги, есть вертелы, запас вина и хорошее общество. Что еще нужно для того, чтобы приятно провести день, отдохнув от городского гама?
Он бережно принял на перчатку ястреба. Голова птицы была закрыта клобучком, позвякивал бубенчик в хвосте. Еще один ястреб перекочевал на руку Нисима, третьего — к немалому удивлению Эдгара взяла Лия. Остальным, по-видимому, отводилась роль гостей, наблюдающих зрелище.
Один из слуг что-то сказал, махнул рукой.
— Здесь неподалеку просянище — негромко перевел Рамон. — В таких местах перепелок уйма. Была бы осень, сказал бы — славная будет охота.
— А сейчас?
— По разному моет повернуться. Впрочем, ястребы еще не начали линять, так что, думаю, будет весело. — Он помолчал немного, потом тихо добавил. — Мне кажется, Амикам почему-то не хочет сегодня оставаться в городе. Не слышал, ничего сегодня не затевалось?
— Откуда ж мне знать?
— И мне вчера не до того было. Ладно. Появится повод — спрошу.
— А может, тебе просто кажется?
— Все может быть. Во всяком случае, ничего серьезного — а то я бы запомнил. Посмотрим. — Повторил Рамон.
Первую перепелку затравили быстро — Эдгар даже не успел толком ничего понять. Вроде отвлекся на мгновенье, а когда услышал крик, поднимающий ястреба, хищник уже рухнул в высокие стебли проса.
— Слетка взял. — В голосе Амикама послышалось разочарование.
— Ничего. — Лия дождалась, пока отец вернет птицу на перчатку, кивнула слуге. Тот спустил с привязи собаку.
— Быстро. — Заметил Рамон, когда над землей порхнула перепелка. — Пожалуй, сегодня и впрямь добрая охота будет.
— Девушка звонко крикнула, поднимая руку, ястреб сорвался с перчатки, помчался за добычей. Эдгар не мог оторвать взгляд от птиц, несмотря на то, что зрелище казалось первобытно-жестоким. Как всегда ни к месту подумал, что теперь понимает, почему в старые времена монахам была запрещена охота под страхом строгой епитимьи — куда более строгой, чем та, что накладывалась за прелюбодеяние. Невозможно, наблюдая за охотником и добычей, не пустить в сердце азарт, неподобающий тому, кто отрешился от мира.
Ястреб вцепился когтями в жертву, рухнул. Лия завизжала, спрыгнула с коня, помчавшись на звук колокольца.
— Наконец-то стала на себя похожа. — Усмехнулся рядом Рамон. — А то уж думал, подменили девчонку.
— Хочешь сказать, благонравные манеры тебе не по вкусу? — Нисим неслабо пихнул его локтем в бок. — А сестренка так старалась вести себя прилично.
— Да ну тебя. — Показалось Эдгару или брат действительно смутился? — Благонравные девы скучны и предсказуемы до тошноты.
— Я ей передам.
— Только попробуй!
Тем временем Лия вернулась. Ярясь на двуногих, посмевших отобрать добычу, птица топорщила перья, когтила толстую кожу перчатки.
Рамон спешился рядом с девушкой.
— Подсадить?
— Не надо. Дальше по полю, пешком. — Она отвела с глаз упавшую прядь. На лбу осталась кровавая полоса.
Словно подтверждая ее слова, на землю спустились и остальные, двинулись в поле вслед за собаками, выискивающими очередную перепелку. Рядом остались лишь слуги, придерживающие лошадей.
Рамон вытащил из седельной сумки кусок полотна, плеснул воды из фляги — вытереть испачканную ладошку. Девушка подняла лицо.
— Все равно еще десять раз перемажусь. — Вопреки словам она терпеливо ждала, пока Рамон отчищал кровь.
— Значит, десять раз вытрем. Пока не засохла.
— Так и этак потом отмываться.
— Вот же бестолковая. В кои-то веки выдалась возможность поухаживать — и не дают.
Она рассмеялась.
— Решил маменькой заделаться?
— Да что вы, сговорились что ли? — Рамон в сердцах отвернулся. Заткнул за пояс сложенную в несколько раз ткань. — Сперва Эдгар, теперь ты.
— Не сердись. — Девушка коснулась его локтя. — Пойдем остальных догонять. Нисим вон еще одну взял.
— Не сержусь.
Эдгар честно пытался сосчитать, сколько же перепелок добыли охотники. Именно потому, что Рамон предупредил — можно даже и не пытаться, все равно ошибешься. Но должен же брат хоть раз оказаться неправ. Тем более, что сложного в том, чтобы удержать в памяти число, а потом увеличить его на единицу? И вроде бы получалось, жаль только, что проверить себя можно будет только в конце.
Он понял, насколько устал, лишь когда Амикам посмотрел на солнце и сказал, что на сегодня хватит, вот сейчас по последней, для ястребов, те честно заслужили. Когда схлынул азарт и оказалось, что кони маячат силуэтами где-то на горизонте. И вроде бы ничего особенного не делал. Ну, ходил по полю. Кричал и улюлюкал вместе со всеми. Эдгар считал себя крепким и выносливым — по крайней мере, для книжника. Но если ему тяжело, то каково женщинам?
Но к его удивлению, никто не жаловался. Разве что охотничья сумка Лии перекочевала на плечо к Рамону, а сама девушка казалась притихшей по сравнению с утренним. А так — шла себе рядом с мужчинами, негромко разговаривая. Эдгар прислушался, убедился, что не понимает, в который раз пожалел о том, что не знает языка. Как и полагается вежливым хозяевам, общие разговоры вели на языке гостей, но когда компания разбилась на группы, все стали говорить как удобней — и Эдгар почувствовал себя брошенным. Впрочем, вскоре они добрались до лагеря и к хозяевам вернулась вежливость. Охотники расселись в круг на срубленных бревнах — Эдгара скрутило от такого расточительства, он слишком хорошо помнил, сколько стоят дрова в столице.
— Считаем? — сказал Амикам, вынимая из мешка птичку.
Эдгар припомнил, сколько у него получилось, и приготовился торжествовать.
Он ошибся на полдюжины.
До настоящей летней жары было еще далеко, но солнце уже припекало. Пока прислуга возилась, ощипывая и насаживая на вертел добычу, господа коротали время за вином и разговорами. Отказываться от вина не годилось, оставалось лишь тоскливо предвкушать, когда хмель подействует. Эдгар отчаянно завидовал людям, способным пить и не пьянеть — сам он хмелел едва ли не с одного глотка. Хорошо хоть, не становился буен подобно некоторым, а просто сами собой закрывались глаза. Велика радость сидеть, подпирая падающую голову и изо всех сил стараясь не заснуть прямо за столом. Или, как сейчас, прислонившись к столбу, удерживающему полог от солнца. Здесь тоже считали, что загар — удел простолюдинов, и избегали его всеми силами. И это, пожалуй, было единственным, что объединяло местные понятия о красоте с теми, к которым привык Эдгар. У него на родине считали, что женщина должна быть хрупкой и нежной, здесь ценили крепкое сложение и широкие бедра. Лия по местным меркам была заморышем — слишком невысокая, слишком худая. Эта мысль была последней — глаза все-таки закрылись. Окончательно.
Амикам оглянулся на уснувшего гостя.
— Разбудить?
— Не надо. — Ответил Рамон. — Будет готово, сам подниму. Не везет парню — совсем пить не может.
— Действительно, не везет. Но почему он не предупредил — у меня найдется чем напоить гостя и без вина.
Рыцарь пожал плечами:
— Постеснялся, наверное. Не был бы таким скромником — цены бы не было.
— Мне он показался хорошим мальчиком. Но…насколько ты ему доверяешь?
— Он мой брат, и я его люблю.
Амикам успокаивающе поднял ладонь.
— Погоди, не сердись. Я готов извиниться. Просто в городе стало слишком много, как вы их называете… попов. Я беспокоюсь.
— Эдгар не принял сан.
— Но готовится.
— В любом случае, здесь он тоже не задержится.
— Да, я слышал. И это еще один повод для беспокойства. Ты знаешь, что ваш герцог собирается надеть корону — только при этом условии король Белона отдаст ему дочь?
— Нет. Но это предсказуемый шаг. По крайней мере — уж прости за откровенность — лучше пусть он наденет корону здесь, чем попытается снять ее с головы брата, ввергнув страну в беззаконие.
— Ты заботишься о своем народе, я о своем, так и должно быть. — Сказал Амикам. — Но насколько я знаю, у вас король считается помазанником бога на земле. Значит ли это, что для того, чтобы стать им, ваш герцог должен получить разрешение вашей церкви?
— Да. — Рамон помолчал. — Я понимаю, куда ты клонишь. Что может потребовать церковь взамен? Земли. Приходы. Десятину. Первые два — забота герцога, если не считать того, что раздавать он будет земли, завоеванные у вас, и на них же строить приходы…
— Я сохранил свои владения. Быть предателем выгодно.
— Тогда десятина тебя коснется.
— И только?
— Да, пожалуй. — Рыцарь подумал немного, кивнул. — Да, все, насколько могу судить.
Амикам посмотрел вслед дочери, пошедшей справиться у слуг, скоро ли подадут дичь.
— Сегодня в городе жгут ведьму. — Сказал он. — Второй раз за год. И если первая была из ваших — уж не знаю, правда ли, наши волхвы сказали, что в несчастной не было ни капли силы — то та, что умрет — умерла — сегодня — дочь одной из знатных семей. Когда-то знатных, война их здорово подкосила. Именно поэтому я не хочу возвращаться в город до вечера — пока поутихнут волнения и разговоры. В прошлый раз Лия непонятно зачем пошла на казнь и прорыдала потом сутки.
— Она настолько впечатлительна?
— Я не знаю, виновна ли в чем-то злом эта девушка. — Амикам сделал вид, что не услышал. — У тех, кто ее обвинил, и вправду за два дня передохла вся скотина. Суд решил, что виновна. Но кто поручится, что под предлогом борьбы с ведьмами не начнут хватать всех подряд?
— Скажи, а как ваша вера относится к ведьмам?
— К видящим? С этакой смесью страха и уважения. От них бывает польза, бывает зло.
— К тем, козни которых доказаны.
— Если ведьма сотворила зло, она умрет.
— Кто поручится что под предлогом… — Рамон не договорил. — Ты понял.
— Да. Но я знаю, что ждать от наших волхвов. И понятия не имею, чего ожидать от ваших.
Рыцарь покачал головой.
— Как по мне, так гори огнем все это племя — независимо от виновности. Но правосудие есть правосудие.
— Ты веришь их виновность?
— Я верю в правосудие.
Амикам перевел взгляд на возвращающуюся дочь.
— Спасибо за откровенность. Меняем тему.
— Сейчас принесут. — Лия присела рядом. — Чего вы такие смурные оба?
— Говорили о политике. — Ответил Рамон.
— Действительно, тоска зеленая. Нашли время и место.
— О, уже готово. — Сказал Амикам. — Буди брата, а то голодным останется.
Здравствуй.
Как водится, оказалось, что «решить» и сделать» — отнюдь не одно и то же. Я думал, что все будет просто — ну, не считая разговора с матушкой на который я пока так и не решился. Говорить придется — не сбегать же из дома тайком. В конце концов я не юная дева, выбирающаяся из окна в ночи, чтобы поспешить к неподходящему возлюбленному. Так что говорить придется — но потом. Как можно позже, иначе она превратит оставшееся время в сущий кошмар. А дел слишком много для того, чтобы усложнять жизнь еще и скандалами.
Ты, наверное, скажешь: нашел из чего создавать проблему — экая невидаль собраться на турнир, когда на сборы на войну обычай предполагает сорок дней, а ты уложился в две недели. И будешь прав, если бы не одно «но»: я безоружен и бездоспешен. Смеешься? Я бы тоже смеялся на твоем месте. Только в последний раз я надевал доспех… да, незадолго до того, как погиб Авдерик. Пять лет назад.
Нет, с ним ничего не сделалось — да и что с ними может сделаться в сундуке? Изменился я. Кольчуга едва достает до колена и узка в плечах, а гамбезон и вовсе не сходится. Щит и копье — их тоже нет — не пригодятся, я ведь не рыцарь. Точнее не пригодится копье, щит нужен. Хорошо хоть шлем по-прежнему налезает — видимо, за прошедшие годы ума в голове не прибавилось. И мечи — выбирай — не хочу из семейной коллекции. Пока я выбрал тот, что привезли после гибели Лейдебода. Там видно будет.
Вроде бы все просто — кольчугу и прочее можно заказать (а может быть, поговорить с оружейником и вовсе надставить), и мы пока не нищие. Не так богаты, как когда-то (если верить семейным легендам, разумеется), но и не нищие. Если бы не то, что своих денег у меня нет. Потому что они мне как бы и не нужны — ну на что тратиться человеку выбирающемуся из своей комнаты только в библиотеку, да по нужде? И, в общем-то неважно, что я сейчас считаюсь хозяином замка — ты знаешь, у кого ключ от сундука с золотом. Не знаю, как ты смог вырвать у нее право вести дела — но как только ты уехал, все вернулось на круги своя.
И попросить у нее столько, сколько нужно для того, чтобы вооружиться я не могу. Слишком много денег, а, значит, слишком много вопросов. И идеальная возможность в очередной раз показать, насколько я от нее завишу. Ну да, завишу — шагу не могу без матери ступить. Знал бы ты, как это утомительно.
Словом, просто пойти и купить я не могу — значит, придется выкручиваться, придумывать поводы для того, чтобы выпрашивать меньшие суммы и копить. И надеяться, что успею. Я еще подумаю, как это провернуть — но, похоже, мне придется учиться прятаться, интриговать и манипулировать. Не те умения, которыми стоило бы гордится, но что мне остается? Я молюсь только об одном — чтобы все получилось.
Рихмер.
Глава 10
Дня три после охоты прошли спокойно — книги, учеба, размышления. Рамон не давал о себе знать, то ли был занят, то ли все-таки обиделся, несмотря на то, что в тот день вел себя как обычно. Эдгар совсем было решил, что дело все же в обиде и собрался было напроситься в гости, когда тот объявился. Разумеется, их снова куда-то звали. И, разумеется, все снова пошло кувырком. Месяц до проявления представителей Белона превратился в сущий карнавал — приемы, охоты, прогулки по городу. Впрочем, Рамон, кажется, сделал выводы и не настаивал, когда брату приходило в голову отказаться. Светская жизнь, освобожденная от обязательств, оказалась… любопытной. Так что к концу месяца даже такой нелюдим, как Эдгар сумел запомнить, кто кому брат, сват и тому подобное. И — вот уж вовсе невиданное дело — научился танцевать.
Когда приехали люди короля Белона, Эдгар ожидал вызова к герцогу, но его не последовало. Более того — снова пропал Рамон. Конечно, он и до того бывал не каждый день. Но обещать зайти назавтра, и не появиться, отделавшись письмом с извинениями, которые на самом деле ничего не объясняли — такого за братом раньше не водилось. Эдгар проворочался всю ночь, и с утра помчался к Рамону. С него станется заболеть или еще чего похуже, и не предупредить, чтобы «не расстраивать». На самом деле, Эдгар крепко подозревал, что брат попросту боится выглядеть слабым и не умеет принимать сочувствие. Правду говоря, он и сам этого не умел. Некогда и негде было научиться. Он даже считал, что так и должно быть. До тех пор, пока едва не погиб лютой столичной зимой. Сперва было неловко послать за кем-то из однокашников занять — нет, не денег, но хотя бы чуть-чуть еды, готовить самому не хватало сил, не хватало сил даже поддерживать огонь в печи. А потом он не смог подняться с постели. Когда, озаботившись тем, что примерный ученик не появляется на лекциях неделю, к Эдгару все же пришли, он бредил, и спешно вызванный лекарь отказался поручиться за его жизнь. Конечно, Рамон в доме не один, и Бертовин присматривает за ним не хуже хорошей няньки — пожалуй, бывший воспитатель был единственным, кому брат по старой памяти позволял о себе заботиться. Но все равно лучше было убедиться самому.
Он вошел во двор и сразу же увидел Рамона — тот разговаривал со своими людьми, против обычного, собравшимися во дворе. Поднял взгляд на вошедшего, кивнул, бросил своим.
— Все. Собираемся.
Эдгар почувствовал, как облегчение сменяется разочарованием — у брата снова какие-то дела, а он снова не нужен.
— Хорошо, что зашел, — сказал Рамон, обнимая. — Как раз собирался сам заглянуть, попрощаться. Пойдем в дом.
— Что случилось?
— Постой. — Рыцарь остановился. — Ты что, ни о чем не знаешь?
— А должен?
— Так. Где ты был последние два дня?
— В библиотеке.
Рамон расхохотался.
— Братишка, ты бесподобен! Если завтра наступит светопреставление, ты и представ перед господом сделаешь такое же лицо и скажешь — был в библиотеке, что вообще случилось?
Эдгар смутился.
— Ладно, пойдем. — Рамон провел брата в дом, усадил, плеснул вина.
— Приехали люди из Белона. За тобой.
— Слышал, но меня не звали.
— Да. Потому что они принесли дурные вести. Сюда идет армия. Кадану, видимо, надоело терпеть под носом нас.
— И что теперь? — Эдгар сам понял, как глупо это прозвучало. Но брат не стал смеяться.
— Теперь будет война.
Рамон сел напротив, пригубил из кубка.
— Герцог решил встретить их в поле, чтобы не допустить осады.
— Ты считаешь, это правильно?
Эдгар полагал себя начитанными знал немало о сражениях прошлого. Но одно дело читать, другое — решать самому.
— Признаться, я плохой полководец, два десятка рыцарей, моих вассалов — пожалуй, предел возможностей. Поэтому — не знаю.
— Сюзерен всегда прав, даже если он ошибается. — Пробормотал Эдгар.
— Да. Потому что сознание того, что твой господин ошибся, а ты был прав, не спасет никого. Поэтому лучше бы ему оказаться правым, а нам — молиться, чтобы так и случилось.
— А если нет?
Рамон пожал плечами.
— Многие готовятся спешно отправлять семьи назад, если что. Приказать тебе я не могу… могу попросить. Если вместо нас вернутся дурные вести — найди место на корабле, сколько бы оно не стоило. Деньги у тебя должны оставаться… впрочем, я оставлю, когда отсюда побегут, место на корабле станет золотым. Я попросил Амикама, чтобы когда будут убираться, помогли и тебе, но сам понимаешь, прежде всего он будет заботиться о своей семье.
— Ты забыл только одно — спросить меня.
— А что я сейчас делаю?
Эдгар вздохнул. Бесполезно. Значит, нужно спросить о другом.
— Кто-то из священников идет с армией?
— Конечно.
— Тогда я с ними.
Рамон поставил кубок, смерил брата взглядом.
— Любопытство — не лучшее качество.
— Пошел ты… — Был бы на месте брата кто-то другой, Эдгар бы ударил — и плевать на последствия. — Я мужчина. И я не буду отсиживаться за стенами, и ждать, спасут мою шкуру или придется уносить ноги.
Руки тряслись, и кубок пришлось поставить, чтобы не расплескать. Да и очень хотелось запустить им со всей дури в ближайшую стену, чтобы грохнуло как следует.
— Ты разделишь судьбу господина, прав он или нет — потому что клялся ему в верности. Ты не можешь выбрать. Я — могу. И я выбираю судьбу тех, кто пытается защитить меня, уж прости за то, как это звучит. Кроме меча есть еще слово. И души, нуждающиеся в молитве и утешении. Впрочем… думаю на крайний случай меч у тебя найдется. Пока я не рукоположен, господь простит.
— Дурак.
— Какой уж уродился. — Эдгар подумал, что если бы взгляды в самом деле могли метать молнии, дом бы уже пылал. Причем неизвестно, от чьего именно взгляда.
— Спроси у отца Сигирика. — сдался, наконец, Рамон. — Он идет со своими. Меч найдется.
Отец Сигирик не возражал, и на следующее утро Эдгар вместе со священниками стоял на холме у герцогского шатра. У подножья разворачивалась армия, ржали кони, трепетали стяги. А по другую сторону поля выстраивались враги. Наверное, там тоже подходили к священникам (волхвам — поправил себя Эдгар) — просили благословения перед боем. Неподалеку Сигирик разговаривал с преклонившим колени рыцарем — тихо, как и полагается на исповеди. Лицо воина казалось знакомым, но герб на котте ни о чем не говорил — а, может быть просто Эдгар не мог вспомнить. Люди шли, один за другим, рыцари и простолюдины, а сам Эдгар никак не мог понять, что он здесь делает. Ну да, сам напросился — но зачем? Исповедать и причастить он не мог, пока не принял сан, помочь на службе — для этого есть мальчики. Поговорить? О чем он, отродясь не противоборствовавший ничему опаснее пера, мог говорить с теми, кто вскоре с оружием будет защищать оставшийся где-то позади город, и этот холм со стягом герцога. И самого Эдгара.
Сигирик отпустил рыцаря, подошел ближе.
— Не волнуйся, сыне. К чему бояться тех, кто может убить тело, но не способен погубить душу?
— Я не волнуюсь. Просто… — Эдгар коснулся левой рукой меча, это успокаивало. Перевел взгляд на священника — тот, как и полагалось его сану был без оружия.
— Это хорошо, что «просто». Господь не оставит.
Эдгар кивнул. Сигирика отвлек еще один рыцарь и Эдгар снова остался один.
И снова оставалось только ждать. Эдгар опустился на колени. Неважно, сколько человек сейчас обращаются к Господу. Он услышит. Не может не услышать.
Рамон в последний раз взглянул на холм. Где-то там был Эдгар и это было хорошо. Ну, насколько вообще хорошо может быть в подобной ситуации. Если дела повернутся плохо, может, парень и сумеет удрать. Если захочет. С него ведь станется упереться до конца, невероятно просто, как брат умудряется жить в каком-то своем мире, совершенно не имеющем отношения к реальности. И ладно бы был мальчишкой как Хлодий, в этом возрасте простительно, так нет же. Рамон в последний раз вздохнул и выкинул мысли о брате из головы. Оглянулся на Бертовина.
— Где Хлодий?
— Исповедуется.
— Хорошо.
Пусть мальчик верит, пока может. Сам Рамон давно знал, что бог не слышит. Так что чем бы не обернулось сегодня — это будет делом рук человеческих, и никак иначе. Пять сотен рыцарей со своими людьми, да отряд лучников в перелеске. Врагов было больше, много больше. И все же Рамон был уверен, что лучше встретить противника в чистом поле, чем отсиживаться за стенами подобно крысам. В прошлую осаду жители ждали подмоги, которая так и не пришла. В этот раз помощи ждать будет неоткуда, разве что бог явит чудо и два оставшихся корабля все же доплывут, третий уж точно на дне. Но в нежданные милости небес Рамон тоже давно не верил. Так что победу придется взять самим, а не выйдет — все лучше, чем медленно дохнуть от голода.
Хлодий, легок на помине, вернулся, помог надеть шлем. Рамон встряхнулся, услышав звук горна.
— Все. По местам.
И пусть свершится то, чему суждено.
Господь услышал — иначе как объяснить снизошедшую в душу уверенность, что все будет так, как должно? Эдгар смотрел вниз, разыскивая взглядом Рамона или хотя бы его людей. Десяток, одетый в серебро и червлень — казалось бы, трудно не увидеть. Но плотный строй представал собранием неразличимых цветных пятен, от которых рябило в глазах. Услышав горн, Эдгар подпрыгнул. Чистому медному голосу, словно смеясь, с другого конца поля ответил низкий звук рога. Войско двинулось. Но прежде, чем две железные стены столкнулись, из перелеска, где стояли лучники, полетели стрелы. И когда железо столкнулось с плотью, Эдгар понял, почему брат никогда не рассказывал о войне.
Стрелы изрядно проредили вражеский строй, но тот, кого приметил себе Рамон, остался в седле. Копье бросило его наземь, довершили дело копыта или нет, рыцарь не заметил — пришлось прикрываться щитом от меча того, кто был рядом. Копье улетело за спину — Хлодий подберет и отступит назад, туда, где в относительной безопасности будут ждать оруженосцы — впрочем, где и когда в бою можно было говорить о безопасном месте? Рукоять меча легла в ладонь, клинок закружился, прорубая путь. Когда-то когда Рамон был еще пажом, воспитатель герцога, седой и беззубый, частенько ругался — мол, не та война пошла, что в наше время, совсем не та. Виданное ли дело, вместо того, чтобы считать доблесть по убитым врагам, брать тех в плен лишь ради богатого выкупа. Что ж, с тех пор, похоже, все вернулось на круги своя. По крайней мере, в этой битве.
Сзади раздался предостерегающий крик. Рамон оглянулся. Увлекшись, он слишком оторвался от своих, и теперь его люди с трудом удерживали ломящихся с боков язычников. Рыцарь осадил коня, подаваясь назад. Наседавший воин обрадовался — ненадолго, Рамон достал его мечом. Врагов было много, слишком много и строй медленно пятился. Бертовин охнув, покачнулся — на червлени кровь выглядела темной.
— Давай назад, к Хлодию! — крикнул Рамон.
— Еще чего! — оскалился тот. — По ребрам полоснуло, до свадьбы заживет.
Спорить не было ни времени, ни сил. Рыцарь зарубил еще одного. Показалось ему, или кричали где-то за спиной, там, где должно было быть безопасно? Но оглядываться и высматривать уже тоже не было возможности, оставалось только рубить, и уходить от удара, и снова рубить.
Эдгар видел, как схлестнулись два строя, качнулись туда-сюда, подобно волне, а потом рыцари начали пятиться. Поначалу медленно, шажок за шажком. Строй прогибался, точно лук со слишком тугой тетивой, и, подобно тому же луку, все же сломался, прорвавшись в центре. И в прорыв понеслась волна, сметая на пути всех — прямо туда, где редкими кучками стояли оруженосцы.
Один из людей Рамона завалился набок с перерубленной ключицей. Еще один едва держался в седле — шлем хоть и спас жизнь, но голову не уберег. По хорошему, его надо было отправить в тыл, но в тылу тоже творилось что-то непонятное. По-хорошему, надо бы приказать Бертовину проводить, да прихватить еще одного, отбросившего щит потому, что в нем застряло чужое копье и теперь прижимавшего левую руку к боку — кто-то из врагов достал палицей. Кость сломана, как пить дать. Но за спиной уже тоже были враги, и оставалось только драться до последнего.
— Все, стоим здесь. — Крикнул Рамон. — Раненых в середину.
И они встали. Насмерть.
Хлодий не поверил себе, когда увидел, как рассыпается строй, падают наземь рыцари, а кто-то и вовсе бежит, а следом, вопя и улюлюкая, мчатся язычники. Стоящий рядом парень — Хлодий его не знал, не успел познакомиться, закрыл глаза, зашептав молитву.
— Дурак, давай в седло!
— Не поможет — подбородок мальчишки трясся. — Догонят.
Хлодий выругался — услышь отец, точно дал бы по губам — взлетел на коня. «Догонят» — он и не собирался удирать. Не для того столько учили. В животе свернулся ледяной ком, но еще страшнее была мысль о том, какое лицо будет у господина, когда он узнает, что его оруженосец сбежал. И что скажет отец.
Хлодий перехватил поудобнее копье — конечно, он не рыцарь и никогда им не будет, но Рамон поймет. И поскакал туда, где сбившись в кучку, стояли те, кто не побежал.
Он очень старался все сделать правильно — но копье сломалось, хрустнув сухой веткой, а враг хоть и пошатнулся, но удержался в седле. Только отбросил щит с засевшим обломком — вот и вся польза. И, оскалившись, повернул коня навстречу Хлодию. Тот отшвырнул то, что осталось от копья и схватился за меч. Мельком подумал, что за сломанное оружие, Рамон, пожалуй, выпорет. Если будет кого. А потом стало не до праздных размышлений. Язычник, с которым он сцепился, оказался матерым — и Хлодий едва успевал подставлять клинок, да уворачиваться. Даже сожалеть о том, что влез не в свое дело было некогда. Только стараться оттянуть миг, когда все будет кончено — а то, что этот миг настанет, было очевидным. Но рядом пытались драться такие же мальчишки, не пожелавшие убегать. А значит, и он не отступит. Хлодий блокировал очередной замах и все-таки ошибся — чужой клинок скользнул вдоль лезвия и опустился на бедро. Оруженосец почувствовал удар — боли поначалу не было — увидел торжествующую ухмылку язычника, и уже заваливаясь набок пырнул в живот. Враг сложился. Хлодий успел вынуть ноги из стремян, чтобы в них не запутаться, и тут боль догнала. Он схватился за раненое бедро, со всего размаху грохнулся оземь и потерял сознание.
Эдгар, вцепившись в рукоять меча, смотрел вниз. Похоже скоро все будет кончено — и тогда останется только попытаться продать свою жизнь подороже. Он усмехнулся — слишком уж возвышенно и глупо это звучало. Но когда язычники доберутся сюда, он сможет хотя бы драться — а что делать тем, кто стоит рядом, безоружный? Он оглянулся на Сигирика — тот, опустившись на колени, молился.
Из перелеска снова засвистели стрелы — теперь они били в спину язычникам. А потом — Эдгар не поверил глазам — из того же леска вылетели всадники и ударили сбоку.
Рамон потерял счет времени — а убитых врагов он не считал никогда. Меч в руках наливался тяжестью, измочаленный щит грозил рассыпаться в щепки. Еще один из его людей лежал с разрубленной шеей. Остальные держались. Пока держались. Но кроме этого «пока» ничто не имело значения. Он заметил, что напор врагов стал слабее, свалил еще одного, приготовился схватиться со следующим, а тот вдруг развернул коня и помчался прочь. Рамон огляделся. По полю неслись всадники, над головами реял штандарт герцога.
— Все. — Выдохнул рыцарь. — Кажется, все.
— Пошли добивать? — ухмыльнулся Бертовин.
— Какое тебе «добивать»? бери раненых и назад. А мы мертвых подберем и следом.
— Ну вот, самое веселье отобрали. — Буркнул тот. Стряхнул латную рукавицу, вытер лицо. Пошатнулся.
— Весельчак нашелся. — Фыркнул Рамон. — Поезжайте, кому сказал.
Он спешился, снял рукавицы и шлем. Ветерок коснулся взмокшего лба — стало зябко, несмотря на то, что вокруг было тепло. Один из солдат подхватил щит. Рамон кивнул, благодаря — вообще-то это должен был сделать Хлодий, но мальчишки что-то не было. Ищет, наверное, поди разбери, куда их отнесло в этакой-то каше. Рыцарь огляделся. Где-то здесь двое его людей. Точнее, тела его людей. Красное с серебром должно быть заметно посреди развороченной копытами травы. Так и есть. Рамон опустился на колени, закрыл мертвому глаза. Кивнул своим — те положили тело поперек седла бродившей поодаль лошади. Потом подобрали второго погибшего. Рамон вернулся в седло, послал коня вперед неспешным шагом. Внутри было пусто — как всегда после боя. Потом придет скорбь по погибшим, и сожаление — не уберег, не успел, навалится усталость… Но все это будет потом. Когда появятся силы чувствовать хоть что-то.
— Пойдем, сын мой. — Сигирик протянул суму. — Воины свое дело сделали, теперь наша очередь.
Эдгар кивнул — расспрашивать не хотелось — и послушно последовал за священником.
В старых миниатюрах поле боя рисовали сплошь покрытым телами. В жизни все оказалось не так — но не менее страшно. Взрытая копытами, перемешанная с землей трава. Кровь — вовсе не алая, а густого вишневого цвета. И люди. Много людей. Кто-то еще шевелился, кто-то уже не дышал. Они с Сигириком ходили по полю, и священник, не гнушаясь, собственноручно касался шеи каждого, проверяя, жив ли. Спокойно, не кривясь и не бледнея перевязывал раны, доставая бинты из той самой сумки, что подал Эдгару. Принимал исповедь у тех, кто еще мог говорить и разрешал от грехов бесчувственных.
— Грех убийства и смерть без покаяния. — Негромко произнес Сигирик, когда они шли от одного тела к другому. — И все же я верю, что господь не допустит вечных мук для тех, что защищают нас с оружием в руках. Тем не менее, поскольку пути его неисповедимы, будем делать то, что должно. А Он рассудит.
Они снова остановились. Лежащий был в сознании, придерживал руками живот. С каждым вдохом из раны выпучивалось что-то мягкое, красно-сизое, шевелящееся. Раненый заправлял это обратно, но через миг все повторялось. Сигирик достал бинты.
— Не надо. — Человек облизнул сухие губы. — Все равно. Исповедуй, отче.
Эдгар шагнул в сторону, чтобы не слышать. Наконец, священник поднялся.
— Пойдем.
— Погоди. — Раненый в очередной раз попытался заправить внутренности. — Ты носишь меч. Помоги.
Эдгар замер, не понимая, не желая понимать, что от него хотят.
— Все равно… — повторил раненый. — Я могу сам… грех на душу не хочу. Помоги.
Эдгар затряс головой, беспомощно посмотрел на Сигирика.
— Выбирай сам, сын мой. — Сказал тот. — Я не могу решить за тебя.
Взял из рук ученого сумку и побрел к следующему телу. Эдгар шагнул было вслед. Остановился.
— Прошу тебя…
Меч вошел в грудину с сухим хрустом — так скрипит снег под ногами морозной ночью. Эдгар долго стоял, глядя в ставшее разом безмятежным лицо. Вбросил в ножны кое-как оттертый от крови клинок и пошел догонять Сигирика.
Они остановились у обоза — там, где оставалась их телега. Тут же ждали двое раненых, отправленных вперед.
— Где Бертовин? — спросил Рамон.
— Сына ищет.
— Что с ним? — безразличную одурь смахнуло вмиг.
— Ты не видел что ли? Оруженосцев порубили. В центре прорвались, и…
— Всех?
Хоть бы у мальчишки хватило ума сбежать. Хотя Хлодий не побежит, это-то и плохо.
— Нет, до кого добраться успели. Сотню, наверное.
Рамон едва не застонал при мысли о недоученных мальчишках, попавших под клинки.
— Я искать.
— Погоди. Вон он.
И в самом деле, неподалеку показался Бертовин, несущий на руках сына — то ли бесчувственного, то ли мертвого, поди отсюда разбери. Рамон сорвался с места первым.
— Давай сюда, сам на ногах еле держишься.
Тот помотал головой.
— Сам.
— Жив? — спросил рыцарь, отступая.
— Вроде.
Бертовин опустил юношу на траву. Тот дернулся, застонал и открыл глаза.
— Живой. — Выдохнул Рамон.
— Живой. — Эхом повторил Бертовин, оседая рядом.
Хлодий обвел взглядом знакомые лица. Неуверенно улыбнулся.
— Я не побежал.
Рамон кивнул, посмотрел ему в глаза.
— Да. Ты не побежал и смог взять жизнь врага. Я горжусь тобой.
Юноша снова улыбнулся. Попытался было пошевелиться и застонал.
— Откуда ты знаешь про врага? — спросил Бертовин, пока Рамон освобождал рану от одежды.
— Его не добили.
Нога на первый взгляд выглядела жутко, но после внимательного осмотра стало ясно, что кость не задета. Кровь еще текла, но не так, чтобы дать повод для волнений.
— До свадьбы заживет. — Рамон выпрямился, вытирая руки. Негромко приказал: — Калите железо.
Пока разводили костер, перевязали Бертовина — рана и в самом деле оказалась неопасной — клинок прорубил кольчугу и скользнул по коже. Сломанное ребро не в счет, срастется. Так же как и рука еще одного раненого, которую уложили в лубки.
Рамон достал из огня клинок, подобранный на поле кем-то из его солдат.
— Держите.
— Не надо держать. — Хлодий не мог отвести взгляд от алого железа.
— Надо. — Сказал Рамон. — И не вздумай терпеть. Ори во всю глотку.
Раскаленная сталь зашипела, войдя в рану, тошнотворно запахло паленым. Хлодий попытался было сдержаться — не вышло, зашелся в крике.
— Все. — Рыцарь отбросил клинок. — Теперь только перевязать.
Он оглянулся на своих людей.
— Поесть соорудите.
На самом деле хотелось только упасть и спать. Но люди устали, им надо поесть и отдохнуть. Тем более что все равно дожидаться герольда с разрешением покинуть поле боя. Еще надо бы поискать Эдгара… хотя если не найдется, ничего страшного. Приехал со святошами, с ними же и обратно доберется.
— Все. — Повторил Рамон. — Есть будешь?
Хлодий покачал головой.
— Тогда спи. Начнем собираться — разбудим.
Эдгар выбрался к их костру сам. Молча прошел между лежащих вповалку людей, сел рядом с братом. Рамон хотел было спросить, не голоден ли тот, пригляделся внимательней — и ни сказав ни слова протянул флягу с вином. Удивительно, но отказываться ученый не стал, пил долго, взахлеб, точно воду. Наконец, вернул флягу, обхватил колени, уставившись в костер.
— Я убил человека.
— Поздравляю. — Негромко сказал рыцарь.
— Ты не понял. Я убил человека. Нашего. — Эдгар протяжно всхлипнул — воздуха не хватало, хотя слез не было. — Раненого. Он… у него живот был… и я…
Он не успел сообразить, как, а, главное, когда вроде бы спокойно сидевший рядом брат развернулся и ударил. Успел только схватиться за горящую щеку и уставиться на Рамона.
— Ты воин или баба? — прошипел тот.
— Я ученый.
В голове звенело, то ли от вина, то ли от пощечины. Какого…?
— Ты нацепил меч. Или веди себя, как мужчина и не позорь оружие, или снимай его и ступай в обоз к бабам.
— Ты… — воздуха снова не хватало, теперь от ярости. — Как ты смеешь?
— Смею. — Ухмыльнулся тот. — И попробуй помешать.
Эдгар выругался — длинно и грязно, пожалуй, он сам не ожидал от себя подобных выражений. Поднялся, не отрывая взгляда от брата.
— Вставай.
Рамон не пошевельнулся.
— Вставай, и я набью тебе морду.
Тот посмотрел снизу вверх — пристально, очень внимательно. И улыбнулся. Совсем не так, как миг назад.
— Ну вот. Теперь ты похож на человека.
— Ты… — ярость ушла так же стремительно, как накатила. Эдгар медленно сел. — Ты специально, что ли?
— Ага. — Рамон бросил брату флягу. — Был бы девицей, гладил бы по головке и утешал. Но ты ж не девица.
— Зараза… — по правде говоря, хотелось сказать много что — но он и без того уже наговорил такого, что пьяный матрос бы устыдился.
— Пей. Помогает, правда, не очень. Но хоть что-то.
Эдгар открыл флягу, принюхался. Скривившись, вернул брату.
— Напьюсь и усну. Мало вам раненых, придется еще и меня тащить.
— Одним больше — одним меньше. — Хмыкнул Рамон. — Есть будешь?
— Нет.
— Будешь. Ты только что вылакал полфляги не закусывая. Если не поешь — точно придется тело везти.
Эдгар вздохнул, взял протянутый братом хлеб и начал жевать.
Подошедший герольд говорил вроде негромко, но Бертовин, что дремал рядом с сыном, проснулся, а следом зашевелился и Хлодий.
— Буди людей. — Сказал Рамон.
— Хорошо. — Бертовин помедлил. — Пошли кого-нибудь вторую телегу поискать, должно быть найдется оставшаяся без хозяев. Хлодию.
Рамон покачал головой.
— Не подумал. В самом деле, на нашей покойники, его туда же не стоит.
— Просто тебе было бы все равно. — Пожал плечами Бертовин. — А ему еще нет.
— Я не поеду в телеге. Я воин.
Хлодий попытался сесть — получилось, хотя лицо у мальчишки стало зеленым.
— Куда денешься. — Хмыкнул Бертовин. — Пошел я, искать.
— Не поеду. — Повторил оруженосец.
— Сопли подотри, «воин». В седле не держится, а туда же!
— Уймитесь. Оба!
Рамон присел рядом с Хлодием. Мальчишка часто-часто моргал, прикусив губу, но глаз не опускал.
— Воин. — Негромко сказал рыцарь. — Сядешь у меня за спиной. За пояс удержишься, или привязать?
— Удержусь.
— Как знаешь. — Рамон встал, огляделся. — Чего застыли все? Собираемся.
Глава 11
Рамон сидел на шкуре у камина. Делать ничего не хотелось, думать тоже. Только сейчас он понял, насколько устал за последние месяцы. Дорога, подготовка к походу — погреб и сейчас был набит едой, которую можно было просто сгрести в мешки — и месяц кормить дюжину мужчин. Найти и привести в порядок лошадей, чтобы слушались хозяев беспрекословно, причем не только поводьев, но и шенкелей. Ввести в свет Эдгара, как бы тот ни сопротивлялся. И множество повседневных мелочей, неизбежно появляющихся у человека, имеющего право и смелость решать не только за себя.
В кои-то веки можно было никуда не спешить и ничего не делать. Разве что время от времени подкладывать поленья в огонь. Убитых отпели и похоронили, как подобает. Пробитые кольчуги отдали в починку — господин вооружает своих людей, а, значит, доспех еще понадобится. Хлодий спал в отведенной комнатушке. Когда пришло время слезать с коня, мальчик просто рухнул на руки отцу и лишился чувств — даром, что за всю дорогу не пикнул. Вызванный лекарь подтвердил, что опасаться за его жизнь нечего. Конечно, все в руках господа, и нужно следить, чтобы не началась лихорадка — но пока поводов беспокоиться не было. Кость цела, это главное — а мясо нарастет. Эдгар понравился Сигирику, и это было хорошо. Самого священника Рамон недолюбливал — но надо признать, если уж тому кто глянулся, постоит горой невзирая ни на что. Так что когда Эдгар вернется из Белона, будет кому его встретить. Герцог объявил недельный траур по погибшим и утонувшим — в то, что кто-то еще доплывет уже никто не верил. А с той армией, что осталась, много не навоюешь, так что наступательного похода не будет. И это тоже было хорошо, хоть и не пристали настоящему рыцарю подобные мысли.
Вернувшись домой, он проспал едва ли не сутки. Говорят, город радовался, невзирая на траур — но на улицу Рамон еще не выходил. Не было желания. Хотелось напиться, он даже приказал принести вина. Кувшин и кубки и сейчас стояли на столе, но уже налив, рыцарь передумал. Навидался тех, кто пил сперва на радостях, потом от горя, в праздник и без, просто, за компанию. На глазах превращаясь из справного воина в трясущуюся развалину не знающую ничего, кроме хмельного. А кто и вовсе подох, захлебнувшись собственной блевотиной. Может, он и не успеет спиться за оставшееся время — но проверять не хотелось.
— Господин. — Осторожно постучал дворецкий. — К тебе пришли.
— Скажи, что я пьян… или умер. — Проворчал Рамон. — Никого видеть не хочу. Хотя постой… не брат и не герцог?
— Нет. Госпожа Лия.
— Принесла нелегкая… Пускай.
Почему-то прогнать девочку язык не поворачивался. Ладно, посмотрит на него и сама сбежит.
— Здравствуй. — Лия перевела взгляд с закрытых наглухо ставень на поднявшегося Рамона. — Что-то случилось?
— Нет. Просто настроение неважное. — Признался тот.
— Если ты хочешь побыть один, я уйду.
— Брось. Если бы все было так плохо, просто велел бы никого не пускать. Не стой в проходе.
Девушка шагнула внутрь, притворила за собой дверь.
— Садись — Рамон указал на кресло.
— А можно на пол, к камину? — она неуверенно улыбнулась. Девочке явно было не по себе. Неужели он настолько страшен сегодня? Или что-то произошло — но что?
— Можно. Ставни открыть? Или свечи?
— Оставь как есть. Мне нравится.
— Что-то случилось?
— Нет… Наверное, нет. Ты пил? Налей мне, пожалуйста.
— Собирался, потом передумал. Но с тобой выпью. — Рамон протянул гостье вино, сел рядом. — Рассказывай.
— В том и дело, что нечего рассказывать. — Вздохнула она, обхватив ладошками кубок. — Просто… все радуются, а я… не знаю… Я подумала, что кроме тебя не с кем поговорить — ты ведь тоже не любишь войну.
— Я рыцарь. — Рамон пригубил вина. — Я живу войной.
— Да… наверное. Но ты не поешь о былых битвах и не хвастаешься подвигами.
— Было бы чем хвастаться. — Проворчал он. Да что же с девочкой такое? — У тебя убили кого-то вчера?
— Нет… — Девушка поставила уже пустой кубок, снова взяла его, покрутила в руках. — Прости… сама не знаю, зачем пришла. Пойду, наверное.
— Сиди. Не хочешь говорить — не надо. Я сегодня тоже не лучший собеседник.
— Что стряслось? — теперь встревожилась она.
— Ничего. — Рамон пожал плечами. — Устал, только и всего. Пройдет.
Дурацкий вечер и дурацкий разговор. Нет, точно надо было напиться, а сейчас поздно. Но и отпустить девочку просто так… Не нравилось ему, как Лия смотрит в огонь, теребя в руках кубок — будь на ее месте мужчина, Рамон начал бы всерьез опасаться за серебро. Но исповедник из него, если прямо говорить, аховый. Эдгара бы сюда — тот бы мигом почувствовал душу, которую пора спасать и сел на любимого конька, даром что обычно людей боится. Хороший пастор из него выйдет со временем, зря Бертовин ворчит. Рамон снова покосился на девушку. Правду говоря, он спокойно посидел бы рядом и в тишине — с Лией вообще хорошо было молчать. Молчать и знать, что никто не хочет от тебя потока ненужных слов призванных лишь заполнить тишину и помочь убежать от размышлений. Он бы и сейчас так поступил — если бы не что-то слишком уж напоминающее отчаяние в ее взгляде.
— Когда ваши встали осадой у стен, — Сказала она, наконец. — В городе стали говорить о том, что чужеземцы вырежут всех мужчин, а женщин… тоже всех.
— А что, случилось по-другому? — невесело усмехнулся Рамон.
— Не всех. И меня ж ты не тронул.
— Был бы на твоем месте… скажем, Нисим — мог и убить. — Может, правда сейчас и не нужна никому, но врать не хотелось.
— Нисим защищал дом. И отец, и старший брат… А я решила, что они трусы, думающие только о себе и стащила нож. — Лия улыбнулась. — Я же выросла на сагах… Герои, погибшие на пороге дома, но так и не сдавшиеся. — Ее голос упал до шепота. — А потом я узнала, кто открыл ворота.
Да уж, девочке не позавидуешь. Рамон привык гордиться предками. Как бы ему жилось со знанием, что отец — предатель? Рыцарю нравился Амикам, он вообще любил эту семью, как свою, и слово «предатель» удивительно не подходило — но как ни крути, другого не было. Не ему судить, конечно, и вообще, упаси господь от подобного выбора… умирающий от голода город, сбежавший наместник — это вообще было недоступно пониманию, как можно бросить вверенных тебе людей? И семья на руках. Сам Рамон предпочел бы драться до конца — но у него никогда не было детей.
— Давно, года два назад. Одно время я его ненавидела, как ненавидела вас… — Она вскинулась. — Не тебя, нет, ты мне нравился… нравишься. Ты походил на любопытного путешественника, а не на завоевателя… твой брат, кстати, такой же… Или я сама себе это придумала, не знаю… словом, тебя ненавидеть не получалось, а остальных…
Господи, но неужели девочка настолько одинока, что ей больше не к кому с этим прийти? А с другой стороны — к кому? Он сам со многими бы рискнул быть настолько откровенным?
— Налей еще. — Она протянула кубок. Рамон поднялся, принес кувшин. Пояснил:
— Чтобы десять раз не ходить.
— Не бойся, я не напьюсь. — Она попыталась улыбнуться. Получилось не очень.
— По мне, так можешь хоть в стельку.
— Нет. Это слишком просто. — Она глотнула, отставила вино в сторону. — Время шло, я привыкла. А недавно… когда пришла весть о том, что сюда идет армия, я вдруг очень четко поняла, что мою семью они не пощадят. Освободители. В лучшем случае перебьют только тех, кто открыто переметнулся к вам. В худшем — точно так же вырежут полгорода. Чего церемониться с мужчинами, которые прислуживают врагу, и женщинами, делящими ложе с чужаками? И я поняла, что не знаю, кому желаю победы.
Лия обхватила руками плечики — маленький несчастный воробышек. Смотреть на это было невыносимо. Рамон придвинулся ближе, обнял. Утешитель из него не лучше, чем исповедник, но какой уж есть.
— Я запуталась.
Девушка уткнулась лицом в его грудь и слова получались нечеткими. От этого, или от того, что она вот-вот расплачется? Рамон подумал, что видел, как она плачет, только однажды — тогда, в самом начале.
— Я запуталась — повторила она и все-таки заплакала. — Я не знаю, где свои, а где чужие.
— И пришла с этим к чужаку. — Усмехнулся Рамон.
— Ну… да. — Лия подняла лицо, улыбнулась сквозь слезы в ответ на улыбку. — Совсем глупая, правда?
— Неправда. — Он провел ладонью по рассыпавшимся кудрям. Первый, кто сравнил девичьи волосы с шелковым покрывалом был поэтом, остальные — олухами. Да, и он сам тоже. Господи, что за чушь в голову лезет!
— Неправда. — Повторил Рамон. — Маленькая храбрая девочка.
— Я…
— Храбрая, не спорь. — Он коснулся пальцем губ. — Быть честным с собой — все равно, что встать нагишом перед чернью. Страшно. Куда проще когда решают за тебя, чьи цвета носить, и кого убивать. Решают, как надо.
— Я не знаю, как надо.
— Разберешься.
Лия снова спрятала лицо на груди. Оба молчали, но тишина перестала тяготить.
— Ты не чужак. — Прошептала она.
Рамон улыбнулся, устроил девушку поудобнее на коленях, прижал покрепче. Наверное, надо было что-то сказать, но красиво говорить он тоже никогда не умел, и только и оставалось, что баюкать в объятьях и ждать, пока она перестанет всхлипывать. Время сворачивалось вокруг, сплеталось с тишиной, застывало вокруг двоих мягким коконом, полным тепла и покоя. Рамон не знал, сколько это длилось — то ли миг, то ли вечность. Наконец, Лия подняла голову.
— Спасибо.
Он снова улыбнулся, в последний раз погладил шелковистые кудри.
— Вина налить?
— Там еще было. — Лия высвободилась, взяла кубок. — Наверное, я все-таки пойду, а то поздно будет.
— Оставайся, если хочешь.
— Нет, отец будет беспокоиться, я не сказала, куда пошла. Он вообще слишком сильно обо мне беспокоится… наверное, потому что мама умерла, когда рожала меня.
— Тогда пойдем. — Рамон поднялся, протянул руку. — Провожу.
Он так и не выпустил маленькую ладошку до самого дома девушки.
— Зайдешь? — спросила она у ворот.
Рамон покачал головой.
— Как-нибудь в другой раз.
Лия кивнула. Порывисто обняла, чмокнула в щеку.
— Ты хороший. Спасибо.
И исчезла за воротами.
Сумерки укрывали город фиолетовым покрывалом. Всю дорогу обратно Рамон пытался избавиться от ощущения шелковых волос под ладонями и легкого дыханья, щекочущего шею. И улыбался, сам не понимая чему.
Сквозь закрытые ставни библиотеки пробивался свет. Рыцарь нахмурился. Из его людей грамотным были лишь Бертовин и Хлодий — но оба так и не смог понять, чего ради можно часами просиживать над толстенными фолиантами. Велика радость — спина устанет, да глаза заболят. Значит, Эдгар, больше некому. Почему на ночь глядя?
— Что случилось? — спросил Рамон вместо приветствия. Сегодня что-то слишком часто приходится спрашивать, что случилось. Удался вечер, ничего не скажешь.
— Я уезжаю. Завтра, с утра.
— Уже?
Хотя какое там «уже», больше месяца прошло. По правде говоря, Рамон ждал этого раньше, куда раньше — потому и так торопился всюду успеть, так что едва не загнал и брата, и себя.
— Утром узнал, зашел к тебе, сказали — спишь.
— Велел бы разбудить, велика важность.
Эдгар смущенно улыбнулся. Мол, ты же меня знаешь. «Знаю» — так же, улыбкой ответил Рамон. Вслух спросил:
— Голодный?
— Нет.
— Тогда пойдем вниз, посидим. Здесь неудобно.
В библиотеке и вправду было неудобно разговаривать — стол, стул да книжные полки. места только для одного. По дороге Рамон приказал долить вина и сменить посуду.
— Пришел вроде поговорить, а не знаю, что сказать. — Нарушил молчание Эдгар. Разве что попрощаться.
— Погоди прощаться, еще завтра провожу. Едете с рассветом?
— Нет, с нами Дагобер едет, он сказал к полудню.
Рамон усмехнулся — маркиза на рассвете даже гром небесный не разбудит. Особенно после хорошей гулянки.
— Его-то что в Белон понесло?
— Вроде как меня представить… опять же переговорить, видимо, есть о чем.
Ну разве что так. Веселый, похоже Эдгару предстоит путь. Дагобер пока не сравнит вина во всех придорожных харчевнях, не успокоится. А пьяного маркиза непременно потянет на разговоры. И непонятно что лучше — начнет ли он задушевные беседы с представителями Белонского короля, нарочито вычеркивая из разговора Эдгара или сочтет того достойным внимания и будет заливаться соловьем всю дорогу. Хрен редьки не слаще.
— Вещи собрал?
Ну что за ерунду он несет? Не дитя малое, в конце-то концов.
— Было бы что собирать.
Странно как оно выходит — вроде бы столько всего сказать хочется, а слов нет, и даже те, что остались — пустые и ненужные.
— Ты там поосторожней, ладно?
Не то, снова не то. Скажи кому — на смех поднимут, квохчет над взрослым мужиком, точно мамка.
— Хорошо, буду поосторожней. Тепло одеваться не обещаю, но ходить по девкам и пьянствовать в дурной компании точно не буду.
Рамон усмехнулся:
— Уел. Выпьешь? — охнул, вспомнив. — Прости. Сейчас прикажу, чтобы воды принесли, или…
— Не мельтеши. — Эдгар вспомнил, что когда-то услышал от брата именно это. Странно, тогда он сам смущался и переживал, не зная, как его встретят и что дальше. А сейчас внутри была спокойная уверенность, хотя вроде бы ничего не изменилось — впереди по-прежнему незнакомая страна и чужие люди. Может быть просто изменился он сам?
— Налей нам обоим, что ли.
И в самом деле изменился. Три дня назад — господи, всего лишь три дня! — выхлебав полфляги он не только не заснул по дороге, но и не испытывал ни малейших признаков похмелья. Хотя разве дело только в этом?
— Не заснешь?
Эдгар пожал плечами:
— К полудню проснусь в любом случае.
— И то верно. — Рамон протянул брату наполненный кубок, сел перед камином. По правде говоря, лето здесь было куда теплее, чем дома. Но трудно было отвыкнуть о того, что камень стен прогревается, и не нужно топить по ночам, прогоняя накопившуюся за века холодную сырость, что гуляла в замке. Да и не хотелось отвыкать — изжариться никто не изжарится, а смотреть на огонь рыцарь всегда любил. Сидеть у камина, слушать треск поленьев и думать о чем-нибудь хорошем… например, о зеленоглазой девчонке с каштановыми кудрями… Тьфу ты, нашел время!
— Вернешься только со свадьбой?
— Да.
— Долго…
Эдгар глотнул вина.
— Сигирик сказал мне, что требуется от принцессы. Правду говоря, за отведенный срок эти знания можно вдолбить даже в совершенно девственный разум, а я все же надеюсь, что в Белоне девушек тоже учат наравне с юношами.
— Учат. Чем знатнее девица, тем лучше она образована.
— Что ж, будет интересно. Куда приятнее иметь дело с человеком, который уже умеет усваивать знания.
— Ага, оценил умных женщин. — Хмыкнул Рамон.
— Если совсем честно — я так до конца и не привык, что с женщиной можно говорить как с равным по уму.
— В Белоне привыкнешь.
— Наверное… Встретишь, когда вернусь?
— Если буду жив.
— Я буду молиться, чтобы получилось.
Рамон улыбнулся. Эдгар прислонился лбом к кубку — слишком хотелось завыть при виде этой улыбки. Но жалости брат не простит. «Брат…» Сколько лет Эдгар был уверен, что никогда не решится сказать это вслух. Где уж ему, ублюдку, пытаться встать на одну доску… спасибо и на том, что подобрали, да выучили. Рамон не снизошел, а принял как равного, и это казалось немыслимой, незаслуженной щедростью. А потом он приводил Эдгара в дома, в которых его одного не пустили бы и за ворота, всем видом говоря «любишь меня — полюби и его». Так что в конце концов его приняли в свете — и это тоже казалось немыслимым. Но случилось.
— Знаешь, а я к тебе… прирос. — Сказал Рамон. — Отпускать не хочется. Дурак.
— Я должен.
— Знаю. Просто… Говорю же — дурак.
— Не надоело на себя наговаривать?
— Больше не буду. — Улыбнулся Рамон, и улыбка эта была совсем не похожа на предыдущую.
Потом они говорили о пустяках, прихлебывая вино. Один из тех разговоров, который потом никак не получается вспомнить, потому что слова на самом деле не значили ничего. Потом Эдгара все же сморило. Проснувшись посреди ночи он обнаружил догорающий камин, свернутый плащ под головой и одеяло сверху. И мирно сопящего брата рядом. Эдгар улыбнулся и снова уснул — теперь уже до утра.
Здравствуй.
Сегодня я впервые почувствовал себя человеком, а не просто маменькиным сынком. Не знаю, может придет завтра и все начнется сначала. Но это завтра. А пока я почти счастлив.
Впрочем по порядку.
Я долго собирался съездить к соседу — тому, у которого я был оруженосцем когда-то. Спросить, не знает ли он, где в округе можно найти приличного оружейника и сколько примерно может стоить подгонка кольчуги — помнишь, я жаловался, что вырос из доспеха? Настолько отвык выбираться из дома, что даже такая мелочь казалась едва ли не путешествием. Словом, собрался с духом, приказал седлать коня, а конюх возьми и спроси разрешила ли госпожа.
Не знаю, что на меня нашло. Наверное, то самое фамильное бешенство, что заставило когда-то предка выйти на шатуна с одним ножом после того, как медведь не явился на суд… Порой мне кажется, что предки жили в каком-то особом мире, где все животные и даже растения были наделены разумом… впрочем, я отвлекся. Словом, не знаю, что на меня нашло — но я взял конюха за грудки и объяснил, что свернуть ему шею я смогу и без разрешения госпожи. И что я так и поступлю, если он еще раз усомнится, кто в доме хозяин.
Я не сказал матери, куда еду и надолго ли, так что когда вернулся, сцена была готова и декорации расставлены — не хватало только злодея, сиречь меня. Но я был изрядно навеселе — скажу тебе, яблочное вино у барона великолепное, а сыры с его лугов — еще лучше… Словом, я был пьян, весел и безжалостен. Посоветовал маменьке прекратить представление — ее слезы давно не вызывают ничего, кроме желания стукнуть чем-нибудь потяжелее, чтобы избавить, наконец, хрупкую женщину от треволнений этого жестокого мира. Маменька лишилась чувств.
Знаешь, я правду не знаю, что на меня нашло. Еще больше меня пугает то, что в тот момент я был совершенно искренен, так же как и когда грозился свернуть шею конюху. Наверное, я просто до смерти устал подчиняться.
Кстати поездка оказалась удачной — оказалось, что барон недавно переманил к себе оружейника. Так что завтра повезу кольчугу. Обещал сделать за две недели и согласился взять в оплату перстень. Пришлось соврать, что твой отъезд сожрал все наличные деньги. Ты ведь простишь меня за это?
Не знаю, как я встречусь с маменькой за ужином. Пойду, напьюсь, что ли. Но кольчугу я увезу. Иначе — к чему все это было? Прошу у господа сил настоять на своем и разума не перегнуть палку. Но я хочу, наконец, понять, что такое быть мужчиной, а не жить под мамкиной юбкой. Жаль, что не уехал с тобой, сейчас все было бы по другому. Что ж, сам виноват — сам и буду расхлебывать.
Рихмер.
Глава 12
Неделю после отъезда брата Рамон просидел что медведь в берлоге — носа никуда не высовывая. Вызов к герцогу оказался совершенно неожиданным. Вроде в городе не происходило ничего совсем уж из ряда вон — сплетни его люди приносили исправно, почесать языком солдаты любят не меньше чем женщины. Да и правду говоря, как еще у них развлечения, кроме выпивки, сплетен и баб? Словом, случись что, он бы знал — но ничего не происходило. Город затих, точно так же приходя в себя после страшного боя, ведь не было дома, где не потеряли бы если не родича, то друга.
Герцог принял его наедине, и Рамон в который раз про себя подивился оказанной чести. А может, просто господин до сих пор видел в нем оруженосца, потому и не церемонился. Указал на стоящую у стены лавку, сам, как это уже не раз бывало, опустился на ступеньки тронного возвышения.
— Примешь лен. — Начал он с места в карьер. — Через день проедешь с моим человеком, расставите межевые вехи.
Признаться, Рамон давно ждал чего-то подобного. С той армией, что осталась, много не навоюешь. Оставлять людей на службе тоже выходило накладно — ведь собравший армию сюзерен обязан был платить своим вассалам, если их служба продолжалась дольше сорока дней — а времени прошло куда больше и наверняка содержание армии влетало герцогу в немалые суммы. Оставалось либо распустить людей по домам, оставив себе лишь город и ближайшие окрестности, либо раздать земли, сняв с себя и содержание армии, и заботу о защите владений. Теперь оборона лена станет заботой самого ленника.
Рамон отогнал недостойную мысль о том, что возвращенные Эдгару деньги сейчас бы ох как пригодились. Впрочем… Матушке придется вернуть наследство, иначе он обнародует эту историю. До крайности дело не дойдет — мать побоится потерять репутацию добродетельной вдовы. Он полагал, что просто гневное письмо ничего не даст, матушка если упрется, так хоть кол на голове теши, а скандала не хотелось. Но, пожалуй, выбора не остается. Оброк с лена когда еще соберешь, да и драть с крестьян три шкуры себе дороже — не взбунтуются так разбегутся. Где их потом, в Кадане что ли разыскивать? А земли в Кадане много, куда больше, чем на родине, причем, говорят, на западе полно земель считай ничьих, леса непролазные, это тебе не дом, где с обжитого места снимешься — по миру пойдешь. Конечно, просто так крестьянин с земли не уйдет, хозяйство опять же, но если людей до края довести, они на все способны. Так что оброк небольшая подмога, а денег нужно будет много. Войско нанимать, прислугу в замок, который еще отстроить нужно и обставить — впрочем, бог с ним, с «обставить», успеть бы выстроить, да обжить, да с хозяйством разобраться так, чтобы наследник жил — не тужил. Постой…
— Лен наследный? — поинтересовался Рамон.
— Конечно.
— Прямых наследников у меня нет. — Дома земля переходила к старшему на тот момент мужчине рода, но здесь от сеньората прока не будет. — Право ожидания отдай Хлодию.
— Вот как? — Герцог поднял бровь. — Объясни. Он же мальчишка. И простолюдин.
— Получит лен — перестанет им быть. — Хмыкнул Рамон. — Наши предки так же начинали. Смотри: сыновей у меня нет. Если оставлять землю детям Авдерика — прока не будет, тебе ведь нужно, чтобы их обороняли, и чтобы было кого призвать, что случись. А случится наверняка, война не закончена и, сдается мне, долго еще не закончится. Я думал об Эдгаре — но он ничего не смыслит ни в том, как управлять замком, ни в военных делах, да и вообще мечтает лишь об одном — вернуться в столицу к своей науке.
— А оруженосец, значит, смыслит.
— Отец оруженосца смыслит — считай, всем знаниям о том, как управлять замком я ему обязан.
— Мальчик будет царствовать, но не править?
— Поначалу именно так. — Кивнул Рамон. — Ну и я подучу, сколько успею. Времени мало, но Бертовин после меня справится. А там парень выслужит рыцарство…
— Думаешь, выслужит?
— Уверен. Если ты специально не упрешься.
Герцог усмехнулся:
— Я, может, и не сильно хороший сюзерен, но палки в колеса достойному юноше вставлять не буду. Заслужит — станет рыцарем. Кстати, слышал — дома король собирается объявить, что теперь для посвящения особые заслуги не нужны. И без того многие знатные юноши увиливают от рыцарского звания.
— Почему? — искренне удивился Рамон.
— Не желают принимать на себя сопутствующие званию обязательства. — Скривился Авгульф. — Подумать только, до чего молодежь опустилась…
— Скажи еще «вот мы в их время»…
Герцог расхохотался.
— Действительно. Вернемся к нашему юноше. Если он окажется достоин, получит рыцарское звание. Женится на девице из какого-нибудь обедневшего рода — и потомки унаследуют лен уже как люди благородного происхождения. Хотя коситься все равно будут долго.
— Пусть косятся. А благородная кровь у них с Бертовином и без того.
— Ну да. — Герцог фыркнул. — Вы же незаконнорожденных тоже считаете потомками своего рода.
Он помолчал, обдумывая.
— Хорошо, пусть так. Значит, лен твой. Право ожидания у Хлодия… придется тебе искать другого оруженосца. Можешь идти.
Вернувшись, Рамон позвал Бертовина.
— Скажи, у тебя уже есть на примете кто-то, кто заменит наших?
— Да не то, чтобы… — покачал головой Бертовин. — Сам же знаешь, если люди хороши, они господина уберегут. Так что среди тех, кто сейчас свободен, большей частью молодняк недоученный. Оно, конечно, прямо сейчас наверняка воевать не пойдем, а ну как понадобится? И куда с такими?
— Приводи. Воевать не пойдем, а людей нужно будет много. Чтобы копье восполнить и на гарнизон замка хватило.
— Лен пожаловали, значит. — догадался Бертовин. — Хорошо, приведу, посмотришь. Будет хоть, чем заняться, а то от безделья рехнуться впору.
— Не рехнешься. Дел будет невпроворот, это я тебе обещаю. Еще: на этот лен есть право ожидания. Так что когда я буду мертв, люди присягнут новому владельцу замка. А ты останешься ему помочь.
— Это приказ?
— Нет.
— Тогда почему ты так уверен, что я останусь помогать новому господину? Дома тоже дел будет невпроворот — из господ только бабы да дети. Да и копье я собирался увезти.
— Спорим? — ухмыльнулся рыцарь.
— Спорить не стану. — Бертовин потер переносицу. — Объясни.
Рамон поднялся.
— Пойдем к Хлодию. Его это тоже касается.
— Его-то каким боком?
— Увидишь.
Когда они вошли в комнату, Хлодий торопливо сел, приглаживая встрепанные со сна волосы. Он много спал, как и полагается выздоравливающему. Рана заживала, юноша мог уже уверенно сидеть и все порывался подняться на ноги, но Рамон, посоветовавшись с лекарем, запретил. Торопиться, по его мнению, было совершенно некуда.
После обмена приветствиями, рыцарь устроился на лавке, Бертовин прислонился к косяку, скрестив руки на груди.
— Так все же, в чем дело? — спросил он.
Рамон перевел взгляд с одного на другого. Попытался сделать серьезный вид — не вышло, улыбка неудержимо расплывалась по лицу, точно в предвкушении удачной шутки. Когда он выбирал, кому оставить землю то меньше всего думал о том, чтобы кого-то облагодетельствовать или, тем паче, удивить. Но отделаться от мысли о том, какое выражение лица будет у обоих, не получалось. И он не обманулся в ожиданиях.
— Посмеялся, и будет. — Проворчал, наконец, Бертовин. — Теперь давай серьезно.
— Я совершенно серьезен.
— И ты полагаешь, ваши, благородные, это проглотят?
— Куда денутся. — Он посмотрел на Хлодия, который, похоже, лишился дара речи. — Лен обещан. Проявишь себя доблестным воином — будешь рыцарем. Тогда твои дети будут считаться благородного происхождения и когда им придет время наследовать, ни одна собака тявкнуть не посмеет.
— Я… — мальчишка пошел разноцветными пятнами. — Я постараюсь.
— Да уж постарайся. Я с того света тебя не достану, но у отца, вон, — он кивнул в сторону Бертовина, — если что не заржавеет уши надрать, и не посмотрит на звание.
— Не заржавеет. — Подтвердил Бертовин. — Хоть бы спасибо сказал, остолоп.
Рамон жестом остановил открывшего было рот оруженосца.
— Службой отблагодаришь. До сих пор поводов упрекнуть у меня не было — надеюсь, и теперь не появятся.
— Не появятся, господин.
— Хорошо. — Рыцарь вышел, поманив за собой Бертовина.
— Просто так сказать не мог, без выкрутасов? — поинтересовался тот, когда дверь за спиной закрылась.
— Извини, не удержался. — Улыбнулся Рамон. И тут же бросился поднимать упавшего было на колени воспитателя.
— Уймись. Если начать считаться, кто кому больше должен, то не уверен, что результат будет в мою пользу. Так что уймись. Теперь о деле. Пошли ко мне.
— Между нами. — Продолжил он, устроившись у камина. — Для мальчика это скорее задел на будущее, нежели заслуженная честь. Он хорош, очень хорош но…
— Но пока этого ничем не заслужил, понимаю.
— Хорошо, что понимаешь, Хлодию только не сболтни. Уверенность ему понадобится, и еще как. Рана эта некстати, по-хорошему его бы с нами взять, посмотрел бы, да попробовал сам место для замка выбрать — а там бы обсудили, почему так, а не этак.
— Кто мешает потом объяснить?
Рамон покачал головой.
— Потом не то, на готовое. Надо, чтобы сам пораскинул мозгами. А мы бы поправили, если что.
Взять бы парня с собой, в самом-то деле. Но в повозке он не поедет, а верхом, даже если и усидит — в чем Рамон сомневался — не ровен час, рана воспалится. Останется парень без ноги, и тогда и с перспективой рыцарства, и с леном ему придется распроститься. Герцогу нужны воины, а не калеки. Рамон оставил эту мысль и продолжил:
— Завтра, когда приведешь людей разговаривать… Подумай, как сделать так, чтобы Хлодий мог слышать и мотать на ус.
— Хорошо.
— Тогда ступай. Остальное завтра.
Завтра скорее всего весь день уйдет на разговоры, даст бог, найдется подходящий человек, хотя бы один. Бертовин отбирал людей очень придирчиво, да и сам Рамон по части строгости ему не уступал. Вечер уйдет на то, чтобы расспросить Хлодия, что из дневных разговоров тот запомнил и какие выводы сделал. Хотя по-первости наверняка ничего не поймет — ну да ладно, время есть. Немного, но есть, а мальчик смышлен. Следующий день они потратят на осмотр владений. Два часа верхом туда, да два обратно, это не считая, сколько займет провести межу, да оглядеть все хорошенько. Весь день, скорее всего, и уйдет. А что после того — видно будет. Что ж, как он и обещал Бертовину, дел окажется по горло.
А сегодня, пожалуй, можно и побездельничать. Амикам, помнится, говорил, что его дом открыт в любое время, правда, Рамон старался не злоупотреблять подобной любезностью, вламываясь совсем уж без предупреждения. Он отправил мальчишку с запиской, и велел седлать коня. В конце концов, есть Лия. И даже если ее отец занят настолько, что не может принять гостя, она-то наверняка свободна — ну какие дела, право слово, могут быть у юной девушки? А погода нынче чудная — в самый раз для верховой прогулки.
Амикам действительно оказался занят. Настолько, что уделив гостю едва ли четверть часа, откланялся, оставив на попечение дочери.
Лия проводила взглядом отца.
— Он сегодня не в духе, извини.
— Что-то случилось?
— Налоги. Вчера узнал — сегодня весь день считает и ругается, мол, десятину туда, десятину сюда, да налог власти, этак и вовсе без штанов останешься. — Она улыбнулась.
— «Туда» — это церкви. — Догадался Рамон. — а «сюда»?
Налог герцогу побежденные платили едва ли не с самых первых дней после падения города.
— Нашим храмам.
— Зачем? — Рамон удивился. Смысл платить обслуге идолов, за которыми не стоит никакой силы, ускользал от его понимания. За церковью власть, даже если оставить в стороне вопрос веры, а какова власть храмов?
— А тебе не приходило в голову, что мы все еще чтим наших богов?
Рыцарь хотел было съязвить: не заслуживают почитания боги, не защитившие свой народ. И прикусил язык. Это Эдгара можно было дразнить, зная, что тот не обидится. Пикировки доставляли удовольствие обоим, и их отчаянно не хватало сейчас, когда брат уехал. Но девочка может расстроиться — а ей и без того несладко, особенно если вспомнить последний разговор. Ох, а сам-то хорош — за всю неделю не удосужился спросить, как она, да и сейчас бы не пришел, если бы прогуляться не захотелось. А сейчас вроде как и спрашивать неловко — опомнился, называется. Он пригляделся к Лие, выискивая следы того смятения, что видел тогда. Но сейчас она выглядела и вела себя как обычно, а что там в душе — поди догадайся. Рамон мысленно обругал себя последними словами. Поймал вопрошающий взгляд девушки и вспомнил, что не ответил.
— Не приходило. — Надо было сменить тему, и как можно быстрее. А то не ровен час, девочка вспомнит тот разговор и снова расстроится. Не то, чтобы ему не понравилось держать ее в объятьях, успокаивая, но это не повод. Рамон развел руками, дурашливо улыбнулся. — Виноват. Готов принять любую кару. Какое наказание придумает госпожа?
В ее взгляде на миг промелькнуло удивление. Потом Лия улыбнулась:
— Наказание будет страшным и неотвратимым. Свози меня в лес. Хочу по грибы, а отец одну не отпускает.
Дома собирать грибы и ягоды считалось занятием для простолюдинов. Здесь молодежь из хороших семей пол-лета проводила в лесу, да и люди в годах не гнушались побродить с корзиной.
Рамон опустился на одно колено, засмеялся:
— Повинуюсь, прекрасная госпожа. Оседланный конь ждет во дворе, сам же почту за честь следовать пешком.
— Обойдешься. — Хихикнула она. — Подожди тут, я сейчас, переоденусь и прикажу коня подать. Я мигом! — девушка выпорхнула в дверь.
Что бы там не говорили про женские сборы, но обернулась Лия действительно «мигом», появившись уже в штанах. На взгляд Рамона девушки в мужской одежде — а здесь носили штаны и заправляли в них рубаху, перематывая талию широким поясом — выглядели ходячим соблазном. Даже странно, что Эдгар ни разу не прошелся по этому поводу. Сам он за все годы в Агене так и не смог до конца привыкнуть к тому, что можно практически беспрепятственно разглядеть длину и стройность ног, и, гм, очертания того места, где спина теряет свое название. Да и тонкая ткань рубахи порой открывала куда больше, чем, на взгляд рыцаря, стоило бы показывать мужчине. И если в прохладное время поверх рубахи женщины надевали длиннополые кафтаны, то в летнюю жару, как сейчас… Он отвел глаза от девичьей груди, ругнулся про себя, вспомнив, что раньше подобная одежда на Лие его не смущала. Впрочем, раньше они и купались вместе, а сейчас он бы не осмелился, опасаясь собственной реакции.
— Поехали? — спросила Лия.
— Поехали. — Кажется, можно было вздохнуть, его смятения никто не заметил.
Лошади неторопливо перебирали ногами: пускать коня в галоп по городским улицам считалось дурным тоном. Зато находясь практически бок о бок можно было болтать и смеяться. Так что даже когда миновали ворота, ни Рамон, ни Лия и не подумали ехать быстрее. Тем более, что до леса было недалеко — правду говоря, лес здесь был везде. Стоило на два-три года забросить расчищенное поле, и оно сплошь зарастало молодыми деревцами. А старые пущи наверняка стояли здесь раньше самого города.
Они остановились на опушке. Рамон поймал спрыгнувшую с коня девушку, обняв чуть крепче и подержав чуть дольше, чем надо. Увидел ее улыбку, улыбнулся в ответ.
— Помоги, пожалуйста. — Лия потянулась к притороченному к седлу заплечному коробу. В самом деле, чтобы достать до узлов девушке приходилось тянуться на цыпочки. Неудобно.
— Куда такой здоровенный? — Рамон поставил короб на землю. И в самом деле, такой за плечи только взрослому мужчине, а девочка при желании внутри целиком спрячется.
— Пожадничала. — Рассмеялась она, открывая крышку. — Говорят, в этом году грибов видимо-невидимо. Вот, это тебе. — Она извлекла из берестяных недр корзинку и маленький хозяйственный нож. — А это для меня. Короб здесь оставим.
Рамон взъерошил девушке волосы:
— Жадина. Пойдем.
Оставив стреноженных лошадей, они двинулись вглубь леса. Рыцарь машинально запоминал направление, отмечая приметные деревья. Впрочем, для него, выросшего посреди лесов не хуже здешних, боязнь заблудиться казалась чем-то совершенно непонятным. Нет, бывает, конечно, что спьяну забредают невесть куда. Или нечистый начинает кругами водить. Но сейчас оба были трезвы, а нечистый… да на кой ляд они тому сдались? Вот была бы Лия одна… Впрочем, кто знает, сколько из жалоб девичьих — мол, водил нечистый день по лесу, а потом поймал, да снасильничал — было лишь попыткой прикрыть позор? А иные, сказывают, и вовсе нарочно уходили в лес в одиночестве. Сколько таких возвращалось потом кликушами — не счесть, а все равно… впрочем, если уж бабе свербит, разве она о том подумает?
Радостный визг вернул в настоящее. Лия склонилась к рыжим шляпкам лисичек, росших, как и полагается, стайкой. Рамон взглянул на счастливое лицо девушки засмеялся непонятно чему и присел рядом. Углядел в стороне обабок, перебрался туда, сгреб в корзину еще один.
— Спорим, я больше наберу? — Лия перепрыгнула через валежину, опустилась на колени над семейкой рыжиков.
— Спорим. — Рамон высыпал ей в корзину все, что у него было. Ухмыльнулся в ответ на возмущенный взгляд: — Фора тебе понадобится.
— Ах, ты…
— Да, такой и есть. — Он снова рассмеялся, увидев, как Лия топнула ножкой. Она фыркнула, отвернулась и сделала вид, будто не обращает на рыцаря внимания.
Грибов в этот год действительно уродилось видимо-невидимо. Они несколько раз возвращались к оставленному рядом с лошадьми коробу, перекладывая туда полные корзины. Потом снова шли в лес, перекрикиваясь, когда теряли друг друга из виду. Считаться они давно перестали, разве что иногда хвастаясь друг перед другом очередным найденным «красавцем». Где-то мимоходом прикончили захваченную с собой еду. Впрочем несколько ломтей темного хлеба с розоватыми ломтями соленого сала — много ли это для молодого голодного мужчины и не менее голодной девушки?
— Все, сейчас по последней — и домой. — Сказала Лия, в очередной раз пересыпая найденное в стремительно наполнявшийся короб.
— Ладно.
Они уже давно перестали обращать внимание на всякую мелочь, вроде сыроежек, выбирая лишь благородные грибы. После того, как Лия набрела на кустики черники, губы и язык у обоих стали синими. Коса девушки растрепалась, на лицо то и дело падал непослушный локон и она сдувала его со лба, потешно ворча.
— Хватит. — Рамон положил белый на горку грибов, грозящих высыпаться из корзины. — У меня уже некуда.
— Сейчас… — Лия посмотрела на свою, наполненную ничуть не меньше, вздохнула. — Пожалуй, ты прав: хватит.
— Помочь? — от рыцаря не укрылось, как тяжело она поднялась. Устала. Немудрено: сколько уже по лесу бродят?
— Не надо, я сама. Тебе еще все это к седлу поднимать, да привязывать.
Он пожал плечами. Нашла тоже, тяжесть. Но не вырывать же теперь корзинку из рук?
— Как знаешь.
Они побрели обратно. Рамон не сказал бы, что сильно устал, но прыгать через поваленные деревья уже не хотелось. И он чинно перешагивал, а то и перелезал через валежник, не забывая подать руку девушке — чего не делал до того, пока она скакала по стволам легким олененком.
— Смотри, черемуха! — Лия, похоже на миг забыв об усталости, подпрыгнула. Промахнулась, прыгнула снова, на этот раз поймав горсть листьев — а ветка, словно издеваясь, закачалась над головой.
Рамон усмехнулся, достал упрямую ветку — правду говоря, даже с его ростом пришлось встать на цыпочки.
— Спасибо. — Она сорвала кисть, собрав ягоды ртом. Потом опомнилась: — А ты хочешь?
— Хочу.
— Тогда погоди, не отпускай, я сейчас.
Лия набрала горсть, сдула случайно попавшие обрывки черешков, протянула Рамону. Тот наклонился, собирая губами черемуху с теплой, чуть подрагивающей ладошки.
— Щекотно!
— Извини. Больше не буду.
— Нет… — Она набрала еще ягод, подняла руку. Рамон посмотрел на порозовевшие щеки, улыбнулся. Черемуха оказалась чуть-чуть недозревшей, отчаянно терпкой, но стоило ли обращать внимание на такие мелочи? Он перехватил тоненькое запястье, поцеловал бьющуюся жилку. Поднял взгляд, опасаясь — не дернется, не испугается ли? Она не отдернула руку, только покраснела еще пуще и неуверенно улыбнулась. Ветка, упруго распрямившись взмыла в небо. Рамон отвел с лица непослушную каштановую прядь, взял в ладони, целомудренно коснулся губами лба. Погладил шелковые кудри.
— Поехали?
Она кивнула.
Половину обратной дороги Рамон беззастенчиво разглядывал неожиданно притихшую девушку. Просто потому, что на нее было приятно смотреть. Потом она ожила, снова защебетала. Мужчина облегченно вздохнул — а то начал было опасаться, что обидел.
Он помог внести в дом оказавшийся тяжеленьким короб, попрощался с домочадцами.
— Когда тебя ждать? — спросила Лия.
— Не знаю. — Честно ответил Рамон. — Мне пожаловали землю, забот будет много.
Она тихонько вздохнула.
— Что ж, заходи когда получится. Я буду рада тебя видеть.
Рамон кивнул, склонился к ее руке, улыбнулся.
— Непременно. Теперь ты от меня не отделаешься.
Лия рассмеялась, высвободила руку и исчезла.
Глава 13
Все три дня морского путешествия Эдгар наслаждался одиночеством. Отдельная каюта, пусть и малюсенькая, только-только повесить койку, да поставить сундук, была воистину царским подарком.
Ученый всегда считал одиночество великим благом для человека, умеющего бывать наедине с собой. Тем более, что за последние месяцы он почти забыл, что это такое. Помня предыдущее плавание, он и не пытался читать, впрочем и без того хватало чем занять ум. Казалось, что все последнее время он жил слишком быстро, ловя впечатления без разбора, порой напоминая себе удава, глотающего добычу. И сейчас, подобно тому же удаву, нуждался в покое. Эдгар перебирал воспоминания, стирая с них патину времени и раскладывая по полочкам памяти — так скупец перебирает свою сокровищницу, что-то откладывая в дальний угол, чтобы никогда больше туда не вернуться, что-то оставляя на самом виду.
Дагобер спал до обеда а потом до рассвета пьянствовал — благо, посланники Кадана оказались не прочь промочить горло за чужой счет. Эдгара не звали: то ли забыли, то ли не захотели — впрочем, он был рад этому. Пить с чужими, вести разговоры ни о чем, те странные разговоры, в которых искренность считается глупостью, а обтекаемые вежливые фразы прикрывают гордыню. Велика радость, право слово. К тому же, Эдгар знал, какое место ему отведено. В этом аристократы не так уж отличались от купеческих семей, отпрыскам которых ему доводилось вбивать грамоту. Учитель стоит лишь чуть выше обычной прислуги — и его ум и знания на самом деле никому не нужны. Купцы ценят деньги и то, что называют хваткой, знать — благородство происхождения и воинскую доблесть. Ничего из того у Эдгара не было, а потому все, на что он мог претендовать — холодная вежливость с отчетливым привкусом пренебрежения. Он привык к подобному отношению, как привыкают к холоду по зиме и не ждал ничего иного — ведь право слово, глупо ждать ласкового тепла в корочун. Так что все шло как должно — и оставалось только радоваться тому, что никто не беспокоит. Тем более, что едва путники высадились на берег, блаженное одиночество закончилось. Правда, по большому счету ничего не изменилось: собеседников отнюдь не прибавилось.
Их встречали: дюжина гвардейцев при полном вооружении, повозка со слугами и вещами, нужными в дороге (полагаться на то, что на постоялых дворах найдется все, что может понадобиться гостям король Белона не стал), экипаж с возницей. В Белоне полагали, что экипаж куда удобней, чем путешествие верхом — но Дагобер наотрез отказался даже смотреть в его сторону, потребовав оседланного коня. Коня ему уступил один из гвардейцев. Так что в экипаже их оказалось четверо: два представителя короля, что сопровождали маркиза с самого начала путешествия, оставшийся безлошадным гвардеец и Эдгар.
Цвет лица королевских послов оставлял желать лучшего, да и круги под глазами отчетливо напоминали о бурно проведенной ночи. Так что коротать время за светской беседой они явно не собирались. Гвардеец же откровенно тяготился дорогой — то и дело ерзал, выглядывая в окно, но субординация не позволяла ему начать разговор первым. А Эдгара нисколько не утомляло молчание, он с удовольствием разглядывал яркую зелень холмов и белые шапки маячивших на горизонте гор. Видеть горы ему до сей поры не доводилось.
Королевство Белон сошло бы, пожалуй, за неплохих размеров графство. Долина у моря, со всех сторон окруженная горами. Рассказывали, что высоко в горах простираются богатые луга, способные прокормить тучное стадо, и шерсть выросших на тех лугах овец ценилась далеко за пределами королевства. И все же Эдгар не понимал, почему Кадан так вцепился этот кусок земли, заросшей оливковыми деревьями и виноградниками. Спрашивать об этом у сопровождающих очевидно не имело смысла — известно же, что всякий кулик нахваливает свое болото. Поразмыслив и вспомнив то, что успел прочесть, Эдгар решил, что дело в обычной корысти любого сюзерена, не желающего выпускать из рук землю, даже если добраться до той земли можно только горными перевалами, да и то лишь в теплое время года и погожий день. Или морем, которому ученый так и не научился доверять.
Путь от порта до столицы занял три дня. Правда, Эдгар был уверен, что будь он один, одолел бы дорогу в сутки. Будь он один, он бы не спал до обеда, утомленный не столько путешествием, сколько сравнением достоинств трактирных девок, как то было с маркизом, а всем остальным волей-неволей приходилось ждать. Впрочем, Эдгару грех было жаловаться. Постоялые дворы, которые посланники Белонского короля выбирали сами, не доверяя гостям, оказывались чистыми и даже без насекомых в кроватях, еда — сносной. А бесконечные утра он заполнял захваченным еще из дома трактатом, который открыл только сейчас. Если же читать желания не было, можно было поболтать с гвардейцами, от души потешавшимися над его ошибками в языке. Эдгар не обижался, прекрасно понимая, насколько далек он от совершенства, и пользуясь любой возможностью расширить словарь. Тем более, что Хасан, учивший его в Агене, явно не уделял внимания некоторым аспектам языка — бранных слов за эти три дня Эдгар узнал куда больше, чем за прошедший месяц. Каданские солдаты, как и все солдаты мира, бранью не ругались — они на ней разговаривали. По крайней мере, когда рядом не было «благородных», а Эдгар у них мигом стал за «своего», правда, так и не поняв, за какие такие заслуги.
Он обрадовался, когда на горизонте замаячили стены столицы. Экипаж, окруженный сомкнувшимся строем гвардейцев пролетел по улицам, и Эдгар про себя посетовал, что не смог разглядеть ничего, кроме крупов коней до солдатских ног. Потом за путешественниками захлопнулись ворота дворца и слуги развели гостей по приготовленным покоям, пообещав наутро королевскую аудиенцию, а вечером после — пир. Отведенная Эдгару комната оказалась теплой, свечей дали достаточно достаточно, и он с чистой совестью погрузился в чтение, закончив, наконец, оказавшийся пресным трактат.
Король принял его без свидетелей — не считать же таковыми вытянувшихся у трона стражников, или стоящего у подлокотника человека, по виду толмача. Это удивило Эдгара, но виду он не подал — кто его знает какие здесь правила королевской аудиенции. Насколько он помнил, в отличие от порядков дома, в Белоне этикет присутствие толпы придворных не оговаривал. Эдгар отвесил предписанный правилами поклон, произнес пышное приветствие включающее заверения в личной преданности, надежду на безупречную службу и прочая и прочая, что там полагалось говорить в таких случаях. Эту часть церемонии он разузнал загодя и досконально.
Услышав родной язык, король приподнял бровь:
— А что-нибудь еще сказать можешь — или только это выучил, точно попка? — произнес он, дождавшись, когда гость закончит.
Эдгар вспыхнул.
— Я не слишком хорошо знаю ваш язык, государь. — Ответил он, стараясь, чтобы голос остался ровным. — Но я счел бы недостойным произносить речи, смысла которых не понимаю.
Король подпер кулаком подбородок, оглядел гостя с ног до головы, точно диковинную зверушку:
— Я просил прислать ученого. А прислали мальчишку. — Он хмыкнул, снова перевел взгляд на Эдгара. — Ну? Что скажешь?
— Государь, я не могу судить, чем руководствовались пославшие меня. Мне известно лишь, что ты пожелал, чтобы учитель принцессы… — он замялся, подбирая слова, потом все же перешел на родной язык. Толмач тут же склонился к уху господина. — Чтобы учитель принцессы не имел церковного сана. У меня есть ученая степень, но я не рукоположен — возможно, именно по этой причине я здесь.
— Степень? Какая степень, молоко на губах не обсохло.
Толмач добросовестно перевел сказанное, но Эдгар понял и до того. Медленно выдохнул. Привыкай. А то, вишь, исповадился в последнее время добрым обхождением. Решил, что всегда так будет? Ну-ну.
— Для защиты диссертации не нужно достичь определенного возраста. В отличие от сана. Принять сан я смог бы через месяц. Диссертацию защитил год назад. Поэтому, как полагаю, здесь именно я. Потому что, как я слышал, ты, государь, не захотел, чтобы в твоей стране появился человек, носящий церковное звание.
— Да, это было одним из условий. — Согласился король. — И все же я полагал, что они найдут кого-то в летах.
— Чем выше степень, тем старше сан. Человек в летах неизбежно обладает высоким статусом в церкви — если он хоть что-то из себя представляет. Полагаю, ты, государь, не хотел бы, чтобы принцессу обучал человек, сам ни к чему не способный. Испытай мои знания, государь.
— И как я, спрашивается, должен это сделать, если сам ничего не смыслю в этой вашей богословской премудрости? Меня волнует другое — способен ли ты удержать то, что у тебя в штанах там, где ему положено находиться?
До сих пор Эдгар думал, что покраснеть еще сильнее у него не получится. Но щеки налились свинцовой тяжестью и казалось, померкни вдруг солнце, щедро льющееся сквозь витражи, пылающее лицо осветит все вокруг не хуже.
— Если ты не доверяешь мне — приставь почтенную женщину, которая будет находиться рядом с твоей дочерью во время занятий.
— Это было бы неслыханным. — Король подался вперед. — А что, у вас считается нормальным надзирать за юной девицей, словно за преступницей?
Эдгар замолчал, подбирая слова — тон короля ему очень не нравился.
— Не только девица, но и молодая женщина не выйдет из дома без сопровождения родственника, либо компаньонки. Да и в доме не останется наедине с мужчиной, если он не отец, не брат и не муж.
— То есть подразумевается, что ваши женщины готовы раздвинуть ноги перед всяким в любое время и в любом месте, и только тщательный присмотр способен удержать их от этого?
— Нет! — На миг Эдгар даже забыл о том, что нужно следить за словами и тоном. Спохватился: — Прости, государь. Но это не так.
— Судя по тому, что вы делаете, получается именно так. Либо ваши женщины и в самом деле не способны устоять перед искушением, и это их не красит. Либо ваши мужчины огульно считают их таковыми — и это не красит мужчин. Что скажешь?
— Государь, я не знаю, что ответить.
— Ясное дело, не знаешь. Потому что, как и все вы, не там ищешь целомудрие. — Король усмехнулся. — Целомудрие женщины, как и мужчины, впрочем — оно вот здесь. — Он постучал пальцем по лбу. — Здесь, а не между ног.
Он замолчал. Эдгар готов был провалиться сквозь землю: ему совершенно не нравился тот оборот, что принял разговор. Он ждал формального приветствия, пары-тройки ничего не значащих фраз, монаршей холодности — но отнюдь не беседы о женщинах и похоти. Да, нравы в Белоне были куда свободней тех, к которым он привык, но король, обсуждающий такие вещи с безродным человеком, которого впервые видит… Происходящее смахивало на форменное безумие.
— Я хотел бы отослать тебя обратно. — Нарушил молчание король. — Но это обернется скандалом, а скандал мне не нужен. Мне нужно, чтобы моя дочь чувствовала себя свободно в вашей вере, не давая повода для придирок, их и без того найдется немало. Если я отошлю тебя, другого учителя мне не видать — потому что, как я понял из твоих слов, ученость ваших мужей неотделима от церкви. И если я потребую человека в возрасте, он неизбежно окажется церковником, а этого добра мне тут не надо. Так вот, я спрашиваю: у тебя достанет целомудрия? Или, то, что в голове подчиняется тому, что в штанах — как это и бывает у большинства молодых людей?
— В твоей воле отослать меня, государь.
— Ты не ответил.
— Я… — лучше бы прогнал с позором, право слово. Отчего-то было невыносимо стыдно — вроде и не виноват ни в чем… Эдгар заставил себя поднять взгляд: — Достанет, государь.
Тот побарабанил пальцами по подлокотнику.
— Хорошо. Вечером, на пиру, посмотришь на свою ученицу. Завтра с утра начнете заниматься. Ступай, тебя проводят.
Весь оставшийся день Эдгар не находил себе места. И отнюдь не потому, что нечем было заняться. Дел у него, и вправду, было немного но скоротать время нашлось бы чем — еще с утра он сел за письмо брату, но успел лишь нацарапать приветствие, как пришло время встречи с королем. А после мысли пошли кувырком и собрать их никак не получалось. Не пристало государю беседовать о таких вещах с первым встречным. Не пристало даже думать о том, будто принцесса… господи, да дочь короля должна быть вне подозрений просто потому, что она — дочь короля. А уж предположение, будто он способен посягнуть на… по-хорошему за такое должен бы последовать вызов. Эдгар усмехнулся: кого вызывать-то? Короля?
Нет, он не считал себя святым и безгрешным, прекрасно отдавая себе отчет в том, что способен вожделеть. Но принцессу? Да будь она прекраснее богини, разве можно оскорбить ее похотью?
Эдгар снова сел было за письмо, сломал перо, потом поставил кляксу — чего с ним и вовсе не случалось уже несколько лет. Отчаянно хотелось что-нибудь разбить. Выругался, скомкал ни в чем не повинный пергамент, запустил в открытое по летней жаре окно.
— Эй, ты чего кидаешься? — раздалось с улицы.
Эдгар вздрогнул, уставился за окно. На толстенной ветке дуба королевского парка, саженях в трех от стены дворца сидела девчонка. Девушка. — Поправил себя Эдгар, разглядев под рубашкой — и как это он раньше не замечал, насколько бесстыдно выглядят здешние девушки в мужской одежде? — вполне оформившиеся округлости.
Девушка перекинула ногу через ветку, развернувшись лицом к окну, мотнула головой — тяжелая черная коса отлетела за спину.
— Из-за тебя чуть с дерева не брякнулась. — Проворчала она. Сижу, никого не трогаю, тут летит в лицо какая-то дрянь.
— Это не дрянь, это пергамент. — Машинально поправил Эдгар, продолжая ее разглядывать. Ну и порядки тут, дворец, называется, какие-то девки по деревьям лазят. И вообще… Эдгар, конечно, помнил рассказы Рамона, как они с Лией носились по окрестным лесам, и по словам брата, она не гнушалась взобраться на дерево. Но все равно, не пристали девушке, вступившей в брачный возраст — а сидевшей на ветке по виду было достаточно лет для сговора — подобные забавы.
— Какая разница? Извиняться-то будешь, или слов таких не знаешь?
— Извини. — Согласился Эдгар. Потом подумав, добавил. — Хотя я не уверен, что извиняться должен я, а не ты.
— Это еще с чего? — фыркнула она.
Девушка, надо сказать, оказалась хорошенькой: правильный овал лица, большие карие глаза, точеные черты. Жаль, фигуру не разглядеть. Эдгар разозлился, поймав себя на этой мысли. Вот только пялиться на сидящих на деревьях девок не хватало. Осталось только какую-нибудь служанку в постель затащить. А потом сходить поговорить с королем о целомудрии.
— Ну, хотя бы с того, что некрасиво подглядывать за людьми. Или у вас это считается правильным?
А кстати, кем она может быть, эта девушка? Судя по осанке и тону, явно не простолюдинка, даже если на миг допустить, что простолюдинке — той же служанке, скажем — кто-то позволит лазить по деревьям королевского парка. Дочь кого-то из придворных? Скорее всего, причем не мелкой сошки, раз уж ей дозволяются подобные выходки.
— Я не подглядывала!
— О, да, ты наверняка взобралась на дерево, чтобы поразмышлять о догматическом богословии.
— А кто виноват, что ты из своих покоев носа не высовываешь? Должна же я была на тебя посмотреть?
— Вот нахалка! — восхитился Эдгар. — Что я, чудище заморское что ли, чтобы меня разглядывать?
А ведь чудище заморское и есть, подумал он, и развеселился окончательно.
— Сам нахал. — Огрызнулась девушка. — Что теперь, вечернего пира что ли ждать? Или и вовсе пока мне утром учителя представят?
— Чего? — Эдгар оторопев, тяжело оперся о подоконник. Да нет, не может быть.
— Меня зовут Талья. Папа сказал, что с завтрашнего дня ты будешь учить меня богословию.
— Катехизису.
Никогда в жизни ученый не чувствовал себя большим дураком. Это ж надо так опростоволоситься… Или его все же разыгрывают?
— Катехизис-ерунда. — заявила принцесса, забавно сморщив носик — Я его давно вызубрила. Скука.
Эдгар промычал нечто неразборчивое, отчаянно пытаясь собраться с мыслями. Получалось плохо.
— Нет, правда, чему там учить-то? Есть текст, есть комментарий, что еще разжевывать?
— Ты читала перевод?
— Нет, конечно. — Она пожала плечами. — Должна же я знать язык народа, среди которого буду жить. По правде, читаю я куда лучше, чем говорю, но, думаю, ты поможешь это исправить.
— Как прикажешь, госпожа.
— Ага, вот ты как заговорил. А то «нахалка»…
— Государыня…
— Брось — она махнула рукой. — Я не обиделась. В кои-то веки нормальный человек нашелся, а то слова поперек молвить боятся. — Она помолчала, теребя косу, снова откинула ее за спину. — А что такое дог-ма-ти-чес-кое богословие?
Эдгар закашлялся:
— Это мы изучать не будем.
— Почему? — изумилась она.
— Ну…
— Ясно. Волос долог, ум короток, так, кажется, у вас говорят?
Примерно так Эдгар и думал — но не признаваться же в этом. Узнавать, какова принцесса в гневе почему-то не хотелось.
— Видишь ли… — осторожно начал он. — Судить будут прежде всего по твоему поведению и твоим речам — а я, право слово, не уверен, что где-то, кроме стен университета можно обсуждать догматическое богословие. Так что, если ты знаешь катехизис, я бы начал с того, как правильно вести себя в храме, исполнения церковных таинств и жития святых. И, собственно, самого священного писания. А там видно будет.
— Писание я прочитала. Но ты прав, — поразмыслив ответила она. Глянула на солнце, заерзала. — Ладно, об этом завтра. Пора собираться на этот пир, чтоб его.
— Он скоро?
— Нет. Но наряд и прическа… — она махнула рукой, в который раз откинула косу. — Да, чуть не забыла: как тебя звать?
— Эдгар.
— Хорошо. Тогда до вечера, Эдгар.
Она юркой белочкой скользнула меж ветвей, помахала рукой и вприпрыжку помчалась вдоль стены замка.
Эдгар рухнул на кровать, застонал. Нет, воистину, только с ним могло случиться что-то подобное. Хмыкнул: никакого вожделения, значит? А кто не так давно таращился на торчащие сквозь рубаху пуговки сосков? Он долго и прочувствованно выругался. Похоже, остаток вечера придется провести в размышлениях о грехе гордыни.
Здравствуй.
У меня все не как у людей — то неделями не пишу то, вот, два письма подряд. И кто знает, которое из двух придет первым? И придут ли вообще. К вам стремится все больше служителей церкви, и на монастырских гонцов тоже можно положиться — но тяготы путешествия есть тяготы путешествия, и до цели добирается далеко не каждый. Впрочем, я ведь хотел рассказать не о том. Кольчуга.
Итак, отступать было поздно — после учиненного скандала оставалось лишь идти до конца, все равно кругом виноват. Впрочем, мне не привыкать быть кругом виноватым — так было, сколько себя помню. Сдается мне, я был виновен уже в том, что родился, став вечным источником треволнений матери. Так что проступком больше — проступком меньше… жаль, что я понял это только сейчас, а еще больше жаль, что так и не могу оставаться безучастным к ее слезам — а весь вчерашний вечер мать прорыдала у меня в комнате, рассказывая, как она волновалась, когда я вдруг исчез, вот так, без предупреждения. «Обещай, что не будешь больше так меня расстраивать». Господи, да как я могу что-то обещать, если любой — любой! — мой шаг за пределы собственной спальни становится причиной для расстройства? Сидел, молчал, пялился в пол, как дурак, и чувствовал себя последней сволочью. Ладно, не в первый раз, и не в последний. Обещания «не расстраивать», впрочем, она так и не добилась. Для того, чтобы обещать что-то нужно, чтобы это что-то от тебя зависело, а я собственную-то жизнь в руки взять не могу. Надеюсь, пока не могу.
Итак, кольчуга. Пока седлали коня я, как примерный маменькин сынок доложился, куда поеду, кое-как отвертелся от вопроса — надолго ли (моя бы воля — и вовсе бы не возвращался!) и выслушал наставления, которых хватило бы на путешествие продолжительностью с полгода. Легко отделался — по крайней мере в этот раз удержать от поездки никто не пытался. Подумав, решил, что лучше не отдавать перстень оружейнику, а обменять его на золото — так будет выгоднее, и так я и поступил. Так что после того, как я оставил задаток за переделку кольчуги, еще осталось на окончательный расчет и хватило на то, чтобы заказать новый гамбезон — старый, как я когда-то писал, не сходится. Пожалуй, и тут я дешево отделался. Все остальное для пешего боя у меня есть, а до конного никто не допустит — я же не рыцарь. Теперь остается только ждать, когда кольчуга будет готова, а потом — дожить до турнира. Доживу. Назло всем.
Рихмер.
Глава 14
Выехать решили затемно. Герцог предупредил, что до жалованного лена два часа доброй рысью. Да столько же обратно — считай, полдня только на дорогу. Выходило, что будущие владения оказывались на самой границе с чужими землями, случись что — станут первой линией обороны. Не сказать, чтобы это пугало, но и радости никакой. Это только Хлодию пока можно радоваться, что его жизнь в качестве хозяина нового замка будет отнюдь не монотонной. А Рамона заботило только одно — успеть. Успеть до того, как Кадан соберет новую армию взамен разгромленной. И до того, как ему самому исполнится двадцать один.
Кадан. В первый раз для того, чтобы собрать и привести армию им понадобилось пять лет, и три из них, насколько было известно Рамону, ушли на дворцовые перевороты. Значит, два года. Как скоро они смогут собраться после нынешнего поражения точно не сказать, но едва ли раньше, чем через год. Да и то многие наверняка предпочтут откупиться от службы. По крайней мере, когда пришел приказ герцога, те из вассалов Рамона, что потеряли родичей во время осады Агена в первую очередь вспомнили о щитовых деньгах. Несмотря на то, что сумма для многих казалась почти неподъемной. Вряд ли жители Кадана в этом сильно отличаются от соотечественников: для того, чтобы пробудить воинский дух нужны победы, а поражения и смерти вызывают не только жажду мести, но и желание жить. И не у каждого перевесит месть. Значит, положим год, и посмотрим. Но год — это слишком долго, проклятие может поднять голову куда раньше. Никто не знает, как скоро после вхождения в возраст оно даст о себе знать. Авдерик, вон через день… Рамон помотал головой, отгоняя всплывшее перед глазами видение. Жаль, что он навсегда запомнил брата таким. И можно было сколько угодно вызывать в памяти смеющегося рыцаря в красном и серебре. Все равно потом приходил мертвец с месивом вместо лица — и оставалось только надеяться на то, что лошадиные копыта прошлись уже по бездыханному телу. Впрочем, надейся-не надейся, уже ничего не изменишь. Что ж, он знает, сколько времени ему принадлежит, все остальное станет нежданным даром. И хватит об этом.
Всадники ежились в предрассветной зябкой хмари: все оделись с расчетом на полуденный зной, но до полудня было далеко. Кое-кто из людей откровенно зевал во всю глотку и — Рамон был готов поспорить на что угодно — про себя осыпал ругательствами господина, поднявшего ни свет ни заря. Пусть их. Главное, что с этими людьми он был спокоен за свою спину в любой битве, а поворчать — дело святое. Люди герцога, напротив, ехали с каменными лицами — кто поручится, что вырази они недовольство, не дойдет до ненужных ушей. Лучше сразу не дать поводов для разговоров, чем потом столкнуться с гневом господина. И едва доехали до места, они тут же принялись за дело, вымеряя и расставляя вехи.
Земля Рамону понравилась. Приток реки, в устье которой стоял Аген, делал здесь широкую петлю, превращаясь в естественную границу. Дальше, за крутым берегом стелились луга — и лишь где-то на самом горизонте темнел лес. Незаметно не подберешься. По эту сторону реки тоже лежали луга, а дальше, там куда не доходила разлившаяся по весне река, вольготно раскинулись засеянные пшеницей поля, перемежаясь со стоящими под паром землями. Здесь давно перестали расчищать лес под пашню — и зеленая непроглядная стена окружала владения рыцаря с востока. Три деревни одна аж на полторы сотни дворов. Люди жили широко и богато, благо земли было вдосталь, и родила она щедро, не то, что дома.
— Не жалко Хлодию это оставлять? — поинтересовался Бертовин, когда межа была очерчена. — Поболе чем дома земли-то будет.
Рамон улыбнулся.
— Землю холить надо. Как норовистого коня — держать в узде, но холить. Из-за моря трудновато будет, как пить дать из рук уплывет. Вот тогда точно станет жаль — если с того света я смогу о чем-то сожалеть. А со своим добром вы с Хлодием управитесь.
— Управимся. Замок где ставить будешь?
— Дай подумать. — Рамон прикрыл глаза, мысленно перебирая виденное сегодня. На самом деле место он уже присмотрел, но в таких вещах нельзя ошибаться. Жаль, камня здесь нет, придется деревянный строить, как то делали предки еще каких-то два века назад. Он в последний раз огляделся, протянул руку. — Вон тот холм, как думаешь?
Бертовин бросил оценивающий взгляд в ту сторону.
— Кажется, ничего. Поехали, ближе посмотрим.
Кавалькада поднялась на вершину пологого холма.
— Низко. — Сказал Бертовин. — Досыпать придется.
— Еще как придется. — Согласился Рамон. — Зато с одной стороны ров, считай, не нужен. Река. И с остальных воду подвести будет проще.
— И водовод.
— И водовод. — Кивнул рыцарь. — И вокруг все как на ладони — будет, когда насыпь как следует сделаем. Даже дозорные башни по реке можно будет не ставить.
— Это дома можно не ставить. А здесь придется.
— Теперь «здесь» будет «дома». Привыкай.
Бертовин в который раз оглядел окрест, расплылся в улыбке.
— Пока не могу. Вот даст бог, отстроимся… камня нет, частокол будем ставить?
Рамон кивнул. Камня нет, зато леса вдосталь. Годилось предкам — сгодится и для него. А там захочет Хлодий, или даже его потомки, каменный замок — выстроят. Когда появится возможность везти камень за тридевять земель. А пока будем обходиться тем, что есть.
— Значит, решили. — Сказал Рамон.
Он спустился с холма, объехал линию будущего частокола, что огородит двор у подножья башни, в последний раз убеждаясь, что место выбрано верно.
— Много дерева нужно. Оброк лесом возьмем? — спросил Бертовин, спустившись следом.
— Я еще подумаю. Но скорее всего — так. — Рамон посмотрел на солнце, давно перевалившее зенит. — Поехали по деревням.
— Сейчас все в поле. Подождать бы.
Рыцарь покачал головой:
— Если ждать — возвращаться ночью, а люди устали и голодны.
— Не впервой.
— Да. Но завтра по здешним поверьям работать нельзя — боги повелели пять дней трудиться, один отдыхать…
— Охота тебе держать в голове такую ерунду?
— Не ерунду. — Рамон нахмурился. — Странно, что я должен учить этому тебя, а не наоборот. Черни все равно, кто правит, пока с них не дерут последнюю рубаху и не отнимают богов. Поэтому такие вещи следует помнить.
Бертовин склонил голову, признавая правоту господина.
— К тому же. — Продолжал рыцарь. — Вместо того, чтобы ждать до заката и ехать домой ночью, мы вернемся завтра. Сейчас по деревням проверим, поглядим как живут. Как староста живет… все трое. Предупредим, чтобы дома был — передадут. И завтра вернемся. Проведя ночь в постелях, а не в седле.
— Лагерь надо ставить. Каждый день туда-сюда не наездимся.
— Поставим. Пока шатры привезем, дальше вот здесь, где двор будет, дом срубим — потом под сарай какой сгодится. Завтра работать нельзя…
— Нам-то можно.
— Ты всерьез собираешься начинать знакомство со своими людьми с того, что нарочито нарушишь их обычаи?
Воин сокрушенно покачал головой.
— Не подумал. По мне так все их божки — морок один. Вот и не подумал.
— Никто не заставляет тебя верить. А вот думать придется.
— Отвык. — Хмыкнул Бертовин. — Вот уж лет пять как не приходилось.
— Привыкнешь. — Рамон тронул с места коня. — Поехали.
Деревни ему тоже понравились. Добротные избы-пятистенки, крепкие штакетники, что отгораживали просторные дворы, где хватало место и хлеву и амбару, и оставалось на огород. Яблоки светились наливными, прозрачными боками сквозь листья, клонили к земле тяжелые ветви. Куры заполошно шарахались из под копыт. Славно живут, крепко. Мельницы только не видно — похоже, крестьяне возили молоть зерно куда-то на сторону, если только не крутили жернова дома. Значит, поставить мельницу у замка, и лучше водяную. Отвести водовод и поставить. Если мзду за помол брать разумную — деньги будут. Надо в городе порасспрашивать, где людей на такое дело нанять, не прямо завтра конечно. Но хорошо бы самому успеть управиться.
При виде чужих дети замолкали, спугнутыми воробьями бежали по дворам. Из-за заборов мрачно зыркали старики. Пусть их. Привыкнут и смирятся. Бунтовать не будут — для того, чтобы поднять чернь на бунт, нужно хорошо постараться. Слышать о подобном Рамону доводилось, доводилось даже вместе с соседями усмирять взбунтовавшуюся деревню, и вспоминать об этом рыцарь не любил. Он был уверен, что подобные вещи свидетельствуют не столько о развращенности черни — что с нее взять, чисто дети малые — сколько о плохом управлении. Его крестьяне не бунтовали. И здесь не будут. А любить господина им не обязательно. Чай, не золотой, чтобы все любили.
Мальчишка с покрытыми пылью босыми ногами за сребрушку показал дом старосты. Рамон спешился, стукнула калитка. Открыл дверь, как к себе, лишь для приличия грохнув кулаком по косяку, огляделся. Откуда-то из дома в сени выполз старик.
— Староста здесь живет?
— В поле. Что надо?
— Передай: завтра дома пусть будет. Приеду, поговорить надо.
— А ты кто? — старик сощурился, внимательно разглядывая чужака.
— А я господин этих земель.
— Вот как… Добро — теперь не всякий, кому не лень грабить будет, а… — он осекся. — Стар я стал, ум за разум заходит, не обессудь, господин.
Рамон усмехнулся.
— А что, много желающих пограбить было? По вам не скажешь, что совсем до костей обобрали.
— Э, да это так… крохи последние остались. Последний год разве что тихо. А так — приходят и берут, и поминай как звали. Только и гляди, как бы успеть…
— Скотину в лес свести, хлеб закопать. — Закончил за него рыцарь. — Сейчас тоже поди мальчишек послали к пастухам, чтобы успели? И к соседям — предупредить?
— Да откуда ж мне знать, господин. Стар я, носа из дома не высовываю.
— Послали. — Снова хмыкнул Рамон. — Ладно, то дело ваше: я коров по рогам пересчитывать не собираюсь. Староста завтра чтоб в полдень дома был. Приеду.
Он холодно простился с хозяином, вернулся к своим. Отстраненно подумал, что в соседних деревнях наверняка будут знать, кого встречают: хоть они и верхом — а ничто не сравнится в скорости с мальчишками: там сиганут через забор, там нырнут в перелесок и поди угонись. Впрочем, гоняться за кем бы то ни было Рамон не собирался. Будут знать — тем лучше. Начнут притворяться сирыми и убогими — тоже не страшно. Рано или поздно поймут, что лучше, чтобы «грабил» один, а не «всякий, кому не лень». Проповедовать, объясняя, что привилегии знати даны господом, рыцарь не собирался тем более. Черни довольно знать, за кем сила, высокие материи ей недоступны. А уж за кем сила — они поймут.
Вернувшись, Рамон задал Хлодию подумать, что он возьмет с собой в лагерь, бросать мальчишку одного дома не годилось. И рассчитать, сколько понадобится леса, чтобы огородить частоколом в два человеческих роста двор в семь акров, и выстроить башню. На сараи и прочее сойдет и амбарник, его считать нечего. При слове «посчитать» Хлодий сделал такое лицо, что рыцарь едва не рассмеялся. До сей поры парень искренне не понимал, к чему нужна книжная премудрость и зачем отец терпеливо вдалбливал ему цифры. Ничего, пусть привыкает. Жаль, конечно, что мальчика воспитывали как простолюдина, теперь когда еще наверстает. Рамон мысленно положил себе поговорить с Бертовином — пусть подумает, на что Хлодию стоит приналечь уже сейчас, а что может погодить. Чтобы в конце концов парень смог находиться в обществе аристократов и не чувствовать себя невежей, ни ступить ни молвить не умеющим. Кое-чего он, конечно, нахватался, воспитываясь в замке, да и в бытность оруженосцем — но мало, непростительно мало. И бог с ней, с грамотой — не каждый дворянин способен написать свое имя, не говоря уж о сложных расчетах, наподобие тех, что Рамон только что задал парню. Но этикет… Но танцы… Но умение с невозмутимым видом встречать и лесть и ненависть — впрочем, с этим нужно родиться.
Правда, танцевать Хлодий умеет — не бог весть как, но умеет. Нет лучше способа почувствовать себя в полном доспехе непринужденно, как научиться в нем танцевать. Помнится, по такому случаю Рамон дал на время кольчугу. Старую, доставшуюся от какого-то предка, тяжелую и неудобную — не то, что нынешние. И неважно, что кольчуга рыцаря доходила почти до щиколоток, тогда как у оруженосца едва прикрывала бедра. Если уж научится легко и уверенно двигаться в этом чудовище, то уж со своей, более легкой, управится наверняка.
Значит поговорить с Бертовином. Забивать себе голову деталями Рамон не собирался. Бертовин воспитал трех графских сыновей, с собственным точно справится. Правда, вдалбливать науку в почти взрослого парня будет потруднее, не зря же говорят: учи дитя, пока поперек лавки помещается. Ну да куда деваться.
Оставив Хлодия с несчастным видом корпеть над бумагой, рыцарь поднялся к себе. Подумать, что стоит взять с собой, а что оставить в доме. В отличие от многих знатных людей, Рамон не любил путешествовать с большим обозом. Возить за собой мебель и драгоценную посуду — к чему? Нет, поборником умерщвления плоти ради того, чтобы дух воспарил в горние выси, он тоже не был — все хорошо в меру. Но стол и лавки можно сколотить из негодного леса, во время постройки его будет в преизбытке, посуда сгодится та, что была в походе, а добрая усталость сделает постель мягче любой перины. Вот отстроятся — тогда другое дело, тогда нужно будет обживаться, да так, чтобы не ударить лицом в грязь перед соседями. Это ему самому можно до определенной степени не обращать внимания на то, что люди скажут, а Хлодию в первое время любую мелочь будут в укор ставить. Потом надоест, конечно, но то потом.
Он позвал слугу, приказал собрать к утру все необходимое. Снова спустился, заглянул к оруженосцу — тот с несчастным лицом корпел над задачей — и пошел разыскивать Бертовина. Тот выслушал, кивнул — мол, подумаю. Спросил:
— Завтра когда выезжаем?
— На рассвете. Хлодий, да телеги — быстро не поедешь. Потом людей оставим лагерь разбивать, а мы с тобой — в лес. Посмотрим, где на замок дерево брать будем. И какой участок мужикам на дрова оставить, нечего им господский лес где попало рубить. А потом — по деревням. — Рамон потер лоб. — Забот по горло, не знаю, за что хвататься.
— Хлодий скоро поднимется, поможет.
— Да… Вот еще, чуть не забыл: прикажи там еды подготовить на неделю. Пока еще оброк соберем. Охотиться точно времени не будет, поначалу особенно. И подумай, сколько оброк назначить, чтобы голодными не сидеть. И сколько людей на барщину, чтобы и на замок, и озимые засеять. Чтобы нам хватило и на сторону продать осталось… надо еще будет посмотреть, где распахать, приметил сегодня, но мало ли. Завтра, если успеем.
— Успеем. Не завтра, так послезавтра. Куда гонишь?
— А то не знаешь, куда.
— А с ней в догонялки играть бесполезно.
Рамон усмехнулся:
— Вот и поглядим. — Помолчав, добавил. — Ступай. Я, пожалуй, в гости съезжу, пока светло. Хлодию передай, чтоб не ложился — вернусь, проверю, что он там насчитал.
— Загонишь ты себя…
— В гробу отдохну. — Хмыкнул рыцарь. — Вот тогда точно времени будет навалом.
Он не знал, будет ли Лия дома — явившись без приглашения трудно рассчитывать на то, что застанешь хозяев. Да и если застанешь, едва ли они смогут уделить незваному гостю больше нескольких минут. Но кто знает, когда снова получится вернуться в город. И не просто вернуться, возвращаться придется постоянно, пока замок не будет пригоден для жилья, пока не найдутся люди, достойные ходить под его гербом. Пока, наконец, не обустроится хозяйство — так, чтобы хотя бы обеспечивать себя самим. Но кто поручится, что во время наездов в город найдется время бывать по гостям? Так что только и остается — ловить момент. И надеяться что девушка окажется дома: было бы обидно уехать, не простившись толком.
Рамону повезло: Лия как раз выходила из ворот, когда он подъехал. Рядом шла девушка, одетая как было принято у него дома. Рыцарь спешился, поклонился обеим.
— Это Бертрада. — Сказала Лия, и улыбнулась. — А это Рамон. Здравствуй.
— Рад знакомству. — На самом деле радоваться было нечему. Если Лия собралась в гости… — Уходишь?
— Хотела проводить и вернуться. Подождешь у нас, или спешишь?
— Я бы предпочел проводить вас обеих, а потом съездить с тобой к реке. Если Бертрада не против.
— Почту за честь.
Они побрели по улице. Бертрада щебетала не переставая, Лия иногда поддакивала. Рамон молчал или отвечал односложно. Девушка ему не нравилась. И даже не потому, что пришлось ее провожать, в конце концов, четверть часа погоды не сделают. Но мало радости слушать пустопорожнюю болтовню. Он облегченно вздохнул, когда девушка попрощалась. Что у Лии может быть с ней общего?
— Пойдем, или взять тебя в седло? — спросил рыцарь.
— Если тебе не трудно.
— Скажешь тоже. — Улыбнулся он. Сел на коня, протянул руку. Девушка оперлась о его носок, ловко подтянулась, устроилась в седле боком, как в дамском, перекинув ногу через луку. Рамон обхватил ее за талию.
— Удобно?
— Да. Поехали.
Рыцарь подумал, что вздумай он проехать так по улицам столицы — репутацию дамы можно было бы считать похороненной. Даже женитьба не спасла бы. А здесь подобное в порядке вещей. Определенно, в Агене Рамону нравилось куда больше, чем дома.
— Эта девушка, Бертрада — давно здесь? — спросил он, не зная, как задать вопрос прямо: зачем Лие такая подруга. Ну ладно, многие мужчины падки на куриный ум — Рамон искренне не понимал, зачем нужна женщина, с которой вне постели не о чем поговорить, но если кому-то нравится чувствовать себя мудрым и всезнающим рядом с глупышкой, их дело. Но Лие-то зачем?
— Ее отец из свиты герцога. Привез семью недавно. — Ли я пожала плечами. — Почему-то она набивается ко мне в подруги. Может быть, из-за тебя.
— Я тут при чем?
— Глупышка успела влюбиться в Дагобера. А вы друзья. Видимо, надеется, что рано или поздно окажется с ним в одном обществе, более узком, чем бал.
— Дагобер мне не друг.
— Вот как? Мне казалось…
— Был. Когда-то. — Рамон помолчал, пытаясь понять, когда он понял, что думать о маркизе как о друге не получается. После той безобразной сцены в лагере? Или раньше… Какая, впрочем, разница. — Спину я бы ему не доверил.
— У него хорошая репутация.
Рыцарь кивнул.
— Хорошая. И я, в общем, не могу сказать про него что-то определенно дурное. Просто… — он поймал вопросительный взгляд девушки. — Право, не могу объяснить, почему. И довольно о нем. Я приехал попрощаться.
— Совсем? — в голосе Лии промелькнуло что-то похожее на испуг.
— Нет. Просто завтра уеду из города и не знаю, когда вернусь. И надолго ли.
— Я буду скучать по тебе.
— Я тоже — признался Рамон. — Но иначе — только разорваться.
— Понимаю… Останови коня, хочу пройтись.
Они давно миновали ворота. Дорога тоже осталась позади, и вокруг не было ни души. Только медленная река, легкий шорох травы и небо. Рыцарь помог Лие спуститься, спешился сам. Отпустил поводья, позволив коню пастись. Привязывать его нужды не было.
— Жаль, костра не развести. — Девушка шагнула с тропинки, оказавшись в траве по пояс. — Люблю огонь.
Рамон кивнул, пошел рядом. Костра здесь и впрямь было разводить не из чего — лес вырубили давным-давно, а все, что приносила река, мигом разбирали ушлые горожане. Разве что сухого камыша набрать, так что это за огонь — дым один. Лия опустилась в траву, скрывшись едва ли не с головой. Сложила на подол сорванные дорогой цветы, начала переплетать стебли, собирая венок. Рыцарь сел рядом. Посмотрел на отточенные, быстрые движения девичьих пальцев — было в этой бездумной отточенности что-то, навевающее мысли о древних жрицах.
— Научи меня.
— Зачем? — изумилась она.
— Не знаю. — Рамон рассмеялся. На душе было тепло и радостно, и кому что за дело до того, что поводов для смеха вроде бы нет? — Просто захотелось.
Нехитрое вроде бы занятие: цветок к цветку, обвить стеблем, прибавить следующий. Рамон посмотрел на то, что получалось у него, перевел взгляд на пышный цветочный жгут в руках девушки, снова засмеялся, и бросил это дело.
— Сдаюсь.
Он растянулся в траве, опершись на локте, и начал смотреть, как в розовую пену тысячелистника вплетается голубизна васильков и нежный фиолетовый колокольчиков. Солнце медленно спускалось к горизонту, но до заката время еще было.
— Держи. — Лия надела на голову рыцаря готовый венок.
— Я думал, это тебе.
— Сейчас будет и мне. — Она снова ссыпала в подол цветы, благо вокруг их было море и для того, чтобы набрать новый букет, не пришлось даже вставать. Рамон бездумно смотрел, как рассыпанная охапка цветов собирается в еще одну ленту, и улыбался непонятно чему. Наконец, Лия надела готовый венок, кокетливо улыбнулась — мол, как тебе?
— Красиво. — Ответил рыцарь. — Ты похожа на лесную фею.
— В наших сказках феи заманивают доверчивых путников с тропы и исчезают, оставляя в чаще.
— Так я и позволил тебе исчезнуть.
— Поймаешь?
— Ага.
— Тогда попробуй! — Лия засмеялась, подхватила подол, припустив к реке.
Рамон хмыкнул, догнал в несколько прыжков. Сгреб в охапку, уронив в траву, навалился сверху, перехватив запястья:
— Попалась!
— Отпусти, добрый путник. Богатый выкуп будет тебе наградой…
— Выкуп? — Рамон сделал вид, будто задумался. — Отчего бы и нет. — Склонился, заглянув в глаза, прочел в них согласие и прошептал: — А вот моя цена…
И коснулся губ, уже зная, что она ответит.
Потом пришло время перевести дыхание. Лия смотрела снизу вверх, такая хрупкая и такая маленькая, что он вдруг отчетливо ощутил, что при желании смог бы сотворить все, что вздумается — и она ничего не смогла бы с этим поделать. Это оказалось настолько неожиданно и настолько остро, что Рамон на миг замер, едва ли не испугавшись самого себя. А потом пришло желание взять ее на руки и так, на руках и унести закрывая собой от любого, кто мог бы обидеть.
Он ослабил хватку, давая девушке возможность двигаться. Та тут же вывернулась юркой змейкой, рассмеявшись, неслабо толкнула в плечо, заставляя перевернуться. Оседлала бедра, схватила за руки, припечатав их к земле, как только что держал сам Рамон — только ей для этого пришлось навалиться всем телом. Рыцарь засмеялся в ответ — он мог бы освободиться одним движением. Если бы захотел.
— Ну, и кто кого поймал? — поинтересовалась она.
— Я, конечно.
— Похвальное самомнение.
Он улыбнулся, резко сел, уведя ее руки за спину — оба запястья поместились в одной ладони. Провел кончиками пальцев по щеке, запустил их в пушистые волосы.
— Так кто кого поймал?
И выпустив тоненькие запястья, прильнул к губам, не дожидаясь ответа.
Когда он вспомнил о времени, от солнца остался лишь краешек. Почувствовав, что он замер, девушка отстранилась.
— Пора?
— Прости.
— Жаль. — Она медленно поднялась. — Поехали.
Рамон помог ей взобраться в седло, усадив так же, как раньше. Только теперь пушистая головка устроилась у него на плече, да и сам рыцарь обнял девушку за талию куда крепче. Конь неторопливо ступал по дороге, и Рамон не собирался его подгонять. Когда они остановились у дома Лии, небо уже погасло.
— Будешь в городе — заходи. — Сказала она. — Хоть на четверть часа.
— Зайду. — Ему очень хотелось поцеловать ее на прощанье, но проехать в обнимку по городу приличия еще позволяли, а вот целоваться на улице — уже нет. И он ограничился тем, что чмокнул в щеку. Повторил. — Обязательно зайду.
Лия улыбнулась:
— Я буду тебе сниться. Если захочешь.
— Захочу.
— Тогда до встречи.
Глава 15
Насколько Эдгар помнил из объяснений Хасана, этикет Белона, касающийся поведения на пирах, не слишком отличался от принятого дома. Беда в том, что за всю жизнь на пиру он не бывал ни разу — если не считать таковым студенческие попойки. Да и обучению его, простолюдина, правилам поведения в таких случаях тоже никто особо не озадачивался. Знай свой шесток и не посягай на большее. Эдгар, в общем-то и не посягал — но кто ж виноват, что неистребимое любопытство когда-то сподвигло его прочитать все наставления для юношей, водившиеся в доме приемной матушки. И уж тем более не было его вины в том, что занесло в королевский дворец, пусть и чужой страны.
Не то, чтобы он очень боялся опозориться — в свое время Эдгар потратил немало времени, выпытывая у учителя мельчайшие подробности — ведь как известно, чаще всего попадают впросак именно на каких-нибудь мелочах. Но и совсем уж не переживать не получалось. Тем более, что день не задался с самого утра, а до ночи было еще ох, как далеко. В конце концов ученый решил, что правило «слушай, смотри и молчи» еще никого не подводило, а посему так и следует поступить. Вовремя — слуга как раз привел его в зал, передав с рук на руки распорядителю. Тот указал Эдгару место на лавке, застеленной ковром, и исчез.
Эдгар огляделся. Признаться, до сих пор он не слишком-то смотрел по сторонам, больше занятый своими мыслями.
За окном медленно угасали в сумерки, а в зале бесчисленное множество факелов превратили тьму в ясный день. Эдгар мимолетно пожалел, о том, что почти неразличимыми стали витражи на окнах, и начал разглядывать гобелены. Закрывавшие стены полотнища являли когда пир, когда охоту, но больше всего было батальных сцен — этакая тканая летопись побед. На самом деле ученый не был уверен, что тех побед было так уж много — ну какие, право, завоевания могут быть у крохотного государства с едва ли двухсотлетней историей. Но справедливости ради — любое королевство имеет право гордиться своим прошлым. Белон и гордился — и кому какое дело, что он, подобно другим странам, не мог вести свою историю к великим государствам прошлого?
Как и положено, покрытые сложенной вдвое скатертью столы стояли двумя длинными рядами. А в центре зала, на еще одном огромном столе уже красовались яства что потом слуги разнесут гостям. Аромат оттуда шел невероятный — Эдгар мигом вспомнил, что с утра не притрагивался к еде. Еще миг назад он искренне считал, что не голоден. Сейчас желудок молодого здорового мужчины отчаянно требовал свое — и ученый начал всерьез опасаться, как бы не забурчало в животе. Большего конфуза, пожалуй, не придумать.
От нечего делать Эдгар начал высчитывать расстояние до возвышения в другом конце зала, где стоял еще один стол. С королем садится только его семья, для остальных отведено место вдоль стен, и чем ближе оно к королевскому столу, тем знатнее гость. Разумеется, оказаться в числе первых Эдгар и не собирался, увидеть себя последним было бы более предсказуемо, хотя отнюдь не приятно. Еще раз оценив расстояние до обоих концов стола, ученый пришел к выводу, что его статус здесь повыше, чем у мелкопоместных дворянчиков, невесть как оказавшихся при дворе, но до почетного гостя далековато. Впрочем, спасибо, что не усадили среди слуг приглашенных гостей… Нет, поправил себя Эдгар, на этом пиру слуги гостей за стол не сядут, это тебе не ужин в честь заехавшего в гости соседа. Он оглянулся, едва не вывернув шею, почему-то не догадавшись посмотреть через зал. Действительно, действительно, вдоль стен, как и полагается, стояли креденцы, на которых покоились сосуды с вином. А рядом переминались слуги — придет время, и именно они будут разливать вино господам, у королевских слуг и без того забот хватит.
С хоров, где расположились музыканты, послышалось что-то торжественное, зал разом поднялся, приветствуя короля. Тот вошел в сопровождении дочери, прошествовал к стоящему под балдахином креслу с подлокотниками. Повинуясь кивку монарха, гости сели. Принцесса опустилась по левую руку от отца. Эдгар, который до сих пор надеялся на то, что дневной разговор был всего лишь розыгрышем, вздохнул. Он все же умудрился нахамить принцессе, и хоть та и говорит, что не в обиде, запомнила наверняка. И поди теперь знай, когда и как припомнит.
Он вздрогнул, обнаружив рядом слугу, державшего таз для омовения рук, ругнулся про себя — что за напасть, как задумается, так света вокруг не видит, не доведет это до добра, как пить дать не доведет. Вода пахла мятой и чем-то еще — лавандой, кажется, Эдгар не разобрал. Кивнул, благодаря, развернулся к столу, где уже появились блюда с фруктами. Так, сперва он должен предложить порцию даме, что сидит по правую руку, потом себе. Дама, которую он только сейчас разглядел, оказалась в летах и неинтересной — впрочем, это было хорошо. Люди в возрасте любят поболтать и не придется лихорадочно думать о том, как поддержать разговор, оставаясь светским и остроумным. Достаточно лишь кивать и вовремя поддакивать, изображая интерес — все остальное собеседница сделает сама, да еще и сочтет его «вежливым и приятным юношей». Эдгар захрустел яблоком, поглядывая в сторону мяса — фрукты хоть и считались идеальным началом трапезы, но насытить его, оголодавшего за день определенно не могли. Правильно, надо было есть, когда предлагали, а не переживать, точно девица.
Кстати, о девицах. Эдгар посмотрел на принцессу. Полдня назад она была живой и веселой. Сейчас при взгляде на нее на ум приходили легенды о мраморных статуях, которым черное колдовство позволило двигаться и говорить, не одарив душой — ведь душа подвластна лишь господу. Безукоризненно прямая спина и холодное достоинство на лице. На миг Эдгар даже пожалел, что не познакомился с ней — такой. Не пришлось бы весь вечер проводить за не слишком веселыми мыслями.
Меж тем король поднялся, жестом остановил музыку. Стало тихо. Государь указал на сидевшего одним из первых Дагобера и заговорил. Речь, оказалась длинной и напыщенной, впрочем, таковой ей и полагалось быть на пиру, посвященному прибытию посла союзника и будущего родича. Эдгар с тоской посмотрел на мясо: он только-только взял с поставленного на стол блюда свою долю и на тебе. Жевать, когда монарх говорит, было бы верхом неприличия — все присутствующие сделали вид, что обратились в слух. Эдгар последовал примеру остальных, с умным видом пропуская торжественные слова мимо ушей. Будь он значительным лицом в свите герцога, он бы испугался, пожалуй — ведь пришлось бы не только слушать, но и держать ответную речь перед всей толпой.
Король закончил говорить, и поднялся Дагобер. Эдгар мысленно застонал — ответ гостя должен быть не короче приветствия хозяина. Ученый подумал, что те, кто считает скучными богословские трактаты должен бы в непременно послушать подобное выспреннее славословие. Для того чтобы знать, что такое «скучный» на самом деле. Он даже стал опасаться, что вот-вот начнет клевать носом, но тут, на его счастье, речь закончилась.
Музыка заиграла громче, в зале появились танцоры, призванные развлекать пирующих. Эдгар от души им посочувствовал: не слишком-то приятно служить чем-то вроде добавки к закуске К слову сказать, танцевали они вполне прилично — по крайней мере, насколько он мог судить. Но большинство присутствующих куда больше волновала еда, чем танцующие. Мысль о них повлекла за собой следующую: после пира непременно давался бал. Следуя этикету, Эдгар должен был пригласить сидящую рядом даму, и протанцевать с ней весь вечер. Ученый покосился на соседку. Дома женщины в таком возрасте если и являлись на танцы — сопровождая дочерей, например — в общем веселье участия не принимали, предпочитая разговоры с себе подобными. Хорошо, если бы и здесь оказалось так же. Не то, чтобы ему претило танцевать со старухой. Просто он вообще не любил танцевать. Даже научившись — пришлось — и несколько раз услышав комплименты от девушек, мол, он замечательный кавалер, Эдгар так и не был до конца уверен, что у него все получается правильно. И вообще, что это за веселье, когда то и дело приходится думать о том, как бы не отдавить кому-нибудь ногу.
Мало помалу на столе появились сласти. Эдгар попробовал смешанный с горным льдом мед, сделал вывод, что это считается деликатесом совершенно незаслуженно — впрочем, он не любил сладкого — и отставил в сторону. Соседка тем временем увлеченно уплетала вываренные в меду орехи.
Король снова встал — Эдгар напрягся, ожидая еще одного потока пустословия. Обошлось: появившийся распорядитель объявил, что пришло время танцев. Ученый поднялся, предложил руку даме.
— Благодарю. — Произнесла та, опираясь. — Проводи до зала, а приглашать не надо. В мои лета не танцуют.
Эдгар облегченно вздохнул: одной заботой меньше. Осталось только проторчать у стены до тех пор, пока не уйдет король: покидать бал раньше государя считалось неприличным. И можно будет с чистой совестью вернуться к себе и лечь спать. Признаться, прошедший день порядком утомил, несмотря на то, что вроде бы ничего и не делал. Что ж, на пиру он не натворил ничего непоправимого, теперь нужно лишь продержаться бал.
На счастье Эдгара, на балу он оказался предоставлен сам себе. На чужеземца косились — и только. Никто не будет разговаривать с человеком, который не представлен, а представить его было некому. Дагобер смог бы, если бы захотел, но Эдгар готов был биться об заклад, что как только они оказались за воротами дворца, маркиз забыл об его существовании. Оно и к лучшему. Вести пустые светские разговоры Эдгар тоже научился — спасибо брату, буквально насильно таскавшему его с приема на прием. Но получать удовольствие от никчемной болтовни он так и не мог, и искренне не понимал, что за радость в этом находят другие. То ли дело ученая беседа, а еще лучше — диспут, в котором приходится изо всех сил напрягать ум. Эдгар мимолетно пожалел, что рядом нет брата — с ним было хорошо говорить и еще лучше молчать. Впрочем, нет, сейчас бы Рамон бросился танцевать, да еще и его бы с собой потащил. Эдгар настолько живо представил себе это, что ничуть не удивился, почувствовав, как на запястье сжались чужие пальцы и повлекли куда-то в сторону.
Эдгар встряхнулся, приходя в себя, огляделся. Зал кружился в некоем подобии рондо, только цепь держащихся за руки людей не замкнулась в круг, а вилась по залу бесконечной змеей, вовлекая в движение все новых и новых танцующих. А самого Эдгара держала за руку рыжеволосая девушка. Он и охнуть не успел когда еще одна незнакомая девица, решившая присоединиться к процессии, ухватила за другое запястье. Первой мыслю было вырваться и сбежать — но покидать танец после его начала опять же не позволяли приличия. Издевательство, право слово — хватать незнакомых мужчин и в буквальном смысле тащить плясать можно, а удрать из танца пока он не закончится — нельзя. Опять же, винить кроме себя некого — не надо было ворон считать. Почему-то снова вспомнился брат. Как-то раз, покидая бал под руку с девицей, Рамон сказал — мол, бывают обстоятельства, когда мужчине остается только смириться с происходящим. И засмеялся. Признаться, подобное веселое разгильдяйство каждый раз изумляло до невозможности — вместо того, чтобы заботиться о душе, брат летел по жизни, точно наделенный бессмертием. Но в то же время его желание поймать за хвост ускользающий миг было таким понятным — и таким заразительным, даже сейчас, под патиной воспоминаний. Эдгар тряхнул головой. В конце концов: на балы ходят показать себя — дабы свет не забыл, что есть такая персона — и повеселиться. В первом нет нужды: он не светский человек и никогда им не будет, хотя бы в силу происхождения. Что до «повеселиться» — а почему, собственно, нет? Ну и что с того, что всех присутствующих здесь учили танцевать едва ли не с рождения, а сам он занялся этой хитрой наукой только когда настоял учитель фехтования — мол, нет способа лучше для того, чтобы в совершенстве овладеть телом. Велика премудрость, в конце-то концов. На ноги он не наступит, пусть не надеются — спроси его, кто будет надеяться и почему, Эдгар вряд ли ответил бы. Он поймал взгляд рыженькой, улыбнулся в ответ. В конце концов, на балу нужно веселиться, и он будет веселиться и пропади все оно пропадом!
Мелодия закончилась, цепочка рассыпалась. Девушка нехотя выпустила его ладонь. Ученый подал руку — после окончания танца нужно проводить даму туда, где она стояла до приглашения. Конечно, «приглашением» это назвать сложно, и вообще, кто кого еще пригласил — но в этом танце, вспомнил он, вольности дозволялись.
— Ты из свиты посла?
Эдгар подумал с полмига — согласиться, пожалуй, было проще, чем объяснять. Тем более, что по большому счету так оно и было.
— Когда он приезжал в прошлый раз, я тебя не видела.
— В прошлый раз меня не было. — Он взял у проходящего мимо слуги кубок с вином, предложил девушке. Та кивнула.
— Впервые, значит? И как тебе у нас?
— Пир великолепен. Девушки — если судить по тебе — тоже. Остальное не успел разглядеть.
Этикет предписывает улыбаться и говорить комплименты. Оказывается, это не так трудно. Нужно лишь перестать думать о том, как выглядишь со стороны и увидеть собеседника. Или собеседницу, как сейчас. Добрая еда, хорошее вино — немного, чтобы лишь чуть-чуть захмелеть — очаровательная девушка… Этого хватит для того, чтобы на время забыть о том, что он здесь чужой. Нет-нет, Эдгар отнюдь не строил планы на ночь после бала, упаси господи. Но пока не назначен постриг и не определено время строгого поста перед обрядом — можно не только поговорить, но и потанцевать. Он, правда, не знает слов, но по большому счету, когда прислушивались к тому, кто поет во время танца а кто нет?
— Будешь моим кавалером? Тот с кем меня посадили — в годах и не танцует. Я видела, ты тоже стоял один.
— Почту за честь.
На самом деле, отказываться было бы в любом случае неприлично. Эдгар проводил взглядом короля, покидавшего зал — не так давно он сам собирался тихонько исчезнуть вслед за государем. Правда, сейчас уходить расхотелось совсем.
Они пили, танцевали и разговаривали. После второго кубка Эдгар перестал брать вино — хватит, пожалуй. Кажется, он перестал клевать носом после пары глотков, но напиваться не годилось. Жаль, что рыженькая не останавливается — смех ее становился все громче и ученый начал всерьез размышлять, как бы увести ее отсюда, пока не перебрала. Опекать перепившую женщину ему до сей поры не приходилось. Признаться, ему не приходилось и видеть пьяных женщин — но если они выглядят и ведут себя так же, как пьяные мужчины — то избави боже от такого зрелища. Впрочем, оказалось, что он зря беспокоился.
— Хватит. — Сказала она, отдавая слуге пустой кубок. — Устала. Давай еще один кароль — и хватит.
Они прошлись в танце. Остановившись, Эдгар задумался. Что делать, когда девушка собирается домой, он не помнил. Точнее помнил — но не местные правила а то, что было принято дома.
— Где твои родители?
— Зачем они тебе? — Изумилась рыженькая.
— Прости, я не знаю, как принято поступать здесь. — Он смутился. Судя по тому, что девушка осталась без кавалера, она не замужем. А незамужние девицы выезжали в свет исключительно с родителями. Им и следовало передать дочь с рук на руки после того, как она захочет домой. Правда, в те разы, когда Рамон уезжал с бала без него, он отнюдь не торопился оставлять даму с родными. Эдгар попытался припомнить — а вообще хоть раз брат спрашивал разрешение у родителей проводить их дочь — и не смог. Девушка здесь сама себе хозяйка — но неужели до такой степени?
— Нет, здесь этого не нужно. — Рассмеялась девушка. — Здесь кавалер провожает даму домой — если она не замужем, конечно.
— Хорошо. — Обреченно согласился ученый. На улице наверняка глубокая ночь. Искать обратный путь в темноте, в чужом городе — не слишком-то приятная перспектива, но куда деваться? Назвался груздем…
— Тогда пойдем? — Она положила руку на предложенный локоть.
В коридорах дворца с непривычки можно было заблудиться. Эдгар порадовался, что господь наградил его чувством направления и хорошей памятью — он никогда не забывал места, где был и никогда не плутал.
— Вон наша коляска. — Указала девушка, когда они вышли из дворцовых ворот. — Но она для родителей — так принято. А даму увозит кавалер.
— Я здесь чужой и еще не обзавелся выездом. — Смутился Эдгар.
— Ничего страшного. Здесь недалеко. — Она помолчала. — Родители всегда возвращаются под утро, сколько помню. Удивляюсь я им: откуда только силы берутся.
Эдгар промычал что-то невразумительное, не забывая смотреть по сторонам. Хорошо, что в этой стране принято мужчинам являться на пиры при оружии. Ночная столица была отнюдь небезопасна, и здесь едва ли дела обстоят по другому.
— Здесь ночами тихо, — Сказала рыженькая, угадав причину его беспокойства. — На окраинах города всякое случается, конечно, но этот квартал рядом с дворцом, и здесь стража не дремлет.
Не то, чтобы это сильно успокоило ученого, но желание то и дело проверять, на месте ли меч, пропало. И то хорошо. Ее дом и в самом деле оказался неподалеку. У ворот Эдгар остановился.
— Ты чего встал? — удивилась она. Взяла за руку: — Пойдем ко мне.
Эдгар на миг лишился дара речи. Вот так просто? И… Нет, она в самом деле была хорошенькой, но…
— Я не могу.
— Не можешь? — В ее голосе было столько недоумения, что ученый смутился окончательно.
— То есть могу, но… — Он ругнулся, не заботясь о том, поймет ли его девушка. Да что за день сегодня! — Я дал обет.
— Дама, которой ты дал обет, простит. — Она прижалась всем телом, заглядывая снизу вверх. — Да и не узнает — ведь ты не захочешь ее расстраивать.
— Не дама. Я дал обет богу. — Пропади оно все пропадом, она и в самом деле была хорошенькой. И отказываться становилось труднее с каждой минутой.
— Правда? — Изумилась она. — Что это за бог, которые требует от мужчины предать собственное естество?
Девушка обвила руками его шею, встала на цыпочки так, что губы почти коснулись губ.
— Наши боги велят своим детям любить друг друга.
— Наш тоже. Но бесплотно. Как и полагается детям. — Эдгар попытался снять девичьи руки с шеи — но они обвивали слишком крепко. Не драться же, в самом-то деле?
— Детей тоже. — Ее дыхание касалось губ. — Но чтобы можно было любить детей — нужно любить больших и сильных мужчин. Чтобы потом рождались дети, нуждающиеся в любви.
Он снова выругался — на этот раз про себя. Легко было бежать соблазна, но бороться с ним после долгого воздержания… Руки уже жили своей жизнью, гуляя по узкой спине и та часть тела, которая… к которой девушка прижималась животом — та тоже… словом, не угадать его желания могла бы только статуя, а рыженькая статуей отнюдь не была.
— Ни один бог не может быть настолько жестоким, чтобы запретить своим детям любить. — прошептала она. — Пойдем.
Бывают обстоятельства, когда мужчине остается только смириться с происходящим. Эдгар смирился.
Глава 16
Выехали, как и собирались, на рассвете. Хлодий наотрез отказался забираться в предложенную телегу — впрочем, Рамон ничего иного и не ожидал, спросив лишь для порядка. Парнишка всерьез считал себя воином, и негоже было оскорблять его, принуждая сменить седло на обоз. Ехали медленно, почти шагом: держаться в седле Хлодий мог, но едва ли бы выдержал рысь, не говоря уж о галопе. Оруженосец, правда, уверял, что чувствует себя замечательно и вообще, хоть сейчас в бой, но искушать судьбу Рамон не хотел. Будут еще на веку у парня бои, а сейчас незачем пыль в глаза пускать, да и было бы кому.
Когда они добрались до будущего замка, Рамон глянул на солнце, и приказал Хлодию оставаться за старшего. То есть самому ни в коем случае за работу не хвататься, а как и положено главному, сидеть и командовать. И чтобы к их с Бертовином возвращению стояли шатры, горел костер и пахло обедом. Готовым обедом. А иначе как бы ненароком самого оруженосца, то есть новоявленного старшего не схарчили. Хлодий вздохнул, проводил взглядом спины отца и господина и начал «командовать». По большому счету, стоять у людей над душой нужды не было. В походе все просто: не поставишь шатер — будешь ночевать под открытым небом, не сготовишь еду — будешь ходить голодным. Да и зеленых новичков среди них не было: все дело знали, оставалось лишь разделить обязанности. Даже нанятый недавно ратник взялся за дело вместе со всеми, хотя, признаться, Хлодий немного побаивался, что этот не будет слушаться мальчишку. Но, похоже, господин умел выбирать людей. Отец рассказывал, что Рамон принял под командование дюжину вассалов — всех, кто выжил после страшного боя — и их копья, когда был не старше чем сейчас Хлодий, но как оруженосец не старался, представить себя на месте господина не мог. Благородная кровь есть благородная кровь, и рабочей коняге никогда не сравняться с чистопородным боевым скакуном, пусть даже в родословной у коняги затесался кто-то чистых кровей. Но Хлодий знал, что будет стараться изо всех сил, чего бы то ни стоило.
Солнце поднималось все выше. Дела шли своим чередом: на поле выросли шатры, затрепетал на ветру красный с серебром стяг. В котле над костром булькала похлебка. От запаха подводило живот, но приниматься за еду, пока не вернутся Рамон с Бертовином было негоже. К тому же, судя по солнцу, ждать оставалось недолго.
Поначалу никто не понял, откуда раздался крик. Хлодий вскинулся, оглядываясь: через поле бежал деревенский мальчишка, несся изо всех сил, словно зайчонок от гончих. Но погони за ним не было. Оруженосец вскочил было — нога тут же дала о себе знать — зашипел, приказал оказавшему поблизости воину узнать, в чем дело. Тот сбежал навстречу парнишке, перекинулся парой слов, взяв за руку, повел в лагерь. Хлодий взглянул на разом посурововешее лицо солдата и медленно поднялся. Кажется, ничего хорошего ждать не приходилось.
— Там… — мальчишка всхлипнул. — Там в деревне чужие… тятька велел бежать сюда со всех ног, мол, если найду кого, рассказать. Сказал, должны помочь.
Хлодий на миг изумился — откуда мужики знают, что за помощью нужно бежать сюда. Потом вспомнил, что вчера Рамон со своими людьми здесь уже был — тогда, наверное, и сказал. Впрочем, сейчас это неважно, важно другое.
— «Чужие» — такие как мы, или…
— Нет, они по лесам бродят. Те, кто не хочет, чтобы вы здесь были. Да только от них ни вашим, ни нашим спасу нет — как придут, так оберут подчистую. Да еще и покуражатся вволю.
— Много их?
— Полдюжины.
— Полдюжины? И вы их дрекольем встретить не можете? Чтобы второй раз не посмели прийти?
— Что ты от мужичья хочешь? — Вмешался кто-то из солдат. — Да они от одного вида меча поди в штаны готовы наложить. Лучше скажи, что делать будем? Господина ждать?
Первой мыслью было согласиться. Подождать Рамона, пусть он решает. Господин всегда знает, как правильно поступить, и никогда не ошибается. Самому Хлодию до него, как до неба, и… И что теперь, всю жизнь оглядываться сперва на Рамона, потом на отца, потом еще на кого-то старшего, мудрого и всезнающего? Рыцарь сказал «останешься за старшего», хотя рядом были люди и старше и опытней. Получается, он верил в своего оруженосца? Верил, что случись что, тот сможет что-то решить? Тогда выходит, что дожидаться господина, значит подвести эту веру. Но что если врагов больше полудюжины? Если под неумелым командованием оруженосца кто-то из своих будет ранен, или того хуже, погибнет?
Хлодий потер разом занывшее бедро. Лучше пусть нагорит за самоуправство, чем за бездействие. Что до остального — тому, кто выбрал меч, глупо надеяться умереть в своей постели. Они все, и сам Хлодий в их числе, знали, на что шли. Значит, пусть так.
— Ждать не будем. Надеть броню, и в седла.
— Сам в седле усидишь?
— Придется. Если нет — меня не ждать. Сперва дело, потом все остальное. — он обернулся к мальчишке. — Деревня где?
— Там. — Махнул он рукой.
— Мы вчера там были, найдем. — Вмешался один из воинов.
— Хорошо. Малец, ты тут останешься. За едой пригляди. И если господин вернется раньше нас — расскажешь, что к чему. — Все это Хлодий говорил уже торопливо влезая в доспех. Волнение даже на миг заставило забыть о раненой ноге, но оказавшись в седле, юноша едва не взвыл. Стиснул зубы — выдержит. Должен выдержать. Долг господина — защищать своих подданных, и когда эта земля станет его — как править зная, что не сдюжил с самого начала?
Хлодий не запомнил дорогу, и даже не успел понять, сколько времени она заняла. Не грянуться оземь со всей дури, и не заорать в голос — вот две вещи, которые на самом деле имели значение. Плохой из него воин, если из-за такой ерунды темнеет в глазах, а когда дело доходит до боя, то не остается даже времени на то, чтобы перевести дух и вынуть из меч из ножен.
Впрочем, происшедшее в деревне трудно было назвать боем. Избиение — так будет вернее. Что это за бой, когда нападающих почти вдвое больше? Троих уложили на месте, пикнуть не успели, оставшиеся побросали оружие, сдаваясь на милость победителей. Впряженная в нагруженную телегу лошаденка дернулась было, но пробежав с десяток саженей встала, хлеща хвостом по спине. Хлодий посмотрел на разбросанный в пыли нехитрый деревенский скарб, перевел взгляд на столпившихся мужиков:
— Где чье добро помните? Разбирайте.
Проку с передушенных курей немного, но хоть на суп сгодятся. Среди разношерстного барахла, что крестьяне мигом потащили обратно в дома, помимо еды нашлась и домашняя утварь и даже богато вышитые женские рубахи, что хранятся на дне сундука, переходя от матери к дочери, и надеваются только на праздники. Хлодий брезгливо поморщился: хуже сорок каких, тащат, что поярче а зачем — бог его знает. Кивнул своим:
— Кошельки с них соберите. Нечего добру пропадать.
— Они эти кошельки здесь набили. — Крикнула какая-то женщина. — Наше это.
Хлодий окинул взглядом толпу, углядел бабенку, что старательно пряталась за спину кряжистого мужика. Чистая, целая одежа, а на мужике так и вовсе сапоги. Хотя какая разница, впрочем, насколько зажиточны те, кого ограбили?
— Староста где? — поинтересовался юноша.
Тот самый, кряжистый, в добротных кожаных сапогах растолкал толпу, поклонился.
— Мой господин хотел сегодня поговорить с тобой об оброке и барщине. Я сочту деньги прямо сейчас, при всех, и ты скажешь ему, сколько отнять от назначенного оброка.
Мужик снова поклонился. Довольным он, правда, не выглядел — ну да бог с ним. Хлодий подумал, что за самоуправство, похоже, все-таки нагорит, впрочем, снявши голову по волосам не плачут, и начал пересчитывать деньги. После вчерашней головоломной задачки сущая ерунда. Закончив, спрятал кошель за пазуху, выпрямился в седле, отгоняя подступившую дурноту. Еще немного продержаться. Об обратной дороге даже не хотелось думать.
— С этими что делать? — спросил кто-то, указывая на понурившихся разбойников.
Толпа, собравшаяся вокруг, снова загудела.
— Да вздернуть, и вся недолга!
Один из грабителей бухнулся в земной поклон:
— Не губи!
Хлодий помотал головой, отгоняя ощущение, будто все это уже когда-то было и снова повторяется, как в дурном сне. Вспомнил, и едва не застонал.
— Так что делать-то? — повторил воин.
Тот, что упал на колени, продолжал талдычить о пощаде, остальные двое молчали. Снова отчаянно разболелась нога, хотя только что казалось, что хуже некуда. Хлодий знал, что делать, но… Он зарубил бы этих троих в бою не задумываясь — если бы смог одолеть, конечно. Он знал, что они заслужили смерть. Но приказать повесить безоружных язык не поворачивался. И отпускать их было нельзя. Отдать крестьянам, и пусть делают, что хотят? И он будет не при чем, совсем не при чем, это все чернь…
— Что тут творится? — раздался сзади знакомый голос, и оруженосец едва не запрыгал от радости. Наконец-то! Господин здесь, вот пусть он и решает. Он всегда знает, как правильно.
Толпа расступилась, пропуская Рамона. Тот подъехал ближе, окинул взглядом происходящее, поняв все без объяснений. Посмотрел на Хлодия:
— Я оставил тебя за старшего. Заканчивай, что начал.
Хлодий судорожно глотнул воздух, словно ему, а не этим предстояло вскоре болтаться в петле. Так нечестно! Да, ему пришлось решать самому, потому что господина не было рядом, но сейчас-то? Сейчас, когда Рамон — вот, рядом, почему именно он, оруженосец, должен… Он попытался поймать взгляд господина, но тот смотрел куда-то на облака, словно происходящее на земле не стоило внимания. Юноша снова мотнул головой, в этот раз отгоняя усиливавшуюся дурноту, прикусил губу, глядя на разбойников. Выдохнул тихо, почти шепотом:
— Повесить.
Веревки нашлись тут же. Видимо, разбойники прихватили чтобы увязать добытое добро, да не успели. Солдаты перекинули петли через ветви росшего тут же тополя. Хлодий подобрал, хотел было сказать, что поедет, пусть заканчивают и догоняют, но чужая рука перехватила удила. Он вскинулся, встретился взглядом с Рамоном.
— Еще не все.
На глаза навернулись слезы. Так нечестно! Хлодий моргнул, прошептал — вслух не получалось, перехватывало горло.
— В прошлый раз ты сам уехал… не стал дожидаться.
— Думаешь, я уехал потому, что боялся увидеть дело рук своих?
— Я не трус!
— Разве я сказал, что ты трус?
Хлодий встретился со взглядом господина — холодным, точно серый весенний лед. И как той ледяной весной захолонуло внутри от сознания, что Рамону было просто все равно, будут ли жить те, кого он просто-напросто не считал людьми. Каким же глупым он был тогда дома, когда просил о милосердии. Жалеть можно равных, ядовитое насекомое милосердия не заслуживает.
Впервые за сегодня Хлодий обрадовался тому, что болит нога, а перед глазами пляшут разноцветные мушки. Как хорошо, что можно думать только о боли. Звон в ушах заглушает крики толпы, а сквозь серую пелену почти не видно, как руки повешенных скребут по горлу, пытаясь сорвать петлю. Как дергаются ноги в последней попытке обрести опору. Как по земле растекается лужа. Можно не видеть, и не думать о том, как на самом деле выглядит право господина казнить и миловать.
Он прождал бесконечно долгие минуты, пока повешенные перестанут дергаться, тронул поводья:
— Возвращаемся.
И сделал вид, будто не заметил, как люди сперва посмотрели на господина и только после того, как тот едва заметно кивнул, развернули коней.
— Хлодий, Бертовин — останьтесь. — Приказал Рамон. — Остальные — домой, нас не ждите, садитесь за обед. А мы пока со старостой поговорим, как собирались.
Оруженосец, вспомнив, вытащил из-за пазухи кошель, в двух словах объяснив, что к чему. Господин коротко кивнул, не пересчитывая бросил деньги в седельную сумку. Спешился:
— Ты, значит, староста.
— Да, господин.
— Что ж, веди в дом, не на улице же о делах говорить.
Мужик засуетился, поминутно извиняясь и винясь за мнимую скудость, повел в дом. Хлодий кое-как сполз с коня. Тут же оказавшийся рядом отец подставил локоть. Хлодий еле слышно поблагодарил, и похромал вслед за господином.
Деревянная лавка показалась истинным даром господним — наконец-то моно было сесть, успокоив ноющую ногу. Та самая горластая бабенка засуетилась, накрывая на стол и тоже поминутно винясь — мол пусть господа не обижаются, отобедают, чем боги послали. Боги послали томленую в печи капусту, хлеб и варево вроде пива, только без хмеля. Хлодий кое-как впихнул в себя угощение — подумать только, полчаса назад он был действительно голоден, и приготовился слушать. Дурнота потихоньку отступала. Если он и в самом деле хочет быть хорошим господином, надо смотреть во все глаза, слушать и мотать на ус. Правда, сейчас Хлодий не был так уж уверен в том, что по-прежнему хочет принять эту землю под свою руку. Разбираться в податях, носиться выбирая, какой участок земли распахать под озимые, и куда пустить овец, водить копье в походы по приказу сюзерена и даже после самого тяжелого перехода не ложиться, пока самый никчемный из людей не будет сыт и обихожен. Стоит ли оно того? Спросить было не у кого: Рамон скорее всего даже не поймет сути вопроса — он родился господином и умрет им, не представляя для себя иной доли. А самому Хлодию — нужна ли эта ноша, которую на него просто взвалили, точно на вьючную лошадь и приказали — вези. Точно так же, как с той вьючной конягой зная, что — вывезет.
Хотя когда судьба спрашивала. посилен ли груз?
Хлодий вздохнул и заставил себя внимательно слушать, о чем господин говорит со старостой. Спросили — не спросили, какая теперь разница? Он не капризный ребенок, он мужчина, и хныкать не будет.
Закончив разговор, все трое вышли. Староста проводил их до калитки, низко кланяясь. Он очень удивился, узнав, что замок будет ставиться в расчете на то, чтобы в случае чего за высокими стенами могли укрыться и жители деревень со скарбом и скотиной. Похоже, здесь подобный обычай не водился. И Хлодий готов был поклясться: сознание того, что придется не просто отрабатывать постылую барщину, а строить добрую защиту и для себя тоже, его потрясло. Значит, несколько дней все три деревни будут гудеть, только о том и говоря, а потом придут — и выстроят. И вал и ров, и добрый частокол в два человеческих роста, и башню. И не пикнут, потому что делать будут не только для господина — но и для себя. А то, что господин в беде не оставит, они видели. Только что.
— Бертовин, Бери Хлодия и домой. — сказал Рамон, взобравшись в седло. — Хватит с него на сегодня, и без того как бы рана не вскрылась. С остальными сам поговорю.
— Одного не оставлю. — Ответил Бертовин.
— Я. На своей. Земле. И бояться мне некого.
Хлодий подумал о том, что достаточно напороться на недобитков, вроде сегодняшних — и пиши пропало. Он даже открыл было рот прежде, чем вспомнил, что отроку подобает помалкивать, помня, что у него два уха и один язык, а не наоборот. И промолчал, увидев, как схлестнулись взглядами отец и господин, и как отец опустил глаза.
— Как прикажешь.
— Вернусь — поговорим. — Голос Рамона снова был спокоен, точно ничего не случилось. Бертовин кивнул, и развернул коня. Хлодий последовал за ним.
Они долго ехали молча, Бертовин — занятый своими мыслями, Хлодий — ногой. Но думать только о том, скоро ли кончится путь, было невыносимо: казалось что время просто застыло, издеваясь. И он спросил о том, что давно не давало покоя, набравшись смелости только сейчас.
— Отец, скажи: ты рад, что все так обернулось?
Бертовин ответил не сразу: долго глядел куда-то вдаль. Потом заговорил — медленно, точно припоминая что-то.
— Когда я был таким как ты то часто думал, что было бы, признай отец меня наследником: ведь я родился до того, как его жена выносила первенца.
Хлодий хотел было сказать что он-то тут при чем, он спрашивал не об этом — и прикусил язык в который раз за день. За отцом не водилось склонности к пустопорожним воспоминаниям, никогда он, подобно другим людям в возрасте не начинал петь о том что, мол, мы в ваше время… Неспроста он заговорил об этом, ой, неспроста…
— И даже проклятье меня не пугало тогда, оно казалось чем-то не имеющим значения — подумаешь все мы смертны, в а том возрасте каждый год — вечность. — Он вздохнул. — Стыдно признаться, приди тогда кто, и скажи: владей, я бы согласился не задумываясь, я бы… я бы даже согласился пойти против людей, что меня вырастили. Только потому что мне тогда казалось великой несправедливостью: моим единокровным братьям будет принадлежать все, а мне только и остается, что верно служить и не требовать большего.
Хлодий уставился на отца. То, о чем он говорил, было неправильным. Немыслимым.
— А потом я похоронил их. Одного за другим. Человек — странное существо, пока они были живы, я им завидовал, и только стоя над гробом понимал, что — любил. Только мертвым уже об этом не расскажешь.
Он снова надолго замолчал.
— Не знаю, когда я понял, что оно того не стоит. Может, просто стал старше. Юности кажется, что лучше сгореть быстро, но ярко, а потом начинаешь ценить жизнь. Я не боюсь смерти, ты знаешь. Но… Я пережил братьев, пережил их детей…. Рамон последний. Я вижу, что мой сын стал мужчиной и, даст бог, увижу, как выросли внуки. А они уходят один за другим, и не остается даже памяти — лишь страницы в семейных летописях. Нас помнят те, кто нас любит, а их дети растут, никогда не видя отца — не все, конечно, но много ли помнит ребенок? Не стоит оно того. Совсем не стоит.
Хлодий никогда не задумывался о таких вещах. Мысль о том, что изменись много лет назад какая-то малость — а в роду были случаи, когда бастардов усыновляли по всем правилам, когда законная жена не могла зачать наследника — и сейчас он сам мог бы водить людей под своими знаменами, была неожиданной. И страшной. Он отчаянно замотал головой, отгоняя наваждение.
— А теперь выходит, что ты получишь то, чем я грезил когда-то. — продолжал Бертовин. Землю. Титул. Возможность смотреть людям прямо в глаза и не чувствовать себя ублюдком. И без проклятья впридачу. Так что, да — я счастлив. Но — сам-то ты чего хочешь?
Хлодий задумался. До сих пор жизнь казалась предсказуемой и размеренной. Сейчас…
— Я не знаю. Я думал… Пока буду ходить с господином, потом, когда… потом с тобой вернемся домой, буду возиться с мальчишками. Смотреть, чему учишь их ты, учиться сам. Потом, может быть муштровать гарнизон, водить копье, когда то потребует сюзерен, как законный представитель несовершеннолетнего графа пока будешь ты, ведь так? Женюсь… А теперь — не знаю. Чернь говорит: жизнь господина беззаботна, балы, пиры да охоты. А я всегда видел совершенно другое, и…
— Многие господа тоже считают, что их дело — балы, пиры да охоты. — Заметил Бертовин. — И нам с тобой очень повезло, что Рамон не таков.
Хлодий улыбнулся:
— Сидели бы в замке, пьянствовали и копили жирок. Нога была бы цела точно.
Бертовин рассмеялся. Потом негромко ответил:
— Я рад, что могу гордиться службой такому господину. Я знаю, что смогу гордиться службой тебе. Но я еще и отец, и я хочу, чтобы мой сын был не только настоящим мужчиной и доблестным воином. Я хочу, чтобы ты был счастливым, сынок.
Хлодий сморгнул неведомо откуда взявшиеся слезы — давно, очень давно отец не говорил с ним… так.
— Пап, я правда, не знаю. Когда мне сказали — я был счастлив и горд, а сейчас…
— А сейчас ты на своей шкуре почувствовал, что значит быть господином.
— Да. Но… — он задумался. — Да, пожалуй, я все же хочу этого. Хочу знать, на что я способен. Просто все слишком неожиданно. Трудно привыкнуть.
— Привыкнешь. — пообещал Бертовин.
Здравствуй.
Скажи, о чем ты писал матушке? Второй день ходит злющая, что помойная кошка, как раз как последнее письмо принесли. Бабы сидят по комнатам притихшие, я грешным делом вообще хотел было смыться из замка куда подальше. Потом решил, что ну его, хуже будет, и засел в библиотеке. Старые манускрипты отлично помогают отвлечься от разъяренных женщин.
Впрочем, вечером ко мне зашли пожаловаться. Ничего не понял, за исключением того, какие мы с тобой оба неблагодарные сыновья. А «этот» — ну, ты знаешь, кто у нее «этот» — и вовсе тварь, о которой говорить нечего. Сбил тебя с пути истинного, без его пагубного влияния ты бы никогда с родной матерью так не поступил. Что вы вдвоем натворили? И что ты сделал с Эдгаром? Что бы там не шипела матушка, мы-то с тобой знаем, что этот тихоня (и что только ты в нем нашел) мухи не обидит. Так что чем бы вы матушку не задели — это явно твои проделки. Рассказывай.
Что до «благодарности»… Господи, как хорошо, что я хоть с кем-то могу быть откровенным. Трудно испытывать благодарность, когда ее вытаскивают из тебя пыточными клещами. Еще труднее любить… я сейчас скажу то, что, будь я хорошим сыном не сказал бы никогда — но я не хороший сын. Недавно я понял, что у меня не осталось к ней ничего светлого. Любви тоже. Ничего, кроме глухого раздражения. Так нельзя, это неправильно — и я ненавижу себя за это. Но видит бог, я старался быть хорошим сыном. Всю жизнь старался. А сейчас мне уже безразлично. Если я все равно буду плох, как бы не поступил — так хотя бы буду поступать так, как хочется мне, и гори оно все синим пламенем.
Я не могу простить одного — что на самом деле мы никому не нужны. Нас женят, едва начинает стоять, и мы рожаем детей, которые тоже никому не нужны. Потому что на самом деле все только ради одного — чтобы не пресекся род. Чтобы побыстрее минули те девять колен. Обмануть проклятье, чтоб его — только для этого мы и нужны. Производители, которых списали со счетов еще до рождения.
Да, у меня родился сын. Похож я на счастливого папашу? Мальчик ни в чем не виноват, да и жена тоже — но вместо того, чтобы радоваться мне хочется завыть белугой. Мы с тобой никогда не говорили об этом и все же спрошу — каково ощущать себя элитным хряком? Как по мне — мерзко до невозможности.
Почему-то мне кажется, что ты давно это понял — ведь не зря женился так поздно, и, овдовев, не стал искать другую жену. Ты как-то всегда умел плыть — нет, не против течения — а плыть туда, куда нужно именно тебе. Этому умению я когда-то тоже завидовал… сейчас, наверное, нет. Сейчас я хочу научиться, пусть поздно, но все же самому управлять своей судьбой. Как бы немного мне не осталось.
Обидней всего, думаю, будет девятому колену. Их дети окажутся свободны от проклятья, а сами они — нет. Впрочем, нам с тобой к тому времени уже станет все равно.
Рихмер.
Глава 17
Эдгар вернулся под утро. Девушка оказалась опытной и искусной, и оставалось только надеяться, что и он сам не ударил в грязь, гм, лицом. Впрочем, Эдгар крепко подозревал, что рыженькой был интересен не столько он сам, сколько что кроется у чужеземца под одеждой, и убедившись, что в общем то же самое, что и сородичей, девица оставит его в покое. Он знавал многих, кто сперва сладострастно предавался грехам, а потом с не меньшим сладострастием каялся. Уподобляться не хотелось, но и уверенности, что в случае чего удастся устоять пред соблазном тоже не было. Эдгар выругался, тоскливо глянул на занимающийся за окном рассвет, предвкушая, каково через несколько часов будет просыпаться. И провалился в сон, едва донеся голову до подушки.
Конечно же он проспал: едва хватило времени прочесть молитву, а о завтраке можно было и не думать. Впрочем, в былые времена приходилось жить голодным едва ли не по неделе и подобные мелочи давно не имели значения. Несложно поститься зная, что вечером ждет сытый ужин. Гораздо хуже было то, что он не знал, как себя вести. Можно сколько угодно повторять, что здесь можно остаться наедине с девушкой и не иметь ввиду ничего постыдного, все равно при мысли о том, что придется несколько часов находиться рядом с принцессой без свидетелей, становилось не по себе. Нет-нет, он не собирался повторять ночные подвиги — Эдгар осенил себя священным знамением, не обращая внимания на косой взгляд слуги, что вел по коридору. Но все равно, происходящее было неправильным.
Слуга провел куда-то во внутренний двор — Эдгар так удивился, что на миг перестал сокрушаться — и остановился у беседки посреди лужайки. Внутри уже стоял стол и пара стульев, на столе оказались приготовленными чернила и пергамент. Эдгар внимательно огляделся: решетчатые стены беседки совершенно не скрывали происходящее внутри от посторонних глаз. Вознес про себя благодарственную молитву: король этой державы определенно был мудр. Что плохого в том, что принцесса и ее учитель будут заниматься посреди цветущей лужайки вместо того, чтобы сидеть в четырех стенах?
Ученица не заставила долго ждать.
— Здравствуй. — Она говорила слегка запыхавшись, точно только что бежала. Впрочем. через лужайку девушка и в самом деле пронеслась вприпрыжку. Судя по всему, вне приемов ее никто не муштровал, выговаривая за неподобающее поведение. Тем более, что выглядеть воплощением царственного достоинства девушка умела — вчера у Эдгара была возможность убедиться в этом. Он поклонился:
— Здравствуй, государыня.
— Талья. Садись.
Эдгар все же дождался, пока она опустится на стул прежде чем сесть самому.
— Судя по твоему виду, выспаться не получилось. — Сказала принцесса. — И как тебе гостеприимство наших девушек?
— Государыня…
— Талья.
— Как прикажешь. Талья, подобные вещи я не намерен обсуждать ни с тобой, ни с кем-либо другим.
Она откинулась на спинку, откровенно изучая стремительно краснеющего учителя.
— А если я прикажу?
— Мне придется не подчиниться.
— Вот как? А ты знаешь, что тебя могут казнить по одному моему слову?
Эдгар выдержал пристальный взгляд. Нельзя сказать, чтобы угроза совсем уж не пугала — от сильных мира сего можно ожидать чего угодно. И все же…
— Господь повелел не бояться тех, кто способен всего лишь погубить тело. Гораздо страшеннее обречь душу на вечную гибель. Я в твоей власти — но душа подвластна лишь Ему — и Ему я и исповедаюсь, когда придет время.
— Воистину, ночью ты предавался душеспасительному занятию. — Хмыкнула принцесса, отводя взгляд.
— Он разберется. И раз уж мы коснулись спасения души — давай начнем с символа веры. Верую…
— Знаю. — Перебила она. — Вот, не дали посплетничать.
— Если знаешь, говори.
— Зануда.
— Я жду.
— Верую в единого господа, сущего вовеки…
Она в самом деле знала символ веры. И катехизис — в этом Эдгар убедился спустя час настойчивых расспросов. Чем дольше шел урок, тем лучше становилось настроение: девушка и впрямь обладала острым умом и хорошей памятью. Вызубрить может любой — понимать немногие, а она действительно понимала, о чем рассказывает. Не ученица, а одно удовольствие. И даже ее капризы не были такими уж страшными — купеческие сынки порой вытворяют и не такое. Расслабляться, конечно, было рано: Эдгар готов был поспорить на что угодно, что принцесса еще не раз попробует проверить его на прочность. Оставалось только надеяться, что ей не придут в голову школярские каверзы вроде намазанного рыбьим клеем стула или натянутой в дверном проеме веревки, за которой приготовлена посудина полная помоев. А девичьи капризы пережить можно. Наверное.
— На сегодня достаточно. — Сказал он, наконец. — Благодарю за беседу, принцесса, она была воистину приятной. Завтра поговорим о том, как вести себя в храме и, наверное, начнем разбираться в таинствах.
Девушка кивнула:
— Как скажешь. Но прежде, чем я тебя отпущу… Расскажи, каков из себя мой жених?
Признаться, в первый миг ученый растерялся. Что сказать о человеке, который удостоил его лишь приветствия, да одного-единственного разговора, больше напоминавшего допрос? Рамона бы сюда — уж тот бы рассказал. Но брата здесь нет, а сам Эдгар знает, пожалуй, немногим больше, чем последний из подданных герцога. Впрочем, что обычно интересует женщин?
— Герцог высок и статен. Приятное лицо, хорошие манеры… Дамы говорят о нем как о галантном кавалере…
— Я не о том. — Перебила принцесса. Портрет я видела. И даже если учесть то, что придворные живописцы способны сотворить с человеком… Боги, видел бы ты мой портрет, от такой расфуфыренной куклы сама бы сбежала, только пыль столбом, будь я мужчиной. — Она рассмеялась. — Но это неважно на самом деле. Даже если счесть, что портрет далек от реальности, с лица воду не пить. Каков он? Добр и великодушен? Мелочен и завистлив? Умен? Бездарен?
— Принцесса…
— Талья.
— Прости, мне сложно судить о человеке, которого почти не знаю. Я всего лишь бастард и в тех кругах, где вращаются люди, подобные твоему жениху, я меньше, чем никто.
— Бастард? — она нахмурилась, пробуя на вкус незнакомое слово. — Кто это?
— Незаконнорожденный.
— Не понимаю.
Эдгар, как мог, объяснил. Потом еще раз, другими словами. Право слово, не будь предыдущих двух часов, он счел бы, что принцесса непроходимо глупа. То, что рожденный вне брака ребенок позор для женщины и вечное несчастье для него самого казалось очевидным — но не для Тальи.
— Я знаю, что вы предпочитаете брать в жены девственниц. — Сказала она. — По мне, это глупо. Даже оставив в стороне то, что неопытная женщина может оказаться просто скучна, особенно если у мужчины недостанет терпения и чуткости да и опыта, если он сам юн… Впрочем, мне трудно об этом судить, не зная мужчины. Но как можно брать в жены женщину, не будучи уверенным, что она родит здоровых детей? Конечно, можно строить предположения… если она широкобедра и крепка телом, если ее мать многоплодна… пусть так, пусть вам хватает этого. — Принцесса снова нахмурилась. — Но я все равно не понимаю: если женщина выносила и родила, и ребенок жив, не болен и не урод… Тот, кто захочет взять ее в жены должен радоваться и гордится: она родит ему сыновей, здоровых и сильных. А ты говоришь, что ее не только не возьмут в жены, но и покроют позором… и хорошо, если не превратят в публичную девку — а чаще всего случается именно это.
Эдгару отчаянно хотелось провалиться сквозь землю. Слышать подобное из уст юной, и, судя по ее же словам, невинной девушки казалось немыслимым. Да она вообще не должна знать ничего из того, о чем совершенно серьезно и без тени смущения рассуждает!
— Потому что плотское соитие есть грех. И наказание за него падет на женщину, ибо она источник соблазна. — Он едва не добавил, что минувшей ночью убедился в этом воочию. Хотя «воочию» не совсем то слово.
— Грешат двое, а карают одну? — Морщинка между ее бровей, казалось, залегла навечно. — Но пусть так… мне странно, что ваш бог, который станет и моим, рассудил так, но прихоти богов недоступны пониманию смертных. Пусть так… но как же супружество? Оно тоже греховно? Ведь как-то вы продолжаете род?
— Супружество есть освященный господом союз, и только в нем возможно зачатие, угодное ему.
Принцесса долго молчала.
— Поэтому вы и цените девственность? Как вещественный знак того, что девушка блюла заветы бога?
Эдгар очень некстати припомнил фривольный трактат, когда-то попавший в руки. Автор того сочинения на нескольких страницах размышлял, что лучше для достойного мужа: достанется ли ему жена, лишившаяся невинности, или невинная до свадьбы, начнет изменять после? Выходило, что достойней быть первым, а там хоть трава не расти, ибо женщина изменит все равно, такова уж ее натура. Но почему-то сейчас Эдгару показалось, что сия логика имела мало общего с божьим промыслом. Быть первым — отчетливо отдавало гордыней. Впрочем, что ожидать от сочинителей фривольных трактатов?
— Да, так и есть. — Сказал он вслух. — Знание, что девушка, которую тебе любить и лелеять до конца жизни, невинна пред господом, что она способна устоять пред соблазном — это знание бесценно. Но принцесса, если позволишь… я бы не советовал тебе обсуждать подобные темы с кем бы то ни было. Такие разговоры способны даже самой благонравной деве создать репутацию распутницы.
— Если соитие вне брака греховно, то разговоры о нем несут отпечаток греха. — Догадалась девушка. — Благодарю, я запомню. И все же, если у меня появятся вопросы — позволишь обсудить их с тобой? Усердие в вере похвально, но как ты сказал вчера, едва ли у меня будет возможность блеснуть познаниями в богословии. А там, где наши понятия оп приличиях разнятся, слишком легко попасть впросак.
Эдгар кивнул, про себя подумав, что деваться все равно некуда.
— Хорошо, вернемся к началу. — сказала принцесса. — Так каков из себя мой жених?
Эдгар подумал, что если бы работа ума была сравнима с движением колеса — его разум давно бы издавал скрип плохо смазанной телеги. Слишком много неудобных вопросов для одного человека.
— Господь повелел судить о дереве по плодам. — Медленно произнес он. — Расскажу то, что знаю, а делать выводы придется тебе. О его старшем сыне говорят только хорошее. Младший же умен, но необуздан в плотских радостях. Впрочем, я часто слышал, что в одной семье старший и младший разнятся, как день и ночь… поэтому трудно сказать, кто из сыновей герцога стал таким, каков есть благодаря отцовскому воспитанию, а кто — вопреки.
— Дальше.
— Но он вырастил моего брата: с семи лет, когда мальчиков из знатных семей отдают на воспитание сюзерену — и до того дня, как тот заслужил рыцарство. Более достойного мужа я не знаю.
— У нас был похожий обычай. — Принцесса подперла кулаком подбородок. — Только на воспитание брали старших сыновей вождей покоренных племен.
— Заложников? — едва не поперхнулся Эдгар. Это ж надо, сравнить воспитание будущего рыцаря, призванное сохранить воинские традиции и истинно рыцарский дух, со взятием заложника.
— Можно сказать и так. У нас предпочитали говорить «воспитанники». Очень практичный способ: с одной стороны, держит в узде вождя. С другой, пока мальчик войдет в возраст, он успеет полностью перенять обычаи и нравы воспитателей… Но мы снова ушли куда-то в сторону. Дальше.
Эдгар подумал, что если так пойдет и дальше, он обретет не только железную выдержку, но и изворотливый ум. Потому что в который раз приходится смирять возмущение и вместо того, чтобы разразиться гневной тирадой, искать доводы разума. Куда там ученому диспуту! Впрочем, сейчас не время размышлять о том, чем воспитание юного рыцаря отличается от выращивания то ли заложника, то ли нового вождя покоренного племени. Пусть даже сравнение кажется чудовищным. Не время.
— Полагаю то, что герцог отправился добывать корону в чужие земли, говорит о многом. Не каждый предпочтет честную битву интригам и братоубийству.
Принцесса покачала головой.
— Наверное. Я бы хотела согласиться с тобой. Но это может говорить как о чести, так и о том, что просто-напросто ваш король — сильный повелитель. И брат понимает, что не сможет с ним потягаться.
Воистину, принцесса оказалась невыносима. Что за странная прихоть — во всем искать низменные черты, превращая доблесть в себялюбивую расчетливость? Неужели каких-то полчаса назад эта девушка казалась ему любознательной и разумной? Эдгар привык искать в людях прежде всего хорошее, и, случалось, ошибался. Неужели и в этот раз за прекрасным лицом и острым умом кроется порок?
— О полководческих талантах герцога судить не могу. — Сказал он сухо. — Равно как и о государственной деятельности. И больше право, мне нечего добавить.
— Как странно… — девушка смотрела куда-то сквозь учителя, словно размышляя вслух. — Ты умен, но совершенно ничего не умеешь сказать о человеке. Как он одевается: предпочитает ли щегольству удобство или готов пожертвовать им ради внешнего лоска? Как ведет себя с равными и как обходится с теми, кого судьба обделила знатностью? Блюдет ли обычаи или позволяет себе пренебрегать установленными порядками зная, что при его знатности почти все сойдет с рук? Окружает себя льстецами или готов смириться с непочтительностью ради дельного совета? — она замолчала, перевела испытующий взгляд на Эдгара. — Для того, чтобы судить об этом необязательно близкое знакомство. Достаточно держать глаза и уши открытыми.
— Но…
— Помнишь, как звали девушку, с которой ты провел ночь?
— Принцесса… — щеки снова налились свинцовой тяжестью. — Прости, но, кажется, я уже сказал, что…
— Я не спрашиваю, что именно вы проделывали в постели. — Перебила Талья. — Но имя — помнишь?
Эдгар запоздало сообразил, что даже не спросил, как зовут рыженькую. Тогда это казалось совершенно неважным. Сейчас — неважным вдвойне, он не собирался продолжать знакомство. И все же, было в случившемся что-то неправильное. Да катись оно все к демонам, с самого начала все было неправильно! И, да, кто интересуется именем портовой шлюхи? Но по местным обычаям, к которым Эдгар никак не мог привыкнуть, рыженькая шлюхой как раз и не была. Может быть, немного ветреной, да. Но не шлюхой. Или она все же называла имя, а он пропустил мимо ушей, сперва занятый своими переживаниями, потом… снова переживаниями, но уже другими. Припомнить не получалось, хоть убейся.
— Я… — он пристыжено замолчал.
— Какой трактат ты прочел последним, и кто его автор?
— Роланд из Гертона. «Что есть ересь?»
— То-то и оно, — вздохнула принцесса. — Грустно.
— Прошу прощения?
— Грустно то, что ты видишь лишь себя или свое отражение в других. Люди тебе неинтересны. Предпочитаешь живым — мертвые книги.
Эдгар хотел было возразить, и в который раз замер на полуслове. Просто потому, что понял, что эта девчонка — девчонка, будь она хоть трижды принцессой — попала в точку. Он не любил людей. Нет, он любил брата, был искренне благодарен приемной матери — как бы холодна та не была, в другой семье его бы просто выбросили на улицу. Он чтил ректора, словно приемного отца — до какой-то степени тот им и был. Но людей, не какого-то человека, а людей он не любил. Да и за что бы их любить? Толпу, безмозглую, развратную, неспособную ни к чему доброму? Но ведь толпа — она как раз и состоит из людей? Таких как он, сам, как брат или тот же ректор… или как Дагобер, которого он недолюбливал, как ни старался быть беспристрастным. Но незачем принцессе знать, что она попала. И он сказал о другом.
— Книги не бывают мертвы. Если они настоящие. Они — воплощение человеческого бессмертия.
— Пусть так… Но люди — те, кого мы любим — единственное, что имеет настоящую ценность.
Эдгар покачал головой. Очень хотелось сказать, что в отличие от людей книга не предаст, не оскорбит лишь за то, что не вышел происхождением, и не проклянет за чужой грех. Но незачем открывать душу перед этой чужой девочкой, выросшей в холе и неге. Все равно не поймет.
— Не веришь… — сказала она. — И не поверишь. Пусть так. Ступай — время обеда. Отдохни Через два часа жду тебя здесь — и оденься для верховой прогулки. Должна же я исполнить долг гостеприимства и показать тебе столицу. И окрестности.
— Принцесса…
— Я так хочу. Разве этого недостаточно?
— Как прикажешь государыня.
— Ступай.
Эдгар слышал, что многие, поспав днем, до вечера теряют бодрость и ясность ума. К счастью, самому ему никогда не доводилось испытывать ничего подобного. Вот и сейчас короткий полуденный сон не только освежил, но и привел в порядок мысли. Незачем принимать близко к сердцу все, что скажет принцесса. Купеческие сынки проверяли учителя на прочность, подкладывая на лавку колючки. Принцесса — роняя в душу колючие семена сомнения. Ничего из ряда вон выходящего. Отнестись как к очередному диспуту, и только.
Как и было приказано, через два часа он стоял у беседки. Менять наряд Эдгар не стал: повседневная одежда, годилась как для занятий, так и для верховой прогулки. А вот принцесса не только стянула волосы в косу, но и переоделась, сменив утреннее платье на тот подобие мужской одежды, что носили белонские девушки в таких случаях. Рубаха тонкого шелка, перепоясанная широким кушаком, заправленные в высокие сапожки штаны, легкая безрукавка надетая скорее для того, чтобы не вызывать нескромные взгляды, нежели для тепла: лето хоть и подходило к концу, но до прохладных дней было еще далеко. Будь Эдгар более самоуверен, он бы. пожалуй, заподозрил, что безрукавка надета только из-за него. Вчера он разглядывал принцессу довольно бесцеремонно, а тонкий шелк слишком откровенно обрисовывал то, что полагалось бы скрывать. Но самоуверенным ученый не был, а потому подумал об утренней нотации. Как там сказала принцесса — предпочитает удобство внешнему лоску или наоборот? Хорошо, посмотрим.
Одежда принцессы сделана из дорогих тканей: что шелковая рубаха, штаны добротного льна — забавная, правду говоря, вещь. Но крой выглядел простым. Вышивка не блестела ни золотом, ни серебром, да и сам орнамент лишь узкой полосой окаймлял ворот, рукава и подол: кажется, местные суеверия считали такую вышивку чем-то вроде оберега. Ни золота, ни дорогих камней — впрочем, тут, похоже, носили драгоценности только по особым случаям, не то, что при дворе герцога. Появиться там без перстней, серег, тяжелых цепей и драгоценных заколок на плаще, не говоря уж о мелочах вроде браслетов, считалось дурным тоном. На принцессе же из по-настоящему драгоценных вещей были лишь шелковые перчатки расшитые мелким бисером. Да и те, скорее всего, надеты лишь для того, чтобы не испортить руки поводьями. Единственное украшение — алая лента в косе. Ну и скажите на милость, какие выводы можно сделать, даже разглядев одежду до последней ниточки? То, что девушка знатна и богата? Так это известно и так. А о чем еще можно подумать? Впрочем. подобная манера одеваться напомнила брата. Тот тоже не любил блеска, но при этом подчеркнутая скромность одежды стоила немалых денег — в этом Эдгар убедился во время приснопамятных посещений портного. Он улыбнулся воспоминаниям и поймал себя на мысли, что на какой-то миг чужая девчонка показалась неожиданно близкой — лишь потому, что померещились черты родного человека. Эдгар отогнал наваждение и пошел за принцессой туда, где их ждали оседланные кони. И охрана. Три рослых воина в кольчугах под кафтанами.
Эдгар подумал, что хлеб телохранителей наверняка несладок: сам он ни за какие коврижки не согласился бы по такой погоде париться в поддоспешнике и кольчуге. Мимолетно подивился, что среди сопровождавших принцессу не было ни одной женщины, потом вспомнил, что здесь считается зазорным сторожить целомудрие девушки. Надо как-нибудь выбрать момент и рассказать Талье, что после того, как та приедет к жениху, подобные прогулки будут заказаны. Только в сопровождении мужа или почтенной женщины. И уж никак не с четырьмя мужчинами, пусть даже все они лишь прислуга. Конечно, нравы в Агене куда более свободные, нежели в столице. Но супруге герцога — а пожалуй что пора отвыкать называть его герцогом — королеве едва ли будут дозволены подобные вольности. Еще, пожалуй, нужно будет испросить аудиенции у короля и сказать ему, что принцессе нужна учительница этикета. Потому что девушка неизбежно начнет спрашивать, а сам Эдгар знал лишь то, что касалось его самого. У дамского этикета несомненно есть свои тонкости, неведомые мужчине, к тому же простолюдину. Так что нужна дама, и из хорошей семьи. Возможно, кто-то из будущих фрейлин — впрочем, это решать не ему.
— О чем задумался? — поинтересовалась принцесса.
Эдгар встряхнулся, объяснил без утайки. Принцесса кивнула.
— Ты прав, я спрошу отца.
— Еще одно… — раз уж заговорили об этикете, лучшего момента, пожалуй не найти.
Между бровей девушки снова появилась складка.
— Значит, никакого уединения. — Сказала принцесса после долгого молчания. — Никогда. Жаль…
— В своих покоях ты сожжешь уединяться сколько угодно.
Она покачала головой.
— Нет. Дворцовая жизнь — один бесконечный ритуал. Одна я смогу быть разве что в спальне, да и то лишь во сне и когда там не будет супруга. Все остальное время — начиная с пробуждения вокруг будут либо фрейлины, либо прислуга… либо еще кто-нибудь. — Она поморщилась. — Здесь мне постоянно влетает за «недостойные принцессы шалости» — но по большому счету на любые выходки смотрят сквозь пальцы, я ведь не королева. У вас придется быть безупречной, чужачке каждую мелочь поставят в укор. Но я надеялась, что хоть эта отдушина останется… Спасибо, что сказал сейчас — будет время смириться.
До замужества от девушки требовалась скромность и приятное обхождение. После замужества она должна была уметь управлять с десятками, а то и сотней слуг, держать в порядке убранство замка, рожать и воспитывать детей и служить опорой и поддержкой супруга. Сохраняя всю ту же скромность, приятность в обхождении, кроткий нрав и безупречную добродетель. Эдгар удивился, поняв, что жалеет эту девчонку — и не только потому, что беззаботные дни девичества скоро пройдут. Оказаться одной в чужой стране… Он сам жил сейчас именно так и нельзя сказать, что подобная жизнь ученому нравилась. Но на него не смотрели сотни любопытных взглядов, ожидая малейшей ошибки. Чужеземцу могут простить многое. Королеве — нет.
— Принцесса. — Осторожно спросил он. — Но ведь и сейчас ты не одна.
— Увидишь. — девушка вдруг улыбнулась. — Погоди немного.
Они ехали по городу. Прохожие отступали на обочину и кланялись. Поначалу ученый смутился — по большому счету он прекрасно понимал, что почести принадлежат принцессе, но все равно видеть склоненные головы казалось странным. Потом все же убедил себя, что он тут не при чем — впрочем, так оно и было. А самым надежным способом забыть о смущении оказалось смотреть на принцессу и слушать ее рассказ. Говорила она об основателе столицы, чья мать, бежав от врагов, оказалась одна в лесу и родила сына на вершине холма, где ныне стоял королевский дворец. Талья оказалась рассказчицей не хуже Лии — впрочем, кому как не принцессе знать историю города и уметь складно говорить? Эдгар почти не заметил, как миновал ворота, лишь краем сознания отметив, что эта дорога в столицу ему незнакома. Здесь горы почти вплотную подходили к городу, и вскоре путь закружил среди скал. Один из телохранителей принцессы пришпорил коня, скрылся впереди за поворотом. Остальные нагнали его лишь у подножья утеса за которым, если верить слуху, плескалось море. Два воина поднялись вверх — Эдгар мигом потерял их за камнями. Впрочем. вскоре телохранители вернулись.
— Можешь идти, государыня.
Только теперь принцесса спешилась, жестом приказав Эдгару сделать то же.
— Пойдем.
Ученый оглянулся на охрану — но те так и остались стоять, внимательно глядя на дорогу.
Талья легко прыгала по камням — видно было, что эта тропка ей давно знакома. Эдгар брел следом, про себя проклиная все на свете. Глядеть по сторонам не было ни времени, ни возможности — не подвернуть бы ногу и не сверзиться к подножью. Наконец, подъем закончился, развернувшись площадкой, усеянной камнями. Девушка тут же устроилась на большом валуне. Эдгар шагнул к краю, глянул вниз. Море узким заливом вгрызалось в скалы, волны падали на камень и отступали, чтобы через миг снова разбиться разноцветными брызгами.
— Здесь море всегда неспокойно. И всегда ветер. — Сказала девушка. — А еще снизу совершенно не видно, что делается наверху. Иллюзия уединения… немного, но это все, что у меня есть.
Эдгар только сейчас сообразил, что стоит спиной к принцессе. Торопливо развернулся, изображая внимание.
— Но я привезла тебя сюда не для того, чтобы жаловаться. — Она обернулась протянула руку. — Смотри.
Далеко внизу, словно на ладони, лежала столица. Игрушечные домики, филигранные невесомые храмы и над всем этим белокаменный королевский дворец — высокие башни и толстенные стены отсюда казались изящными, словно вырезанными из опала. Эдгар застыл, впервые в жизни поняв, что значит онеметь от восхищения. Спустя миг, ученый опустился на колени, совершенно не смущаясь любопытного взгляда принцессы. Было бы воистину непростительным грехом не отблагодарить господа за этот прекрасный вид, за море, бьющее скалы под ногами, за зелень холмов, видневшихся за столицей. И за то, что сам Эдгар — его создание, живет и дышит, и может видеть эту красоту.
— Я люблю бывать здесь. — сказала принцесса, когда ученый поднялся с колен.
Эдгар кивнул.
— Мен на мен. — продолжала Талья — Ты покажешь мне свой народ, я тебе — свой. По рукам?
И улыбнулась так, что Эдгар против воли ощутил, как губы сами растягиваются в ответной улыбке.
— По рукам.
Глава 18
Рамон так и не понял когда успели миновать несколько месяцев. Время неслось сбросившим узду жеребцом и сам Рамон летел вместе с ним, лишь успевая краем сознания отметить что вот уже осень — убрали жито с полей, а вот и зима: в наскоро сложенном доме стали топить не только ночью, но и днем. Сами же дни пролетали, не оставаясь в памяти: одни и те же заботы, много забот, только успевай поворачиваться.
Хлодий давно поднялся на ноги, но, правду говоря, проку от него поначалу было немного. Тогда, в деревне, парнишка показал себя очень хорошо. Тем же вечером Рамон сказал ему об этом и сам невольно улыбнулся глядя на то, как расцвел оруженосец. Но все же поручать ему, скажем, набрать гарнизон, было откровенно рано. Так что Хлодий большей частью приглядывался, да учился. К тому же сам и рыцарь пока не торопился переложить на парня все дела. Успеется еще. Обязанности оруженосца он с Хлодия снял — нечего парню ерундой заниматься. И взял на его место тринадцатилетнего сироту из старого, но обнищавшего рода. Прежний господин мальчика не слишком-то занимался его воспитанием, предпочитая коротать время за выпивкой. Она его и сгубила: пьяный свалился с лестницы и свернул шею. Рамон посмотрел-посмотрел на мальчика, пытавшегося по тавернам найти кого-то, кто возьмет хоть слугой — да и подобрал. Бертовин, помнится, хмыкнул, что если этак дальше пойдет, скоро господин начнет бездомных кошек домой таскать. Впрочем, парень оказался понятливым и расторопным, а большего от него пока никто не требовал. Тот день — один из немногих, что Рамон запомнил именно как «день», а не какой-то обрывок происходившего — вообще оказался удачным. Сперва славно поторговались из-за сукна на зимние плащи людям. Здешняя зима хоть и была на взгляд Рамона сущим недоразумением — что это за зима такая, если снег не каждый год падает — все же требовала теплой одежды. Потом в той таверне, где подобрали оруженосца, сговорились с тремя молодцами из тех, кто подался за море в описках лучшей доли. Доведись завтра идти в бой, в копье бы Рамон их не взял, но оборонять замок сгодятся, а там товарищи натаскают. Да и Бертовин просто так смотреть не будет. Известно же, что в бою неумеха не только себя погубит, но и тех, кому доведется биться рядом. А значит, воины сделают все, чтобы неумех среди них не осталось. Впрочем, по большому счету выбирать было не из кого. Опытные рубаки давно ходили с господами, а те, кто сейчас наводнил трактиры, большей частью выглядели, да и были вчерашней деревенщиной. Уверенной, что за морем текут молочные реки посередь кисельных берегов, и что стоит натянуть кожаную рубаху, да взять в руки дубину — и готов воин, имеющий право взять силой все, что заблагорассудится. Новички выгодно отличались хоты бы тем, что понимали, зачем нужно держать строй, умели носить доспех и держаться в седле, да и с какой стороны берутся за меч, знали не понаслышке. Выходило, что Рамон в очередной раз умудрился найти лучшее из возможного, так что день действительно был удачный. Жаль, только встретиться с Лией не вышло.
Девушку в это время рыцарь почти не видел — за стремительно укорачивающийся день нужно было успеть сделать все дела, ради которых приезжали в город, и вернуться обратно. Не считать же, в самом деле, свиданиями визиты в четверть часа, да поцелуй на прощанье? Рамон несколько раз подумывал о том, чтобы заночевать в городском доме и привести девушку — ему самому давно уже было мало этих торопливых поцелуев. Но стремительно растущий замок требовал постоянного присутствия хозяина. И приходилось снова уезжать, едва успев поговорить. Хорошо еще, что оставались сны.
Лия и вправду часто ему снилась, как и обещала, когда они возвращались с цветущего луга. Будь рыцарь более суеверным, он заподозрил бы колдовство. А так — ну что, право, странного в том, что мужчине снится желанная женщина? Порой сны оставались целомудренными, хоть пастораль с них пиши, порой становились жарко-бесстыдными, после которых просыпаешься посреди мокрой постели. Предсказать заранее, что приснится и приснится ли вообще было невозможно — впрочем, Рамон и не пытался. Донести бы голову до подушки.
Замок рос на глазах. Каждый день Рамон невольно сравнивал то, что видит, со вчерашним, и каждый раз находил перемены. И снова и снова радовался, что решил не везти камень за тридевять земель, строить из дерева. Вон, Дагобер, чьи владения оказались по соседству замахнулся на каменный, по всем правилам, замок. Так мало того, что тот встал в безумные деньги, так еще и строительство грозило растянуться на несколько лет. Впрочем, то его дело. Каждый выбирает по себе.
Сам Рамон был доволен тем, что получалось. Семь акров поля под хозяйственные постройки, окруженные глубоким рвом, валом и частоколом. Холм поднялся едва ли не втрое, в пять раз выше человеческого роста. Крутые склоны покрывала обожженная глина — не за что уцепиться, не вскарабкаться. На вершине выросла башня: первый этаж нежилой, еще два — покои господина и челяди. Дозорная площадка на крыше. У подножья холма с башней еще один ров и вал с частоколом. Хороший замок, крепкий. А самым главным было то, что староста одной из деревень посоветовал человека, знающего секрет негорючей штукатурки. Рамон собственноручно развел костер вплотную к участку частокола, вымазанного на пробу той смесью — огонь закоптил бревна и отступил, посрамленный. Вот теперь можно было точно знать, что замок простоит до тех пор, пока перестанет быть нужен, а не сгорит при первой же осаде.
И когда все было, наконец, готово, и Рамон велел перенести жилье в новые стены, он очень удивился, поняв, что близится корочун.
Никто не спит в самую долгую ночь года. На родине пировали, пели и танцевали: Ничто так не пугает затаившуюся в темноте нечисть, как доброе веселье. В Агене считали, что за стенами от зла не укрыться, а посему нужно ходить ряжеными по домам, выклянчивая у хозяев подношение. Авось испугается нечисть страшных разрисованных морд и не слишком складных песен. Нужно пить, и петь, и радоваться, и шумной компанией бродить по улицам: начавшись в одном доме гулянье перебиралось в другой, потому что нет чужих в эту ночь — все свои, все знакомые. И уж воистину угодно богам, когда двое становятся одним. Неважно, станет ли потом эта ночь одной из череды тех бесконечно долгих ночей, что наполнены жаром тел и неровным дыханием, или превратится лишь в воспоминание. Совершенно неважно.
Собираясь в Аген, Рамон взял с собой Хлодия. В замке будут праздновать, как принято дома, нечего ему там делать. Будто мальчишка попоек не видывал. Как ни крути, пора взрослеть. Это ж смешно, кому сказать: парень людьми командует, а от девок бегает. Глядишь, под хмелек глянется какая девчонка. А и не глянется — невелика беда: дом большой, уединиться места хватит.
До жилища Амикама оставался квартал, когда рыцаря окликнул знакомый голос.
— Ты к нам?
Нисим держал под руку девушку. Все ту же, что и тогда, на балу. Понести ей так и не удалось, но парень не обращал внимания ни на обычаи, ни на пересуды. Младшему сыну можно особо не думать о потомстве — продолжателем рода всегда считался первенец. Ну, не суждено, значит, жениться, было бы из-за чего огород городить. Тем более, что и отец не давил, ждал, когда сын в возраст войдет, да сам задумается о детях. А пока дело молодое, пускай гуляет.
— К вам. — Ответил Рамон. — Потом домой.
— Лия у себя. А к парнишке кто-то придет?
Хлодий стремительно покраснел, выдавил:
— Нет.
— Понятно. — Нисим подмигнул. — Тогда мы сейчас заглянем к одной славной девочке, а потом к вам. Вина хватит?
— Вина на всех хватит. — Рассмеялся Рамон.
Сам он пока был непозволительно трезв — особенно на фоне вовсю веселящихся горожан. Похоже, многие начали гулять еще с обеда, а о том, что будет твориться к вечеру, пока лучше не думать.
Он постучал в знакомые ворота, рассмеялся непонятно чему и стал ждать, пока откроют.
Голова болела невыносимо. Рамон сполз с постели, застонал, ругнулся, опустился прямо на пол. Хорошо хоть, не мутило как обычно после хорошей попойки. Но то перегнанное в алхимическом кубе вино… кто же его притащил?
Так, вначале их было шестеро: сам Рамон, Лия, Нисим с подругой, их знакомая, та самая «славная девочка». Далия, кажется, ее звали. Эти были каждый сам по себе… поначалу. Вино, похоже, приволок именно Нисим, не Дагобер же? Нет, к этой штуке на выстрел нельзя подойти, а самое лучшее — никого с бутылкой пойла на порог не пускать. Прозрачное, что твоя слеза, а хмеля столько, что взрослого мужика с ног валит. Не Дагобер, точно, тот ввалился позже, с девицей… кажется, их знакомили раньше. Бер… не припомнить, хоть убейся. Глупышка-глупышкой, Дагобер таких любит, чтобы в рот заглядывали. Так как же ее звали… а, неважно.
Рамон поднялся, как был, в одной рубахе, побрел вниз. Медленно-медленно, придерживаясь за стену, сполз по лестнице, чудом не потеряв равновесие. Так…ковер не загадили, повезло. А кто ж это стены так испохабил?
Сперва они пели песни, это точно. Причем Лиин братец выдал такое, что при дамах нипочем бы петь не стоило — но дамы тоже были хороши, Далия подпевала во все горло, а подружка Дагобера… да как же ее звали-то? только краснела, да глупо хихикала. Хотя, может, она и не поняла ничего, язык-то не знала. Прожить в городе несколько месяцев и не выучить язык — это надо уметь, это не каждая сможет.
Потом петь надоело, складывать стихи тоже…пьяный маркиз и похабник-Нисим выдавали такое, что стены краснели… С безупречной рифмой, надо заметить. Или это только тогда она казалась безупречной? Сейчас все равно ни строчки не припомнить, как ни старайся.
Значит, стихи надоели, танцевать не хотелось, решили поиграть. Здешняя игра: сперва на стене рисуют рожицу, а потом с закрытыми глазами пытаются дорисовать нос. Поскольку все уже были хороши, решили, что нос — это неинтересно, это для детей, а тут все взрослые. Куда интересней изобразить детородный орган. Тут Далия пискнула, что никогда его толком не видела, как рисовать неизвестно что? Врала, точно, в этой стране не бывает семнадцатилетних девственниц. Расхрабрившийся Хлодий — о, это сколько ж он выпил? — под руку увел ее показывать, как это дело выглядит. Зрелище, похоже, девушке понравилось, потому что обратно к гостям они не вышли… надо прийти в себя, найти и разбудить, если еще не проснулись, а то с Бертовина станется приехать проверить, как там сын себя ведет. Всыплет всем по первое число.
Так, значит, эти ушли… остальные начали играть, вот почему все стены разрисованы будто в портовом борделе. Сейчас, отдышаться, позвать слугу попросить навести бадью с водой, и пусть приберется, пока хозяин в себя приходит.
Рамон так и поступил, горячая вода расслабила тело, и голову ломить стало меньше. Но навязчивая мысль, припомнить, что же было ночью, не оставляла. Какого рожна он проснулся один, если… Впрочем, похоже немного осталось.
Нарисовавшись вдоволь, они снова пели. А потом Лия прижалась к плечу и прошептала, что, кажется перебрала. Попросилась чуть-чуть прогуляться. А еще лучше — довести ее домой, он стоит полупустым, все разбрелись праздновать, а здесь скоро друг у друга на головах начнут… Из комнаты, куда Хлодий увел девушку звуки доносились недвусмысленные, да и Дагобер уже хватал свою… как там ее… за все места. Рамону было наплевать, но если девушке так неуютно… Тем более, что он и сам, похоже, перебрал. Не привык к такой крепкой выпивке. Так что продышаться стоило.
Значит, он повел Лию домой… Нисим со спутницей вышли вместе с ними, но потом куда-то делись. Дагобер со своей остался, обещал, если Рамон не вернется раньше, перед уходом позвать слугу, чтобы тот запер за ними дверь.
Они шли по городу, по углам целовались парочки… потом они и сами целовались, опираясь о чей-то забор. Потом Рамон сказал, что если она не хочет, чтобы все случилось прямо в подворотне, лучше пойти домой, а Лия ответила, что все равно где, главное, что с ним. Тогда он возразил, что еще не настолько упился, чтобы взять женщину посреди улицы… или он сказал «любимую женщину»?
Вот теперь Рамона действительно замутило, это ж надо было… Ладно, вылетит — не поймаешь, что ж теперь…
Кажется, она уперлась, сказав, что домой не хочет, а он ответил, что не хочет, чтобы ее отец наутро открутил ему самое дорогое. Поскольку идти она не собиралась, просто подхватил на руки. Еле удержал, но, видимо, не настолько уж пьяным он был, потому что не уронил. Плащ мешался, платье скользило, приходилось подкидывать девушку на руках, и она каждый раз потешно взвизгивала. А потом просто уснула, обвив руками шею. Рамон донес ее до родительского дома, передал с рук на руки слуге. Улыбнулся вслед — такой славной она была… ничего, не вышло в этот раз — выйдет в следующий. Никуда не денется.
Как добирался обратно припомнить не получилось, помнилось только, что Дагобера уже не было, дом был заперт и пришлось стучать. А как оказался в постели, Рамон не помнил уже совсем.
Он вздохнул. Кажется, придется извиняться, разве что Лия не вспомнит, что было ночью. Расскажи кому — на смех поднимут, женщина на шею вешается, а он ее к батюшке несет. Рамон застонал, уткнувшись лбом в колени. Похоже, извиняться пришлось бы при любом раскладе — и так нехорошо, и этак неладно. Повезло, нечего сказать. Ладно, что теперь рыдать. Отмыться, привести себя в порядок, позавтракать… нет, завтракать, пожалуй, не стоит. Словом, прийти в чувство. И в гости. Просто так он обратно не уедет.
После вчерашнего город словно вымер: большинство жителей отсыпались после доброй гулянки. Редкие прохожие казались либо еще пьяными, либо уже похмелившимися. Слуга, открывший ворота и вовсе напоминал выходца с того света — такой бледной опухшей рожей только непослушных детей пугать. Рамон крепко подозревал, что сам выглядит не лучше, несмотря на то, что по сравнению с утрешним чувствовал себя замечательно. Оставалось только надеяться что Лия не ребенок — не испугается.
Она показалась в дверях, взвизгнула, разглядев кто идет. Рамон засмеялся, и пошел навстречу вприпрыжку бегущей девушке. Та повисла на шее, чмокнула куда-то около уха. Рыцарь отметил легкие тени под глазами, спросил:
— Как голова?
— Болит. А твоя?
— Тоже.
— Значит, будем сегодня оба головой скорбные. — Засмеялась девушка. Прижалась всем телом, подняв лицо. Просто грешно не воспользоваться столь беззастенчивым предложением.
— А что отец скажет? — спросил Рамон, оторвавшись от ее губ. Здесь девушка сама себе хозяйка. Но целоваться посреди во дворе и даже посреди улицы можно было вчера, сегодня уже приличия не позволяют. А за нарушение приличий Амикам может и попенять. Самому Рамону конечно, все равно, но девочка расстроится, зачем ее подводить?
— Он уехал. — Сказала Лия. Отстраняться она совершенно не торопилась. — К родне погостить.
— Совсем-совсем уехал? — поинтересовался он, заглядывая в зовущие глаза.
— Ага. Неделя туда, столько же обратно, да погостить пока не надоест. Сказал, что в кои-то веки может позволить себе хоть на время забыть, что он отец семейства. — Она погладила по щеке. Спохватилась:
— Ой, что это я тебя во дворе держу. Пойдем в дом. — Лия взяла рыцаря за руку, потащила, точно мальчишку. — Ты голоден?
— Зверски.
— Сейчас распоряжусь.
— Ты не поняла. — Рамон заставил девушку развернуться. Обнял, повторил, склонившись к лицу. — Ты не поняла. Зверски голоден… по тебе.
— Я поняла… — шепнула Лия, стремительно краснея. — Давно поняла… — Отстранилась, переводя дыхание. — Пойдем…
Они шагнули навстречу друг другу, едва закрылась дверь спальни. Рамон так и не понял, то ли он первым потянул завязки шелковой рубахи, то ли девичьи пальцы расстегнули аграф, скреплявший горловину котты. Да и неважно это было на самом-то деле. Ничто не важно по сравнению с пеленой желания в зеленых глазах и часто-часто бьющейся жилкой на шее. Он прошел губами по этой жилке до ямки между ключицами спустился ниже, в ложбинку, что открылась в вырезе рубашки. Шелк скользил, под руками, мягко струясь, ложился на пол. Постель оказалась незаправленной — Рамон понял: она знала, что случится, и ждала этого.
— Хорошая моя…
Он отстранился на миг, чтоб увидеть — спутанные волосы, шальной взгляд из под полуприкрытых век, часто-часто колышущаяся грудь. Мягко отвел руки, потянувшиеся к низу живота.
— Подожди.
— Я…
— Успеешь… Все… успеешь…
Чувствовать тепло кожи под ладонями, видеть, как от каждого прикосновения меняется лицо, как начисто сметает следы разума во взгляде…
— Не могу… больше…
— Да ну? А так?
— Из…верг…
Скользнуть навстречу, между раскрывшимися бедрами, заполнить ее всю, забыться в ритме, что захватывает целиком, и, наконец, замереть, тяжело дыша.
Рамон медленно отодвинулся, погладил растрепавшиеся кудри. Увидел, как она возвращается, словно выныривая из бездны, медленно отрывает глаза. Тихонько поцеловал чуть припухшие губы. Устроил пушистую головку на плече, улыбнулся, когда девушка поерзав, закинула ногу на бедра.
— Не мерзнешь?
— Нет…
— Ну и хорошо.
Потом они болтали о какой-то ерунде, потом оба захотели есть. Через приоткрытую дверь Рамон принял у слуги поднос с едой, одеваться только ради того, чтобы спуститься пообедать не хотелось никому. Трапеза закончилась совсем не так, как подобает в приличных домах — впрочем, по-другому она закончиться не могла. И обоим было все равно, сколько прошло времени, сколько еще пройдет и что творится за стенами спальни. Что бы то ни было — подождет. Весь мир подождет.
Я рыцарь, рыцарь, рыцарь!!! Господи, ты не представляешь, что это для меня значит.
Впрочем, прости — я настолько счастлив, и так хочу поделиться этим счастьем, что совсем забылся.
Здравствуй.
Даже не знаю, как об этом рассказывать. Все настолько странно и неожиданно, что я и сам не верю в случившееся. И не могу выпустить из рук рыцарскую цепь — единственное доказательство того, что мне это не приснилось.
Попробую по-порядку.
Не знаю, дошла ли до вас весть о том, что король разрешил посвящать в рыцари не только тех молодых людей, которые заслужили это звание чем-то выдающимся — но любого человека знатного рода, желающего того посвящения. Говорят, причина в том, что знатные юноши все реже ищут посвящения — ведь оно влечет за собой тяготы военной службы. И если защищать свой дом готов, наверное, каждый, то следовать за сюзереном в дальние края — отнюдь. Мне трудно это понять, но так говорят, и, наверное, придется этому верить. Есть еще одна причина — деньги. Сейчас далеко не всем по средствам предстать на посвящение в полном вооружении, как то требуется обычаем. Да что долго ходить за примерами — даже наш род изрядно оскудел, хотя мы далеко еще не бедны. Впрочем, у нас, особый случай — но наверное и у других обедневших родов есть свои причины. Как бы то ни было, полное вооружение сейчас далеко не всем по карману — и ты наверняка поболе моего слышал о «вечных оруженосцах», возраст которых давно перевалил за нужный для посвящения, а у кого-то и вовсе появилась плешь или седина — но рыцарями они так и не стали, и отнюдь не из-за того, что недостойны. Как по мне, уважающий себя сюзерен должен сделать все для того, чтобы справный оруженосец все же смог стать рыцарем — но опять же, мы оба знаем, что идеалы, сталкиваясь с настоящей жизнью побеждают далеко не всегда. Впрочем, меня снова понесло не туда.
Наверное, таким как ты, заслужившим свое рыцарство в прямом смысле кровью, этот указ поперек горла. А кто-то и вовсе запоет об упадке нравов — и, право слово, мне трудно будет его обвинить. Но когда вести дошли до нас, я решил что никогда не прощу себе упущенную возможность. И написал прошение.
Мне очень хотелось рассказать тебе об этом — и об указе, и о моем прошении, и о том, что барон, служба у которого закончилась так бесславно, все же написал мне рекомендацию. Но побоялся сглазить. Знаю, что это предрассудок, недостойный мужчины- и все же побоялся. Что ж, все получилось. Я не буду рассказывать, как добыл деньги на копье, цепь со шпорами и броню для коня. Не хочется вспоминать, да и неважно это, на самом-то деле. Оно того стоило, хотя чувствовать себя вором не слишком-то приятно. Но я опять не о том.
Само посвящение, наверное описывать тоже не буду — ритуал неизменен, а ты свое наверняка не забыл. Странно, тогда мне казалось, что все как в тумане, а поди ж ты — сейчас помню все до малейшей детали. И перебираю эти воспоминания, точно величайшую драгоценность.
Обидно лишь одно — мать меня не поздравила. Сказала, что это всего лишь условность, и что «любит меня не за то». Вот так вот. Надеюсь, хоть ты за меня порадуешься.
Рихмер.
Глава 19
День шел за днем, месяц за месяцем, каждый неотличимый от предыдущего. Жизнь предсказуемая и размеренная для многих словно кость в горле, но Эдгару она казалась воплощением счастья. Он и был почти счастлив эти месяцы, как может быть счастлив человек, которому позволили заниматься любимым делом.
С утра до полудня — занятия. Принцесса и в самом деле оказалась способной ученицей. Любому учителю радостно видеть, что усилия не пропадают втуне, и даже к неизбежным капризам оказалось несложно притерпеться. В конце концов, принцессе просто положено быть красивой и избалованной. Пусть ее чудит.
С обеда до вечера — чтение. Король разрешил пользоваться замковой библиотекой, и Эдгар зарылся в книги, как червяк в яблоко. Хороший проповедник должен знать не только историю народа, но и языческие верования. И ученый добросовестно корпел над летописями и трактатами, попутно набрасывая план будущей монографии. Тем, кто придет сюда нести истинную веру, пускай через многие годы, не придется тыкаться слепыми котятами. Да и Сигирику в Агене пригодится: насколько Эдгар мог судить, обычаи двух народов были одинаковы.
Иногда в библиотеку приходила принцесса. Усаживалась рядом, заглядывала в записи. Спрашивала, что интересного он нашел в этот раз, и подперев кулаком подбородок внимательно слушала, пока Эдгар заливался соловьем. Впрочем, так бывало не всегда. Порой девушка врывалась, оставляя двери нараспашку, и свечи испуганно трепетали. Смеющаяся, пахнущая уличной свежестью, она оказывалась удивительно неуместной в затхлом сумраке библиотеки. «Скоро станешь таким же желтым и пыльным» — говорила она, приподнимая за краешек лист пергамента, двумя пальчиками, словно гадкое насекомое. И дергала ученого за рукав — мол, пошли отсюда. Эдгар начинал препираться — чаще всего только для вида, ему нравились верховые прогулки. Вдвоем, если не считать всегда молчащих стражей — которых, ученый, впрочем, быстро перестал замечать — они объездили окрестности столицы от предгорий до дремучих лесов. Смотрели, как вода, обрушиваясь с невероятной высоты, рассыпается радужным ореолом. Ловили в ладонь золотые листья. Сидели на бревне над лесной речкой. Нет, Эдгар не забывался ни на миг. Но помнить о разнице в положении с каждым днем становилось все труднее.
Король внял просьбе дочери, и в замке появилась почтенная пожилая дама, призванная обучать принцессу тонкостям этикета. О новой учительнице девушка отзывалась не иначе как об «этой дуре». От нотации про почтение к учителю Эдгар удержался — в конце концов, глупо читать лекции про почтение в том числе и к самому себе. Но не спросить, почему принцесса вынесла столь суровый приговор, не смог. «Потому что дура» — не ответ, как ни крути.
— Она меня отчитала, как девчонку! — взорвалась Талья. — Я всего-то спросила, почему отказав кавалеру, обязана пропустить этот танец, даже если найдется другой желающий, более приятный.
— Потому что это оскорбит первого кавалера. — Эдгар настолько привык к неожиданным, а то и каверзным вопросам, что ответил прежде, чем сообразил, что этот был адресован не ему.
— Вот видишь, у тебя хватает ума ответить. А эта дура развопилась, что этикет есть этикет, так положено и спрашивать тут не о чем.
— Глупость какая. — Пробурчал ученый себе под нос. — Копни поглубже, и за каждым, вроде бы изначально кажущимся бессмысленным правилом найдешь своей резон.
— Вот и я говорю — дура. А почему отказ оскорбит кавалера? Не понравился этой даме, понравится другой — только и всего.
— Потому что отказав, ты даешь понять, будто он недостаточно хорош для тебя. Это обидно.
— Почему? Если мне, скажем, понравится юноша и я захочу с ним потанцевать, а может быть, не только потанцевать… прости, не «я», конечно же. Словом, если девушка захочет потанцевать с парнем, или провести с ним ночь, а он скажет «нет» — это будет значить всего лишь «нет». Может, у него живот разболелся. Или ему нравятся рыженькие. Или «да, но не сейчас». Почему у вас сразу принимают на свой счет и оскорбляются?
Эдгару захотелось постучать лбом по столу. В который раз за последние месяцы. Потом он малодушно позавидовал «дуре» — та хоть и заслужила немилость, но от неудобных вопросов избавилась раз и навсегда.
— Принцесса, я не знаю, что ответить. Рискну предположить. В обществе принято, чтобы мужчина добивался женщины, проявляя превосходство в том числе и перед соперниками. Подобный отказ не только дает понять «ты для меня недостаточно хорош» но и ставит того, с кем девушка пойдет танцевать выше того, кому отказали.
— Ну так в этом и состоит соперничество, разве нет? Один выигрывает.
— Но он проиграл не в честном состязании с другими мужчинами, а из-за женского карпиза.
Принцесса долго молчала.
— Поняла. Это… как, скажем, олени по весне дерутся из-за важенки. Никто не спрашивает, какой из двоих ей нравится — кто победил, тот и взял.
— Получается, так.
— Мне не нравится быть добычей. — Сказала она.
— Ты и не станешь ей. — Эдгар свернул пергамент в свиток, окончательно убедившись, что поработать сегодня больше не выйдет. — У тебя будет супруг: защита и опора во всех земных делах.
— Быть залогом дружбы между государствами мне нравится еще меньше. — Она резко поднялась, опрокинув чернильницу. — Прости. Сейчас позову кого-нибудь, чтобы прибрали.
Самым смешным оказалось то, что дама, преподававшая этикет — ученый как всегда не запомнил имени — решила найти в нем поддержку. Пожаловалась на то, что принцесса «дерзка и непочтительна», дескать, как у него хватает терпения заниматься с ней такими сложными вещами, как слово божие. Эдгар совершенно искренне изумился — по его представлениям, учтивость надлежало проявлять как раз ему. Спросил, действительно ли дама ожидала почтения от особы королевской крови и будущей правительницы Белона? Дама промямлила про древний род и уважение к летам. Эдгар посоветовал ей поразмыслить, что больше заслуживает почтения — годы или благородство происхождения. Услышал, что не бастарду рассуждать о благородстве происхождения. Улыбнулся, мимолетно удивившись тому, что колкость не задела его совершенно, сказал, что дама совершенно права. И меланхолично глядя в пространство произнес, мол, один из древних философов считал: мудрость приходит с годами, но иногда годы приходят, потеряв спутницу по дороге. По-настоящему глубокие мысли не мельчают со временем, не правда ли? Стоило большого труда не рассмеяться вслед. То, что, возможно, он нажил врага, Эдгара не беспокоило: слишком незначителен был он сам, чтобы думать о врагах. В худшем случае сошлют в дальний монастырь — но кто сказал, что наукой можно заниматься только в столице? Карьера? Чем выше статус, тем меньше приходится заниматься, собственно, научной деятельностью, превращаясь в организатора. Так что плевать он хотел на карьеру.
На следующий день принцесса снова была живой и улыбчивой, так что Эдгар списал прошлый разговор на плохое настроение. Действительно, необходимость общаться с… ну да, дурой, чего уж там, кого угодно выведет из себя.
Самую долгую ночь года Эдгар не праздновал, считая этот обычай пережитком языческих верований. Можно, конечно, в кои-то веки и отметить, заодно изучив, чем местные обычаи отличаются от того, что принято дома. Но для этого надо было искать компанию, а прошедшие месяцы не сделали ученого общительней. Рассудив что выспаться, как дома, во дворце, где гулять станут все, вплоть до последнего слуги, едва ли удастся, он загодя запасся едой, вином, свечами и книгой. Дадут поспать — хорошо, не выйдет — найдется, чем скоротать время.
Судя по звукам доносящимся в комнату, праздновали во дворце на славу. Закатывать бал не стали, но и без того музыки и песен оказалось столько, что с надеждой выспаться Эдгар распрощался еще до наступления сумерек. Порой он не понимал, за какие грехи господь наделил чутким слухом — то, что стало бы даром для музыканта, ученому ощутимо мешало. Работать под шум он приноровился давно — в столице никогда не бывало тихо. Но спать как убитый, когда вокруг тарарам, так и не научился. Что ж, бессмысленно плакать о том, что нельзя изменить. Чтобы книжник и не нашел, чем заняться в бессонную ночь?
Свечи сгорели на треть, когда раздался стук в дверь. Эдгар подпрыгнул, выныривая из мыслей, и встретился взглядом с принцессой.
— Можно?
Странный вопрос, право слово. Она у себя дома, тогда как он — только гость. Эдгар поспешно выбрался из-за стола, поклонился.
— Рад видеть тебя.
А и вправду — рад. Он никогда не тяготился одиночеством, привыкнув едва ли не с рождения, но тех немногих, кого считал близкими, рад был видеть всегда. Эдгар на миг замер, осознав, что каким-то образом принцесса оказалась в их числе. Неожиданно и не сказать, чтобы приятно: у сильных мира сего друзей не бывает, есть лишь союзники.
Он указал на миску с фруктами.
— Угостишься?
Принцесса кивнула, опустилась на лавку. Подождала, пока Эдгар уберет со стола книгу. Взяла яблоко, из зимних, что становятся сладкими лишь полежав и набрав спелость, а хранятся до следующего урожая. Спохватилась:
— Садись. Я так и подумала, что будешь один сегодня. Боялась, правда, что спишь.
— Государыня, позволь спросить… как случилось, что ты не празднуешь вместе со всеми?
Она покрутила яблоко, аккуратно положила на стол, подняла голову.
— С кем? Отец уединился с… неважно. Фрейлины напились и попрыгали в постели. Были бы живы братья… впрочем они бы сейчас тоже… Здесь нет равных мне — не со слугами же пить.
— Я тоже не ровня.
— Ты живой. Не угодничаешь, и не цепенеешь от страха. Если мешаю, я уйду — не годится портить праздник подданным.
— Я не твой подданный, принцесса. — Хмыкнул Эдгар. — Так что можешь портить праздник, сколько захочешь.
Она как-то растерянно улыбнулась, снова завертела в руках несчастное яблоко. Эдгар застыл, осознав, что ей и вправду некуда пойти, остается только сидеть у себя в покоях, слушая, как за стенами веселятся другие. Сам он, в общем, был в таком же положении — но он-то выбрал добровольно, а ей в самом деле некуда деваться. Господи, до чего же нужно было довести девочку, чтобы она побежала искать утешения у учителя. Впрочем, будь он равным, она бы не пришла. Видел бы, как все, царственную особу, улыбающуюся, когда не гневается… и навевающую мысли об оживленных черным колдовством статуях без сердца. Как же хорошо, что он не равный.
— Не смотри так. — Сказала она. — Я заплачу, и потом никогда тебе не прощу.
Вот только этого не хватало. Нужно было что-то делать, и быстро. Прощу-не прощу, ерунда, девчонку жаль. Показная веселость не пройдет, фальшь почувствуют оба, получится еще хуже.
— Принцесса, скажи, у вас этой ночью тоже боятся выйти за порог, чтобы не стать жертвой невидимого зла, таящегося в ночи?
— Нет. — Удивилась она. — А у вас так?
— У носа из дома не высовывают.
— У нас… — она широко улыбнулась: — Точно! Жди, я сейчас!
Эдгар озадаченно посмотрел на хлопнувшую дверь, и сел ждать.
Принцесса вернулась спустя полчаса, нетвердо ступавшая служанка положила на лавку груду тряпья и вышла.
— Держи. — Талья бросила плащ, сделавший бы честь спятившему циркачу: на добротную основу были плотно нашиты разноцветные лоскутки. — А это мне.
— Государыня?
— Гулять пойдем. — Она распустила косу и начала старательно разлохмачивать волосы. — Жаль, сала нет… ладно, и так сойдет. Ну, чего стоишь столбом?
— Ты в своем уме?
— Нет, в чужом. — Хмыкнула она, выгребая пепел из камина — с того края, где отгоревшие угли успели остыть — и посыпая им и без того превратившуюся непонятно во что шевелюру. — Говорю же, гулять пойдем. Вино есть?
Эдгар молча подал кубок. Принцесса сделала несколько больших глотков, достала невесть откуда зеркало и внимательно глядя в полированную бронзу начала водить углем по лицу. Повторила:
— Чего стоишь? Собирайся, давай.
— Объясни, наконец. — взмолился Эдгар.
— Гулять пойдем. Пить не хочу, а вот песни горланить — в самый раз. — Она посмотрела на лицо ученого и рассмеялась. — Сегодня ряженые ходят по домам, поют песни и выпрашивают угощение.
Эдгар подумал о том, что более дурацкого обычая в жизни не встречал.
— Личин я не нашла, но обойдемся так. — Продолжала девушка. — Одевайся. Хотя нет, погоди, сперва разрисую. Нагнись.
Она встала на цыпочки, сосредоточенно глядя снизу вверх, прикоснулась углем к лицу. Смотреть на нее, серьезную, лохматую, перемазанную так, что знакомыми оставались только глаза было невозможно. Эдгар расхохотался.
— Перестань смеяться, мешаешь… ну вот, криво вышло.
— Прости. — Ученый честно попытался сделать серьезную физиономию и развеселился еще пуще.
— Да ну тебя… — она оставила, наконец, в покое лицо и принялась за волосы.
— Принцесса я же утром не отмою! — хорошо ей, чернявой, а на что потом будут похожи когда-то светлые пряди — подумать страшно. Не то, чтобы Эдгар сильно заботился о том, как выглядит, но это же не повод превращаться в пугало.
— Отмоешь. — Отмахнулась она. — Было бы что там мыть… У вас все мужчины так коротко стригутся?
— Знатные юноши носят длинные кудри. Но я простолюдин.
— А… ну вот, готово. Зеркало дать?
— Не надо. — Почти испугался Эдгар. — Еще потом ночью приснится.
Она рассмеялась, снова протянула разноцветный плащ, который ученый покорно накинул на плечи. Под грудой не пригодившегося тряпья нашлась трещотка и бубен.
— Слов ты, конечно, не знаешь… — проговорила принцесса, взяв трещотку. — Ну, тогда колоти и постарайся в ритм попасть, а петь буду я. Пойдем.
За дверью, как оказалось, ждали стражники. Нелепые разноцветные плащи на них почему-то не выглядели смешными, а разрисованные углем лица наводили на мысли об игре света и тени, просвечивающих сквозь ветви лунных бликах. Пожалуй, встань среди ночного кустарника — любой пройдет в шаге, не заметив. И все трое были совершенно трезвы, ни намека на запах хмельного.
— Снег! — воскликнула принцесса, когда они оказались на улице. — Надо же!
— Век бы его не видать. — Буркнул Эдгар. Эко чудо, замерзшая вода с неба падает. Ученый готов бы полюбить эту страну хотя бы за теплые зимы.
— Ничего ты не понимаешь. — Отрезала девушка.
И вправду, куда ему. Здорово, конечно, лететь на санях с горы или кидаться снежками. Когда есть теплая одежда, а в доме вдосталь дров для того, чтобы не сидеть носом в камин, завернувшись в одеяло. Впрочем, принцессе об этом знать незачем.
За ворота дворца вышли пешком. Эдгар отчаянно гнал от себя стыд — если уж принцесса незнамо на кого похожа, то и ему не грех. Но по-настоящему отлегло от сердца, когда он увидел на улицах города таких же ряженых, с факелами, смеющихся и голосящих на все лады. Назвать это пением устыдился бы даже самый никчемный из менестрелей. Во всех домах были раскрыты ставни, а в окнах горел свет. То и дело открывались двери, смех летел со всех сторон и Эдгар не заметил, как развеселился сам. Настроения не портили даже то и дело попадавшиеся парочки, не стеснявшиеся обниматься, а то и целоваться прилюдно. Да что, в конце концов, взять с этого Белона? Как он сам сказал когда-то? Варвары, погрязшие в разврате? Ученого обожгло стыдом. Нет, он так и не примирился со всеми здешними обычаями, но слава богу, хватило ума понять, что на самом деле они далеко не так просты и однозначны, как казалось когда-то.
Принцесса меж тем подошла к приглянувшемуся дому и уверенно взялась за дверной молоток. Эдгар снова взопрел. Воины выстроились за спиной, ученый мимолетно подумал, как они будут изображать праздных гуляк: насколько он успел разглядеть ни бубнов, ни трещоток, ни каких-то еще инструментов в руках у стражей не было, и правильно. Стукнула щеколда и тут же Эдгару стало не до раздумий.
— Доброй ночи, хозяин, и тебе, хозяюшка. — Поклонилась принцесса. И затянула:
— Тетенька добренька, пирожка дай сдобненька…
Стоявшие за спиной стражи хлопнули в ладоши, отбивая ритм, Эдгар, очнувшись, грохнул в бубен. Чувствовал он себя, конечно, последним шутом, но куда деваться, в самом-то деле.
— Не подашь лепешки — разобьем окошки! — выводила девушка, звонко и чисто, впору заслушаться.
— Не подашь пирога — сведем корову за рога…
Эдгар представил себе принцессу, крадущейся, аки тать в ночи, за чужой коровой, и едва не расхохотался в голос. Стеснение сразу пропало без остатка. Он бодро колотил в бубен, пока девушка пела славословия добрым хозяевам, вынесшим медовую ковригу и пару сребрушек. От этого дома они пошли к следующему, потом еще и еще. Эдгар довольно быстро наловчился подпевать — в два голоса выходило веселее. Мешок, вынутый принцессой из недр плаща, потихоньку наполнялся.
— Куда потом это все? — тихонько поинтересовался ученый.
— Вернемся — посмотрим. Что-то сразу съедим, я проголодалась, что-то они, — легкий кивок в сторону стражи. — Возьмут. Деньги все им отдам… или тебе надо?
— Зачем? — пожал плечами ученый. — Живу на всем готовом.
— Как знаешь. Остальное велю утром нищим раздать… Давай еще вон по той улице пройдем дома три — и хватит.
— Туда не стоит, госпожа. — Раздалось из-за спины.
Пожалуй, заговори вдруг одна из дворцовых статуй, Эдгар удивился бы меньше. Принцесса оглянулась.
— Почему?
— В той части города пошаливают. Беды бы не вышло.
Девушка чуть наклонила голову, глядя снизу вверх на невозмутимого стража. Помолчала.
— Хорошо.
Показалось Эдгару, или она вздохнула?
— Тогда пойдем обратно. Повеселились, и будет.
Дворец все еще гулял. Принцесса, как и обещала, отдала одному из стражей (старшему — решил про себя Эдгар) все, что оказалось в поясном кармашке, раскрыла мешок, позволяя выбрать, что душе угодно.
— Можно посидеть у тебя? — спросила она Эдгара, когда воины, откланявшись, удалились. — Еды вдосталь, спать я пока не хочу.
— Как прикажешь, принцесса.
— Не прикажу.
— Хорошо, Талья. — Он улыбнулся. Признаться, после такой прогулки спать не хотелось. — Давай посмотрим, что мы добыли.
Она зарылась в мешок, точно ребенок в подарки, щебеча что-то восхищенное и невразумительное. Потом они вместе разыскали прислугу, отдав лишнее и приказав принести горячего вина с пряностями — в самый раз после морозца. Цветастые плащи, кажется, остались лежать там же, где принцесса разбирала мешок — впрочем, беспокоиться о них ни девушка, ни тем паче Эдгар не собирались. Будут утром во дворце прибирать — найдут.
Они почти не разговаривали. Молчание, такое уютное, умиротворяющее, треск поленьев, терпкий запах горячего вина, почти не пьянящего. Сажу с лица принцесса давно оттерла и снова стала похожа на себя. Разве что сейчас она казалась странно притихшей — устала, наверное, поброди-ка столько, да еще с песнями и прибаутками.
— Спасибо. — Сказала она, отставляя кубок.
— За что? — удивился Эдгар.
— Неважно… Давай еще ненадолго выйдем во двор. Хочу посмотреть на снег, завтра его уже не будет.
Эдгар достал теплый плащ, накинул ей на плечи.
— А ты?
— Я привычный. — Он улыбнулся. — Дома холода бывали такие, что стены к утру покрывались инеем.
— Бррр. — Она поежилась. — Поэтому ты не любишь снег?
— Да.
В дворцовом парке уже никого не было. Крупные хлопья в полной тишине падали с неба. Принцесса подставила руку, снежинки медленно опускались на ладонь и тут же таяли.
— В самом деле не мерзнешь? Не хотелось бы, чтобы ты слег.
— Было бы из-за чего.
Он и вправду не чувствовал холода после жара камина и горячего вина. Эдгар зачерпнул снега, собирая в комок. Запустил получившийся снежок в стоящий поодаль платан, попал, рассмеялся непонятно чему.
— Я тоже хочу! — Принцесса ничтоже сумняшеся сунулась было в ближайший сугроб, тут же выскочила оттуда, стряхивая с рук снег и потешно вереща.
— Ты почему не предупредил, что холодно!
Он снова рассмеялся, взял маленькие ладошки в свои, согревая.
— Так лучше?
— Да…
Она смотрела снизу вверх, замерев, точно завороженная. Эдгару захотелось отвести с лица темную прядь, коснуться щеки. Он протянул руку — и вздрогнул, просыпаясь. Выпустил девичьи пальцы, шагнул назад.
— Прошу прощения, принцесса, я забылся.
На ее лице улыбка сменилась разочарованием, а еще через миг маска холодного достоинства закрыла собой все остальное.
— Ступай. Я вернусь. Одна.
Глава 20
До возвращения Амикама время оставалось, и Рамон решил показать девушке замок. По большому счету, хвастаться нечем: голые стены, ни мебели толком, ни половиков, ни гобеленов. Правда, здесь не ткали гобелены, завешивая стены богато расшитыми занавесками — хотя и их не было. Стыдиться, впрочем, тоже нечего: стены есть, крыша над головой есть, остальное будет, пускай и не сразу.
Рыцарь прекрасно понимал, что хвастаясь отстроенным замком походил на мальчишку, увлеченно показывающего подружке сокровища: мраморный шарик, майского жука в коробочке, кусок цветной мозаики, подобранный у храма… Но Лие было интересно, или она делала вид, что интересно, заглядывая всюду. И Рамон показывал амбар, и хлев, и конюшню и кузню…
— Доброе место. — Сказала Лия, когда они вылезли из погреба, тоже, кстати, не пустого. — Мне нравится.
— Тогда пойдем в дом.
И глядя, как девушка бродит по комнатам, внимательно изучая все вокруг, гладит толстые бревна, едва не прижимаясь к ним щекой, что-то шепчет под нос, Рамон отчетливо понял, что хотел бы привести ее в дом хозяйкой. Полноправной хозяйкой. Чтобы оторвавшись на миг от дел можно было перекинуться парой слов, а вечером встречаться за трапезой. Чтобы было к кому возвращаться из похода. Хотел бы. И привел бы. Если бы не знал, что девочка слишком скоро станет вдовой. И что сын, буде родится, понесет проклятье.
Нет уж, пусть все идет, как идет. Того, что отпущено судьбой он никому не отдаст. И как же хорошо, что здесь не понимают, что такое «незаконнорожденный». А то, что сын или дочь, если будет, станет звать отцом кого-то другого — какая, к бесам, разница?
— Что случилось?
— О чем ты? — Рамон улыбнулся. Выругался про себя — нашел время размышлять. Напугал девочку кислой мордой, вон, голос дрожит.
— Ты смотрел так… словно прощался. Что случилось?
— Да ничего не случилось.
Действительно, ничего. Все, что могло, случилось давным-давно, и ничего уже не изменить.
— Правда. — Он привлек девушку к себе. — Ну чего ты всполошилась… маленькая моя.
— Не знаю. — Лия спрятала лицо у него на груди. — Показалось, наверное. Прости.
Рыцарь приподнял ее подбородок, поцеловал. Прошептал:
— А я еще не показал тебе спальню.
— Это… серьезное упущение.
— Исправлюсь. Немедленно.
На следующий день он объявил Хлодию, что намерен вернутся в город. Надолго. Замок выстроил, гарнизон набрал, крестьяне оброк платят исправно, да и барщину отрабатывают на совесть. Все идет своим чередом, главное людей не распускать. Солдат все равно Бертовин муштрует, и лезть к нему с советами — только мешать. Словом, делать здесь больше нечего, а случится что, все знают, где искать. Да, оруженосец в замке останется: в городе полный доспех без надобности, а с тем, что нужно, рыцарь управится и сам.
Хлодий изменился в лице и начал заикаться. Он, конечно, помнил: скоро ему придется править землей самому. Но чтобы настолько скоро… Рамон рассмеялся, и велел, если что, спрашивать совета у отца. Отец появился тут же, легок на помине.
— На бабу променял, значит. — Усмехнулся Бертовин. — Хорошо. А то я уж начал подозревать что решил в монахи податься.
— Не дождешься.
— Когда думаешь вернуться?
— Не знаю. Два месяца осталось.
— Помню. — Помрачнел Бертовин. — И думал, что пошлешь дела к бесам куда раньше.
— Чтоб потом на том свете икалось, когда поминать будете?
— Ишь ты… Все продумал.
— А как же. — Отсмеявшись, Рамон спросил: — Точно справитесь?
— В первый раз, что ли? — Воин поднялся, обнял воспитанника. — Ступай, давай. Девочка, поди, заждалась.
Рамон не думал, что все окажется так просто. Одно дело знать о том, что девушка в этой стране не отдает отчета никому, другое — просыпаться вместе и понимать, что не нужно таиться, и объясняться тоже не нужно. Амикам вернулся в свой черед, но ничего не изменилось. Разве что оставаться на ночь в доме Лии Рамон перестал, предпочитая уводить девушку к себе. Глупость, на самом деле, конечно отец знал, с кем проводит время дочь, да и встречал по-прежнему, как родного. Но в доме, где кроме них двоих не было никого (прислуга не в счет), казалось куда спокойней.
Он по-прежнему не считал дни. Но время перестало нестись вскачь, и оказалось, что впереди еще очень много этих дней, наполненных теплом и тем, что даже наедине с собой Рамон не решался назвать любовью. О проклятии он не сказал. Незачем расстраивать девочку раньше времени, успеет еще горя хлебнуть. Нечестно, наверное, было вообще сходиться с ней зная, чем все кончится, но сделанного не воротишь. Да, по правде говоря, он и не хотел возвращать.
Рамон и вправду не считал дни, но увидев в корзине цветочницы белоснежные звездочки ветреницы, споткнулся, отчетливо осознав, что весна станет последней, а лета может не быть вообще. Лия подхватила под локоть, словно могла удержать, если бы он действительно падал. Смешная…
— Что с тобой?
— Камень не заметил, раззява. — Натянуто улыбнулся Рамон. Купил букетик, помог девушке приколоть к платью.
Лия чмокнула в щеку:
— Красиво…
Он улыбнулся уже по-настоящему, взъерошил ей волосы:
— На тебе все красиво.
И в самом деле. А вообще — он же до их пор не дарил ей ничего… сласти и букеты не в счет. Ничего такого, что осталось бы потом, когда все кончится. Дома девушка не могла принять от мужчины ничего, кроме цветов и серенад, не потеряв репутации, но здесь-то все по другому. Подумав с миг, рыцарь предложил:
— Хочешь, бусы куплю?
Теперь споткнулась она, а Рамон запоздало вспомнил, что здесь мужчина дарит бусы девушке, на которой пока не может жениться — не родила. И если она примет подарок, значит, не обещается никому другому. Дурак, ой, дурак…
— Ты серьезно?
Господи, она же прямо светится вся. Что же он наделал… Зачем обещать девочке то, чего никогда не будет? И что теперь, сказать, прости, ошибся, не имел в виду ничего такого?
— Совершенно серьезно.
— Хочу… — прошептала она.
И улыбнулась — так, что у Рамона перехватило дыхание.
Она выбрала бусы из темно-зеленого, с разводами, муррина. И застегивая на шее девушки крошечный замочек, Рамон понял, что ничего ей не скажет. Ничегошеньки. Пусть будет счастлива, пока есть время. И потом, когда забудет, ведь забудет же когда-нибудь… тоже пусть будет счастлива.
Путь домой шел через площадь, где казнили преступников, и площадь эту Рамон предусмотрительно обошел стороной. Слишком много людей бродило по окрестным улицам — не иначе в ожидании зрелища. Самому рыцарю и преступники и казни были безразличны, но рассказанное когда-то Амикамом — мол, дочь, однажды сходила на площадь, потом прорыдала чуть ли не весь вечер — рыцарь помнил. Странно, что ее настолько задевают подобные вещи, но если так, то и расстраивать девочку лишний раз незачем.
Открывавший дверь слуга едва ли не прыгал от нетерпения.
— Господин, позволь отлучиться на часик. На площади ведьму жгут.
— Иди. — Буркнул Рамон. Нашел на что смотреть. Впрочем, чернь — она и есть чернь. Чем страшнее зрелище, тем интересней. Дети, жестокие дети, и всегда такими останутся. Повели тогда Хлодий разбойников лошадьми разорвать, мужики бы до сих пор парня на руках носили. Хотя, может, и к лучшему, что до такого не додумался. Надо бы в замок съездить, поглядеть, как дела идут. Может, и с Лией, ей, помнится, там понравилось.
Он закрыл дверь в комнату, обернулся к девушке. Испугался: бледная, глазищи огромные, вот-вот заплачет.
— Что случилось?
— Ты же слышал… ведьму жгут. Опять…
— И что с того? — Изумился рыцарь. — Туда и дорога, нашла из-за чего переживать.
Шагнул ближе, раскрывая объятья. Дурочка маленькая, расстроилась из-за такой ерунды.
Она попятилась.
— Погоди… Ты серьезно? Туда и дорога?
— Ну да. Ведьма, любая ведьма — это зло, природа у них такая. Загубит кого-нибудь непременно, не сразу, так когда в силу войдет.
— Вот как… А давай всех мужчин казним? Как насильников? Природа у них такая, кого-нибудь непременно, не сразу, так… — она судорожно вздохнула, как всхлипнула.
— Не смешно.
— Мне тоже.
Да что с ней? Какое девочке дело до ведьм, пропади они пропадом! Рамон придвинулся ближе, навис сверху:
— Ты хоть понимаешь, кого пытаешься защищать? Они — само зло!
— Неправда!
— А ты знаешь, каково хоронить братьев одного за другим? И знать, что… — рыцарь осекся. Отвернулся, уставился в окно на оживающий после весны сад. Чуть не сорвался, нельзя так. Как бы он ни ненавидел это племя, срываться нельзя. Иначе придется рассказывать все до конца. И будет девочка жалеть не несчастных ведьм, а его. Только этого не хватало.
— Знать — что?
— Ничего.
— И все-таки?
— Я сказал — ничего! — Рыкнул Рамон, не оборачиваясь. — Моя бы воля, собрал бы и спалил собственноручно. Всех.
Она замолчала. Надолго. А потом сказала — негромко, точно ничего уже не имело значения.
— Тогда начни с меня.
Рамон медленно развернулся. Она в своем уме?
— Ты же хочешь — всех под корень, собственноручно, так? — закричала Лия. — Ну так начни с меня! Я же зло, верно? Природа такая… Разложи костер — и вперед! Справиться я с тобой не смогу — да и пытаться не буду. И…
— Замолчи. — Он подошел ближе, взял за плечи. — Не надо. Хорошая моя, не шути так. Не надо…
Лия плакала, беззвучно, не отводя взгляда от его глаз.
— Я видящая.
— Ведьма…
— Ведьма.
Он уронил руки, шагнул назад, все еще не веря до конца. Ведьма…
— Не бойся. — Криво улыбнулась девушка. — Я тебе ничего не сделаю.
Рамон покачал головой:
— Больше, чем сделала одна из вас, не суметь уже никому.
— Не знаю, что она сотворила — но в чем провинилась я? В том, что такой родилась?
— Ты не сказала.
— Ты не спрашивал.
— Так я не знал, о чем спрашивать!
Она обещала, что будет сниться. И… Интересно, что она видела из тех снов. Подглядывала? Он сказал, что не против — но ведь тогда и мысли не было, что она всерьез? Вот просто так, забраться в самое сокровенное, как к себе… Интересно, что она еще сделала — так же, втихушку. Приворожила? Да нет, ерунда, зачем бы ей. Или…
— Господи, знал бы с самого начала, я бы…
— Ты бы никогда не пачкаться о ведьму?
Рамон застыл.
— Уйди. — Сказал он, наконец, тяжело глядя сверху вниз. — Уйди. Пока я еще могу… не тронуть тебя.
Лия подняла руку к шее, точно задыхаясь, дернула бусы. Зеленые шарики рассыпались, покатились по полу. Хлопнула дверь.
Рамон грохнул стулом о камень стены, еще и еще, пока в руках не остались обломки. Сполз на пол, собрал в ладонь переливчатые бусины. Долго-долго сидел, разглядывая ровные зеленые шарики. Время словно вернулось назад — туда, где ему было пятнадцать, и проклятье явило себя размозженным копытами лицом брата. И снова вокруг оставался лишь страх, и отчаяние и обида — за что? Его — за что? И не к кому было взывать о том, что так нечестно, все уже решено и срок отмерен там, где отмеряются людские судьбы, оставалось лишь смириться. Только смириться не получалось — как и тогда. Разве что сейчас плакать он уже не мог.
Бусины одна за другой скатились на пол. Рамон поднялся и, не дожидаясь пока вернется слуга, пошел седлать коня. Здесь делать больше нечего.
Когда господин внезапно вернулся в замок — смурной, рычащий на всех и вся, Бертовин не стал ничего спрашивать. И без того понятно: с девчонкой разругался. Пусть их, милые бранятся — тешатся только, недели не пройдет, обратно полетит. Но неделя прошла, а за ней еще одна, а Рамон не только никуда не собрался, но и приобрел неприятную привычку надираться по вечерам. В один из таких вечеров воин без приглашения зашел в комнату воспитанника, молча взял со стола кувшин и шарахнул его о каминную решетку. Пламя взвилось, зашипело. Бертовин ожидал взрыва, но рыцарь только усмехнулся:
— В погребе еще много.
— Не знаю, что там у вас случилось. — Сказал Бертовин. — И знать не хочу. Но тебе не кажется, что спиваться из-за бабы — чересчур?
— Не успею. — Он поймал вопрошающий взгляд воспитателя и пояснил. — Спиться не успею.
— Неважно. Заняться больше нечем?
Рамон подпер кулаком подбородок:
— Представляешь: нечем. Все время столько дел было а сейчас… Ну смотри: все идет само собой, я не нужен. Можно было бы у Хлодия дела отобрать — но он справляется, чего парня дергать? По пирам-охотам ездить — еще быстрее сопьюсь. Мельницу хотел ставить — так опять же с мастером договорился, даже задаток дал. А работать начнут после того, как паводок сойдет, не раньше. Эдгар бы трактат какой писать сел, но я не книжник.
Бертовин представил рыцаря, с отсутствующим взглядом корпящим над трактатом и улыбнулся.
— Вот-вот. — Кивнул Рамон. — Мне тоже смешно.
— И что теперь: так и будешь сидеть, костлявую ждать?
— Получается, так. — Он помолчал, заглянул в пустой кубок, поморщился. — Ну вот скажи, зачем добро было переводить?.. Так боялся, что не успею, оставлю Хлодию разор полный, загонялся…А теперь только и остается, что сидеть и костлявую ждать.
— Не нравишься ты мне.
— Я сам себе не нравлюсь.
— Съездил бы, с девочкой помирился, а? Мало ли…
— Без советчиков разберусь. — Оборвал Рамон.
— Выдрать бы тебя, как в былое время. Мигом бы нашел, чем заняться. — Бертовин шагнул к двери. — Без советчиков, так без советчиков. Охота остаток дней кроме бутылки ничего не видеть — твое дело.
— Неохота — Хмыкнул Рамон и начал выбираться из-за стола. — Пойду-ка проветрюсь. А утром кастеляна отругаю: столько времени прошло, а до сих пор ни гобеленов, ни половиков, ладно хоть, обставились без меня. Хлодий тоже хорош: самому нравится в сарае жить?
— А Хлодий знает, как должно быть? Он когда в замке хозяйничал?
— А ты на что?
— А ты?
Рамон провел ладонью по лицу.
— Хорошо. Устыдил. Доволен? — не дожидаясь ответа, приказал: — Вели прибрать здесь. И коня пусть седлают — сейчас спущусь, помогу. Съезжу, прогуляюсь, а там… утро вечера мудренее.
— Далеко поедешь?
— К Дагоберу. Сосед как-никак.
Нехорошо, на самом деле: столько месяцев прошло, а с соседями только шапочное знакомство свел. Ладно, сперва занят был, а потом? Видеть никого не хотелось, страдалец хренов. Вместо того, чтобы пьянствовать, лучше бы по окрестностям проехал. Перезнакомился, да к себе пригласил. И так по кругу — светское колесо должно крутиться, иначе забудут. А это ни к чему — Хлодию потом в три раза труднее сходиться с соседями будет. Надо, чтобы его уже сейчас знали, и не спрашивали потом, кто таков, да откуда взялся. А то полно народа кругом, а ни к кому не приглашен, кроме Дагобера.
Насколько он знал Дагобер вот уже с месяц как перестал мотаться между родительским дворцом и новыми владениями, прочно осев в замке. Когда сам Рамон вернулся из города, маркиз заезжал в гости, визит нужно было вернуть. Дагобер, помнится, сказал «в любое время» — так почему бы и не сейчас. Напоит, правда, а потом по бабам потащит… Ну и пусть. Хранить верность больше некому, а крестьянки бывают очень даже ничего.
Дагобер и вправду рад был видеть знакомое лицо. Велел выставить на стол угощенье, да и вином не обделил. Долго жаловался на то, что в этой глуши и одичать недолго. Земли много, хорошо, конечно, но пока до соседа доедешь, возвращаться пора. Увеселений никаких — на охоту вот пару раз выбрался… кстати, в следующий раз Рамон должен быть непременно. Ни пира не закатишь, про балы и говорить нечего — одни мужики кругом. Понятно, конечно, что все младшие сыновья неженатые да безземельные, кто еще согласится за морем воевать, но это ж рехнуться можно, когда и приударить не за кем.
— А эта, твоя… — перебил Рамон. — Как ее там…
— Бертрада? Так я из-за нее тут и сижу. Представляешь, решила, будто я на ней женюсь, проходу не давала. Ну скажи: ты бы стал жениться на девке, прижившей приплод невесть от кого?
— Уверен, что не твой?
— Если она мне дала, что мешает дать кому-то другому?
Рыцарь пожал плечами:
— Ничего. Кроме совести.
— Какая совесть может быть, если уже ноги раздвинула? Это вам не привыкать ублюдков кормить, а я не хочу. Да и не пара она мне, сам понимаешь. Отец корону наденет, я наследую, на ком попало жениться не дадут.
Рамон кивнул. И в самом деле — не дадут. Сговорят со знатной девицей или из Агенской хорошей семьи, или и вовсе из Белона. Девственницей, само собой.
— И будешь от жены гулять направо и налево.
— Так удаль молодцу не в укор. — Ухмыльнулся Дагоберт. — Кстати… Глянулась мне тут одна в деревне. Съездим?
— Что мне там делать, свечку держать?
— Сейчас мальчишку пошлю. Передать, чтобы ждала, да подружку привела посговорчивей. А мы с тобой пока ответа ждем, еще выпьем. Погоди, сейчас буду.
Пока Дагобер отсутствовал, появился слуга, сменил пустые кувшины с вином на полные, поставил блюда с дичью. Рамон, в ожидании хозяина занялся едой: мало радости трепать языком на пустой желудок, а маркиз вернется, опять трещать начнет. Неужто и в самом деле общества не хватает?
— Представляешь, неделю ее обхаживал, как дурак. — сказал вернувшийся Дагобер.
— Крестьянку? — не поверил Рамон.
— Ну да. Дома бы, конечно, все по-другому было, а здесь пока нельзя… Ну вроде сговорились. Сейчас посмотрим, что ответит.
— Давай, я лучше к себе поеду? — предложил рыцарь, которому, признаться, начинал надоедать и разговор и изрядно поднабравшийся приятель. Если продолжит пить с такой же скоростью, в седле не удержится. Вот веселья будет.
— Нет. — Протянул Дагобер. — Ты мой гость. Значит, я тебя должен напоить, накормить и развлечь. Так что поехали развлекаться.
Они еще поговорили о делах. Маркиз сетовал на то, что хороших каменщиков днем с огнем не сыщешь — привыкли к дармовому лесу. И замок из-за этого медленно строится, приходится жить «как мужик какой-то». На взгляд Рамона дом, в котором они расположились, срубили добротно. И ничего зазорного в такой жизни не было, ну да не спорить же. В свою очередь рыцарь посетовал на лентяя-кастеляна, без господина неспособного занавески выбрать, раз уж гобеленов тут не ткут. Сошлись на том, что за чернью глаз да глаз нужен, волю дай — распустятся, работать перестанут. Потом Дагобер сказал, что не иначе батюшка гневался, когда дал землю так далеко от города. Рамон ответил, что маркиз ничего не понимает: вблизи города все земля поделена, а тут через реку — ничейная. Набирай силенок, приходи да бери под руку. Хозяин почесал в затылке и надолго замолчал. А потом вернулся мальчишка-посыльный и сказал, что девушка будет ждать, и подружку привести обещала. Рамон не слишком усердно попытался отговориться — он сам не знал, почему вдруг расхотелось ехать — но ничего не добился и махнул рукой. В конце концов, действительно, чего изображать монаха.
Дагобер хоть и был изрядно навеселе, но в седло взобрался без помощи. Рамон присмотрелся внимательней, удивился высоким лукам, точно кресло окружавшим всадника. Оказалось, новое столичное веяние, Герцог только-только привез себе и сыну. В седло взобраться труднее, зато и вылететь из него не так просто, что для боя важно. Зачем на прогулку боевое седло? Ничего рыцарь не понимает, там золотое шитье, на солнце глаза больно. Рамон рассмеялся — действительно, куда уж ему понять, зачем ночью седло с золотым шитьем, все равно в темноте не видно. Остаток пути пришлось слушать лекцию о том, что девки как сороки — падки на все блестящее. Чем надо пользоваться и пускать пыль в глаза.
Наконец, они подъехали к деревне — темной и тихой, немудрено, полночь почти. Дагобер поплутал среди домов. Потом уверенно открыл калитку.
— В дом не надо. — Раздался рядом шепот. — Родители спят.
— Подружку привела?
— Привела. Пошли на сеновал.
Девушка взяла маркиза за руку, Рамон последовал за ними. Они вошли в какой-то сарай, внутри оказалось темно, хоть глаз выколи. Рыцарь хотел было возмутиться — лучину что ли пожалела, когда что-то огрело по затылку, темнота рассыпалась искрами и сомкнулась уже окончательно.
Здравствуй.
Поздравляю нас обоих с днем рождения. Ты еще не напился по этому славному поводу? Я уже, и собираюсь добавить, так что прости за почерк. Не уверен, правда, что утром отправлю, ибо что у пьяного на языке…
Не думал, что будет так плохо. Почему-то казалось, что давно привык, что много лет как безразлично, а вот поди ж ты. Весь день, как дурак, подпрыгивал от каждого шороха, чуть не заперся в подвале, а потом не выдержал и надрался. Теперь море по колено. Главное, не кувыркнуться с лестницы, вот будет веселье.
Господи, как же мне страшно… Если весь оставшийся год, или сколько там от него получится, станет таким же — проще удавиться сразу и самому. Посмотрю, что будет завтра — просто «не думать» не помогает, точнее, получается еще хуже, как в той притче «не думай о белом тигре». Все же я полагаю, что справлюсь. Должен справиться.
Благо, есть воинское правило, которое невозможно выполнять с сумбуром в голове. Есть соседи, в беседах с которыми можно развеяться, и к которым я наконец-то могу ездить когда и сколько хочется. Подумать только, сколько крови мне это стоило — но я победил. Условие предупреждать куда еду по сравнению с тем, что было до — пустяки. Впрочем, не уверен, что с завтрашнего дня матушка не начнет новую осаду. Тем более, что теперь у нее действительное есть все причины беспокоиться. Ничего, справлюсь и с этим. Должен справиться — иначе к чему это все? Да и доживать жмущимся по углам трусом совсем не хочется. Так что все будет хорошо.
Самое смешное то, что на самом деле я боюсь не дожить до турнира. Представляешь, как по дурацки выйдет — столько хлопот, столько скандалов, столько надежд — и все ради того, чтобы окочуриться накануне. Это ж животик надорвать можно. Все же надеюсь, что господь не сыграет со мной настолько злую шутку. Перспектива не вернуться с турнира, как это уже было в нашей семье пугает меня куда меньше. Хотя казалось бы — смерть есть смерть, какая, в сущности разница, а вот поди ж ты. Странный выверт сознания. Боюсь умереть, так и не узнав, что такое чувствовать себя мужчиной.
… Ну вот, третье перо сломал. Наверное, хватит на сегодня. И выпивки тоже хватит. Спать пойду.
Рихмер.
Глава 21
Смыть сажу с волос оказалось не так просто. Как ни странно, Эдгар обрадовался этому. Все равно заснуть сразу не получится а так вроде и делом занят — не придется ворочаться с боку на бок, догоняя ускользающий сон.
В очередной раз изучая в зеркале грязно-серые пряди, никак не желавшие становиться светло-русыми, сколько воды и мыльного корня не трать, Эдгар мельком подумал — а Талье каково будет промыть косу в руку толщиной. Служанки помогут, конечно, но все равно…
И выругался вслух, поняв, что назвал ее по имени, а не привычным «принцесса». До сей поры такого не случалось, разве что девушка сама поправляла учителя. Поначалу часто, потом перестала, сказав однажды, мол, не хочешь по-человечески, как хочешь. Выходило, он забылся второй раз за вечер.
Теплой воды не осталось и Эдгар налил в кувшин то, что было, не ходить же пугалом с утра. Зашипел, когда холод пробрался к коже. Ну и поделом, в следующий раз думать будет, прежде чем хватать за руки высокопоставленных особ. То, что принцесса обходится с по-человечески, еще не значит, что она видит в нем равного. К равному она бы не пришла: в обществе нужно держать лицо. Зато можно прийти к чужаку, он никто, и что подумает, тоже значения не имеет. А то, что ему что-то там почудилось — так это вино и веселье.
Эдгар кое-как вытерся: полотенце уже было мокрым насквозь и почти не вбирало воду. Хотел было кликнуть слугу, чтобы прибрал — да, у него был слуга, и ученый так до конца и не привык к этому. Потом решил, что едва ли дозовется, и решил оставить все как есть до утра. Или когда там все проснутся. Заниматься завтра точно не придется — после такой-то ночки ведь дворец будет отсыпаться до вечера. Надо бы Рамону написать, спросить, как он праздник провел. Жаль, не увидеть, какое у брата будет лицо, когда узнает, как принцесса по домам ходила. Впрочем, нет, об этом не стоит ни писать, ни рассказывать, да и самому забыть, точно морок. Навсегда.
Когда ученый продрал глаза, выяснилось, что воду вчера он перевел всю. В том числе и из кувшина для умывания. Эдгар кое-как пригладил взлохмаченныные спросонья волосы: высохшие в беспорядке пряди, даром что короткие, никак не желали лежать благопристойно, топорщились неопрятными лохмами — и пошел разыскивать воду, а заодно и еду.
Найти кого-то в отсыпающемся после доброй гулянки дворце оказалось той еще задачей: ученый потратил добрые полчаса прежде чем раздобыл нужное. Ногой распахнул дверь — руки были заняты — и едва не уронил поднос со всем содержимым.
— Доброе утро. — Сказала принцесса. — Не стала ждать под дверью, уж извини.
— Доброе… — буркнул Эдгар. Не то, чтобы он не был рад ее видеть, но в конце концов, может человек проснуться и поесть в одиночестве?
— Садись. — Спохватилась она. — Если мешаю, я уйду. Вернусь… скажем, через час.
— Нет-нет, все в порядке. Разделишь со мной трапезу?
Правду говоря, он почти не покривил душой: раздражение улеглось едва поднявшись, а смотреть на Талью… принцессу было приятно. Завтрак придется разделить — тоже ничего страшного, за последние месяцы разъелся, глядишь, скоро в дверь не пройдет.
— Спасибо, с удовольствием.
Когда с едой было покончено, Эдгар поинтересовался:
— Заниматься?
— Нет, сегодня не хочу. — Ответила принцесса. — Поехали в горы? Я вчера так и не увидела толком снега, а в горах он должен остаться.
— Не замерзнешь? — улыбнулся он.
— Перчатки возьму. Так что?
— Батюшка разрешил?
— Я его со вчерашнего не видела. Поехали, он мне ничего не запрещает.
— Поехали. — Согласился Эдгар. Чего бы и нет, в самом деле? Насколько он успел понять, а король действительно ничего не запрещал дочери — впрочем, и та знала меру в капризах.
— Перчаток возьми две пары. — Сказал он. — Промокнут. И оденься теплее снег — это холодно. Долго отсюда до гор?
— Часа два, если не торопиться. Спасибо! — принцесса рассмеялась, чмокнула его в щеку и упорхнула, оставив ученого ошалело таращиться на закрытую дверь.
Собралась она быстро. Кони, похоже, были оседланы загодя, словно девушка не сомневалась в том, что найдет спутника. Впрочем, с чего это он решил, будто больше некому сопровождать принцессу на прогулке? Любой из знатнейших людей королевства почтет за великую честь, а что с учителем поехала — так спят же все после вчерашнего.
Похоже, к обеду не проспался не только дворец: город словно вымер, и стук копыт о каменную мостовую гулко разлетался среди домов, точно так же как тем ранним утром, когда они с братом собирались на охоту. Только тогда над городом висели сумерки, а сейчас солнце вовсю сияло на небе. Эдгар понял, что будет скучать по столице. Пусть в Агене такие же дома и такой же язык, там не проедешь так просто по улице в компании принцессы и ее стражей. Не то, чтобы близость к сильным тешила тщеславие, этого порока ученый был лишен подчистую. Но вот таких неспешных прогулок и разговоров будет не хватать. Впрочем, до поздней весны, на которую назначена свадьба, есть время. Время на то, чтобы вспомнить, где его место.
В городе, да и за стенами, от ночного снега не осталось и следа. Эдгар никак не мог привыкнуть к этой зиме: изморозь на закаменевшей от холода земле, и больше ничего, ни сугробов до колена, ни пушистого одеяния на деревьях. Было в этом что-то неправильное, несмотря на то, что по морозам ученый отнюдь не тосковал. Может быть, в горах и вправду лежит снег, будет хоть повод вспомнить, что такое настоящая зима. Склоны казались близкими, протяни руку и коснешься, но на деле пришлось проехать больше часа прежде, чем дорога резко устремилась ввысь.
— Весной здесь цветут тюльпаны. — Сказала принцесса. — Надо будет обязательно съездить. Попрощаться. Ведь в Агене их нет?
Эдгар помолчал, припоминая.
— Нет, тюльпанов не видел, я почти не был за городом. Но у дворца твоего жениха резная ограда увита розами. Ты сможешь любоваться ими каждое утро, пока не отцветут.
— Неравная замена. Розы есть и во дворце моего отца.
— Правда?
— Правда. Ты так и не научился видеть.
— Таким уж я уродился, принцесса.
Мало-помалу деревья вдоль дороги становились все ниже, а потом и вовсе исчезли, уступив место кустарнику, который сейчас напоминал неопрятно натыканные метелки из голых прутьев. Зато появился снег. Хотя, если бы Эдгара спросили, тот бы ответил, что снегом назвать это недоразумение, лежащее слоем едва ли в полдюйма, может назвать лишь тот, кто не видел снега настоящего. К счастью, его никто не спрашивал, а принцесса радовалась, как девчонка, собирая в горстку снежинки с камня. Она перестала взвизгивать от непривычного холода и только любопытно смотрела, как белые хлопья превращаются в прозрачные капли. Стряхивала их с ладошки и собирала новую горстку. Наконец, эта забава ей надоела, и девушка снова натянула шитые жемчугом перчатки.
Они миновали перевал и спустились в долину. Вдоль дороги появился ручей. Поток то сужался до локтя, обрушивался с каменных уступов, то растекался на добрых три ярда по мелким галечным россыпям. Снова выросли деревья. А еще в долине был снег. Пушистый слой в поллоктя толщиной. По мнению Эдгара и это трудно было назвать «настоящим» снегом — но все лучше, чем раньше.
Принцесса придержала коня.
— Помоги, пожалуйста.
Эдгар удивился: обычно ей помогал спуститься один из телохранителей. Ученый спешился, едва не запутавшись в стремени. Талья спрыгнула на землю, едва опершись о протянутую руку — не попроси она, Эдгар был бы уверен, что помощь девушке не нужна и эта мимолетная опора лишь дань этикету. Велика трудность — спуститься с коня, вот взобраться в седло, даже мужское, невысокой девушке действительно сложно, без помощи не обойтись. Что уж говорить о дамской посадке. По правде говоря, всадницы в дамском седле каждый раз напоминали ученому о курах на насесте, как не корил он себя за столь непочтительное сравнение. А уж о том, как они ухитрялись удержаться на конской спине, и вовсе оставалось только гадать, как ни крути, дощечка под ногами — отнюдь не надежная опора. Со стременами уж точно не сравнить.
С другой стороны, Эдгар до сих пор был уверен, что женщина в мужском седле выглядит чудовищно неприлично. Он только недавно научился смотреть в лицо принцессе, а не в небо или на землю… словом, куда угодно, только не на обтянутые штанами ноги, обнимающие конские бока. Здесь вообще не знали дамского седла, появившегося в Агене вместе с завоевателями.
— Спасибо. — Сказала принцесса. — Скажи, как играют в эти ваши… снежки?
— Просто кидают друг в друга и все. — Ученый не шутку опешил. Уж, казалось бы, давно должен было привыкнуть к странным вопросам, а поди ж ты, каждый раз изумляется, как в первый.
— И все?
— Ну да. Это же не турнир. Не состязание. Просто забава.оказалось, лепить снежки она тоже не умела, и ученому пришлось потратить добрые четверть часа на то, чтобы объяснить, как из горсти снега получается ровный шар. А потом трястись от страха: не ровен час, засветит во всей дури в высочайшее око. Хорошо, если синяком обойдется.
— Ты чего такой… как деревянный — спросила Талья.
— Боюсь. — Признался ученый. — Зашибу ненароком.
— Ерунда какая. — Рассмеялась она. — Это на ваших барышень дунешь — упадет, а я нормальная. Не поддавайся. Я приказываю.
Приказывать она, конечно, могла сколько угодно, но трудно в полную силу состязаться с созданием ниже на голову и в два раза меньше. Примерно так Эдгар и сказал — и тут же получил снежком по лбу. Чтобы не задавался, объяснила принцесса.
Эдгар перестал «задаваться» и обнаружил, что девушка и в самом деле не слишком-то нуждалась в его снисходительности. Маленькая, быстрая и верткая: поди попади. А еще она где-то наловчилась кидаться, попадая почти без промаха. Будь на месте принцессы юноша, Эдгар бы не стал спрашивать, что да как: общеизвестно, что воинские упражнения делают тело не только сильным, но и ловким. Но девушки не такие вещи, у них другие заботы, и потому Эдгар спросил, едва принцесса остановилась перевести дух.
— Есть такая игра. — сказала принцесса. — Нужно сперва отбить мяч палкой… а потом убежать, а другая сторона кидает в тебя мяч и нужно, чтобы не попали.
Она начала было объяснять правила, но ученый быстро перестал понимать, что к чему: поди пойми на слух, где «город» а где «кон» и куда, собственно, бежать. И девушка махнула рукой.
— Надо как-нибудь народ собрать и поиграть. Тогда поймешь. Она улыбнулась и вдруг сникла. — Хотя нет, не получится…. опять поддаваться начнут, чтобы принцессу не обидеть. Приказывай-не приказывай, без толку. Пока братья были живы хорошо получалось: двое с одной стороны, трое с другой, хочешь-не хочешь, а приходилось в полную силу играть. А сейчас…
Она снова махнула рукой и начала стряхивать снег с одежды.
Эдгар не стал спрашивать, что случилось с братьями. Когда в город приходит мор, ему все равно, в хижине или дворце живут его жертвы. Поговаривали, болезнь принесли после очередной стычки с Каданом. Тогда армии долго стояли друг против друга по разным берегам реки, а потом враги вдруг снялись и ушли, оставив на месте лагеря десятки непогребенных тел. Правда то, или нет, но за неделю король лишился четверых сыновей и жены. И когда выздоровела дочь — сговорил ее за герцога Авгульфа.
Девушка меж тем отряхнулась и начала спускаться к речке.
— Принцесса, куда ты? — спохватился Эдгар.
— Пить хочу.
— У меня есть вода в во фляге.
— Я хочу холодную — отмахнулась она. — В няньки решил податься?
Эдгар счел за благо замолчать, не дожидаясь пожелания не лезть не в свое дело. Говорят, от ледяной горной воды сводит руки и ломит зубы даже в летнюю жару, не только зимой, но, в конце концов, ему-то что до того? Хочет мерзнуть — пускай себе…
Додумать он не успел. То ли ненадежный камень попался под руку, то ли мелкая водная пыль, висевшая там, где поток падал с уступа покрыла берег тонким слоем льда, но принцесса и пискнуть не успела, кубарем слетев в ручей.
Глубина была — цыпленку по колено, но этого хватило, чтобы насквозь промочить и штаны, и подбитый мехом кафтан, и теплый плащ. Девушка выскочила на берег, замерла неловко разведя руки, с которых потоком лилась вода.
Эдгар за руку выволок принцессу наверх.
— Отвернитесь. — сказала она. — Это надо снять и выжать. А потом быстрее домой.
Губы девушки тряслись — то ли от холода, то ли от того, что вот-вот расплачется.
Снять нужно. — согласился Эдгар, поворачиваясь спиной. — И выжать тоже. Но если ты поедешь домой в мокром, к воротам дворца в лучшем случае подъедешь больной.
— А в худшем? — поинтересовалась принцесса, клацая зубами.
— В худшем — мертвой. — встрял в разговор один из охранников.
— И что же делать?
— Раздевайся. — сказал ученый, сбрасывая подбитый мехом плащ. Дальше последовал сюрко из толстой шерсти.
— Что ты делаешь?
— Надо же тебе что-то надеть взамен мокрого — ученый протянул за спину охапку одежды. — И с ног не забудь снять, а то и это промочишь.
— Спасибо. А ты?
— Обойдусь.
Рубашка из доброго льна и тонкая котта — не лучшая защита от холода, но если не стоять на месте — может, и вправду получится обойтись.
Один из охранников молча накинул ему на плечи плащ. Эдгар устыдился, что до сих пор не только не узнал имен, но и не научился толком различать лица.
— Можете повернуться. — сказала принцесса. — Только сапоги тоже мокрые. И все равно холодно.
— Снимай. — приказал Эдгар.
— А…
— Снимай, говорю.
Она кивнула и начала разуваться. Ступила босыми ногами на скинутый кафтан, стараясь попасть на сухое, неуверенно подняла взгляд.
— Что дальше?
Эдгар улыбнулся и подхватил девушку на руки. Огляделся, опустился на кстати подвернувшийся ствол. Устроил принцессу на коленях, обернул подолом ножки. Хорошо, что она мала ростом, как и положено девушке, а он высок даже для мужчины: вот лишняя длина и пригодится. Накинул плащ, так, чтобы укутывал обоих.
— Так будет теплее.
— Спасибо. — повторила принцесса и затихла, прижавшись к плечу.
— Во дворец надо, быстрее. — сказал страж.
Ученый кивнул, размышляя. Если бы не босые ноги, принцессу можно было бы посадить на коня, не замерзла бы. Или если бы у них было дамское седло…
— Талья, ты умеешь ездить по-женски?
— Это как?
Пришлось объяснить. Мужское седло в женское, конечно, не переделать, но если усадить девушку так, как частенько ездили знатные дамы: боком, позади мужчины, за которого можно держаться. Тогда и ноги будут в тепле, и голым телом в седло влезать не придется. Ехать, правда, придется медленнее обычного, чтобы принцессу не уронить, но жать, пока у у костра на морозе высохнет мокрая насквозь одежда — еще дольше. Замерзнут, как пить дать. тем более, что и приличного костра не развести: собирались на короткую прогулку, ни еды ни топоров. Сам Эдгар точно замерзнет: холод уже пробирался под плащ, несмотря на прижавшуюся девушку.
— Попробую. — Сказала принцесса. — Ты ведь уже возил так женщин?
— Признаться, не приходилось.
— Значит, будем учиться вместе. — Рассмеялась она.
Для того, чтобы принцесса смогла взобраться на коня, пришлось подвести его к поваленному дереву. Эдгар подумал с миг, снял отданный стражем плащ, укутал в него ноги девушки, скрепив плаз застежкой. На одно сюрко надежды мало: разрез от подола до пояса, сделанный, чтобы удобней было садиться в седло, на ходу может сыграть злую шутку. А так точно будет все хорошо.
— А ты?
Эдгар улыбнулся:
— Разве можно замерзнуть, когда сзади прижимается теплая девушка?
— Ну если так… — улыбка мелькнула и мигом угасла. — Прости, я не думала, что так будет.
Обратную дорогу Эдгар потом вспомнить не мог, как ни старался. Остались какие-то обрывки: то, что один из стражей уехал вперед, чтобы быстрее обернуться и привезти из замка что-нибудь теплое. То, что оставшиеся по очереди передавали друг другу единственный на троих теплый плащ. Пробирающий до нутра холод и теплые руки, обнимающие за пояс. Немеющие пальцы. Как он умудрялся управляться с конем, если подъезжая ко дворцу не чувствовал ни рук, ни ног, Эдгар и сам не знал. Да, конечно, незачем было играть в благородного кавалера и оставить плащ себе. Но с другой стороны, замерзни принцесса, по головке точно не погладят. Так что все правильно. Впервой, что ли?
Он передал девушку на руки слугам. Едва добравшись до комнаты, приказал подать горячее вино со специями. Может, обойдется. Нужно только забраться под одеяло и согреться как следует. Он выпил обжигающее вино и провалился в сон, как был, не раздеваясь.
Наутро слуга нашел его мечущимся в лихорадке.
Глава 22
Сознание возвращалось медленно и трудно. Рамон попытался оглядеться, но после первого же движения глаз внутри поднялась дурнота и рыцарь поспешно опустил веки.
— Живой?
Голос вроде принадлежал Дагоберу, но куда делась обычная надменность?
— Вроде.
Он попытался сесть, тошнота навалилась с удвоенной силой. Рамон сам не понял, как добрался до поганого ведра. Выворачивало знатно, при обычном похмелье так плохо не бывает. Дагобер подхватил за плечи, помог добраться до охапки соломы на полу.
— Ты как? — выдохнул Рамон.
— Меня не били. Нож к горлу приставили и повязали.
Рыцарь попытался сосредоточиться, получалось плохо. Надо спросить что-то важное… Где они вообще? Как здесь оказались? Сперва пили, потом… не вспоминалось, хоть плачь. Дагобер сказал «били» — похоже на то. Руки сами потянулись к перевязи, где кроме меча всегда был боевой нож — и не нашли ни того, ни другого. Значит, они тут не по доброй воле. Хорошо, «как попали» — подождет. Что делать? Как же голова болит…
— Запомнил, куда нас везли?
— Нет. Мешок на голову натянули — и все. Знаю, что ехали долго, и вроде лес вокруг — ветками по лицу хлестало.
— Руки свободны?
— Что толку? Бревна в обхват и дверь такая, что тараном не вынесешь. Хорошо здесь строили, на совесть. — Маркиз усмехнулся. — Развлекся, ничего не скажешь.
Развлекся? О чем он? Измученный дурнотой разум отчаянно сопротивлялся. Сперва пили, потом… потом развлекаться поехали, точно. Потом ничего не вспоминалось. Значит, скорее всего там их и повязали. Да уж, славно повеселились. Оставалось только надеяться, что не с бабы стащили, вот позорище было бы.
— Как выбираться будем?
— Никак. — Ответил Дагобер. — Я тут все осмотрел. Ну, доберусь до этой сучки…
— Так она тебя и ждет.
— Из под земли достану. Долго нам тут все равно не сидеть. Как только отец выкуп заплатит — найду суку и шею сверну.
— За меня некому платить. — Шевелиться не хотелось, открывать глаза тоже. По правде сказать — и говорить не хотелось.
— Может, много не заломят.
— Может.
Запросить за пленника выкуп — святое дело. Правда, обычно пленных в бою брали а не по чужим постелям отлавливали, ну да не в том суть. Сын герцога, правящего окрестными землями, и граф. Не заломят, как же. За Дагобера отец заплатит, никуда не денется. А самому как быть? Матушка деньги не пришлет, после того письма, в котором стребовал долю Эдгара вообще отвечать перестала. А может, давно списала, как покойника. Разве что Рихмер заставит, но на брата надежды мало. Хлодий, конечно, шкатулку с золотом откроет — но много ли там того золота? Замок далеко еще не стал доходным, и станет разве что к осени. Еще, может быть что-то осталось у Эдгара. Возвращать, конечно придется, но это другой разговор. Может, и получится наскрести сколько нужно. Подыхать в четырех стенах отчаянно не хотелось. Рамон выбросил гадостные мысли из головы: нечего раньше времени помирать. Скажут, сколько золота хотят — вот тогда и придется подумать, откуда его взять. А пока и без того голова болит. Попробовать поспать, что ли, может, легче будет.
Поспать не дали: за стеной что-то скрежетал ключ в замке и в раскрывшуюся дверь вошли пятеро. Один, в богатой одежде и с надменным лицом явно старший, остальные выглядели обычными рубаками.
Рамон медленно сел. Тело отвечало дурнотой на малейшее движение, но валяться перед этими не хотелось.
— Удачно как вышло. — Сказал вошедший. — Ждали одного голубка, а попались двое. Что ж, тем интересней будет.
Он медленно обошел вокруг сидящего Дагобера и рявкнул:
— Вставай, быстро! Нос не дорос сидеть при правителе Агена.
Ни тот, ни другой не шевельнулись.
— Глухие?
— Правитель Агена — мой отец. — Сказал Дагобер. — А тебя я не знаю. И не к лицу человеку королевской крови вставать невесть перед кем.
— Храбрый голубок попался. — Ухмыльнулся вошедший. — Что ж, посмотрим, как потом запоешь. — Он подошел к Рамону.
— А ты — тоже королевской крови?
— Нет. И будь ты и впрямь правителем Агена, я бы приветствовал тебя, как подобает. — Рыцарь с трудом различал собственные слова сквозь звон в ушах. — Но ты перестал быть им, когда бросил свой народ на произвол судьбы.
— Много понимаешь. — Чужак схватил за грудки, вздернул на ноги. Повторил: — много понимаешь…
Он хотел сказать что-то еще но тут Рамона вывернуло снова- чего он и боялся с самого начала. Желудок не простил резкого изменения положения тела, одно что пустой вроде был. Чужак отпрыгнул, застыл, разглядывая испачканную одежду. А через миг Рамон сложился от удара поддых. Увернуться не получалось — поди увернись, когда перед глазами плавает серая муть Дагобер вскочил, бросился было на подмогу — но четверо, что пришли с бывшим правителем Агена не зря хлеб ели, повисли цепными псами, а в следующий миг у горла оказался нож. И маркизу осталось лишь беспомощно наблюдать, как рыцарь заваливается на пол от удара в висок, а чужак охаживает его сапогами с блестящими оковками по носкам. Раз за разом, до тех пор, пока тело на полу перестало дергаться от ударов.
Бывший правитель Агена повернулся к Дагоберу.
— Из-за твоего дружка сапоги угваздал, теперь кровь отчищать.
— Сам, что ли, чистить будешь?
— А может, тебя заставить? А, голубок?
— Сволочь…
— Это вы пришли в мой город. Так что я в своем праве.
Маркиз дернулся и снова замер. Под лезвием прижатого к коже ножа проступила кровь.
— Бери пергамент и перо. — Сказал чужак. — Пиши батюшке обо всем, что случилось. Согласится уйти с моих земель — вернешься живым.
— Не согласится. — Выплюнул Дагобер. — И писать не буду.
— Ну так я не гордый, сам напишу. — Он взял маркиза за подбородок. — Молись богу своему, чтобы согласился. Не ответит через неделю — пришлем батюшке голову твоего дружка. Чтобы проникся. А еще через неделю — твою. Так что молись, чтобы согласился.
— За ним люди. Он не может согласиться. Проси денег — отец щедр.
— Нужны мне твои деньги. Я хочу мой город.
— Город ты предал сам.
— Скажи спасибо, что ты — пока — нужен мне невредимым. — Прошипел чужак. — Писать будешь?
— Нет.
— Тебе же хуже. — Он стремительно развернулся и вышел. Следом исчезли солдаты. Заскрипел замок. Дагобер опустился радом со съежившимся на полу телом, осторожно перевернул на спину. Рамон застонал.
— Живой! — обрадовался маркиз. Понял на руки, перенес на солому. Подумал, что надо бы по щекам надавать, чтобы очнулся — но куда еще-то, и так живого места нет.
— Эй! — повторил: — Эй, очнись давай!
Тишина.
Дагобер поразмыслил с минуту, осторожно тряхнул за плечи, потом, осмелев, сильнее.
— Да очнись же ты!
Рамон вскрикнул, маркиз отшатнулся, пробормотал:
— Прости. Как ты?
— Хреново.
— Прости. Если бы… — Он уронил голову на руки.
— Бог простит.
Повисло молчание, тяжелое, густое точно кисель.
— Какой выкуп он хочет? — спросил, наконец, рыцарь.
— Аген.
Рамон застонал.
— Отец на это не пойдет. — Дагобер снова спрятал лицо в ладонях. — Ради меня он всю казну отдаст. Но город… Я говорил, я же этому гаду говорил — но ведь и слышать не хочет… — он начал раскачиваться из стороны в сторону. Вскинулся:
— Скажи, что тебе еще рано! Что мы не умрем…
Рамон рассмеялся, громко и страшно. Смеяться было больно, но остановиться не получалось никак.
— Чего гогочешь?
— Вчера… — выдохнул рыцарь. Закашлялся, сплюнул кровь. — Вчера… или когда там… с тобой пили. Мне сравнялся двадцать один.
Дагобер поднял голову, встретился глазами с Рамоном. Отвернулся, съежился так, что видно было только вздрагивающую спину.
Снова заскрежетал ключ в замке. Маркиз вскинулся, провел рукавом по лицу, на которое стремительно возвращалсь обычная надменность.
— Написал я. — Чужак успел не только сложить письмо, но и переодеться. — Читать будешь?
— Нет.
Ну нет, так нет. — Он развернулся.
— Постой. — Окликнул Дагобер. — моему другу нужна вода — промыть раны. Еще повязки и, может быть, лубки.
— Перебьетесь. — Ухмыльнулся чужак. — Воду и хлеб я вам дам, что дружку не пожалеешь, тем промоешь. А без повязок перебьетесь. Оба вы не жильцы, если твой батюшка так тверд духом, как говоришь. Как думаешь, справедливо выйдет? Он отнял у меня город, я у него — сына. Молчишь? Ну, молчи.
Следом зашел мужик, отдал полкаравая и кувшин с водой. Снова стукнула дверь.
Счет времени Дагобер потерял сразу — поди пойми, день или ночь на дворе, сидя среди четырех стен без окон. Он пытался было считать догоревшие лучины, но мигом сбился. Главный больше не приходил, а мужик, носивший еду и рта не раскрыл, как маркиз не пытался выведать у него, какой сейчас день. Или хотя бы как часто он приносит эти полкаравая и воду. Судя по тому, что Дагобер успевал изрядно проголодаться к его появлению — не чаще двух раз в день, впрочем, возможно дело было в том, что маркиз не привык к столь скудной еде. Рамон большую часть времени был без сознания, а когда приходил в себя — лежал с закрытыми глазами и молчал. А еще пил — много и жадно. В первый же день Дагобер попытался отмыть его от крови, но куска подола, смоченного из кувшина хватило только на лицо. Еще одним куском полотна перетянуть ребра, да кое-как подвязать повисшую руку- на большее рубахи не хватило. С появившимся вскоре хриплым кашлем и лихорадкой маркиз ничего поделать не мог, и оставалось только сидеть и ждать, чем все кончится. По большому счету, все нелепые попытки помочь были бессмысленны. Если через неделю голову Рамона пошлют к герцогу, кому какая разница, снимут ее со здорового или умирающего? Но не делать ничего означало смириться и покорно ждать конца.
Дагобер попытался было напасть на мужика, что носил еду и добился лишь появления охраны. Да того, что связали, развязывая лишь когда он просился до ветра, да чтобы поесть. Теперь точно осталось лишь сидеть и ждать. Сперва истает неделя, и он останется один, а потом пройдет и вторая. И все закончится.
О том, что произошло, Лия не сказала никому. Конечно, отец заметил, что она перестала пропадать неизвестно где, да и заплаканные глаза трудно не заметить. И через несколько дней спросил, куда подевался Рамон.
— Уехал. — Отрезала девушка.
— Это я понял. — Амикам умел делать вид, будто не замечает, когда с ним не хотят разговаривать. — Надолго?
— Насовсем.
Он помолчал. Трудно оставаться безучастным, когда единственная дочь еще вчера буквально летала, а сегодня ходит, точно тень. Будь она парнем, он бы знал, что сказать и как утешить. Но девушку… Наверное, если бы осталась жива ее мать, та бы нашла слова. Но…
— Если он тебя обидел — поеду и оторву голову.
— Нет. Просто нужно было с самого начала помнить, что он чужак.
Помнить, и делать на это поправку. И еще на ту тень, что над ним. Тень, которую она, видящая, не заметить не могла. Надо было спросить сразу вместо того, чтобы ждать пока сам расскажет. И не успокаивать себя тем, что если не рассказывает, значит либо не знает, и тогда спрашивать — только пугать, либо считает неважным. Может быть, все вышло бы по-другому — впрочем, что сейчас корить себя? Может быть, для обоих лучше бы было никогда не встречаться, но кто может знать это точно, кроме богов?
Все казалось пустым и серым, словно все краски мира рыцарь унес с собой. Наверное, так и должно было быть. Пройдет время, все вернется на круги своя, оставалось лишь ждать. И Лия ждала: что-то ела, что-то делала, один раз даже съездила с семьей на бал, где весь вечер улыбалась и танцевала, даже отец поверил, что она пришла в себя. Отец хороший, Лие было совсем не по душе то, что он расстраивался, и она порадовалась, глядя на то, как с его лица исчезла складка между бровей. Юноша тоже был хороший, и она даже собиралась позвать его с собой после бала, но это ровным счетом ничего бы не изменило, а лежать в объятьях одного мужчины и думать о другом было бы нечестно, сероглазый мальчик ничем этого не заслужил, и она тихо исчезла, не дожидаясь последнего танца.
Все шло так, как должно было быть, и оставалось только ждать, когда отболит. Но через день после бала приснился Рамон, и сон этот был таков, что она проснулась перепуганная, с бешено колотящимся сердцем. Весь день Лия уговаривала себя, что просто примерещилось. Немудрено, что снится мужчина, которого она не простила и забыть не смогла. Не каждый сон — вещий, и не каждый кошмар оборачивается явью. Но вечером, не выдержав, она все же решила заглянуть в его сон. Одним глазком, просто убедиться, что зря перепугалась. Если рыцарь все еще зол на нее — тогда просто ничего не получится. Но станет понятно, что вчерашний сон был обычным кошмаром. А больше ей ничего и не надо.
Она проснулась посреди ночи, на спутавшейся постели. Подушка была мокрой то ли от слез, то ли от пота. Накинув на плечи платок, заметалась по комнате. Виденное оказалось правдой, а она ничем, совсем ничем не могла помочь. Сказать отцу? В доме десяток вооруженных людей, не считая отца и Нисима, но кто знает, скольким придется противостоять? И согласится ли отец?
Лия распахнула окно — воздуха в комнате отчаянно не хватало. Опустилась на кровать, кутаясь в платок. Нужно вызнать точно где он, с кем, и сколько врагов вокруг. Да, она слишком молода для видящей и сил немного. Но она вызнает.
Едва рассвело, Лия стояла у ворот дворца, требуя аудиенции герцога. Тот никого не принимал. Солдаты караула, сжалившись над тоненькой девушкой с огромными, полными слез глазами, рассказали: говорят, что вчера герцогу привезли какое-то письмо. Тот, едва прочитав, повелел казнить гонца, и выставить на площади голову. А потом заперся у себя с кувшином вина и открывал только слугам, приносящим все новые и новые кувшины. Нет, никто не знает, что было в том письме: сплетни по дворцу разносятся быстро, уже бы рассказали, если бы кто-то хоть краем глаза заглянул.
Но уходить было нельзя, никак нельзя, и Лия продолжала настаивать. Никто не решился просто так прогнать дочь одного из знатнейших горожан, и ее пересылали от одной мелкой сошки к другой, повторяя одно и то же: герцог никого не принимает. Миновал полдень, когда девушка все же добралась до человека, имеющего право входить к герцогу в любое время суток. Достала из поясной сумки записку, и тяжелый перстень, призванный подкрепить решимость придворного: если герцог вправду не в духе, мог и тяжелым чем запустить, и повелеть высечь. О том, сколько мелочи она раздала за эти полдня, лучше было не думать: отец убьет, когда узнает. Но сейчас такая ерунда не имела значения.
Записка в пять слов. «Я знаю, где твой сын». Оставалось лишь надеяться, что поверит. И молиться всем богам сразу.
Вернувшийся придворный цветом лица напоминал пареную свеклу. Но по тому, как он суетился, указывая путь, Лия поняла, что записка подействовала. Запоздало подумала, что герцог мог принять ее за одну из тех, кто запер Рамона, и тогда ей не поздоровится. Сделанного не воротишь, и все же колени подрагивали, когда она перешагнула порог комнаты. Выдержала тяжелый взгляд налитых кровью глаз.
— Ну?
Как же объяснить — быстро, и чтобы герцог поверил, что она действительно знает? Лия вздернула подбородок:
— Я видящая. По-вашему — ведьма. И я знаю, где держат твоего сына.
Надо отдать должное герцогу: он умел заставить людей действовать быстро и без разговоров. Краткого, но очень дотошного допроса ему хватило для того, чтобы поверить, и Лия возблагодарила богов за короткое: «Поедешь с нами. Седло дамское дать?».
Конечно, она поедет с ними — а как иначе найти дорогу в место, где ни она, ни один из людей герцога не бывали никогда? А седло нужно будет мужское: в дамском невозможно скакать по-настоящему быстро. Будь проклят этикет, не позволяющий девушке появиться при дворе в штанах. В мужском седле ноги будут торчать из юбок чуть ли не до колен. Что ж, кого смутит, пусть отвернется. Время уходит, и вместе с каждым вздохом уходит жизнь.
Герцог одобрительно хмыкнул, обнаружив у ворот дворца Бертовина и Хлодия с десятком воинов. Спросил:
— Твоя работа?
Лия кивнула: мальчишка-посыльный сделал свое дело, надо наградить, когда вернется. Она написала все, как есть — и про то, как узнала, и что собирается делать. Бертовин поздоровался с герцогом, потом в пояс поклонился ей.
— Благодарю, госпожа.
В голосе не было ни страха, ни ненависти, а еще где-то в глубине взгляда Лие померещилось сочувствие: похоже, сложив одно с другим воин понял, почему господин вернулся в замок. Хлодий смотрел настороженным волчонком, готовым, если что, ринуться защищать отца от страшной ведьмы.
— Благодарить будешь, когда обоих живыми заберем.
— Тогда отдельно в ноги поклонюсь. А сейчас — за то, что позвала. И что не боишься.
— Хорошо, хватит славословий. — вмешался герцог. Добавил: — Понимаешь, что с тобой будет, если заведешь в ловушку?
— Понимаю. — Кивнула девушка. — Но бояться мне нечего.
— Тогда поехали.
Всю казавшуюся бесконечной дорогу Лия чувствовала взгляды в спину. Воины молчали, но это пока. Едва они вернутся в город — если вернутся — болтливые языки будет не остановить. Только сейчас она по-настоящему поняла, что натворила.
Как бы то ни было, она не изменила бы ничего из содеянного, так о чем тогда сожалеть? Да и не время для сожалений: еще ничего не закончилось.
Наезженная дорога сменилась проселками, а потом и вовсе лесными тропами. Под конец пришлось спешиться, ведя коней в поводу, но отряд все же вышел туда, где на поляне у лесного озерца стояло с полдюжины домов.
Саму битву Лия не видела: простояла рядом с герцогом, державшим меч наготове, но в схватку так и не вступившим. Как зажмурилась при первом крике, так и замерла, открыв глаза лишь когда снова стало тихо. Не совсем тихо, конечно: по поляне ходили люди, стаскивая тела в избы. Из ближнего дома вывели Дагобера: тот ступал неровно, словно отвыкнув ходить. Некогда холеные черные кудри превратились в сальные сосульки, мятая, грязная одежда, нижней рубахи и вовсе не видно. Герцог вбросил меч в ножны, рванулся, обнимая сына. А Лия, застыв, смотрела туда, где на руках Бертовина покоилось безжизненное тело Рамона.
Дагобер порывался кого-то искать, кричал про какого-то «гада», которого непременно хотел увидеть мертвым. Увидел. Потом прислонился лбом к седлу приведенного специально для него коня и затих. Герцог отдал последние приказания: над избами взвилось, завыло пламя. Коротко поклонился Лие.
— Благодарю. Этого я не забуду.
Девушка вернула поклон, перевела взгляд туда, где воины осторожно устраивали Рамона поперек седла.
— Вы в замок? Прислать лекаря? — спросил Авгульф.
— Нет, благодарю. Я пошлю за Хасаном, он опытный знахарь.
— Тогда до встречи.
Дорогу до замка тоже пришлось указывать ей: в этих местах никто из отряда Бертовина не бывал. Конечно, они бы нашли дорогу и сами, но времени на то, чтобы блуждать по округе не было. Впрочем, наверное оно оказалось и к лучшему — если бы Лие не пришлось искать путь, не было ни времени, ни сил на бесплодные переживания.
Бертовин сам, словно не доверял никому из людей, отнес господина в спальню. Кликнул слугу, приказав принести воды и полотенца.
— Я помогу. — Сказала Лия.
— Сдюжишь? Не для юницы зрелище.
— Я помогу. — Повторила она.
Вдвоем они стащили превратившуюся в сопревшие тряпки одежду, обтерли водой с уксусом горящее лихорадкой тело.
— Рука сломана. Левая. — Лия коснулась пальцами предплечья. — И ребра — вот здесь. Лубки найдутся?
— Откуда знаешь?
— Вижу.
— Вот так просто? — не поверил Бертовин.
— Не просто. Но я не умею объяснять, как.
Он кивнул:
— Лубки сделаем. Сейчас скажу.
Потом приехал Хасан. Бертовин впустил его без разговоров, только пристально наблюдал, как старик с отрешенным лицом держал Рамона за запястье, потом приложив ухо к коже слушал сердце, как пробежался быстрыми пальцами по телу, обмял живот, простучал грудь. Раскрыл привезенную с собой сумку:
— Вот то, что у нас есть. Что будем делать?
Бертовин смотрел, как Лия кладет на стол пучки трав и впервые в жизни ощущал себя несмышленышем, пытающимся понять что-то в разговоре взрослых. А Рамон дурак, ей-богу, дурак… пусть только выживет, а там Бертовин его своими руками прибьет. Это ж надо было самому от счастья отказаться.
Потом Хасан уехал, а Лия спустилась на кухню и начала возиться с котелками и травами, не обращая внимания на перепуганные взгляды прислуги. Бертовин, решившись оставить больного на несколько минут, пришел к ней, вдохнул пар, пахнущий летним лугом.
— Мышей и лягушек там нет?
— Нет.
— Прости. — Смутился он под спокойным взглядом зеленых глаз. — Пошутить хотел. Что с ним?
Лия задумалась, подбирая слова, понятные непосвященному.
— Кроме руки и ребер… его сильно ударили по голове. Может быть, не один раз.
— Поэтому он в беспамятстве?
— Нет. Точнее, не только. Еще в груди… Там, под сломанными ребрами скопилась кровь. И загноилась. Так бывает. Поэтому жар и беспамятство.
— Выздоровеет?
— Должен. — Она перелила содержимое котелка в кувшин. — У тебя, наверное, полно дел. Не беспокойся, я за ним пригляжу.
— А это зачем? — воин указал на кувшин.
— Должно два-три дня настояться. Когда очнется, будешь поить, чтобы кашель прошел. Попробовать, чтобы ты не боялся, будто я отравлю твоего господина?
— Совсем дура, что ли? — обиделся Бертовин. — Или меня за дурака держишь? Хотела бы — давно бы со свету сжила.
Лия улыбнулась, впервые за этот бесконечно долгий день. Чмокнула воина в щеку, подхватила кувшин и упорхнула.
Она не знала, сколько прошло времени, может день, а может и не один, когда Рамон перестал, наконец, метаться в горячке. Несколько раз ее сменял Бертовин, и она засыпала в соседней комнате, едва добравшись до постели. Вроде бы не так уж и сложно: переворачивать с боку на бок, чтобы не появились пролежни, да обтирать холодной водой с уксусом, снимая жар. Разве что сменить пропитавшуюся потом постель у самой не получилось бы, но она не стала и пытаться, позвав помощь. Куда труднее оказалось ждать. И все же она дождалась. Просто вдруг почувствовав, что уже не одна.
Лия обернулась. Встретила пристальный, осмысленный взгляд. Рамон помотал головой.
— Бред. Откуда бы ей здесь взяться?
Опустил веки и через миг уже дышал ровно и размеренно. Лия тихонько выскользнула из комнаты. Только сейчас она поняла, насколько устала. Словно мир вдруг навалился на плечи всей тяжестью. Ничего, осталось только добраться до дома.
— Госпожа!
Она обернулась. Хлодий бежал следом.
— Госпожа… Лия, не уезжай. Я… он… — мальчик смутился окончательно, залился краской. Сделав видимое усилие, повторил:
— Не уезжай. Он тосковал по тебе.
Лия покачала головой:
— Прости. Я не хочу об этом говорить.
— Да. — Он опустил голову. — Конечно же, я лезу не в свое дело. И все же — останься.
— Нет.
Хлодий вздохнул.
— Помочь оседлать коня?
— Да. Спасибо.
Лия думала. что ворота дома, как всегда, откроет слуга, но отец вышел сам.
— Вернулась?
— Вернулась.
Они пошли по дорожке, ведущей к дому.
— Ни один мужчина в мире не стоит этого. — сказал Амикам в спину дочери.
Лия развернулась:
— Я сделала то, что должна была.
Он не ответил.
— Отец, я не могла по-другому.
— Знаю. — Амикам обнял дочь. — Знаю, родная.
Лия прижалась к его плечу и заплакала.
Здравствуй.
Прости что долго не писал — правда, не о чем было. Все идет своим чередом. Мать попыталась было заставить снова безвылазно сидеть дома. Когда слезы и упреки не помогли, она попробовала запретить. В ответ я поинтересовался, помнит ли она, кто сейчас старший мужчина в семье, добавив, что твоим приказам я готов подчиниться (представляю, как ты пишешь — мол, сиди дома, слушай маму), но она — отнюдь не ты. Она заюлила — ты далеко, а я еще так молод и совсем не знаю жизнь, что нуждаюсь в советах старших, а мать плохого не посоветует. Я ответил, что действительно не знаю жизнь — но именно она приложила для этого столько усилий и довольно странно сетовать теперь, когда она получила именно то, что хотела. Или именно для того она и отгородила меня от жизни — чтобы я до конца следовал ее советам?
Разумеется, полились слезы, разумеется, ей стало дурно. Переждав упреки в жестокосердии я сказал, что если она хочет, чтобы я остался рядом с ней — пусть уймется. Я буду уезжать куда хочу и насколько хочу, так и быть, предупреждая к кому поехал. Иначе я уйду с первым же проходящим мимо отрядом наемников и не могу поручиться, что ее хотя бы оповестят, когда я погибну, не говоря уж о том, чтобы привезти тело. Она хлопнулась в обморок, я грохнул дверью. На следующий день меня встретил кроткий печальный взгляд — и, признаться, я устыдился. Воистину, сила женщины — в ее слабости. Но я слишком долго сидел запертым в четырех стенах и отказаться от свободы сейчас, когда и без того осталось немного, меня никто не заставит. Отказаться от права общаться с людьми, которые мне нравятся, участвовать в охотах, танцах и пирах — да просто самому решать, что делать. Я не устаю жалеть лишь о том, что не уехал, когда ты звал, хоть и говорят, что незачем сожалеть о том, что уже не изменишь. Тем не менее, я готов кусать локти, когда вспоминаю, какую возможность упустил. Даже странно — тогда я был уверен, что поступаю правильно. Сейчас… повзрослел, что ли? Или просто понял, что из себя представляет та «материнская любовь»? И что такое сама матушка?
Признаться, мне трудно было поверить в ту историю, что ты рассказал. Поверить, что мать опустится до того, чтобы не выполнить последнюю волю отца — хотя сейчас я отчетливо понимаю, что никакой любви и согласия между ними не было, да и не могло быть. И все же последняя воля. Грешным делом я даже подумал, что Эдгар мог солгать. Мне горько от того, что приходится решать, кому верить — не слишком близкому родичу или родной матери. Что я вообще способен решать, вместо того, чтобы поверить ей безоговорочно. Еще горше то, что я уверен — Эдгар не солгал.
Про турнир я ей так и не сказал. Осталось недолго — сообщу в последний момент, когда все будет готово, а кони оседланы. Не раньше.
Я не надеюсь победить, но, полагаю, что все е не ударю лицом в грязь. По большому счету, остается только ждать — броня и оружие в идеальном состоянии, конь объезжен, оруженосец вымуштрован… оказывается, я забыл рассказать тебе о том, что у меня теперь есть оруженосец. Славный смышленый парнишка, сын одного из наших вассалов — его прежний господин умер от холеры, теперь я подобрал. И уже договорился с тем, кто возьмет его после моей смерти — не везет мальчику с господами, что ж поделать. Но пока он служит мне, и я им доволен.
Так что теперь остается только ждать. И молиться о том. чтобы дожить. Помолись и ты за меня.
Рихмер.
Глава 23
Едва осознав, на каком он свете, Рамон расспросил Бертовина. Тот рассказал, не скрывая ничего, и делая вид, будто не замечает, как господин тяжело молчит, собирая в кулак одеяло.
— Вот, значит, как. Где она?
— Дома, наверное. — Пожал плечами Бертовин. — Как ты в первый раз очнулся, так и уехала.
— Я думал, брежу.
— Нет.
— Дура.
— Это ты дурак.
— И я дурак. — покорно согласился Рамон.
Что же она натворила, дурочка маленькая? Оставалось только надеяться, что у Амикама хватит здравого смысла отослать дочь к родне, той самой, до которой неделя пути. Да, домой после этого не вернуться, но лучше изгнание, чем костер. Грозился всех ведьм под корень своими руками? Рамон застонал. Ну вот, когда загорится этот костер, можно будет считать, что сам его и разложил.
— Болит? — осторожно спросил Бертовин.
— Нет. — Тьфу ты, забыл совсем, что не один. — Ничего страшного. Ступай, хватит со мной нянчиться.
Выздоравливал он медленно и трудно. Лубки сняли в свой черед и сломанные ребра зажили, но кашель досаждал еще долго. Впрочем, куда хуже оказались никак не желавшие проходить головокружения, из-за которых то и дело приходилось останавливаться и хвататься за первое, что подвернется под руку. Приступы становились все реже, но невозможно было знать, когда и где застанет очередной, и несколько раз Рамон едва не слетел с коня, застигнутый врасплох. О дальних поездках и даже визитах к соседям речи не шло вообще, но в седло рыцарь взобрался едва смог ходить без посторонней помощи. Бертовин попытался было запретить, но в очередной раз убедился, что если уж господин втемяшил что-то в голову — не отступится. Тем более что болезнь не прибавила рыцарю ни мягкости характера, ни вежливости. А уж до чего стал невоздержан на язык — словами не передать. Особенно когда обнаружил, что придется долго и осторожно разрабатывать руку, переставшую удерживать щит. Хлодию хватило ума брякнуть — мол, бог с ней, с рукой, мол ежели чего, командовать господину можно и с безопасного места командовать, а рубиться — на то гарнизон есть. Утешить хотел. Потом недели две боялся на глаза показаться.
Но время шло, мало-помалу возвращались и силы и ловкость. И едва Рамон понял, что не только выдержит дорогу до Агена, но и вернется обратно, он собрался в город.
Амикам встретил вроде бы с обычной приветливостью, но холодок в голосе рыцарь почувствовал сразу же. Они расположились в беседке, слуга принес вина и фруктов.
— Я послал за Лией. — сказал Амикам. — Сейчас придет.
Рамон кивнул. Девочка в городе? Плохо, очень плохо. Встретился взглядом с хозяином дома:
— Поверишь ли ты, если я скажу, что скорее согласился бы остаться там навсегда, нежели купить жизнь такой ценой?
— Верю. Но пойми и ты: я отец.
— Да. И мне безумно жаль, что так вышло. — Он замер, буквально кожей почувствовав взгляд. Развернулся, вставая.
Ничего в ней не изменилось. Вот разве что раньше не смотрела так… словно на официальном приеме. И улыбка не выглядела натянутой маской. Хорошая моя, зачем же ты так?
— Я оставлю вас ненадолго.
— Отец, не уходи. У меня нет секретов.
Ну вот и все. Говорить больше не о чем. И все же…
— Здравствуй. Рад видеть тебя.
Рад. Несмотря ни на что.
— Здравствуй.
— Я… — слов отчаянно не хватало, и мешал Амикам. Шагнуть бы, обнять и пусть руки и губы объяснят вернее, чем тысяча слов… Вот только не позволит, даже не будь рядом отца. Рамон не знал, откуда взялась такая уверенность, но видеть девушку такую родную и чужую одновременно казалось невыносимым. Зря он приехал.
— Я прошу прощения. За все.
— Я не держу на тебя зла. — В голосе не было ничего, кроме спокойной вежливости, как ни старался рыцарь расслышать хоть тень чувств. — Но ничего не вернуть.
— Жаль… — Наверное, надо было сказать что-то другое. Просить, объясняться… Впрочем, зачем? Хоть кому-то в этом мире удалось вернуть любовь, ползая в ногах? — Мне тебя не хватает.
— Жаль. — согласилась она.
— Тогда… — нет, все же он спросит о том, что не давало покоя с самого начала. — Перед тем, как попрощаться… скажи, все было по-настоящему? Или приворот?
В первый раз за весь разговор в ее улыбке появилось что-то человеческое. Очень-очень грустное и безнадежное.
— Ты приехал… и все равно не доверяешь. Так о чем говорить? И много ли будут стоить мои слова?
Рамон не ответил.
— Я тебя не привораживала. Все, что было… — маска исчезла, остались лишь наполненные слезами глаза и срывающийся голос. — Все, что было — твои настоящие чувства. Если они были вообще.
— Не «были». Есть.
Лия пожала плечами.
— Может быть. Теперь все равно. — она помолчала. — Тогда и я спрошу: та тень, что над тобой… если ты знаешь о ней — что это?
Тень? О чем она? Ах, да… Еще полчаса назад он не сказал бы об этом ни за что на свете.
— Родовое проклятие. Ни один мужчина в нашем роду не доживет до двадцати двух.
И не удержался от усмешки, увидев, как расширились ее глаза. Коротко поклонился:
— Прощай.
— Я провожу. — Сказал Амикам.
У самых ворот Рамон остановился.
— Увези ее из города. Любой ценой.
— Она не хочет. Говорит, что не собирается прятаться, точно преступница.
— Увези силой.
— Моя дочь — не рабыня. Ее право решать, как поступить.
— Тогда готовься ее оплакать. Прощай.
Как Лия и предполагала когда-то, шепотки за спиной улеглись довольно быстро. Разве что чужеземцы, что вели дела с отцом, теперь предпочитали в дом к ним не заходиться, приглашая Амикама к себе. Да на балах приглашали на танец лишь соотечественники. Впрочем, по большому счету ей было не до балов, а то, что гостей стало меньше — так оно даже и к лучшему. Тем сильнее она удивилась, увидев однажды на пороге Бертраду.
С того момента, как девушка таки получила к себе в постель Дагобера они почти не виделись. И то, как Бертрада выглядит Лие совсем не понравилось. Беременность должна красить женщину. А когда живот, который уже не способны скрыть просторные одежды сочетается с тусклыми волосами, одутловатым лицом и — Лия была готова поспорить — толстыми отекшими щиколотками, плохо дело.
Она провела незваную гостью в дом, приказала принести фруктов и травяной настой, что пили те, кто по каким-то причинам отказывался от вина. Пока ждали слугу, Бертрада молчала, только теребила край рукава. Она продолжала молчать и когда на столе появилась еда, только вместо рукава стала разглаживать ткань на коленях, так что Лие стало даже жаль ни в чем не повинное одеяние.
— Когда ждать малыша? — спросила она, чтобы начать разговор. Молчание определенно затягивалось, и это начинало надоедать.
Бертрада вздрогнула.
— О чем ты? Никто же не знает…
— По-моему, знает уже каждый, имеющий глаза. Что в этом странного?
Бертрада разрыдалась, а вконец обескураженная Лия все же вспомнила, что у чужеземцев ребенок отнюдь не всегда считается благословением божьим.
— Прости. Я не думала, что тебя это расстроит.
— Он… уехал. Сказал, что я шлюха, а на шлюхе он не женится никогда. И уехал. А когда я попробовала… даже не вышел сам. приказал прогнать со двора, точно шавку.
— А что, у тебя нет отца и братьев, которые вбили бы такие слова ему в глотку? — удивилась Лия.
— Ты что, если отец узнает, он меня сам убьет!
Если у отца глаза на месте, то знает он наверняка. Но понять логику чужеземцев Лия отчаялась раз и навсегда. Вроде люди как люди, а как выкинут порой — так и не знаешь, что сказать. Она подала гостье вышитое полотенце — вытереть слезы и стала ждать, когда та успокоится. Бертрада всхлипнула в последний раз, подняла глаза:
— Ты ведьма… так говорят. Приворожи его! Сделай так, чтобы он снова меня полюбил!
Если бы Лию спросили, она бы сказала, что от такого, с позволения сказать, мужчины, который сперва ложится с женщиной, а потом ставит это ей же в укор, нужно бежать сломя голову и забыть как звали. Но ее никто не спрашивал. Бертрада вцепилась в руку — не оторвешь.
— Свари зелье… или что там вы делаете. Чтобы он снова меня любил. И тогда он на мне женится.
— Не могу.
На самом деле она знала, как это делается. Для того, чтобы противостоять чему-то, нужно знать, как это «что-то» устроено. Наверное, даже достало бы сил наворожить приворот. Но сама мысль о подобном казалась отвратительной. Тем больнее было услышать от Рамона тогда… Лия мотнула головой, приказывая себе забыть о рыцаре.
— Подумай. нужен ли тебе человек, который уже предал один раз. Предаст и второй. зачем он тебе?
— Он лучше всех! — вскинулась Бертрада. — Правда. Просто… ну вот так получилось. Приворожи его, и все станет как было.
— Не могу. — повторила Лия.
— Тогда скажи, кто может. Прошу тебя.
Девушка покачала головой:
— Пойми, я не знаю. Видящая входит в силу лишь когда теряет способность к материнству. Я еще очень молода, и нет ни сил, ни знаний. А тех пор, как пришли ваши, видящие прячутся даже друг от друга — поэтому я даже не представляю, кого посоветовать. Прости, но я правда ничем не могу помочь.
— Тогда помоги вытравить плод.
Вот так просто взять и «вытравить»? Нет конечно, от чужеземцев можно всего ждать… И не всякий плод в радость, это тоже понятно: как приготовить настой, способный уберечь от беременности женщину, над которой надругались, Лия знала едва ли не с того дня когда впервые обнаружила, что может понести. Но сойтись с мужчиной, зачать ребенка, выносить почти до конца, и вытравить, решив, что не нужен… Понять это она не могла, да и не хотела.
— Нет.
— Ты не понимаешь!
— Это ты не понимаешь. Сколько ты уже в тягости? Семь лун, восемь? Если сейчас убить ребенка, можешь умереть вслед за ним.
— Какая разница? — всхлипнула Бертрада. — Все равно теперь только в воду.
Лия вздохнула, присела рядом, обняв за плечи.
— Поговори с отцом. Если он до сих пор делает вид что не замечает, значит, не захочет замечать и потом. И сделает все, чтобы уберечь тебя от злых людей. А потом… Есть много хороших родов, которые не прочь породниться с вами. Но вашим юношам нужна девственность, а наши не женятся на женщине не зная, способна ли она родить. Ты красива. Как только родишь, в Агене найдутся мужчины, готовые жениться на тебе по первому слову.
— Да не нужны мне ваши мужчины! — Бертрада вывернулась из осторожный обьятий. — Никто мне не нужен, кроме него…
— Он тебя не стоит.
— Не твое дело, ведьма. Тебе сказали — вывести плод. Я заплачу, хорошо заплачу.
— Уходи. — Лия поднялась. — Я ничем не могу тебе помочь.
— Не хочешь. — Прошипела Бертрада. Брезгуешь? Сама тоже не прочь с мужиком, а как мне не повезло — так и брезгуешь? Ну сколько золота тебе надо?
— Пошла вон. Или я прикажу вышвырнуть тебя, несмотря на…
— Ведьма… Погоди, я тебе припомню!
— Вон.
Бертрада всхлипнула и опрометью выбежала из комнаты.
Весь остаток дня и следующее утро Лия безуспешно пыталась забыть тягостный разговор. Наверное, надо было как-то помягче, утешить, что ли… С другой стороны до сих пор оставалась гадливость, словно в помоях искупали. Она вздохнула, который раз за утро и отправилась в кладовую перебирать сундуки с вещами. Даже то, что надевают только по праздникам, нужно перетряхивать и проветривать, что бы не завелась гниль и моль.
Она как раз разглядывала малюсенькую вышитую распашонку, когда в кладовую вбежала служанка.
— Госпожа, там пришли.
— Кто?
— Чужаки… много. Говорят за ведьмой и грозятся двери вышибить, если что.
Лия медленно поднялась, распашонка сползла с колен. Не зря, значит, разговор не забывался. Отец в загородных имениях по делам, Нисим где-то в городе, поди пойми где. Можно еще к старшему брату послать — но что проку? Родичи, конечно, ее не отдадут, начнется свара. Чужаков перебьют, и придется бежать из города не ей одной, а всему семейству. Надо было уехать, когда отец просил, нет, все надеялась, что обойдется. Не обошлось.
— Хорошо. — Произнесла она. — Ступай, открой. Скажи: сейчас выйду.
Отца Бертрады Лия узнала сразу и внутри противно заныло. С ним было пятеро солдат и человек в рясе, который показался смутно знакомым. Отец Сигирик, припомнила она. Рамон называл его опасным фанатиком, Эдгар ценил острый ум и истовую веру. Едва ли друг. Враг, и опасный.
— Чем обязана, господа?
— Этот человек обвиняет тебя в смерти дочери. — Сказал Сигирик. — Вчера женщина была у тебя, это видели. А утром отец нашел ее мертвой, и постель была пропитана кровью.
Доигралась таки. Ну почему она не послушала? Сейчас все были бы живы…
— Действительно страшное горе. — Лия склонила голову. — Сочувствую. Выжил ли ребенок?
— Ты еще спрашиваешь, ведьма? — Взвился отец Бертрады.
Священник остановил его неспешным жестом.
— Полагаю, тебе не хуже нашего известно, что нет. Это ведь ты дала ей колдовское снадобье, изгоняющее плод.
— Нет. Действительно, Бертрада приходила ко мне за этим…
— Врешь! Моя дочь не могла…
— Я объяснила, что такое зелье может погубить не только ребенка, но и ее саму. И посоветовала признаться отцу во всем и молить о прощении.
Грешно плохо думать о мертвых. Но сочувствовать по-настоящему не получалось. Да и как сочувствовать той, что своими руками сперва убила ребенка и себя а теперь наверняка убьет и ее. Отговориться не получится. Они уже все решили, и не поможет никакое красноречие. ничего не поможет. Разве что просить у богов сил дойти до конца. И мудрости для того, чтобы не сгубить других.
— Врешь, ведьма! — Отец Бертрады заметался по комнате. — Моя дочь не могла сама додуматься до такого.
— Отчаявшаяся женщина может додуматься до чего угодно.
— Она была чистой девочкой, пока не связалась с тобой!
— Хватит! — Рявкнул Сигирик. — Правосудие свершится, и незачем устраивать свару.
Он повернулся к Лие.
— Положим, ты говоришь правду. Тогда откуда она взяла снадобье?
Почем знать, откуда. Но до чего же странные эти чужеземцы: сперва сами губят женщину, кидая в нее грязью лишь за то, что она хотела любить, а потом ищут виновных. Кого угодно, кроме себя.
— А почему вы решили, что виновато именно зелье, а не преждевременные роды? Подобное случается: как ни грустно, не каждая женщина создана для материнства.
— В углу комнаты нашли завернутый в одеяло плод. И с ним — пустой сосуд. Лекарь не смог узнать, что там было.
Лия покачала головой:
— Все, о чем ты говоришь, очень печально. Но я не при чем. Поспрашивайте ее подруг: наверняка найдется кто-то, кто посоветовал какую-нибудь «почтенную женщину», что поможет решить все проблемы. Такие вещи нетрудно выведать.
— И уж кому, как не тебе знать об этом. — Усмехнулся священник. — Стремление выгородить себя понятно. Но либо ты признаешься сейчас, либо мне придется арестовать тебя с тем, чтобы церковь могла провести расследование.
— Мне не в чем признаваться. — Вздернула подбородок девушка.
— Значит, ты не оставляешь мне выбора. Уведите ведьму.
Жизнь в замке стала размеренной и однообразной. Может, оно и к лучшему. После всего, что случилось, подвиги Рамону опостылели. Хотелось просто жить, не оглядываясь назад, а загадывать наперед и вовсе казалось сущей бессмыслицей. Гости у в замке бывали частенько, за прошедшее время рыцарь стал на короткую ногу со всеми соседями и многим действительно радовался. Но постучавшийся в ворота отец Сигирик стал настоящей неожиданностью.
— Какими судьбами, отче? — спросил Рамон после того, как священник был накормлен-напоен как полагается.
— Проезжал мимо, решил заглянуть — он поерзал в кресле, сыто сложил руки на животе.
Рыцарь приподнял бровь — во внезапное желание увидеться не слишком-то верилось, особенно если вспомнить, что последний раз они встречались… ну да, перед тем боем, когда разбили армию Кадана.
— Сдается мне, все не так просто, отче.
Дагобер на его месте пустился бы в пространный разговор, делая вид, будто принимает все за чистую монету — пока гость сам не расскажет, зачем явился. Но то Дагобер — а сам Рамон так и не научился этим штукам. Да и не хотел учиться, если уж на то пошло.
— Хорошо, признаюсь: хотел поговорить. Я не вижу тебя в церкви.
— Отче, в замке есть часовня. Увы, я до сих пор не окреп и ездить в город… — воин изобразил скорбную мину. Незачем Сигирику знать, что в Аген он больше ни ногой… никому об этом незачем знать, а раны — хорошая отговорка. Пусть так и будет, осталось-то.
— Жаль. Значит, новостей не знаешь… — священник пустился в перечисление последних сплетен. Рамон терпеливо слушал. Кто-то женился, кто-то родил, этот пожертвовал церкви, ведьму вот будут жечь.
— Поучительное зрелище, жаль, что не сможешь приехать.
— Я не бываю на казнях. — Пожал плечами Рамон.
— А стоило бы побывать. — Подался вперед священник. — Чтобы увидеть, что ждет тех, кто отрекается от господа нашего, творя злые чары.
— Что суд и кары земные по сравнению с судом господним и вечной мукой?
Вот тебе, святоша. Жри сам то, что предназначил для других, и не морщись.
— Рад, что ты это сознаешь. Значит, тебе не жаль эту женщину?
— Отче, не понимаю. — Хорошо бы и вправду не понимать, но, кажется, ясно куда клонит священник. По хребту побежал холодок. Откуда-то вылезла нелепая мысль: как хорошо, что у людей нет хвоста, скрывать чувства было бы куда труднее. — Это не первая казненная ведьма на моей памяти и наверняка не последняя. Все знают, что добрых чувств к ним у меня нет, и быть не может. Так почему жалеть именно эту?
— Потому что с ней ты предавался прелюбодеянию.
— Вот оно что… — Рамон откинулся в кресле, заставил себя расслабить мышцы. — Что ж, если тебе это известно, то известно и то, что несколько месяцев назад я порвал с этой греховной связью. И, между нами — именно потому, что узнал…
— Но не рассказал.
— Ведьма, не уличенная в преступном деянии не подлежит суду. То, что я ненавижу это племя — еще не повод. — Он пожал плечами. — Признаться в тот момент я меньше всего думал о справедливости. Лишь о том, чтобы господь удержал от греха убийства. Поэтому и покинул город как можно скорее.
— Твоя беспечность не осталась без последствий. — Воздел палец Сигирик. — Ведьма сгубила две невинных души — женщину и ее нерожденного ребенка.
— Отче, мне жаль, что так вышло. — Рамон выдержал взгляд священника. Неторопливо встал не забыв изобразить слабость, прошел к столу. Шкатулка открылась с легким стуком. — Если бы я знал, что так случится — убил бы ведьму сам. Увы, лишь господу ведомы судьбы людские. Когда казнь?
— Вчера вынесли вердикт о ее виновности. И передали светским властям: да свершат милосердно и без пролития крови. Полагаю, как водится, отложат исполнение на три дня.
Рамон кивнул вытащил из шкатулки кошель, взвесил в руке.
— Я подумал вот о чем: эта ведьма использовала нечистую силу, чтобы спасти меня и маркиза — значит, получается и мы замараны. Я приму епитимью на твое усмотрение, и… Вот. — Он протянул кошель Сигирику. — Полагаю, это пожертвование явит мое раскаяние.
— Епитимью… — кошель исчез в складках одеяния. — Будешь поститься сорок дней, и перед сном читать молитвы господу нашему, пока не истает свеча.
— Как скажешь, отче.
— Что ж, мы отдали должное телу, поговорили о душе — расскажи теперь, как вы тут живете.
Еще с четверть часа Рамон рассказывал, сколько — если господу будет угодно — снимут с полей, что найденный оружейник превосходен, а вот кухарку пора прогнать, стала нерадива, сколько заказано гобеленов и сколько тюков шерсти настрижено с овец. Сигирик слушал, устремив взгляд в одну точку, изредка кивая. Наконец, он поднялся.
— Рад был повидать тебя, сын мой. Но пора и честь знать — впереди дорога.
— Не смею задерживать.
Он проводил священника до экипажа, дождался, когда закроют ворота.
— Седлать коня, живо! И сменного!
— Что стряслось? — Бертовин, как всегда, появился откуда ни возьмись. — Куда несет одного?
— В Аген.
— Это я понял, больше некуда. — Он взбежал по лестнице следом за Рамоном. — Объясни толком.
Рамон объяснил.
— Плохо дело. Я с тобой.
Спорить Рамон не стал.
Он не запомнил ни сколько времени заняла дорога, ни сколько раз меняли коней. Очнулся лишь, увидев недоумевающие взгляды дворцовой стражи — нечасто к воротам подъезжали взмыленные всадники на таких же взмыленных скакунах. Выбрался из седла, вызвал дворцового камердинера. И даже не успел как следует порадоваться тому, что может просить у герцога аудиенции в любое время.
— Судя по твоему виду — рассказали. — Начал Авгульф, едва они обменялись подобающими приветствиями. — Но я думал, ты больше не интересуешься этой женщиной.
— Не интересуюсь. Но и не верю. — Как хорошо, что они были одни. Не придется говорить обиняками.
— Она призналась.
Рамон закрыл глаза. Плохо. Теперь ничего не попишешь. Но почему-то уверенность в том, что девочка невиновна, никуда не делась. Уверенность — или любовь, пропади она пропадом?
— Под пыткой, пожалуй, и я признаюсь в чем угодно.
Что с ней сделали? Оставалось только надеяться, что Лия сломалась быстро. Думать об этом было невыносимо.
— В том и беда. — Вздохнул герцог. — Мне самому все это не нравится. Но ее и пальцем не тронули. Просто, когда начала запираться, принесли инструменты и объяснили, что к чему. И она призналась в том, что навела порчу на Бертраду, отчего и та и ребенок погибли.
— Не верю.
Герцог пожал плечами:
— Веришь-не веришь… что проку теперь? Признаться, как бы это ни звучало, все обернулось к лучшему. Дагоберу сейчас ублюдки ни к чему, а жениться, сам понимаешь, он и не собирался. Но обвинение предъявлено, признание получено — и мне никуда не деться, закон есть закон.
В это невозможно было поверить. Не могла Лия никого убить — просто не могла. Сколько бы он в сердцах не кричал про приворот, по большому счету, он и в это не верил. А уж убить… Она невиновна — Рамон знал это, словно речь шла о нем самом. Но почему она призналась? Испугалась? Наверное. Девчонка…
Устроить побег? Чушь несусветная, времени нет, если только нахрапом — но он не герой баллад чтобы в одиночку разгромить тюрьму. Да и повернуть оружие против своих… Было бы время, можно было бы попробовать подкуп, но времени нет. Впрочем…
— Отложи казнь. Она носит моего ребенка.
Конечно, обман раскроют — но не сразу, зато появится время, чтобы обдумать все как следует и что-то предпринять. Немного — но все же.
— А, так это твой. — Ответил Авгульф. — Я не был уверен.
Рамон опешил. Не показывать виду. Сейчас самое главное — доиграть до конца, как бы он ни был удивлен. Беременна?
— Мой.
Попал пальцем в небо или… или девочка тоже знает законы и решила попробовать оттянуть неизбежное? Как бы то ни было, очень кстати, и неважно, правду ли она сказала. И даже чей это ребенок — если он существует — сейчас неважно. Разбираться можно потом и уличать в неверности — тоже потом. Хотя какая, к бесам, неверность — он же сам ее прогнал. Ведьму. Проклятую ведьму, без которой он так и не научился жить.
— Отменить приговор я не могу. Отложить казнь — другое дело. Тем более, что я так и не расплатился с ней за сына. Согласно закону, могу выпустить ее из тюрьмы под непрестанный присмотр. К родителям — слишком опасно. Но, скажем, под присмотр верного своего рыцаря, тем более, что все знают, как он ненавидит ведьмино отродье. Кто мог знать, что рыцарь будет выбирать между любовью и верностью? И кто знает, что он выберет?
— Рыцарь будет выбирать между верностью и честью. Бесчестно обречь на смерть невиновного.
— Пусть так.
Герцог сел за стол, пододвинул к себе лист пергамента.
— Дай мне тоже. — Встретив недоуменный взгляд сюзерена, Рамон пояснил. — Пергамент и чернила. Раз уж все равно здесь — чтоб два раза не ходить.
Здешний лен включен в список ожидания и обещан — это хорошо. Осталось разобраться с домом. Развязать руки.
— Держи приказ. Ее выпустят ожидать родов под твоей охраной — и под твою ответственность.
— А это тебе.
Герцог пробежал глазами лист.
— Значит, от своих земель отказываешься в пользу брата?
— Да.
Теперь, как бы не обернулось дело, расплачиваться будет только он. Землю у наследников не отберут — они-то не при чем. А сам все равно не жилец и значит можно ни на кого не оглядываться.
— Что ж… я подпишу. Похоже, рыцарь выбрал.
Рамон не ответил.
— Как бы то ни было — воздастся ему по делам его.
— Пусть так.
— Свободен.
Глава 24
Болеть Эдгар не любил. Говорят, некоторым нравится валяться в постели, пока вокруг суетятся домашние. Но когда каждые день приходится топить печь, носить воду и готовить еду, невзирая на недомогание, как-то быстро становится ясно, что лучше быть здоровым. И ладно бы удавалось обойтись насморком и головной болью, нет же. Болел ученый редко, но уж если такая напасть приключалась, то укладывала в постель не меньше чем на неделю, а то и на две. В прошлый раз вон вообще чудом жив остался. В этот то ли повезло, то ли просто ходили за ним хорошо, но жар спал на третий день, а через неделю ученый почувствовал себя достаточно здоровым для того, чтобы выбраться в дворцовый сад. За время, проведенное в четырех стенах, он успел изрядно соскучиться по небу и солнцу. А вот людей видеть не хотелось, поэтому Эдгар специально выбрал ранний час, когда во дворце бодрствуют только слуги. Впрочем, принцесса тоже была ранней пташкой, но надеяться на встречу казалось глупым. Эдгар и не надеялся. Вот когда снова потребует учителя к себе… За то время, прока он болел, принцесса не присылала никого справиться о здоровье учителя. Действительно, невелика птица — но мысль отом почему-то оказалась очень обидной и Эдгар прогнал ее прочь. Да и в самом деле, возомнил о себе.
Он швырнул наземь подобранную по дороге ветку, резко развернулся и застыл, нос к носу столкнувшись с королем.
— Поднялся, значит. — Сказал тот после положенных приветствий. — Здоров?
— Да, государь. — Правду говоря, совершенно здоровым ученый себя не чувствовал, но это пройдет.
— А раз здоров и голова варит, ответь — кому было нужно это глупое геройство?
— Прошу прощения?
— Что мешало тебе проедаться у стремени, чтобы не застыть? Или, еще лучше, заставить бежать мою дочь, чтобы впредь знала, куда лезть не стоит?
Эдгар опустил голову. Не то, чтобы он ожидал благодарности, но попреки казались вовсе незаслуженными. Разве он не сделал все от него зависящее для того, чтобы довезти принцессу в добром здравии?
— Не подумал? — продолжал король.
— Государь, я делал то, что тогда казалось правильным. Если ты считаешь, будто я в чем-то виноват…
— Виноват. Прежде, чем что-то делать, нужно подумать, а вы поступили наоборот.
— Государь, я думал исключительно о благе твоей дочери.
— Верю. Но благие намерения, если за ними не стоит холодный расчетливый разум, бесполезны. В лучшем случае. А то и вовсе способны принести вред, как и случилось…
— Неужели принцесса… — да нет, не может быть, он справлялся о ее здоровье. Если вперить слугам, девушка даже не чихнула.
— Принцесса… — махнул рукой король. — Принцесса здорова. Дочери я запретил покидать комнату до конца недели и еще месяц она не выедет за пределы дворца — если того не потребуют дела. Охрана наказана. А ты… Наказать чужого подданного я не могу — впрочем, ты и без того достаточно себя наказал. Но так ничего и не понял. И, похоже, не поймешь. — король помолчал. — Когда ты сможешь приступить к занятиям…
— Хоть сегодня. — Ответил Эдгар.
Похоже, он вправду не понимал чего-то важного. Ну да, он ошибся, все они ошиблись… правда, ученый с трудом мог представить себе принцессу, в мокром платье бегущую у стремени. А что сам замерз — так сам и заболел, какая королю разница? Он правда хотел как лучше, все они хотел как лучше и слышать попреки…. можно сколько угодно напоминать себе о достойном смирении, но обида все равно застила разум.
— Сегодня — нет. Говорю же, она наказана. На следующей неделе. Ступай.
Весь остаток дня Эдгар пролежал, бездумно глядя в потолок.
Месяц, во время которого принцесса не могла выбираться дальше дворцовой ограды, Эдгар отчаянно проскучал. Оказывается, он привык к прогулкам по окрестностям столицы, долгим разговорам и странным вопросам в самый неподходящий момент. Девушка сделалась задумчива и молчалива, впрочем, в этом ученый ее понимал, или думал, что понимал. Кого обрадует столь суровая выволочка совершенно ни за что?
Хуже было то, что девушка, казалось, потеряла интерес и к учебе: мало спрашивала и отвечала невпопад, так, что Эдгар порой просто отпускал ее с занятия раньше обычного. По правде говоря, никакой нужды в занятиях давно не было: уже через месяц Эдгар бы с чистой совестью впустил ее в храм на любую службу и был бы уверен, что принцесса не опростоволосится. Так что они давно углубились в материи, женщине совершенно ненужные, перемежая их дискуссиями о нравах, обычаях и этикете. Порой ученый не знал, куда деваться от вопросов ученицы, но сейчас он готов был терпеть их сколько угодно, лишь бы не видеть девушку такой… непохожей на себя обычную.
Впрочем, едва миновал месяц и принцесса снова смогла ездить на свои прогулки, как все стало на свои места. По крайней мере, поначалу Эдгару показалось именно так.
Далеко в горы они больше не забирались, зато окрестности столицы изъездили вдоль и поперек: бродили по лесам, сперва прозрачным, потом — покрытым зеленым кружевом первых листьев, лазили по скалам у моря и скакали наперегонки по полям, покрытым расцветшими тюльпанами.
Эдгар далеко не сразу понял, что любуется не природой, а спутницей, да и когда понял, сперва не придал этому значения. В конце концов. принцесса и вправду красива, что же странного в том, что ее улыбка впечатляет куда больше, чем все тюльпаны степи? Он не думает ни о чем предосудительном, помнит свое место, и говорить больше не о чем.
Но не держать в мыслях ничего предосудительного с каждым днем становилось все труднее. Видеть каждый день, сидеть рядом, едва не касаясь щекой щеки, проверяя ошибки на письме, держать за руку, помогая спуститься с коня. И помнить свое место.
Он решил, что нужно уехать, пока не поздно. В конце концов, нужда в нем, как учителе давно прошла: познаниями принцесса смогла бы потягаться с любым выпускником университета, правда. Писала по-прежнему с ошибками, но кто и когда требовал от женщины безупречной грамотности? Оставалось только изобрести безупречный повод, но придумать ничего не получалось, как он не старался. Наконец, Эдгар понял, что вруна из него не выйдет, и решил просто попроситься домой — мол, соскучился по брату, по родным местам да и нечего ему больше делать в королевском дворце. Все это он выпалил принцессе едва дождавшись окончания очередного занятия. И испугался, когда в библиотеке (куда они перебрались еще по осени) повисла тишина.
— Ты уже был у отца с этим? — спросила наконец, принцесса.
— Нет.
Эдгар сам не знал, почему не пошел сразу к королю. Хотел посмотреть, поверит ли принцесса в его объяснения, наверное. А еще, если уж быть совсем честным, разговора с королем ученый откровенно побаивался. С него станется разглядеть то, в чем сам Эдгар не признался бы и под пыткой.
— Тогда я запрещаю говорить с ним об этом.
— Принцесса, я не твой подданный.
— Да, это правда. — Она снова надолго замолчала. Накрыла его ладонь своей. — Не уезжай.
— Принцесса, я…
— Осталось недолго. Мой жених пишет, что если ничего не случится, его люди приедут через месяц. И еще через три дня мы поедем в Аген. Ты провел столько времени вдали от дома, неужели месяц что-то изменит?
Она торопливо отдернула руку, свернула в трубочку лежащий на столе пергамент.
— Принцесса, сказать по правде, я устал. От чужого языка, чужих нравов, дворцового этикета. Устал постоянно быть на виду. — Все это действительно было правдой, и как же хорошо, что не нужно выкручиваться. — Принцесса, я всего лишь простолюдин, все это — не по мне.
— Всего месяц. И дорогу до Агена. — девичьи пальцы теребили пергамент. — Я не должна этого говорить, но… Вчера вечером отец взял меч и ушел стоять у изголовья своей… если ты уедешь, у меня совсем никого не останется.
— Меч?
— Ах, да, ты же… У нас можно взять женщину в жены только после того, как она докажет способность к деторождению, ты знаешь. Так вот: рожая, женщина открывает путь между миром живых и миром духов. И оттуда может прийти зло, сгубив и ее и ребенка. Чтобы такого не случилось, в изголовье роженицы встает мужчина с мечом. Родич. Или тот, кто собирается назвать ребенка своим. Если роды закончатся благополучно, он на ней женится. — она положила вконец измятый лист на стол, начала разглаживать ладонью. — Я потеряла мать и братьев, а теперь и отец… И если еще и ты… не уезжай.
Эдгар никогда не видел, как она плачет. Она не плакала и сейчас. Просто молчала, разглаживая ладошкой пергамент. Не поднимая глаз.
Лучше бы она плакала.
Через три дня король закатил пир по случаю рождения сына и будущей помолвки. Люди пели здравицы, пили и радовались, а Эдгар смотрел на принцессу и вспоминал старые сказки о статуях, оживленных злым колдовством.
Впрочем, на следующий день она снова казалось живой и веселой, а еще через неделю, кажется, совершенно пришла в себя. Эдгар обрадовался: трудно быт рядом и знать, что ничем не можешь утешить. Но с другой стороны, король прав, женившись второй раз: трону нужны наследники. Да, по обычаям Белона женщина может наследовать трон, но разве женщина сможет повести армию в бой, случись в том нужда? И сможет ли она управлять страной, будучи на сносях? Не говоря уж о том, что принцесса выйдет замуж и будет жить в стране мужа — как она сможет удержать в руках страну, не живя в ней?
Правда, свое мнение Эдгар предпочитал держать при себе — впрочем, его никто и не спрашивал.
Они по-прежнему каждый день после занятий ездили прогуляться. И когда принцесса предложила взобраться на скалу, с которой так хорошо была видна столица, Эдгар не стал отказываться. Там и вправду было красиво. А еще можно любоваться девушкой, пока она смотрит на море и не делать вид, будто пейзажи куда интереснее.
Они начали подниматься. Иногда девушка спотыкалась, опиралась на руку Эдгара. Тот припомнил, как целую вечность назад принцесса показывала этот утес. Тогда она прыгала по камням горной ланью. Откуда вдруг взялась неуклюжесть? Впрочем, ему нетрудно поддержать, дай волю — подхватил бы на руки и унес подальше от всех и навсегда. Вот только от его воли ничего не зависело с самого начала.
Ветер трепал одежду, превращал девичьи волосы в тяжелую вороную волну. Где-то внизу ярилось море. Эдгар в последний раз подал руку, помогая девушке выбраться на площадку.
— Садись — разрешила она, и ученый устроился на камне, глядя на волны. На самом деле хотелось смотреть совсем в другую сторону — и именно поэтому он не отрывал глаз от моря.
— Скажи. — Донеслось из-за спины. — Как ты ко мне относишься?
Эдгар рывком развернулся. Девушка подошла ближе, почти касаясь его коленей. Ветер рванул платье, на миг обрисовав девичью фигурку. Он поспешно отвел глаза.
— Я задала вопрос, — сказала она.
— Я… — голос внезапно сел, пришлось откашляться. Что ж, правды не скажешь, значит он будет лгать. — Я чту тебя как будущую королеву.
Показалось ему, или в самом деле на лице девушки мелькнуло что-то, похожее на разочарование? Она перевела взгляд на волны. Пальцы затеребили край рукава. Наконец, она снова посмотрела на Эдгара.
— И только?
— Я не понимаю тебя, принцесса.
Она шагнула ближе, оказавшись между коленями, почти прижавшись. Надо было отодвинуться — но Эдгар застыл, глядя снизу вверх.
— Все ты понимаешь. Ты — мужчина, я женщина, и, говорят, красива. Только почтение? Ничего больше?
Ее ладони опустились на плечи, волосы шелком скользнули по щеке. Надо бы отодвинуться — мысль мелькнула и исчезла. Осталось лишь проникающее сквозь одежду тепло — там, где ножка касалась бедра, да мигом потяжелевшие девичьи ладошки на плечах.
— Ничего больше.
— Врешь. — Ее лицо было близко — слишком близко, и Эдгар не мог отвести взгляд от карих глаз, в которых бушевал нечто, чего он никак не мог понять.
— Нет.
Они замерли, пристально разглядывая друг друга.
— Врешь. — Повторила, наконец она. — И улыбнулась так светло и радостно, что Эдгар окончательно перестал что-то понимать.
— Я боялась, что ошибаюсь… что просто все придумала, а на самом деле тебе все равно. — Девушка замолчала. Несколько раз глубоко вздохнула, точно перед прыжком в ледяную воду.
— Я люблю тебя.
Она — что?
— Ты ведь не скажешь первым. — Продолжала она. — Значит, придется мне. Иначе так и будем молчать, глядя друг на друга — до той поры, когда окажется поздно. Ты — потому что боишься оскорбить неподобающими чувствами. Я — потому что боюсь признаться. А потом будет поздно и останется только жалеть о несбывшемся. Я люблю тебя.
Господи, она ведь всерьез. Всерьез считает, что достаточно сказать — и все изменится. И Эдгар смотрел на нее снизу вверх, не находя слов. Миг назад казалось, что он отдал бы все на свете за право не молчать больше. Сейчас он готов был продать душу за то, чтобы последних минут никогда не было. Потому что стало стократ больнее. И будет еще хуже — ведь придется…
— Почему ты молчишь?
— Не знаю, что сказать.
— Правду.
«Правду». Кому нужна та правда, которая ничего не изменит? Ровным счетом ничего.
— Я люблю тебя.
Зачем он это сказал? Надо было уйти от ответа, а лучше — просто соврать. Соврать, что очень жаль, но она ошиблась, в его душе нет ничего, кроме благоговения перед будущей королевой. Так было бы куда милосерднее. Пусть бы разозлилась, испугалась, и, испугавшись отправила с глаз долой, а то и вовсе приказала наказать — нет никого, кто умеет ненавидеть сильней отвергнутой женщины. Но так было бы лучше. Для обоих.
Она прижалась всем телом, потянулась к губам. Целоваться девочка не умела, и сознание, что его губы стали первыми, наполняли странной нежностью. Руки легли на талию, скользнули по шелку платья. Эдгар помог девушке взобраться на колени. Прижаться еще теснее казалось невозможным — но они пытались, словно желая раствориться друг в друге.
Эдгар опомнился, когда тонкие пальцы неумело скользнули за ворот. Заставил себя отстраниться.
— Принцесса…
В ее взгляде бушевало желание — да и сам он наверняка выглядел не лучше.
— Принцесса, прости, я…
Больше всего сейчас хотелось содрать с нее платье, и овладеть — прямо здесь, на камнях.
— Молчи. — Она потянулась ближе. — Все это ни к чему.
— Принцесса. — В который раз повторил Эдгар, сжав пальцы на плечах девушки так, что она поморщилась. Ослабил хватку, добавив. — Прости. Но все это действительно ни к чему. Я не должен был…
— Почему.
— Потому что это ничего не меняет.
— Почему? — повторила она. — Мы убежим.
— Что?
— Убежим.
Эдгар встряхнул ее так, что мотнулась голова.
— Принцесса, ты сошла с ума.
— Нет. — Она улыбнулась было, но улыбка тут же погасла. Медленно сползла с колен, опустилась на камень напротив.
— Им нужна только моя невинность, пропади она пропадом. А, значит, искать особо не будут — разве для того, чтобы примерно наказать, но это так, это быстро надоест. Останься мы здесь — и отец действительно может решить загладить вину твоей головой. Поэтому мы здесь не останемся. Я долго думала, правда. И я знаю, что делать.
Эдгар слушал, отчаянно пытаясь убедить себя в том, что все это неправда. Не может быть правдой. Потому что если поверить — можно и впрямь сойти с ума. Потому что ее план казался безукоризненным. А потом, когда они окажутся в купеческом городе, что лежал по ту сторону моря — они будут никому не нужны. Невеста герцога должна быть невинной. А сам Эдгар… да кому он сдался?
Она говорила о том, как нанять корабль, о том, как она сделает так, чтобы ее исчезновение заметили через несколько дней — а Эдгара она прогонит до того, прилюдно и со скандалом. Скажем, за то, что его застали у непотребной девки, притом, что его вера считает должным целомудрие. Принцесса не желает терпеть рядом с собой учителя, не следующего правилам своей веры. Или еще по какому-нибудь относительно безобидному, но непрошибаемому поводу. Жаль, что времени мало, лучше бы было обойтись без скандала, отпустив его к брату. Но люди герцога будут здесь уже через неделю, и будет поздно.
Она говорила и говорила — что согласна принять его веру и пожениться по тому обряду, по которому он сочтет нужным, или можно дождаться, когда она родит, чтобы он был уверен — она принесет ему много детей. О том, что у них будет дом — свой дом. И что все будет хорошо.
Эдгар слушал. Отчетливо понимая, что ничего не будет. Да, план был безукоризненным — но что потом? Когда закончатся деньги, что когда-то дал Рамон. Он умеет зарабатывать на жизнь лишь знаниями — но кому нужны его знания в чужой стране? Наняться писарем к купцу? Податься в наемники — мечом он владеет? Урожденная принцесса, жена наемника. Замечательно. И что она скажет, когда схлынет угар страсти?
Господи, о чем он вообще думает?
— Нет. Все это не имеет значения.
Она замерла на полуслове.
— Почему?
Как же объяснить? Как сказать любимой женщине, что ничего не будет — и не может быть? Когда до безумия хочется плюнуть на все, и согласиться. Хотя бы на миг счастья, а там — гори оно все синим пламенем.
— Потому что ты просватана.
— Ну и что? Я люблю тебя. И ты сказал, что тоже…
— Я не должен был это говорить.
— Но раз уж сказал… — Девушка поднялась. Звонко хлестнула пощечина. — Трус!
Эдгар перехватил ее запястья. Она дернулась несколько раз — но мужские руки держали крепко.
— Пусти!
Он рывком притянул девушку к себе, навис сверху:
— А ты привыкла получать все, что захочешь, принцесса? Так вот — я не твоя игрушка. — Он тряхнул головой, отгоняя желание швырнуть ее на камни и задрать юбку. — Твой отец верит тебе настолько, что отпускает без присмотра — ты готова обмануть эту веру?
— Ты не понимаешь…
— Может быть. Мне трудно понять, как можно пренебречь долгом ради каприза.
— Ты — не каприз. Пусти, мне больно!
Эдгар оттолкнул ее руки, замер, переводя дух. Бешенство, застившее глаза, медленно отступало.
— Ты ничего не понимаешь. — Всхлипнула девушка. — Долг… Он старше меня в три раза! Я не хочу!
— И ты готова полюбить любого, в ком померещится избавитель?
— Я… — она отвернулась, опустила голову — Все не так. Я всю жизнь слышу о долге. Я принцесса, я должна думать прежде всего о своем народе. Тогда, пять лет назад, когда меня сговорили за вашего герцога — я согласилась, потому что это было во благо страны. В конце концов — не он, так другой — какая разница. Все равно выдадут замуж за кого сочтут нужным — и моли богов, чтобы оказался не совсем уж противен. Главное, чтобы стал хорошим соправителем, все остальное неважно. Как ты изволил выразиться — каприз.
Ее голос стал почти не слышен сквозь ветер.
— Я думала, что смогу смириться. С тем, что я всего лишь инструмент. Нужный для блага государства. Но не получается.
Она снова шагнула к Эдгару, заглянула в глаза:
— Я живая, понимаешь? Не инструмент — живая! Увези меня отсюда…
Девушка подошла еще ближе, прижалась всем телом.
— Или просто возьми меня, и уезжай. Если ты боишься меня любить — просто возьми. Потерявшая невинность я буду не нужна твоему герцогу. А, значит, смогу выбирать сама. Может быть, смогу забыть тебя — а если очень повезет, рожу твоего ребенка — и буду любить хотя бы его.
«И воспитывать из него инструмент» — отстраненно подумал Эдгар. На душе было невероятно мерзко — и не удивительно. Кому по нраву ощущать себя палачом? Хотел, чтобы от тебя что-то зависело? Что ж, выбирай теперь, кого предать — ее или себя. Впрочем, как ни крути — себя придется предавать в любом случае. Либо свою совесть, либо… либо любовь.
— Я хотел бы уехать с тобой больше всего на свете. — Прошептал он.
— Но — нет?
— Ты все понимаешь, принцесса.
— Трус!
— Полагай, как знаешь. — Эдгар сел на камень, уронил голову на ладони.
— Я знаю, что это не так. — Она опустилась на колени, мягко отняла его руки от лица. — Будь ты трусом, я бы не любила тебя. Но…
— Скажи, ты сможешь смотреть отцу в глаза? Зная, какие последствия повлечет твое бегство?
— Он же может.
— Он сделал все, что должен был сделать любящий отец.
— А теперь ты сделаешь то, что должен сделать любящий мужчина. — Усмехнулась она. — Будешь спасать меня от меня самой.
— Да.
Она засмеялась. Смеялась и все никак не могла остановиться. Опустилась на пятки, сложилась, закрывая лицо руками, едва не касаясь лбом земли — а плечи все вздрагивали, то ли от смеха, то ли… Эдгар подхватил ее на руки, устроил на коленях — и она зарыдала в голос. Он баюкал девушку в объятьях, шептал какую-то ничего не значащую чепуху. И изо всех сил гнал желание спуститься губами по шее, скользнуть в едва прикрытую платьем ложбинку между грудей, забраться под одежду, и…
Она, наконец, перестала всхлипывать и только дрожала. Потом медленно отстранилась, вытерла лицо рукавом.
— Все.
Девушка выпрямилась, откинула за спину волосы. Повторила.
— Все. Я вела себя недостойно принцессы. Приношу свои извинения. Больше ничего подобного не случится.
Эдгар заглянул ей в лицо — абсолютно спокойное, точно не она только что рыдала у него в объятьях. Разве что в глазах плескалась тоска.
— Прости меня.
— Бог простит.
Она отвернулась, подошла к краю утеса. Эдгар шагнул следом — наверное, слишком торопливо, потому что она рассмеялась.
— Не бойся, не прыгну. Просто постоять перед тем, как спускаться. Если я вернусь с красными глазами и распухшим носом — будут вопросы. А мне они не нужны. Да и тебе, наверное, тоже.
Эдгар кивнул. Снова сел на камень, глядя в волны.
— Пойдем. — Сказала она, наконец. Развернулась и начала спускаться, легко прыгая по камням, точно горная лань.
Я проиграл.
Эта… тварь, я не могу больше называть ее матерью, она все знала. Не знаю, как. Все, понимаешь!
Сижу на полу и вою — и уже плевать, услышит ли кто и что подумает. Все пошло прахом.
Я так боялся, что не успею, не доживу… Дожил. Лучше бы я сдох раньше.
Она просто заперла меня в комнате. Как нашкодившего мальчишку. Проснулся утром — а дверь на запоре. На столе поднос с едой — видимо, чтобы не отощал взаперти — и записка. Мол, потом я буду ей благодарен за то, что уберегла. Ладно хоть, одежду оставила — с нее сталось бы — вдруг улечу?
Стул я разломал. Об дверь. На мою беду, замок строили добротно — да ты помнишь наши двери, их разве что тараном вынесешь. Словом, стул в щепки, двери хоть бы хрен. Хуже того, на шум прибежала эта сволочь и начала утешать. Для моего же блага, как понимаешь. Выпустит дня через три, когда уже и к концу турнира не успею. Потом спасибо скажу. Я сказал… Много чего сказал. Знал бы ты, как я ее ненавижу!
Господи, я столько мечтал… не победить, нет, я достаточно трезво оценивают свои умения. Просто выехать на ристалище с копьем наперевес. Почувствовать, что я тоже мужчина. Воин. Хотя бы на ристалище, раз уж мне не суждено узнать, что такое настоящий бой.
Все пошло прахом.
Клянусь, если бы я мог сейчас до нее добраться — я бы ее убил — и пусть господь никогда не простит мне этого греха. Плевать. Потому что то, что она сделала с моей жизнью… Если это называется любовь матери к сыну — будь она проклята, такая любовь.
Ей нужен был живой сын любой ценой? Хрен она получит живого сына. И пусть подавится своей заботой. Она сделала все, чтобы отобрать у меня право на жизнь. Но право на последний выбор у меня никто не отнимет. Потому что жить так я не могу.
Я знаю, что бы будешь скорбеть обо мне. Прости. Мне горько от того, как оно все обернулось. Я надеялся, что это письмо будет о турнире. Что ж, значит, не суждено. пусть так.
Но знаешь, в этом бою я все же победил. Правда?
Прости меня.
Прощай.
Рихмер.
Глава 25
Конь возмущенно всхрапнул, снова почуяв шпоры, но Рамону было не до него. И не до униженно кланяющихся тюремщиков — эти готовы склониться перед любым, кто имеет право и смелость приказывать. Загремел ржавый замок. Лия сидела в углу, обхватив руками колени. Вскинулась, когда Рамон шагнул внутрь, вгляделась в лицо. Зазвенели цепи.
— Кто приказал надеть кандалы? — внутри закипало бешенство. Кабы не убить кого ненароком.
— Так всегда делается…
Ах, да. Ведьма.
— Вон! Кузнеца сюда, быстро!
Тюремщики исчезли — надо же, и приглядеть никого не оставили. Хорошо же он рявкнул.
— Я невиновна.
Он не понял, как очутился рядом, обнял.
— Знаю.
Лия заплакала.
— Ты пришел… Ты все-таки пришел.
— Тшшш…. - он скинул плащ, закутал. — Я пришел. Теперь все будет хорошо, обещаю.
— Я невиновна.
— Знаю. — Рамон гладил колтун, в который превратились пушистые пряди. — Почему ты призналась? Испугалась?
— Нет. — Она подняла глаза. — Не знаю, выдержала бы пытку… может, и выдержала бы. Но ребенка бы потеряла. Нашего ребенка.
Рамон молчал, да и что тут скажешь.
— А так… по закону, казнь должны отложить до родов. Я написала прошение — все, как положено. Ты ведь поэтому здесь?
— Да.
Появился кузнец. Рамона замутило при виде кровавых полос на запястьях. Только бы не сорваться, сейчас нельзя, сейчас все должны быть уверены, что он просто выполняет приказ. А что плащ дал — так не везти же по улицам в одной рубашке?
Он так и провез ее до самого дом, закутанную в плащ, точно в кокон. Внес в комнату, осторожно поставил на ноги. Лия не торопилась отстраняться, замерла, прижавшись лбом к плечу.
— Все. — Сказал Рамон. — Все кончилось. Здесь тебя никто не тронет.
— Я хочу домой. — Прошептала девушка.
— Нельзя. Мне приказано стеречь у себя.
Она вздрогнула, попятилась, неотрывно глядя на него, и под этим взглядом Рамону стало неуютно.
— Вот как? Значит, благородный рыцарь стал тюремщиком?
— Да иди ты куда хочешь, дверь открыта! — взорвался он. — Только далеко ли… — Рамон осекся, провел рукой по лицу. — О господи… Прости. Прости меня.
Совсем рехнулся: орать на девочку, которая и без того натерпелась. А что еще она должна была подумать, услышав про приказ? Сам виноват, умник, не мог по другому сказать.
Он подошел ближе, взял девушку за плечи, заглянул в глаза.
— Я никому тебя не отдам. Ни сейчас, ни когда родишь. Но пока мы не исчезли из города придется вести себя паиньками. Поэтому домой нельзя. Сигирик и без того взбесится, когда узнает. — Рыцарь улыбнулся. — Помнится раньше тебе здесь нравилось.
Она не ответила на улыбку, пристально глядя в лицо, словно пытаясь увидеть что-то.
— Успокойся, прошу тебя. — Повторил Рамон. — Больше никто не обидит. Неужели я позволю казнить любимую женщину?
Лия всхлипнула и снова уткнулась в плечо. Рамон вздохнул, подхватил ее на руки, устроил на коленях, баюкая и на все лады повторяя одно и то же.
— Все кончилось, хорошая моя. Я тебя никому не отдам. Никогда.
Она, наконец, перестала дрожать, выпрямилась.
— И что теперь?
— Теперь? Обед, ванна, вино, постель. В том порядке, который сочтешь нужным. Только женского платья у меня нет. Наденешь пока что-нибудь из моего, а потом пошлю к Амикаму. Хорошо?
Лия неуверенно улыбнулась.
— Сперва ванна. А без вина можно обойтись.
— Нет, так не пойдет. — Ухмыльнулся он. — Я намерен напоить тебя допьяна, чтобы успокоилась и спала спокойно, без снов.
— Думаешь, похмелье пойдет мне на пользу?
— Уговорила. Значит, без вина. Что хочешь на обед?
Лия рассмеялась.
— Перестань со мной нянчиться. Я ношу ребенка и только. Это не болезнь.
— Глупая. — Он коснулся губами волос. — Какая же ты глупая…
Правду говоря, с мыслью о ребенке он еще не свыкся. Просто не было времени остановиться и обдумать. Поверить, Привыкнуть. Слишком неожиданно все случилось, и слишком быстро. Может быть, он задумается об этом. Потом, когда девочка будет в безопасности.
— Сколько уже?
— Три луны. Скоро будет заметно.
Интересно, какой она будет на сносях? И кто родится? Может, повезет, и он успеет увидеть малыша. Рамон мотнул головой. Хватит загадывать. Пусть будет так, как будет, все равно оставшийся срок от воли людской не зависит. Но будет ли у ребенка мать, или придется расти сиротой как раз таки в его власти. А значит нужно действовать и действовать быстро, пока Лия может выдержать дорогу. Вряд ли она сможет провести неделю в седле, когда живот начнет подпирать нос.
Рамон снял девушку с колен.
— Пойду распоряжусь насчет ванны и обеда.
— Не оставляй меня одну!
Господи, как же ее напугали… Когда девочка будет в безопасности, надо узнать, кто ее допрашивал и открутить голову. Или… он застыл, только сейчас додумавшись до, казалось бы, очевидного.
— Тебя не… не обесчестили?
Если до нее хоть пальцем дотронулись…
— Обесчестили? В смысле, изнасиловали? Нет. Обыскали с ног до головы и облапали вволю. — Лия дернулась, надолго замолчав. — Но не больше.
— Скажи, кто, и переломанными руками они не отделаются.
— Я не знаю имен. Охрана, из простолюдинов. — Она снова надолго затихла. Потом покачала головой. — Кажется, мне никогда вас не понять. Почему обесчещена женщина, а не тот, кто взял ее против воли?
Рамон вздохнул, который раз за день. Право слово, сейчас не до разницы обычаев.
— Я не знаю, что ответить. Могу только сказать, что если бы… Мне больно думать об этом. Но мне бы и в голову не пришло винить тебя в том, что случилось. Просто на свете стало бы одним покойником больше. Или не одним. — Он через силу улыбнулся. — Хватит о плохом. Если боишься оставаться одна, то пойдем вместе, прикажем приготовить ванну и распорядимся об обеде. А потом я сяду за дверью и буду сторожить. Там, где стоит ванна, помнишь, окон нет и дверь только одна: бояться нечего.
— Я… — улыбка у нее была совсем невеселая. — Я знаю, что веду себя как дура. Это пройдет. Просто…
— Шшш… — Он накрыл пальцем ее губы. — Конечно, пройдет. Не за что извиняться. Пойдем?
Бертовин появился, едва Рамон закрыл дверь за девушкой.
— Что дальше?
Дальше… Рамон опустился за стол. Знать бы самому, что дальше. Легко говорить — мол, положись на меня и ничего не бойся. Но как сделать так, чтобы девочке и вправду было нечего бояться, не подведя под монастырь никого из своих?
— Для начала… — он вытащил из поясного кошеля пергамент. — Вот с этого снимешь копию, подпишешь в канцелярии герцога и отправишь матушке. Пусть порадуется. А я пока подумаю, что дальше.
Бертовин пробежал глазами строки.
— Спятил? Кто в здравом уме от земли отказывается?
— Нет. Развязал руки. Теперь сюзерен не сможет отобрать лен, что бы я не натворил. А тот, что здесь — обещан. Достанется Хлодию чуть раньше, только и всего.
— Ты серьезно? — воин медленно опустил пергамент на стол.
— Совершенно. Неужели я буду ждать, пока выйдет срок а потом отдам ее на костер?
— Пожертвовать всем. Из-за бабы. Рехнулся?
— Я все равно не жилец.
— Да бесы с ней, с жизнью! Хорошо, поможешь ей удрать, дальше что? Тоже будешь прятаться, пока не помрешь?
— Еще чего. — фыркнул рыцарь. — Чтобы я, да бегал?
— Я так и думал. Бегать ему, значит, гордость не позволяет. А бесчестья хлебнуть? Под опрокинутым щитом встать?
— Я не собираюсь сделать ничего бесчестного.
Бертовин усмехнулся. Склонился вперед, тяжело опершись о стол.
— Тебе приказали ее стеречь, а ты поможешь бежать. Это называется предательство. И хорошо, если отделаешься изгнанием.
— Казнить не посмеют. Былых заслуг многовато. — Усмешка была отнюдь не веселой. Что ж, если выбор таков, значит, так. Но девочку на костер он не пустит.
— Пусть не посмеют. Будешь стоять на эшафоте под похоронные псалмы и улюлюканье черни, пока с тебя снимают доспех. «Вот шлем коварного и вероломного рыцаря. Вот цепь коварного и вероломного рыцаря»…
— Плевать.
— А потом, когда разобьют щит, отнесут в церковь на носилках, под покровом, точно покойника. И…
— Заткнись!
— И отпоют. Живого. — Припечатал Бертовин. — Из-за бабы.
— Не твое дело.
Бертовин аккуратно сложил пергамент, спрятал за пазухой.
— Что ж, наверное, ты прав. Не мое. Поступай как знаешь. Но я клялся служить тебе верно, а не помочь в самоубийстве.
— Вот, значит, как. — Сказал Рамон.
— Да, так. На меня не рассчитывай. И втянуть в это Хлодия я тоже не позволю.
— Хорошо. Воля твоя.
Бертовин перегнулся через стол, сгреб рыцаря за грудки.
— Остановись, умоляю. Да, она спасла тебя, но она знала, на что идет. Ни одна баба в мире не стоит позора.
— Ни одна кара в мире не стоит чести. — Ответил Рамон. — Не хочешь помогать — проваливай. Но я сделаю то, что считаю нужным, с тобой или без тебя.
Бертовин выпустил одежду, выпрямился. Выдохнул:
— Я ее убью.
— Через мой труп.
Воин грязно выругался. Осекся встретившись взглядом с господином. Стремительно развернулся. Хлопнула дверь.
Рамон уронил голову на руки. Если уж Бертовин не понял, то суду двадцати рыцарей объяснять будет бессмысленно. Значит, после того, как отвезет девочку и вернется, все так и случится: разбитый щит, разорванное одеяние. И доживать век он будет никем. Ни имени, ни звания, ничего. Но жить как ни в чем не бывало, зная, что считай своими руками отправил на костер невиновную, тоже неправильно. И дело не в страсти, чтобы там ни думал Бертовин. Будь на месте Лии воспитатель, или Хлодий, или любой из братьев, Рамон поступил бы так же. Просто потому, что по-другому нельзя. Вот Эдгар, то бы понял. Но Эдгара рядом нет, да даже если бы и был, что проку?
За спиной тихонько скрипнула дверь. Рамон развернулся. И как ни погано было на душе, расхохотался. Невозможно было удержаться от смеха, глядя на хрупкую девушку, одетую в наряд, сшитый на рослого широкоплечего мужчину. Горловина съехала набок, рукава болтаются, а подол приходится подбирать, чтобы не наступить ненароком.
— Пугало, да? — улыбнулась Лия.
— Ну…
— Мог бы и соврать. — Она опустилась рядом. — Пусть, зато я наконец-то похожа на человека и хочу есть.
— Отлично. — Обрадовался Рамон. Глядишь, девочка и вправду придет в себя. А то ведь смотреть больно.
За обедом он старательно болтал о пустяках. Потом проводил девушку в свою спальню. Селить ее в комнатах, предназначенных для челяди, не хотелось. Мало ли. С Сигирика станется вломиться в дом и попытаться уволочь ведьму обратно в темницу. А его спальня на втором этаже, просто так не доберешься. Впрочем, к чему врать самому себе? На самом деле просто отчаянно хочется чтобы все стало, как было. Только пролитого обратно не собрать и то, как Лия на миг замерла на пороге комнаты, сказало больше любых слов.
— Прости. — произнес Рамон. — Я не хотел напоминать о… Словом, ты сказала, что ничего не вернуть, и я не собираюсь пользоваться… — он мысленно выругался. Да что такое, все наперекосяк! — Но в этом доме только в моей комнате есть засов изнутри.
Это было правдой, челяди подобной роскоши не дозволялось.
— Мне нужно поговорить с твоим отцом. Поэтому запрись и не открывай никому, кроме меня. Я быстро. Справишься?
Лия кивнула, бледная и серьезная. Боится. Все равно боится, и словами здесь не поможешь. Может быть, просто послать за Амикамом и попросить прийти? А самому остаться с девочкой, чтобы не боялась? Нет, нельзя. Амикам наверняка считает его виновником всех несчастий. Надо идти самому.
— Принести что-то из дома? — спросил Рамон. — Напиши отцу, что нужно, я передам.
Она снова кивнула, устроилась за столом, быстро-быстро покрывая пергамент буквами. Заглядывать через плечо рыцарь не стал. Захочет — сама расскажет, а не захочет, значит и говорить не о чем. Пропади оно все пропадом, он впервые не знал как подступиться к женщине. А все вместе и вовсе представало сущим безумием: рисковать всем ради бывшей любовницы. Пожалуй, Бертовин был не так уж неправ. Как, оказывается, все было просто раньше, и как запутано теперь. Впрочем, кого винить, кроме себя?
Девушка свернула письмо, не запечатывая протянула Рамону. Тот спрятал листок за пазуху.
— Я скоро.
Баловаться условными стуками он не стал. Голос Лия узнает, а все остальное — игры в тайну, сейчас не до них.
— Господин не принимает. — Заявил слуга, не собираясь отступать за калитку.
Рамону отчаянно захотелось вмазать по наглой морде. В последний раз угодничал, кланялся чуть ли не до земли, а сейчас и поприветствовать забыл, как полагается.
— Передай господину письмо дочери. — Рамон протянул свернутый лист. Опасаться, что прочтет нечего: чернь неграмотна. — И еще передай: если Амикаму дорога ее жизнь, лучше бы ему принять меня.
Калитка захлопнулась перед носом. Рыцарь стал ждать. Плохо, что полгорода увидит его здесь. С другой стороны, все знают, что они давние друзья и было бы странно, если бы он не решил сам сообщить отцу ведьмы, что казнь отложена, а сама ведьма под его присмотром. Если Амикам примет… должен принять, не глуп же он, то все поворачивается как нельзя лучше. Бертовин орал так, что все слуги слышали. И сейчас, когда — если — Лия окажется в безопасности и придут за ним, кто угодно подтвердит: Рамон разругался с человеком, что все эти годы был его правой рукой. И ни Бертовина, ни Хлодия, ни их людей не тронут. А как Амикам будет прикрывать своих — его забота.
Калитка снова распахнулась: теперь за ней стоял сам хозяин.
— И ты посмел явиться ко мне?
— Когда твоя дочь будет в безопасности, станешь волен казнить или миловать. — Ответил Рамон. Если останется, кого. А до тех пор, может, есть смысл говорить не на улице?
— Заходи.
В дом его не провели, усадив в беседке посреди сада. Удобное место: резные решетки ничего не скрывают, не подкрадешься, не подслушаешь. Хотя кому подслушивать: чужих в доме нет, а слуги в госпоже души не чают.
— Говори.
— Не так давно ты ездил к родне за неделю пути. Сможешь вывезти Лию из города: так, чтобы никто не знал.
— Как я могу тебе верить? До сих пор ты честно служил господину.
Рамон пожал плечами:
— Как мне доказать честность намерений? Я мог бы поклясться, но что проку в клятвах, если вообще зашел разговор о доверии?
— Хотя бы объяснив, зачем тебе спасать ведьму?
— Хотя бы затем, чтобы мой ребенок не рос круглым сиротой.
— А с чего это он твой? — Амикам усмехнулся. — Это ее ребенок. Отец тот, кто вырастил, а зачать много ума не надо.
— Я не проживу столько, чтобы вырастить. Но умирать будет легче, если я буду знать, что мой ребенок не будет проклинать меня за то, что позволил казнить его мать. Это достаточно веская причина?
— Достаточно. Я могу вывезти дочь из города: тем же путем, каким когда-то сбежал правитель Агена. Конечно, я знаю, как. — ответил Амикам на изумленный взгляд рыцаря. — Я же был его правой рукой тогда… Но нет чести в том, чтобы бросить вверенный тебе город.
— Хорошо. Я пойду с вами. Когда-то ты оставил заложником сына. Теперь заложником буду я.
— Согласен. — Кивнул Амикам. — Дней через десять в город должны приехать люди моего родича. Они станут охранять Лию в пути. Ты проедешь с ними два дня и вернешься. Оттуда возвращаться будет еще безопасно.
— Я хотел бы проводить ее до ворот города.
— Ты не сможешь проехать один по землям Кадана и остаться живым.
И в самом деле. Чужака прикончит любой попавшийся по пути разъезд, и будет в своем праве. Как ни крути, идти на верную смерть не хотелось. Переодеться под местного? Глупо, оружие и доспех выдадут чужого издалека. А как следует носить местный доспех — на взгляд Рамона совершенно ненадежный — и обращаться с саблей так, как она того заслуживала, рыцарь до сих пор не выучился. Не счел нужным. И что теперь гадать, зря-не зря. Не суждено ему своими глазами убедиться, что девочка доехала до места дива и здорова. Но Амикам любит дочь, он не доверит ее кому попало. Значит, все будет как надо.
— Ты получишь весточку от родни? Расскажешь мне?
— Конечно. — Амикам помолчал. — Я послал за родней, когда Лию взяли под стражу… надеялся на подкуп, а если нет… Ты успел раньше. Благодарю.
— Благодарить станешь, когда получишь письмо, что добралась жива и здорова. — Рамон поднялся. — Буду ждать вестей.
— Погоди… — Хозяин придержал его за руку. — Может быть, попросить родню, чтобы приютили тебя? Человек с твоими умениями везде найдет себе дело.
Рыцарь покачал головой.
— Я не буду прятаться.
— Неразумно.
— Знаю. — Рамон помедлил. Наверное, не надо было объяснять, но ему мучительно хотелось, чтобы понял хоть кто-то. — Но если я убегу… это будет признанием преступления. А мне нечего стыдиться. Позорней обречь на смерть невиновную.
— В глазах людей ты будешь замаран все равно.
— Знаю. — Повторил Рамон. — Но гораздо важнее, что в собственных глазах буду чист. Я поступлю так, как должен… а там будь, что будет.
Амикам кивнул.
— Понимаю. И убеждать не буду… несмотря на то, что очень хотелось бы. Ты был бы ей хорошим мужем.
— Нет. Я оставил бы Лию вдовой через несколько месяцев. Она этого не заслуживает. — он помолчал, ожидая ответа хозяина, не дождавшись, сказал: — Еще одно: есть ли у тебя человек, который смог бы пожить в моем доме? И если со мной что-то случится до того, как появятся люди твоего родича, спрятать девочку? При малейшем слухе… не ждать, пока он подтвердится, не слушать Лию, возможно, вытащить ее из дома силой?
— Найду. — Хозяин поднялся вслед за гостем. — Пойдем, провожу до ворот.
Едва открыв дверь Лия бросилась навстречу. Не сказав ни слова, просто прижалась всем телом и затихла так.
— Я принес письмо от отца. — Сказал Рамон. — И переодеться.
Она кивнула, не поднимая головы.
— Я боялась, что-нибудь случится, и не вернешься.
— Да что может случиться в мирном Агене? — рассмеялся он.
На самом деле, сейчас — что угодно. Нелепые случайности полнили семейные хроники. Разве что решивших свести счеты с жизнью за прошедшие пять колен не нашлось, а все остальное… Чего только стоит двоюродный прадед, умудрившийся утонуть в луже. Но об этом девочке знать не нужно. Сейчас боится только за себя, станет трястись за двоих, велика радость. Или…
— Ты… Чувствуешь что-то?
Или как там это у них называется? Над своими дурными предчувствиями Рамон бы только посмеялся, но однажды ему уже спасли жизнь. И если Лия считает, что что-то не так, стоит прислушаться. А заодно поторопить Амикама с обещанным человеком. Вот обидно будет, если придется помереть не вовремя. Еще и девочку угробит.
— Нет-нет! Просто страх. Прости, я должна взять себя в руки, а не выходит.
Конечно, не выходит. Слишком мало времени прошло, и слишком зыбко будущее, какое тут успокоиться. Вот когда отъедут от города хотя бы на два дня пути… Дальше никто из людей герцога, насколько Рамон знал, не был, так что даже если и будет погоня — ищи ветра в поле. Да и не сунутся так далеко, побоятся. Война-то никуда не делась, просто у обеих сторон недостает сил для битвы.
— Вечереет. — Сказал Рамон. — тебе нужно поспать. А завтра будет другой день и станет легче.
— Да, наверное… Побудь со мной, пожалуйста.
Он устроился на постели, девушка взобралась на колени. Странное дело — обнимать ее он мог, мог зарыться лицом в пушистые пряди, и тихонько баюкать, такую маленькую в его руках. А большее — никак, робел, точно мальчишка. Боялся напугать и еще — что хрупкое доверие, возникшее между ними, снова рухнет, и тогда уж точно ничего не вернуть. Хотя кто знает, что будет, когда Лия перестанет бояться и не будет нужды цепляться за него, посулившего избавление. Отвернется совсем, как тогда? Гадать не хотелось, боязно. И Рамон рассказывал бородатые байки тихо, почти шепотом, а девушка хихикала, пока не сомлела, прислонившись к плечу. Он осторожно уложил ее в постель, огляделся — одеяло оказалось под девушкой и вытащить его, не разбудив, казалось невозможным. На сундуке нашелся плащ, оставшийся здесь еще с весны, когда рыцарь забыл его, уезжая, и так и не вернулся домой. Все это время слуги добросовестно убирали комнату, стряхивали с плаща пыль и оставляли как был: Рамон не терпел, когда его вещи перекладывают с места на место. Он подобрал плащ, склонился, укрывая. Девичьи руки обвили шею.
— Иди ко мне.
Рамон замер.
Она открыла глаза: ни капли сна не было в них. Руки скользнули по плечам, вернулись, пальцы забрались в волосы.
— Или ко мне, — повторила она. — Позволь мне любить тебя…
Глава 26
Наутро все пошло так, словно и не было прошедших месяцев. Лия оттаяла, перестала шарахаться от каждой тени, и рыцарь каждый раз радовался, глядя на нее. Разве что гулять вдвоем не получалось, да и в сад у дома Рамон старался лишний раз девушку не выводить, только на задний двор, что не виден с улицы. Мало ли, что за глаза приглядывают за домом. Сигирик пришел один раз и ушел несолоно хлебавши: Рамон принял его с показным радушием. Да, ведьма надежно заперта и у двери караулит страж. Посмотреть? Пожалуйста. Вот дверь, вот засов, вот страж. Стражем был человек, присланный Амикамом. И прежде чем позволить ему остаться в доме, Рамон убедился, что воин, если что, вытащит девочку хоть из спальни, хоть из отхожего места, и отведет — или оттащит, если будет противиться — в дом, где она окажется в безопасности. И который никто не свяжет с ее семьей. Как Амикам умудрялся проворачивать подобные дела, рыцарь не мог даже и догадываться, но не зря же отец Лии оставался на коне, что бы ни творилось в городе.
Осмотром двери и засова Сигирик не удовлетворился, потребовал показать ведьму. Лия, умничка, где-то раздобыла веревку, и когда мужчины вошли в комнату, то обнаружили встрепанную ведьму в одной сорочке. Девушка сидела в углу, связанная по рукам и ногам и зыркала на вошедших полубезумным взглядом. Святоша поверил, и немудрено, Рамон сам едва не поверил страху, плещущемуся в зеленых глазищах. Сигирик ушел довольный и больше не приходил.
Дни бежали, один за другим, слишком быстрые для того, чтобы удержать. Рамон подсчитал: выходило, что люди Амикама (или его родича, неважно, на самом деле) появятся как раз к свадьбе герцога. Хорошо бы приурочить побег к ночи после свадебного пира: когда полгорода мается похмельем, кому будет дело до ведьмы и ее стража? Да и Эдгара хотелось бы повидать, кто знает, удастся ли после возвращения. Если рыцарь вернется вообще. Нет, он по-прежнему не собирался прятаться, но два дня пути в одиночку по чужой земле: может случиться что угодно, пусть даже в тех местах, если верить Амикаму, совершенно безлюдно. Рамон вырос в местах, где деревни теснились едва ли не одна на другую, а соседи были готовы перегрызть друг другу глотку за полпяди земли и то, что здесь можно проехать два дня и не встретить никого живого, казалось невероятным. Что ж, вот сам и увидит.
Дни бежали один за другим. Амикам согласился с доводами, исчезнуть из города они решили в ночь после свадебного пира. Люди приехали за день до того. В городе они не появились. Где и как Амикам сумел спрятать дюжину воинов, Рамон не спрашивал. Впрочем, даже если бы и спросил, едва ли получил бы ответ.
Рыцарь был настолько поглощен подготовкой к побегу, что едва не забыл о светских обязанностях. Свет, однако, напомнил о себе приглашением на посвящение новых рыцаря. Герцог Авгульф решил, что грядущая перед свадьбой коронация — повод проявить щедрость и великодушие, а заодно и вознаградить тех, кто заслужил. И увидев в списке из четырех имен Хлодия, Рамон не на шутку расстроился. Мальчишка мог бы и написать — даром, что с его отцом они рассорились. В конце концов, оба, и отец и сын, пока живут на его землях и в его замке. И по-прежнему связаны присягой.
Рамон не стал ни скандалить, ни выговаривать. На церемонии коротко поздоровался с Бертовином, незачем выносить сор из избы. От души поздравил Хлодия, как бы то ни было, мальчик показал себя хорошо, и Рамон был рад за него. Теперь, когда замок перейдет к бывшему оруженосцу, ни одна собака не тявкнет. Высидел положенное приличиями время на пиру и вернулся домой. Не складывалось у него с праздниками посвящения, хоть ты тресни, другим радость, а самому — тоска одна. Да и на коронации, хоть рыцарь и присутствовал на таком событии впервые в жизни, тоже оказалось не то, чтобы весело. Любопытно, не более того. Жаль, Эдгара нет, тот бы смотрел во все глаза, запоминая каждую деталь, а потом уши бы прожужжал, рассказывая о том, что символизирует тот или иной жест. А так… Не складывалось у рыцаря с церемониями.
Эдгар объявился вечером накануне свадьбы. Отъевшийся на дармовых харчах — впрочем, полным он казался только по сравнению с тем, каким был раньше. Обретший новую, несуетную уверенность. И все же брат Рамону не понравился. Со стороны, может, и незаметно, но рыцарь ясно видел: что-то точило Эдгара изнутри. Расспрашивать он не стал: сам расскажет, если захочет. И когда узнал, в чем дело, только и смог потрясенно выдохнуть: «Эк тебя угораздило». Больше они об этом не говорили: и без того все понятно, к чему бередить раны?
Впрочем, Эдгару планы брата тоже не понравились. Посвящать его в подробности Рамон не стал, предупредил только, чтобы если что не удивлялся. Хвала господу, ученый не стал читать морали. Только сказал:
— Я с тобой. Одному возвращаться опасно.
Он и вправду все понял, и как же легко стало на душе. Хоть сейчас не нужно оправдываться и объяснять.
— Нельзя. — Ответил Рамон. — Меня в худшем случае разжалуют. Тебя, простолюдина, казнят без разговоров. Как соучастника.
— Может, оно и к лучшему.
— Нет. Все остальное можно исправить. Смерть — нет.
Эдгар невесело усмехнулся и надолго замолчал. Крепко, видать, зацепило. И помочь ничем не поможешь — только ждать, когда забудется. Да надеяться, что у парня хватит ума не наворотить глупостей. Хотя за Эдгаром глупостей отродясь не водилось.
Брат уехал под утро. Церемония была назначена на обед, так что Рамон даже успел вздремнуть.
Саму свадьбу он толком не разглядел: много людей, много музыки и цветов, много вина. Мешали мысли о том, что ночью… сегодня ночью. И все же жаль, что нельзя отложить бегство, Эдгар определенно ему не нравился, по-хорошему нельзя бросать парня одного в таком состоянии. Друзей в городе у него нет, помочь некому. Но увы, ничего уже не переиграть. Свадебный пир Рамон высидел, точно на иголках. Улыбался, вместе со всеми поднимал здравицы в честь молодых, пил и танцевал. И считал мгновенья до того, как можно будет уйти.
Лия не спала. Ждала, бледная, молчаливая, собранная. Рамон на миг прижал ее к себе, провел ладонью по волосам.
— Пойдем.
Взял за руку и вывел за ворота.
Амикам с двумя воинами встретил их в условленном переулке. Лия пошла с отцом, сам Рамон направил коня к воротам. Поначалу он вообще хотел уехать из города днем, вместе с Лией, у всех на глазах. Мол, побоялся держать ведьму в доме, где прислуги всего ничего, а воинов нет вовсе. В замке оно надежней будет. Но потом сообразил, что тогда в первую очередь возьмутся за тех, кто оставался в замке — и кто знает, поверят ли на слово, что ни Рамон ни ведьма не появлялись.
Ворота по-прежнему не закрывали на ночь. На вопрос стража — мол, куда понесло среди ночи — Рамон ухмыльнулся и предложил поехать с ним, подержать свечку. Охранник гоготнул и больше ни о чем не спрашивал.
Через четверть часа он встретил дюжину воинов с запасными лошадьми. Потом появились Лия и Амикам. Тот обнял всхлипывающую дочь, махнул рукой на прощанье и растворился в темноте.
До утра они ехали не останавливаясь, за все время проронив едва ли десяток слов. Перед рассветом стали в лесу, не разбивая лагеря. Старший среди воинов предупредил: стоянка будет лишь два-три часа, чтобы позволить Лие немного поспать. Она и вправду выглядела неважно, то ли от усталости, то ли от переживаний. Но не жаловалась. Она вообще ни на что не жаловалась, только прижалась к рыцарю и уснула, мгновенно, точно задули свечку.
За временем Рамон не следил: признаться, сам задремал после бессонной ночи. Он открыл глаза, когда старший легонько тронул за плечо, проснувшись мигом, как бывало и раньше в походах. Разбудил Лию. Перед отъездом поели. Пусть сухомятка, все лучше, чем гнать на голодный желудок. И снова в седло.
Рамону нравилось, как они ехали: ровно и ходко, даже несмотря на то, что приходилось подлаживаться под женщину в тягости, останавливаясь передохнуть куда чаще, чем требовалось бы, будь в отряде одни мужчины. И воины ему нравились. Достаточно посмотреть, как старший ведет отряд: быстро, но без лишней суеты, как каждый знает, что ему делать, неважно, в пути или на привале, как держатся в седлах и как обходятся с оружием. Эти — довезут. Костьми лягут, но довезут.
Словом, все складывалось как нельзя лучше, ехать бы, да радоваться. Вот только радоваться не получалось никак. Хорошо, что девочка скоро окажется в безопасности. Больше ничего хорошего не было. Ей навсегда будет заказан путь в Аген, ему вряд ли удастся когда-нибудь добраться до города, где отныне будет жить Лия.
Она, кажется, тоже это понимала, иначе не молчала бы всю дорогу. И не смотрела так, словно собиралась наглядеться на всю оставшуюся жизнь.
Когда стали на ночь, Лия задремала, даже не дождавшись ужина. Увидев это, Рамон пошел к старшему: не стоит так утомлять женщину в тягости.
— Мы не на прогулке. — Ответил тот. — Если догонят, кого порадует то, что женщина свежа и довольна?
— Ты прав. И все же я бы не хотел, чтобы она потеряла ребенка.
— Я знаю меру. Не беспокойся.
Рыцарь покачал головой. Вольно ему говорить, мол, не беспокойся. Но с другой стороны: много ли он сам знает о деторождении? Дома с женщинами, что носят ребенка, обращались точно с хрупкой драгоценностью. Здесь, похоже, полагали, что ничего особенного в таком состоянии нет, и нет нужды беспокоиться, если женщина хорошо себя чувствует. Он положил себе спросить у Лии, когда проснется, и занялся делом.
Рамон полагал, что готовить горячее не будут, чтобы огонь не выдал их. И ошибся: костер развели в яме, прокопав несколько ходов для доступа воздуха. За десяток шагов не углядишь. Рыцарь в который раз порадовался, что встретился с этим отрядом не в бою, взял еду и пошел будить девушку.
Оказалось, что шатер, поставленный для Лии, был предназначен им двоим. Но она снова заснула, да и сам Рамон, признаться, после почти суток в седле не слишком-то жаждал любви. Прижал к себе мирно сопящую девушку и уснул, едва донеся голову до подушки.
Когда их разбудили, солнце уже сменило цвет с алого на желтый. То ли памятуя вчерашний разговор, то ли просто потому, что погони больше можно было не опасаться, старший сбавил скорость, и к вечеру Лия уже не падала, едва спустившись с коня. Несмотря на это, путь за день проделали немалый: вспоминая поход прошлой весны, Рамон решил, что тогда они одолели бы сегодняшнюю дорогу как минимум за два дневных перехода. Хорошо путешествовать, когда за спиной не волочится обоз, а предводитель не пьянствует до полуночи. И все же, положа руку на сердце: время шло слишком быстро. Наутро нужно возвращаться.
В эту ночь они любили друг друга, не обращая внимания ни на то, что назавтра снова в седло, ни на то, что за шелковыми стенами шатра их могут услышать. До таких ли пустяков, когда время идет, безжалостно отбирая мгновенья?
Рамон приподнялся на локте, оглядывая ее всю — нагую, разнежившуюся. Провел пальцем по округлившемуся животу: без одежды уже заметно. Забавная она наверное, будет под конец: маленькая и круглая. И красивая: когда глаза женщины светятся счастьем, красива любая. Что ж, значит, нужно сделать так, чтобы она ждала разрешение с радостью, а не страхом. А там господь рассудит.
— Щекотно. — хихикнула Лия.
Он улыбнулся в ответ, откинулся на подушку. Девушка тут же устроила голову на плече.
— Хочешь, расскажу сказку? — спросил Рамон. И сам удивился: что это на него нашло.
— Хочу.
— Только не перебивай. Сказочник из меня…
— Не буду.
— Тогда слушай: жил-был рыцарь. Нет, он не был прекрасен и благороден… мы же договорились: не перебивать. Да и умом, правду говоря… не спорь, мне лучше знать. Так вот… жил-был рыцарь.
Однажды он встретил колдунью. Она была прекрасна, словно сбывшаяся мечта… снова споришь, говорю же, мне лучше знать. Она была прекрасна, а он… я уже сказал, что умом рыцарь не блистал? Он решил, будто свет в ее глазах лишь морок для доверчивой души. Счел, что любая колдунья — суть та же злобная ведьма, что когда-то прокляла… ах да, он же был проклят, как его отец и дед. Как и его сын, буде тот родится. Обречен умереть молодым. Не плачь, это совсем не страшно — знать свой срок. Свой — не страшно.
Он знал, как обходиться с мечом, а со словами — не очень, но в этот раз он нашел слова, что разили вернее меча. Говорю же, дурак… оба оказались хороши? Да, наверное… Он не мог понять, за что с ним так, и она тоже — ведь в ее сердце не было зла. Чтобы услышать, нужно замолчать, а молчанию нет места там, где правит обида. Он уехал, надеясь забыть, но таких как она так просто не забывают.
— Однажды ведьме приснился страшный сон. — Сказала Лия. Оперла кулачки об его грудь, пристроила на них подбородок, заглядывая в глаза. — Я знаю эту сказку.
— Ну просил же не перебивать. — Проворчал Рамон. — Тогда рассказывай дальше сама.
— Хорошо. Словом, ей приснился страшный сон, оказавшийся вещим. Но колдунья — всего лишь слабая женщина, и ей пришлось просить помощи у мужчин. Умом она, кстати, тоже не отличалась… подстать ее рыцарю, наверное. Потому что когда он исцелившийся, приехал, она оттолкнула его. Любви нет места там, где правит обида. На ее счастье, рыцарь оказался воистину благороден, и… — она задумалась, подбирая слова.
— И дальше неинтересно. — Сказал Рамон. — Ты знаешь, чем кончится эта сказка?
— Конечно. Они жили долго и счастливо, и умерли…
— Нет. — Перебил он. — Про «умерли в один день» — это другая сказка. Не про эту колдунью. Они жили долго и счастливо. Договорились?
— Договорились.
— Спи, моя ведьма. Спи спокойно, и пусть тебе приснятся добрые сны.
«Живи, моя ведьма. Долго и счастливо».
Эдгар не видел принцессу до самой свадебной церемонии. Нет, он не прятался от ученицы, хотя, правду говоря, очень хотелось бросить все и уехать домой. Но нужно было разрешение короля, а разговаривать с ним ученый не решился. Когда не умеешь врать, приходится говорить правду, а правда такова, что о ней лучше не знать никому. Принцесса отменила занятия, сославшись на то, что времени до отъезда мало, а дел много, будто не она еще день назад разъезжала по округе ни о чем не заботясь. Но Эдгар был ей благодарен: он не знал, сможет ли снова остаться с глазу на глаз и сделать вид, будто ничего не случилось. Совсем ничего.
Дорогу до Агена он провел, уткнувшись в копию манускрипта из королевской библиотеки. Хорошо, что у Эдгара не было ни звания, ни денег: ничто не обязывало его регулярно появляться пред очи принцессы, а свите не было дела до чужеземца. А оказавшись на корабле, ученый и вовсе забился на отведенную койку, и покидал ее только чтобы поесть, да по нужде. Дотерпеть до Агена, увидеться с братом, если тот еще жив, а там — долгий путь домой, где можно никого не видеть и ни о чем не думать.
Рамон оказался жив, и Эдгар обрадовался впервые за долгое время. Больше поводов для радости не оказалось. Впрочем, нет: был еще один повод обрадоваться: на свадьбу его не пригласили. То ли по забывчивости, то ли специально, как бы то ни было, Эдгар был благодарен безвестному составителю списка приглашенных. Можно остаться дома и не видеть, как принцессу отдают другому потому, что сам от нее отказался. Да, выбора не было. Но когда и кому от этого было легче?
Он дождался, когда вернулся Рамон, обнял брата на прощание (выходить на крыльцо, а тем паче провожать по городу тот строго-настрого запретил), а потом напился, впервые в жизни, до такой степени, что желудок отказался принимать хмельное. Кто-то из мудрых изрек, что когда телу плохо, человеку становится не до душевных скорбей. Мудрец ошибался.
А наутро ученому привезли письмо с повелением покинуть Аген в течение трех дней и никогда больше не появляться в городе. Кто так решил: Авгульф или молодая королева, и что она сказала мужу, Эдгар так и не узнал, да и не хотел знать. Про окрестные земли письмо ничего не говорило, и он уехал в замок Рамона. Что бы там не случилось между братом и его людьми, Эдгара они приняли. Оставалось только дождаться возвращения брата, а там… там видно будет.
Прощание вышло скомканным. Лия плакала. Рамон поцеловал ее в последний раз, помог взобраться в седло. Девушка по-прежнему не нуждалась в помощи, но как выпустить ее из рук?
— Поезжай. — Сказал Рамон. — И не оглядывайся. Плохая примета.
— Я не боюсь дурных примет.
— Я боюсь. Когда они касаются тебя.
— Тогда не буду оглядываться. Что с тобой сделают, когда вернешься?
— Ничего. — Через силу улыбнулся он. — Скажу, что ты меня околдовала. В худшем случае пожурят.
Лгать грех, но сказать правду и вовсе невыносимо. Кому станет легче, если девочка начнет терзаться виной? Поверит, должна поверить, ведь до сих пор он ее не обманывал.
— Приедешь?
— Непременно. Как только смогу вырваться.
Он снял перстень с гербом, протянул девушке:
— Возьми. Если не получится свидеться, пусть останется на память.
Она надела кольцо на большой палец, попробовала — вроде не падает.
— Не знаешь, кто там? — Рамон указал на живот. — Глупо, откуда бы ей знать.
— Мальчик.
— Славно. — Теперь он улыбнулся по-настоящему.
И пусть он будет называть отцом кого-то другого. Главное, что девочка и сын будут жить. И никакой Сигирик до них не доберется.
Рыцарь выпустил ее руку. — Поезжай. И не оглядывайся.
Лия всхлипнула, тронула поводья. Рамон долго смотрел вслед, пока кавалькада не исчезла за горизонтом. Взобрался в седло и поехал домой.
Если бы за измену просто рубили голову, Рамон был бы счастлив. Да пусть хоть четвертуют. Лишь бы не стоять перед притихшей толпой. А может, толпа и не была тихой, просто он сам не слышал ничего кроме биения сердца.
Одному господу ведомо, чего стоило держать голову гордо поднятой, когда трещала срываемая котта, что носят поверх брони. Пока снимали доспех. Любуйся, народ, вот кольчуга коварного и вероломного рыцаря! Народ любовался. Когда еще увидишь, как с рыцаря снимают броню, деталь за деталью, оставляя лишь в нательной рубахе.
Когда Рамон подъезжал к воротам, его уже ждали. Ночь под стражей, наутро — суд. Двадцать рыцарей, каждого из которых он знал много лет, смотрели кто с недоумением, кто с жалостью. Оправдываться Рамон не стал. Да и в чем, собственно, оправдываться: в том, что не позволил отправить на костер женщину, не совершившую никакого злодеяния?
— Думаю, сей рыцарь заслуживает снисхождения. — Сказал Дагобер. — Ведьма околдовала его, это очевидно. Справедливо ли заставлять человека отвечать за деяния, совершенные в помрачении рассудка?
— Все знают, что если рыцарь тверд духом и истинно верит в господа нашего, никакая ведьма не способна смутить его дух.
Отца Бертрады Рамон мог понять. Похоронив дочь, тот жаждал крови. Не ведьмы — так того, кто посмел отвести от нее возмездие. Но лучше бы на его месте сидел сейчас кто-то другой. Впрочем, какая разница? Ведь и вправду — «все знают».
— Я уж не говорю о том, что он пребывал в блуде с ведьмой.
И это тоже все знают. Но будь его воля, Рамон вколотил бы слова о блуде обратно в произнесшую их глотку.
— Негоже судить об этом тому, кто не смог дать дочери понятие о девичьей чести. — Не удержался он. Грех плохо думать о покойной…. но если бы не эта дура, ничего бы не было. По правде говоря, если бы он тогда не рассорился с Лией, тоже ничего бы не было. Не пришлось бы его спасать, и никто бы не узнал, что девочка — ведьма. Так что поделом, и будь что будет.
Отец Бертрады изменился в лице.
— Ты…
— Тихо! — оборвал его Авгульф. — Незачем превращать суд в балаган. Что скажешь в свое оправдание?
— Мне нечего сказать.
«Дурак» — отчетливо читалось во взгляде короля.
Пусть так. Но лучше быть мертвым дураком, чем живым мерзавцем.
Можно было бы потребовать божьего суда. Можно было бы — если бы сам Рамон не знал, что приказ он нарушил. Пусть во благо, пусть по-другому никак. Но господу все равно, он не станет помогать тому, кто нарушил слово.
Авгульф поднялся и начал говорить. Как всегда, долго и красноречиво. Мол, все знают, что сей рыцарь славен доблестью и добродетелью. Почему бы, в самом деле, не предположить, что во всем виновата ведьма, околдовавшая его. И не проявить милосердие?
Что ж, они проявили милосердие, заменив казнь изгнанием из города. Рамон искренне надеялся, что то милосердие им аукнется. Не на этом свете, так на том.
Он все же не выдержал, и закрыл глаза, когда молот обрушился на щит, разбивая герб. Жаль, нельзя заткнуть уши, чтобы не слышать размеренные удары. С таким звуком закрываются плиты склепа. И право слово, так было бы милосердней. В конце концов, двум смертям не бывать, как ни бегай, а одна придет непременно. А сейчас когда все закончится, не останется даже имени. Жить — никем?
И все-таки хорошо, что ни Бертовина, ни Хлодия не тронули. Из мальчика вырастет славный рыцарь. Рамон не знал, как бы повел себя на месте воспитателя, но судя по тому чем все закончилось, тот был прав. Хотя доведись вернуться назад — ничего бы не изменилось. Оба они поступили так, как сочли нужным, и не о чем сожалеть.
Не о чем сожалеть? Можно повторять раз за разом, и даже вслух, благо под покрывалом, опустившемся сверху, никто не видит лица, а за похоронными псалмами не слышно и голоса. Не о чем сожалеть, когда слышишь отпевание по самому себе. Все случилось как должно, но почему же так хочется покончить со всем раз и навсегда?
Хор смолк. Кто-то сдернул полотно. Рамон поднялся с носилок, на которых его принесли в церковь. Осталось немного. И потом… тоже немного. В конце концов, сколько еще от того года? Как-нибудь доживет. Как-нибудь.
— Да не будет продолжающего любовь к нему. — Возгласил герольд — Да будут дни его кратки. И достоинство его да получит другой.
Слова падали медленно и размеренно, гвоздями в крышку гроба. Что ж, да будет так. Только сына это не коснется. Право же, зачать — много ума не надо. А воспитывать будет кто-то другой. Но мальчик не будет расти сиротой.
Если Лия не умрет в родах.
Он поспешно отогнал эту мысль: так не может не должно быть. Но нечистый-насмешник закрался в душу довольно мурлыча: наконец-то он нашел, куда бить. Что ты будешь делать, рыцарь, если все окажется зря? Хотя ты уже не рыцарь. Так что ты будешь делать, не-рыцарь, если окажется, что ты променял собственную жизнь на морок?
И вот тогда Рамону стало по-настоящему страшно. Настолько, что он даже не заметил, как смолк герольд и церковь наполнилась тишиной. Очнулся, осознав на себе десятки пристальных взглядов. Послал нечистого к бесам. Если в этом мире есть господь в которого так верит Эдгар, он не допустит. А если нет — пусть этот мир катится в преисподнюю, и сам Рамон вместе с ним.
Он шел к выходу из церкви, и люди расступались, точно перед прокаженным. Яркое, почти летнее солнце резануло по глазам. Толпа, собравшаяся у входа, загудела, хлынула в сторону. Рамон не знал, ни куда идти, ни что делать. Просто перебирал ногами, не думая ни о чем. Потому что остановиться и задуматься казалось невыносимым.
Он шел, медленно, раздвигая телом вязкий, словно кисель воздух: так бывает в кошмарах, а сейчас почему-то случилось наяву. Он шел, и толпа послушно раздавалась в стороны, пока на пути не вырос человек.
Хлодий.
Рамон пошел к нему, просто потому что сворачивать было глупо. Неважно, зачем мальчишку принесло на казнь и по большому счету неважно, если отшатнется и он. Но мальчишка — впрочем, какой он теперь мальчишка — рыцарь стоял прямо, не собираясь уступать дорогу.
Рамон остановился в шаге от Хлодия, не зная, что делать дальше. Отодвинуть? Обойти? Развернуться? И растерялся окончательно, увидев слезы, исчезающие в редкой, полудетской бородке. Мальчишка плакал не скрывая, и похоже, ему было все равно, что скажут или подумают люди.
Они стояли и смотрели друг на друга, а потом Хлодий шагнул вперед и обнял бывшего господина.
— Поехали домой.
Рамон стиснул зубы чтобы не разрыдаться самому. Амикам бережет шкуру, дабы не обвинили в соучастии, с Бертовином все ясно, Эдгар и тот не пришел. А мальчишка, похоже, наплевал и на отца и на возможную немилость. Глупый мальчишка, так и не выросший из глупых идеалов.
— У меня больше нет дома.
— У тебя есть дом. И будет, покуда я жив.
Откуда-то из толпы возник Нисим, набросил на плечи Рамона плащ.
— Едва не опоздал. Прости, отца нужно было встретить. Только-только выпустили. Он просил передать, чтобы ты не вздумал ничего выкинуть. А я собираюсь недели через две съездить, проведать как там сестренка. Думаю, она тебе обрадуется.
Рамон медленно перевел на него взгляд.
— Зачем я ей — такой?
— Зачем женщине любимый мужчина? — фыркнул Лиин братец. — А кто встанет рядом с мечом, когда придет срок рожать? Я, что ли?
Для того, чтобы понять о чем он, пришлось изнасиловать отупевший разум. И в самом деле. Здесь считают, что у изголовья роженицы должен стоять мужчина с оружием. Так кто им станет, если не он?
Бездумная пустота отступила. Будь что будет, но до родов он доживет. Из кожи выпрыгнет, но доживет. И девочку костлявой не отдаст, пусть старуха убирается в преисподнюю, где ей самое место. А дальше — господь рассудит.
— Поехали домой. — Повторил Хлодий. — Отец устыдился показаться тебе на глаза, а Эдгар ждет за воротами — в город ему больше тоже хода нет.
— Что случилось? — всполошился Рамон.
Собственные беды как-то разом ушли в тень. Во что этот умник опять вляпался? Дитя малое, шагу ступить не может.
— По дороге расскажу. — Ответил Хлодий. — Тебя ждут. Поехали.
Отряд рыцаря — «копье» состоял из самого рыцаря, его оруженосца, кутилье (конного воина, не имевшего рыцарского звания), 4–6 стрелоков и 4–6 пеших воинов.
Золото — символ богатства, справедливости, великодушия. Чёрный (чернь, sable) — символ мудрости, печали, благоразумия, смирения. в исключительных случаях допускалась замена непосредственного несения службы денежным взносом в размере от 1/3 годового дохода лена стеганый поддоспешник при посвящении в рыцари на юношу надевали золотые шпоры и рыцарскую цепь
Верхняя одежда, длинная расклешенная рубаха, может быть как с рукавами, так и без. стихи ж-ж юзера morgeyna
Верховая езда, копье, фехтование, плавание, охота, игра в шахматы, сочинение стихов
В средневековом театре женские роли играли мальчики
«Dansa de la mort» из Монтсеррата поэзия вагантов


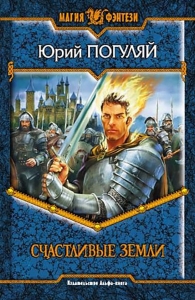

Комментарии к книге «Двум смертям не бывать», Наталья Шнейдер (Емелюшка)
Всего 0 комментариев