Генри Лайон Олди Петер и Смерть
"Инструмент со слабым звуком, бедный тембрами, лютня требовала от музыканта особой тщательности. Настройка была так многообразна, что можно сказать: настроек было столько, сколько исполнителей. Еще говорили: «Половину своей жизни лютнист настраивает инструмент… А другую половину жизни – играет на расстроенном инструменте!»
Фелипе Педрель из Тортосы«Здесь опера кончилась. Маэстро умер.»
Дирижер Артуро Тосканини, на премьере «Турандот», оперы Д. Пуччини, которую композитор не успел закончить по причине смерти (завершена Ф. Альфано). После этих слов Тосканини покинул дирижерский пульт.Эй, в дорогу, сивый мерин!
За порог!
Ты сосчитан и измерен, —
Вне дорог
Кто тебе, дружок, поверит?
Только Бог.
Долог путь до Типперери,
Люди, птицы, песни, звери —
Все в свой срок.
Ниру БобовайВсе началось с того, что флейтист свернул на обочину.
Они познакомились у подножия горы Копун, на полпути между Гаммельном и Ганновером: Петер Сьлядек и бродячий флейтист, одетый в пестрое. Раннее утро, зябкое и брюзгливое, намекало на дождь с градом, но так и не собралось всласть окатить путников из ушата. На привале у Сьлядека нашлась краюха хлеба, две ядреных луковицы и сыр; у флейтиста – грудинка, фляга с мозельвейном и горсть заплесневелого, морщинистого от старости изюма. У пестрого в заплечном мешке даже нашлась сковорода: поджарить грудинку. Ну да, флейта не лютня, плечо не оттянет… Сытный обед располагал к беседе о вещах насущных и, можно сказать, жизненно необходимых. Начавшись с сонат «Рыжего Святоши» для мюзетты и клавесина, когда флейтист искусно вопроизвел близкий к волынке тембр мюзетты, а бравый лютнист не подкачал, притворившись клавесином, разговор свернул на каноны из «Музыкального Приношения»: заказ Фридриха Пруссака «Лейпцигскому Кантору», отцу двадцати детей, не считая тьмы хоралов, прелюдий и сюит. Шестиголосный ричеркар продолжили на ходу, ибо близился вечер, а ночевать под открытым небом – радость не из великих.
Воспользовавшись преимуществом – лютнист мог говорить, играя, – Петер в одностороннем порядке обсудил с попутчиком местные суеверия. Мнительные селянки в последнее время стали дурно коситься на бродяг с репутацией людей искусства; в дом пускать отказывались, прятали детей, а вслед непременно делали знак от сглаза. Наверное, близок конец света. Флейтист кивком осудил поведение вульгарных селянок, не прекращая дудеть. Еще раз кивнул, когда Петер начал вспоминать красоты Венеции, чудесно отозвавшись о тамошних консерваториях.
И свернул на обочину, черт бы его побрал, дудочника.
Словно волчий нюх вел флейтиста по следу. Дорога впереди встречалась со своей утоптанной товаркой, сколачиваясь крестом, предлагая взвалить на плечи тяжесть выбора, – но пестрый дьявол сменил торную тропу на окольную, еще не дойдя до развилки. И быстро-быстро зашагал через луговину, в сторону темневшего леса, по-лошадиному перебирая длиннющими ногами.
– Эй! Ты куда!
Бросив играть, Петер остановился в недоумении. Обидно вот так, без видимой причины, терять славного собеседника. Почесав в затылке, лютнист зачехлил «Капризную Госпожу», еще раз поскреб многострадальный затылок – и кинулся за случайным товарищем.
– Погоди! Куда ты?
– Распутье! – на миг оторвавшись от флейты, бросил пестрый, как будто это объясняло его дурацкий каприз. И сразу повел мелодию дальше, торопясь пересечь луг. Спеша за ним, Сьлядек ощущал в душе небывалый, чудной подъем, как если бы спешил за судьбой, наконец-то явившейся своему рабу во плоти. Дважды падал, ценой синяков сберегая лютню, задыхался, желая непременно догнать флейтиста, пойти рядом, присоединиться к зовущей теме… Увы, ходок из бродяги был славный, а бегун – не ахти. Зависть резала сердце при одной мысли о луженой глотке попутчика: дудит, дудит, а на коне не догонишь! Лес сиреневой стеной мелькнул сбоку, когда они взяли еще левее, огибая дубовую рощицу на опушке. И вскоре оба человека остановились у витой решетки, огораживающей чье-то поместье.
Один – задыхаясь и кашляя, другой – молча разбирая флейту и укладывая инструмент в футляр.
Решетка была из тусклого металла, ужасно красивая: диковинные вензеля плющом оплетали высокие копья-стойки с острыми наконечниками. «Чтоб мальчишки не лазили», – подумал лютнист. И тут же устыдился собственной глупости. Рядом находились ворота: открытые настежь, они слегка поскрипывали на ветру.
И ни одного сторожа.
«Наверное, собаки сторожат. Зайдешь, а тебя цап за ляжку: зачем явился, братец?..»
– А ты зачем? Мне надо, мне время пришло, а ты? – видимо, подслушав мысли Петера, спросил флейтист. Он маялся в воротах, кусая губы. Заходить не спешил, но было ясно: обратно тоже не повернет. Так больной, доведенный до отчаяния зубной болью, топчется на пороге цирюльни: да, больно, да, страшно, но никуда не денешься от клещей, ради будущего облегчения.
– Я? Я с тобой…
– А-а-а… Ну, раз приспичило…
Собаки медлили рвать в клочья незваных гостей. Флейтист шел уверенно, мимо подстриженных кустов, мимо украшенных фонариками и гирляндами деревьев, с каждым шагом приближаясь к роскошной вилле. Мраморная женщина с кувшином скучала на постаменте, чей цоколь украшала надпись по-гречески: «Быстры, как волны, дни нашей жизни…» Обогнув искусственное озерцо, миновали два фонтана, где пара близнецов-Самсонов успешно раздирала пасти братьям-львам. Наконец приблизились к цели: дом, чтоб не сказать, дворец, был выстроен в римском стиле, с колоннами и портиком.
– Ведь погонят? – со знанием дела предположил Сьлядек. – Взашей?
Флейтист хмыкнул в усы:
– Отсюда не гонят…
Ступеньки вознесли путников наверх. Пустынный холл. Безлюдные коридоры. Галерея, закутанная в тишину. Внутренний дворик. От дворика начиналась аллея, до чертиков похожая на обычную городскую улицу. Булыжник мостовой, дома по обе стороны. Хозяин виллы, знатный причудник, видимо, здорово досадил архитектору, требуя исполнения своих замыслов. А потом переехал в Мадрид или Хенинг со всей челядью, оставив поместье прозябать в одиночестве. Что-то здесь не срасталось, казалось неестественным или даже сверхъестественным, но Петер Сьлядек избегал лишних догадок. Меньше знаешь, дольше живешь. Он – мелкая сошка, темная лошадка; ему ли, чья жизнь сложилась проще простого, задумываться над странностями сильных мира сего?
Тем более, что флейтист явно уже бывал здесь.
Чуть дальше по аллее-улице, под чудесным зданием, напоминавшим Миланский «Teatro alla Scala», недавно открытый премьерой оперы Сальери «Признание Европы», столпились люди. Расположась в тени вывески "Collegium Musicum «Eden», трое или четверо, они прямо на тротуаре играли в «чашечки». Верховодил игрок в мышино-сером: серый кафтан, серые панталоны, шляпа цвета сумерек, туфли из тумана с пряжками. Единственной яркой деталью была лютня в черном чехле, и сердце Петера забилось сильнее. Впрочем, лютня дремала за спиной игрока, который неуловимыми движениями вертел три костяные чашечки, пряча мелкий грошик. Двое из зрителей раздумали глазеть и убрались восвояси, третий же, закутанный в плащ коротышка, внимательно следил за руками игрока.
– Не вздумай мешать! – строго шепнул пестрый флейтист.
И почти сразу коротышка вмешался в игру:
– Стоп! Средняя!
Игрок послушно открыл указанную чашечку. Грошика там не оказалось. Коротышка с легким сожалением пожал плечами – дескать, бывает, что тут поделаешь? – и скрылся в тенях, окутавших улицу. Платить за проигрыш он и не подумал, а игрок не напомнил. Лишь повернул к новопришедшим узкое, скуластое лицо. Кивнул флейтисту:
– Что-то ты зачастил…
– Распутье, – ответил пестрый с прежней, странной интонацией. – Развелось их, собак…
И швырнул игроку монетку.
– Ясно, – игрок улыбнулся, мелькая чашечками. Петер еще подумал, что в жизни бы не догадался, под какой скрывается монетка. А если гадать наудачу, так с удачей у бродяги были неважные дела. Вот поэтому азартных игр он бежал, как огня. Зато флейтист, похоже, оказался ретив не в меру: прикипев взглядом к рукам игрока, он придвигался все ближе и ближе, как мышь на безгласный зов змеи. Хотя – пестрая мышь и серая змея…
– Стоп! Средняя!
Бродяге сперва почудилось, что это запоздалое эхо передразнило возглас сгинувшего коротышки, забывшего рассчитаться за проигрыш. Но нет, игрок опрокинул среднюю чашечку, взял укрытую под ней монетку и отдал пестрому.
– Твой фарт. Иди куда хочешь.
Флейстист засмеялся и шагнул в двери «Collegium musicum». Когда Петер ринулся следом, игрок весело окликнул коллегу-лютниста:
– Эй! Так значит, говоришь, стоял в ополчении против Зигфрида Майнцского? При Особлоге? В каком году, не напомнишь?
Удивляясь, откуда насмешнику в сером известна биография жалкого бродяги, Сьлядек вбежал в фойе «Eden'а». Пестрый флейтист исчез. Наверное, раздумал ждать медлительного спутника. Нашел запасной выход, выбрался наружу, длинные ноги понесли его через парк, к решетке с воротами… Фойе пустовало. Выглянув в окно первого этажа, Петер обнаружил, что улица-аллея тоже пустынна: игрок успел сгинуть, вместе с чашечками, лютней и забавными вопросами. Задержавшись у картины в золоченой раме – на полотне музыканты с телами, странно искаженными кистью художника, занимали места в яме, мало похожей на оркестровую, – он покинул здание, опасаясь кары за вторжение без спросу.
Вернулся по аллее обратно во внутренний дворик виллы.
Час или два шлялся коридорами, тщетно пытаясь выбраться в памятный парк. Кричал, прося кого-нибудь откликнуться. Выглядывал в окна: улицы, проспекты, мостовые, дома, больше похожие на дворцы, столики открытых тратторий… Ни единой живой души.
Спустя еще полчаса снова вышел через дворик на аллею-улицу.
– Эй!
Тишина.
Пусто и гулко. При этом, как ни странно, раскинувшийся за аллеей город отнюдь не выглядел мертвым: безлюдность казалась его естественным состоянием. Буднями. «Куда все запропастились?» – ломал голову Петер, бредя без цели, без смысла. Ну ладно – флейтист. Ноги длинные, поди-догони. Но остальные-то жители где? Может, праздник? Все, от старцев до детворы, собрались на центральной площади?.. Он в очередной раз прислушался. Тишина злорадно запорошила уши горстями мягкой пыли. Голоса, шарканье подошв по брусчатке, стук копыт, вопли зазывал, разговоры, торг – ничего этого не было.
Совсем.
– Эй!
Или жители ушли отсюда? За дудкой пестрого? Мор, глад, нашествие варваров-людоедов, черти всех в пекло забрали, ангелы на небо унесли?! В голод, выкосивший население этого прекрасного места, верилось с трудом. Мрамор, полированный гранит, лепнина, блестящая черепица… Ни домишка в простоте. Чума? Где запах тления, погребальные команды, бренные останки на улицах? Где стенания умирающих и плач родственников?! В войну верилось еще меньше. Витражные стекла в окнах целехоньки, мостовые чисто подметены. Не захватчики же, в самом деле, их подмели, угоняя жителей в рабство?! Ей-богу, явление чертей или ангелов выглядело более правдоподобным.
«Капризная Госпожа» оттягивала плечо, тяжелея с каждым шагом.
Не заснул ли бродяга на привале, после грудинки, мозельвейна и славного дуэта, чтобы увидеть дивный сон?
Вскоре Петер бросил ломать голову, искренне радуясь: раньше слушал чужие истории, и вот – случилось с ним самим! Город захватил, завертел, закружил по улицам: смотри-дивись! Двухбашенный кафедральный собор навис скальным монолитом; камень стен, обработанный с нарочитой грубостью, лишь усиливал сходство со скалой. В стрельчатой арке входа копились чернила близких сумерек. Фигурки святых на фронтоне возносились на недосягаемую высоту: того и гляди, покинут грешную землю, растворясь в серых облаках. Напротив, за чисто символической оградой из узорчатого чугуна, в глубине сквера притаился белоснежный палаццо с колоннадой. Однако с улицы рассмотреть его как следует не удалось, а войти Петер побоялся.
Только тебя и ждали!
Все глаза проплакали: где дружок Сьлядек, отчего не идет…
– Приятель! – окликнул лютниста игрок в сером. Минутой раньше, звеня чашечками на лавке миниатюрного палисадничка, он отобрал грошик у верзилы в нагольном кожухе. Верзила, бранясь, ушел восвояси, а игрок, закидывая черную лютню подальше за спину, махал Петеру рукой. – Так, говоришь, был знаком с Марцином Облазом, магом из Хольне? Ну и где же он, твой вольный город Хольне? В каких краях?!
Прежде чем бродяга успел добежать до палисадничка, игрок, хохоча во всю глотку, скрылся за кустами шиповника.
А Петер уперся в четырехэтажный дом с высоким парадным. Блестят лаком двери красного дерева. На фасаде барельеф: мускулистые воины в гребенчатых шлемах сражаются мечами и дротиками. Мчатся колесницы, кони встают на дыбы, бегущие враги гибнут под копытами. За домом открылась малая площадь, сплошь уставленная статуями, будто кладбище – надгробными памятниками. Ахейские боги: суровый Зевс, Афина с копьем, ледяной красавец Аполлон… Сутулый архангел Гавриил раздумывает: зачем ему меч в деснице? Печальная Мадонна баюкает спящего младенца. Дети играют в прятки. Вольный каменщик и ведьма, рука в руке, шагают с постамента ввысь. Дольше всего Сьлядек задержался у статуи, изображавшей мужчину средних лет. Одичалый ветер развевал каменный плащ, путал каменные волосы, бросал пригоршни песка в каменное лицо – но человек упорно вглядывался в горизонт из-под козырька ладони. Застигнут ветром на полпути, он видел впереди что-то, невидимое для Петера, и на губах статуи застыла упрямая улыбка.
Путник точно знал, что осилит свою дорогу.
Достигнет своего горизонта, на краю земли или за этим краем.
К сожалению, имени мастера или названия скульптуры на постаменте не обнаружилось. Лютнист подумал, что непременно напишет балладу о Путнике: печальную, пронзительную, но с надеждой в финале. Той надеждой, что заставляла мраморные губы улыбаться. Не сейчас. Позже. Но – обязательно. Уходя с площади, он спиной чувствовал: статуя глядит ему вслед. Бродяга дважды оборачивался, пока город не скрыл от него площадь, завертев карусель по-новой. От роскоши рябило в глазах. Сейчас, в вечерней мгле, все краски были приглушены, контрасты сглажены – но как же должно сверкать это великолепие ясным днем! Часть зданий казалась знакомой: Венеция? Хенинг? Париж? Хольне? Память отказывала. И вообще, пора честь знать. В поле, под кустом, ночевать куда привычнее, чем посреди этого безлюдного величия.
И Петер Сьлядек решительно направился обратно.
* * *
Площади со статуями он больше не нашел, зато выбрел на знакомую аллею-улицу, где располагался Collegium Musicum с райским названием «Eden». Не попытать ли счастья еще разок? Ведь пестрый флейтист нашел же выход именно отсюда?
– Есть кто живой?
В фойе по-прежнему было пустынно и торжественно. Ни души. Бронзовые канделябры скорбно, но с достоинством истекают восковыми слезами. Пламя свечей отражается в полировке стенных панелей. Кажется: то ли пожар, то ли праздник с факельным шествием. Робея, Петер тронул одну из дверей, ведущих в глубину здания. Створки распахнулись мягко, без скрипа – и бродяга, ахнув, застыл на пороге. Зал показался ему раковиной улитки-гиганта. Строгие ряды роскошных, обитых бордовым бархатом кресел. Подлокотники блестят темным лаком. Ковровые дорожки. Три яруса балконов. Ложи для знати. Из пяти огромных люстр горела лишь одна – та гора хрусталя, что ближе к сцене. Но и этого хватало с избытком: не меньше сотни свечей сияли, искрясь и отражаясь в благородных гранях подвесок. Беззвучный, воплощенный в пламени гимн искусству. В ушах тихо возникла призрачная мелодия: скрипка, флейта, виолончель… Развитию темы чего-то не хватало, и вскоре Петер понял: не достает лютни.
Капризной Госпожи!
Он сам не заметил, как переступил порог. Стараясь идти как можно тише, медленно двинулся к сцене по центральному проходу. Из тьмы – к свету. Так, на цыпочках, приближаются к заветной мечте. Один раз сыграть в волшебном зале, и можно умереть со спокойной совестью. Даже во время краткого пребывания в консерватории маэстро д'Аньоло ни разу не довелось видеть ничего подобного. Вот где творится Музыка с большой буквы! Вот где выступают настоящие виртуозы, а не уличные побирушки, вроде всяких Сьлядеков. Вот где собираются истинные ценители искусства!.. Опомнившись, Петер затравленно оглянулся. Сейчас войдет служитель и прогонит в тычки! Но нет, вокруг дремала равнодушная тишина. Даже мелодия-греза умолкла. Остановившись у боковой лесенки, щурясь от режущего глаза сияния, бродяга увидел: на авансцене ждут четыре пюпитра с нотами. Позади каждого, на специальных подставках из черного дерева, лежали они: скрипка, виолончель и флейта.
Четвертая подставка пустовала.
Испуган, недоумевая, Петер снова огляделся. Свечи горят, ноты и инструменты готовы… Складывалось впечатление, что концерт вот-вот начнется! Нет малого: людей. Слушателей и музыкантов.
– Ну, это… значит… Эй! – пугаясь собственной отваги, вслух поинтересовался бродяга.
Голос прозвучал кощунственно громко, рокотом прибоя раскатившись по всему залу.
Нет ответа.
Окончательно расхрабрившись, Петер буквально взлетел на сцену. Сунулся туда, сюда, заглянул за кулисы – никого. Подошел к пюпитрам. На трех лежали незнакомые ему ноты. На четвертом, стоявшем возле пустой подставки, белели чистые листы. Да ведь это – приглашение! Шанс исполнить свою мечту, сыграть в настоящем Collegium Musicum, пускай даже перед безлюдным залом! Другого случая не будет. Чего ты ждешь, дурачок? Особого приглашения? Ангела с огненным мечом, который явится изгнать тебя из рая?!
Петер глубоко вздохнул и расчехлил Капризную Госпожу. Тронул струны: ну конечно, строй полетел, как всегда! Лихорадочно принялся настраивать инструмент, словно боясь опоздать.
Вроде бы, все. Можно начинать.
Играть перед пустым залом он робел. Наверное, даже больше, чем перед полным, будь в «Eden'е» аншлаг. Крепко зажмурился, воображая: слушатели рассаживаются в кресла. Невысокого мнения о собственной фантазии, вместо знатоков и ценителей он заполнял зал людьми, для кого играл раньше. Кого встречал в своих нескончаемых странствиях, о ком слышал из бесчисленных историй, рассказанных в корчмах и кабаках. Маг Марцин Облаз из Хольне. Сотник рубежной охраны Ендрих Кйонка. Фома Брут, испачкан могильной землей, засыпает с открытыми глазами. Гогочут усатые казаки, за версту разя сивухой. Пытливо глядит на «бамбино виртуозо» добрый маэстро д'Аньоли. Отец Игнатий с лицом деревянного идола. Раб Справедливости Стагнаш зажимает сочащуюся дымом рану. Суровый Ахилло Морацци-младший со шпагой на боку. Бешеный Вук Мрнявчевич со всей ватагой. Молчун Керим-ага. Подмигивает толстый Старина Пьеркин. Хмурятся сторожа Межи: Ченек и Мирча. Упрямая Сквожина с вилами. Слепой профессор из Каварренского университета привел толпу буршей. Пьян отчаянием Юрген Маахлиб (сейчас опять «Кочевряку» затребует!). Грузный Освальд ван дер Гроот. Узник адской тюрьмы Ганс Эрзнер. Угрюмый капитан-брабансон. Андреа Сфорца, безумец, пират и лекарь. Восторженно пускает слюни юный Ромео. Ослепительная Франческа Каччини. Загорелая непоседа Каролинка. Живое дыхание наполняло зал – еще! еще!.. – и Петер сам не заметил, когда родилась музыка.
Нищий бродяга, он играл для них, как для себя.
Один на один.
«Как в последний раз!» – ударила непрошеная мысль. Гнусная, дрянная, гадкая мыслишка! – тем не менее, ее горечь, будто желчь, отрезвила, вернув ясность рассудку. Разве можно играть так в последний раз в жизни! Да ведь он сгорит со стыда на том свете! Его сварят в котле рогатые черти, и поделом! Только сейчас, утонув в чудесной акустике дивного, настоящего зала, Петер узнал: как плохо он играет.
Несчастный, ты получил, что хотел.
Звук слоился, струны дребезжали. Голос Капризной Госпожи фальшивил, не достигая балконов. Инструмент растерялся, как и хозяин инструмента. Напевая баллады, Сьлядек заикался, промахиваясь не в такт. Это, с позволения сказать, искусство годилось для площадей и харчевен, унылых поминок и разудалых гулянок. Для кого он играл все эти годы? Для солдат и школяров, воров и гулящих девок, бюргеров и крестьян, ремесленников и бездельников. О да, им нравилось! Они платили гроши, угощали и требовали потешить их заскорузлые души. Но здесь, в Храме Музыки, цена его мастерству – ломаный грош.
На такую монету стыдно сыграть даже с игроком в сером.
Призрачные лица слушателей таяли перед закрытыми глазами Петера Сьлядека. Тонули в тумане. Отдалялись, исчезали… Дело было не в том, что эти люди – лишь плод воображения. Просто сорвать этот плод, распробовать на вкус, познать добро и зло – означало покинуть райский сад, "Collegium Musicum «Eden», навеки. Он скомкал коду и медленно опустил лютню, словно покойника в гроб. В душе было пусто и гулко – зал-душа, город-душа, обезлюдевший, опустошенный…
Аплодисменты. Одинокие, но отчетливые.
Свет люстры слепил, мешая разглядеть щедрого доброжелателя.
– Спасибо, маэстро. Я получил истинное удовольствие.
Наконец Петер догадался обернуться.
Слушатель находился не в зале, а на сцене, в левых кулисах. Давешний игрок в сером, у которого исхитрился заполучить монетку пестрый флейтист. Высокий, сухой: казалось, само Время покрыло его слоем мягкой пыли, не позволяя угадать истинный возраст. Одно-единственное, глянцево-черное пятно выделялось на фоне мышиного одеяния: кожаный футляр лютни.
– Вы слишком добры… право, я не заслужил…
– Бросьте, маэстро!
– Да нет же! Я скверно играл, – краска позора обожгла щеки.
– Не прибедняйтесь! Хотите, сыграем дуэтом?
Не дожидаясь согласия, игрок в сером ловким движением извлек из футляра свой инструмент. Это было само совершенство. В отличие от Капризной Госпожи, с ее вогнутой коробкой и скрученным колковым местом, или, например, от андалузской гитары с плоской коробкой и горизонтальным колковым местом, лютня игрока совмещала в себе все достоинства обоих типов. Такие инструменты, как знал Петер, звались пандорами. Порожки этой пандоры были не жильными обвязками, сделанными из запасных струн, а врезными, из металла; механика колков потрясала тонкостью работы. У Сьлядека прямо дух захватило. Блики свечей отражались в иссиня-черном лаке без единой трещинки, проникая в вырез, исполненный в виде дивной звезды: внутри пандора была наполнена темным пламенем. По сравнению с этим чудом Капризная Госпожа смотрелась девкой-чернавкой рядом с блистательной королевой.
– Не стесняйтесь, маэстро. Я вижу, вы впервые в филармонии?
Сейчас игрок был далеко не так фамильярен и насмешлив, как при первой встрече. Да и слово «филармония» озадачивало. Где-то Петер его уже слышал… Ах, конечно! – это же просто иное, новомодное название зала для концертов…
– Мне редко приходилось играть в подобных местах, мой господин. Сказать по правде, никогда раньше.
– Никогда раньше… – эхом откликнулся игрок с непонятной, обиженной иронией.
– Увы. И здесь моя скромная лютня звучит…
– Скромная лютня… звучит…
Акустика зала оказалась на высоте: можно подумать, Сьлядек говорил с душой «Eden'а». Ответ шел из всех углов, от партера до галерки, от лож до балконов.
– Если честно, мы оба не в голосе.
– Полно! Я начну тему, а вы присоединяйтесь…
Настраивать свою пандору игрок и не подумал. Он лишь на миг прикрыл глаза, став чертовски похож на самого Петера в начале горе-концерта. Наполнял зал призраками памяти? Вспоминал подходящую к случаю пьесу?! Чистый, глубокий звук пробной волной прошелся по залу. У Петера перехватило дыхание: это был глоток родниковой воды в пустыне. Стало ясно: за все сокровища мира, даже за блаженство рая бедный лютнист не осмелится присоединиться к этому музыканту. Севший от дорог, убитый жарой и морозом голос Капризной Госпожи покажется оскорблением рядом с волшебством черной пандоры. Незнакомый, величественный тон инструмента, неведомые доселе гармонии и созвучия; нечеловеческой красоты мелодия, где царила Вечность иных, запредельных сфер. Нищий бродяга стоял на сцене, погружаясь в бездны чужой музыки и взлетая вместе с ней к небесам, страдая, наслаждаясь и наконец обретая покой; сердце остановилось в груди, завершив мучительную, бесконечную дорогу. Слезы восторга текли по каменным щекам, и незачем было всматриваться в горизонт: Путник вернулся домой…
Льдинкой на солнце растаял последний аккорд. Игрок медлил, пристально глядя в пустой зал. Словно высматривал там кого-то. Нет, не высмотрел – и повернулся к слушателю.
– Ну что же вы?!
В его голосе не было насмешки или чувства превосходства. Лишь слабая укоризна: собрат по искусству забыл поддержать в нужный момент.
– Я… я не посмел. Вы играли божественно. Хоть умри, лучше не исполнить!
– Вы мне льстите, маэстро.
– Клянусь! Ваши руки… ваш инструмент… Боже мой, доведись мне хоть раз сыграть на такой лютне!.. я бы все отдал…
Игрок в сером усмехнулся, спускаясь в зал:
– Нет ничего невозможного.
Петер смотрел ему вслед, пока тот шел по проходу. Затем грустно опустил взгляд на свою старенькую лютню – и ахнул! В руках бродяги была пандора игрока. Чудо? Волшебство? Наваждение? Ошибка исключалась: будто возлюбленную, лютнист ощущал ее ладонями, подушечками загрубелых пальцев, пожирал глазами. Вне сомнения, это она, черная пандора, само совершенство!
– Стойте! Вы забыли… вы оставили…
– Вы хотели иметь такой инструмент?
– Да! Конечно! Но…
– Успокойтесь, маэстро. Не надо благодарностей. Она – ваша. Ее зовут Верная Спутница. А вашу, насколько я помню – Капризная Госпожа?
– Я… я не верю…
– И зря. Кстати, – игрок в сером внезапно перешел «на ты». В глазах его мелькнули шальные искры. – Не припомнишь ли, братец, когда и где ты впервые услышал слово «филармония»? Если, конечно, ты и впрямь стоял в ополчении при Особлоге. Ну?
Пока растерянный Сьлядек вспоминал, где впервые услыхал о филармониях, игрок покинул зал. А Петер так толком и не вспомнил. Может, в Болонье? в Хенинге? Однако странный вопрос быстро вылетел из головы. Наверняка игрок всего лишь подшутил над бедным коллегой, одолжив инструмент на время. Но даже если Верную Спутницу придется вскоре вернуть – это воистину королевский подарок.
С таким трепетом он не коснулся бы и Венеры, реши богиня отдаться бродяге. Пандора звучала сама, угадывая малейшие желания исполнителя. Глубокий, низкий звук дивной красоты насытил зал, словно дождь – растрескавшуюся о засухи пашню. Мелодия не гасла, теряясь под сводами; она крепла уверенно и страстно. А какой строй?! Странный, непривычный, но будто нарочно созданный для них двоих: Петера Сьлядека и Верной Спутницы. Как же он раньше не догадался, что лютню можно настроить таким образом? Впрочем, Капризная Госпожа и привычный строй держала недолго, а уж этот наверняка сбросила бы сразу, как норовистая лошадь – чужого седока.
Неужели эта сказка однажды закончится?!
…В первый миг бродяга решил, что ослышался. Шарканье ног, томный шелест платьев. Приглушенный обмен репликами, легкий кашель. Публика вливалась в зал. Изящные дамы в фижмах, со множеством оборочек, рюшей и бантиков, в напудренных, завитых париках, украшенных цветами и драгоценностями. Кавалеры в камзолах, расшитых золотыми узорами, в сорочках с пышными кружевными жабо, в коротких панталонах с бантами, в шелковых чулках и башмаках с нарядными пряжками. Восторженные юноши и девицы, млеющие от предчувствия встречи с настоящим искусством. Утонченные художники, актеры и музыканты, с кудрями, выбивающимися из-под непременных беретов, с тонкими пальцами и притворной скукой во взоре. Чопорные профессора консерваторий, искушенные ценители, знатоки, аристократы духа…
Концерт был прекрасен.
Через три квартала от Collegium Musicum располагалась картинная галерея. Еще пьяный от шквала оваций, Петер поднялся в залы бельэтажа. Задержался у первой попавшейся картины. Глаза слезились, изображение двоилось, превращаясь в вакханалию красок.
– У вас хороший вкус, – сказал господинчик в шляпе, встав за спиной. – Это, молодой человек, шедевр. «Лютнист», кисти Микеланджело Меризи. Как известно, моделью для живописца служил знаменитый Петер Сьлядек, в расцвете его дарования…
Вытерев глаза рукавом, Петер с некоторым подозрением вгляделся в картину. Пухлый, черноволосый юнец с женственными чертами лица томно глядел на неотесанного бродягу. Белоснежная, едва ли не дамская сорочка открывала гладкую, безволосую грудь. Рот полуоткрыт, чувственные губы припухли, словно от поцелуев; на лице – возвышенная задумчивость.
– Обратите внимание, молодой человек. Нежная кожа, по-девичьи убранная голова, изящные удлиненные пальцы придают всему облику лютниста чарующую женственность. В то время была чрезвычайно популярна тема «memento mori». Молодость, преходящая красота, увядающие листья, улетающий звук музыки – приметы тщетности земной суеты, они говорили о бренности мира…
Петер подошел к картине вплотную, пытаясь прочитать ноты, лежащие на столе перед юнцом. Басовая партия мадригалов Аркадельта. Ну и что? Еще на столе лежала скрипка. Бродяга никогда в жизни не играл на скрипке. И никогда не подвязывал волосы лентой. И никогда не был таким сытым, как этот красавчик. Ишь, щеки аж лоснятся… Он перевел взгляд на лютню юнца. Корпус напоминал половинку дыни, гриф чрезвычайно широк; нижняя дека для красоты проложена черным деревом и слоновой костью. Раздобревший, вальяжный, салонный инструмент. Ничего общего с Капризной Госпожой.
А господинчик в щляпе зудел мухой:
– Тема эта оказалась пророческой: довольно скоро художник Меризи умер от болезни, испытав все превратности судьбы. Модель пережила маэстро всего на полгода: в феврале 1610 года Венеция, колыбель искусств, хоронила Петера Сьлядека. Несчастный ввязался в случайную драку у гостиницы «Тетушка Розина», где был заколот наемным убийцей…
– Стойте! Как это: «хоронил»?! Что вы городите?!
Увы, господинчик в шляпе уже скрылся в боковой галерее. И вспомнить о нем, кроме чертовой шляпы с пером, не удавалось ничего. Возмущенный до глубины души, Петер еле сдержался, чтобы не плюнуть на шедевр. Перейдя в соседний зал, бродяга остановился у портрета в золоченой раме. После гнусного юнца, которому самое место в вертепе мужеложцев, изображенный здесь пожилой мужчина с бородой, в черном кафтане и черном берете, вызывал мысли спокойные и приятные. Была в портрете некая основательность, настраивающая сердце на нужный лад.
В левой руке мужчина держал лютню.
– Вы совершенно правы, синьор, – сказала из-за спины дама под вуалью. – Это истинная жемчужина собрания. Ганс Гольбейн-младший, автор аллегорической серии рисунков «Пляска Смерти». Здесь же вы видите «Портрет незнакомца с нотами и лютней». Живописец не желал дешевой популярности, поэтому скрыл, что моделью для портрета ему послужил знаменитый лютнист Петер Сьлядек на склоне лет, незадолго до своей героической кончины при осаде Каваррена. Певец и музыкант, человек редкой отваги, он сражался на стенах города вместе со своими учениками против шайки де ла Марка – и был застрелен из арбалета. Еще через год в Лондоне скончался от чумы и Ганс Гольбейн…
К сожалению, дама удалилась раньше, чем Петер успел поговорить с ней по душам. Кипя от раздражения, бродяга пробежал насквозь два или три зала, прежде чем задержался перевести дух у другого, скромного портрета в раме из мореного дуба. И мужчина на портрете был совсем другой: седой кавалер в кружевном жабо, очень коротко стриженый, зато с пышными, щегольски расчесанными усами и бородой. Слава Господу, без берета. Темные сливы глаз смотрели улыбчиво и доброжелательно.
Кавалер настраивал лютню.
– Кисть Аугустино Караччи, – сказал из-за спины старичок с тростью. – «Академия избравших правильный путь», Болонья. Экспонируется под названием «Игрок на лютне». Моделью послужил…
– Знаю! Великий Петер Сьлядек!
– Я вижу, вы знаток. К сожалению, вскоре после завершения работы над портретом Караччи переехал в Рим…
– Где вскоре скончался!
– Именно. Мир его праху! А лютнист Сьлядек перебрался в Байройт, где, случайно попав на Черную Мессу в замке барона фон Хорнберга, колдуна и дьяволопоклонника, был подвергнут унизительным обрядам…
– И тоже скончался!
– Увы. Знаменитый музыкант, автор многих баллад и канцон, препоручил свою душу Богу. Утешаясь лишь тем, что Святая Инквизиция вскоре разрушила гнездо ереси до основания. Думаю, такие замечательные люди непременно попадают в рай…
Старичок оказался шустрым.
Во всяком случае, Петер его не догнал.
– Давид Байли из Лейдена, – сказала красотка в фижмах, тыча пальчиком в картину, возле которой плакал усталый бродяга. – Голландская школа. «Суета: натюрморт с портретом». Обратите внимание, что череп в центре композиции напоминает нам о тщете всего, изображенного художником: музыки (лютня и флейта), живописи (палитра и кисти), удовольствий (кости, карты, трубка с табаком), знаний (книги) и красоты природы (цветы). Часы песочные и солнечные, а также оплывшая свеча символизируют уходящее время, улетающие пузыри выражают недолговечность жизни; едва разборчивое письмо под черепом означает смерть и войну. Лютню на картине держит в руках прославленный исполнитель той эпохи Петер Сьлядек, вскоре казненный в Хенинге на эшафоте, по лживому обвинению в насилии над девицей знатного рода…
Лютню на картине держал эфиоп. Чернокожий раб, элегантно одетый, с золотой цепью на шее. Взгляд у эфиопа был сочувственный.
Зал сменялся залом. Галерея – галереей. Картина – картиной. Холст, масло, акварель, уголь. Франц Гальс, «Шут с лютней». "Практика лютни в «Nouvelle-France», неизвестного мастера. Никола Пуссен, «Большая вакханалия с лютнисткой». Мелоццо да Форли, «Ангел с лютней». Бартоломео Манфреди, «Молодой лютнист». Ганс Малер, «Портрет музыканта». Какудзё Нагава, «Лютня и меч». Хендрик Тербрюгген, «Лютнист Сьлядек». Иоганн Тишбейн, «Петер Сьлядек, переодевшись девицей Вильгельминой, играет на лютне». Вань Фу, «Лютнист Пай Ся в тени ивы». Дирк ван Бабюрен, «Сводня»: клиент с лютней в руках, отвернувшись от похожей на Смерть бабки-сводни, уговаривает грудастую, веселую шлюху. Жак-Луи Давид, «Любовь Париса и Елены»: фаллос нагого Париса едва прикрыт лентой, свисающей с его лютни.
Молодые, пожилые, худые, толстые, нищие, богатые…
И неизменный комментарий из-за спины.
– Замолчите!
…умер, скончался, отошел, покинул, преставился…
– Перестаньте!
…знаменитый, великолепный, гениальный…
– За что вы меня?..
…жаль, жаль, очень жаль, смертельно жаль…
– Дружище! – крикнул под окном игрок в сером. – Так, говоришь, синьор Буонаротти отказался расписывать Сикстинскую капеллу? Это точно?!
Петер спустился вниз, на улицу, но игрока не застал.
Его трясло. Сто раз услышать о собственной гениальности, сто раз похоронить себя и воскресить на полотнах, заключенных в рамы, словно в казематы – себя-лживого, чужого, непохожего, неправильного!.. Рассудок мутился, в глазах плясал огонь погребального костра. За что?! Кто так жестоко шутит над безобидным лютнистом?! Город-шкатулка, картинная галерея, сочувствие знатоков – вас нет! Вы не существуете! Сейчас Петер Сьлядек проснется на привале…
А концерт?! Триумф в «Eden'е»? Верная Спутница за спиной?
Было? Не было?!
Мысли путались, блестя червями на солнцепеке. Сердце грозило проломить грудную клетку и мячиком ускакать прочь, по булыжнику мостовой. На миг очнувшись Петер обнаружил себя на крохотной эстрадке, в уютном итальянском дворике. На коленях лежала черная пандора. Журчал фонтан, едва заметно колыхались узорчатые листья пальм-карликов. А в креслах перед эстрадкой рассаживалась публика. Шуршали кринолины дам, сдержанно блестело шитье мужских кафтанов. Старушки в буклях лорнировали исполнителя, сверкая стеклышками. Играть, играть для них, вновь испытать сладостный миг триумфа…
Он играл. Ничуть не хуже, чем в роскошном зале Collegium Musicum. Его слушали, затаив дыхание. И снова, едва музыкант встал для финального поклона: «Браво! Брависсимо!» Гром оваций и дождь цветов. Раньше ему никогда не дарили цветов… Дождавшись, пока дворик опустеет, Петер сошел с эстрадки. Оглянулся на цветочный холм. Что-то он напоминал, этот прекрасный, удивительный холм, но лютнист так и не смог вспомнить – что. Шатаясь, словно пьяный, он побрел по улице, куда глаза глядят.
Нести Верную Спутницу было легко. Она почти ничего не весила.
Он играл. Снова и снова. Где только можно, а можно здесь было – везде. Каждый раз – аншлаг. Каждый раз знакомые – всегда одни и те же! – лица горели восторгом. Ладони исторгали гром аплодисментов, зал дружно вставал. Он вспомнил балладу о Путнике, которую хотел написать. Нет. Соскользнул с первого слова, с первого звука, как ребенок с ледяного сугроба. Выходила ерунда, а надежда в конце казалась глупой несуразицей. Концерт шел за концертом: канцонетты («Браво!..»), застольные песни («Брависсимо!..»), церковные хоралы («Бис, маэстро!..») похабные частушки (дождь цветов!..); откровенная, нарочитая фальшь, как ни противилась ей Верная Спутница – «Божественно! Великолепно! Еще, еще! Просим!..»
Вечное ожидание сумерек кутало город в одеяло.
Браво, маэстро.
Бис.
Перейдя через площадь, Петер увидел игрока в сером. Три чашечки, мелодично звеня, вихрем крутились по брусчатке. Рядом топтался жирный бородач в нарочито грязном рубище.
– Стоп. Эта, – ткнул он корявым пальцем в левую чашку.
Перевернул.
В ответ с насмешкой звякнула пустота.
Игрок красноречиво развел руками, и бородач, ссутулившись, понуро скрылся за углом.
– А, это ты? – поднял взгляд на Сльядека игрок в сером. – Так где, говоришь, находится город Гульденберг? Неподалеку от Лейдена? Ну-ну!
Он весело рассмеялся и вдруг невпопад сообщил:
– Вон в том здании, со львами у входа, есть отличный концертный зал. Тебе понравится.
– За что вы меня? – спросил Петер.
Игрок помолчал, играя в чашечки сам с собой. По-настоящему, только без монетки.
– А ты меня за что? – откликнулся он. Словно как тогда, в «Eden'е», подрядился работать эхом.
– Я? Вас?!
– Ты! Меня! Что ж ты творишь, сукин сын! Ходит он! Бродит он! – руки мелькали стрижами в июньском небе. Чашечки менялись местами с неуловимой скоростью, слегка позвякивая. Казалось, это одна-единственная чаша кружится волчком, притворяясь троицей. Впору ухватиться за перила, дерево, фонарь, за что-нибудь, лишь бы не кинуться сломя голову в омут вращения, тщетно взывая: «Да минет меня чаша сия!». – Какой Яблонец? Какой Хольне?! Какой, к чертям, Витольд Хенингский, если никакого Хенинга отродясь не было?! Нету Хенинга! Нету Витольда! Истории он, гаденыш, слушает… Ушки у него, красавца, на макушке! Ты хоть понимаешь, что делаешь? Где ходишь, ноги б тебе переломать?!
Попятившись, Сьлядек отчаянно моргал. Смотреть на игрока было больно. Голос существа в сером вкручивался винтом, лязгал дисонансами, делаясь выше, напоминая женский. Вбивал знаки восклицания, как иглы под ногти. Знаки вопросов изгибались клещами. Многоточия кидались под ноги стаей псов.
Улица стонала.
– У меня абсолютный слух! Я знаю! Я слышу: кода Джакомо Сегалта Казановы, шевалье де Сенгаль, отзвучала четвертого июля 1798 года! Навсегда! В поместье графа Вальдштайна, в Богемии! И вдруг слышу: реприза… Бегу, спешу, недоумеваю: захолустье, никому не известная Пшесека, идиотский Бабий Брод, Сутулый Рыцарь… На двадцать тактов раньше рождения! Я ищу, надо мной все смеются… Ведь финал! – нет, звучит. Финал, говорю! – звучит, пакость… И не поймаешь, где именно! Верчусь белкой в колесе, спрашиваю: где Хольне? Подскажите? Смеются… Один налево тычет, другой – направо. Третий книжку сует, будто я книжек не видел… Болван, зачем ты взял в одном аккорде Хайраддина Барбароссу, клад кардинала Спада и Франческу Каччини?! Ты же все перепутал, все перемешал, перекроил всю гармонию! Зачем?
– Извините… простите меня…
Петер Сьлядек не понимал, за что просит прощения. Он вообще ничего не понимал. Просто ему было смертельно жаль игрока в сером. Усталый, измученный, избегавшийся, хозяин города-одиночки пострадал от нищего бродяги. И пусть бродяга знать не знал, каким образом досадил великому музыканту с черной лютней… Сочувствие не всегда руководствуется четким осознанием мотивов. Мотивы – штука сложная.
Идешь, насвистываешь…
– Я думаю: в чем причина? – игрок неожиданно успокоился. Остановил карусель чашечек, пригладил волосы. – Конец света? Порвалась связь времен? Оказывается, ничуть не бывало. Всего лишь ходит какой-то… Путает. А я бегаю: где путаник? – и найти не могу. Наконец сообразил: если на бегу не попадается, может, надо остановиться? Остановился. Вот ты и пришел, хороший мой. Сам пришел. Сам сказал. Все. В расчете. Гармония восстановлена. Иди, музицируй на здоровье: здесь акустика хорошая. Ничего не отвлекает.
Он сунул чашки в мешочек и собрался уходить.
– Отпустили бы вы меня, – без надежды попросил Петер. – Я больше не буду…
– Отпустить?
Игрок очень заинтересовался этой идеей. Наморщил лоб, раздумывая. Наконец кивнул:
– Это можно. Только, дружок, здесь тебе не приют добрых самаритян. Здесь распутье. Здесь играют. По-настоящему. Давай монетку: угадаешь – скатертью дорога, ошибешься – не обессудь.
– У меня нет монетки.
– Есть. Теперь есть. Ты уж поверь, я в этом хорошо разбираюсь. Посмотри в кармане.
Петер сунул руку в карман куртки. Нащупал кругляш теплого, почти горячего металла. Вынул грошик. На денежке тускло блестел знакомый профиль. И ниже: две даты. Обе были неразборчивы.
– Давай, давай, – суетился игрок, будто опасаясь, что клиент передумает. – Клади сюда. Ну, фарт судьбовый, дом дубовый, коси, коса, пока роса…
Грошик исчез под игривыми чашечками.
Игрок в сером менял их местами неторопливо, с демонстративной аккуратностью, как если бы наставлял тупого ученика в азах искусства. Тем не менее, Сьлядек быстро потерялся в этой карусели. Левая? Правая? Средняя?
Рядом молчала Верная Спутница.
– Ну? Под какой чашкой?
– Не знаю, – честно ответил Петер Сьлядек.
– Как «не знаю»?! – тут настал черед растеряться игроку. – Почему «не знаю»?! Ты отгадывай, ты говори: под какой чашкой грошик?
– Я и говорю. Не знаю.
– Ты глупости говоришь. Ишь, путаник… Достал ты меня, спасу нет. Увильнуть хочешь? Нет, приятель, не на таковского напал. Угадывай!
– Не знаю…
– Тогда ткни наудачу! Пальцем!
Петер улыбнулся. Разговор складывался смешней смешного. Кроме того, было приятно улыбаться впервые за все время пребывания на Распутье.
– Если наудачу, я обязательно ошибусь. Мы, господин мой, с удачей на ножах. Бежит она меня, удача. Сами видите.
– Ну ты жук! Ну, прощелыга! – игрок осклабился, показав замечательные, белые и острые зубы. – Не знаю, не угадаю… Ладно, даю последний шанс. Бери лютню. Сказывают, грек Орфей игрой скалы опрокидывал. Волшебник Мерлин музыкой Капище Друидов возвел. Этот, как его… Алектрион, что ли? – короче, еще один грек лютней дельфинов подозвал, они его от пиратов спасли. А ты себя спасай, братец. Сыграешь так, чтоб чашки опрокинулись – твоя взяла. Бери грош и пошел вон. Валяй, дружище! Дай жару!
– Я на вашем инструменте играть не стану, – набычился Петер. – Я на своем хочу.
– Хорошо, играй на своем, – покладисто согласился игрок. – Держи! Только смотри, она у тебя Госпожа Капризная…
Даже взяв в руки старенькую лютню, бродяга не поверил, что это она. Тронул струны. В ответ не раздалось ни единого звука. Подкрутил колки, снова прошелся по струнам. Тишина. Мертвая. Ударил костяшками пальцев в деку. Тишина. Беззвучие. Безголосье.
– Вы ее сломали! вы! сломали, испортили…
Длинный палец погрозил скандалисту.
– Ничуть. Ты ее предал. Продал. Поменял. Капризную на верную. Госпожу на спутницу. Теперь не жалуйся. Хочешь, играй на моей. Она верная, она не откажет…
Прежде чем ответить, Петер Сьлядек вгляделся из-под козырька ладони в невидимый за домами горизонт. Одичалый ветер растрепал бродяге волосы, бросил горсть пыли в лицо. Колючей, душной, дорожной, дорогой пыли – в отличие от мягкого праха, устилавшего здешние улицы. Он смотрел долго, и игрок ждал, не торопя.
– Нет, – сказал Петер. – Я лучше на своей.
И отдал Капризную Госпожу игроку.
Сел на мостовую, привычно скрестив ноги. Зажмурился. Крепко-крепко, чтоб ни одна капля вечных сумерек не попала под веки. Вслушался, представляя: копыта стучат по булыжнику. Торговка ругается с метельщиком. Лают собаки. Едет карета. Невпопад горланит песню хмельной сапожник. Галдит детвора. Руки взялись за инструмент, вынутый из памяти, словно из дряхлого чехла. Покрутили колки, настроили. Это ничего, что строй все время летит. Это пустяки. Лишний раз настроить – пальцы не отвалятся. Первая линейка ключа «фа»: поднять от «соль» в кварту. Рядом, прямо в ухо, задышали перегаром. Наверное, Юрген Маахлиб. Хмыкнули вполголоса. Пожалуй, Мирча Сторица. Звякнула шпага: Ахилло Морацци-младший. Запахло духами: Франческа Каччини. Тихий смех: слепец-профессор. Ровное дыхание: отец Игнатий. Фыркнули с презрением: вредная Сквожина. Вонь табака: казаки. Аромат колбасы с чесноком: корчмарь Элия. Пивной дух: Старина Пьеркин. Все. Зал полон. Можно играть.
Когда он закончил игру и открыл глаза, чашечки стояли на прежнем месте.
Скрывая грош.
– Что будем делать? – весело спросил игрок в сером.
– Откройте сами, – сказал Петер.
– Ты сошел с ума!
– Наверное. Откройте. Вы удачливы, вам скорее повезет.
– Ну что ж…
Пожалуй, игрок в сером смотрел на чашечки еще дольше, чем Сьлядек – на воображаемый горизонт. Ему никогда раньше не приходилось выбирать за других. Даже зная, под какой чашкой прячется монетка, он медлил. Знание ничего не решало. Выбор есть выбор, пускай карты крапленые, кости налиты свинцом, а на монете два «орла». Или две «решки». Или вообще четыре ребра, и ни единого реверса-аверса.
Толчком он опрокинул среднюю чашку.
Взял грошик.
Подбросив на ладони, отдал бродяге.
– Убирайся! Иди прочь, чтоб тебя…
Уходя быстро-быстро, пока игрок в сером не передумал, Петер не видел, как тот опрокинул сперва правую, а потом и левую чашку.
Под каждой лежало по грошику.
* * *
Уже в вилле, видя из окон первого этажа парк с воротами, Петер Сьлядек опомнился. Возвращаться было страшно. Пот стекал по спине между лопатками, ноги подкашивались, в животе черти молотили горох. Аллея-улица пустовала. Лишь игрок в сером, сидя на тротуаре, играл сам с собой. Вертя чашечки, он поминутно опрокидывал то одну, то другую, всякий раз доставая новый грошик. Рядом с игроком блестела изрядная горка денег. На монетках был вычеканен один и тот же профиль. Зато даты внизу были разные. Игрок мучил чашечки, и лицо его напряглось в ожидании.
Нет.
Еще грошик.
Еще.
– Извините… Отдайте, пожалуйста, мою лютню.
– Лови! – зло откликнулся игрок, бросая Петеру Капризную Госпожу.
Когда бродяга поймал лютню, инструмент недовольно загудел. Ну разумеется, разве хорошо швыряться лютнями, будто камнями?
– Извините, – повторил Петер. – Я постараюсь… я попробую…
Он успел сделать целых двенадцать шагов, когда его окликнули.
– Погоди, – сказал игрок в сером, пиная длинной ногой кучу денег. – Успеешь. Давай, я расскажу тебе одну историю…
Баллада судьбы
Я не знаю, какая строка обернется последней, На каком из аккордов ударит слепая коса, Это вы – короли; я – наследник, а может, посредник, Я – усталое эхо в горах. Это вы – голоса. Перекрестки дорог – узловатые пальцы старухи, Я не знаю, какой из шагов отзовется бедой, Это вы – горсть воды; я – лишь руки, дрожащие руки, И ладони горят, обожженные этой водой. У какого колодца дадут леденящей отравы, Мне узнать не дано, и глоток будет сладок и чист, Это вы – соль земли; я – лишь травы, душистые травы, Вы – мишень и стрела, я – внезапно раздавшийся свист. От угрюмых Карпат до младенчески-сонной Равенны Жизнь рассыпалась под ноги звоном веселых монет, Вы – горячая кровь; я – ножом отворенные вены, Вы – июльское солнце, я – солнечный зайчик в окне. День котомкой висит за спиной, обещая усталость, Ночь укроет колючим плащом, обещая покой, Это вы – исполины; я – малость, ничтожная малость, Это вы – гладь реки, я – вечерний туман над рекой. Но когда завершу, замолчу, отойду в бездорожье, Упаду, уроню, навсегда откажусь от всего, Вас – великих! могучих! – охватит болезненной дрожью: Это он, это мы, и какие же мы без него…2001–2003 г. г.


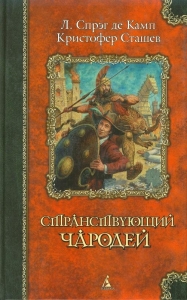
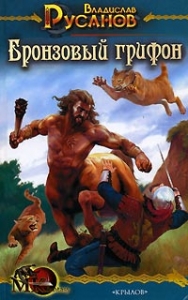


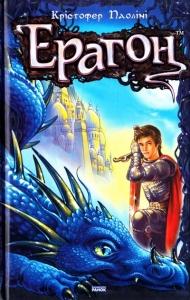

Комментарии к книге «Петер и Смерть», Генри Лайон Олди
Всего 0 комментариев